Александр Дюма Парижские могикане Части первая и вторая
Часть первая
I АВТОР ПРИПОДНИМАЕТ ЗАНАВЕС НА ТЕАТРЕ, ГДЕ БУДЕТ РАЗЫГРАНА ЕГО ДРАМА
Если читатель готов отважиться вместе со мной совершить паломничество во времена моей молодости, к середине моего жизненного пути — иначе говоря, ровно на четверть века назад, — то мы сделаем остановку в начале года от Рождества Христова 1827 и расскажем родившемуся тогда поколению, как выглядел Париж в последние годы Реставрации и каковы были его нравы.
Начнем с внешнего облика Вавилона наших дней.
Перемещаясь с востока на запад по южной части города, можно заметить, что Париж 1827 года почти ничем не отличается от Парижа 1854 года. Город, раскинувшийся на левом берегу Сены, просто не меняется; его назовешь скорее безлюдным; вопреки цивилизации, наступающей с востока на запад, столица просвещенного мира Париж развивается с юга на север: Монруж наступает на Монмартр.
С 1827 года и по нынешнее время, то есть до 1854 года, в левобережном Париже появились лишь площадь и фонтан Кювье, улица Ги-Лабросс, улица Жюсьё, улица Политехнической школы, Западная улица, улица Бонапарта, Орлеанский вокзал, он же вокзал у заставы Мен, наконец, церковь святой Клотильды, возвышающаяся над площадью Белыпасс, дворец Государственного совета на набережной д’Орсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов.
Не то — правый берег, иными словами, территория, расположенная между Аустерлицким и Йенским мостами и тянущаяся к подножью Монмартра. В 1827 году Париж в восточной своей части доходил лишь до Бастилии, да и то бульвар Бомарше предстояло еще застроить; на севере город простирался до улиц Ла Турд’Овернь и Турде-Дам, а на западе — до Рульской бойни и аллеи Вдов.
Что касается квартала Сент-Антуанского предместья между площадью Бастилии и заставой Трона; квартала Попенкур, расположенного между Сент-Антуанским предместьем и улицей Менильмонтан; района предместья Тампль между улицей Менильмонтан и предместьем Сен-Мартен; квартала Лафайет, раскинувшегося между предместьями Сен-Мартен и Пуассоньер; наконец, кварталов Тюрго, Трюден, Бреда, Тиволи, квартала площади Европы, квартала Божон, улиц Миланской, Мадридской, Шапталь, Бурсо, Лаваль, Лондонской, Амстердамской, Константинопольской, Берлинской и прочих — их еще не было и в помине. Целые кварталы, площади, скверы, улицы появились словно из-под земли по мановению волшебной палочки, зовущейся Промышленностью; все они состояли в свите королев торговли, именуемых железными дорогами, ведущими на Лион, Страсбур, Брюссель и Гавр.
А через пятьдесят лет Париж захватит все пустующее ныне пространство между пригородами и городскими укреплениями, и тогда старые пригороды сольются с Парижем, а новые расползутся через все проемы в огромной крепостной стене.
Итак, мы с вами видели, как выглядел Париж в 1827 году. Каковы же были нравы парижан?
Вот уже два года у власти стоял Карл X; пять лет г-н де Виллель был председателем Совета министров; наконец, в течение трех последних лет г-н Делаво замещал г-на Англеса, не на шутку скомпрометированного в деле Мобрёя.
Король Карл X отличался терпимостью; он был по натуре слабый и в то же время очень порядочный человек; он не противился тому, что вокруг него продолжали расти две партии (представители их полагали, что укрепляют королевскую власть, в действительности же они вскоре опрокинут трон): партия крайних и партия священников.
Господин де Виллель был не столько политиком, сколько биржевиком: он умело перемещал общественные деньги, манипулировал ими, извлекал из них выгоду — но и только. При том он оказался честным человеком: пять лет ворочал миллиардами, но, когда ему пришлось покинуть министерское кресло, остался таким же нищим, каким вступил в должность.
Господин Делаво сам по себе ничего не стоил; он был всецело предан не королю, а двуличной партии, действовавшей от его имени; его заведующий персоналом требовал от служащих и даже от тайных агентов представить свидетельство об отпущении грехов; осведомителя принимали на службу лишь в том случае, если он исповедовался не позднее чем за две недели до поступления.
При дворе царило уныние; его лишь отчасти оживляли молодость герцогини Беррийской, ее потребность в развлечениях, а также присущий ей артистизм.
Аристократия была обеспокоена и разобщена; одни стремились сохранить полулиберальные традиции Людовика XVIII и утверждали, что будущее спокойствие возможно при условии мудрого разделения власти между тремя опорами государства — королем, Палатой пэров, Палатой депутатов; другие во что бы то ни стало стремились вернуться в прошлое, связав 1827 год с годом 1788-м, отрицали Революцию, отрицали Бонапарта, отрицали Наполеона и полагали, что не нуждаются ни в какой опоре, кроме той, которую признавали их предки Людовик IX и Людовик XIV, — божественного права.
Буржуазия была тем, что она собой представляет во все времена: сторонница порядка, защитница мира; она страстно желала изменений и в то же время трепетала при мысли о них; она выступала против национальной гвардии, против докучной необходимости нести службу, но пришла в ярость, когда в 1828 году национальная гвардия была распущена. Все та же буржуазия следовала за траурным кортежем на похоронах генерала Фуа, принимала сторону Грегуара и Манюэля, подписывалась на издания Туке и раскупала миллионами табакерки с Хартией.
Народ состоял в открытой оппозиции, не очень ясно представляя, на чьей он стороне: бонапартистов или республиканцев. Зато он знал наверное, что Бурбоны вернулись во Францию вслед за англичанами, австрийцами и казаками. Испытывая ненависть к англичанам, австрийцам и казакам, народ, естественно, ненавидел Бурбонов и лишь ждал удобного случая, чтобы от них избавиться. Всякий новый заговор встречался с воодушевлением: в глазах народа Дидье, Бертон, Карре были мученики, а четверо сержантов из Ла-Рошели — боги!
Теперь, перейдя последовательно от короля к аристократии, от аристократии к буржуазии, а от буржуазии к простому люду, спустимся еще ступенькой ниже. Мы очутимся в самом сердце общества, освещаемого лишь бледным светом фонарей на Иерусалимской улице.
Перенесемся в последний день карнавала перед великим постом 1827 года.
Уже два года нет маскарадов под надзором полиции; по бульварам в два ряда разъезжают кареты, тесно набитые людьми в костюмах рыночных торговок и пройдох; всякий раз как экипажи встречаются, они останавливаются и их седоки — да простят мне читатели обиходное словцо — лаются; кареты эти частные.
Многие из них обязаны своим появлением блестящему молодому человеку по имени Лабатгю; три или четыре года спустя он умрет в Пизе от грудной болезни, и — хотя он готов на все ради того, чтобы парижане узнали, что эти огромные повозки, эти глашатаи, эти кучера принадлежат ему, — горожане упрямо не желают запоминать его имени и воздают хвалу лорду Сеймуру.
Больше всего народу собирают кабаре: на Куртий — «Денуайе», «Салон Флоры», «Ла Куртий»; возле заставы Мен — «Тоннелье».
Модные балы: в «Шомьере» (его содержит Лагир), где танцуют на вулкане, который вскоре их поглотит, две породы исчезающих в наши дни людей — студенты и гризетки (пришедшие им на смену лоретки и артуры в описываемое нами время еще неизвестны; Гаварни придумает для последних очаровательный костюм портового грузчика); в «Прадо», сияющем огнями прямо против Дворца правосудия; в «Колизее», рокочущем за Шато д’О; в Порт-Сен-Мартен и «Франкони», обладающих наравне с Оперой правом проводить балы-маскарады.
Мы, разумеется, лишь вскользь упоминаем об Опере; в Опере не танцуют, там прогуливаются: дамы — в домино, мужчины — во фраках.
На других балах, то есть у Денуайе, в «Салоне Флоры», в «Соваже», у Тоннелье, в «Шомьере», в «Прадо», в «Колизее», в Порт-Сен-Мартен, у Франкони тоже не танцуют: там толкутся.
«Толкучка» — отвратительная пляска, так же мало похожая на канкан, как набитая капральским табаком трубка-носогрейка — на гаванскую сигару.
Помимо всех тех мест, что мы перечислили, от театров до ресторанчиков и от ресторанчиков до кабаре, существуют еще мерзкие притоны, которые называют кабаками.
В Париже их семь:
«Черный Кот» на улице Старой Сукнодельни в Сите;
«Белый Кролик» напротив Жимназ;
«Семь Бильярдов» на улице Бонди;
гостиница «Англетер» на улице Сент-Оноре напротив Сиветт;
«Поль Нике» на Железной улице;
«Баратг» на той же улице;
наконец, «Бордье» на углу улиц Мясника Обри и Сен-Дени.
В двух из этих кабаков собирается избранное общество.
«Черный Кот» пользуется особой любовью «домушников» и «карманщиков»; «Белый Кролик» — приют «городушников», «удавочников» и «форточников».
Поспешим успокоить читателей: в наши намерения не входит передача жаргонной речи или написание книги, доступной лишь тому, кто знаком с тюремным лексиконом Бисетра или Консьержери.
Поспешим, напротив, распроститься раз и навсегда со всеми этими ужасными терминами, столь же отвратительными нам, сколь и нашим читателям.
Поэтому мы лишь вкратце поясним, кто такие домушник, карманщик, городушник, удавочник и форточник.
Домушники — воры, работающие отмычками.
Карманщики — специалисты по выуживанию кошельков, часов, носовых платков.
Городушники входят к менялам под предлогом, что желают выбрать монеты с изображением такого-то короля, такого-то года выпуска, и, пока выбирают, успевают рассовать их в рукава — в каждый франков на пятьдесят.
Удавочники набрасывают платок или веревку на шею тому, кого они собираются ограбить, и вскидывают жертву себе на спину, а их соучастники тем временем ее обрабатывают, то есть обыскивают.
Наконец, форточники работают по ночам; они залезают через окно по веревочной лестнице.
Пять других кабаков служат просто-напросто пристанищем для жуликов всех мастей.
Для наблюдения за всем этим миром освобожденных каторжников, мошенников, проституток, жуликов всех сортов, бандитов всех видов приставлены лишь шестеро полицейских инспекторов и один чиновник муниципальной полиции на целый округ (патрульные сержанты появятся лишь в 1828 году по инициативе г-на де Беллема).
Инспекторы несут службу в штатском.
Каждый, кого они берут под арест, препровождается вначале в Сен-Мартен — иными словами, в полицейский участок; там за шестнадцать су в первую ночь и за десять — в последующие ночи можно получить отдельную комнату.
Оттуда мужчин отправляют в Ла Форс или Бисетр; девиц — к мадлонеткам, что на улице Фонтен рядом с Тамплем; воровок — в Сен-Лазар на улице Предместья Сен-Дени.
Казни совершаются на Гревской площади.
Господин Парижский[1] живет в доме № 43 по улице Маре.
Читатель сразу задает себе вопрос и, несомненно, спросил бы об этом нас, не поспеши мы его упредить: почему же полиция не арестует преступников, если знает, где их схватить?
Полиция может арестовать только с поличным, ибо закон на этот счет весьма строг и воры любого ранга отлично это знают.
Если бы полиция могла арестовывать преступников иначе, нежели на месте преступления, то, зная их наперечет, ей достаточно было бы одним разом переловить их всех по парижским притонам, и воров бы не стало или, по крайней мере, осталось бы так мало, что не о чем было бы и говорить!
Сегодня нет ни одного из этих кабаков: одни исчезли при реконструкции парижских улиц, другие были закрыты, захирели, прекратили свое существование.
До наших дней сохранился только «Бордье»; но кабак 1827 года превратился в изящную бакалейную лавку; там торгуют сушеными фруктами, конфитюрами и дорогими ликерами и ничто не напоминает о грязном притоне, куда мы вынуждены пригласить наших читателей.
II ДЖЕНТЛЬМЕНЫ РЫНКА
Как мы уже сообщили читателям, начало этой книги переносит нас в последний день масленицы 1827 года от Рождества Христова.
Правда, безумное веселье подходило к концу: близилась полночь.
Трое молодых людей, подхватив друг друга под руку, шагали вниз по улице Сен-Дени; двое из них напевали мелодии кадрилей, услышанные только что в «Колизее», где они провели вечер; третий довольствовался тем, что поигрывал тросточкой, в задумчивости покусывая золоченый набалдашник.
Те, что мурлыкали песенки, были одеты в распространенный по тем временам маскарадный костюм рыночных силачей.
Третий, шагавший молча посредине, выглядел старше своих спутников или, во всяком случае, был серьезнее их; ростом он был выше приятелей на целую голову и, как мы уже сказали, покусывал золоченый набалдашник тросточки. Молодой человек был закутан в огромный суконный плащ с бархатным стоячим воротником, какие носили в то время и какие встретишь в наши дни разве что на фронтисписах в книгах Шатобриана и Байрона.
Этот молодой человек возвращался с вечеринки художников на улице Сент-Аполлин.
Под плащом на нем были черные с изящными застежками панталоны, облегавшие сильные ноги, шелковые ажурные чулки и лакированные туфли; черный фрак был застегнут наглухо, по-военному, хотя казалось очевидным, что человек этот никакого отношения к военной службе не имеет; из-под фрака едва выглядывал белый пикейный жилет; галстук черного атласа был повязан свободно; вьющиеся волосы прикрывала плоская шляпа — из тех, что на балу зажимали под мышкой, а выходя на улицу, натягивали до ушей, и назывались такие шляпы «шапокляк».
Если бы редкие в этот час прохожие на улице Сен-Дени могли приподнять плащ, в который кутался незнакомец, чей туалет мы описываем, они убедились бы, что и панталоны, застегнутые выше щиколотки и плотно обтягивающие ноги, и фрак элегантного покроя с изящно ниспадающими фалдами, и английский пикейный жилет с чеканными золотыми пуговицами — все это, несомненно, из магазина одного из знаменитых портных с Гентского бульвара и сшито для какого-нибудь модника, кого в те времена называли денди, а сегодня — поистершимся словом лев.
Впрочем, наш незнакомец, казалось, отнюдь не претендует на то, чтобы его принимали за модника. В самом деле, довольно было всего на минуту задержать на нем взгляд, чтобы убедиться: пред вами вовсе не тот, кого называют светским молодым человеком; в его манере держаться чувствовалась слишком большая свобода в движениях, несовместимая с манекенами, рабски зависящими от складки галстука или безупречности воротничка. Едва уйдя со званого вечера, молодой человек поспешил сбросить перчатки, словно испытывая отвращение к модным оковам, и это позволяло рассмотреть на указательном пальце его правой руки массивное кольцо, вернее, перстень с печаткой, какими запечатывают письма (на них гравируют девиз владельца или его фамильный герб).
Одетые, как мы уже упоминали, в костюмы рыночных силачей, или скорее пройдох, как тогда говорили, двое других юношей были полной противоположностью незнакомцу с его байронической внешностью. На них были белые плюшевые куртки с воротником вишневого цвета, атласные штаны в белую и голубую полоску; один из них обмотал талию красным кашемировым кушаком, другой — желтым; на ногах у них были шелковые чулки с золотыми стрелками и туфли с бриллиантовыми пряжками; оба с ног до головы были увиты разноцветными лентами; шляпы с пышным плюмажем были украшены гирляндами из белых и розовых камелий, а самая скромная из них в это время года стоила не меньше одного экю у г-жи Бейон или г-жи Прево — известных цветочниц; щеки у молодых людей рдели румянцем, глаза горели, на губах играла улыбка, сердца кипели радостью, и во всем их облике ясно читалась беззаботность; юноши будто воплощали собой французскую веселость — то радостное прошлое, на похоронах которого, казалось, благоговейно присутствует их друг, одетый в черное и мрачный, как будущее.
Как же оказались вместе эти такие разные и костюмами, да, по-видимому, и характерами люди? Почему они шагали втроем в столь поздний час, как сошлись на одной из пятидесяти грязных парижских улочек, ведущих от бульвара Сен-Дени к набережной Жевр?
Объясняется все просто: двум ряженым не удалось найти у «Колизея» свободный экипаж; молодой человек в темном плаще не сумел нанять карету на улице Сент-Аполлин.
Оба участника маскарада, изрядно разогретые бишофом и пуншем, решили отправиться на Рынок поесть устриц.
Молодой человек в темном плаще, выпивший за весь вечер всего несколько стаканов оршада да смородинного сиропа, головы не терял и намеревался вернуться к себе на Университетскую улицу.
Все трое случайно сошлись на углу улиц Сент-Аполлин и Сен-Дени; ряженые признали в молодом человеке своего друга, который их, разумеется, не узнал бы.
При виде приятеля они в один голос вскричали:
— Смотри-ка! Жан Робер!
— Людовик! Петрус! — отозвался молодой человек в темном плаще.
В 1827 году было принято называть Пьера «Петрус», а вместо Луи говорить «Людовик».
Все трое с жаром пожали друг другу руки и стали расспрашивать один другого, как они очутились на мостовой в столь поздний час.
Когда это было выяснено, художник Петрус и врач Людовик настойчиво стали уговаривать поэта Жана Робера поужинать с ними на Рынке, у Бордье, и он не смог отказать им.
На том друзья и порешили. По тому, как торопливо они зашагали, со стороны могло показаться, что решение их окончательное и менять его никто из троих не собирается. Но за двадцать шагов до Батавского двора Жан Робер вдруг остановился.
— Итак, решено, не правда ли? Мы идем ужинать... К кому, вы говорите?
— К Бордье.
— Хорошо, пусть будет Бордье.
— Ну, разумеется, решено! — в один голос подтвердили Петрус и Людовик. — А почему бы нет?
— Потому что отступить никогда не поздно, если совершаешь глупость.
— Глупость? Какую же?
— Черт побери! Вместо того чтобы преспокойно пообедать у Вери, Филиппа или в «Провансальских братьях», вы собираетесь провести ночь в каком-то отвратительном притоне, где нам подадут настойку на кампешевой древесине под видом бордо, а вместо дикого кролика угостят кошатиной.
— Какого черта ты имеешь нынче вечером против кошатины и кампешевой настойки, о поэт? — спросил Людовик.
— Дорогой мой! — отозвался Петрус. — Жан Робер только что имел бешеный успех во Французском театре; он зарабатывает по пятьсот франков каждые два дня; у него карманы набиты золотом, и он теперь аристократ.
— Уж не хотите ли вы сказать, что собираетесь туда из экономии?
— Нет, — отвечал Людовик, — просто мы хотим попробовать всего понемногу.
— Фи! Была бы нужда!.. — поморщился Жан Робер.
— Должен заявить, — не унимался Людовик, — что я вырядился в этот дурацкий костюм — а в нем я похож на мельника, которого только что забрали в рекруты, — ради того, чтобы поужинать сегодня вечером на Рынке; до него осталась сотня шагов, и я поужинаю там или не буду ужинать вовсе!
— Ну вот, — проворчал Петрус, — ты говоришь как студент-медик: больница и анатомический театр приготовили тебя ко всякому зрелищу, как бы ни было оно отвратительно; будучи философом и материалистом, ты закален против любой неожиданности. У меня, как у художника, не всегда были даже кампешевая настойка и кошатина; мне доводилось посещать натурщиков обоих полов — живых мертвецов, перед которыми настоящие мертвецы имеют то преимущество, что у них нет души; я входил в клетку ко львам, спускался в ров к медведям, когда у меня не было трех франков, чтобы пригласить к себе папашу Сатюрнена или мадемуазель Розину, по прозвищу Блондинка, и не могу сказать, что я избалован, слава Всевышнему! Но этот впечатлительный юноша, — прибавил он, указывая на своего высокого спутника, — этот чувствительный поэт, этот наследник Байрона, этот продолжатель Гёте, именуемый Жан Робер — как он будет выглядеть в грязном притоне? Как со своими изящными руками и ногами, со своим прелестным креольским акцентом он будет себя чувствовать в том мире, куда мы хотим его ввести, не имея ни малейшего понятия о том, как нужно себя там держать? Задавался ли он когда-нибудь вопросом, он, который в национальной гвардии никогда не мог вовремя ступить с левой ноги, как правильно войти в кабак, а его целомудренный слух, привыкший к «Юной больной» Мильвуа и к «Молодой узнице» Андре Шенье, воспримет ли низменные фразы, которыми обмениваются ночные рыцари, кишащие в этом сомнительном заведении?.. Нет! А раз так, зачем ему идти с нами? Мы его не знаем! Кто этот чужак, что затесался на наш праздник? Vade retro[2], Жан Робер!
— Дорогой Петрус, — отвечал молодой человек, явившийся предметом диатрибы, дух которой, модный в мастерских тогдашних художников, мы постарались, насколько это в наших силах, сохранить, — дорогой Петрус, ты пьян лишь наполовину, зато гасконец с головы до пят!
— Вообще-то я родом из Сен-Ло!.. Если в Сен-Ло есть гасконцы, значит, в Тарбе живут нормандцы.
— Так вот, говорю тебе, гасконец из Сен-Ло, что ты пытаешься приписать себе недостатки, каких на самом деле у тебя совсем нет. И все для того, чтобы скрыть достоинства, которые у тебя есть. Ты притворяешься плутом, потому что боишься выглядеть наивным; ты строишь из себя злодея, потому что краснеешь при мысли, что можешь показаться добрым! Ты никогда не входил в клетку ко львам, ты никогда не спускался в ров к медведям, ты никогда не показывался в рыночном кабаке, как и Людовик, как и я, как уважающие себя молодые люди или просто честные труженики.
— Amen![3] — зевнув, произнес Петрус.
— Зевай и смейся сколько хочешь! Похваляйся воображаемыми пороками, дабы пустить пыль в глаза галерке, потому что ты когда-то слышал, что все великие люди имеют пороки, что Андреа дель Сарто был вор, а Рембрандт — распутник; надувай буржуа, как ты любишь говорить, потому что любишь над кем-нибудь посмеяться; но с нами, знающими тебя за добряка, со мной, любящим тебя как младшего брата, оставайся таким, какой ты есть, Петрус: искренним и наивным, впечатлительным и восторженным. Ах, дорогой мой, если позволительно быть пресыщенным — а, на мой взгляд, это вообще непозволительно, — то только изгнанному, как Данте, непонятому, как Макиавелли, или преданному всеми, как Байрон. Разве ты был предан, непонят, изгнан? Может, у тебя есть основания мрачно смотреть на жизнь? Или в твоих руках истаяли миллионы, оставив лишь осадок неблагодарности, горечь разочарования? Нет! Ты молод, твои картины продаются, тебя обожает любовница, правительство заказало тебе «Смерть Сократа»; мы договорились, что Людовик будет позировать в роли Федона, а я — Алкивиада; какого черта тебе еще нужно?.. Поужинать в кабаке? Давай поужинаем, друг мой! По крайней мере, это пойдет тебе на пользу: ты испытаешь такое отвращение, что на всю жизнь тебе расхочется туда возвращаться!
— Ты все сказал, господин в черном? — проворчал Петрус.
— Да, почти.
— Тогда пошли!
Петрус снова пустился в путь, затянув полувакхическую, полунепристойную песнь, словно хотел доказать самому себе, что полученный им от Жана Робера суровый и дружеский урок не произвел на него впечатление.
С последним куплетом они очутились в самом сердце Рынка; на церкви святого Евстафия пробило половину первого.
Людовик, как видели читатели, почти не принимал участия в разговоре; будучи по натуре задумчивым и наблюдательным, он с легкостью позволял вести себя куда угодно, уверенный в том, что, куда бы ни шел человек, будь то на встречу с другими людьми или с природой, он повсюду найдет предмет для наблюдения или мечтаний.
— Ну вот, — заметил он, — теперь осталось только выбрать... Так куда же мы зайдем: к Полю Нике, к Баратту или к Бордье?
— Мне рекомендовали Бордье — пойдем к нему! — предложил Петрус.
— Пошли к Бордье! — подхватил Жан Робер.
— Если только ты не пристрастился к какому-нибудь другому здешнему храму, целомудренное дитя муз!
— О, ты отлично знаешь, что я никогда даже не бывал в этом квартале... А потому мне все равно! Нам везде подадут скверный ужин, стало быть, предпочтения я никакому из этих заведений не отдаю.
— Вот мы и пришли. Достаточно ли подозрителен, на твой вкус, этот кабак?
— Дальше некуда!
— Тогда войдем.
Сдвинув шляпу на ухо, Петрус с развязным видом завсегдатая устремился в заведение.
Друзья последовали за ним.
III КАБАК
Заведение было полно, и не просто полно: оно было набито битком.
Первый этаж — его трудно было бы узнать в очаровательном и чистеньком магазинчике, находящемся там сегодня, — представлял собою комнату с низким потолком, в дыму, сырую, зловонную, где кишела невероятная смесь мужчин и женщин в нарядах самых разнообразных, но по преимуществу в костюмах пройдох и торговок. Кое-кто из женщин — и надобно отметить, что это были самые кокетливые и хорошенькие, — итак, некоторые женщины, одетые торговками, были декольтированы едва ли не до пояса, рукава у них были закатаны до самых подмышек, лица размалеваны и усеяны мушками; кое-кто из женщин разговаривал голосом слишком низким и отпускал ругательства слишком крепкие для существа в шелковом платье и кружевном чепце: маскарадный костюм зачастую скрывал не только род занятий, но и пол; впрочем, по нелепой прихоти карнавала эти мнимые торговки пользовались успехом у мужчин, составлявших почти две трети благородного собрания.
Посетители сидели, стояли, лежали, смеялись, разговаривали, пели; их нестройные голоса сливались в сплошной гул, а вся эта толпа просто не поддавалась описанию, за исключением отдельных деталей, явно выделявшихся в общей массе и поражавших воображение вновь прибывших.
Неразбериха царила невозможная: все смешалось, перепуталось, потерялось; мускулистые руки мужчин, казалось, принадлежали женщинам, тонкие ноги женщин — мужчинам; бородатая голова будто росла на плечах у пышногрудой красавицы, а волосатые мужские грудь и плечи венчались меланхоличной головкой пятнадцатилетней девочки! Даже Петрусу, с большим трудом сумевшему определить, кому принадлежат торсы и головы, не удалось разобраться, кому принадлежат ноги и руки, — так все переплелось, запуталось, нерасторжимо соединилось друг с другом!
Лишь несколько человек держалось в стороне особняком, среди них: пьеро, притворявшийся спящим, привалившись к стене, верхом у него на плечах сидела пьеретта, он зарылся головой в коленкоровую куртку пьеретты и был похож на короткорукого великана с малюсенькой головкой; полишинель, пытавшийся обойти залу, неся по ребенку на каждом своем горбе; турок, прыгавший на одной ноге, доказывая, что он не пьян; мальчик, переодетый обезьяной (переодевание, введенное в моду Мазюрье), скакал со стула на стул, от группы к группе и заставлял жрецов богини Безумия и бога Карнавала — печальнейшей из богинь и мрачнейшего из богов! — издавать самым визгливым голосом самые неожиданные восклицания.
Появление троих друзей в зале было встречено оглушительным «ура».
Пьеро выдал свою мужскую сущность, приподняв куртку пьеретгы и высунув свою голову.
Полишинель прекратил свое вращение, как светило, зацепившееся за комету.
Турок попытался подбросить в воздух сразу обе ноги; это привело к тому, что он мгновенно рухнул на стол, где проделывал свой фокус, и стол разлетелся в щепки.
Мальчик-обезьяна в мгновение ока вскарабкался к Петрусу на плечи и под смех собравшихся стал обрывать с его шляпы изысканные камелии.
— Поверь, лучше нам отсюда выйти, — заметил Жан Робер, обращаясь к Петрусу, — я боюсь!
— Выйти, не успев войти? — отозвался Петрус. — Ты в своем уме? Они подумают, что мы струсили, и устроят за нами по парижским улицам погоню под стать тому, как его величество Карл Десятый гоняет кабанов в Компьенском лесу.
— А по-твоему? — спросил Жан Робер у Людовика.
— По-моему, раз уж мы здесь, надо идти до конца, — отвечал Людовик.
— Так идем!
— Осторожно! — предупредил Петрус. — На нас смотрят. Ты ведь человек театральный и знаешь, что все зависит от первого выхода.
Он пошел прямо к подобию кратера, открывшегося под турком; в этой воронке незадачливый турок исчез, и на поверхности торчали только носки его башмаков да кончик эгрета.
— Господин мусульманин! — произнес Петрус, по-прежнему держа на плечах обезьяну. — Вы знаете, что сказал ваш покровитель Магомет бен Абдаллах, племянник великого Абу Талиба, повелителя Мекки?
— Нет, — донесся в ответ голос из груды обломков стола.
— Если гора не вдет ко мне — я иду к горе!
Неожиданно схватив обезьяну за загривок, он оторвал ее от себя и, приподняв, словно шляпу, приветствовал турка мальчуганом, вырывавшимся из его крепкой руки.
— Мое почтение, славный мусульманин! — проговорил он и снова посадил на плечи парнишку; тот поспешил соскользнуть, словно по шесту с призом, непременного на народных гуляниях, и, корча гримасы, убрался в угол, куда не проникал свет трех-четырех ламп, освещавших притон.
Вежливое обхождение Петруса в сочетании с его силой вызвало всеобщий восторг.
Турок же машинально что-то ответил и, как утопающий, вцепился в руку Петруса; тот одним махом поставил его на ноги, однако они оказались, по крайней мере на этот раз, явно недостаточной опорой для столь сильно расшатанного монумента, и турка снова поглотила пучина.
— Положительно, — проговорил Петрус, свершив подвиг, о котором мы только что поведали, — здесь многовато народа... Поднимемся на второй этаж!
— Как тебе будет угодно, — отвечал Людовик, — впрочем, это любопытное зрелище.
Лакей, не спускавший с них глаз с первой минуты их появления в заведении, дабы убедиться в том, что перед ним в самом деле клиенты, тотчас вмешался в разговор.
— Господа желают пройти на второй этаж? — спросил он.
— Да, мы были бы не прочь, — кивнул Петрус.
— Вон там можно подняться, — показал лакей на винтовую лестницу.
Завидев ее, каждый невольно вспомнил восхождение Матюрена Ренье в «Вертепе»:
И неприступен был крутой ее подъем...[4]
Однако трое друзей ринулись вверх под свист и смешки масок; те и сами не знали, зачем они свистят и смеются, — верно, затем, чтобы произвести шум, который возбуждает подвыпивших и одурманивает пьяных.
На втором этаже, как и на первом, зал был полон: то же скопление тел в накуренной комнате. Голые стены, как бы любопытствуя, выглядывали сквозь прорехи грязно-серых в розочку обоев; на окнах красные занавески с желто-зеленым греческим орнаментом; потолок черен.
С порога было видно, что это сборище на ступень ниже того, которое только что покинули трое друзей; едва выступающее из мрака в тусклом рыжевато-белесом свете нескольких кенкетов, оно было живым образцом, явным воплощением смутных, пестрых, бессвязных мыслей, толпящихся в пьяном мозгу.
— Ого! — воскликнул Жан Робер, который поднялся первым и толкнул дверь. — Кажется, преисподняя Бордье — полная противоположность аду Данте: чем выше поднимаешься, тем ниже скатываешься.
— И что ты на это скажешь? — спросил Петрус.
— Скажу, что это было ужасно, но становится любопытным.
— Тогда давай поднимемся еще выше! — предложил Петрус.
— Давай! — подхватил Людовик.
И трое молодых людей снова стали подниматься по ступеням, еще более выщербленным и узким.
На третьем этаже — то же скопище, та же обстановка, разве что потолок ниже, а воздух еще тяжелее и еще насыщеннее зловонными испарениями.
— Ну как? — спросил Людовик.
— Что ты на это скажешь, Жан Робер? — произнес Петрус.
— Идем еще выше! — предложил поэт.
На четвертом этаже оказалось еще ужаснее.
На столах и под столами, на лавках и под лавками — всюду были человеческие существа, если только человек, опустившийся ниже скотского состояния, еще может называться этим именем.
Полсотни живых существ: мужчины, женщины, дети — дремали, спали или просто лежали среди разбитых тарелок и бутылочных осколков, перепачканные соусами и облитые вином.
Единственный кенкет едва освещал комнату.
Его можно было принять за фонарь, горящий в склепе, если бы не глухие раскаты, вырывавшиеся из груди нескольких человек и громко свидетельствовавшие о том, что эти пьяницы — моральные трупы — еще живы.
У Жана Робера замерло сердце, однако он умел владеть собой: что бы ни чувствовало его сердце, воля оставалась непреклонной.
Петрус и Людовик переглядывались, готовые повернуть назад, несмотря на воодушевление одного и невозмутимость другого.
Однако Жан Робер успел разглядеть, что лестница поднимается дальше, лепясь по стене, как это бывает на мельницах; он устремился вверх, по виду все более уверенный в себе (хотя на самом деле почти теряя самообладание), и призывал:
— Ну, господа, вы сами этого хотели; идемте выше, выше!
Он приотворил дверь на пятый этаж.
Там их взору открылась комната, ничуть не отличавшаяся от нижних, однако действующие лица здесь были другие.
Всего пять человек сидели вокруг стола; на столе можно было разглядеть колбасные объедки, а среди них возвышалось с десяток бутылок, похожих на кегли, но не так симметрично расставленных.
Люди эти были одеты по-городскому.
Когда мы говорим «по-городскому», мы имеем в виду, что на них были не маскарадные костюмы, а рубахи, рабочие блузы или куртки.
Трое друзей вошли; лакей, сопровождавший их от этажа к этажу, вошел вслед за ними.
Вновь прибывшие остановились на пороге, огляделись, и Жан Робер повел рукой, словно хотел сказать: «Вот то, что нам нужно».
Его жест был столь выразителен, что Петрус заметил:
— Черт возьми! Да мы здесь устроимся по-королевски!
— И правда, — подтвердил Людовик, — не хватает только свежего воздуха.
— Нет ничего проще! — подхватил Петрус. — Сейчас отворим окно.
— Где господам угодно, чтобы им накрыли стол? — спросил лакей.
— Там! — Жан Робер указал в угол, противоположный тому, где сидели пятеро завсегдатаев.
Потолок комнаты был такой низкий, что входившие были вынуждены снять шляпу и даже после этого Жан Робер, самый высокий из троих, все равно касался его головой.
— Что угодно господам? — вновь спросил лакей.
— Шесть дюжин устриц, шесть бараньих отбивных и один омлет, — заказал Петрус.
— Какое вино прикажете подать?
— Три бутылки лучшего шабли с сельтерской, если она есть в вашем заведении.
Услышав этот заказ, от которого за целое льё разило аристократией, один из пятерых собутыльников обернулся ко вновь прибывшим.
— Ого! — обронил он. — Лучшего шабли с сельтерской! Никак, мы имеем дело со щёголями!
— С богатенькими сынками! — поддержал его другой.
— Или с «баронами», — прибавил третий.
И пятеро выпивох рассмеялись. В описываемые нами времена благородное сословие, еще не читавшее современных романов и «Мемуаров Видока», не было знакомо с жаргонными словечками: трое наших искателей приключений даже не поняли, что их просто-напросто окрестили ворами, и потому почти не обратили внимания на смех, последовавший за оскорблением.
Жан Робер уже положил плащ на стул, а тросточку пристроил в углу на окне.
Лакей приготовился выйти, чтобы заказать ужин, как вдруг тот завсегдатай, что заговорил первым и назвал молодых людей щёголями, схватил лакея за фартук.
— Ну что? — спросил он.
— Что именно? — удивился тот.
— Тебе приказано подать карты.
— Совершенно верно.
— Так что же ты их не принес?
— Вы отлично знаете, что карты в это время подавать запрещено.
— Это почему же?
— Спросите у господина Делаво.
— Кто такой господин Делаво?
— Префект полиции.
— Какое мне дело до префекта полиции?
— Вам, может, и нет до него дела, да нам-то есть!
— При чем здесь вы?
— Нам придется закрыть заведение, что лишит нас удовольствия принимать вас у себя.
— Но раз нельзя играть, чем же, по-твоему, нам здесь заниматься?
— Вас никто не держит.
— А ты, я вижу, не слишком вежлив! Я поговорю с хозяином.
— Говорите хоть с папой римским!
— И ты думаешь, тебе это сойдет с рук?
— Почему бы нет?
— А если мы рассердимся?
— Ну что ж, — ответил лакей с тем лукавым смешком, который обычно сопровождает шутки простонародья, — если вы рассердитесь, знаете, что вы сделаете?
— Нет.
— Возьметесь за карты.
— Тысяча чертей! Ты, кажется, вздумал со мной шутки шутить? — взвыл пьяница, поднявшись и грохнув по столу кулаком так, что бутылки, стаканы и тарелки подпрыгнули на шесть дюймов. — Карты! Именно карты нам и нужны!
Но лакей был уже на лестнице, и пьянице пришлось сесть на место, выжидая, по всей видимости, удобного случая, чтобы выместить на ком-нибудь свою злость.
— А-а! — забормотал он. — Видно, этот дурак забыл, что меня зовут Жан Бык и что я кулаком убиваю быка. Придется ему напомнить...
Взяв со стола наполовину пустую бутылку, он поднес горлышко к губам и одним махом допил ее содержимое.
— Жан Бык завелся, — шепнул один из пятерых сотрапезников на ухо соседу. — Я его знаю: теперь ему надо на ком-нибудь сорвать зло!
— В таком случае, — отвечал тот, кому было адресовано это доверительное сообщение, — жаль мне этих щёголей!
IV ЖАН БЫК
Мы уже сказали, что тот из пяти завсегдатаев, кто требовал карты и назвался Жаном Быком — имя это как нельзя более кстати подходило к его внешности, — ожидал лишь подходящего случая, чтобы дать выход своему раздражению.
И случай не замедлил представиться.
Мы надеемся, что читатель внимательно следует за нами и не забыл, какое замечание отпустил Людовик по поводу атмосферы в комнате.
В самом деле, вонь от тарелок, запах вина, табачный дым, исходящие от посетителей испарения — вот что затрудняло в этом чердачном этаже дыхание тем, кто привык к свежему воздуху. По всей вероятности, окно не открывалось с последнего пригожего дня минувшей осени; и трое друзей инстинктивно подались к единственному окну, через которое в притон мог проникнуть свет, а в случае нужды, как теперь, — и воздух.
Петрус добрался до окошка первым; он приподнял нижнюю его часть и зацепил кольцо за предназначенный для него гвоздь.
Это окно было из тех, что называются гильотинными.
Жан Бык счел подвернувшийся случай подходящим, чтобы завязать ссору.
Он поднялся с табуретки и, упёршись кулаками в стол, прорычал:
— Похоже, господам вздумалось отворить окно?
Он обращался ко всем троим сразу, но в особенности — к Петрусу.
— Как видите, друг мой, — отозвался тот.
— Никакой я вам не друг, — возразил Жан Бык, — затворите окно!
— Господин Жан Бык! — с насмешливой учтивостью проговорил Петрус. — Позвольте вам представить моего друга Людовика, знаменитого физика; он в два счета вам объяснит, из каких элементов должен состоять воздух, чтобы им можно было дышать.
— Что это он тут поет про какие-то элементы?
— Он говорит, господин Жан Бык, — вмешался Людовик, не уступая Петрусу ни в вежливости, ни в насмешливости, — он говорит, что в атмосфере должно быть от семидесяти пяти до семидесяти шести частей азота, от двадцати двух до двадцати трех частей кислорода и примерно две части воды. Только такой воздух не оказывает губительного воздействия на человеческие легкие.
— Скажи на милость! — удивился один из сидевших за столом завсегдатаев. — Он, кажется, на латыни с тобой говорит, а, Жан Бык?
— Что ж! Зато я сейчас поговорю с ним по-французски!
— А если он не поймет?
— Тогда можно и стукнуть разок!
И Жан Бык показал кулаки размером с детскую голову.
Не допускавшим возражений тоном, будто говорил с людьми своего сословия, он продолжал:
— Закройте-ка окно, да поживее!
— Это может быть угодно вам, метр Жан Бык, но не мне, — невозмутимо заметил Петрус, скрестив руки и продолжая стоять у отворенного окна.
— Как это не тебе? У тебя что, свое мнение есть?
— Почему бы человеку не иметь собственного мнения, если даже скотина и та его имеет?
— Скажи-ка, Багор, уж не меня ли этот несчастный щёголь вздумал называть скотиной? — нахмурившись, обратился Жан Бык к одному из приятелей, в котором легко было распознать тряпичника, даже если бы об этом не говорило выразительное имя, данное ему собеседником.
— Мне тоже так показалось, — отозвался Багор.
— И что будем с ним делать?
— Сначала пусть закроет окно, раз ты так хотел, а потом прикончим его.
— Отлично сказано!
В третий раз предупреждая зарвавшихся юнцов, он потребовал:
— Гром и молния! Закройте окно!
— Пока что нет ни грома, ни молнии, — спокойно отвечал Петрус, — и окно останется отворено.
Жан Бык вдруг с шумом вдохнул воздух, который трое приятелей сочли непригодным для человеческих легких, и это было похоже на грозный рык животного, чье имя он носил.
Робер чувствовал приближение скандала и хотел его предотвратить, хотя и понимал, что это уже вряд ли возможно. Впрочем, если кому это и было под силу, то, несомненно, именно ему: он один не потерял самообладания.
Он спокойно пошел навстречу Жану Быку и заговорил примиряюще:
— Сударь, мы только что с улицы, и потому нам здесь показалось душно.
— Еще бы, — заметил Людовик — здесь дышат одним углекислым газом!
— Позвольте нам на минуту отворить окно, мы проветрим комнату и сейчас же его затворим.
— Вы открыли окно, не спросясь, — возразил Жан Бык.
— Ну и что? — бросил Петрус.
— Надо было меня спросить, может, вам и разрешили бы.
— Ну, хватит! — не вытерпел Петрус. — Я отворил окно, потому что мне так хотелось, и оно будет открыто до тех пор, пока я этого хочу.
— Замолчи, Петрус! — перебил его Жан Робер.
— Не замолчу! Неужели ты думаешь, что я позволю этим негодяям мне указывать?
При слове «негодяи» четверо товарищей Жана Быка поднялись из-за стола и подошли с явным намерением поддержать зачинщика скандала.
Судя по грубым чертам их физиономий, носивших явный отпечаток жестокости или, во всяком случае, дикой свирепости, эти четверо задиристых гуляк, пользуясь поддержкой пятого своего товарища, манеры которого нам уже знакомы, искали, как и он, лишь подходящего случая затеять шумную ссору, чтобы нарушить однообразие карнавальной ночи.
Нетрудно было определить род занятий каждого из них.
Тот, кого Жан Бык называл Багром, был не совсем тряпичником, как можно было бы подумать, судя по оставленному на столе фонарю, а также предмету, которому он был обязан своим прозвищем. Скорее этот человек принадлежал к тем, кого называли «мусорщиками» — по их ремеслу, которое заключалось не столько в том, чтобы рыться в кучах отбросов, а в том, чтобы багром выуживать мусор из сточной канавы.
Для промышлявших этим ремеслом, упраздненным лет восемь или десять тому назад постановлением полиции, а в особенности из-за появления тротуаров, придорожная сточная канава превращалась порой в Пактол, и не одному мусорщику довелось выловить в ней кольца, перстни, драгоценные камни, то потерянные, то случайно оброненные из окна, когда кто-нибудь вытряхивал скатерть или ковер; в моих «Мемуарах» рассказано, как почти в те же времена, что описаны в этой книге, вот так же были выброшены серьги мадемуазель Жорж, по счастливой случайности не попавшие в лапы к господам мусорщикам.
Второго завсегдатая Жан Бык не назвал, но мы обязаны устранить эту забывчивость; итак, то был Кирпич; одного этого прозвища было бы довольно, чтобы определить род его занятий, а пятна извести и белесая пыль, покрывавшие его лицо и руки, лишь подтверждали и друзьям его и недругам, что перед ними каменщик.
Одним из его лучших друзей был Жан Бык. Характерно, что они познакомились при обстоятельствах, свидетельствующих о геркулесовой силе человека, которого мы только что представили читателям и которому суждено сыграть в этой истории пусть не первую, но все-таки довольно видную роль, и скоро мы в этом убедимся.
Как-то загорелся один дом в Сите; когда охваченная огнем лестница рухнула, из окна третьего этажа стали звать на помощь мужчина, женщина и ребенок. Мужчина (это был каменщик) просил только лестницу или хотя бы веревку: он сам мог бы спасти жену и сына.
Но присутствующие словно обезумели: ему подносили лестницы, наполовину короче требуемых, веревки, не способные выдержать троих.
Огонь разгорался; дым клубами валил из окон, предваряя появление пламени, уже угадывавшегося по отблескам.
Мимо проходил Жан Бык.
Он остановился.
— Неужто у вас нет ни веревок, ни лестниц? — закричал он. — Вы же видите, они сейчас сгорят!
Казалось, беды не миновать.
Жан Бык огляделся; увидев, что ничего подходящего не несут, он вытянул руки и прокричал:
— Бросай ребенка, Кирпич!
Каменщик и не подумал обидеться на это прозвище; он поднял ребенка, поцеловал в обе щеки и бросил его Жану.
Присутствовавшие не могли сдержать крика ужаса.
Жан Бык поймал ребенка и передал стоящим позади него.
— Теперь бросай жену! — приказал он.
Каменщик поднял жену и, не обращая внимания на ее вопли, отправил вслед за сыном.
Жан Бык поймал и женщину; он только пошатнулся и отступил на шаг.
— Готово! — сказал он, ставя на ноги женщину, от страха почти лишившуюся чувств, а зрители тем временем рассыпались в похвалах.
— Теперь твоя очередь! — крикнул он мужчине, расставил пошире ноги и напряг могучую поясницу.
Две тысячи человек, присутствовавшие при этой сцене, затаили дыхание и в последовавшие затем несколько секунд не проронили ни звука.
Каменщик встал на подоконник, перекрестился, потом зажмурился и прыгнул с криком:
— Господи, спаси и сохрани!
На сей раз удар был ужасный: у Жана Быка подогнулись колени, он сделал три шага назад, но все-таки удержался на ногах.
Толпа ахнула.
Все бросились к человеку, проявившему неслыханную силу, но, прежде чем к нему успели подбежать, Жан Бык разжал руки и упал навзничь: он лишился чувств и у него хлынула горлом кровь.
Ребенок, женщина и мужчина не получили ни единой царапины.
У Жана Быка обнаружился разрыв легочной вены.
Его перевезли в Отель-Дьё, откуда он вышел спустя два дня.
У третьего завсегдатая лицо было настолько же черное, насколько был бел Кирпич. По-видимому, этот человек принадлежал к почтенному классу угольщиков, и звали его Туссен. Жан Бык слышал от знакомых архитекторов о талантливом негре, едва не совершившем революцию в Сан-Доминго; Жан был не лишен чувства юмора и потому прозвал угольщика Туссен-Лувертюром.
Четвертому было под пятьдесят, он отличался живым взглядом и быстрыми движениями; он был словно насквозь пропитан запахом валерьянки; на нем были бархатная куртка, бархатные штаны, жилет и каскетка из кошачьей кожи; среди друзей он откликался на имя папаши Фрикасе.
Он снабжал все кабачки Рынка, где готовили домашних кошек, которых Жан Робер так боялся получить на ужин вместо дикого кролика; а запах валерьянки, исходивший от этого человека, привлекал к нему несчастных животных; он продавал их тушки по десяти су кабатчикам, а шкурки — по пятнадцати су дубильщикам.
Промысел этот процветал, но был небезопасен; помнится, то ли в 1834, то ли в 1835 году мы натолкнулись в печати на отчет о процессе над собратом папаши Фрикасе; его осудили на год тюрьмы и пятьсот франков штрафа, несмотря на впечатляющую защитительную речь, в которой он, опираясь на гастрономический авторитет знаменитых кулинаров Карема и Брийа-Саварена, попытался доказать судьям несомненное преимущество кошачьего мяса перед кроличьим.
Пятым собутыльником — мы припасли его на конец, памятуя о евангельской мудрости: «Первые да будут последними», — итак, пятым был сам Жан Бык; читатели уже знают о его физической силе, и мы могли бы обойтись без более подробного его описания; но мы стремимся дать самый точный его портрет, чтобы стал понятнее один из самых необычных характеров, который мы когда-либо знали.
Жан Бык был примерно пяти футов и шести дюймов росту, прямой, крепкий, под стать дубовым брусьям, какие он обтесывал, так как был по ремеслу плотником; он был похож на Геркулеса Фарнезского, высеченного из гранитного монолита; с первого взгляда казалось, что он и без четырех друзей, ринувшихся ему на помощь, справится с тремя врагами, раздавит их одним пальцем.
Перейдя от описания его фигуры к описанию лица и одежды, скажем, что физиономию плотника обрамляли густые черные бакенбарды, соединявшиеся под подбородком; по лицу ему можно было дать от тридцати до сорока лет; у него были короткие курчавые волосы, символизировавшие у древних, например у сына Юпитера и Семелы, силу; толстая шея оправдывала прозвище, которое то ли он сам себе присвоил из честолюбия, то ли ему дали товарищи, и дополняла его облик, свидетельствуя о неразумной и грубой силе.
Да, чуть было не забыли: на Жане Быке были куртка, штаны, жилет и каскетка из зеленоватого вельвета в рубчик.
Из кармана его куртки выглядывал деревянный угломер, а из кармана штанов — длинный железный циркуль, одна ножка которого была заправлена внутрь, а другая болталась снаружи.
Таковы были пятеро противников, с которыми предстояло иметь дело врачу Людовику, художнику Петрусу и поэту Жану Роберу, если только они не решились бы отступить. Но, может быть, и это не помогло бы избежать стычки.
V БИТВА
В начале предыдущей главы мы рассказали, какую стратегическую позицию относительно неприятеля занимали три героя нашей истории, которых мы привели с улицы Сент-Аполлин ко входу на Рынок, а затем последовали за ними в их неосторожной одиссее на пятый этаж кабака.
Петрус прислонился к отворенному окну; скрестив руки, он с вызовом смотрел на пятерых простолюдинов.
Людовик с любопытством разглядывал Жана Быка, забыв об опасности; он был человеком науки: в эту минуту он был готов отдать сотню франков ради того, чтобы иметь возможность вскрыть подобного субъекта и покопаться в его потрохах.
Возможно, поразмыслив хорошенько, он заплатил бы и две сотни за то, чтобы этим субъектом оказался не кто иной, как сам Жан Бык: лучше бы такой силач распластался мертвым на столе, чем стоял перед ним полный жизненных сил, угрожая расправой.
Жан Робер, как мы уже сказали, вышел вперед, чтобы попытаться замять дело или, в противном случае, первым вступить в бой.
Хоть Жан Робер был молод, он уже успел немало прочесть (в том числе книгу, излагающую теорию маршала Саксонского о моральном воздействии на неприятеля) и знал, что при любых обстоятельствах, где должна быть применена сила, огромное преимущество на стороне того, кто наносит удар первым.
Серьезные занятия боксом (в том числе французским, где допускаются удары ногой) у преподавателя, который тогда еще был неизвестным, но позднее приобрел шумную славу, вселяли в Жана Робера надежду на успех; к тому же он был наделен недюжинной силой, позволявшей ему рассчитывать на победу, если бы противником его оказался не Жан Бык.
Как мы уже сказали, молодой человек решил пытаться уладить дело миром, но делать это до тех пор, пока его нельзя будет заподозрить в трусости.
И он заговорил первым, потому что остальные молчали: слова будто замерли у них на устах после враждебного выпада четверых друзей Жана Быка.
— Вот что, — начал он, — прежде чем затевать драку, давайте объяснимся... Чего желают эти господа?
— Вы нарочно нас называете «этими господами»? — возмутился мусорщик. — Мы не господа, слышите?
— Вы совершенно правы, — воскликнул Петрус. — Вы не господа, вы негодяи!
— Он обозвал нас негодяями! — взвыл кошкодер.
— Ну, мы вам сейчас покажем негодяев! — выкрикнул каменщик.
— Дайте-ка мне пройти! — рявкнул угольщик.
— Замолчите все и стойте спокойно: это касается только меня.
— Почему?
— Во-первых, потому что впятером против троих не дерутся, когда и один справится... Фрикасе! Багор! На место!
Двое друзей Жана Быка повиновались и с ворчанием направились к своим стульям.
— Хорошо! — сказал Жан Бык. — А теперь, голубчики, пропоем ту же песню еще раз с первого куплета. Не угодно ли закрыть окно?
— Нет, — в один голос отвечали молодые люди, услышав, каким вызывающим тоном были произнесены эти вежливые слова.
— Так вы хотите, чтоб я вас изничтожил?! — вскричал Жан Бык и простер руки над головой, насколько позволял низкий потолок.
— Попробуйте, — холодно проговорил Жан Робер, шагнув навстречу плотнику.
Петрус одним прыжком очутился перед самым носом у силача, словно собирался заслонить от него Робера.
— Проследите с Людовиком, чтобы остальные не мешали, — приказал Жан Робер, отстраняя Петруса тыльной стороной руки. — Этого я беру на себя.
И он ткнул пальцем плотнику в грудь.
— Это вы обо мне, если не ошибаюсь, сударь мой? — хохотнул великан.
— О тебе, о тебе.
— Чему обязан честью быть вами избранным?
— Я бы мог тебе ответить, что ты ведешь себя слишком вызывающе и потому заслуживаешь сурового наказания; однако причина не в том.
— В чем же?
— Мы с тобой тезки: тебя зовут Жан Бык, меня — Жан Робер.
— Меня-то зовут Жан Бык, это верно, — отозвался плотник, — а вот ты не Жан Робер, это ты врешь, ты Жан Дер. Молодой человек в черном не дал ему договорить: один из его сложенных на груди кулаков, словно подброшенный стальной пружиной, ударил великана в висок.
Жан Бык, тот самый, кто, не дрогнув, принял на руки сброшенную с третьего этажа женщину, вдруг отступил на несколько шагов и опрокинулся навзничь на стол, у которого подломились под его тяжестью две ножки.
Нечто похожее происходило в эту минуту с другими сражавшимися. Петрус был мастер драться на палках, а также знал толк во французском боксе; за неимением палки он сделал каменщику подсечку, и тот покатился к Жану Быку, а тем временем Людовик, как хороший анатом, нанес угольщику в область печени, между седьмым ребром и шейкой бедренной кости, такой удар, что его противник побледнел, и это стало заметно даже сквозь слой угольной пыли, покрывавшей его лицо.
Жан Бык и каменщик снова встали.
Туссен, еще державшийся на ногах, опустился, ловя ртом воздух и схватившись руками за бок, на табурет, стоявший у стены.
Но, как отлично понимает читатель, это была только первая атака, нечто вроде перестрелки перед боем; молодые люди это понимали и потому приготовились к новому нападению.
Изумление зрителей — Багра и Фрикасе — было столь же велико, сколь и удивление действующих лиц этой сцены.
Видя, что двое их товарищей, Жан Бык и Кирпич, упали навзничь, а Туссен-Лувертюр сидит с глупейшим видом, Багор и папаша Фрикасе встали, забыв о приказании Жана Быка, один — с багром, другой — с бутылкой в руке, чтобы тоже получить от праздника причитающееся.
Каменщик упал скорее от неожиданности и потому поднялся, испытывая смущение, а не боль.
А вот плотнику почудилось, будто в голову ему угодил конец балки, пущенной из катапульты.
Боль в голове сейчас же отдалась по всему телу; некоторое время он ничего не видел и не слышал, кровавая пелена застилала ему глаза, в ушах гудело.
Впрочем, кровавая пелена объяснялась просто: удар Жана Робера пришелся плотнику в висок, а потом кулак скользнул по лбу; перстень с печаткой, который юноша носил на указательном пальце, прочертил над бровью кровавый след.
— A-а! Тысяча чертей! — вскричал плотник и двинулся на противника еще нетвердым шагом. — Вот что значит напасть врасплох: сопливый мальчишка, и тот может взять верх!
— Ну что ж! На сей раз можешь не торопиться, Жан Бык, и приготовься. Я намерен доломать об тебя стол.
Жан Бык занес кулак и снова бросился на противника; так бывает всегда, когда неискушенная грубая сила пытается одолеть ловкость, а ведь на этом и построена вся теория бокса: требуется меньше времени, чтобы ударить кулаком по прямой, нежели описать параболу.
Для Жана Робера то была всего-навсего оборона: правой рукой он ослабил сокрушительный удар, которым угрожал ему плотник, а когда тяжелый кулак Жана Быка вот-вот готов был на него опуститься, Жан Робер ловко повернулся вокруг своей оси и, благодаря высокому росту, нанес противнику страшный удар ногой в грудь — в те времена один Лекур знал секрет таких ударов и умело ими владел.
Жан Робер не ошибся, предсказав будущее плотнику: тот в самом деле снова рухнул на стол; он не вскрикнул, не произнес ни единого слова: полученный удар лишил его дара речи.
С тремя другими участниками этой сцены произошло вот что.
Петрус, со свойственным ему проворством, взял на себя сразу двух противников: мусорщику, бросившемуся на него с багром в руке, он швырнул в голову табурет, а пока Багор приходил в себя, он, как истинный бретонец, боднул каменщика в живот и перекинул его через себя.
Людовику, таким образом, достался пока один кошатник — противник не слишком опасный; медик не был искушен в боксе, как его товарищи, а потому схватился с ним врукопашную и покатился по полу. Он превосходил папашу Фрикасе в силе и вскоре подмял его под себя.
Но, вместо того чтобы воспользоваться своим преимуществом, Людовик, придавив противника к земле коленом, замер, размышляя, откуда исходит столь сильный запах валерьянки.
Он еще раздумывал над этой неразрешимой загадкой, когда мусорщик и каменщик, увидев, что плотник повержен во второй раз, Туссен еще не оправился от удара в бок, а кошатник барахтается под Людовиком, закричали:
— За ножи! За ножи!
В эту минуту лакей внес устрицы.
В одно мгновение он оценил положение, оставил поднос на столе и скатился по лестнице, торопясь предупредить кого следует о положении дел.
Участники сцены почти не заметили его.
Они были слишком заняты собой, а он исчез так стремительно, что, если бы не устрицы, появившиеся на столе, можно было подумать, будто он просто приснился.
Но то, что происходило на пятом этаже, а также этажом ниже, сном назвать уже нельзя было.
Грохот при двух падениях плотника, треск сломанного стола, крики «За ножи! За ножи!» заставили пьяниц, дремавших на четвертом этаже, подскочить; самые трезвые стали прислушиваться; один из них, шатаясь, пошел отворить дверь; те, кто был еще в состоянии видеть, заметили, как насмерть перепуганный лакей скрылся в потемках лестницы.
Бывалые в делах такого рода, они догадались, что происходит. Вскоре трое друзей услышали торопливый топот по лестнице и вой, подобный гулу моря во время шторма.
Это двигались подонки Рынка. Вскоре через распахнутую настежь дверь комната наполнилась полупьяным ошалевшим отребьем, взбешенным тем, что ему не дают спать.
— Ага! Так тут резня!? — слышалось десятка два хриплых нестройных голосов.
Завидев толпу, или, вернее, свору, Жан Робер, самый восприимчивый из троих молодых людей, невольно почувствовал, как по жилам у него растекается леденящий холод, который испытывает каждый, даже очень сильный человек при соприкосновении с гадом; обернувшись к своему другу-художнику, он не удержался и шепнул:
— Ах, Петрус! Куда же ты нас привел!..
Но у Петруса в голове сложился новый план обороны.
Когда пятеро одержимых заорали: «За ножи! За ножи!» — ибо плотник и Туссен скоро обрели голос и присоединились к угрозам приятелей, — Петрус ответил кличем: «На баррикады!», ни разу не звучавшим на улицах Парижа с того памятного дня, которому это оборонительное сооружение дало историческое имя.
Известно, что позднее парижане вознаградили себя за молчание, продолжавшееся двести пятьдесят лет.
Крикнув «На баррикады!», Петрус увлек за собой Жана Робера, заставил Людовика подняться, и они отбежали в угол комнаты, в одно мгновение отгородившись от наступающих столами и скамьями.
Петрус воспользовался минутной передышкой, которую дала им победа, и сорвал с окна позолоченную когда-то палку, на которой висели шторы; завладеть этой палкой с самого начала схватки было его целью. Жан Робер прихватил свою трость. Людовик удовольствовался оружием, данным ему природой.
В одно мгновение друзья оказались под защитой импровизированной крепости.
— Посмотрите-ка, — обратился Петрус к товарищам, указывая на дальний угол бастиона, где были свалены в кучу пустые бутылки, осколки тарелок, раковины от устриц, старые вилки, ножи без ручек, ручки без лезвий. — Как видите, снарядов нам хватит!
— Хватит, конечно, — подхватил Жан Робер, — а вот не ранен ли кто-нибудь из нас? Что до меня, то я удары раздавал, но не получал.
— Я тоже жив и здоров! — отозвался Петрус.
— А ты, Людовик?
— Мне кажется, кто-то ударил меня кулаком между челюстью и ключицей; но беспокоит меня не это.
— Что же тебя беспокоит? — поинтересовался Жан Робер.
— Я бы хотел знать, почему от того человека, с кем я в последний раз сцепился, так несло валерьянкой.
В эту минуту толпа взревела, встревожив и без того не на шутку обеспокоенных молодых людей.
VI ГОСПОДИН САЛЬВАТОР
Вид разъяренной толпы пробудил в простолюдинах чувства, противоположные тем, которые испытывали молодые люди.
Плотник и его товарищи понимали, что это подоспела подмога.
Жан Робер с друзьями видели, что для них это новые враги.
Естественно, людям свойственно испытывать симпатию к себе подобным.
Бросая свирепые взгляды на молодых людей, забившихся в своей крепости, сбежавшееся на шум отребье окружило Жана Быка и его товарищей, спрашивая, что происходит.
Объяснить это было непросто, ведь плотник сам был виноват: он потребовал от молодых людей затворить окно.
Другой его промах был более серьезный: он получил от Жана Робера удар кулаком и удар ногой — первый разбил ему лицо, второй расшиб грудь.
Он рассказал толпе, что с ним произошло; но, как ни поворачивал он свою историю, ему не удавалось выйти из заколдованного круга: «Я хотел заставить затворить окно — оно осталось открыто! Я хотел наказать — сам оказался наказан!»
И толпа (как и положено ей), не лишенная здравого смысла, несмотря на предубеждение против «фраков», поняла, — да простится мне просторечное выражение: оно так точно выражает смысл этого понятия! — что Жан Бык остался в дураках, и подняла его на смех.
Плотника не было необходимости распалять.
Если раньше он был в ярости, то от этого смеха он просто обезумел.
Он поискал взглядом молодых людей и увидел, что они забаррикадировались в своем углу и отражают отчаянные атаки четверых его товарищей.
— Стойте! — крикнул он. — Дайте мне разделаться с «фраком»!
Но четверо его товарищей остались глухи.
Зато, правда, немыми их назвать было нельзя.
У Багра под глазом зияла рана: Людовик угодил в него осколком от бутылки.
Жан Робер раскроил табуретом голову Туссену.
Петрус концом палки через щель в баррикаде ранил кошатника в грудь, а каменщика — в бок.
Четверо раненых орали во всю мочь:
— Смерть им! Смерть им!
Сражение в самом деле походило на смертный бой.
Насмешки толпы, вид крови, стекающей по одежде собутыльников и по его собственной, привели Жана Быка в бешенство: он выхватил из кармана циркуль и со страшным этим оружием в руке шагнул к баррикаде.
Петрус и Людовик ринулись было ему навстречу, вооруженные бутылками и готовые размозжить плотнику голову; но Жан Робер, увидев, что остался единственный серьезный противник и нужно раз навсегда с ним покончить, схватил своих друзей за куртки и сдернул их с баррикады, пробил ногой брешь и вышел через нее с тросточкой в руке:
— Так вам мало? — спросил он у Жана Быка.
В толпе загоготали и захлопали в ладоши.
— Нет! — прорычал тот в ответ. — Я не успокоюсь, пока не воткну циркуль на шесть дюймов тебе в живот!
— Стало быть, вы признаете свою слабость и готовы на подлость, Жан Бык? Не можете меня одолеть и потому решили убить?
— Я хочу мщения, тысяча чертей! — выкрикнул плотник, приходя в возбуждение от собственных слов.
— Берегись, Жан Бык! — предупредил молодой человек. — Клянусь честью, ты никогда не подвергался такой опасности, какая грозит тебе в эту минуту.
Он обратился к толпе.
— Вы же люди; постарайтесь урезонить этого человека: вы видите, что я спокоен, а он потерял голову.
Человек пять отделились от толпы и встали между плотником и Жаном Робером.
Но это вмешательство не успокоило Жана Быка, а привело его в еще большее возбуждение.
Движением руки он оттолкнул всех пятерых.
— Ах, никогда мне не грозила такая опасность, как теперь! Ха-ха! Уж не этой ли тросточкой ты собираешься отмахнуться от моего циркуля? А?
И он взмахнул над головой своим остроконечным оружием; циркуль развернулся в воздухе и вытянулся не меньше чем на восемнадцать дюймов в длину.
— Вот в этом ты ошибаешься, Жан Бык, — проговорил молодой человек, — это не простая тросточка, это змея; если ты сомневаешься, — прибавил он, выхватив шпагу из хрупких ножен в виде трости, — вот ее жало!
Толпа взвыла от радости и содрогнулась от ужаса.
Пути назад не было: должна была пролиться кровь; все шло своим чередом по законам драматического искусства — чем дальше, тем интереснее.
— Ага! — с видимым облегчением выдохнул плотник, не чувствуя больше укоров совести. — Итак, ты тоже вооружен? Только этого мне и нужно!
Жан Бык наклонил голову, занес руку и, подставляя грудь под удар с неискушенностью сильного человека, бросился на юношу во фраке, вооруженного легкой шпагой.
Вдруг мощная рука схватила его за запястье и, с силой тряхнув, заставила выпустить циркуль, который, падая, воткнулся в пол.
Плотник со страшным проклятием обернулся.
Однако, едва увидев, с кем имеет дело, он сменил угрожающий тон на почтительный.
— Ах, господин Сальватор! Простите, это совсем другое дело...
— Господин Сальватор! — ахнула толпа. — Добро пожаловать! Если бы не вы, все бы кончилось бедой!
— Господин Сальватор? — переспросили в один голос Жан Робер, Петрус и Людовик. — Это еще кто?
— Вот человек, чье имя — добрый вестник, — прибавил Петрус. — Посмотрим, окажется ли он достоин своего имени!
Персонаж, столь чудодейственным образом вышедший на сцену подобно античному богу из машины, по всей вероятности, ради того, чтобы помешать кровавой развязке и уладить дело миром, появился внезапно. На вид ему можно было дать лет тридцать.
В самом деле, когда в момент своего появления он обвел толпу властным взглядом, у него было мужественное и в то же время кроткое лицо тридцатилетнего человека, дышавшее силой и красотой.
Впрочем, в следующую минуту было уже трудно (если не сказать — невозможно) с уверенностью сказать, сколько же ему лет: тридцать? сорок?
Он казался молодым, когда в выражении его лица угадывалась доброта и безмятежность, а во взгляде — любопытство и доброжелательность. Когда же его блуждающий взгляд натыкался на нечто такое, что вызывало в нем отвращение, он хмурил черные брови, лоб бороздили морщины и он выглядел старше.
И вот, перехватив руку плотника и легким нажатием заставив его выпустить грозное оружие, он окинул быстрым взглядом трех друзей и сразу понял, что перед ним светские люди, случайно оказавшиеся в дурном обществе. Тогда он закончил здороваться со столпившимися в комнате людьми, хотя обошел лишь половину их; он заметил мусорщика, распластавшегося на столе с рассеченной щекой; каменщика в окровавленной одежде; угольщика, бледного, несмотря на налет черной пыли; кошатника, который, держась руками за бок, вопил, что умирает. При виде этой сцены — ее, однако, ему следовало ожидать — он переменился в лице; под его жестким, строгим взглядом даже самые отчаянные опустили головы, а самые хмельные поостыли.
Так как на сцену только что явился главный герой нашей истории, просим у читателей позволения сделать для него то, что делали мы для менее значительных ее персонажей, то есть представить, насколько это возможно, самое точное описание этого человека.
Ему было, как мы уже сказали, тридцать лет или около того.
Его мягкие черные волосы были завиты, отчего казались короче, чем были в действительности; не будь завивки, они, вероятно, падали бы ему на плечи. Его голубые глаза были чистыми и светлыми, как озерная вода; и так же как озерная вода, с которой мы их сравнили, отражает небо, глаза молодого человека, носившего звучное и нежное имя, будто служили зеркалом, где отражались самые ясные его мысли.
Овал его лица был Рафаэлевой чистоты: ничто не нарушало изящного контура, невозможно было не залюбоваться его безупречными линиями, как любуемся мы в первые майские дни солнцем, встающим на горизонте.
Нос у него был прямой и довольно крупный, но не сильно выдававшийся вперед; рот — небольшой, с ровными зубами, вероятно, красивой формы: под черными усами нельзя было ясно разглядеть очертания губ.
Его лицо, скорее матовое, нежели бледное, обрамляла черная и густая борода; ни ножницы, ни бритва, очевидно, никогда ее не касались: это был нежный пушок, изящная шелковистая нетронутая бородка, смягчавшая черты лица.
Но что особенно поражало в облике молодого человека, так это белая матовая кожа: не желтоватая, как у ученых, не бледная, как у пропойц, не синеватая, как у преступников. Как описать безупречную белизну этого лица? С чем сравнить ее? С меланхоличным светом луны? С прозрачными лепестками белого лотоса? С нетронутыми снегами, венчающими гималайские вершины?
Молодой человек был одет в черный бархатный сюртук, короткий и просторный; достаточно было перехватить это одеяние в талии, чтобы оно превратилось в камзол XV века; жилет и панталоны были тоже из черного бархата.
Шапочка из той же ткани венчала его голову, и вовсе не обязательно было быть художником, чтобы вообразить на ней перо орла, цапли или страуса, которое превратило бы ее в ток.
Среди окружавшей его толпы особый аристократизм его костюму (дополненному ярко-красным шелковым платком, небрежно повязанным вокруг шеи) придавало то, что он был сшит не из бумажного бархата, как у простолюдинов, — это был очень дорогой бархат, что идет на платья актрисам и герцогиням.
Этот живописный наряд поразил не только Жана Робера и Людовика, но и Петруса. Он был до такой степени изумлен, что к вырвавшемуся у него при появлении Сальватора восклицанию: «Вот человек, чье имя — добрый вестник. Посмотрим, окажется ли он достоин своего имени!» (о чем мы уже говорили) — добавил:
— Черт подери! Отличная модель для моего «Рафаэля у Форнарины»! Готов платить ему не по четыре, а по шесть франков за сеанс, если он согласится позировать!
А Жана Робера как драматического поэта, искавшего везде и всюду театральные эффекты, в особенности поразил почтительный прием, который оказала молодому человеку взбешенная толпа, — прием, напомнивший ему quos ego[5] Нептуна, выравнивавшего божественным трезубцем бушующие волны у Сицилийского архипелага.
VII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЖАН БЫК ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТСТУПАЕТ, А ТОЛПА СЛЕДУЕТ ЗА НИМ
С той минуты как появился таинственный незнакомец, которого все называли господином Сальватором, воцарилась глубокая тишина; тридцать или сорок человек, набившиеся в комнату, стояли затаив дыхание.
Плотник принял молчание за осуждение; его ошеломило внезапное появление незнакомца и то, как он сам был обезоружен; однако мало-помалу он пришел в себя и, стараясь смягчить, насколько возможно, хриплые звуки, рвавшиеся у него из горла, начал:
— Господин Сальватор! Позвольте мне объяснить...
— Ты не прав! — прервал его молодой человек тоном судьи, выносящего приговор.
— Но я же вам говорю, что...
— Ты не прав! — повторил молодой человек.
— Да я...
— Ты не прав, говорю тебе!
— Да откуда вам, в конце концов, знать, если вас здесь не было, господин Сальватор?
— Разве мне непременно нужно быть здесь, чтобы знать, что произошло?
— Да ведь, мне кажется...
Сальватор указал рукой на Жана Робера и его друзей, стоявших особняком и поддерживавших друг друга.
— Посмотри! — приказал он.
— Ну, смотрю, — отозвался Жан Бык. — Что дальше?
— Что ты видишь?
— Вижу трех щёголей, которым я обещал задать трепку и которые рано или поздно ее получат.
— Ты видишь трех молодых людей, прилично одетых, элегантных, из хорошего общества; они совершили оплошность, придя в этот притон, но это еще не причина для драки.
— Чтобы я затевал с ними драку?!
— Уж не хочешь ли ты сказать, что они сами подстрекали тебя и четверых твоих приятелей?
— Да ведь вы же видите, что они-то смогли защититься...
— Да, потому что на их стороне ловкость, а главное — правота... Ты думаешь, сила — это всё, стоило только сменить имя Бартелеми Лелон на имя Жан Бык? Только что тебе доказали обратное. Дай Бог, чтобы урок пошел тебе на пользу.
— Да говорю вам, что это они ругали нас негодяями, бездельниками, мужланами...
— А за что они вас так называли?
— Они сказали, что мы пьяны.
— Я спрашиваю, почему они так сказали?
— Мы хотели, чтобы они затворили окно.
— А почему ты не хотел оставить окно открытым?
— Потому что... потому что...
— Почему же? Ну!
— Потому что я не люблю сквозняков, — ответил Жан Бык.
— Нет, потому что ты был пьян, как справедливо заметили эти господа; потому что ты искал повода для драки, ухватился за представившийся случай и затеял ее; потому что до этого ты поссорился дома, а сейчас хотел сорвать зло на невиновных из-за капризов и измен мадемуазель...
— Молчите, господин Сальватор! Не называйте ее имени! — поспешил перебить его плотник. — Несчастная! Она меня в гроб вгонит!
— Вот видишь: я угадал.
Сальватор нахмурился и продолжал:
— Эти господа правильно сделали, что отворили окно: здесь нечем дышать. А для сорока человек и второе окно отворить не помешает. Вот ты это сейчас и сделаешь.
— Я?! — застыв на месте, взвыл плотник. — Чтобы я отворил одно окно, когда я требую закрыть другое?! Я, Бартелеми Лелон, сын своего отца?!
— Ты, Бартелеми Лелон, пьяница и забияка, позоришь имя своего отца и, стало быть, хорошо сделал, что взял кличку. Ты сейчас же откроешь окно в наказание за то, что вызвал этих троих господ на драку — это говорю тебе я!
— Не открою, разрази меня гром! — потрясая кулаком, проревел Бартелеми Лелон.
— Раз так, я тебя больше знать не хочу ни под каким из твоих имен. Теперь ты для меня всего-навсего грубиян и негодяй. И я гоню тебя прочь.
Он повелительно указал на дверь и произнес:
— Пошел вон!
— Не уйду! — завопил плотник, брызгая слюной.
— Именем твоего отца, которого ты только что помянул, приказываю тебе уйти!
— Нет, гром и молния! Нет, я никуда не пойду! — упорствовал Бартелеми Лелон, садясь верхом на скамейку и схватившись за нее обеими руками, словно собирался в случае нужды пустить ее в ход.
— Ты хочешь, чтобы я рассердился? — тихо проговорил Сальватор, словно и не угрожал вовсе.
И он двинулся на плотника.
— Не подходите, господин Сальватор! — вскричал тот, отодвигаясь на противоположный край скамьи по мере того, как молодой человек приближался. — Не подходите!
— Ты уйдешь? — спросил Сальватор.
Плотник поднял скамейку, словно намеревался ударить молодого человека.
Потом, отшвырнув ее, крикнул:
— Вы ведь знаете: можете делать со мной что хотите, и я скорее отрежу себе руку, чем вас ударю... Но по своей воле... Нет! Нет! Нет! Я не уйду!
— Ничтожный упрямец! — воскликнул Сальватор, схватив плотника одной рукой за галстук, другой — за пояс.
Жан Бык взревел от ярости:
— Вы можете меня вынести, я подчинюсь, но сам не уйду никогда!
— Да будет так, как ты хочешь, — согласился Сальватор.
С силой тряхнув безвольно обвисшего великана, он, если можно так сказать, оторвал его от пола, как вырвал бы дуб из земли, поднес к лестнице и спросил:
— Пойдешь вниз сам или предпочитаешь скатиться?
— Я в вашей власти: делайте со мной что вам угодно, сам я не уйду никогда!
— Ну, так я прогоню тебя силой, ничтожество!
И он, раскачав, бросил его, словно мешок, с пятого этажа на четвертый.
Было слышно, как тело Жана Быка, или Бартелеми Лелона — как больше нравится читателю называть плотника: его настоящим именем или по прозвищу, — скатывается, подпрыгивая, со ступеней.
Толпа не издала ни звука, ни вздоха: она была довольна, она наслаждалась зрелищем.
Трое друзей были глубоко взволнованы. Весельчак Петрус помрачнел, флегматичный Людовик почувствовал, как сильно забилось его сердце, и только чувствительный поэт Жан Робер внешне остался невозмутим.
Когда Сальватор вернулся без плотника, поэт вложил шпагу в ножны и смахнул платком пот со лба.
Потом он подошел к Сальватору и протянул ему руку.
— Спасибо, сударь. Вы избавили меня и моих друзей от этого пьяницы, в которого словно дьявол вселился. Только я весьма опасаюсь последствий этого падения.
— Можете за него не беспокоиться, сударь, — проговорил Сальватор, протягивая в ответ белую аристократическую руку, которая только что показала такое чудо силы. — Он отлежится две-три недели — вот и все, а в это время будет горько оплакивать то, что произошло.
— Как?! Неужели этот свирепый человек умеет плакать? — изумился Жан Робер.
— Он будет заливаться горькими, кровавыми слезами, смею вас уверить... Это добрейший и честнейший человек из всех, кого я знаю. Так что не беспокойтесь о нем. Подумайте лучше о себе.
— Обо мне?
— Да... Вы позволите дать вам дружеский совет?
— Говорите, сударь.
Сальватор понизил голос, словно хотел, чтобы его слышал только тот, к кому он обращался:
— Поверьте мне: вам лучше здесь не показываться, господин Жан Робер.
— Вы меня знаете? — поразился поэт.
— Как и все, — с изысканной вежливостью отвечал Сальватор. — Кто не знает одного из наших прославленных поэтов?
Жан Робер залился краской.
— А теперь, — заговорил совсем другим тоном Сальватор, обратившись к толпе, — вы довольны, не так ли? Надеюсь, вы получили за свои деньги все, чего желали? Сделайте одолжение: убирайтесь поскорее. Здесь хватает воздуха только на четверых; иными словами, друзья мои, я хочу поговорить с этими господами без свидетелей.
Толпа повиновалась, словно ватага школьников — голосу учителя; все стали чинно спускаться, почтительно приветствуя — кто поклоном, кто голосом, кто жестом — молодого человека, который, похоже, командовал здесь всеми; а тот после бурной сцены был взволнован не более, чем небосвод после бури.
Четверо сотрапезников Жана Быка, в том числе и Багор, которого полученная рана полностью отрезвила, прошмыгнули мимо Сальватора, понурившись; каждый из них почтительно поклонился, будто солдат перед генералом.
Когда последний из них вышел, на пороге появился лакей.
— Подавать ли господам ужин? — спросил он.
— Непременно! — воскликнул Жан Робер.
И, повернувшись к Сальватору, он спросил:
— Вы доставите нам удовольствие отужинать с нами, господин Сальватор?
— Охотно, — отвечал Сальватор, — но ничего для меня не заказывайте: я как раз приказал подать мне внизу ужин, но услышал здесь шум и поднялся.
— Слышите? — обратился Жан Робер к лакею. — Подайте ужин господина Сальватора сюда.
— Сию минуту! — отозвался лакей.
Он пошел вниз.
Спустя несколько минут четверо молодых людей сидели за столом.
Сначала они выпили за победителей, потом за побежденных, потом подняли бокалы за здоровье того, кто своим счастливым появлением предупредил большее кровопролитие.
— Однако, — смеясь, сказал Сальватор Жану Роберу, — мне показалось, вы недурно владеете приемами бокса, умело применяете удары ногой, похвально фехтуете! Вы отвесили бедному Жану Быку великолепный удар кулаком в висок, восхитительный удар ногой под ложечку, да к тому же приготовились изящно проткнуть его шпагой, когда я, к счастью, вмешался... Впрочем, пустое! Вы построили прекрасное укрепление, и будь я господином Петрусом, я сделал бы с вас набросок в этом лагере.
— О! Вы, значит, меня тоже знаете? — удивился Петрус.
— О да, — отвечал Сальватор со вздохом, словно это утверждение навевало на него печальное воспоминание. — До того как у вас появилась мастерская на Западной улице, вы проживали по улице Регар; вот в то время я имел удовольствие встретиться с вами два-три раза.
Обернувшись к третьему приятелю, хранившему упорное молчание и словно ломавшему голову над неразрешимой загадкой, Сальватор спросил:
— Что с вами, господин Людовик? У вас очень озабоченный вид, как будто вам нужно сдавать экзамен или защищать диссертацию. Но ведь все это уже три месяца как позади, слава Богу, да еще как успешно вы выступили!
Жан Робер не сводил с Сальватора удивленного взгляда; Петрус расхохотался.
— Ах, черт возьми! Господин Сальватор, раз вы так много знаете... — начал Людовик.
— Вы очень добры! — с улыбкой перебил его Сальватор.
— Раз вы знаете, что мой друг Жан Робер — поэт, мой друг Петрус — художник, а я врач, знаете ли вы... знаете ли вы, почему от кошатника так разило валерьянкой?
— Вы любите рыбачить, господин Людовик?
— Бывает, когда нечем заняться, — отвечал Людовик. — Впрочем, я стараюсь до минуты занять все свое время.
— Каким бы вы ни были неискушенным в рыбной ловле, вам, верно, известно, что на хлеб, на который ловят карпов, капают мускусу или аниса.
— Чтобы это знать, не обязательно быть рыбаком, довольно быть совсем немножко натуралистом.
— Так вот, валерьяна оказывает на кошек такое же действие, какое мускус и анис — на карпов: она их притягивает. И так как метр Фрикасе отлавливает кошек...
— О наука, таинственная богиня! Неужели только случай поможет приподнять край твоего покрывала? И как подумаю: если б я не нарядился сегодня вечером пройдохой, если бы Петрусу не пришла в голову мысль поужинать в кабаке, мы не повздорили бы, я не схватился бы с кошатником, вы не пришли бы нас разнимать, — наука открыла бы только через десять, пятнадцать, а может, и через сто лет, что валерьяна привлекает кошек, как мускус — карпов! — флегматично заметил Людовик, словно разговаривая сам с собой, что составляло одну из забавных черт его поведения.
Ужинали весело.
Петрус рассказывал, не жалея красок, историю о двадцати портретах, которые он написал в харчевне, где собирались ломовики, в счет долга, составлявшего десять франков двадцать сантимов, так что каждая работа в среднем ушла за бешеные деньги: за пятьдесят один сантим.
Людовик с цифрами в руках доказал, что ни одна хорошенькая женщина не болеет ничем серьезным; он четверть часа отстаивал этот парадокс с остроумием и пылом, какие трудно было ожидать от такого флегматика.
Жан Робер поведал о плане новой драмы, которую он сочинял для Бокажа и г-жи Дорваль, а молодой человек в черном бархатном костюме сделал ему несколько весьма разумных замечаний.
Лакей вносил все новые бутылки, потому что Петрус и Людовик сговорились напоить г-на Сальватора и вызвать его на откровенность; но произошло то, что почти всегда бывает в подобных случаях: г-н Сальватор остался трезв, а молодые люди захмелели.
Только Жан Робер сохранил ясность ума — даже в кабаке он никогда ничего не пил, кроме воды.
Мало-помалу Петрус и Людовик, подогревая один другого, переступили ту черту опьянения, за которую хотели увести Сальватора; они стали рассказывать скучные или нравоучительные истории, умничали, повторяли остроты, уже звучавшие в начале ужина, потом вдруг оба разом повалились, не имея сил шевельнуть ни ногой, ни рукой, и крепко уснули.
VIII ПОКА ПЕТРУС И ЛЮДОВИК СПЯТ
Едва два друга захрапели, показывая этим, что выходят из числа тех, кто в состоянии соображать, и предоставляя беседу тем, кто способен ее вести, Сальватор поставил локти на стол, опустил голову на руки и пристально взглянул на Жана Робера.
— Так зачем все-таки, сеньор поэт, вы пришли провести ночь на Рынке?
— Чтобы доставить удовольствие своим друзьям, Петрусу и Людовику.
— И только?
— И только.
— Неужели ничто другое не подтолкнуло вас к этому решению, кроме желания угодить друзьям?
— Нет, как мне кажется.
— Вы уверены?
— Насколько можно быть в себе уверенным.
— Значит, вы обманываете не меня, а себя... Нет, не из-за этих двух сладко спящих господ вы пришли сюда: это лишь предлог. Знаете, зачем вы здесь? Я скажу вам. Вы пришли сюда как философ, наблюдатель, бытописатель, поэт, романист, вы пришли изучать человеческую душу in anima vili — «живьем», как говорят в школе, не правда ли?
— Доля истины в ваших словах есть, — рассмеялся Жан Робер. — Я сочинял только для театра, но не хотел бы этим ограничиваться, хочу написать роман о нравах, но мечтаю сделать это, как Шекспир в своих драмах, охватив целый исторический период, все слои общества, от могильщика до Гамлета, принца Датского! Что мне вам сказать? В трагедии «Гамлет» больше всего я люблю сцену с могильщиком, а из персонажей самыми мудрыми считаю этих гробокопателей, осквернителей трупов.
— Да, вы правы, я, возможно, с вами согласен, но вы не так беретесь за дело, то есть неверно выбираете место действия. Где Шекспир показывает могильщиков? За работой, стоящими в могиле, с черепом в руке, а не в таверне виноторговца Йогена, куда первый могильщик посылает второго за шкаликом. Вы хотите заняться поэзией? Влюбитесь и гуляйте по лесу. Хотите заняться театром? Ступайте в свет, будьте там до полуночи, потом изучайте Мольера и Шекспира до двух часов ночи, а затем ложитесь в постель и спите не меньше шести часов; соедините свои воспоминания с тем, что вы прочли, и работайте с девяти утра до обеда. Хотите написать роман? Возьмите Лесажа, Вальтера Скотта и Купера — иными словами, бытописателя, знатока характеров и мастера пейзажа. Изучайте человека в его среде: художника — в мастерской, торговца — в конторе, министра — в кабинете, короля — на троне, сапожника — в мастерской, но не в кабаке, куда он приходит изможденный, откуда уходит хмельной! На кабаках следовало бы вывесить слова Данте: «Lasciate ogni speranza»[6]. И потом, какую неудачную ночь вы избрали: карнавальную ночь, когда все эти люди перестают быть сами собой, когда все у них чужое — от штанов до соломенного тюфяка, лишь бы вырядиться почуднее; в эту ночь они корчат из себя богачей, они готовы быть кем угодно, только бы не быть похожими на себя! Нет, в самом деле, господин наблюдатель, — пожимая плечами, закончил Сальватор, — странная у вас манера делать наблюдения!
— Продолжайте! Продолжайте! — попросил Жан Робер. — Я вас слушаю.
— Что вы сказали бы о человеке, который отправляется изучать человеческую душу в сумасшедший дом? Вы сочли бы сумасшедшим его самого, верно? Что же вы-то сами делаете здесь в этот час? Послушайте меня, господин Жан Робер, нас свел случай, скоро мы расстанемся; может быть, нам не суждено увидеться... Позвольте дать вам совет. Вы полагаете, что я слишком дерзок?
— Отнюдь нет, клянусь вам.
— Чего ж вы хотите? Я ведь тоже пишу роман.
— Вы?
— Да, но не из тех, что издаются; не беспокойтесь, я не составлю вам конкуренции. Я говорю это только затем, чтобы вы знали: я тоже претендую на звание наблюдателя. Романы, о поэт, пишет общество. Покопайтесь в собственной голове, пошарьте в своем воображении, поковыряйтесь в собственном мозгу — вы и в три месяца, в полгода, во весь год не найдете такого, что случай, рок или Провидение — как вам будет угодно — начнет и завершит в одну ночь в таком городе, как Париж! Выбрали ли вы сюжет для своего романа?
— Нет еще. Когда я работаю для театра, я чувствую себя гораздо свободнее: он меня не пугает; но роман со всеми своими ответвлениями, эпизодами, перипетиями, со ступенями, которые ведут на самые верхи общества, с крутыми лестницами, которые спускают в самые глубокие его пропасти, роман, в котором будуар принцессы соседствует с мансардой белошвейки, Тюильри — с притоном вроде этого, а собор Парижской Богоматери — с Гревской площадью, — признаюсь вам, вызывает во мне трепет: я отступаю, я страшусь непосильного бремени, мне кажется, романисту приходится взваливать на свои плечи не просто ношу, а целый мир!
— Я думаю, вы ошибаетесь, — возразил Сальватор.
— Ошибаюсь?
— Да.
— В чем же моя ошибка?
— Вы хотите действовать.
— Ну, разумеется.
— Вот в этом ваша ошибка: не пытайтесь действовать сами, а только не мешайте действовать другим.
— Не понимаю.
— Как поступал Асмодей, хромой бес?
— Приподнимал крыши домов и говорил дону Клеофасу: «Смотри!»
— Вы располагаете властью Асмодея? Нет. И потому я вам говорю: поступите еще проще; выйдите из этого притона, ступайте вслед за первым же мужчиной или за первой женщиной, которых встретите на улице, на перекрестке, на набережной; вряд ли эти мужчина или женщина будут героем или героиней истории, но они станут одной из нитей великого человеческого романа, который сочиняет сам Бог. С какой целью? Одному Богу это известно! Сделайтесь всего-навсего его помощником — и с первых же шагов можете быть уверены, что нападете на след какого-нибудь трагического или комического происшествия.
— Да ведь сейчас ночь!
— Тем лучше! Ночь создана для поэтов, влюбленных, патрулей, воров и романистов.
— Значит, вы советуете мне начать роман прямо сейчас?
— Он уже начат.
— Неужели?
— Вне всякого сомнения.
— С какого времени?
— С той минуты, как ваши друзья сказали: «Идем ужинать на Рынок».
— Вы шутите?
— Нисколько, клянусь честью! Стоит вам только захотеть, и Жан Бык, Фрикасе, Туссен-Лувертюр, Кирпич, Багор станут персонажами вашего романа; двое ваших друзей, которые спят себе и не подозревают, что мы распределяем роли, тоже будут вашими персонажами; да и я сам сыграю в вашем романе роль, если вы сочтете меня достойным этой чести... Только не бросайте его на экспозиции.
— Клянусь, вы правы! И я ничего так не желаю, как продолжать его.
— В таком случае, уясните себе следующее: вы перестали быть автором, придумывающим ситуации, оценивающим события, подготавливающим перипетии. Теперь вы тоже актер этой великой человеческой драмы, театр которой — мир, декорации — города, леса, реки, океаны; кажется, что в ней каждый действует, сообразуясь со своими интересом, капризом, фантазией, а в действительности все подчинено невидимой и всемогущей деснице судьбы; слезы будут настоящими, кровь будет настоящей, ваши собственные слезы и кровь смешаются со слезами и кровью других...
— Разве могут испугать поэта страдания, если от этого выиграет искусство?!
— Я вижу, вы не обманули моих ожиданий. Смотрите: время словно остановилось, ночь прекрасная, все освещено волшебным лунным светом; давайте выйдем отсюда и отправимся на поиски продолжения истории, первые главы которой мы только что если не написали, то сыграли.
— Но я не могу бросить друзей.
— Почему?
— А вдруг с ними произойдет несчастье?
— Им ничто не угрожает: я шепну словечко лакею, и все будут знать, что они под моим покровительством. Тогда даже самый отчаянный бродяга из этого притона не посмеет и пальцем их тронуть.
— Не возражаю! — согласился Жан Робер. — Только будьте добры, отдайте это приказание при мне.
— Охотно.
Сальватор подошел к лестнице и свистнул. Вероятно, это был условный знак, напоминавший одновременно и свисток машиниста, и свисток боцмана.
По-видимому, г-на Сальватора никогда не заставляли ждать: не успело затихнуть эхо на лестнице, как явился лакей.
— Вы звали, господин Сальватор? — спросил он.
— Да.
Он указал на двух спящих:
— Эти господа — мои друзья, метр Вабила, ты понял?
— Да, господин Сальватор, — коротко отвечал лакей.
— Идемте! — пригласил молодой человек поэта.
И он вышел первым.
Поотстав, Жан Робер спросил у лакея счет.
Прибавив пять франков чаевых, он спросил:
— Друг мой! Доставьте мне удовольствие, скажите, кто этот господин, только что поручивший вам моих друзей.
— Это не просто господин, это господин Сальватор.
— Но кто же он, наконец, этот господин Сальватор?
— Вы его не знаете?
— Нет, раз спрашиваю, кто он такой.
— Да это же комиссионер с Железной улицы!
— Как?
— Говорю вам, комиссионер с Железной улицы.
Лакей проговорил это так серьезно, что не приходилось сомневаться в его словах.
— Похоже, господин Сальватор сказал правду, — прошептал Жан Робер, — мы начинаем роман, каких еще не видывал свет.
IX ДВА ДРУГА САЛЬВАТОРА
Как справедливо заметил комиссионер с Железной улицы, стояла дивная лунная ночь.
Часы на Суконном рынке показывали два часа.
Фонтан Избиенных младенцев — шедевр Жана Гужона, единственного в своем роде архитектора-скульптора, явился по правую руку взорам двух молодых людей, когда они вышли из кабака. Фонтан восхитительно освещался луной, словно нарочно подвешенной Божьей десницей на небосводе; его изящные полуштабные пилястры, чудо коринфской архитектуры, вырисовывались под волшебным светом во всей своей безупречной чистоте; прекрасные наяды, эти капли воды, превращенные в женщин и восхищавшие кавалера Бернини, казалось, приподнимают одежды, спускаясь в бассейн, чтобы омыть в его воде белоснежные ножки.
Двое молодых людей, несмотря на кажущуюся разницу в их общественном положении, взялись под руку и зашагали по улице Сен-Дени, в сторону Дворца правосудия. Выйдя на площадь Шатле, они остановились. У их ног бежала река, перед ними возвышался собор Парижской Богоматери, неподвижный и величавый; Сент-Шапель возносила над домами свой зубчатый гребень, словно Левиафан, вздымающийся над волнами. Можно было подумать, что находишься в Париже XV века.
Это обманчивое впечатление усиливалось благодаря кучке людей, одетых в наряды времен Карла VI; они шли по набережной Жевр и кричали изо всех сил:
— Два часа четырнадцать минут! Все спокойно! Спите, парижане!
Их вполне можно было принять за недовольных, которых община буржуа, владевшая парижской бойней, направляла время от времени к королю Карлу VI с требованиями новых уступок. Это были те же самые Гуа, Тиберы, Люилье, Мелотты во главе с Кабошем, наводящим ужас живодером.
Они преспокойно разгуливали. Казалось, они вот-вот начнут бесчинства и только выжидают, когда спрячется луна или проснется король.
Сальватор и Жан Робер пропустили маскарадное шествие, торопливо перешли через мост Менял и очутились на небольшой площади, расположенной между мостом Сен-Мишель и улицей Лагарп.
Десятка три студентов и гризеток, в немыслимых костюмах, танцевали, радостно что-то выкрикивая, вокруг костра, сложенного из пяти-шести соломенных тюков.
Жан Робер, изучавший для своей будущей работы французскую историю, не удержался и стал искать глазами каменный столб с высеченной на нем головой, на шее у которой положено было висеть кошельку; как свидетельствуют старинные хроники, такой столб стоял на этой площади вплоть до XVII века.
Можно было подумать, что собравшаяся здесь молодежь, почти вся одетая в средневековые костюмы (эпоха средневековья становилась очень популярной), пришла сюда четыре века спустя после известного события затем, чтобы выразить протест против страшного предательства, о котором напоминает эта площадь.
Случилось это в тихую ночь, такую же лунную, как теперь, в два часа ночи 12 июня 1418 года. Перрине Леклер выкрал у отца из-под подушки ключи от Сен-Жерменских ворот, отпер их и впустил в город восемьсот ожидавших под стенами Парижа солдат герцога Бургундского, предводительствуемых Вилье, сеньором де л’Иль-Аданом.
Все, кто попал под руку бургундским всадникам, были безжалостно вырезаны — женщины, дети, старики; епископы Кутанский, Сентский, Байёский, Санлисский, Эврёский были убиты прямо в кроватях; коннетабля и канцлера выволокли на улицу, разрубили на части, куски тел разбросали, а головы пронесли по городским улицам.
Резня продолжалась неделю. Парижане изгнали бургундцев, и родной город вновь оказался в их руках. Стали искать предателя, причину позора и несчастья. Обшарили Париж до последнего камня, но Перрине Леклера так и не нашли.
Он исчез, и никто о нем больше никогда не слышал.
Тогда неизвестный скульптор поспешил высечь фигуру предателя; ее протащили по городу, от улицы к улице, от двери к двери; каждый хлестал ее по щекам, плевал ей в лицо, а потом тот же скульптор высек Иуду XV века с кошельком на шее на том самом столбе, который в старину довелось видеть историкам.
Жан Робер вспоминал об этом, отводя взгляд от пестрой веселой толпы, озаряемой неровными отблесками пламени; вглядываясь в полуосвещенные углы площади и в темноту улиц, он произнес вполголоса, словно разговаривал сам с собой:
— Хотел бы я знать, где стоял этот столб.
— На углу площади и улицы Сент-Андре-дез-Ар, — отозвался Сальватор, будто от первого до последнего слова угадав, о чем думал Жан Робер, и заканчивая своим ответом его мысленный монолог.
— Откуда вы знаете то, что не известно мне? — спросил Жан Робер.
— Прежде всего, — рассмеялся Сальватор, — ваше удивление граничит с надменностью. Уж не думаете ли вы, господин поэт, что те, кому положено знать, действительно все знают? Мне казалось, что пример вашего друга Людовика, не имевшего понятия о свойствах валерьяны, должен был кое-чему вас научить.
— Простите, слово вырвалось у меня случайно, — извинился Жан Робер. — Это больше не повторится. Я начинаю замечать, что вы знаете все на свете.
— Далеко не все, — возразил Сальватор, — но я живу среди народа, а народ — великан, воплощающий древние мифы о стоглазом Аргусе и сторуком Бриарее; он сильнее королей и умнее господина де Вольтера! А одно из преимуществ, или один из недостатков этого народа, — памятливость, особенно на месть за предательство. Предатель, которого короли оправдывали и осыпали наградами, перед которым аристократия распахивала двери, которого приветствует буржуазия, для народа остается предателем; если честь его имени восстановлена в глазах остальной части общества, то для народа оно навсегда опозорено и проклято: это имя предателя! И недалеко, может быть, то время, — прибавил Сальватор мрачно, и на его лице мелькнуло выражение, какое от него трудно было ожидать, — недалеко, может быть, то время, когда вы убедитесь сами в правоте моих слов... А имя Перрине Леклера (среди образованных классов общества его помнят одни историки), имя это — хотя народ и не знает многих подробностей предательства, о котором оно напоминает, — для него есть ненавистное воспоминание, тем более ненавистное, что отмщение невозможно, что преступление не искуплено казнью, что Провидение на этот раз, словно заснувший или подкупленный судья, закрыло на него глаза. Идемте!
Сальватор двинулся по улице Сент-Андре-дез-Ар.
Жан Робер последовал за странным человеком, волею случая ставшим его проводником, и пошел с ним по пустынной мрачной улице.
Между улицей Макон и площадью Сент-Андре-дез-Ар спутник поэта остановился против белого домика, чистенького, но узкого, всего в три окна по фасаду.
В дом вела небольшая дверь, выкрашенная под дуб.
Сальватор достал из кармана ключ и приготовился войти.
— Итак, — обратился он к Жану Роберу, — решено, что мы проведем остаток ночи вместе, не так ли?
— Вы мне это предложили, я согласился. Вы хотите отказаться от своего предложения?
— Нет, Боже сохрани! Но как бы мало я собой ни представлял, на свете есть два существа, которые будут обеспокоены, если я не вернусь до определенного срока; эти два существа — женщина и пес.
— Ступайте успокойте их, я подожду вас здесь.
— Вы из скромности отказываетесь подняться? В таком случае вы ошибаетесь: я один из тех непонятных людей, которые ничего не скрывают и так и остаются непостижимыми. Кажется, господину де Талейрану принадлежат слова: в тот день, когда дипломат скажет правду, он обманет весь мир. Я тот самый дипломат; правда, мне нет нужды обманывать мир, ведь ему нет до меня дела.
— В таком случае, — решился Жан Робер, горя нетерпением войти в дом, чтобы увидеть, как живет комиссионер с Железной улицы, — как говорят итальянцы, permesso![7]
— Si, — отвечал Сальватор на безупречном тосканском наречии, — soltanto vederete il cane, ma non la signora[8].
Дверь распахнулась, и молодые люди очутились в передней.
— Погодите, я зажгу свет, — сказал Сальватор.
Достав из кармана фосфорную зажигалку, он хотел погрузить в нее спичку, но в эту минуту вверху на лестнице загорелся огонек и вдоль стены протянулись длинные полосы света.
Нежный голос спросил:
— Это ты, Сальватор?
— Да, — отозвался молодой человек. — Итак, — продолжал он, обернувшись, — ошиблись не вы, а я: вы увидите женщину и пса.
Пес появился первым. Заслышав голос хозяина, он выскочил на лестницу и вихрем скатился по ступеням.
Подлетев к хозяину, четвероногий великан положил передние лапы ему на плечи, ласково прижался мордой к щеке хозяина и тихонько заскулил от радости, подобно кинг-чарлзу.
— Хорошо, Ролан, хорошо! — заговорил с ним Сальватор. — Пусти-ка: видишь, твоя хозяйка Фрагола хочет мне что-то сказать.
Но собака заметила Жана Робера, высунула голову из-за плеча хозяина и зарычала, однако в ее рычании слышался скорее вопрос, чем угроза.
— Это друг, Ролан, будь умницей! — сказал Сальватор.
Чмокнув собаку в черную морду, он оттолкнул ее со словами:
— Ну, пусти меня, Ролан!
Пес послушно пропустил хозяина, обнюхал Жана Робера, когда тот проходил мимо, и, лизнув поэту руку, пошел позади него по лестнице, замыкая шествие.
Жан Робер окинул Ролана оценивающим взглядом знатока.
Это было великолепное животное, помесь сенбернара с ньюфаундлендом; встав на задние лапы, он мог подняться на пять с половиной футов; окрасом он напоминал льва.
Все это Жан Робер отметил про себя, пока поднимался с первого этажа на второй. Там его вниманием завладела Фрагола.
Ей было около двадцати лет; длинные светлые волосы обрамляли бледное лицо с нежнейшим, едва заметным румянцем; она держала свечу в хрустальном подсвечнике, и можно было разглядеть большие небесно-голубые глаза, взгляд которых был устремлен на лестницу, и улыбавшийся приоткрытый рот, позволявший увидеть два ряда жемчужных зубов, наполовину скрытые губками, яркими и свежими, словно вишни.
Маленькая очаровательная родинка под правым глазом, которую женщины из простонародья называют желанием, принимавшая в определенное время года оттенок земляники, объясняла, по-видимому, ее поэтичное имя Фрагола, поразившее Жана Робера.
Присутствие поэта поначалу обеспокоило женщину, как и Ролана, но, как и Ролана, Сальватор ее успокоил: «Это друг».
Она подставила Сальватору для поцелуя лоб, молодой человек коснулся его губами нежно, почти благоговейно.
Потом она обратилась к Жану Роберу и проговорила с пленительной улыбкой:
— Добро пожаловать, друг моего друга!
Освещая поэту дорогу, она другой рукой обняла Сальватора за шею и пошла в комнаты.
Жан Робер последовал за ними.
Войдя в небольшую первую комнату, служившую, вероятно, столовой, он из скромности остановился.
— Надеюсь, ты еще не ложилась не потому, что волновалась за меня? — начал Сальватор. — Я бы ни за что себе этого не простил, милое дитя мое.
В словах молодого человека послышались отеческие нотки.
— Нет, — мягко возразила девушка. — Я получила письмо от подруги, я тебе о ней рассказывала.
— От какой именно? У тебя их три, ты о них обо всех рассказываешь довольно часто.
— Ты бы даже мог сказать, что четыре.
— Да, верно... Так о ком речь?
— О Кармелите.
— С ней что-нибудь случилось?
— Меня мучает предчувствие! Мы должны были встретиться завтра все вместе — она, Лидия, Регина и я — на мессе в соборе Парижской Богоматери, мы это делаем всякий год. И вот взамен этого она назначает нам свидание в семь часов утра.
— Где?
Фрагола улыбнулась.
— Она просит сохранить это в тайне, друг мой.
— Храни ее, ангел мой! — согласился Сальватор. — Тайна! Ты же знаешь мое мнение на этот счет: тайна священна!
Обернувшись к Жану Роберу, он продолжал:
— Я буду в вашем распоряжении через минуту. Вы бывали в Неаполе?
— Нет, но собираюсь туда отправиться года через два-три.
— В таком случае, надеюсь, вы получите удовольствие, разглядев нашу маленькую столовую, — это точная копия столовой дома поэта в Помпеях; а когда закончите осмотр, можете поболтать с Роланом.
С этими словами Сальватор вошел с Фраголой в другую комнату и прикрыл за собой дверь.
X РАЗГОВОР ПОЭТА С СОБАКОЙ
Оставшись в одиночестве, Жан Робер взял свечу и стал разглядывать стены столовой, а Ролан удовлетворенно вздохнул и улегся на коврике у двери, за которой только что скрылись молодой человек и девушка; видимо, это было его привычное место.
Несколько минут Жан Робер тщетно подносил свечу к стене, он ничего не видел: его взгляд был обращен как бы внутрь, ему мешали воспоминания.
Он вновь и вновь видел глухой квартал, темную лестницу в доме, прекрасную девушку, наклонившуюся со свечой в руке; длинные отливавшие золотом волосы; красивые голубые глаза, в которых словно отражалось небо, даже когда неба не было видно; прозрачную кожу, нежную, словно розовый лепесток; необыкновенную грациозность, воплощенную иногда у человека и у животного в несколько длинноватой шее: в животном мире — у лебедей, среди людей — на полотнах Рафаэля. Жан Робер не мог забыть гибкое и хрупкое тело; чувствовалось, что его уже коснулась то ли тяжелая рука болезни, то ли ледяная рука несчастья. Его поразило появление Фраголы, не менее таинственное, чем появление Сальватора, — одно как бы дополняло другое, чтобы в глазах поэта оживить мечту.
Все представлялось ему необычным, даже это карминное пятнышко у нее под глазом, за которое, по-видимому, сам Сальватор прозвал девушку Фраголой, а от этого имени легко было образовать уменьшительное — Фраголетга.
Имя Регины, прозвучавшее в устах девушки, навеяло на поэта воспоминание об одной девушке из высшего общества; оно, разумеется, не могло иметь ничего общего с особами скромного положения, с которыми на минуту свела его судьба, однако воспоминание это заставило его сердце сильно забиться от волнения.
Впрочем, постепенно пелена, застилавшая ему глаза, начала рассеиваться и он, будто сквозь туман, стал вглядываться в висевшие на стенах картины.
Любопытство художника брало верх над таинственной стороной приключения, действительность — над грезой; поэт видел перед собой одну из точнейших копий античной декоративной живописи.
Стена была разделена на четыре части; в каждой из этих частей в кессонах висели рамы; каждая рама заключала в себе пейзаж, увиденный сквозь колонны перистиля или из окна.
Кессоны поражали богатством воображения художников древности — благодаря археологической науке они позднее стали достоянием миллионов — и воспроизводили то часы дня и ночи, то танцовщиков, то кузнечика, запрягшего в колесницу двух улиток, то голубков, пьющих из одной чаши.
Копия была выполнена с большим вкусом и точно передавала тона, что свидетельствовало о мастерстве колориста.
В другое время все это немало удивило бы Жана Робера, однако он уже перестал удивляться всему, что было связано с его новым и необычным другом.
И вот он сначала поставил свечу на небольшой — окружностью всего в пять-шесть футов — стол посреди комнаты, потом в задумчивости сел на стул.
Он обвел рассеянным взглядом столовую, наконец его глаза остановились на собаке.
В голову ему пришли слова Сальватора: «Когда закончите осмотр, можете поболтать с Роланом».
Это воспоминание заставило его улыбнуться.
Слова, которые другому могли бы показаться дурной шуткой, он принял за вполне естественный совет; по его мнению, они лишь доказывали, что новый друг относится к нему с симпатией.
Жан Робер, простой, чувствительный и добрый малый, не отличался кичливостью и был далек от мысли, что Бог наградил душой только людей; вслед за восточными поэтами, вслед за индийскими брахманами он скорее готов был поверить в то, что душа животного дремлет или заколдована: на берегах Ганга ее усыпляет природа, на Западе ее околдовала великая Цирцея. Нередко он пытался представить себе первобытного человека, что произошел от животных, братьев своих меньших, и ему казалось, будто в те времена животные и даже растения, младшие братья животных, были проводниками и наставниками человечества. Он с благодарностью думал о том, что существа, которыми управляем сегодня мы, руководили нами тогда, направляя наш нетвердый разум с помощью своих уже устоявшихся инстинктов, наконец, были нашими советчиками, — эти маленькие, эти простые существа, кем мы помыкаем теперь! В самом деле, думал поэт, рассуждая сам с собой, взять хотя бы баобаб: он был сначала просто деревом, потом разросся в огромный лес, он видел, как проходят мимо века, словно старики, держащие друг друга за руки! Или, к примеру, перелетная птица: взмах крыла — и позади целое льё; значит, эта птица видела все страны! А орел? Он смотрит солнцу в лицо — а мы опускаем перед светилом голову. Ночная птица с горящими глазами летает в темноте — а мы спотыкаемся. Огромные быки жуют свою жвачку под зелеными дубами или мрачными соснами, топча разрушенную цивилизацию на необъятных римских равнинах, на огромных диких просторах... Неужели всем этим животным нечего было бы сказать человеку, если бы он научился понимать их язык, если бы он снизошел до них в своем высокомерии?[9]
Жан Робер вспоминал, как в детстве его точно коснулось всеобщее братство. Он был почти убежден, что какое-то время понимал, о чем лают щенки, поют птички, шепчут ароматные розы; он стремился накормить полученными от матери кусочками сахара цветы, едва они приоткрывали нежные лепестки.
Взрослея, он перестал различать голоса животных и растений: они слились для него в сплошной гул, перепутались, словно конопля, которую домовые нарочно наматывают на веретено бретонской девушке, а она, устав распутывать, в нетерпении бросает ее в огонь.
Кто же нарушил этот трогательный союз, связывавший человека с животными и растениями, с простым и скромным в природе?
Гордыня!
Ею и отличается западный мир от восточного.
Индия! Вот куда всякий раз должен возвращаться европеец, устав от суетного Запада, вот где он омоет душу в первозданном источнике. Индия, величественная праматерь рода человеческого! За нежную любовь ко всему живому Господь вознаградил ее плодородием; ее символ — корова-кормилица. Войны, бедствия, рабство обрушиваются на нее вот уже три тысячелетия, но неистощимые сосцы ее коровы всегда готовы напитать триста миллионов человек, своих и иноземцев.
Не то — наш несчастный Запад, наша скудная греко-латинская цивилизация. Греческий полис, римский город обожествляли искусство и принижали значение природы. Они превратили людей в рабов, они стали называть животных скотом, они выкачивали из земли все, что она могла дать, не заботясь о том, как помочь ей вновь обрести силы. И вот настал день, когда Афины стали руинами, Рим — пустыней! Великолепные дороги обезлюдели; под триумфальными арками по ночам проходили войска-привидения под предводительством триумфатора-привидения; по нескончаемым акведукам, покоящимся на гигантских опорах, продолжала поступать вода из рек в опустевшие города, где ею некого было поить!
Вот какие размышления, всколыхнув три цивилизации и заставив древний мир (благодаря электрическому разряду мысли, связавшей его с нашими днями) вздрогнуть в своей гробнице, пробудились в душе поэта, когда он взглянул на собаку и вспомнил слова Сальватора: «Когда закончите осмотр, можете поболтать с Роланом».
Жан Робер, выходя из созерцательной задумчивости, поманил пса, чтобы поговорить с ним.
Ролан, положив морду на передние лапы, спал или, скорее, притворялся спящим. Услышав свое имя, произнесенное резко, отрывисто, — а именно так подзывает собаку настоящий охотник — Ролан вскинул голову и посмотрел на Жана Робера.
Тот еще раз позвал пса, похлопав рукой по ноге.
Ролан поднялся на передние лапы, но продолжал сидеть в позе сфинкса.
Жан Робер позвал в третий раз.
Ролан подошел, положил голову ему на колени и дружески посмотрел на него.
— Бедный пес! — ласково проговорил поэт.
Ролан тихонько заскулил, словно жалуясь.
— О! — произнес Жан Робер. — Твой хозяин Сальватор был прав: похоже, мы друг друг понимаем.
При этом имени собака радостно тявкнула и повернула голову в сторону двери.
— Да, — подтвердил Жан Робер, — он в соседней комнате с твоей хозяйкой Фраголой, правда?
Ролан подошел к двери, прижался мордой к щели внизу, с шумом втянул воздух, возвратился к поэту и, прикрыв живые, умные, почти человеческие глаза, снова положил голову к нему на колени.
— Посмотрим, что у нас за родословная, — проговорил Жан Робер. — Дай-ка лапу!
Пес поднял широкую лапу и с непостижимой доверчивостью положил ее в аристократическую руку Жана Робера.
Жан Робер стал внимательно разглядывать промежутки между пальцами собаки.
— A-а, так я и думал... Сколько же нам лет?
Он заглянул псу в рот и увидел два ряда страшных зубов цвета слоновой кости, однако коренные были уже немного источены.
— Так! — заметил Жан Робер. — Ты уже не первой молодости; будь ты женщиной, ты бы начал еще лет десять назад убавлять себе года! А был бы ты мужчиной, стал бы скрывать возраст теперь.
Пес оставался невозмутим. Кажется, ему было совершенно безразлично, что Жан Робер знает его возраст. Видя это, поэт продолжал осмотр, надеясь напасть на нечто такое, что расшевелило бы Ролана.
И случай не замедлил представиться.
Как мы говорили, шерсть Ролана напоминала львиную, хотя была несколько длиннее и курчавее, особенно на животе. Жан Робер заметил на правом боку, между четвертым ребром и пятым, белое пятно диаметром в семь-восемь линий.
— А это еще что такое, бедняжка Ролан? — спросил он.
И надавил пальцем на пятно.
Ролан жалобно взвизгнул.
— О, да здесь шрам, — заметил Робер.
Поэт знал, что раны и ожоги разрушают красящее вещество, циркулирующее в капиллярах ткани; ему доводилось видеть, как на конном заводе вороным коням выжигали на лбу белую звездочку, прикладывая горячее яблоко. Вот почему он догадался, что это рана или ожог.
Скорее все-таки рана, потому что он нащупал шрам.
Он осмотрел левый бок.
И там он нашел такую же отметину, только чуть ниже.
Робер и до нее дотронулся пальцем — пес взвизгнул еще жалобнее.
Молодой исследователь понял причину: он нащупал костную мозоль — с левой стороны у Ролана было сломано ребро.
— Ну что же, дорогой Ролан, похоже, ты, подобно своему великому тезке, был на войне?
Ролан поднял голову, приоткрыл пасть и издал воющий лай, от которого Жана Робера пробрал мороз.
Этот лай был таким жалобным и заунывным, что Сальватор выглянул из соседней комнаты и спросил:
— Что это с Роланом?
— Ничего... Вы мне посоветовали с ним поболтать, — с улыбкой отвечал Жан Робер. — Я попросил его рассказать о себе, он как раз этим и занимается.
— Что же он вам рассказал? Ну-ка, ну-ка! Мне бы очень хотелось узнать правду.
— Зачем ему лгать? — промолвил Жан Робер. — Он же не человек!
— Это лишний повод, чтобы вы пересказали мне ваш разговор, — продолжал Сальватор с настойчивостью, в которой слышалось некоторое беспокойство.
— Ну что же, вот слово в слово наш диалог. Я у него спросил, чей он сын, он сказал, что является помесью сенбернара и ньюфаундленда; я спросил, сколько ему лет, он отвечал, что ему десятый год; я его спросил, что за светлые пятна у него на боках, и он сообщил, что получил пулю в правый бок, а вышла она с левой стороны, перебив ребро.
— Так! Все совершенно точно! — заметил Сальватор.
— Тем лучше! Это доказывает, что я как наблюдатель не совсем уж недостоин ваших уроков.
— Это лишь означает, что вы охотник и, следовательно, догадались, судя по перепонке между пальцами на лапах у Ролана, а также по окрасу, что он родственник водолаза и горной собаки. Потом вы посмотрели его зубы и увидели, что клыки уже не ослепительно-белые, а коренные немного испорчены — так вы узнали, что пес не молод; вы ощупали два пятна и почувствовали по углублению в коже и по выпуклости на кости, что пес получил пулю, которая вошла через правый бок и вышла через левый, а выходя, сломала кость. Все верно?
— До такой степени, что я даже растерялся.
— Не рассказал ли он вам еще о чем-нибудь?
— Когда вы вошли, он как раз говорил, что не забыл о ране и при случае, по-видимому, вспомнит обидчика. Теперь я рассчитываю, что остальное доскажете мне вы.
— В том-то и беда, что, признаюсь, мне известно об этом не больше, чем вам.
— Неужели?..
— Однажды я охотился лет пять назад, в окрестностях Парижа...
— Вы охотились?
— Я оговорился; разумеется, браконьерничал — комиссионер не ходит на охоту. Я нашел этого несчастного пса в канаве, окровавленного, со сквозной раной: он умирал. Он был так хорош, что я почувствовал к нему сострадание: донес его до ручья, промыл рану холодной водой, добавив в нее несколько капель водки; он, казалось, ожил в моих руках. Мне захотелось оставить этого красавца себе, ведь судя по тому, в каком состоянии бросил его хозяин, тот не слишком дорожил своей собакой. Я уложил его на тележку, взятую у огородника, и отвез домой. С того самого вечера я стал за ним ухаживать, как в Вальде-Грас выхаживают раненых людей, и, по счастью, преуспел. Вот все, что мне известно о Ролане... Нет, простите, я забыл сказать еще вот что: пес платит мне признательностью, способной вогнать в краску людей. Он готов умереть за меня и за тех, кого я люблю. Правда, Ролан?
Пес радостно взвизгнул в знак согласия, положив передние лапы хозяину на плечи, как при встрече.
— Молодец, молодец, — похвалил его Сальватор. — Хорошая собака, хорошая, мы знаем... Убери-ка лапы!
Ролан послушно опустился на пол и лег у двери на коврик, откуда Жан Робер до этого заставил его сойти, позвав к себе.
— А теперь, — сказал Сальватор, — не угодно ли продолжить наше путешествие?
— С удовольствием, однако боюсь показаться слишком навязчивым.
— Почему?
— Потому что ваша подруга должна сегодня утром куда-то пойти и, возможно, рассчитывала на то, что вы ее проводите.
— Нет. Вы же слышали: она ответила, что не может сказать, куда идет.
— И вы отпускаете вашу любимую в такое место, которое она не может вам назвать? — с улыбкой спросил Жан Робер.
— Дорогой поэт! Знайте: нет любви там, где нет доверия. Я всей душой люблю Фраголу и скорее заподозрил бы свою мать, чем ее.
— Пусть так, — согласился Жан Робер, — но, должно быть, неосторожно для молодой женщины, одной, в шесть часов утра, в наемном экипаже отправляться за пределы Парижа.
— Да, если бы с ней не было Ролана. А с ним я готов отпустить ее в кругосветное путешествие, не опасаясь, что с ней произойдет несчастье.
— Это другое дело.
Запахнувшись не без кокетства в широкий плащ, Жан Робер продолжал:
— Кстати, я слышал от вашей подруги о некой Регине.
— Да.
— Это довольно редкое имя... Я был знаком с дочерью маршала Франции, которую так звали...
— Дочь маршала де Ламот-Удана? — спросил Сальватор.
— Совершенно верно.
— Это подруга Фраголы... Идемте!
Не прибавив ни слова, Жан Робер последовал за своим таинственным спутником.
На каждом шагу его поджидали неожиданности.
XI ДУША И ТЕЛО
Сальватор провел в спальне не более десяти минут и за это время успел полностью переодеться.
Когда он вернулся домой, на нем, как помнят читатели, был бархатный костюм, а вышел он в белом ворсистом рединготе, двубортном наглухо застегнутом жилете, темных панталонах. Теперь по костюму было невозможно понять, к какому классу общества принадлежит этот человек; это можно было бы определить по тому, как он носит эту одежду, как он говорит.
Стоило Сальватору сдвинуть шляпу набок, и его можно было принять за вырядившегося по-праздничному простолюдина; надень он шляпу ровно, он становился светским господином, одевшимся с некоторой небрежностью.
От наблюдательного взгляда Жана Робера не ускользнула эта почти неуловимая подробность.
— Куда вам угодно отправиться? — спросил Сальватор, когда они с поэтом вышли на улицу.
— Куда вам будет угодно! Ведь вы взялись руководить мною в эту ночь, не так ли?
— Поступим по примеру древних: бросим перышко по ветру и пойдем за ним, — предложил Сальватор.
Они вышли на площадь Сент-Андре-дез-Ар. Сальватор вырвал из записной книжки клочок бумаги и пустил его по ветру. Тот полетел в сторону улицы Пупе.
Двое друзей последовали за бумажкой, которая кружилась перед ними, похожая на прелестных белокрылых ночных бабочек. Они вышли на улицу Лагарп.
Второй клочок бумаги полетел в сторону улицы Сен-Жак.
Друзья зашагали, не задумываясь, куда они идут; их путь был непредсказуем, как непринужденная беседа или сновидение; они шли наудачу, наугад, без цели, без заранее намеченного направления, как движутся ветер и облака дивной лунной ночью; шли, обмениваясь сокровищами души и наслаждаясь обществом друг друга.
Два или три раза Жан Робер делал попытки разгадать секрет таинственного молодого человека, но Сальватор всякий раз уходил от его вопросов, как хитрая лисица обманной уловкой уходит от идущей по следу борзой. Однако Жан Робер продолжал настаивать, и Сальватор сказал:
— Наша цель — создать роман, не правда ли? А вы хотите, чтобы я своим рассказом сразу закончил его? Уступить вашему желанию значило бы идти назад. Давайте пойдем вперед!
Жан Робер понял, что его приятель хочет остаться неразгаданным, и не стал настаивать.
К тому же, одно происшествие нарушило течение мыслей молодых людей.
На мостовой лежал человек, вокруг которого собралась целая толпа: много мужчин и несколько женщин.
— Он пьян, — говорили одни.
— Умирает, — говорили другие.
Человек хрипел.
Сальватор пробился сквозь толпу, опустился на колени, приподнял голову лежавшего и, обернувшись к Жану Роберу, сообщил:
— Это Бартелеми Лелон, он умрет от кровоизлияния в мозг, если я сейчас же не пущу ему кровь. Посмотрите, где-то здесь неподалеку должен проживать аптекарь. Постучите в дверь — аптекари обязаны вставать в любое время суток.
Жан Робер огляделся: за разговором они очутились в самом сердце предместья Сен-Жак, рядом с больницей Кошен.
Против больницы Жан Робер прочел над лавчонкой:
"АПТЕКА ЛУИ РЕНО".
Ему было все равно, как звали аптекаря, лишь бы тот отворил, и он постучал так, чтобы у аптекаря не осталось сомнений, что нужно поторопиться.
Спустя несколько минут дверь проскрипела петлями и г-н Луи Рено показался на пороге своей лавчонки, в бумазейных штанах, с ночным колпаком на голове, спрашивая, зачем он понадобился.
— Приготовьте бинты и ванночку, — приказал Сальватор, — человеку грозит кровоизлияние в мозг, необходимо пустить кровь.
Принесли несчастного плотника; он был без чувств.
— А есть ли здесь доктор, чтобы пустить больному кровь? — спросил г-н Луи Рено. — Я-то сам не умею этого делать, я скорее травник, чем аптекарь.
— Не беспокойтесь, — сказал Сальватор, — я был учеником хирурга и все сделаю сам.
— У меня нет ланцета, — продолжал аптекарь.
— Сумка с инструментами при мне, — успокоил его Сальватор.
Зеваки заполнили аптеку.
— Господа, вы хотите помочь несчастному? — обратился к ним Сальватор.
— Ну, конечно, господин Сальватор, — ответил один из присутствовавших, протягивая молодому человеку руку.
Сальватор пожал эту руку, и Жану Роберу показалось, что комиссионер обменялся с вновь прибывшим масонским знаком.
Несколько человек подхватили вполголоса:
— Господин Сальватор!..
— Итак, — сказал молодой человек, который более чем когда-либо казался Жану Роберу достойным предопределенного ему имени, — пока я буду пускать несчастному кровь, — ступайте в больницу и предупредите, что скоро прибудет больной.
Несколько человек под предводительством того, с кем говорил Сальватор, отправились в больницу.
Тем временем аптекарь с помощью тех, кто остался в его лавочке, развязал несчастному Жану Быку галстук, стащил с него куртку и засучил ему рукав рубашки.
Вены на шее у больного вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут.
— Может, перебинтовать ему руку? — посоветовал Жан Робер.
— Бинты готовы? — спросил Сальватор у аптекаря.
— Сейчас принесу, — отозвался Луи Рено.
— Перетягивайте выше вены как можно сильнее, господин Робер; надеюсь, этого окажется довольно, — сказал Сальватор.
Робер повиновался; один из присутствовавших взял больного за руку, другой подставил ванночку, третий поднес лампу.
— Осторожнее с артерией! — предупредил несколько встревоженный Жан Робер.
— Ни о чем не беспокойтесь, — отвечал Сальватор, — мне не раз приходилось пускать кровь ночью при свете луны или фонаря. Такое нередко случается с этими беднягами, когда они выходят из кабака.
Не успел он договорить и едва коснуться ланцетом руки Бартелеми, как брызнула черная вспенившаяся кровь.
— Дьявольщина! — воскликнул Сальватор, покачав головой. — Вовремя мы подоспели!
Операция была проделана им с легкостью и проворством опытного хирурга.
Бартелеми вздохнул.
— Когда он потеряет довольно крови, — сказал аптекарь, подоспевший с бинтом в руках, — предупредите меня.
— О, — возразил Сальватор, — это ему можно позволить без помех: крови у него предостаточно! Пусть, пусть течет!
Когда вытекло примерно две ванночки крови, больной открыл глаза.
Поначалу взгляд у него был мутный, остекленелый: он ничего не выражал, но постепенно прояснился и стал осмысленным; больной остановил его на хирурге-любителе.
— О, господин Сальватор! — обрадовался он. — Клянусь Богом, я рад вас видеть.
— Тем лучше, дорогой мой Бартелеми! — отозвался молодой человек. — Я тоже рад вас видеть. А ведь я едва не лишился навсегда этого удовольствия.
— А-а! — понемногу пришел в себя Бартелеми. — Так это вы пустили мне кровь?
— Ну да, — ответил Сальватор, тщательно вытирая ланцет и убирая его в сумку.
— Так вы, стало быть, не хотели моей смерти?
— Я? А почему я должен ее хотеть?
— Вы же спустили меня с лестницы, я и подумал, что такое делают, когда хотят кого-то убить.
— Да вы с ума сошли!
— Нет, я так понимаю: мы убиваем того, кто нас разозлит; я вас разозлил, когда отказался отворить окно. Но, после того как я собирался его закрыть, черт побери, вы же понимаете, не мог я, даже по вашему приказанию, отворить его! Ведь я упал бы в собственных глазах! А этот щёголь посмеялся бы надо мной!
— Этот щёголь только что мне помог спасти вам жизнь, Бартелеми. Как видите, он, как и я, не желал вам зла.
Бартелеми повернул голову и увидел, что Жан Робер улыбается ему.
— Ей-ей, это правда! — обронил плотник.
Жан Робер протянул ему руку.
— Забудем прошлое, друг мой, — произнес он.
— О, я не злопамятен, и раз вы предлагаете мне руку... — отозвался Бартелеми.
— Я бы с удовольствием начал наше знакомство с рукопожатия, — сказал поэт. — Признайтесь: вы сами этого не пожелали.
— Это правда, — нахмурившись, подтвердил Бартелеми. — Только дурак может так потерять голову из-за какой-то юбки! Понимаете, господин Сальватор, она опять вернулась с этим прохвостом из "Бобино". А я не могу разделаться с этим оборванцем, и он на это рассчитывает... А она отлично знает, что делает, если возится с этим мозгляком!
— Ну-ну, успокойся, Бартелеми.
— Хорошо вам говорить — у вас рядом ангел Божий, господин Сальватор. Да вы этого и заслуживаете, ведь вы живете ради того, чтобы творить добро, и надо совсем потерять голову, чтобы вас обидеть... Ну, все равно! Хоть я и стар, я хороший отец и не заслуживаю, чтобы у меня отнимали дочь! Вот уже три дня я как безумный везде ищу девочку; должно быть, она ее где-то спрятала, может, у своей матери-прощелыги; но я к ней пойти не могу: как только она меня увидит, тут же во все горло орет: "На помощь!"; я и так по ее милости уже провел две ночи в полицейском участке Сен-Мартен... О! Я провел бы там и четыре, и еще шесть, и еще восемь ночей ради встречи с моей девочкой, моей Фифиночкой... Бедненький мой ангелочек! На святого Жана летнего ей два года будет.
И великан разрыдался как женщина.
— Ну, что я вам говорил? — спросил Сальватор у Жана Робера, с любопытством наблюдавшего за этим необычным зрелищем.
— Вы правы, — согласился поэт.
— Ладно, ты получишь свою дочь, — пообещал Сальватор.
— Вы это сделаете, господин Сальватор?
— Ну, раз я обещаю...
— Да, вы правы, а я дурак: раз вы обещаете, ясно, что вы сдержите слово... Ох, сделайте это, господин Сальватор, сделайте, и вам, знаете ли, не придется больше спускать меня с лестницы. Вам довольно будет сказать: "Жан Бык, прыгай вниз!" — и я брошусь сам.
— Господин Сальватор, — обратился человек, вызвавшийся сходить в больницу, — больница открыта.
— Не для меня, надеюсь? — пролепетал Бартелеми.
— А для кого же еще? — удивился Сальватор.
— Нет, я туда не пойду.
— Как это не пойдешь?
— Не люблю я больницу: больница хороша для нищего сброда, а я, слава Богу, еще достаточно богат, чтобы лечиться дома.
— Да, только вот дома лечение неважное; дома человек ест и пьет не по часам; стоит человеку раза два-три полечиться дома, как делаешь это ты, и в одно прекрасное утро он оказывается в больнице, чтобы выйти оттуда уже в вечный мрак... Идем, Бартелеми, идем!
— Не хочу я в больницу, я же вам говорю!..
— Будь по-твоему! Возвращайся домой и сам ищи свою дочь, ты мне, в конце концов, начинаешь надоедать!
— Господин Сальватор, я пойду куда вы захотите... Господин Сальватор, где больница? Да я боготворю больницу! Вот он я!
— В добрый час!
— Вы заберете у нее мою Фифиночку, правда?
— Обещаю, что не позднее чем через три дня ты о ней услышишь.
— Что я должен делать все это время?
— Терпеливо ждать.
— А можно поскорее, господин Сальватор?
— Обещаю тебе сделать все возможное. Ступай!
— Да, да, ухожу, господин Сальватор. Ой, как странно! Я не чувствую своих ног: не могу больше идти!
Сальватор подал знак — два человека подошли к Бартелеми, он оперся на них и вышел со словами:
— Вы обещали через три дм — самое позднее — узнать, что с моей дочерью, господин Сальватор, так не забудьте!
Уже с другой стороны улицы, с порога больницы, за которым он должен был вот-вот скрыться, плотник еще раз крикнул:
— Не забудьте о моей бедной Фифиночке, господин Сальватор!
— Вы были правы, — заметил Жан Робер, — не в кабаке нужно изучать людей!
XII ЧТО БЫЛО СЛЫШНО В ПРЕДМЕСТЬЕ СЕН-ЖАК В НОЧЬ ПЕРЕД ПОСТОМ ВО ДВОРЕ ЛАВКИ АПТЕКАРЯ
Операция была закончена, больной отправлен в больницу; молодые люди готовы были снова пуститься в путь, радуясь мысли, что, не взбреди им в голову прогуляться по парижским улицам в три часа ночи, умер бы человек, у которого впереди было еще лет, наверное, тридцать-сорок.
Но прежде чем опять отправиться в дорогу, Сальватор спросил у хозяина лавки воды и ванночку, чтобы отмыть руки от крови.
Воды у достойного аптекаря было сколько угодно, а вот ванночка — одна-единственная, та самая, в которой оставалась кровь Бартелеми; Сальватор приказал бережно сохранить ее, чтобы показать доктору, посещавшему по утрам больницу Кошен.
Итак, просьба молодого человека вначале могла показаться неисполнимой.
Однако аптекарь огляделся и наконец сказал Сальватору:
— Если вы хотите как следует вымыть руки, пройдите во двор,к насосу.
Сальватор согласился. Несколько капель крови попали на руки и Жану Роберу, поэтому он пошел следом за новым другом.
Но на пороге они остановились и в удивлении переглянулись.
Как только наружная дверь кухни аптекаря отворилась, в тишине ясной ночи — словно по волшебству — зазвучала мелодичная музыка.
Откуда доносились эти нежные звуки? Что это был за божественный инструмент? Рядом, за высокой стеной, находился монастырь. Может быть, оттуда восточный ветер приносил эти восхитительные аккорды церковного органа, ласкавшие слух редких прохожих на улице Сен-Жак?
Уж не сама ли святая Цецилия спустилась с небес в эту благочестивую обитель в честь начала поста?
В самом деле, то, что слышали двое молодых людей, не было похоже ни на оперную арию, ни на веселое соло музыканта, возвращающегося с бала-маскарада.
Скорее это был псалом, церковный гимн, обрывок из какой-нибудь старинной нотной тетради с библейской музыкой.
Так могла Рахиль оплакивать сыновей в Раме, и оплакивать безутешно, ведь они ушли от нее навсегда!
Друзья вслушивались в доносившуюся до них мелодию, и им казалось, что перед ними, словно скорбные тени, проходят все священные гимны детства, все меланхоличные церковные напевы Себастьяна Баха и Палестрины.
Если бы непременно нужно было дать имя этой трогательной музыкальной фантазии, ее можно было бы назвать "Смирение".
Ни одно более или менее выразительное название не подошло бы для нее лучше.
Музыка говорила в пользу исполнителя.
Он, вероятно, был печален и смирен под стать музыке. Молодые люди подумали об этом одновременно.
Они начали с того, зачем и пришли сюда, — вымыли руки. Потом они решили разыскать музыканта.
Аптекарь подал им полотенце; Жан Робер наградил его пятифранковой монетой за труды и беспокойство.
За такие деньги аптекарь был согласен, чтобы его беспокоили хоть трижды за ночь. Он рассыпался в благодарностях.
Тогда Жан Робер попросил у него позволения побыть еще немного во дворе и послушать жалобную песнь, которая продолжала литься с щедростью импровизации.
— Оставайтесь сколько хотите! — отвечал аптекарь.
— А как же вы? — просил Жан Робер.
— Мне это ничуть не помешает: я запру свою дверь и лягу спать.
— Как же мы выйдем?
— Калитка запирается только на задвижку и защелку. Вы отодвинете задвижку, приподнимете защелку и окажетесь на улице.
— А кто запрет калитку?
— Ба! Калитку-то! Да хотел бы я иметь столько же тысяч ливров ренты, сколько раз в году она бывает незапертой.
— В таком случае мы договорились, — заключил Жан Робер.
— Да, договорились, — подтвердил довольный аптекарь.
Он запер дверь и оставил молодых людей во дворе.
Тем временем Сальватор подошел к окну первого этажа:
сквозь ставни просачивался свет.
Очевидно, из этой комнаты и доносилась мелодия.
Сальватор потянул ставни на себя; они не были заперты изнутри и поддались. Сквозь щелку в занавесках они увидели молодого человека лет тридцати: он сидел на высоком табурете и играл на виолончели.
Перед ним на пюпитре стояли ноты, но он в них не заглядывал, глаза его были подняты к небу; казалось, он даже не отдает себе отчета в том, что именно он играет; он был весь во власти мрачных дум, рука его машинально водила смычком по струнам, а мысли витали далеко-далеко...
В нем, несомненно, происходила внутренняя напряженная борьба, он пытался усилием воли подавить страдание; время от времени чело его омрачалось и, продолжая извлекать из инструмента печальные аккорды, он прикрывал глаза, будто, не видя окружающее, он меньше страдал от снедавшей его душевной боли. Наконец виолончель, подобно умирающему, издала пронзительный крик и музыкант выронил смычок.
Неужели душа этого человека оказалась повержена? Он плакал!
Две крупные слезы тихо скатились по его щекам.
Музыкант медленно вытер глаза платком и убрал его в карман, потом наклонился, подобрал смычок, снова провел им по струнам и заиграл с того места, на котором оборвалась мелодия.
Сердце было побеждено: душа парила над страданием на мощных крылах!
Двое молодых людей с огромным вниманием и глубоким сочувствием наблюдали за молчаливой драмой, разворачивавшейся на их глазах.
— Ну что? — спросил Сальватор.
— Невероятно! — отозвался Жан Робер, смахнув слезу.
— Вот вам роман, который вы искали, дорогой поэт. Он притаился здесь, в этом бедном доме, в этом страдающем человеке, в этой рыдающей виолончели.
— А вам знаком этот человек? — заинтересовался Жан Робер.
— Мне? Совершенно незнаком! — отвечал Сальватор. — Я не знаю, как его зовут, и никогда его не видел. Но я и без того вам скажу, что в нем заключена одна из самых мрачных страниц книги о человеческом сердце. Человек, вытирающий слезы и снова вот так просто принимающийся за свое дело, — сильная натура, могу поклясться! А чтобы этот сильный человек заплакал, его страдание должно быть огромно! Давайте войдем и попросим его рассказать свою историю.
— Вы думаете, что делаете? — попытался остановить его Жан Робер.
— Только об этом я и думаю, — отозвался Сальватор, подходя к двери в поисках молотка или колокольчика.
— И вы полагаете, — не унимался Жан Робер, — что этот человек поведает о своем горе первому встречному, который станет его расспрашивать?
— Прежде всего, мы не первые встречные, господин Жан Робер: мы...
Сальватор вдруг умолк. Жан Робер напрасно надеялся услышать слово, которое отчасти пролило бы свет на прошлое его спутника.
— ...мы философы, — закончил Сальватор.
— Ну да, философы, — повторил сбитый с толку Жан Робер.
— Кроме того, мы с вами не похожи ни на подгулявших бакалавров, ни на подвыпивших студентов, ни на любопытствующих буржуа; у нас на лбу написано, что мы порядочные люди. Не знаю, какое первое впечатление сложилось у вас обо мне, но готов утверждать, что, кого бы вы ни встретили, он с первого взгляда будет готов открыть вам свою душу, как я даю свою руку.
И Сальватор протянул молодому поэту руку, словно вручая свидетельство о порядочности.
— Давайте войдем с высоко поднятой головой, — продолжал Сальватор, — все люди — братья и должны друг другу помогать. Все беды — сестры и нуждаются в помощи.
Последние слова он произнес с невыразимой печалью в голосе.
— Идемте, раз вы этого хотите, — согласился Жан Робер.
— Надеюсь, я развеял все ваши сомнения; или у вас есть еще замечания?
— Нет... Впрочем, я не разделяю вашей уверенности в том, что музыкант окажет нам благосклонный прием.
— Он страдает, стало быть, ему надо кому-нибудь пожаловаться, — назидательно заметил Сальватор. — Мы явимся ему, словно вестники Провидения, словно Божьи посланники! Отчаявшемуся человеку нечего терять, он только выиграет, если поделится с кем-нибудь своей печалью. Входите смело; если в вас осталась еще тень сомнения, я вам скажу, что теперь мною движет не любопытство, а чувство долга.
Не дожидаясь ответа Жана Робера, Сальватор, не найдя ни молотка, ни колокольчика, трижды негромко стукнул в дверь на манер масонов.
Тем временем Жан Робер следил через стекло за тем, какое действие окажет на виолончелиста это вторжение.
Тот поднялся, положил смычок на табурет, прислонил виолончель к стене и пошел открывать дверь, ничуть, казалось, не удивившись.
Его спокойствие лишь подтверждало мнение, высказанное Сальватором. Либо этот человек кого-то ожидал — а кого мог он ждать, если не утешителя? Либо он был настолько отрешен, что ничто, исходившее от окружающего мира, отныне не могло его удивить, — стало быть, он должен встретить молодых людей без удовольствия, но и без раздражения.
— С кем имею честь говорить? — спросил он, увидев Сальватора и Жана Робера.
— С незнакомыми друзьями, — представился Сальватор.
Виолончелиста удовлетворил такой ответ.
— Входите, — пригласил он невозмутимо, не проявляя никакого беспокойства по поводу позднего визита незнакомых людей.
Молодые люди прошли вслед за хозяином. Жан Робер, замыкавший шествие, притворил за собой дверь.
Они очутились в той же комнате, где видели виолончелиста, наблюдая за ним через окно.
Комната удивляла и в то же время восхищала простотой убранства; это была даже не комната, а комнатушка, но комнатушка прелестная, чистенькая и белая сверху донизу — настоящая келья монахини, судя по безупречной чистоте обстановки; настоящий дворец для юной девушки, судя по тонкости и скромности вкуса. Увидев здесь молодого человека, вы удивились бы и, невольно покраснев, подумали бы, что он силой проник в это целомудренное гнездышко. Уж не детская ли кроватка показывалась из-за белой муслиновой занавески? А карликовые розы, распустившиеся в хрустальных стаканчиках? Должно быть, ими играл ребенок. Кто ухаживал за розовыми птичками, порхавшими в клетках, если не двенадцатилетняя девочка?.. Или эта комната не принадлежала молодому человеку, или вместе с ним жила девушка, несомненно его сестра. С первого взгляда было ясно, что музыкант не женат.
Можно ли было представить себе, что другой женщине, не сестре, позволено приходить в эту комнату? Нет...
Комната словно излучала целомудрие, а лицо молодого человека — чистоту.
Никогда порочная женщина не переступала порог этой комнаты. Никогда даже тень дурной мысли не омрачала лоб того, кто здесь обитал.
И тому было объяснение.
Да, здесь жил молодой человек, но прибирала его комнату сестра: она ее мыла, чистила, украшала цветами.
Что же могло опечалить в этой веселой комнате?
Виолончелист пригласил молодых людей присесть, однако они хотели прежде объяснить, зачем явились.
— Сударь, — начал Сальватор, — позвольте мне сначала задать вам вопрос. В человеческой ли власти облегчить страдания, которые, по-видимому, вы испытываете?
Виолончелист внимательно посмотрел на того, кто обращался к нему со столь филантропическим вопросом, и в его взгляде была та же невозмутимость, что он уже доказал, когда отпер дверь в три часа ночи, даже не спросив: "Кто там?"
— Нет, сударь, — ответил он просто.
— В таком случае мы уходим. Разрешите, однако, в качестве извинения объяснить вам, почему мы позволили себе вас побеспокоить. Этот господин (Сальватор указал на Жана Робера) собирается написать книгу о человеческих страданиях; он наблюдает их когда и где только возможно. Зайдя в ваш двор, мы услышали, как вы играете. Мы подошли ближе и через окно увидели, как вы плачете.
Молодой человек тяжело вздохнул.
Сальватор продолжал:
— Какова бы ни была причина вашего горя, ваши слезы глубоко нас тронули, и мы пришли предложить вам наши кошельки, если вы бедны, наши руки, если вы слабы, наши сердца, если вы несчастны.
На глаза виолончелиста навернулись слезы, но на сей раз это были слезы признательности.
В словах Сальватора, в тоне, которым они были произнесены, в выражении лица, их сопровождавшем, наконец, во всем благородном облике нашего героя чувствовалось столько доброжелательности, величия, глубокой любви к ближнему, что это невольно привлекало к нему.
Не устояв перед этой притягательной силой, виолончелист протянул ему обе руки.
— Мне жаль тех, кто скрывает от людей свою рану, в особенности если эта рана кровоточит! Показывать раны своим братьям — значит научить их, как избежать несчастья. Садитесь, братья мои, и выслушайте меня.
Молодые люди устроились поудобнее: Жан Робер вытянулся в кресле, а Сальватор прислонился к стене.
Виолончелист начал свой рассказ.
XIII УЧЕНИК И УЧИТЕЛЬ
А теперь да будет позволено нам взять слово; от этого рассказ только выиграет, ведь нам легче поведать о превосходном человеке, которого мы только что вывели на сцену, и сказать то, о чем он сам умолчал бы из скромности.
За семь лет до того дня, как открылся перистиль долгой истории, с которой мы бесстрашно взялись познакомить вас, эта самая комната, обитель виолончелиста, очаровавшая двух друзей своей простотой, совсем не была похожа на ту, какой она стала теперь.
Вместо белого муслинового занавеса, скрывавшего кровать и придававшего алькову вид часовенки; вместо выкрашенной под мрамор и стоящей на камине статуэтки Девы Марии, простирающей руки над обитателями этой комнаты в вечном благословении; вместо двух канделябров с розовыми свечами, похожими на церковные, — словом, вместо всего того, что сообщало комнате покой и навевало сосредоточенность, в этой комнатенке с низким потолком, тяжелыми плитами на полу, тесной, холодной, сырой, не было ни душистых цветов, ни певчих птиц, ни обивки, ни обоев.
Единственные украшения на стенах — старый офорт, репродукция "Меланхолии" Альбрехта Дюрера, и висевшее напротив небольшое квадратное зеркало в раме желтого дерева, а над ним — две ветки букса в форме креста. Комнату разделяла зеленая саржевая занавеска, прибитая гвоздями к балке на потолке; она ниспадала до самых плит, покрывавших пол; несомненно заботливая рука набросила это покрывало, пряча от посетителей удручающее зрелище нищенского ложа.
Одним словом, комната эта служила самым убогим, самым тоскливым приютом, какой только можно было вообразить. Сердце сжималось от жалости у всякого, кто сюда попадал: ничто не радовало глаз, все пропахло нищетой, потолочные балки, сгибавшиеся под тяжестью уже лет триста, грозили вот-вот обвалиться, воздух был тяжелый, гнилой.
Прорубленное в двери окошко усиливало сходство с темницей.
Это была не то чтобы келья сурового монаха-отшельника, а скорее одиночная палата помешанного.
Стол из старого дуба; черная деревянная доска, на которой можно было писать мелом; пюпитр с объемистой тетрадью, несомненно содержавшей произведения Генделя или псалмы Марчелло; довольно длинная скамья, на которой могло усесться восемь-десять человек; высокий табурет; плетеный стул — вот и вся скудная обстановка комнаты, такой же голой, как и ее стены.
Принадлежала комната бедному школьному учителю квартала Сен-Жак.
В те времена, то есть в 1820 году, ему удалось благодаря своему редкому терпению организовать в предместье небольшую школу для детей.
За скромную плату (пять франков в месяц, да и те ему платили не всегда аккуратно) он взялся обучать по собственной программе чтению, письму, Священной истории и четырем правилам арифметики; но в действительности его программа была гораздо шире.
Он был сыном бедного провинциального фермера; его послали учиться в коллеж Людовика Великого в десятилетнем возрасте, и он попал в руки к умному преподавателю, сразу распознавшему в мальчике редкие способности и жажду знаний.
Этот преподаватель, скромный и славный человек преклонных лет, но юный душой, подобно дереву, был способен пустить побеги и дать плоды под солнцем; но, лишенный воздуха и живительных соков, он захирел и зачах за сырыми, мшистыми стенами коллежа... Спустя год он подружился с любимым учеником и привязался к нему, словно отец к младшему сыну.
Вот так же и он тридцать лет назад приехал в Париж из провинциальной глуши и почувствовал себя неуютно среди этого общества в миниатюре, называемого коллежем, оказавшись в окружении маменькиных сынков, юных богачей; он, бедное дитя, как и его будущий юный ученик, в котором он видел точную свою копию, не раз пожалел о зеленой тропинке, что вела на отцовскую ферму; не раз проливал он горькие слезы, вспоминая вольный воздух родной стороны. Наконец, как и его будущий ученик, он смирился с настоящим, забыл прошлое и с головой окунулся в учение, ступив на тернистый путь науки, где даже самый проницательный нередко натыкается на неразрешимые задачи, на неизвестные теории.
Вызывающее невольную симпатию сходство бедности, ума и одиночества сразу — кажется, мы уже говорили об этом — внушило старому преподавателю глубокую привязанность к маленькому Жюстену (так звали ученика).
Проливая на него первые капли знаний, он старался смягчить их горечь, протягивал ему руку, помогая в первые дни учебы преодолевать непроходимые заросли, заботливо раздвигал острые колючки и жгучую крапиву; его забота не знала границ, когда он прокладывал ему дорогу, идя впереди нехожеными тропами в эту неведомую для мальчика страну знаний.
И Жюстен относился к старику с сыновней нежностью, с признательностью и почтительностью преданного ученика.
Как только звонок возвещал рекреацию, Жюстен запихивал книги и тетради в лавочку (так называют свою сумку ученики коллежа), в два-три прыжка пересекал двор и — то ли он не находил никакого удовольствия в рекреациях, то ли у него не было друзей среди сверстников, то ли единственным его товарищем, единственным другом был старый преподаватель — сейчас же мчался в его комнату и между ними завязывалась приятнейшая беседа.
Они говорили об истории, о мифологии, о путешествиях, обсуждали произведения поэтов древности или великих художников.
Если веселый солнечный луч врывался вдруг в комнату, принося с собой воспоминание о полях, аромат лесов, стихи Вергилия и Гомера, двух великих жрецов природы, расцветали у них на устах, подобно полевым апрельским цветам: старик, восхищенно воспринимавший поэтов через природу, учил мальчика понимать природу через поэзию.
Самые приятные часы недели приносило им в полах своей белой туники воскресенье.
Зимой у камелька, летом в лесах Версаля, Мёдона, Монморанси — они имели право весь этот день провести вместе.
О, с каким нетерпением они ждали воскресенья все шесть дней! С каким наслаждением пускались в долгие споры!
Иногда учителя заходил проведать старый товарищ, иногда Жюстен получал из дому письмо, и они перечитывали его по десять раз, — одним словом, всегда находилась тема для поучительного или интересного разговора.
Если случайно — что бывало раза два-три в год — учителя приглашали на какую-нибудь церемонию, на официальный обед к директору лицея или чиновнику университета, куда нельзя было взять ученика, мальчик в такие дни гулял со своим сверстником, таким же одиноким и бедным, но настолько же своевольным, насколько Жюстен был покладист.
Это был чуть ли не единственный его товарищ в коллеже, и не потому, что Жюстену не нравились другие ученики, — напротив, он был готов полюбить хоть целый свет, но его все отвергали.
Социальное неравенство разделяет детей уже в коллеже, как позднее оно разделит взрослых людей в обществе. А парочка школьников, чьи тени, обнявшись, скользят вдоль стены во дворе для рекреаций, — это всегда либо оба богатые, либо оба бедные.
Однажды старый учитель предстал перед Жюстеном совершенно в новом свете.
Уже давно он готовил малышу приятный сюрприз. Комната, в которой жил добряк Мюллер (так звали старого преподавателя), была расположена над лазаретом. Старик и мальчик были вынуждены ходить на цыпочках: пол был такой тонкий, что были слышны самые легкие шаги. По доброте души старый преподаватель боялся причинить малейшее беспокойство больным и отказывался удовлетворить единственную страсть, заставлявшую биться его сердце: он обожал музыку и играл на виолончели с мастерством и любовью настоящего немецкого виолончелиста.
Уже три года как он переехал в эту проклятую комнату —
примерно в то же время Жюстен поступил в коллеж — и с тех пор не прикасался, как мы уже сказали, ни к смычку, ни к виолончели, однако безропотно ждал минуты, когда сможет на новой квартире, которую ему обещали уже полтора года, вернуться к любимому занятию.
И вот долгожданный день наступил.
Жюстен был приятно удивлен, когда услышал, как любимый учитель, устроившись на новом месте, извлек первые аккорды из виолончели, инструмента строгого и печального, звучавшего будто стонущий лес.
Жюстен впал в восторженное состояние и слушал г-на Мюллера не шелохнувшись.
С этого времени Жюстен не давал старому преподавателю ни минуты покоя, черпая из сокровищницы так долго дремавшей гармонии, которая, пробудившись, разбередила ему душу.
Юноша не пропускал дня, чтобы не прийти на урок; он посвящал теперь музыке время, предназначавшееся раньше отдыху; впрочем, отдых всегда был для него работой, скрытой под видом развлечения.
Вдвоем они разбирали произведения мастеров; сравнивали старинных композиторов с современниками: Порпору с Вебером, Баха с Моцартом, Гайдна с Чимарозой; клеймили плагиаторов; изучали историю музыки с самых ее истоков, с грегорианских напевов до Гвидо д’Ареццо, и с Гвидо д’Ареццо до наших дней; потом от музыки они понемногу переходили к двум сестрам: живописи и поэзии; и вот, как раньше учитель водил ученика по зеленым равнинам науки, так теперь он взялся провести его через лазурное море искусства.
В их уединении все эти семена, брошенные заботливой и опытной рукой в одинокую детскую душу, дали пышные всходы.
Одиночество имеет то преимущество, что вынуждает человека постигать несказанную доброту, в нем заключенную, доброту, о которой он никогда бы так и не узнал, затерявшись среди эгоистического общества, лишающего нас половины жизни. Уединение приучает человека постоянно возвращаться к самому себе, к повседневной сосредоточенности.
В одиночестве заключена целая религия! Уединение делает злых добрыми, хороших — еще лучше. В тиши Господь говорит с сердцем человека; в одиночестве человек говорит с сердцем Бога.
Одиночество вдвоем еще полезнее: это сон, это волшебная сказка.
Это был сон старого учителя и его ученика, сон продолжительностью в семь лет, из которого их внезапно вырвала трагедия.
В одно воскресное февральское утро 1814 года ученик получил еженедельное письмо из дома.
Оно было запечатано черным воском.
Написано оно было не рукой отца; не похож был почерк и на материнский.
Умер отец? Умерла мать?
Если кто-то из них жив, почему не он сообщает страшную весть?
Жюстен с трепетом распечатал письмо.
Несчастье зашло гораздо дальше самых печальных предчувствий.
Казаки сгубили урожай, разграбили амбары, сожгли ферму; мать, бросившаяся к постели дочки, чтобы спасти ее из огня, потеряла зрение.
Мать ослепла!
Но что же отец?.. Почему не он написал это письмо?
Отец, старый солдат Республики, совсем потерял голову, увидев размеры своего несчастья; он взялся за ружье и объявил охоту на казаков.
Он убил девятерых!
Но в ту минуту как отец целился в десятого, он не заметил, что попал в засаду; раздался залп дюжины ружей, две пули пробили ему грудь, третья угодила в голову. Он рухнул замертво.
Учитель горевал вместе с учеником, они вместе проливали слезы; но слезами и сочувствием горю не поможешь — пришла пора прощания.
Жюстен обнял своего второго отца — преподаватель вполне заслуживал этого звания, потому что если от первого отца юноша получил жизнь физическую, то второй разбудил его душу, — и друзья расстались.
XIV БИТВА ЗА ЖИЗНЬ
Отец мертв, мать слепа, младшая сестра слишком мала, чтобы наняться на работу, дом сгорел, урожай потерян... Что было делать несчастному Жюстену? А было ему тогда шестнадцать лет!
Он написал обо всем старому учителю и попросил его совета.
Ответ не заставил себя ждать. Господин Мюллер настоятельно советовал Жюстену вернуться в Париж, в город больших возможностей, да и он, учитель, кстати, был бы рядом, готовый помочь чем только сможет.
Славный старик был беден, он был одинок в целом свете — вот в чем заключалось его богатство. Он отдал Жюстену скудные сбережения десяти лет и предложил снять дом по соседству.
Было бы пустой гордыней отказываться от помощи старика; Жюстену это и в голову не пришло: он согласился.
Тогда-то он и переехал в Париж, в этот самый дом предместья Сен-Жак, куда только что вошли Сальватор и Жан Робер. Он поселился в жалкой комнатушке, о которой мы попытались дать нашим читателям представление.
Целый год Жюстен тщетно искал уроков. Все только смеялись в лицо этому преподавателю — юноше неполных шестнадцати лет от роду.
Только на следующий год он нашел несколько репетиторских уроков, но денег не хватало, чтобы прокормить трех человек.
Уроки занимали у него всего три часа в день; он стал искать, где бы еще заработать.
Он узнал, что в одном женском пансионе требуется учитель музыки, и отправился туда с рекомендательным письмом г-на Мюллера к хозяйке пансиона.
Его встретили с распростертыми объятиями.
Добрый учитель написал в рекомендации, что если его питомца возьмут на службу, то тем самым окажут ему, г-ну Мюллеру, настоящую услугу. Да и молодой человек нуждался в работе, прибавил он.
Хозяйка пансиона, зная, что питомец г-на Мюллера беден, решила, что он обойдется ей недорого. Она ему предложила двадцать франков в месяц.
Старый учитель, полагавший, что его ученик стоит большего, посоветовал ему отказаться. Но Жюстен принял предложение.
На двадцать франков в месяц вместе с деньгами за уроки можно было жить скромно, очень скромно. Но все-таки материальная сторона жизни была обеспечена.
Итак, беспокоиться пока особенно не о чем было. Прошлое было беспросветно-мрачным, настоящее — всего лишь пасмурным.
Беспокойство начиналось, когда в доме произносили имя дорогого учителя. А произносили его чаще, чем отбивал время колокол на церкви святого Иакова-Высокий порог.
Ему задолжали целое состояние: тысячу франков, сумму огромную, какую Жюстен не мог заработать за целый год. Как же отдать долг? Где найти работу?
Жюстен спрашивал работу где только мог.
Повторяем: мать был слепа, сестра трудолюбива, но слаба здоровьем и почти все время болела.
Одному торговцу лесом с бульвара Монпарнас был нужен счетовод на два дня в неделю.
Жюстен явился к нему; его костюм был не то что беден, но уж очень скромен.
Торговец лесом платил пятьдесят франков предшественнику Жюстена, одному щёголю из предместья, появлявшемуся лишь тогда, когда он оказывался без единого су или был свободен от многочисленных любовных похождений.
Жюстену торговец лесом предложил двадцать пять франков. Жюстен согласился.
При условии жесточайшей экономии и отказа в самом необходимом ему понадобилось бы четыре года, чтобы собрать тысячу франков.
Уроки греческого и латыни, уроки музыки, работа счетовода отнимали у него не больше восьми часов в сутки.
У него оставалось еще четыре часа днем и двенадцать часов ночью.
И Жюстен стал искать новых учеников и новой работы. Он готов был на все, постоянно помня о своем долге: содержать мать и сестру, выплатить тысячу франков г-ну Мюллеру.
Новую работу найти было легче, чем новых учеников. И он такую работу нашел.
В нескольких шагах от его дома, чуть выше по улице, находилась типография, где печатали ежедневную газету. Корректору — славному малому, который, похоже, еще за двенадцать лет почуял приближение 1830 года, — надоело править корректуры роялистских элегий своего хозяина, занимавшего высокий пост в министерстве; в одно прекрасное утро он разорвал цепь, расправил крылышки и улетел.
Издатель газеты и хозяин типографии как-то вечером совершенно запутались в корректуре своего листка. И вот они узнали, что по соседству живет молодой человек, наделенный качествами, необходимыми для этой тяжелой работы. Его пригласили на это место.
Для Жюстена это была земля обетованная.
Жюстен имел счастливую особенность: он не разбирался в политике, ведь ему просто некогда было ею заниматься. Насколько могла ненавидеть его душа, он ненавидел иноземцев, захвативших Францию, и казаков, спаливших его ферму, лишивших зрения его мать, убивших его отца, сделавших сиротой его сестру.
Но собственного мнения у него не было, или, вернее, бедный и честный малый знал только одно: он должен прокормить мать и сестру и отдать тысячу франков г-ну Мюллеру.
Ему сказали, что придется работать почти всю ночь; он был согласен. Когда его спросили, сколько он хочет за работу, он ответил: "Сколько вам будет угодно мне назначить".
Примерно в середине 1818 года он поступил корректором в эту типографию.
Ровно через год он вернул старому учителю тысячу франков, которые тот ему одолжил.
Спустя еще год он сумел отложить шестьсот франков.
И размечтался же тогда несчастный Жюстен! Через четыре года он надеялся сколотить для сестры три тысячи приданого, а также четыреста франков на свадебные расходы.
Но он сам?.. Что с ним сталось?! Он превратился в чернорабочего, в подобие мельницы, монотонный стук которой замирал лишь с двух часов ночи до шести утра.
Вот о таких людях какой-то святой сказал: "Трудиться — значит молиться".
Мечта Жюстена имела такой же конец, как и любая мечта: она не сбылась.
Жюстен захворал; болезнь оказалась серьезной: менингит за неделю привел его на край могилы. Брюшной тиф, последовавший за менингитом, на два месяца приковал его к постели.
Русская пословица гласит: "Беда не приходит одна".
Эта пословица с не меньшим основанием могла бы быть французской или испанской.
Стоило несчастному Жюстену заболеть, как он всего лишился. Уроки музыки передали известному пианисту, который в них не нуждался. Он был в моде, и на уроки приходил, когда у него было время.
Счета перепоручили щёголю, предшественнику Жюстена: он убедил хозяина, что сумел исправиться.
Роялистский листок обанкротился, не выдержав нападок за ревностную поддержку "Бесподобной палаты".
А так как без газеты иметь корректора было излишеством, которое бывший хозяин не мог себе позволить, то, как только газета закрылась, распрощались и с корректором.
Оставалось репетиторство.
Однако начались каникулы, и все ученики разъехались.
К счастью, рядом был по-прежнему славный г-н Мюллер.
Старик, ставший небесным покровителем несчастного семейства, заменил собой Господа Бога, когда тот, слишком занятый падением Империи, отвел свои взоры от ничтожной спаленной фермы.
Мюллеру недавно вернули тысячу франков, и теперь можно было снова одолжить у него эти деньги.
С этим Жюстен и вышел впервые из дому: деньги и явились целью его первого визита.
Еще слабый после болезни, держась за стены, он еле добрался до старика и застал его дома; г-н Мюллер сидел на небольшом чемодане, который он только что захлопнул.
— A-а, вот и ты, мальчик мой! — воскликнул старик. — Я очень рад, что тебе лучше.
— Да, господин Мюллер, — отвечал тот, — и, как видите, мой первый визит — к вам.
— Благодарю... А я как раз собирался зайти к тебе попрощаться.
— Как?! Вы уезжаете? — с беспокойством спросил Жюстен.
— Да, друг мой, я отправляюсь в далекое путешествие.
— В путешествие?..
— Я никогда тебе об этом не рассказывал, потому что если бы я это сделал, ты не взял бы у меня тысячи франков, те, что ты недавно мне вернул.
— Боже мой! — пробормотал Жюстен.
— Я говорил тебе, что родом я из того же города, что и великий, прославленный Вебер. Мы познакомились еще детьми; став юношами, мы подружились; впоследствии я всегда им восхищался и дал себе слово перед смертью непременно повидаться с автором "Вольного стрелка" и "Оберона". Я много работал — а ты знаешь, что это такое, — и скопил тысячу франков, дабы вознаградить себя в старости этой радостью и потешить гордыню. Я уже собрался в путь, когда тебе понадобились мои жалкие сбережения. И я сказал себе: "Что ж! Я еще не стар, Господь ниспошлет нам с Вебером еще немного времени, пока Жюстен успеет вернуть мне тысячу франков, которые я предлагаю ему".
— Дорогой господин Мюллер!
— И я тебе предложил деньги, мой мальчик, а ты согласился; я видел, как ты надрываешься, бедный раб собственной чести, чтобы поскорее со мной рассчитаться, а я, старый эгоист, вместо того чтобы сказать: "Не спеши так, у тебя есть время, в молодости есть силы, но их надо беречь!" — ничего тебе не говорил, бедный мой мальчик; прошу простить мне этот грех... Я не помешал тебе, хотя часто слышал: "Вебер болен, у него слабая грудь, он долго не протянет!.." Не говоря уж о том, что в его музыке звучали последние вздохи отлетающей души... И вот, наконец, ценой лишений ты вернул мне тысячу франков; согласись хотя бы, что я никогда не напоминал о твоем долге.
— Ах, господин Мюллер...
— Нет, клянусь тебе, бедное дитя, что эта сумма мне была необходима. Едва она оказалась у меня в руках, как я подумал: "Отлично! Вот и деньги на каникулы!" Понимаешь? А если бы Вебер, с которым мы не виделись двадцать пять лет, был при смерти?! Но слава Богу, я успею его обнять! О, дорогой мне великий человек! Вчера я получил от него письмо; он в Дрездене, пишет оперу для саксонского короля. Нынче утром я собрал чемодан, заказал билет до Страсбург — вот мой отчет. Вечером я отправляюсь! Я собирался было зайти к тебе проститься, дитя мое, а ты пришел сам. Сейчас будем обедать.
— Ах, господин Мюллер, — задыхаясь, прошептал Жюстен, — мне еще рано обедать.
— Как жаль, что ты не можешь поехать со мной! Ведь это невозможно, не правда ли?
— Совершенно невозможно.
— Понимаю... У тебя уроки музыки, репетиторство, счета, корректура... Ты, верно, намерен все это возобновить?
— Да, — вздохнул Жюстен.
Мюллер был так взволнован, что не расслышал его вздоха.
Этот вздох — столь же печальный, как последний привет Вебера, — был прощанием с единственной надеждой.
Стоило Жюстену сказать: "Мне нужна ваша тысяча франков, дорогой господин Мюллер, потому что я еще не пришел в себя после болезни; мне нужна ваша тысяча франков, чтобы прокормить мать и сестру; вы увидитесь с Вебером позже или даже не увидитесь вовсе, — только останьтесь, славный Мюллер, останьтесь!" — и Мюллер, испустив, может быть, не менее печальный вздох, чем Жюстен, несомненно остался бы.
Жюстен промолчал. Он обнял г-на Мюллера, простился с ним, затем возвратился к себе, обливаясь слезами, и в изнеможении рухнул на кровать.
В пять часов того же дня Мюллер уехал в Дрезден.
После отъезда Мюллера средства семейства истощились до последнего су.
Поправившись, Жюстен предпринял еще одну попытку возобновить прежние уроки и подыскать новые, однако две трети родителей отвечали ему с трогательной заботой:
— У вас очень слабое здоровье!
Тогда молодому человеку, доведенному до отчаяния — ведь ему почти изменило мужество, ведь он почти потерял всякую надежду, ведь он почти лишился рассудка, — пришла мысль организовать начальную школу в этом нищем предместье, где было слишком много детей и слишком мало денег.
Сначала одна славная работница решилась отдать к нему в учение сынишку; потом другая, трудившаяся целый день напролет и не знавшая, куда пристроить своего малыша, доверила ему ребенка (потому, что некуда было его деть, а не ради того, чтобы он выучил четыре арифметических правила); третья привела к Жюстену сразу двух учеников — семилетних близнецов.
Спустя полгода у него уже было восемь белоголовеньких, свежих, розовощеких школьников; но ему приходилось заниматься с ними целый день, и восемь его пансионеров приносили ему сорок франков в месяц: как мы уже рассказывали в начале предыдущей главы, за пять франков в месяц он одаривал их всеми сокровищами письма, чтения и четырех арифметических действий.
Впрочем, и поныне бедным школьным учителям в этих трущобах платят не больше того, что получал Жюстен.
А через два года, к июню 1820 года, у него стало уже восемнадцать учеников; таким образом, он зарабатывал тысячу восемьдесят франков в год, и на эти деньги они жили втроем. Жили, если понимать под этим словом "не умирали с голоду"!
А г-н Мюллер успел съездить в Дрезден и вернуться оттуда; он повидался с Вебером, провел весь свой каникулярный месяц с ним, а когда возвратился, сказал Жюстену:
— Я истратил все до последнего су, но, слово виолончелиста, я не жалею!
XV УЧИТЕЛЬ У СЕБЯ ДОМА
Жюстен занимал в двухэтажном доме первый этаж.
Наверху было всего две комнаты и чулан, превращенный в кухню.
На втором этаже жила мать юноши и его сестра.
Этот домишко, стоявший особняком во дворе и соприкасавшийся с соседними домами только одной стороной, был, по всей вероятности, построен когда-то хозяином бумагопрядильни: ее развалины можно было разглядеть в нескольких шагах от дома Жюстена.
Вот в этом мрачном убогом прибежище, которое скудно освещалось лишь со двора, окруженного высокими домами, прозябали мать, дочь и сын.
Мать, бедная женщина, лишившаяся зрения, как мы уже говорили, занимала первую комнату, куда ее дети приходили по вечерам; за весь год она, может быть, всего три раза переступала порог своей комнаты.
Набожная, одинокая, слепая, она не теряла присутствия духа.
Никто никогда не слышал, чтобы она сетовала на судьбу: она отличалась высоким смирением римской матроны и воплощала собой суровую добродетель; живи она в Спарте, ее бы обожествляли; римский сенат издал бы указ о том, чтобы все обнажали перед ней голову как перед жрицей великой богини.
Французское общество ее мучило.
Ох, уж это французское общество! На сей раз ему мы объявляем бой!
Мы отлично понимаем, что истощим свои силы, как Иаков в битве с ангелом; однако, когда мы предстанем перед Господом и он нас спросит: "Что вы сделали?", мы ответим ему: "Мы не могли победить; но мы боролись".
Дочь, существо тщедушное, жалкое, слабое, дикий цветок, полевая ромашка, лесной ландыш, пересаженный в душный погреб, унаследовала от матери некоторые из стоических добродетелей, но ей было далеко до материнского самоотречения.
Девочка страдала аневризмой, грозившей унести ее в могилу при первом же сильном потрясении; бедняжка инстинктивно чувствовала, что ее жизнь под угрозой, и смирение изменяло ей; нет, нет, она никогда не позволяла себе упреков, ведь она была христианкой; но она, если можно так выразиться, губила себя изнутри, ее отчаяние не находило выхода: время от времени на ее чело цвета слоновой кости набегала тень, и мать сердцем чувствовала, что с дочерью творится что-то неладное.
Сын, занятый с утра до вечера учениками, очень редко забегал днем проведать обеих женщин; он позволял себе эту радость только во время визитов старого учителя, подменявшего его на час-другой и присматривавшего за детьми.
Школа открывалась летом в восемь часов утра и закрывалась в шесть вечера; зимой занятия были с девяти утра до пяти часов пополудни.
Почти все ученики были детьми рабочих из предместья; им рано или поздно предстояло занять место своих родителей, и, значит, у них не было нужды в латыни и древнегреческом языке.
Но были в классе два мальчика, отец которых, бывший механик, ставший владельцем прибыльного предприятия, намеревался отправить одного сына в Политехническую школу, другого — в Школу искусств и ремесел.
В двенадцать лет им предстояло поступить в коллеж; старшему оставалось до этого два года, младшему — три. Подметив в братьях необычайные способности, Жюстен постарался их развить и передал мальчикам — бедный Прометей! — частицу священного огня, который зажег в нем старый учитель.
За исключением этих двух мальчиков, отчасти напоминавших ему о его высоком предназначении, другие малыши не хотели учиться, и их родители требовали от Жюстена, чтобы он дал им только самое необходимое, что предусмотрено программой.
Таким образом, вследствие непритязательности родителей по отношению к образованию их детей, Жюстен мог позволить матери и сестре помогать ему и даже подменять его в случае нужды.
Когда сестра чувствовала себя хорошо, она спускалась в комнату Жюстена, где, как мы уже говорили, он проводил занятия, и, пока брат на несколько минут отлучался, чтобы проведать мать, учила детей читать и считать до ста, рисуя цифры мелом на доске.
Каждый день к матери приходила треть класса, иными словами — шесть малышей: так воплощались в жизнь слова "Sinite parvulos ad me venire"[10]. Детишки вставали на колени вокруг плетеного кресла, в котором она сидела; она учила их молиться и рассказывала какую-нибудь трогательную историю из Ветхого Завета.
Восхитительное зрелище представляли собой шесть склоненных белокурых головок с приоткрытыми розовыми губками, бормочущими молитвы.
Стоя на коленях, они, казалось, молили Господа вернуть несчастной старухе зрение.
Вот так, в уединении и тоске, и жило маленькое семейство до июня 1821 года.
Кроме старого добряка-учителя, постоянно заходившего к ним на часок-другой, ничто не нарушало мирного течения их жизни, однообразной и ровной, как степь.
Летом они время от времени позволяли себе погулять; в таких случаях они направлялись обыкновенно в сторону Монружа.
Увы, пришлось распроститься с зелеными коврами лесов Версаля, Мёдона и Монморанси, променяв их на обезвоженные меловые овраги: слепой матери и слабой, болезненной сестре не под силу были долгие прогулки, которые совершали когда-то сорокапятилетний мужчина и двенадцатилетний мальчик.
Самые продолжительные путешествия семейства оканчивались в Монруже; но чаще всего все трое останавливались на полпути, садились на обочине и час или два проводили на солнце, запасаясь светом и теплом на весь день.
Зимой они садились вокруг маленькой изразцовой печки, с благоговением сжигали два небольших полена за весь вечер и к девяти часам расходились.
В доме был камин, но огромный; в нем за неделю прогорало бы целое вуа дров.
И его загородили: когда камин не греет, в него забирается холод.
Если г-н Мюллер приходил около девяти часов, хозяева неизменно предлагали подбросить еще одно полено в огонь, а старый добрый учитель с таким же постоянством отказывался якобы потому, что он весь в поту, и с этой минуты они теснее жались друг к другу и к остывающей печке.
Славный старик изо всех сил старался, рассказывая какую-нибудь забавную историю, лишь бы все забыли о холоде — точь-в-точь как г-жа Скаррон, пытавшаяся заставить забыть о жарком, — и своей веселостью он приносил тепло слушателям подобно живительному лучу.
Веселость — это солнце, согревающее временами зиму бедности.
Именно в эти последние два года Жюстен особенно оценил благотворное влияние музыки.
Как только с девятым ударом часов на церкви святого Иакова-Высокий порог становилось понятно, что г-н Мюллер не придет, Жюстен целовал мать и сестру и возвращался к себе.
Там он зажигал свечу в подсвечнике, прикрепленном к пюпитру, раскрывал старинную нотную тетрадь, с минуту ее перелистывал, потом вынимал из чехла виолончель, любовно протирал носовым платком, оглядывал ее и обнимал словно друга.
Да, Боже мой, разве она и в самом деле не была ему верным другом? Разве не выпевала она божественным, мелодичным голосом все сокровенные жалобы Жюстена, молчавшего во все остальное время и позволявшего себе выговориться в музыке только в эти вечерние часы?
Разве не была музыка спасительным источником, в котором утоляла жажду его истосковавшаяся душа?
Разве не была виолончель его вторым "я", говорящим зеркалом, которому молодой человек поверял свои беды, а звучный инструмент передавал их, словно верное эхо?
У Жюстена не было других родных, кроме слепой матери и больной сестры; единственным его товарищем был старый учитель; свидетелями его томлений были только голые стены комнаты, и инструмент стал его подругой, семьей, отечеством!
Эти вечерние часы были для него живительным воздухом, которого недоставало ему весь день.
Но мало-помалу, несмотря на мелодичные звуки его любимой виолончели, атмосфера вокруг Жюстена начала сгущаться; незаметно для себя самого он впал в глубокую меланхолию. Господин Мюллер вскоре это заметил и упрямо пытался вывести Жюстена из этого состояния.
— Ты состаришься до срока, — предупреждал он молодого человека, — ты увянешь в лучшие свои лета; надобно почаще выходить, встречаться с людьми, хоть отчасти соприкасаться с окружающим миром, если уж не можешь жить его жизнью. Скоро каникулы, давай поедем куда-нибудь вместе! Собирайся: двенадцатого августа я тебя забираю!
Он и в самом деле чах на глазах в свои юные годы, бедный школьный учитель! Его взгляд становился мутным, щеки ввалились, лоб избороздили морщины, кожа пожелтела, стала похожа на пергамент его старинных фолиантов. Он выглядел тридцатилетним, хотя ему не минуло еще и двадцати трех. Но все способствовало тому, чтобы он постарел раньше времени: люди, с которыми он жил, комната, которую он занимал. Его лицо, манера держаться, походка, голос — словом, все его существо несло на себе отпечаток людей, окружавших его, и предметов, находившихся у него перед глазами, их ветхости и нищеты.
Ему грозила неминуемая гибель, если бы не новая беда: она встряхнула его, явилась гомеопатическим средством (в те времена этого слова еще не существовало, но все, чему суждено в будущем быть изобретено, существовало ведь и раньше, правда?), — итак, новая беда явилась гомеопатическим средством, вернувшим Жюстена к жизни.
Увы! Есть такие страдания, которые, подобно болезням, излечиваются с помощью других страданий.
Жюстен получал, как известно, тысячу восемьдесят франков в год; этой ничтожной суммы ему едва хватало, чтобы свести концы с концами. Разве мог он хоть что-нибудь отложить на черный день из этого скудного дохода? Разве не довел он уже экономию до лишений?
"Надобно если и не жить как все, то хотя бы отчасти соприкасаться с окружающим миром", — говаривал старый учитель.
Легко сказать! Но как это сделать, если костюм был протерт до дыр, ведь Жюстен носил его зимой и летом, не снимая, уже четыре года?!
Да и все вещи в доме нуждались в обновлении.
Сестра творила чудеса, штопая белье; простыни, на которых спала мать, были настоящим шедевром штопки; чулки брата от пяток до носков были великолепным образцом мозаичного искусства. Члены семейства дали себе слово ничего не покупать, пока вещи будут еще держаться, но уже наступил их последний срок: все это тряпье, латаное, чиненое, штопаное, с которым бедные люди ни за что не расстались бы, изменило им само; ведь с бельем — как с друзьями, заметил старый учитель, процитировав известные стихи:
Donee eris felix multos numerabis amicos[11].
— Пока вам не нужны чулки, — сказал старик, — у вас их сколько угодно; но, как только они вам понадобятся, тут-то их и не будет хватать!
Шутка доброго Мюллера была встречена с улыбкой, но улыбкой печальной.
Снова надо было найти хоть какой-нибудь заработок, и поскорее, ведь недалека была минута, когда не в чем станет искать работу!
А ждать, что она придет сама, было нельзя.
И Жюстен снова начал стучаться во все двери.
По большей части они оставались закрытыми, а если где-то ему и открывали, то только для того, чтобы отказать.
Гулять теперь приходилось по вечерам: выходить в лохмотьях средь бела дня они не осмеливались.
И вот однажды вечером Жюстен прогуливался неподалеку от заставы Мен в ожидании старого учителя: они собирались сходить к одной даме, подыскивавшей для сына репетитора. Вдруг до него откуда-то сверху донеслись голоса. В одном из тех больших кабаре, где есть оркестр, спорили контрабасист и вторая скрипка.
Из-за чего шел спор, с чего он начался? Это так и осталось для Жюстена загадкой, да он и не думал об этом, потому что его слух поразили следующие слова:
— Господин Дюрюфле, — говорил контрабасист, — клянусь, что после всего происшедшего ноги моей не будет в доме, где находитесь вы, а в доказательство я немедленно отсюда ухожу!
Контрабасист действительно в ту же минуту с инструментом под мышкой торопливо вышел из кабаре, размахивая смычком, словно пылающим мечом.
Должно быть, между музыкантами произошла серьезная размолвка.
— О! — вскрикнул Жюстен, хлопнув себя по лбу.
Его неожиданно поразила одна мысль.
И в ту минуту, когда эта мысль снизошла на него из окна кабаре, в конце улицы показался г-н Мюллер.
XVI ОТ МУЗЫКАНТА - К ОРКЕСТРАНТУ В КАБАРЕ
Жюстен не сделал ни шага навстречу учителю, словно боялся, что, сойдя с места, спугнет посетившую его мысль.
Он пересказал старику все, чему только что явился свидетелем.
— А! — проговорил тот. — Вот и место!
Его тоже сразу осенила идея; он подумал, что место контрабасиста в кабаре, как бы ни было отвратительно это заведение, имело немалое преимущество, — такое занятие нарушит однообразие жизни молодого человека.
Да и для бедствующей семьи его заработок будет большим подспорьем.
— Только вот возьмут ли тебя на это место? — прибавил он.
— Надеюсь, — скромно отвечал Жюстен.
— Еще бы нет! — воскликнул папаша Мюллер. — Без музыканта им придется чертовски тяжко!
— Ну что же, я сейчас зайду и узнаю.
— И я с тобой! — предложил славный старик.
Жюстен был этому только рад.
Нетрудно себе представить, какое впечатление произвело появление в подобном шумном заведении серьезного молодого человека и степенного старика, одетых в черное.
Танцоры показывали на них пальцами своим партнершам и покатывались со смеху.
Двое друзей не обратили внимания на всеобщее оживление или сделали вид, что ничего не замечают.
Они спросили у лакея, где найти хозяина кабаре.
Толстый добродушный кабатчик, похожий на Силена и более красный, чем вино, которое он подавал своим посетителям, тотчас явился на зов, полагая, очевидно, что кто-то собирается сделать большой заказ.
Друзья робко изложили свою просьбу.
И как же волновался умный молодой человек, музыкант, верный сын, содержавший мать, преданный брат, имевший на попечении сестру, наконец, полезный и ценный для общества гражданин! С замиранием сердца, с ужасом он представлял себе, как ему откажут в месте оркестранта в дешевом кабаре!
Увы, все в этом мире относительно.
Это место означало новые панталоны и черный сюртук для него, душегрейку для матери, платье для сестры.
О, смейтесь, смейтесь, ведь вашим близким никогда не грозили ни голод, ни холод! Зато мне доводилось содержать мать и сына на сто франков в месяц, и для меня смех по такому поводу — святотатство!
Итак, двое друзей робко изложили свою просьбу.
Хозяин кабаре в ответ заметил, что его это не касается, это дело руководителя оркестра.
Впрочем, он вызвался сам передать ему просьбу молодого человека (что было принято) и спустя пять минут принес ответ: если Жюстен способен исполнять требования, предъявляемые к важной должности контрабасиста в кабаре у заставы, он может за три франка в вечер хоть сейчас приступить к своим обязанностям.
Танцы бывают трижды в неделю, следовательно, он будет получать тридцать шесть франков в месяц.
Это было почти столько же, сколько ему приносили восемь первых его учеников; для него это были золотые россыпи Перу — в 1821 году еще говорили "Перу", как в наши дни говорят "Калифорния", — итак, для него это место было золотым дном; он сейчас же согласился, попросив только разрешения сходить за виолончелью домой в предместье Сен-Жак.
Но ему ответили, что это ни к чему: ухода контрабасиста ждали и заранее был куплен новый инструмент, предназначавшийся, в случае нехватки музыкантов, для второй скрипки. Но на место ушедшего контрабасиста пришел новый — что ж, все было к лучшему, как в мире Панглоса.
Жюстен в глубине души был очень рад, что его виолончель — целомудренный и благочестивый инструмент-отшельник — избежит угрожавшего ей осквернения.
Молодой человек поблагодарил г-на Мюллера и хотел было с ним распрощаться. Однако славный учитель объявил, что намерен быть на первом выступлении своего ученика; чтобы ободрять его своим присутствием, он уйдет из заведения не раньше чем кончатся танцы.
Жюстен пожал учителю руку, попросил принести контрабас и занял место в оркестре, к величайшему изумлению зрителей, готовых было освистать юношу при его появлении в кабаре, а теперь едва ли ему не аплодировавших.
Оркестр был достоин кисти художника, мастера жанровых сцен, если только позволительно называть громким именем оркестра сборище восьмерых глухарей, исполнявших адские кадрили, под звуки которых отплясывали три-четыре сотни завсегдатаев упомянутого заведения. В этом-то — с позволения сказать — оркестре, достойном, как мы говорили, кисти жанриста, и затерялся степенный и серьезный юноша по имени Жюстен.
Он был похож на музыканта-мученика, играющего с веревкой на шее для развлечения языческого племени.
Его выразительное лицо ярко освещалось висевшими над его головой кенкетами.
Жюстен был далеко не красавец, — бедный мальчик! — но чувствовалось, что страдальческий вид, задававший тон, если можно так выразиться, всему его облику, и был истинной, вернее, единственной причиной, делавшей его некрасивым; если бы простые житейские радости осветили его лицо, если бы незатейливое человеческое счастье или даже просто удовольствие промелькнуло в его взгляде, если бы в улыбке приоткрылись его губы — его лицо, пусть некрасивое, сейчас же приобрело бы выражение ангельской кротости и удивило бы редким благородством.
Он стоял, обхватив обеими руками огромный контрабас, раза в два больше виолончели; длинные белокурые волосы струились по плечам и ниспадали на лоб, когда юношу подгонял ритм танца; большие голубые глаза затуманивались; все его существо было проникнуто томностью; в такие минуты молодой человек не мог не внушать любому, кто его видел, глубокий интерес, невольную симпатию.
Вообразите юного Листа во власти вдохновения.
Наш школьный учитель Жюстен точь-в-точь походил на него.
После первой кадрили руководитель оркестра рассыпался в самых искренних похвалах ему, а собратья-музыканты зааплодировали.
Захлопали в ладоши и танцоры.
Добрый старый учитель не помнил себя от радости, он тоже хлопал в ладоши, стучал ногами, плакал от волнения.
Вот уж воистину верно: триумф есть триумф, кто бы с ним ни поздравлял.
В одиннадцать часов Жюстен поинтересовался, когда кончатся танцы.
Ему ответили:
— Иногда веселье продолжается до двух часов ночи.
Он подозвал папашу Мюллера.
Тот поспешил на зов.
Надо было предупредить мать и сестру, сходивших, наверное, с ума от беспокойства: никогда еще Жюстен не возвращался позднее десяти часов.
Славный учитель все понял, поспешил в предместье Сен-Жак и застал г-жу Корби — таково было имя матери Жюстена, которое мы имеем честь впервые назвать читателям, — и застал г-жу Корби и ее дочь за молитвой.
— Ну вот, — начал он с порога, — ваши молитвы услышаны, добродетельная женщина и святая дочь; Жюстен нашел место, ему будут платить тридцать шесть франков в месяц!
Обе женщины радостно вскрикнули.
Учитель рассказал, что произошло.
С изумительной деликатностью, свойственной женщинам, г-жа Корби и ее дочь поняли, какую огромную жертву их сын и брат принес ради них.
— Милый, добрый Жюстен! — прошептали они.
И произнесено это было нежным, почти жалостливым тоном.
— О, не жалейте его, — поспешил уверить их учитель, — ведь это настоящий триумф! Жюстен прекрасен! Восхитителен! Он похож на молодого Вебера.
С этими словами г-н Мюллер, которому нечего было больше сказать, простился с женщинами и вернулся в кабаре.
Ушел он оттуда со своим дорогим учеником в два часа ночи.
Засовы на воротах были отперты заботами сестры Жюстена.
К концу месяца Жюстен успел сыграть на двенадцати вечерах и получил свои тридцать шесть франков.
На них можно было купить самое необходимое.
Теперь, как нам представляется, мы достаточно ясно показали нашим читателям, какое доброе и благородное сердце у нашего героя; ограничимся лишь еще несколькими словами, чтобы описание его характера было полным.
Впрочем, этот характер во всей его совокупности легко определить одним словом.
Это слово, с помощью которого Сальватор охарактеризовал Жану Роберу мелодию, исполняемую Жюстеном, — "смирение".
Прибавим, что если эта добродетель, отчасти сомнительная, и принимала когда-нибудь человеческий облик, спускаясь на землю, то ее воплощением, конечно, был Жюстен-смиренник.
Да позволено нам будет провести некоторый анализ: мы повествуем не о приключении, мы рассказываем историю страждущей души. Заглянем же в самые сокровенные уголки этой души, понаблюдаем за тем, что станется с этим человеком, хлебнувшим немало горя; посмотрим, как он встретит несказанное счастье или неизбывное страдание!
Устоит он? Или согнется?
Поверьте, дорогие читатели, даже для самых равнодушных из вас это будет захватывающее чтение.
Перед вами невинный юноша в полном смысле этого слова; до сих пор он жил подобно птице небесной, порхающей над полями в поисках семечка, которое она принесет в гнездо; до сих пор единственной его заботой было удовлетворение жизненных потребностей; недосыпая и недоедая, в поте лица своего, кровью своей он зарабатывал на пропитание, иногда даже на относительное благополучие своему несчастному семейству.
Что же он делал для себя самого?
Ничего!
Будь он один в целом свете, не имей он на своем попечении ни матери, ни сестры, вероятно, он нашел бы возможность продолжать занятия, стал бы бакалавром, лиценциатом, адъюнкт-профессором, как знать? Даже доктором, может быть! А теперь вместо факультетской кафедры, которую он мог бы получить благодаря своему труду; вместо почетного положения, которого он добился бы упорством, что является отличительной чертой его самоотверженного характера, юноша заживо погребен, будто прикованный чувством долга, задыхаясь под тяжестью сыновней любви.
О, мы отнюдь не сетуем на семейный долг: мы всегда любили свою мать и были нежно любимы.
Но когда семья перенесла великое несчастье, она должна получить помощь от общества, ведь покинутая им в нищете семья, подобно пневматической машине, начинает отнимать воздух у одного из своих членов. Если мы и не протестуем против такого положения дел во всеуслышание, то уж никто не помешает нам роптать вполголоса.
Итак, все несчастье Жюстена проистекало от его семьи. Но он — золотое сердце! — пришел бы в глубочайшее отчаяние при одной только мысли, что его родных могло бы не быть рядом с ним.
Какой же выход мог он найти?
Жюстен и не думал об этом: он был готов жить завтра так, как вчера; он пожертвовал своими отроческими годами; теперь он собирался принести в жертву молодость, зрелые годы, всю жизнь.
Однако придет пора жениться; молодая женщина принесла бы с собой в эту бесплодную пустыню веселье, радость, упоение молодости...
Увы! Где же ее найти, эту благословенную женщину, эту обожаемую Рахиль?
Должно ли ему отдать десять лет, проработав на Лавана?
Да и кого он видел?
Неужели довольно было подсесть к окошку, чтобы увидеть вдали, подобно земле обетованной, молодую девушку?
Впрочем, осмелится ли он жениться, честный и совестливый Жюстен?
Разве не сознавал он втайне, что женитьба — это договор, соединяющий не только руки, но и души?
Но принадлежала ли ему его душа?
И принадлежали ли ему его руки?
Мог ли он свободно привести в родной дом незнакомку? Одаряя супругу нежностью, не обездолит ли он тем самым мать и сестру? Это к вопросу о душе.
Жена — таковы уж требования молодости и кокетства — стала бы тратить на наряды часть скудного дохода. Это к вопросу о руках.
Нет, и брак не был бы спасением для несчастного Жюстена.
Значит, он обречен на вечное самопожертвование. Так Жюстен и жил.
Ему, может быть, суждено умереть от непосильного труда.
Он был к этому готов.
Или, может, положиться на милость Господню?
Увы! До сих пор Бог не баловал бедное семейство, так что Жюстен и его родные, не кощунствуя, были вправе усомниться в его милости!
Однако именно Божья десница подняла Жюстена из бездны.
Однажды июньским вечером, на исходе одного из тех солнечных дней, когда ликует природа, Жюстен возвращался со старым учителем с прогулки по равнине Монруж; молодой человек заметил крепко спящую среди колосьев пшеницы, маков и васильков девчушку лет десяти.
В образе этого ребенка Господь посылал Жюстену одного из своих ангелов как награду за беспримерную добродетель.
XVII "БОЖЬЯ ЦЕПОЧКА"
Девочка, на которую они набрели, сами того не ожидая, и перед которой остановились, озираясь и не видя поблизости ни отца ее, ни матери, одета была в белое платьице, перехваченное в талии голубой лентой.
Беленькая, с розовыми щечками, она лежала, как в колыбели, посреди уже пожелтевших колосьев, васильков и маков, сомкнувшихся вокруг ее головки, и была похожа на маленькую статую святой в нише или голубку в гнездышке.
Ее ножки, обутые в голубые башмачки, свешивались над придорожной канавой, и это свидетельствовало о крайнем изнеможении бедняжки.
Ее можно было принять за фею жатвы, отдыхавшую после утомительного дня под ласковым покровительством луны, которая, свершая свой небесный путь, с любовью взирала на нее.
Ее дыхание, хотя и несколько стесненное, было подобно нежнейшему восточному ветерку, и от этого чистого дыхания игриво колыхались склонившиеся над ней колоски.
Два друга готовы были целую ночь любоваться спящей девочкой, так восхитительно-хороша была эта свеженькая беленькая головка; однако вскоре мысль об опасностях, которым подвергалось вдали от людей очаровательное дитя, пробудила в них беспокойство.
Тщетно они искали глазами мать, что могла так беззаботно оставить в открытом поле, ночью, на ветру и в росе это хрупкое и нежное создание.
Должно быть, несчастная девочка находилась здесь давно, судя по тому, как крепко она спала. Два друга обыкновенно останавливались во время прогулок всякий раз, как находили что-либо занятное, и обсуждали заинтересовавший их предмет. Вот и теперь они уже с четверть часа, остановившись в нескольких шагах от девочки, ломали голову над вопросом, который, несомненно, заслуживал выяснения, но, однако, так и остался загадкой: свидетельствует ли внешняя привлекательность о красоте душевной?
И за все это время они так никого поблизости и не увидели.
Так где же была мать девочки?
Может, родители ребенка, утомленные долгой прогулкой (башмачки малышки были покрыты толстым слоем пыли) отдыхали где-нибудь неподалеку?
Жюстен и г-н Мюллер озирались по сторонам, но все напрасно. Они были совершенно убеждены, что мать девочки должна быть где-то рядом, как славка возле своего гнезда, и потому продолжали оглядываться.
Ничего!
Тогда они на цыпочках обошли поле, боясь разбудить ребенка.
Они исходили все поле вдоль и поперек, сделали еще круг, как доезжачие в поисках спугнутой дичи.
Ничего!
Наконец они решились разбудить малышку.
Та широко раскрыла голубые глазки, похожие на васильки, и уставилась на незнакомцев.
В ее взгляде не было ни страха, ни удивления.
— Что ты тут делаешь, дитя мое? — спросил г-н Мюллер.
— Отдыхаю, — отозвалась девочка.
— Отдыхаешь?! — в один голос переспросили Жюстен и старый учитель.
— Да, я очень устала, не могла больше идти, прилегла и уснула.
Итак, едва пробудившись, девочка не позвала мать!
— Вы говорите, что очень устали, милая? — повторил г-н Мюллер.
— О да, сударь, — встряхнув светлыми кудряшками, подтвердила девочка.
— Вы проделали долгий путь? — спросил школьный учитель.
— О да, очень долгий, — подтвердила девочка.
— Где же ваши родители? — не унимался старик.
— Мои родители? — переспросила девочка, садясь в траве и изумленно глядя на незнакомцев, словно они говорили о чем-то совершенно непонятном.
— Да, ваши родители, — ласково повторил Жюстен.
— Но у меня нет родителей, — только и сказала в ответ девочка, да так, словно говорила: "Не понимаю, о чем вы спрашиваете".
Друзья в удивлении переглянулись, потом с сочувствием посмотрели на девочку.
— Неужели у вас нет родителей? — продолжал расспрашивать старый учитель.
— Нет, сударь.
— Где же ваш отец?
— У меня нет отца.
— А ваша мать?
— У меня нет матери.
— Кто же вас воспитывал?
— Кормилица.
— Где она сейчас?
— В земле.
При этих словах из глаз девочки брызнули слезы, но плакала она совершенно беззвучно.
Двое расчувствовавшихся друзей отвернулись, скрывая один от другого собственные слезы.
Девочка сидела неподвижно, словно ожидая новых вопросов.
— Как же вы здесь очутились, совсем одна? — помолчав немного, спросил г-н Мюллер.
Она обеими ручками вытирала слезы; нижняя губка, выдвинувшись было вперед и округлившись, подобно чашечке цветка, для того чтобы собирать росу ее слез, снова была поджата.
Дрогнувшим голоском девочка отвечала:
— Я пришла из родных мест.
— А откуда ты родом?
— Из Ла-Буя.
— Недалеко от Руана? — улыбнулся Жюстен: он сам родился в окрестности Руана и обрадовался, что прелестная девочка — его землячка.
— Да, сударь, — кивнула она.
Ну, конечно, она была из Нормандии, свеженькая, с пухлыми щечками, бело-розовая, словно яблонька в цвету.
— Да кто ж вас сюда привел? — спросил старый учитель.
— Я пришла сама.
— Пешком?
— Нет, до Парижа я ехала на почтовых.
— До Парижа?
— Да, а из Парижа сюда добралась пешком.
— Куда вы идете?
— Я иду в предместье Парижа, оно называется Сен-Жак.
— Что вы собираетесь там делать?
— Мне нужно передать брату моей кормилицы письмо от нашего кюре.
— Чтобы брат вашей кормилицы взял вас к себе, вероятно?
— Да, сударь.
— Как же вы очутились здесь, дитя мое?
— Сказали, что дилижанс опоздал, и все остались на ночлег в предместье. А я увидела городские ворота и подумала, что где-то совсем рядом поля; я пошла в ту сторону и очутилась здесь.
— Итак, вы здесь решили переждать до утра и отправиться к господину, к которому у вас рекомендация?
— Да, сударь, все так. Я хотела дождаться утра. Но я две ночи не смыкала глаз и так устала! Я легла на землю и сейчас же уснула.
— И вы не боитесь спать под открытым небом?
— Чего же мне, по-вашему, бояться? — спросила девочка с доверчивостью, свойственной слепым и детям (они, ничего не замечая, ничего и не боятся).
— Неужели вы не боитесь ни холода, ни росы? — продолжал г-н Мюллер, пораженный ее безыскусными ответами.
— Да разве птицы и цветы не ночуют в полях?
Наивная рассудительность маленькой девочки, ее грациозность, ее несчастливая доля глубоко взволновали обоих друзей.
Само Провидение послало этого ребенка в утешение Жюстену, показывая, что есть под звездным куполом небес существа еще более обездоленные, чем он сам.
Друзья, не сговариваясь, пришли к одному и тому же решению: они предложили девочке пойти с ними.
Но девочка отказалась.
— Благодарю вас, добрые господа, но ведь письмо у меня не к вам.
— Это не имеет значения, — заметил Жюстен, — идемте, а завтра в любое время, дитя мое, вы отправитесь к брату своей кормилицы.
Молодой человек протянул сиротке руку, чтобы помочь ей перепрыгнуть через канаву.
Но девочка снова отказалась и отвечала, взглянув на луну — часы бедняков:
— Скоро полночь. Через три часа рассветет. Не стоит из-за меня беспокоиться.
— Уверяю вас, что вы не причиняете нам никакого беспокойства, — отозвался Жюстен, продолжая протягивать ей руку.
— Кроме того, — прибавил учитель, — если вас заметит отряд жандармов, вы будете арестованы.
— За что? — удивилась девочка с той детской логикой, что ставит порой в тупик самых искушенных юристов. — Я никому не сделала ничего дурного!
— Вас арестуют, дитя мое, — продолжал Жюстен, — потому что придумают, будто вы из тех скверных маленьких детей, которых называют бродяжками и арестовывают по ночам... Идемте же!
Но Жюстену и не нужно было говорить: "Идемте же!" Едва услышав слово "бродяжка", девочка перескочила через ров и, умоляюще сложив руки, с испуганным видом обратилась к двум друзьям:
— Возьмите меня с собой, добрые господа, возьмите меня с собой!
— Разумеется, милое дитя, мы вас возьмем, — поспешил успокоить ее старик. — Конечно же мы вас возьмем.
— Хорошо, хорошо, — подтвердил Жюстен. — Идемте скорее. Я отведу вас к своей матери и сестре. Они очень добрые: накормят вас ужином и уложат в теплую постельку... Вы, может быть, очень голодны?
— Я ничего не ела с утра, — сказала она.
— Ах, бедняжечка! — воскликнул старый учитель, и в его голосе послышался ужас и сострадание: он сам ел четыре раза в день с математической точностью.
Девочка неверно истолковала восклицание славного Мюллера, одновременно эгоистичное и сочувственное; она решила, что старик обвиняет кюре, который посадил ее в дилижанс, не дав в дорогу ничего съестного. Она поспешила его оправдать:
— Я сама виновата. У меня с собой хлеб и вишни, но я была так опечалена, что не смогла проглотить ни крошки... Да вот, поглядите, — прибавила она, доставая спрятанную среди колосьев небольшую корзинку; в ней в самом деле лежали чуть вялые вишни и немного засохший хлеб, — вот вам и доказательство!
— Вы, должно быть, слишком устали и не можете сами идти, — обратился Жюстен к девочке, — я вас понесу.
— О нет, — мужественно отвечала она, — я могу прошагать хоть целое льё!
Друзья и слушать ничего не желали. Несмотря на горячие возражения девочки, они скрестили руки и, когда она обхватила их за шеи, подняли ее над землей, приготовившись нести в этом паланкине из человеческой плоти, который дети называют "божьей цепочкой".
Они уже готовы были тронуться в путь, но вдруг девочка их остановила.
— Боже мой, я совсем потеряла голову! — воскликнула она.
— Что случилось, дитя мое? — спросил школьный учитель.
— Я забыла письмо нашего кюре.
— Где оно?
— В моем узелке.
— А узелок?
— Там, в колосьях, где я спала, рядом с венком из васильков.
Она спрыгнула наземь, перелетела через придорожную канаву, схватила узелок и венок, с удивительной ловкостью снова перепрыгнула канаву и уселась на руки к двум друзьям. Они двинулись к городским воротам, видневшимся впереди в двухстах-трехстах шагах.
XVIII О AITEAOZ![12]
Сиротка прижимала узелок к груди старого учителя, что затрудняло ему дыхание.
Он посоветовал девочке привязать узелок к петлице его редингота.
Оставались корзинка с вишнями и венок из васильков, который бедняжка сплела, чтобы хоть немножко развлечься в ожидании рассвета, до того как ее одолел сон. Она, верно, инстинктивно хранила венок в память о первых часах одиночества в этом мире.
Во всяком случае, Жюстен истолковал это именно так; когда девочка заметила, что цветы щекочут молодому человеку щеку, она собралась было выбросить венок, но в нерешительности взглянула на спутников, словно спрашивала их совета. Тогда Жюстен, чьи руки были заняты, взял венок зубами, положил его на очаровательную головку девочки и продолжал путь.
Как она была восхитительна, бедняжка! Черные костюмы двух друзей так хорошо подчеркивали белизну ее платья и ангельскую чистоту ее личика! Ее лоб при лунном свете словно лучился как у небесного создания.
Ее можно было принять за младшую сестру кельтской жрицы, которую с триумфом несут в священный лес.
Затихшая было беседа возобновилась. Жюстен наслаждался звуками мелодичного голоска девочки.
Он стал снова ее расспрашивать.
— Чем занимается брат вашей кормилицы, дитя мое? — промолвил он.
— Он каретник, — отвечала девочка.
— Каретник? — переспросил Жюстен, предчувствуя самое худшее.
— Да, сударь.
— В предместье Сен-Жак?
— Да, сударь.
— Я знавал там только одного каретника, он жил в доме под номером сто одиннадцать.
— Думаю, это он и есть.
Жюстен ничего не ответил. Вот уже около года как каретные мастерские в доме №111 были внезапно закрыты, теперь там жил слесарь. Жюстен не хотел ничего говорить, чтобы не волновать девочку: сначала надо было убедиться, что его предположения верны.
— Да, да, — продолжала девочка, — теперь я совершенно уверена, что он-то мне и нужен.
— Как же вы можете быть в этом уверены, дитя мое?
— Я не раз перечитывала адрес. Мне посоветовали запомнить его назубок на тот случай, если я потеряю письмо.
— А вы помните, кому оно было адресовано?
— Разумеется... Там было написано: "Господину Дюрье..."
Два друга молча переглянулись.
Полагая, что они молчат, потому что сомневаются в ее памяти, девочка прибавила с важным видом:
— Я давно умею читать!
— Я и не сомневаюсь в этом, мадемуазель, — заверил ее старый учитель.
— А чем вы собирались заниматься у брата вашей кормилицы?
— Работать, сударь.
— А что вы умеете делать?
— Все что угодно; я многое умею.
— Например?
— Шить, гладить, мастерить чепчики, вышивать, плести кружева.
Чем дольше говорили друзья с девочкой, тем большей симпатией проникались они к бедняжке, открывая в ней все новые достоинства.
Скоро они уже знали всю ее короткую историю, не лишенную, впрочем, таинственности.
Однажды ночью в Л а-Буе остановилась карета; было это в 1812 году; из кареты вышел человек, неся в руках бесформенный сверток.
Он подошел к двери небольшого дома, стоявшего одиноко на самом краю деревни, достал из кармана ключ, открыл дверь и, подойдя в темноте к кровати, положил туда сверток, а на столе оставил кошелек и письмо.
Потом он запер за собой дверь, сел в карету и уехал.
Часом позже славная женщина, возвращавшаяся с руанского рынка, остановилась у того же дома, достала ключ, отомкнула дверь и, к величайшему своему изумлению, услышала детский плач.
Она поспешила зажечь лампу и увидела, что на кровати что-то шевелится и плачет.
Это была годовалая девочка.
Женщина еще больше изумилась, стала оглядываться по сторонам и увидела на столе письмо и кошелек.
Женщина вскрыла письмо и с великим трудом — она не очень-то умела читать — разобрала следующее:
"Госпожа Буавен, Вы известны как добрая и порядочная женщина — вот что заставило отца, собирающегося покинуть Францию, доверить Вам своего ребенка.
Вы найдете в кошельке на столе тысячу двести франков: это плата вперед за первый год.
Начиная с 28 октября следующего года, дня рождения девочки, Вы будете получать через кюре в Ла-Буе по сто франков в месяц.
Эти сто франков будут Вам переводить из одного банкирского дома в Руане, и кюре будет их получать, не зная, кто их посылает.
Дайте девочке по возможности лучшее воспитание, а в особенности постарайтесь сделать из нее хорошую хозяйку. Один Господь знает, какие испытания ждут ее впереди!
При крещении ее назвали Миной; пусть носит это имя, пока я не верну ей еще и то, которое ей принадлежит.
28 октября 1812 года".
Госпожа Буавен трижды перечитала письмо, чтобы все хорошенько понять; наконец поняла, о чем в нем говорится, опустила письмо в карман, взяла девочку на руки, прихватила кошелек и бросилась к кюре — необходимо было посоветоваться.
Ответ кюре был недвусмыслен: он посоветовал мамаше Буавен принять дитя, посылаемое ей Провидением, и взрастить его со всем возможным старанием.
Госпожа Буавен вернулась домой с ребенком, кошельком и письмом.
Она положила девочку в чистенькую колыбель своего сына, скончавшегося два года назад; письмо она спрятала в бумажник, где хранился послужной список ее мужа, сержанта старой гвардии (в описываемое время он в составе четырехсоттысячного войска отступал из России), а деньги г-жа Буавен прибрала в тайник, где хранила сбережения.
О сержанте Буавене давненько никто не слыхал.
Погиб он? Или попал в плен? За всю войну бедная женщина не получила от него ни одной весточки.
Семь лет она исправно получала за девочку деньги; однако вот уже два с половиной года как ежемесячные переводы перестали приходить; впрочем, это не помешало славной женщине заботиться о Мине как о родной дочери.
Неделю назад г-жа Буавен умерла, поручив кюре заботу о ребенке. Она попросила послать девочку к своему брату, каретнику, с которым она не виделась очень давно, но знала его за порядочного человека.
Брата ее звали Дюрье; он занимал первый этаж дома № 111 на улице Предместья Сен-Жак в Париже.
Вот что со слов девочки знали друзья, входя в жилище Жюстена.
Когда Жюстен задерживался, его сестра не ложилась до его возвращения.
И на этот раз, как обычно, Селеста — так звали девушку — ждала брата.
Она отворила дверь на шум шагов и услышала, что ее зовут.
Селеста поспешно спустилась, и первое, что бросилось ей в глаза, — малышка Мина, которую представил ей брат.
Очарованная красотой девочки, она расцеловала ее еще до того, как спросила, откуда это дитя. Потом подняла девочку на руки и поспешно понесла ее в комнату матери.
Мать не могла увидеть девочку, но, как все слепые, она видела кончиками пальцев; она ощупала сиротку и убедилась в том, что девочка очаровательна.
Ее познакомили с историей Мины; Селеста сгорала от желания тоже ее послушать, но ей сказали, что девочка падает от усталости. Селеста должна была как можно скорее устроить ей в своей комнате постель. Это было нетрудно.
Она спустилась на первый этаж, взяла большую доску, на которой писали арифметические примеры, положила ее на четыре табуретки и расстелила сверху матрац. Госпожа Корби наложила сиротке на голову руки, трижды благословляя ее как мать, как слепая и как хозяйка дома, что должно было принести бедняжке счастье.
Девочка поспешила в постель и, едва коснувшись головой подушки, сладко заснула.
На следующее утро Жюстен еще до начала занятий отправился к соседу бывшего каретника, своему знакомому угольщику, славному малому по имени Туссен, и стал расспрашивать его о каретнике, жившем некогда в нижнем этаже дома № 111 до того, как там поселился слесарь.
Жюстен попал в самую точку: Туссен и Дюрье были друзьями.
Дюрье принял участие в небезызвестном заговоре Нантеса и Берара, имевшего целью захватить Венсенский форт, что послужило бы сигналом для участников другого заговора, замышлявшегося по всей Франции и не удавшегося вследствие откровений Берара.
Как утверждал Туссен, Дюрье был втянут в заговор неким корсиканцем по имени Сарранти, стремившимся во что бы то ни стало заручиться его поддержкой по той причине, что у каретника в мастерской было много наемных рабочих.
И вот накануне того дня, когда заговорщики должны были выступить, среди ночи Туссен услышал, как кто-то неистово колотит в дверь Дюрье. Туссен подбежал к окну и узнал незнакомца, который в последние дни частенько заходил в мастерские каретника.
Спустя мгновение он увидел, как они вышли вдвоем и бегом бросились к городским воротам.
С того самого дня Дюрье и Сарранти больше не появлялись.
Это было не единственное обвинение, тяготевшее если не над Дюрье, то над корсиканцем: от полицейских, приходивших к Дюрье с обыском, Туссен узнал, что Сарранти обвиняется не только в заговоре, но еще в краже и убийстве.
Дюрье и Сарранти довольно скоро добрались до Гавра (у них, должно быть, водились деньги) и там сели на корабль, отплывавший в Индию. С тех пор никто уже о них не слышал. Вероятно, прибавил Туссен, можно было бы попробовать разузнать о них у сына г-на Сарранти, ученика семинарии Сен-Сюльпис; впрочем, понятно, что сын вряд ли станет отвечать на вопросы незнакомого человека, зная, какое обвинение выдвинуто против его отца.
Дальнейшие расспросы Жюстена ни к чему не привели: больше Туссен ничего не знал.
Молодой человек вернулся домой, решив, что встречаться с г-ном Сарранти-младшим ни к чему.
И потом, его вполне устраивало, что каретник исчез. Жюстен хотел, чтобы он и не появлялся.
Как мы уже сказали, молодой человек вернулся домой и, впервые в жизни покривив душой, сказал матери и сестре, что принес дурную весть.
— Напротив, это благая весть, — возразила г-жа Корби, которой сын, читая Евангелие, объяснил смысл слов "О аууеЛо^!" — потому что Господь послал нам ангела!
Все трое возликовали в надежде оставить у себя в доме очаровательную сиротку.
В самом деле, их совместная жизнь, похоже, вступила в тот период, когда люди чувствуют, что их душевная близость, постоянно питаясь лишь собой, начинает слабеть без новых впечатлений.
Сами того не сознавая, они настоятельно нуждались в самообновлении. Они слишком долго просидели в одном ковчеге во время потопа, и вот прилетела голубка с оливковой ветвью в клюве.
Вот почему мысль о том, что можно оставить девочку у себя, вызывала у всех троих настоящее воодушевление.
Таким образом, эта семья, совсем недавно едва сводившая концы с концами, была готова еще туже затянуть пояса ради счастья оставить сиротку у себя.
Они считали, что, приняв это маленькое существо в семью, станут не беднее, а богаче.
XIX ПТИЦА В КЛЕТКЕ
Когда решение это было принято, Жюстен написал кюре, взявшем на себя заботу о девочке после смерти кормилицы, и подробно рассказал ему о том, как нашел Мину и что за этим последовало.
Он сообщил, что отныне справляться о девочке следует у него и его матери, потому что Мина будет жить в их доме.
Так как кюре после смерти г-жи Буавен был единственным человеком на свете, который интересовался — во всяком случае, так казалось — судьбой Мины, его просили дать согласие на удочерение сироты.
Ответ не заставил себя ждать; священник именем Всевышнего, великого и почти всегда — увы! — единственного ценителя человеческих добродетелей, поблагодарил славное семейство за добрый поступок.
Если он получит новости о неизвестном покровителе маленькой Мины, то немедленно даст знать школьному учителю.
Уладив это дело и тем самым успокоив свою совесть, благодетели девочки стали обсуждать, как будет жить Мина.
— Я займусь ее образованием, — предложил Жюстен.
— Я — ее душой, — сказала мать.
— А я — ее гардеробом, — прибавила сестра.
Потом они определили, когда будить девочку, когда ее кормить, когда она должна садиться за работу. Разговор брата, сестры и матери продолжался час, после чего Мина была окончательно принята в лоно семьи.
Если бы в эту минуту кто-нибудь пришел с требованием отдать ее, все три благородных сердца испытали бы глубокое горе.
Тем временем девочка спала, не ведая о том, что решилась ее судьба и что она бесповоротно останется в этом скромном, но гостеприимном доме.
Вдруг все трое участников маленького семейного совета вздрогнули: из комнаты, где спала Мина, донеслись рыдания.
Мать вскочила с кресла; Жюстен бросился к двери в спальню, но вошла туда только Селеста.
Мина была развита не по годам, ее можно было назвать почти девушкой, Жюстен не посмел войти и остановился на пороге.
Причиной этих слез — Боже мой! — было всего лишь сновидение. Девочка расплакалась потому, что ей приснился страшный сон: полицейские арестовали ее как бродяжку, она испугалась во сне и проснулась с плачем.
К несчастью, едва открыв глаза, она подумала, что дурной сон продолжается: мрачные стены комнаты угнетали ее. Где она, если не в тюрьме?
Как непохожа была эта спальня на ее комнатку в доме мамаши Буавен! Обоев там, правда, не было, зато стены сияли белизной; на окне не было желтых занавесок с красным греческим узором, украшавших спальню мадемуазель Селесты, но оно выходило в прелестный сад, утопавший в цветах весной, изобиловавший фруктами осенью, а летом залитый солнцем.
С наступлением тепла Мина спала с отворенным окном; каждый вечер она заботливо насыпала зерна на пол в своей комнате, и на заре ее будило пение птиц; они чирикали на дереве, ветви которого с любопытством заглядывали в ее окно; птички порхали над подоконником, подбирали зернышки возле самой ее кроватки.
О, благодаря такой жизни, этому воздуху, этим деревьям, этому солнцу, этим птицам девчушка стала белокожей и розовощекой, словно персик!
А ее комнатка, такая же белая, как приходская церковь, была, по мнению девочки (а ей не с чем было сравнивать), самой красивой комнатой, какую только можно было вообразить: она навевала Мине воспоминания об органе, курящемся ладане, пресвятой Деве Марии и прочих чудесах церкви, столь сильно действующих на юное воображение.
И вот, пробудившись, Мина на мгновение замерла, пытаясь сообразить, что с ней произошло.
Этот серьезный юноша, этот ласковый старик, которых она встретила, эта прогулка под луной на руках у двух незнакомцев — все казалось ей сном. Она хотела было спрыгнуть со своей постели и удостовериться в этом, но не посмела и, сдерживая рыдания, села там и попыталась собраться с мыслями.
В этой позе, которую непременно выбрал бы скульптор, пожелай он воплотить в камне Сомнение, и застала Мину добрейшая Селеста.
По щекам бедняжки еще катились две большие слезы.
— Что с вами, дорогое дитя? — спросила Селеста, обхватив девочку руками. — Вы плачете?
Мина узнала болезненно-бледное лицо, виденное накануне; она поцеловала новую знакомую и стала пересказывать свой сон.
Потом заговорила Селеста; спустя несколько минут Мина уже знала обо всем, что предпринял Жюстен, и ей стало известно, что каретник исчез и что письмо кюре ни к чему.
— Что же мне... — жалобно пролепетала несчастная сиротка и так растерянно посмотрела на Селесту, что та сама готова была расплакаться. — Что же?..
Девочка не смела договорить.
— Теперь ты будешь жить с нами, дитя мое! — проговорила Селеста. — Ты будешь нашей матери дочерью, а нам с Жюстеном — сестрицей. Хотя мы небогаты, мы сделаем все, чтобы тебе было у нас хорошо.
— О сестрица Селеста! — воскликнула девочка и снова поцеловала ее. — О братец Жюстен! — прибавила она и протянула ручки к юноше, просунувшему голову в дверной проем.
Жюстен не мог сдерживаться; он влетел в комнату и стал целовать эти маленькие ручки.
Мине стали рассказывать о том, какая ее ждет жизнь.
Увы! Это было далеко от приволья и свободы, к которым она привыкла в деревне; ее ножкам придется позабыть о том, как они пробегали утром по росе и цветам; она больше не увидит прекрасной и величавой реки, неторопливо несущей воды к морю и, как мы знаем, прокладывающей дорогу торговле и промышленности; но несчастная девочка вместе с тем чувствовала, что теперь ее окружают любящие сердца, теперь она ощущала на себе ласку, это нежное солнце души; пригревая не так жарко, как настоящее солнце, лишь оно способно заменить могучую и плодотворную силу настоящего солнца своим мягким теплом.
Пришло время начинать занятия; Жюстен спустился вниз, открыл дверь и впустил восемнадцать своих учеников.
Девушка осталась с Миной наедине.
Она хотела одеть девочку, но та спрыгнула с постели, легкая как птичка, и в мгновение оделась, желая доказать своей сестрице, что она не так мала, как кажется, и постарается как можно меньше забот причинить тем, у кого она оказалась на попечении.
Окончив туалет, девочка перешла в комнату г-жи Корби помолиться и позавтракать.
Что касается молитвы, все прошло благополучно: девочка знала все кроткие детские молитвы, прочитанные с чистой совестью, благоговением и любовью.
А вот за завтраком бедняжку Мину ждало глубокое разочарование.
Когда в доме у мамаши Буавен Мина чувствовала приближение голода, она спускалась вниз; летом она собирала фрукты, разламывала хлеб и заедала его абрикосами, сливами, клубникой, вишнями или персиками; зимой она отправлялась в хлев или курятник: в хлеву ее всегда ждало парное молоко — она сама доила Марианну; в курятнике она находила еще теплые яйца — она вынимала их прямо из-под курицы.
Мина понятия не имела, что за завтраком можно есть что-нибудь, кроме фруктов, молока или яиц.
В Париже об этом больше не могло быть и речи.
Вся семья пила по утрам ужасную жидкость; ее принято называть кофе с молоком, но почему? Не знаем, потому что в омерзительное пойло, которое мы готовы подвергнуть анализу ученых, входит гораздо больше воды, чем молока, и гораздо меньше кофе, нежели цикория.
И нельзя сказать, что этого никто не знает. Нет, всем это известно; предложите натурального кофе восьмистам тысячам парижан — они не станут его пить и скажут вам, что этот кофе — слишком возбуждающий напиток, а вот цикорий освежает!
Пусть так, но тогда скажите попросту: "Я пью на завтрак цикорий с молоком". Надо же иметь смелость!
Но нет, все предпочитают делать вид, что пьют кофе, потому что кофе не растет на Монмартре, а цикорий можно найти где угодно, кроме Мокки, Мартиники или острова Бурбон.
Если бы липа росла только в Пекине, а чай — исключительно в Париже, китайцы вывозили бы чай из Парижа, а англичане, французы и русские доставляли бы липовый цвет из Пекина.
Таково, во всяком случае, наше мнение; как видят читатели, у нас хватает решимости признаться в этом, как и во многом другом.
Итак, все семейство имело печальную привычку выпивать на завтрак чашку этого освежающего напитка; и если кто-то из наших читателей, торопясь приблизиться к развязке по принципу Горация: "Ad eventum festina"[13], принимает эти строки за шутку или лирическое отступление, мы спешим его уверить, что это только оправдательный документ в деле несчастной сиротки, дабы ей не вменили в вину то глубокое отвращение, которое она продемонстрирует по отношению к кофе с молоком в доме мамаши Корби, братца Жюстена и сестрицы Селесты.
Едва она поднесла ложку этой жидкости ко рту, как ком подкатил ей к горлу и ложка полетела на пол.
Все подумали, что она обожглась. Но это было не так. Напиток показался ей ужасным, невыносимым.
Напрасно ей говорили, повторяли, доказывали, что это молоко; она не могла этому поверить.
Нельзя сказать, что у нее был дурной характер; нельзя было никоим образом назвать ее упрямой; просто бедняжка привыкла сама доить славную черно-белую корову и полагала, что знает наверное настоящий вкус молока.
— Значит, в Париже и в Ла-Буе молоко разное, — вежливо предположила девочка, почтительно выслушав утверждение хозяев дома.
И в ее словах было столько неоспоримой истины, что никто не посмел ей возражать.
Поспешим заметить, что на следующий день Мина, увидев, что для нее нарочно приготовили суп, преодолела отвращение к неведомому напитку, предложенному ей накануне, и выпила его с мужеством, достойным восхищения.
В этом грустном доме ее удивил не только завтрак. Например, в тот самый вечер, как она впервые очутилась здесь, ей перед сном повязали голову косынкой, а ведь она привыкла спать не только с непокрытой головой, но и с распахнутым настежь окном; что же говорить об унылых стенах, словно источавших тоску и окутывавших ею все, будто плотным покровом.
Все изумляло ее: серые обои в комнате сестры, бурые занавески в спальне матери, суровое выражение лица молодого учителя, его голос, темная одежда, старинные пожелтевшие книги; все ей представлялось мрачным, даже виолончель; она разрыдалась, когда в десять часов вечера, засыпая в своей постели, вдруг услышала впервые ее звук.
Впрочем, благодаря замечательному характеру она не принимала все это близко к сердцу; она знала только деревенскую жизнь и, наделенная здравым смыслом, вполне допускала, что в городе все влачат столь же жалкое существование, как ее новые знакомые.
Итак, она себя убедила и в глубине души решила подчиниться законам полумонашеского существования бедного семейства.
Но, пожив немного в четырех сырых стенах, Мина — вольное дитя лугов и равнин — почувствовала, что ей не по силам то, к чему она сама себя приговорила: ни характер ее, ни возраст не позволяли ей принять эти грустные правила; у нее был слишком живой взгляд, в жилах ее текла слишком молодая и горячая кровь, ее юный голосок был слишком звонок, чтобы она могла вдруг приказать своему радостному голосу, похожему на утреннюю песнь жаворонка, утихнуть; своей крови, этому обжигающему соку юности, — течь помедленнее; своим глазам, сияющим звездам своей души, — угаснуть совсем или потускнеть. Как она ни сдерживалась, у нее из груди то и дело вырывался искренний, веселый, похожий на песню смех, и тщетно она пыталась подавить радость — это сокровище детства, которое она носила в своей душе.
Однажды она полола траву в сыром, мрачном дворе, вполголоса напевая мелодию, слышанную когда-то в родных краях. Тут в окне появилась сестрица Селеста; нож, который бедняжка Мина держала в руках, выпал, она побледнела и задрожала всем телом.
Забыться до такой степени казалось ей чудовищным святотатством — все равно что громко говорить в церкви.
В другой раз она осталась одна в комнате учителя, служившей, как помнят читатели, классной. Она раскладывала старинные книги, говорившие на непонятном ей языке и вызывавшие в ее душе почтительный трепет. Вдруг она заметила в углу виолончель, которую Жюстен не успел убрать в футляр.
Уже давно девочка ждала случая рассмотреть ее поближе.
И вот, когда она оказалась наедине с таинственным инструментом, ее охватили противоречивые чувства.
Она еще испытывала смутную неприязнь, памятуя о первом впечатлении, произведенном на нее печальными звуками виолончели, и была непрочь открыто проявить эту неприязнь.
Вместе с тем она не могла подавить в себе любопытство, сходное с тем, что заставляет детей просить показать им "птичку", живущую в часах. Ей не терпелось узнать, что происходит внутри у виолончели, когда проводят смычком по струнам.
Она, верно, и сама не могла бы определить, какое из двух ее чувств — любопытство или жажда мести — было сильнее.
Мы, будучи в пять раз старше ее, с уверенностью можем сказать, что в ней говорило любопытство. Мы беремся это утверждать хотя бы потому, что дальнейший ход событий подтверждает наше предположение.
Она кончиками пальцев взялась за лежавший на стуле смычок и, подкравшись к виолончели, принялась водить им по серебряным струнам, извлекая пронзительные звуки. Учитель, возвратившийся за какой-то забытой на столе бумагой, отворил в эту минуту дверь и неожиданно возник на пороге.
Никогда, дорогой читатель, никогда, возлюбленная читательница, никогда со времен первой грешницы, которую ангел-хранитель Рая застиг с поличным на воровстве в райском саду, — никогда розовые щечки под светлыми кудрями не заливал такой густой румянец!
Сердечко несчастной девочки стучало как у раненой птички!
Жюстен поспешил ее успокоить; он с улыбкой взял ее руку в свою и почти силой заставил провести смычком по струнам.
Но из-за пережитого страха неприязнь сиротки к несчастному инструменту переросла в лютую ненависть.
Мы только что назвали вас "возлюбленной читательницей", о прекрасные глаза, оказывающие нам честь читать эти строки. Знаете ли вы, почему мы любовно выбираем для вас самые изысканные эпитеты? Потому что вы как женщина способны переживать и понимать нежные и тонкие чувства. Мы же хотим, чтобы вы употребили свое влияние на наших читателей-мужчин, слишком нетерпеливых и готовых обвинить нас в том, что мы впадаем в идиллический тон.
Позвольте же нам открыть нашу мрачную драму этим вступлением, полным благоуханного цветения юности, ибо очень скоро мы подойдем к описанию страстей и преступлений, свойственных зрелому возрасту.
Не правда ли, вы позволите нам, возлюбленная читательница, еще хоть немного погулять вместе с вами по лугам, усеянным маргаритками и лютиками, послушать пение птиц и насладиться свежестью журчащих ручейков?
XX ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Описанные нами происшествия, равно как и другие, подобные им, отнюдь не настроили членов новой семьи Мины против девочки. Напротив, все это лишь утвердило Жюстена и его сестру в мысли, что бедная сиротка добра и сердечна. Они не наказывали Мину, а поощряли проявления ее очаровательной натуры, которые вносили луч радости в жизнь обитателей дома. Они старались обратить ее обязанности в удовольствия, превращать каждый ее день в праздник, ведь они, эти славные люди, понимали, что детство — это одно сплошное воскресенье!
Но мать была слепа, сестра часто болела, все трое перебивались с хлеба на воду.
Старшие могли одарить малышку только своей печалью; и тогда девочка по милости Бога стала дарить их своей веселостью.
В конце концов она забрала в их доме такую власть и так изменила всю их жизнь, как бывает лишь в природе с приходом весны: унылая жалкая лачуга будто переродилась;
так мало-помалу невидимые соки пробуждают почки, заставляют распускаться листья и цветы.
Жюстен, несмотря на усилия старого учителя — хотя, по выражению последнего, он и "потолкался среди людей", — совсем было погиб в неравной схватке между чувством долга и своими желаниями, между голосом совести и своими вкусами; как и предсказывал г-н Мюллер, он увял в самом расцвете молодости, в три года бедняга состарился на десять лет.
Не то — маленькая Мина: с ее появлением в доме все словно помолодели. Это в самом деле свойственно беззаботным детям — оживлять, омолаживать все вокруг: где ни пройдут их белые одежды, повсюду растет трава и распускаются цветы!
Не прошло и двух лет с тех пор, как Мина появилась в их доме, а он совершенно изменился.
Гуляя однажды на равнине Монруж, сухой и бесплодной, девочка высмотрела дюжину кустиков маргариток и диких фиалок.
Она аккуратно выкопала их ножиком вместе с корешками, завернула в платок и принесла в дом. И как же г-жа Корби обрадовалась, когда почувствовала в руках два цветочных горшка, напомнивших ей о солнце, которое ей уже не суждено было увидеть вновь.
В другой раз сосед-садовник подарил Мине два куста карликовых роз. Она опустила их в стаканы и поставила Жюстену на камин, когда тот вышел. Вечером учитель с радостным волнением увидел розы, напомнившие ему, что в Париж пришла весна в своем платье из цветов — весна, которой ему не дано наслаждаться.
И сестрицу Селесту ждал сюрприз: несколько раз она в разговоре с Миной мимоходом повторяла, что ей очень бы хотелось иметь котенка хотя бы для того, чтобы он ее развлекал, запутывая ее нитки, всегда такие уныло-ровные. Как же она была удивлена однажды вечером, обнаружив под подушкой белого котенка с голубым бантом на шее. Это все Мина: нашла котенка и сделала ему бант из своего пояса.
Каждый день она что-нибудь придумывала: весь изобретательный гений детства, казалось, сосредоточился в ее белокурой головке! Подобно зефиру, она жила будто лишь для того, чтобы пробуждать весну и заставлять расцветать вокруг розы и жасмин.
Вот почему без нее теперь ничто не обходилось: "Мина так сказала!", "Так Мине нравится!" — только и слышалось, ко всеобщему удовольствию, ее имя с утра до вечера.
Если нужно было что-то купить, полагались на ее вкус;
надо было принять решение — последнее слово оставалось за ней; задумывая что-то, сообразовывались с ее желанием.
Она был полноправным властелином их маленького государства, она повелевала тремя своими подданными, полагаясь на здравый смысл, доброе сердце и веселость.
А старшие чувствовали и признавали благотворное влияние девочки; умри кто-нибудь из них троих, двое других не были бы так безутешны, как если бы вдруг Мина уехала от них.
Они звали ее "веселым ангелом".
Это и в самом деле было похоже на постоянную сказку.
Однажды — в воскресенье, разумеется, — она отправилась в Мёдонский лес с г-ном Мюллером и Жюстеном; в дюжине футов от тропинки она заметила на ветке гнездо зябликов, прилепленное, как и положено, к стволу дерева. Глазки у Мины сейчас же загорелись, и она стала доказывать старому наставнику и Жюстену, что нет ничего проще, как влезть на дерево, что она это умеет и что, если они не достанут гнездо, она сделает это сама.
Жюстену в детстве это занятие было знакомо, и он конечно же не забыл его до такой степени, чтобы отступить теперь перед столь несложной задачей; одно его беспокоило: чтобы вскарабкаться на дерево, нужно было обхватить ствол руками и коленями, а он мог порвать редингот и панталоны.
Жюстен скреб затылок, поглядывая на гнездо.
Господин Мюллер сообразил, в чем помеха; он сбросил на землю свою широкополую шляпу и, привалившись спиной к дереву, подставил ученику руки.
Тот извинился, взобрался старику на плечи, поднял руку, снял гнездо и вручил девочке пять зябликов; та запрыгала от радости.
Есть в детях сила, против которой невозможно устоять; они проявляют порой такую властную волю, так умеют приказать, что ничего не остается, как подчиниться.
Прибавим, что именно старикам свойственна терпимость к детям, какой не знают молодые; наверное, это потому, что молодые не так далеки от этой счастливой поры, как старики.
Впрочем, она знала, что делала, эта маленькая упрямица, когда просила зябликов. И это гнездо было еще не все, что она облюбовала: она нашла неведомо где — в погребе или на чердаке — старую клетку, грязную и почерневшую, выскребла ее, вычистила и приготовила для будущих жильцов.
И вот, ни слова не сказав Жюстену, заметившему, что ей некуда будет посадить птенцов, она принесла своих зябликов домой. Не прошло и пяти минут, как она вбежала в
^ комнату к Жюстену с победоносным видом, держа в руках сверкающую клетку, в которой уже разместились зяблики.
После этого случая в ее головке надолго засела мысль, которой суждено было в один прекрасный день осуществиться: сделать с комнатой братца Жюстена то же, что она проделала с клеткой для зябликов.
Правда, на сей раз нужно было не мыть, скоблить и чистить, а переклеить обои, сменить занавески на окнах и переменить полог кровати.
У бедняжки ушел на это целый год. У нее вдруг появились самые разные капризы, и поскольку Жюстен ни в чем не мог ей отказать (а она просила то десять су на ленту, но так ее и не покупала, то двадцать су — на кружева, но они так и оставались у торговки), то таким образом по десять-двадцать су она скопила семьдесят франков; пятнадцать ушли на покупку жемчужно-серых обоев в голубую розочку вместо отвратительных старых, землистого цвета, засаленных, отсыревших, наводивших тоску, а на пятьдесят пять франков она купила муслиновые занавески и вместе с сестрицей Селестой, ставшей со временем ее сообщницей, подшила их; эти занавески пришли на смену старым — из зеленой саржи.
Комната преобразилась в один вечер, благодаря помощи торговца обоями (его сын учился у Жюстена). Он принял участие в этом фокусе, прислав четырех работников; они-то и переклеили обои, пока Жюстен развлекал щёголей и кокеток у заставы Мен.
Когда братец Жюстен вернулся домой, ему показалось, что его комната превратилась в алтарь. Он открыл было рот, чтобы возмутиться, выбранить своих дам, выразить недовольство, а Мина подставила ему свои румяные щечки, и Жюстену только и оставалось прижать ее к груди.
Так, шаг за шагом, унылое жилище молодело и веселело, подобно его обитателям.
Почувствовав свои силы, Мина объявила войну старым сборникам церковной музыки и сделала так, что Себастьян Бах, Палестрина, Гайдн возвратились в шкаф, а на смену прославленным классикам, которыми увлекался в юности Жюстен, пришла в один прекрасный день партитура комической оперы: Жюстен отыскал ее у букинистов в развалах на набережной.
Кого все это ошеломило? Кто чуть не упал в обморок? Господин Мюллер, когда, зайдя однажды вечером к Жюстену, застал его разбиравшим главные партии "Дона Полистана" — этой забавы в трех актах!
Но девочка заявила (видимо недолюбливая по старой памяти виолончель и стремясь ей отомстить), что самые веселые арии кажутся ей отвратительными на этом инструменте.
Судите сами, до какой степени Мина вскружила несчастному учителю голову, если он был готов исполнить любую ее прихоть; она долго подтрунивала над виолончелью Жюстена — а вы знаете, как бедный малый любил свой инструмент, печальную подругу своей печальной жизни! Но юная тиранка возымела над Жюстеном такую власть, что уговорила его отказаться от виолончели.
Ах, грустная то была минута, когда бедный Жюстен запер свою виолончель в деревянной темнице — инструмент был осужден на пожизненное заключение.
Вы мне возразите: он по-прежнему три вечера в неделю играл на контрабасе у заставы. Но благочестивый школьный учитель всегда считал эту музыку чересчур светской, и она не могла в полной мере возместить ему потерю Гайдна, Палестрины и Себастьяна Баха.
Не говоря ему ни слова, Мина своим существованием как бы подтверждала свое право навязать ему эту жертву. Чем была для него музыка?
Утешением в тоскливые минуты.
А зачем ему была возможность отвлечься, если он забыл, что такое скука? Зачем ему было утешение, если он избавился от тоски?
Разве Мина не была теперь его живой песней?
Наконец, если верно, как мы уже сказали, что беда не приходит одна, то так же верно, что и счастье редко является в одиночку.
И вот однажды осенним вечером, когда снова начались занятия в классе Жюстена, в его дверь постучала Фортуна и он настежь распахнул двери.
Капризная богиня явилась в образе благодушного нотариуса с улицы Лагарп.
Я уверен, что вы наивно спросите меня: "Неужели на улице Лагарп были нотариусы?"
Там были не нотариусы, а один нотариус.
Этого нотариуса звали метр Жарди.
У него было два сына, страстно желавших за год одолеть программу двух лет; иначе говоря, они хотели перескочить на следующий год из четвертого класса не в третий, а сразу во второй.
Бросить свой класс Жюстен не мог, он был занят весь день, да и юноши — тоже; о дневных занятиях нечего было и думать.
Молодые люди хотели брать уроки по вечерам, трижды в неделю, по два часа каждый.
Это чудесным образом устраивало Жюстена.
Три вечера в неделю он играл на танцах у заставы. Он не мог больше наслаждаться игрой на виолончели в своей комнате, ведь его домашний деспот запретил ему к ней прикасаться, вот он и пристрастился к этому занятию, позволявшему время от времени прижать к своей груди контрабас.
Контрабас — не виолончель; музыка в кабаре — не Бетховен; но, как известно, мы живем в этом мире не для того, чтобы видеть, как распускается душистый цветок всех наших желаний!
Жюстен предложил нотариусу три свои свободных вечера.
Нотариусу было все равно, четные это дни или нечетные: у нотариуса с улицы Лагарп нет ложи ни в Опере, ни в Итальянском театре.
Три вечера Жюстена были предоставлены в распоряжение метра Жарди.
Почтенный нотариус предложил пятьдесят франков в месяц, а в конце года — еще по пятьдесят франков, если его сыновей примут во второй класс.
Жюстен согласился на эти условия. Он взялся за сто франков в месяц совершить чудо.
Они договорились, что метр Жарди пришлет назавтра своих сыновей.
Нотариуса особенно подкупила чистота, царившая в комнате Жюстена.
Он дважды повторил:
— Прелестная у вас комнатка, господин Пьер Жюстен Корби!..
Будучи нотариусом, г-н Жарди с улицы Лагарп всегда называл своих собеседников полными именами.
— Прелестная у вас комнатка! Надо будет мне устроить такую же для госпожи Жарди.
А кто устроил эту приветливую комнатку, нравившуюся всем, даже нотариусу? Мина, веселый ангел!
Когда нотариус ушел, Жюстен, не замечая, что Мине почти уже пятнадцать лет, схватил ее в охапку и от души расцеловал со словами:
— Ты мой добрый гений, девочка! С тех пор как ты здесь появилась, счастье свило в нашем доме гнездо.
Славный молодой человек имел все основания так говорить: это была настоящая фея, настоящий гений, девочка с волшебной палочкой!
"С волшебной палочкой? — спросят меня. — Вы нам об этом ничего не говорили".
Напротив, дорогие читатели! Напротив, возлюбленные читательницы! Именно об этом мы вам и толкуем.
Волшебная палочка — это молодость!
XXI СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
Душный день сменился прохладной ночью. Утомленные полдневным зноем, птицы спрятались в своих зеленых дворцах и только теперь начали подавать голос: выслав вперед своих герольдов — соловья, славку, малиновку, они воспевали чудесную летнюю ночь. Огромные, похожие на птиц ночные бабочки — мертвая голова, павлиний глаз, тополевый бражник — бесшумно кружили над деревьями вместе с бесчисленными роями мелких насекомых, похожих на выродившихся потомков майских жуков; свежий восточный ветер всколыхнул равнинные цветы, закачавшиеся на нежных стебельках, будто исполняя танец в честь Всевышнего, создавшего луну и звезды, эти нежные и бледные ночные солнца. Маки обнимались с васильками, маргаритки тянулись к фиалкам, золотоглазая незабудка не сводила влюбленного взгляда с ручейка. Птицы, бабочки, цветы веселились на празднике природы.
Среди колосьев сидел или, вернее, лежал молодой человек, закинув руки за голову и подняв к небу глаза. Он наслаждался несказанной безмятежностью этой летней ночи.
У него словно на лице было написано, что он совсем недавно пережил высшее блаженство: еще угадывались следы пережитой накануне радости, уже отчасти поблекшей в ослепительных лучах радостей сегодняшних. Лишь равнодушный прохожий мог бы подумать, что на его лбу совсем недавно залегли морщины, похожие на борозды, оставленные плугом в свежевспаханной земле. Зато наблюдательный человек очень быстро разглядел бы, что в этих бороздах, на первый взгляд совершенно бесплодных, пробиваются самые что ни на есть зеленые и свежие мысли юности.
Этот молодой человек был не кто иной, как наш учитель...
Поспешим оговориться: не будем больше так его называть, ведь это звание влечет за собой целую цепь опасных заблуждений. Нет, теперь это уже не школьный учитель, не виолончелист, способный пробудить душу своего таинственного инструмента и заставить его плакать о своих печалях; нет, это уже не тот до времени состарившийся юноша, которого мы видели погруженным в заботы среди не знающей радости семьи. Теперь это полевая птичка, которую, мимоходом освободило из клетки само счастье, и птичка наслаждается в напоенном ночными ароматами воздухе только что обретенной свободой.
Одним словом, перед нами тот, кого мы еще в предпоследней главе называли "несчастным Жюстеном".
Поздравьте его, дорогие читатели и возлюбленные читательницы: он делает стремительные успехи на пути к счастью.
Как запоздавший было путник, он скоро наверстал упущенное время и нашел потерянную дорогу, он мчался вперед, оставляя позади нескончаемые годы одиночества. Дорога, отделяющая несчастье от удачи, очень коротка: наш герой за какие-нибудь полгода смог забыть о невзгодах всей своей жизни!
Может быть, он неожиданно разбогател? Или неизвестный родственник приехал к нему с далеких островов нарочно для того, чтобы назвать его своим племянником и объявить будущим наследником? Нет, наверное, труд — настоящий американский дядюшка, дающий всегда больше, чем от него ждешь, — вознаградил его этим приятным бездельем.
Разве он не должен был в этот день и час — то был четверг, бальный день — сидеть в оркестре кабаре, зажав в коленях поющий инструмент и опустив голову так, что волосы свисали, как ветви ивы, ведь мы видели его там в тот день, когда он ходил туда смиренно просить место контрабасиста?
Что же он делал здесь, в траве, когда лежал подобно пастуху Вергилия, Титиру или Дамету, а долг призывал его в другое место?
Нет, долг не призывал его больше в оркестр: два его ученика с триумфом перешагнули зиявшую бездну — третий класс, уроков у него было хоть отбавляй, сбережений хватило бы на то, чтобы купить целый дом, и вот уже месяца три-четыре назад он отказался участвовать в этом нестройном оркестре, куда прежде толкнула его нужда.
Он находился там, где ему и надлежало быть: нигде ему не было бы так хорошо; уронив голову в колосья и свесив ноги над придорожной канавой, он лежал на краю поля, ночью, при свете луны, на том самом месте, где пять лет назад он нашел девочку, которая будто по волшебству изменила жалкую лачугу в предместье Сен-Жак и, невинная Медея, заставила нашего героя помолодеть. В эту ночь исполнилось ровно пять лет со дня ее встречи с Жюстеном, и сейчас он благодарил Всевышнего за бесценное сокровище, посланное ему Небом.
Стоял июнь 1826 года; девочка превратилась в высокую стройную девушку.
Ей только что исполнилось пятнадцать лет.
Это был прекрасная русалка, похожая на тех, что любуются своим отражением в ручейках, каскадами срывающихся с Таунуса и впадающих в Рейн. У нее были длинные белокурые волосы золотистого оттенка спелых колосьев; васильковые глаза, подобные цветам, среди которых нашли ее спящей; красные как маки щеки, трепещущие, когда из ее ротика вырывалось девственное дыхание.
Она словно была соткана из всех полевых цветов, среди которых она провела ночь пять лет назад; она была похожа на живой букет, розовый и свежий.
Жюстен тоже очень похорошел; мы уже говорили, что для этого больших усилий и не требовалось: довольно было, например, пройтись по дороге счастья.
Ощущение довольства заставляло его перестать хмуриться, а со времени пережитых ненастных дней в его лице остались только мягкость и благородство.
Однажды он взглянул на свое отражение в зеркале и не узнал себя; он покраснел от удовольствия, увидев, каким он стал. С той поры, сознавая, как он похорошел благодаря красоте Мины, он стал тщательно заботиться о своей внешности, что раньше ему не было свойственно.
Да и было от чего похорошеть, живя рядом с этим восхитительным созданием.
Когда они по воскресеньям выходили вдвоем прогуляться на равнинах Монружа, на них было приятно смотреть: оба белокурые, она — в розовом, он — в белом; рука девушки, словно лиана, обвивает руку молодого человека, ее головка почти касается его плеча, будто она хочет найти опору. Ах, какая это была восхитительная гармония, какая очаровательная пара!
На них оглядывались — добросердечные горожане, разумеется, — с тем бесхитростным удовольствием, какое испытываешь, провожая взглядом людей прославленных или счастливых; те, кто принимал их за брата и сестру, восхищались ими; те, кто принимал их за жениха и невесту, им завидовали.
Они оба были так добры, так радостны, так молоды! Теперь, когда он был счастлив, Жюстену едва можно было дать двадцать пять лет.
К нему возвращалась его молодость, которой он так пренебрег, которой не успел насладиться; к нему возвращалась его прежняя беззаботная юность. Все маленькие мальчики были влюблены в Мину, а девочки — в Жюстена, все бедняки тянули руки к ним обоим.
Мы в подробностях поведали о том, как Мина из ребенка стала девушкой, как Жюстен снова обрел счастье; последуем же за ними обоими в их новую жизнь.
Девушка образованна: музыка, рисунок, история, древняя литература, современная литература — всему ее выучили, все она прекрасно усвоила. Ее возвышенный духовный мир развивался на благодатной почве, называемой семьей; ее вкусы столь же просты, как и туалеты, а выходное платье — воплощение ее души: оно безупречно белое и закрытое, как душа Мины, до сих пор закрытая для чувственных удовольствий, но, подобно чашечке цветка, готовая приоткрыться под солнечными лучами, ведь у юных девиц одно светило — любовь.
Итак, ее целомудренная душа заключена в девственночистое тело.
В сердце Жюстена, как на доброй почве, которую никогда не засевали, только что расцвела юная сильная любовь, уже тянущая к солнцу ветви.
Как же Жюстен догадался, что он влюблен?
Благодаря страданию — тем более невыносимому, что он отвык страдать.
Только что миновал праздник Тела Господня. В то время, когда люди еще позволяли Господу иметь собственный праздник, многие парижские улицы, в особенности улицы крупных предместий, были усеяны цветами, походили на ковер под ногами священника, что нес святые дары; стены были обтянуты сукнами или гобеленами; все было пропитано ароматом ладана; в воздухе кружились лепестки роз, разбрасываемые целыми пригоршнями; приходские церкви звонили во все колокола.
Восхитительное зрелище представляли собой под лучезарным небом вереницы девушек в белых покрывалах, двигавшиеся за клиром подобно древнегреческой феории. В те времена правительство еще не распределяло учащихся по провинциальным школам, вот почему к крышам домов в предместьях лепились, как гнезда ласточек, любопытные молодые люди, а некоторые свешивались из окон своих мансард, чтобы полюбоваться процессией невинных девиц в белых одеждах.
Мина шла вместе с другими девушками; Жюстен, прислонившись плечом к решеткам Вальде-Грас, ждал, когда она пройдет мимо.
Процессия подошла ближе.
Жюстен скоро отыскал глазами девушку, которая, словно самый высокий и красивый цветок в букете, была на голову выше подруг.
У него не было другой мысли, другого желания, кроме одного: посмотреть, как она пройдет мимо. Но будто сама судьба заставила его поднять глаза, и он увидел в одном из окон молодого человека, пожиравшего взглядом всю эту лебединую стайку.
Кого высматривал молодой человек? Жюстену почудилось, будто тот пришел ради Мины и смотрит только на нее. Краска бросилась Жюстену в лицо... Да нет, мы ошиблись: лицо его просто запылало, и с этой минуты бедный школьный учитель понял, что происходит в его душе.
Змея только что ужалила его в сердце, даже более того: в самое сердце сердца, как сказал Гамлет.
Он ревновал!
Жюстен спрятал лицо в ладонях, опасаясь, что девушка, пройдя мимо и заметив его румянец, могла понять причину его смущения.
Возвратившись домой, он заперся у себя и целых два часа просидел в одиночестве, пытаясь разобраться в своих чувствах.
Если этого времени ему не хватило, чтобы догадаться о любви к Мине, если он еще сомневался, как назвать это чувство, то испытанное им вскоре потрясение должно было развеять последние его сомнения.
Вечером, около десяти, исполнив все, что от нее требовалось в этот день, Мина, как обычно, спустилась вниз попрощаться перед сном с Жюстеном и подставить ему лоб для братского поцелуя.
Когда Мина вошла в комнату, молодой человек задрожал всем телом, его щеки запылали, точь-в-точь как у Мины в тот день, когда Жюстен застал ее со смычком в руке.
Он поцеловал ее в лоб, но при этом смертельно побледнел, как Мина в тот день, когда она запела в мрачном дворе и, застигнутая Селестой, решила, что совершает святотатство, такое же, как если бы громко заговорила в церкви.
Поцелуй Жюстена показался ему самому кощунственным, недозволенным, полным вожделения. Он в ужасе отпрянул, опрокинул стул и едва не упал на пол; девушка с беспокойством на него взглянула и заметила:
— Как ты нынче бледен, братец Жюстен! Да что с тобой? Ты не заболел?
О да, он заболел, бедный Жюстен!
Смертельная стрела любви поразила его в самое сердце.
После праздника Тела Господня, когда во время процессии он испытал ревность, перехватив наглый взгляд, брошенный на Мину незнакомцем, Жюстен казался странным: то он, к удивлению всей семьи, переживал неожиданные взлеты, радовался без видимой причины, едва не задыхаясь от счастья; то вдруг надолго впадал в упорное и мрачное молчание.
Никто никогда не слышал, чтобы он пел. И вот в один прекрасный день, поднимаясь в комнату матери, он пропел все ноты, какие только доступны человеческому голосу.
В другой раз кто-то увидел, что он, как школьник на каникулах, скачет по улице.
Наконец, он стал запираться в комнате и проводить там вечера напролет, и ни малейшего звука не доносилось из-за двери. Когда кто-нибудь решался заглянуть в замочную скважину, его видели то неподвижно сидевшим на одном месте, словно он окаменел, то расхаживавшим и размахивавшим руками, будто он лишился рассудка.
Эти и другие, еще более пугающие симптомы были замечены и сестрицей Селестой, и мамашей Корби, несмотря на ее слепоту.
Обе женщины решили открыться старому учителю, остававшемуся для этих простых существ Калхасом, как был он Ментором для Жюстена.
Господин Мюллер, давно разгадавший тайну молодого человека, решил с ним побеседовать.
Однажды вечером они заперлись, и добрый Мюллер — как старый доктор, которому не нужно даже щупать пульс, чтобы определить серьезность болезни, — решил сказать самое главное, чем едва не убил своего ученика; не успев прикрыть дверь, он начал так:
— Жюстен, мальчик мой, ты безумно влюблен в Мину!
XXII ЛЮБОВЬ ПОЙМАНА С ПОЛИЧНЫМ
Жюстен был ошеломлен.
Значит, тайна, которую он так глубоко прятал в себе, в которой не хотел признаться даже своему старому другу, была известна! А раз она открылась человеку, не живущему с Жюстеном под одной крышей, что же тогда говорить о матери и сестре? А может, его любовь не укрылась и от девушки?
Уверенность, что его тайна раскрыта, смутила и повергла Жюстена в уныние. Он, как преступник, опустил голову и заплетающимся языком ответил г-ну Мюллеру:
— Это правда.
Славный старик пристально на него посмотрел и пожал плечами.
— Подними-ка голову! — приказал он.
Жюстен покорно поднял голову и покраснел как ребенок.
— Посмотри мне в глаза, — продолжал Мюллер.
Жюстен посмотрел на него и пролепетал:
— Дорогой учитель..
— Вот что, дорогой ученик, — перебил тот, — а почему бы тебе было в нее не влюбиться?
— Дело в том, что...
— Кому же еще в нее и влюбляться, как не тебе? Не мне же, полагаю?! Так перестань валять дурака... Что тебя печалит в этой любви, почему ты делаешь из нее тайну? Разве ты не в том возрасте, когда принято влюбляться? А можно ли найти в целом свете девушку, более достойную твоей любви? Так люби, мой мальчик! Люби так, как ты работал: честно, страстно, безумно, если можешь! Говорят, любовь — прекрасное чувство!
— Разве вы никогда не любили?
— Мне всегда не хватало на это времени... Есть на свете много такого, чего ты не знаешь и что объяснит тебе любовь, если верить тому, что рассказывают. Когда у тебя есть работа и любовь, все освещается вокруг тебя и в тебе: ты работаешь и набираешь силу, ты любишь и становишься добрее.
Несмотря на отеческий тон старого учителя, Жюстен лишь качал головой и ничего не отвечал.
— Послушай, кто мешает тебе признаться? — как можно ласковее продолжал г-н Мюллер, взяв Жюстена за руки. — Что тебя удерживает? Кому, если не мне, можешь ты доверить первые радости своей души? Разве не довольно мы вместе страдали и плакали? Где ты найдешь более отзывчивое сердце, чем мое, или более благодарного слушателя, чем я? Может быть, ты еще сам как следует не разобрался в своем сердце? В таком случае, давай попробуем разобраться вместе, вернемся на десять лет назад... Помнишь, как мы гуляли в Версальском парке? Мы гуляли по ночам, глядя на небо, — люди всегда смотрят на небо, если чего-либо желают или опасаются, — итак, мы гуляли, глядя на небо и держась за руки. Однажды ты меня спросил: "Если я потеряюсь в этом лесу, как я найду дорогу?", а я ответил: "Не волнуйся, со мной ты никогда не собьешься с пути!" Вот и сегодня я могу сказать тебе то же... Дай мне руку, поищем дорогу вместе; не напоминает ли отчасти человеческая душа непроходимый лес, по которому мы брели в потемках?.. Ты потерялся; дай мне руку, и мы вместе найдем тропинку!
Жюстен бросился старику на шею и, обливаясь слезами, расцеловал его.
— Поплачь, сынок, поплачь! — произнес старый учитель. — От радости ли, от горя ли — хорошенько выплакаться не мешает: слезы освежают душу, как летние дожди в грозовые августовские дни; но после слез надо успокоиться: давай поговорим о приятном.
— О добрый учитель, любимый мой учитель!..
— Что такое?
— А вдруг она меня не любит?
— Ты с ума сошел?! — воскликнул старик — Почему же она тебя не любит? Она в том возрасте, когда душа поет свою первую песню; почему бы ее душе не запеть о тебе, мой добрый и достойный сын?
— Так вы, дорогой господин Мюллер, — спросил молодой человек, — полагаете, что она меня любит?
— Я в этом убежден, это так же верно, как то, что ты хоть и хороший человек, но глупец порядочный, если в этом сомневаешься.
— Да я же никогда ее об этом не спрашивал...
— И был совершенно прав! Разве об этом спрашивают? Разве мы с тобой, давние друзья, когда-нибудь чувствовали необходимость говорить, что любим друг друга? Ведь это и так видно, не правда ли?
— Да, вы правы, дорогой друг, она меня любит!
— Еще бы! Сомневаться в этом значило бы обидеть ее.
— О высокочтимый учитель! Если бы вы знали, каким счастливым делает меня ваша убежденность! Как она помогает мне поверить в свое счастье! Если бы вы знали... Я чувствую себя совсем другим человеком: успокоился, в голове прояснилось! Я начинаю иначе относиться к самому себе, могу в этом признаться только вам, мой друг; я... как бы это выразить... нравлюсь самому себе, когда чувствую себя любимым!
А вы, дорогие читатели, помните свою первую любовь? Разве не казалось вам, что вы испытываете к себе большую нежность, впервые признавшись женщине в любви? Разве не казалось вам, что вы стали другим человеком, более того — стали, наконец, самим собой в полной мере?
Ощущение счастья придает гордости; но до чего же эта гордость несдержанна! Хочется осыпать всех людей цветами!..
Долго еще продолжалась беседа молодого человека и старика: один сгорал от любви, а другой согревался у ее огня.
Но иногда вспышки радости в глазах молодого человека вдруг угасали, и он хмурился.
— Увы! — вскричал он во время одного из таких затмений. — Мне скоро тридцать! А ей еще нет шестнадцати: я ей почти в отцы гожусь! Не кажется ли вам, друг мой, что мы принимаем дочернюю привязанность, братскую нежность за настоящую любовь?
— Прежде всего, — отозвался старик, — тебе нет еще тридцати, если мне не изменяет память; но будь тебе даже тридцать лет, ты выглядишь не больше чем на двадцать пять: белокурые волосы молодят тебя лет на десять. Так не бойся своего возраста; пусть только Мине исполнится шестнадцать, наслаждайся без страха и стыда своей любовью. Ты это заслужил, сын мой, своей образцовой добродетелью.
И старик обнял Жюстена как родного сына.
Друзья договорились, что, пока Мине еще пятнадцать лет, они ничего не скажут ни ей, ни матери, ни сестре.
Мать и сестра непременно выдали бы тайну Жюстена, а друзья ни за что не хотели раньше времени пробуждать в детской душе Мины те же желания, что бились в сердце Жюстена.
Они решили, что Жюстен будет рассказывать о своих чувствах — и как можно чаще — только учителю, когда они будут оставаться наедине.
И с какими же предосторожностями друзья запирали дверь, опасаясь, как бы тайна не выскользнула, подобно благоуханному дуновению, за пределы классной, не добралась до верхних комнат, которые занимали женщины!
В те вечера, когда старый учитель приходил к ним, все было хорошо; неизменно в десять часов женщины ложились спать, мужчины, простившись с ними, спускались вниз, и г-н Мюллер не однажды спохватывался, что засиделся до полуночи, в сотый раз выслушивая любовные признания молодого человека.
Но когда дорогой учитель не приходил, с кем было Жюстену поговорить о любимой? С кем он мог поделиться сокровищем своей тайной радости?
Если бы он мог довериться виолончели!..
Иногда он доставал из шкафа, а потом из футляра свою давно замолчавшую подругу; он прижимал ее к груди, обхватывал коленями, бережно проводил пальцами по грифу и беззвучно водил смычком, не касаясь струн.
На губах его появлялась улыбка, потому что он представлял себе голос виолончели и слышал все, что она хотела ему сказать.
Но бывало и так, что этот молчаливый диалог его не удовлетворял; тогда он выходил в теплую летнюю ночь, прокрадываясь к двери и бесшумно отодвигая засовы. Он добирался до заставы и, полный жажды звуков, одиночества и движения, брел по полю, читая ветерку, полночному другу влюбленных и обездоленных, прекрасные строфы греческих и латинских поэтов, воспевавших любовь.
В одну из таких ночей, годовщину его встречи с Миной, он лег среди колосьев, васильков и маков, где мы и нашли его в начале предыдущей главы.
Это был вечер праздника, и Жюстен пришел, как мы уже сказали, возблагодарить Господа за то, что тот послал ему своего ангела.
Проведя около двух часов в поле, он услышал, как на церкви святого Иакова-Высокий порог пробило половину десятого. Он подумал, что еще успеет вернуться домой до десяти и пожелать Мине спокойной ночи, и бегом бросился к дому.
У входа его ждал мальчуган лет двенадцати, один из тех парижских мальчишек, портрет которого даст спустя три года великий поэт 1830 года Барбье.
— Сударь, — остановил он Жюстена, — вот ваш платок, вы его обронили.
— Мой платок?
— Да, он выпал у вас из кармана, когда вы выходили два часа назад.
— А ты его подобрал?
— Да.
— Почему ты не отдал его тогда же?
— Я не знал наверное, что этот платок ваш; здесь проходили сразу несколько господ. Я крикнул: "Эй, кто потерял платок?" Мне сказали: "Вон тот господин". Вы уже отошли на четверть льё. "Лучше уж я подожду его здесь, чем бежать за ним, — сказал я. — А вернется этот господин?" — "Разумеется". — "Где он живет?" — "Здесь". — "Кто он такой?" — "Жених вон той девчонки!" — "А она где живет?" — "У него". — "Ну что ж, — подумал я, — если он влюблен, а девчонка живет в его доме, он не задержится". Ну, я и остался вас ждать. И хорошо сделал, потому что вот и вы... Что же вы не берете свой платок?
— Давай, дружок, — кивнул Жюстен, — вот тебе за труды.
И он протянул мальчику десять су.
— Отлично! Серебряная монета, — обрадовался тот. — Я ее разменяю, не то старуха отнимет ее у меня; а так из десяти су я отдам ей пять и пять оставлю себе.
Мальчик пошел прочь, а Жюстен в задумчивости пытался вставить дрожащей рукой ключ в замочную скважину. Мальчуган вернулся и подергал его за полу редингота:
— Скажите, сударь...
— Что?
— Вы хотите знать, любит ли она вас?
— Кто?
— Девчонка, в которую вы влюблены.
— Так что же?
— Вам надо сходить к старухе на улицу Трипре, в дом номер одиннадцать. Если забудете номер дома, не беда: ее знает вся улица. Спросите Броканту, любой вам покажет, где она живет. За двадцать су она разложит вам большую колоду.
Жюстен уже не слушал. Он открыл дверь, захлопнул ее перед самым носом у мальчишки, и тот пошел к бакалейщику менять монету в десять су на десять монет по су или, вернее, на девять су с половиной, потому что в качестве комиссионного сбора он, несомненно, купил на два ливра патоки.
Потом он галопом помчался на улицу Трипре.
А Жюстен, вместо того чтобы подняться к женщинам и закончить вечер в кругу семьи, возвратился к себе, заперся, бросился в кресло и просидел так очень долго с тяжелым сердцем, полным мрачных предчувствий.
Его любовь больше не принадлежала только ему; его тайна оказалась в руках всего квартала.
Для жителей предместья Сен-Жак он был отныне "женихом девчонки".
XXIII МОСКИТЫ
В Индии, особенно в Коррахе, водится отвратительное насекомое, один из видов мошкары, под названием москит; его укус очень опасен: это насекомое не только пьет кровь, как цинзаро, или вонзает жало, как оса, оно откладывает в ранку на теле жертвы яички, а из них на третий день вылупляются черви, которые стремительно размножаются и съедают человека заживо — как правило, он умирает на двенадцатый-тринадцатый день.
Чтобы предупредить размножение этого насекомого, надо на место укуса, надрезав края раны скальпелем, наложить разжеванный лист табака.
Рядом с нами в Европе, а именно во Франции, в Париже, водятся, правда в другой форме, еще более опасные насекомые, чем коррахские москиты: это соседи.
Мы сказали "еще более опасные", потому что все же известно, как излечиться от укусов москитов, а вот укусы соседей непременно смертельны.
Сосед безжалостен, бессердечен, беспощаден; он входит к вам в дверь, если вы оставите ее незапертой, он влезает в окно, если вы оставите его открытым, и в замочную скважину, если вы закроете окно. Он лишает вас вашей тайны с тем же нахальством, с каким самый отъявленный ночной вор отбирает у вас деньги. Однако воры все-таки выгодно отличаются от соседей: первые хоть рискуют собственной жизнью, а вторые подвергают риску жизнь ближних.
Можно было бы, ограничившись жалобами, примириться с этим бедствием, как Индия смирилась с холерой, Египет — с чумой, англичане — с туманом, если бы естественная история могла доказать, что эта болезнь, именуемая соседством, присуща всему роду людскому; но ничего подобного: она свойственна лишь этой избранной стране, которая зовется Францией; повсюду — в Германии, в Англии, в Испании — к ближним относятся с уважением, потому что там уважают себя.
И только у нас во Франции можно сколько угодно прятаться в своей комнате, запирать дверь, закрывать ставни — вы все равно будете чувствовать рядом глаза и уши соседа.
Это вовсе не означает, что он желает вам зла; нет, ведь тогда его можно было бы судить по уголовному кодексу; чаще всего он причиняет вам зло, сам того не желая, хотя делает это всегда. Да нет же, он просто хочет посмотреть, что у вас происходит; вы должны держать перед ним отчет о том, что говорится, что делается у вас в доме; вы — его естественный должник, он — кредитор вашего счастья.
Вместе с тем все эти люди порядочны, если угодно: они чтут законы, значащиеся в кодексе, аккуратно исполняют все предписания полиции, исправно платят налоги, подметают порог своей лавочки зимой, протирают витрину своего магазинчика летом, держат наготове новую колодезную веревку на случай пожара, ходят по воскресеньям в церковь, по понедельникам — в театр, раз в месяц несут караул — одним словом, ведут себя как все, забывая, однако, что если скромность — наивысшая добродетель, то любопытство — чудовищный порок.
Мы еще не потеряли надежду увидеть через несколько лет — уже есть такие случаи, — как разумное население Парижа покидает казармы, называемые пятиэтажными домами, и, призвав на помощь железные дороги, расходится на десять льё вокруг города в отдельные дома, где слабости одних будут сокрыты, а достоинства других окажутся вне подозрений.
"Жених девчонки", прозвище, которое Жюстен услышал от мальчишки, было, в общем, не единственным из тех, что доводилось слышать учителю.
Не раз, проходя по улицам предместья под руку с Миной, он замечал, что соседи провожают его насмешливыми взглядами и двусмысленными ухмылками.
Красивая девушка выходит под руку с молодым человеком, не мужем и не братом — чем не повод позлословить, чем не искушение для языков предместья, пусть даже не самых ядовитых?
Девушку знали еще ребенком, что верно — то верно, но вдруг все забыли, что она выросла на их глазах, и теперь в ней видели особу, которая живет у молодого человека, но не выходит за него замуж.
Судачили по-всякому, почему молодые люди не женятся, не принимая во внимание, что Мине нет еще шестнадцати. Кое-кто решил, что в этом кроется какая-то тайна; самые любопытные, подобно стервятникам, набросились на несчастную семью в надежде выведать тайну. Их вежливо выпроводили; они стали строить предположения, от предположений перешли к разговорам, от разговоров — к сплетням. Наконец родилась откровенная клевета — она постучала в двери мирному семейству, она все росла и захлестнула его полностью.
Жизнь стала невозможной. Жюстен уже подумывал о переезде. Но покинуть этот квартал — означало бы, возможно, переехать в еще худший, а также подтвердить злые сплетни соседей. Да и легко ли было уехать из дома, где, несмотря на нищету, они были так счастливы? Пришлось бы расстаться с частью самих себя, ведь вся жизнь четырех человек была неизгладимо запечатлена на стенах этих двух этажей!
Нет, это было не только трудно, это было невозможно!
Пришлось отказаться от мысли съехать с квартиры, но надо было что-то предпринять, ведь не вырвешь же сразу все злые языки в квартале. Было решено спросить совета у старого учителя.
К нему всегда прибегали в трудную минуту.
Господин Мюллер явился в свое обычное время. Мину оставили наверху, мать спустилась в комнату сына, и вчетвером: г-н Мюллер, мать, сестра и молодой человек — стали держать семейный совет.
Мнение старого учителя было самым простым:
— Сделайте завтра оглашение о бракосочетании и через две недели пожените их.
Жюстен радостно вскрикнул.
Мнение г-на Мюллера отвечало его тайным желаниям.
Действительно, свадьба сейчас же убила бы все подозрения. К чему сомнения: не нужно больше ничего придумывать, это средство верное, хорошее, единственно возможное.
Все готовы были согласиться, но вмешалась мать.
— Минутку! — сказала она. — У меня только одно возражение, но довольно серьезное.
— Какое? — спросил, меняясь в лице, Жюстен.
— Не может тут быть никаких возражений, — попытался остановить ее старый учитель.
— Ошибаетесь, господин Мюллер, одно есть, — продолжала упорствовать г-жа Корби.
— Какое же? Слушаем вас.
— Говорите, матушка, — дрогнувшим голосом пробормотал Жюстен.
— Мы не знаем, кто родители Мины.
— Это лишний довод, что она может сама решать свою судьбу, поскольку ни от кого не зависит, — сказал старый учитель.
— И потом, — робко осмелилась заметить Селеста, — родители Мины от нее отказались с того дня, как перестали платить госпоже Буавен обещанные деньги.
Это замечание, произнесенное едва слышно, боязливо, тем не менее показалось Жюстену великолепным.
— Ну да, — вскричал он, — Селеста права!
— Еще бы не права! — поддержал его г-н Мюллер.
— Она почти права, — заметила г-жа Корби, — я предложу нечто такое, что удовлетворит всех.
— Говорите, матушка! — попросил Жюстен. — Мы все знаем, что вы олицетворение мудрости.
— По закону жениться или выйти замуж можно самое раннее в возрасте пятнадцати лет и пяти месяцев. Если вы женитесь сейчас, это будет выглядеть так, словно вы только и ждали, когда наступит законный срок, и ваша торопливость может быть дурно истолкована.
— Это так, Жюстен, — проворчал учитель.
Жюстен вздохнул.
Сказать ему, в самом деле, было нечего.
— Через семь месяцев, пятого февраля будущего года, Мине исполнится шестнадцать. Для женщины это почти зрелый возраст. Очень важно, сын мой, чтобы все знали: Мина сама выходит замуж по доброй воле; если ты женишься сейчас, это будет выглядеть как брак по принуждению.
— Значит... — прошептал Жюстен, затрепетав от радости.
— Так как кюре из Ла-Буя является в настоящее время опекуном Мины, ты заручишься заранее согласием этого достойного пастыря, и шестого февраля будущего года Мина станет твоей женой.
— О матушка, милая матушка! — вскричал Жюстен, упав на колени; он обнял мать и покрыл поцелуями ее лицо.
— А пока?.. — спросила Селеста.
— Да, — откликнулся учитель, — пока разговоры, сплетни, клевета, как и раньше!
— Надо где-нибудь поселить Мину на это время.
— Где-нибудь!.. Матушка! Да где же нам поселить бедную девочку?
— Необходимо поместить ее в пансион, все равно какой, лишь бы она не оставалась здесь.
— Я не знаю никого, кому я мог бы доверить Мину! — воскликнул Жюстен.
— Погодите, погодите! — вспомнил старик. — У меня есть кое-кто на примете.
— Правда, дорогой господин Мюллер? — протягивая руку в ту сторону, где сидел учитель, вскричала г-жа Корби.
— Что вы имеете ввиду? Что можете нам предложить? — нетерпеливо спросил Жюстен.
— Что я могу предложить, дорогой Жюстен? Черт побери, единственное, что возможно в затруднительном положении, в каком мы оказались. У меня в Версале есть давняя знакомая, я знаю ее тридцать лет; это, пожалуй, та женщина, которую я полюбил бы, — со вздохом прибавил учитель, — если бы у меня было на это время; она как раз держит пансион для юных девиц. Мина побудет у нее эти семь месяцев, а раз в неделю... да, раз в неделю ты будешь с ней видеться в приемной. Тебя это устраивает, мой мальчик?
— Придется на это пойти! — отозвался Жюстен.
— Черт возьми! Какой у тебя стал тяжелый характер! Еще полгода назад ты бы мне руки целовал!
— Я и теперь принимаю ваше предложение с признательностью, добрый и дорогой друг, — сказал Жюстен, протягивая обе руки г-ну Мюллеру.
— А вы что скажете, дорогая госпожа Корби? — спросил учитель.
— Скажу, что завтра вы должны отправиться вместе с Жюстеном в Версаль, дорогой господин Мюллер.
На этом они расстались, назначив свидание на улице Риволи, иными словами, на станции, где в те времена садились в "гондолы" — единственные экипажи, что наряду с "кукушками" (те отправлялись с площади Людовика XV) перевозили пассажиров из Парижа в Версаль.
Поговорив четверть часа с хозяйкой пансиона, молодой человек убедился в том, что Мюллер нисколько не преувеличивал достоинств своей старинной подруги.
Видя, какое участие принимает г-н Мюллер в ее будущей воспитаннице, милая женщина согласилась принять девушку на условиях, что семья внесет деньги только за питание, и было принято решение, что Мину привезут в следующее воскресенье.
Два друга вышли из пансиона, очарованные его хозяйкой, и отправились домой пешком через Версальский лес, навевавший приятнейшие воспоминания.
Мы уже говорили, что от Мины скрывали этот семейный заговор: бедная девочка не имела о нем ни малейшего понятия. До нее доносились какие-то перешептывания, она перехватывала непонятные ей взгляды; она смутно чувствовала, что ее окружает какая-то тайна, она ее почуяла, если можно так выразиться, но не могла обнаружить следы.
И вот эта новость обрушилась на Мину однажды утром как удар грома. Она никогда не предполагала, что ее жизнь может измениться, так она привыкла ко всему окружающему ее; как стена во дворе была ее горизонтом, так ее жизнь в семье Жюстена была всем ее будущим; она никогда не задумывалась над тем, что перед ней могут открыться другое будущее или иные горизонты. Она сознательно закрывала глаза на то, что ждет ее впереди, и, когда падали листья, вспоминала только о том, что приближается зима, а когда распускались молодые листочки, видела в этом лишь возвращение весны.
Однажды мать Жюстена ее спросила:
— Что с тобой будет, когда я умру, дитя мое?
— Последую за вами, — с улыбкой отозвалась Мина. — Должен же кто-нибудь служить вам на небе, как на земле?
— На небесах, — заметила мать, — я буду в окружении всех ангелов рая.
— Верно, — согласилась Мина, — но ведь никто из них не жил с вами пять лет, как я.
Для нее так же невозможно было расстаться с несчастной слепой, как покинуть этот дом. Вот почему она с глубокой печалью встретила известие о неожиданном отъезде. Сначала о причинах этого шага ей рассказали не очень вразумительно. Она была так наивна, что не могла понять, как можно злословить о ее прогулках. Она была столь чиста, что не подозревала, какие выводы можно сделать из ее совместного проживания с молодым человеком.
Она простодушно готова была ночевать в его комнате, не думая о том, что кто-то может найти в этом повод к кривотолкам.
Напрасно ей пытались объяснить, что таков обычай, непреложный, как закон: шестнадцатилетняя девушка не должна жить под одной крышей с молодым человеком. Одно и то же говорили ей мать, сестра, даже старый учитель, но она не хотела их понимать и так и не приняла этот нелепый принцип: кто-то мог поставить в вину Жюстену, что он живет в одном доме с ней, но смотреть сквозь пальцы на то, что он живет вместе с Селестой.
Итак, она с щемящим сердцем и со слезами на глазах собиралась покинуть унылое жилище, ставшее для нее настоящим раем.
XXIV ПАНСИОН
В первый четверг июля 1826 года Жюстен в сопровождении старого учителя отвез Мину в Версаль.
В пути девушка не разжимала губ; она была бледна, мрачна и почти не поднимала глаз.
Видя, как она печальна, Жюстен почувствовал, как силы ему изменяют, и решил было не обращать внимания на пересуды и отвезти ее назад.
Он поделился своими мыслями с г-ном Мюллером.
То ли старый учитель понял, что Жюстеном движет, помимо его воли, эгоистический интерес, то ли, имея более свободную и сильную волю, он решил довести дело до конца, но г-н Мюллер выдержал натиск молодого человека и упрекнул его за его опасную слабость.
Они прибыли в пансион.
Невинно осужденный не выглядит так подавленно на эшафоте при виде орудия казни, как выглядела бедняжка Мина, когда увидела высокие каменные стены, окружавшие пансион, и железные решетчатые ворота.
Но стены поросли плющом и ломоносом, а острия решетки были позолочены.
Госпожа де Сталь, сидя на берегу Женевского озера, оплакивала ручеек на улице Сент-Оноре.
Несчастная Мина даже во дворце оплакивала бы дом в предместье Сен-Жак.
Она смотрела на своих спутников сквозь слезы.
Бог мой! Сколько горя во взгляде! Наверное, сердца у них были из камня, как стены пансиона, если они не растаяли под взглядом ее прекрасных умоляющих глаз.
Долго, проникновенно смотрела Мина на них обоих, переводя взгляд с одного на другого, и не знала, к кому в эту роковую минуту обратиться: к тому, кого почитала отцом, или к тому, кого она называла братом.
Жюстен готов был сдаться; он отвел глаза, потому что ее взгляд пронзал ему сердце.
Мюллер взял его за руку, с силой сжал ее, что надо было понять так: "Мужайся, мой мальчик! Я тоже готов вот-вот разрыдаться и задыхаюсь! Но ты видишь: я сдерживаюсь. Мужайся! Если мы проявим слабость, мы пропали! Давай будем сильными, а когда вернемся домой, поплачем вместе!"
Вот что означало рукопожатие старого учителя.
Мину проводили к хозяйке пансиона, та поцеловала ее скорее как дочь, нежели как воспитанницу.
Увы, этот поцелуй не успокоил Мину, а опечалил.
Так вот он каков, этот мир! Чужая женщина имеет право поцеловать вас, словно она вам мать! Мина вспомнила о своем первом пробуждении в комнате сестрицы Селесты: обои в кабинете хозяйки пансиона были очень похожи на те, что так угнетали когда-то бедную девочку.
Первые часы одиночества пришли ей на память, и она почувствовала себя как никогда сиротливой и всеми брошенной.
Жюстен поцеловал ее в лоб, старый учитель расцеловал в обе щечки, и пять минут спустя бедная Мина услышала, как захлопнулись ворота пансиона; сердце ее сжалось, как у преступника, за которым со скрежетом задвигают запоры темницы.
Хозяйка пансиона усадила ее рядом с собой, взяла ее руки в свои и попыталась утешить, догадываясь, что творится у девушки на душе.
Но простые слова утешения не смягчили, а раздражили ее: Мина попросила ее проводить в предназначенную для нее комнату (два друга предложили хозяйке пансиона поместить Мину отдельно от других пансионерок, избавив тем самым от неудобств, связанных с общей спальней).
Желание девушки было исполнено — ее отвели на место. Это был настоящий будуар воспитанницы, слишком кокетливый для монашки, недостаточно изящный для светской девицы; набивные обои в голубой цветочек напоминали ей те, что она выбрала для комнаты Жюстена; часы на камине меж двух алебастровых ваз с искусственными цветами представляли Поля, переводящего через поток Виргинию; гравюра, изображавшая муки святой Юлии, покровительницы хозяйки пансиона, украшала стену или, точнее, как нам кажется, из-за черной рамки просто выделялась на ней темным пятном. Полдюжины легких бамбуковых плетеных стульев разных цветов, кушетка с балдахином и занавесками из голубого ситца, фортепьяно между окном и камином, один-два простеньких столика дополняли меблировку комнаты, которой могла бы при необходимости довольствоваться не только Мина, но и девушка, привыкшая к роскоши и удобствам.
Девочка и сама была поражена безмятежностью, словно исходившей от стен комнаты. Если уж суждено одиночество, то лучше, чтобы оно было окрашено цветением и благоуханием.
Да, именно цветением и благоуханием: из приоткрытого окна открывался прекрасный вид на огромные сады со множеством деревьев и цветов.
Вдруг снизу до Мины донеслись громкие радостные крики.
Она подошла к окну.
Наступило время рекреации, и около тридцати девочек выбежали во двор, чтобы как можно веселее провести этот час — долгожданный солнечный луч во мраке нескончаемых уроков.
Двор был посыпан песком и обсажен липами и кленами.
Сквозь листву деревьев, как через колышущееся покрывало, Мина наблюдала за тем, как бегает, играет, прыгает, резвится на все лады шумная стайка.
Старшие девочки гуляли парами в отдаленных уголках. О чем говорили эти четырнадцатилетние сердца и уста?
О, как бы она тоже хотела иметь подругу! Ей можно было бы поведать сердечную тайну, которую не захотел выслушать братец Жюстен.
Однако громкий смех, радостные крики младших девочек подействовали на нее совсем не так, как соболезнующие взгляды старинной подруги г-на Мюллера. Воспоминания первых лет жизни вдруг проснулись в ее душе. Она снова увидела домик в Ла-Буе, мамашу Буавен, бело-черную корову, поившую таким вкусным молоком, какого она нигде больше не пила; доброго кюре, которому исполнилось шестьдесят четыре года, когда она с ним рассталась, а теперь уж ему, должно быть, все семьдесят. Стоя у окна, она подумала, что многие из этих богатых девочек, гулявших и шептавшихся по углам, были бы очень рады занять такую же, как у нее, отдельную комнату в этом аристократическом пансионе. Наконец, она подумала о славных людях, которые подобрали ее на дороге, нищую, одинокую, осиротевшую, и привели в этот дом, подняли на такую высоту! Она вспомнила о святой женщине — матушке Корби, о доброй сестрице Селесте, о славном старике-учителе и, конечно, о Жюстене! Она видела, что он плачет, чувствовала, как дрожит его рука; целуя ее в лоб, он так нежно шепнул ей: "Смелее, дорогая Мина! Полгода пролетят очень скоро!"
Тогда... Тогда она решила, что ее сожаления — всего лишь эгоизм, что ее печаль — всего лишь неблагодарность. Она огляделась, увидела чернила, перо и бумагу, взяла все это в руки и села за стол. Она написала домой в предместье Сен-Жак трогательное письмо; она благодарила и благословляла своих благодетелей.
Письмо пришло вовремя. Несчастный Жюстен изнемогал. Этого привета от девушки оказалось довольно, чтобы вывести его из того состояния, в какое он впал после отъезда Мины.
А какое это было мрачное путешествие, когда он со старым учителем возвращался домой!
Они пошли пешком по живописной дороге, надеясь отвлечься или хотя бы молча поразмышлять.
Друзья не обменялись ни единым словом; их можно было принять за изгнанников, бредущих наугад, не знающих цели своего пути.
Господин Мюллер, бодро державшийся перед Миной, теперь, оставшись наедине с Жюстеном, совсем потерялся.
На полпути из Версаля в Париж он попросил ученика поддержать его, хотя раньше обещал ему свою поддержку.
Когда они возвратились домой, там царило отчаяние: то был вечер траура.
Если бы Мина уехала навсегда, если бы ей грозила смертельная опасность, если бы она умерла, ее оплакивали бы так же, как теперь, когда она была всего в пяти льё от Парижа, живая и невредимая.
Старик в присутствии женщин вновь обрел потерянное было мужество и попытался их утешить. Но он был неловок — чувствовал, что его слова не достигают цели, что он говорит неискренне, не от души; он не выдержал и зарыдал вместе со всей семьей.
Да, семьей: разве не была Мина членом их семьи?
Тогда г-на Мюллера стали обвинять в том, что он недостаточно обдумал свой план, удалив девушку; что он слишком легкомысленно поторопился с исполнением этого плана; что он ускорил ее отъезд, когда в этом еще не было нужды; что можно было поместить сироту в парижский пансион и видеться с ней ежедневно. На него взвалили ответственность за последствия этого события — всем казалось, что общее горе уменьшится, если переложить вину на доброго г-на Мюллера.
Славный старик выслушал эти запоздалые упреки, с нечеловеческим героизмом взвалил их на свои плечи и ушел как козел отпущения, уносящий на себе грехи всего племени.
Как только г-н Мюллер ушел и трое несчастных остались одни, на них словно навалилась беспросветная тоска первых лет совместной жизни в Париже: она была похожа на летучую мышь, раскинувшую свои траурные крылья и бесшумно парившую над ними!
В самом деле, с отъездом веселой девчушки стены дома снова померкли, наводя тоску, как опустевшая клетка певчей птички.
Все в доме помнило Мину и словно говорило: "Она была здесь! Ее больше нет!"
Мать!
Мать всегда имела девочку под рукой; ей даже не было нужды звать Мину; минуло шесть лет с тех пор, как г-жа Корби, желая облегчить участь своей больной дочери, переложила на маленькую Мину заботы по ведению хозяйства. Она полагалась на нее больше, чем на родную дочь. И теперь у нее разрывалось сердце при мысли, что гибкой тростиночки, на которую опиралась ее старость, больше нет рядом.
Сестра!
Сестра, тщедушная и болезненная, не засыпала вечером, если не услышит голосок прелестного маленького существа, одним своим появлением заставившего ее поверить в то, что можно в этом мире любить кого-то, кроме матери и брата, заставившего ее почувствовать вкус к жизни. Сестра забывала, что Господь обделил ее милостями, когда думала о радостях, которые он дает другим; она привыкла к тому, что вокруг нее, почти всегда неподвижно сидящей на одном месте, вертится, бегает, прыгает этот зажженный порох, что зовется ребенком.
И брат!
Бедный Жюстен, снова ставший унылым школьным учителем, — разве он не больше всех страдал без Мины?
Когда он вернулся в свою комнату, ту самую, что показалась Жану Роберу и Сальватору такой девственно-чистенькой, перед его мысленным взором были прежние голые стены, пустой камин — мрачное зрелище, символ ушедших радостей, потерянных надежд.
Он, не раздеваясь, бросился на кровать и выплакал все слезы, долго сдерживаемые в присутствии матери и сестры.
Еще бы! Ведь он не увидит, не услышит больше эту девочку, утреннюю птичку, своего соловья, своего жаворонка, будившего его песней по утрам в один и тот же час; этого ангела, который перед сном, прежде чем сложить крылышки, подставлял Жюстену свой чистый лобик! Боже мой! Боже мой!
Какую страшную ночь он провел и какое мрачное пробуждение ждало его на следующее утро!
К счастью, как мы сказали выше, от Мины пришло письмо. Это была величайшая милость на трех страницах, восхитительная песнь.
Девушка просила у них прощения за свой отъезд, словно она, силой увезенная в Версаль, была в этом виновата!
Она благодарила их за все хорошее, что они для нее сделали, будто это не она осчастливила их своим появлением!
Одним словом, это были ангельские мысли, записанные рукой ребенка.
Все это немного утешило несчастного Жюстена.
И вот, как он уговаривал Мину, так теперь надежда говорила ему: "Мужайся! Полгода пролетят очень скоро".
Впрочем, как знать, что может выпасть за полгода из полураскрытой руки Судьбы?
XXV ГЛАВА, В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДИКАРЯХ ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ СЕН-ЖАК
Все со временем вернулись к привычной жизни: Жюстен, его мать и сестра снова впряглись в цепь, которой были когда-то скованы, и опять потянули каторжное ядро своего нелегкого существования.
Правда, теперь оно было еще печальнее, чем в самом начале: однообразие их теперешней жизни усугублялось тем, что они лишились отрады прошедших дней.
Они с трудом дождались конца лета, считая каждый день до возвращения девушки.
Как уже было сказано, это возвращение было назначено на 5 февраля 1827 год. На следующий день должно было состояться бракосочетание.
Они написали славному кюре из Ла-Буя, прося у него разрешения и благословения на брак.
Он дал свое согласие, прибавив, что сделает все возможное, чтобы в назначенный день приехать и благословить молодых лично.
Итак, 6 февраля Жюстен будет счастливейшим из смертных. Вот почему он первым взял себя в руки.
Однажды, навестив вместе с г-ном Мюллером Мину в Версале, он нашел ее такой похорошевшей, такой веселой, такой ласковой, что с этого времени сумел до какой-то степени вернуть семье радость.
Еще пять недель ожидания, еще тридцать семь дней терпения, и Жюстен достигнет зеленеющей вершины человеческого счастья.
И потом, скоро у всего семейства появится новое развлечение.
Подготовка к свадьбе!
Жюстен и его мать полагали, что Мину следует заранее предупредить о готовившихся переменах в ее судьбе, но сестрица Селеста и старый учитель в один голос возразили: "Ни к чему! Мы за нее ручаемся".
Надобно, кроме того, заметить, что все радовались как дети, представляя себе удивление дорогой девочки, когда утром 6 февраля, после того как накануне ее уговорят под каким-нибудь предлогом причаститься, из шкафа извлекут белоснежное платье, букет белых роз, венок из флёрдоранжа.
Все будут здесь, обступят ее со всех сторон; все, кроме слепой матери, увидят ее радость; но старуха будет держать своего сына за руку и по тому, как задрожит эта рука, узнает обо всем.
С начала января все думали только о том, как приготовить для молодых подходящую комнату. В том же доме на одной с ними лестничной площадке имелась квартирка, похожая на ту, что занимали мать и сестра Жюстена; она состояла из двух комнат и как нельзя лучше под ходила для молодой пары.
Ее снимала бедная семья, с удовольствием готовая переехать: Жюстен предложил уплатить их долг хозяину за четыре трехмесячных срока.
Квартира освободилась 9 января, и надо было позаботиться о том, чтобы как можно скорее обставить ее надлежащим образом: времени оставалось меньше месяца.
В доме все было перевернуто вверх дном в поисках чего-нибудь такого, что соответствовало бы жилищу молодоженов. Но во всем доме не нашлось ничего нового, свежего, красивого, чему могла быть оказана такая высокая честь.
Все трое сошлись во мнении, что надо купить новую мебель, простую, разумеется, но новую и современную.
Обошли всех краснодеревщиков квартала, ведь торговцев мебелью в этой стороне не существовало; мы готовы даже утверждать, что и сейчас там нет ни единого.
Наконец на улице Сен-Жак, в нескольких шагах от Вальде-Грас, был найден столяр, чья лавка ломилась от мебели.
Мебель, разумеется, была ореховая; в 1827 году не только в предместье, но и на самой улице Сен-Жак речи быть не могло о красном дереве: его долго обещали тамошним жителям, любовавшимся им только в магазинах соседних кварталов; красное дерево ожидали со дня на день; судно, которое должно было доставить его, могло прибыть с минуты на минуту... если только оно не утонуло!
Одним словом, больше от краснодеревщиков улицы Предместья Сен-Жак ничего нельзя было добиться.
А пока, если кому-нибудь невтерпеж было купить кровать, комод, секретер, приходилось соглашаться на орех, заменявший беднякам красное дерево.
Несмотря на безумное желание семейства приобрести мебель красного дерева, пришлось довольствоваться тем, что предлагал торговец.
Впрочем, они привыкли обходиться малым, и новая мебель, пусть даже ореховая, казалась им настоящим сокровищем.
Занавесками и бельем занялась сестрица Селеста.
Несчастная девушка целых полгода никуда не выходила. Ей предстояло настоящее путешествие! Надобно было сходить к уже известному тогда в квартале Сен-Жак торговцу полотном по имени Удо.
Для бедняжки Селесты путь был неблизкий; одному Богу известно, на какое высокое самоотречение была способна она; один он знает, омрачила ли ее чистую душу зависть, пока она добиралась до магазинчика.
Но, однако, для кого же она шла делать покупки?
Разве не могла бедной девушке прийти в голову такая мысль: "Почему, когда Господь дает жизнь двум существам одного пола, двум невинным (ибо они только что родились) девочкам, одна становится красивой, счастливой, вот-вот выйдет замуж за любимого и обожающего ее мужчину, а другая некрасива, больна, печальна и обречена умереть старой девой?"
Нет, ни о чем таком она не думала, а если бы и задала себе подобный вопрос, то это неравенство между двумя существами не заставило бы ее возроптать.
Далекая от этих мыслей, воистину достойная своего имени, Селеста шла за покупками с радостью, будто за собственным приданым.
Эта старая дева и в самом деле была святой, а соседи, хоть и не привыкли уважать ближних при жизни, к ней относились с обожанием, не дожидаясь ее канонизации после смерти.
Все прохожие приветствовали ее с почтительностью, ведь ее бледное болезненное лицо словно светилось добродетелью.
Мать ничего не могла сделать для украшения брачных покоев, но ей не терпелось хоть чем-нибудь быть полезной. Она достала из комода старинные богатые кружева, украшавшие некогда ее свадебное платье; с давних пор она их не видела и не трогала.
Она отдала их Жюстену, чтобы он приказал их отбелить и пришить к платью Мины.
Господин Мюллер тоже хотел сделать подарок.
Однажды утром, 28 или 29 января, к дому подъехала огромная повозка. Соседи были изумлены: они ежедневно наблюдали за тем, как в дом вносили что-нибудь из мебели, и не могли никак понять, кто это каждый день переезжает с места на место. Каково же было их удивление, когда они увидели повозку, крытую толстым полотном и с грохотом катившуюся по мостовой.
Не успела повозка остановиться перед домом Жюстена, как ее сейчас же обступили кумушки, дети, собаки и куры предместья.
Это напоминало появление почтовой кареты в провинциальном городке.
Сен-Жак — одно из парижских предместий, более других сохранивших нецивилизованный облик. Чем это объясняется? Может быть, тем, что квартал стоит в окружении четырех больниц, словно цитадель в окружении четырех бастионов, и эти больницы отпугивают туристов? А может, потому, что здесь редко проезжают кареты, так как главная дорога квартала не выводит на большую дорогу, не ведет в центр, как в других предместьях?
И если вдали появляется карета, тот мальчишка, кому посчастливилось первым заметить ее, складывает руки рупором и возвещает об этом событии всем жителям предместья, точь-в-точь как на побережье океана возвещают о появлении паруса на горизонте.
Заслышав крик, все бросают работу, выходят на порог дома или лавочки и терпеливо ждут, когда проедет обещанная карета.
И вот она появляется.
Ура! Карета едет!
Ее сейчас же обступают, рассматривают с наивной радостью, детским изумлением дикарей, впервые увидевших плавучие дома, называемые кораблями, и кентавров, именуемых испанцами.
В эти минуты проявляются различные характеры: одни из коренных жителей предместья Сен-Жак окружают карету; другие пользуются отсутствием кучера, отправившегося освежиться, а также седока, затерявшегося на этих широтах или попросту ушедшего по делам; другие, подобно мексиканцам, приподнимавшим на завоевателях одежды, чтобы убедиться, что это не часть их кожи, щупают кожаный верх экипажа, запускают пятерню в гриву лошади, пока мальчишки, к большому удовольствию и с великодушного соизволения матерей, карабкаются на сиденье.
Вот кучер освежился, седок вернулся, лошадь пытается продолжать путь; но ей стоит большого труда покинуть предместье, не раздавив при этом с полдюжины бегущих за каретой ребятишек.
Наконец экипажу удается отделаться от любопытных и он трогается.
Новые "ура" населения, на сей раз прощальные! За каретой бегут еще некоторое время; многие цепляются за рессоры; наконец лошадь и экипаж исчезают, к великому сожалению толпы и к удовольствию путешественника, радующегося тому, что он отправляется в более цивилизованные места.
Не угодно ли вам теперь узнать, какое значение имеет подобное событие?
Войдите в тот же вечер, дорогой читатель, домой к какому-нибудь из тех, кто видел проезжавшую карету, — войдите, когда отец семейства возвращается с работы, и вы услышите, как он спрашивает:
— Жена, что новенького?
Жена и дети отвечают:
— Карета проехала!
После этого отступления читатели могут себе представить удивление и ликование всего квартала, когда на улице появилась огромная повозка невиданной формы.
Понятно, с какой поспешностью повозку окружили, разглядывали, трогали, изучали со всех сторон.
Мы уже упомянули об удовольствии, которое вызывало одно появление фантастической повозки под таинственным покрывалом.
Но все это было ничто по сравнению с криками радости, послышавшимися со всех сторон из лавочек, из дверей, из окон, с крыш, когда полотно подняли и под ним обнаружили — невероятная роскошь! сказочная мечта! — огромный предмет из красного дерева.
Все предместье дрогнуло: удивленные крики прокатились от дома к дому и мостовую буквально затопила любопытная и восхищенная толпа.
Никто как следует не знал, зачем нужен этот громадный продолговатый деревянный короб чуть не в фут толщиной.
Но он был сделан из великолепного отполированного красного дерева и потому вызывал всеобщее наивное восхищение.
Махину сгрузили с повозки и перенесли в дом, захлопнув дверь перед самым носом у ротозеев.
Но толпа примириться с этим не могла; досыта насладившись зрелищем, она теперь во что бы то ни стало жаждала узнать, зачем нужна эта штука.
Спрашивали друг у друга: одни склонялись к тому, что это комод, другие полагали, что секретер.
Но догадки эти казались неправдоподобными.
Те, кто считал их неверными (мы называем таких скептиками), основывали свое суждение об этом предмете на том, что в нем не было ящиков, а комод без ящиков, будь он хоть из красного дерева, никоим образом не может предоставить то, что обещает его название.
Кто-то из стариков готов был побиться об заклад, что это шкаф; но он наверняка проиграл бы пари, ведь никто не видел, чтобы у этого шкафа были двери, а шкаф без дверей, конечно, предмет роскоши, но вещь бесполезная. Старика убедили, что он не прав.
Зеваки сгрудились вокруг повозки и стали держать совет.
Было решено дождаться возниц, когда они выйдут из дома, и допросить их.
Появились возницы, и их забросали вопросами; вперед вышла, важно подбоченившись, дородная кумушка и начала обстрел.
К несчастью для ротозеев, один из возниц был глухой, другой — уроженец Оверни: первый не услышал ни слова, другой не мог объясниться.
Рассудив, что продолжать разговор бесполезно, первый возница оглушительно (как и положено глухому) щелкнул кнутом и триумфально погнал повозку через предместье; толпа вынуждена была перед ним расступиться.
Хотите — верьте, хотите — нет, но никто из обитателей предместья так и не узнал этой тайны: еще и сегодня об этом судачат в долгие зимние вечера. Кстати, умоляем тех из наших читателей, кто догадался, что это было фортепьяно, не рассказывать об этом никому, чтобы навсегда сохранить тайну — пусть она послужит наказанием этим ужасным соседям!
XXVI ПОДРУГА ПО ПАНСИОНУ
В самом деле, этот странный шкаф, эта массивная громадина из красного дерева, привлекшая жадное внимание бездельников предместья Сен-Жак, оказалась великолепным инструментом; старый учитель прислал его своей дорогой Мине в качестве свадебного подарка.
Вообразите смущение и радость бедного семейства, получившего этот богатый дар.
После того как фортепьяно поставили в комнату молодоженов, меблировку можно было считать законченной, словно только его и не хватало — так естественно встал этот чудесный предмет на свое место.
Комната были обставлена просто, но была прелестна, настоящее гнездышко голубков в бело-розовых тонах.
В изголовье кровати в овальной дубовой раме, инкрустированной золотом, повесили венок из васильков и маков, тот самый, что Мина сплела в ожидании утра в ту ночь, когда ее нашли в поле.
Судя по тому, какое место венок занял в квартире, а также по тому, с каким благоговением к нему относились, его можно было назвать ex voto[14], то есть тем знаком обета, какой моряки возлагают на голову Пресвятой Деве, возвращаясь из опасного плавания.
Да и в самом деле, с того дня как девочка сплела этот венок, тучи, сгустившиеся над семьей Жюстена, стали редеть, а потом и вовсе развеялись, и фея — покровительница дома спустилась к ним на золотой колеснице.
Итак, комната была украшена и подготовлена к приему супругов.
Еще шесть дней — и солнце счастья засияет ярче и снова улыбнется этим достойным людям.
Жюстен поддерживал постоянную связь с хозяйкой пансиона. Она была без ума от своей воспитанницы и с грустью ожидала тот день, когда придется с ней расстаться. Она была осведомлена о планах семейства и тоже придерживалась мнения, что необходимо пока оставить Мину в полном неведении о счастье, которое ее ожидает, чтобы не волновать впечатлительную девушку.
Да и к чему, в самом деле, предупреждать ее заранее, хотя бы даже за час? Разве не были все уверены в ее согласии? Разве сестрица Селеста и папаша Мюллер не поручились за нее? Разве не доказывала она каждую минуту свою признательную любовь к семейству, глубокую нежность к молодому человеку? Двадцать раз хозяйка пансиона исподволь расспрашивала Мину, неизменно получая — и передавая Жюстену — подтверждение того, что в юном сердечке зарождается любовь, готовая вот-вот разгореться.
Итак, в эти блаженные дни оставалось только радоваться.
Под тем предлогом, что необходимо снять мерки для платья к межсезонью, к Мине прислали портниху, которая обычно шила ей то, что называется выходными платьями, то есть туалеты, надеваемые по праздникам; повседневные платья, то есть те, что носят в обычные дни, Мина и сестрица Селеста шили себе сами.
Пятого февраля Мину собирались забрать из Версаля.
Не раз Жюстен спрашивал:
— На чем мы поедем за Миной?
И каждый раз старый учитель отвечал:
— Не беспокойся, мальчик: это мое дело.
Накануне Жюстен снова обратился с тем же вопросом.
— Я заказал отличную карету! — успокоил его г-н Мюллер.
Жюстен обнял учителя.
Все вместе — правда, пока еще без Мины — они провели восхитительный вечер, сто раз все обсудили, спрашивая себя, не забыли ли они чего-нибудь, вовремя ли будет сделано оглашение, подходящее ли время назначил кюре церкви святого Иакова-Высокий порог, будут ли готовы в срок белые атласные туфельки, муслиновое платье и букет флёрдоранжа.
К концу вечера г-жа Корби припасла детям и г-ну Мюллеру сюрприз.
Она объявила, что поедет с ними завтра в Версаль.
Напрасно они пытались ей объяснить, что если от Парижа до Версаля пять льё, то от предместья Сен-Жак — все шесть, что путь туда и обратно составит двенадцать льё, что она очень устанет, что она шесть лет не выходила из дому и такое путешествие вредно для ее здоровья. Она ничего не хотела слышать, стояла на своем, находила слабые места в самых серьезных возражениях и закончила бесповоротным решением:
— Я первой ее провожала, я хочу первой ее встретить!
Пришлось уступить ее желанию.
Впрочем, отговаривая ее, каждый в душе надеялся, что она поедет с ними.
Договорились собраться на следующий день в семь часов. И вот утром, без четверти семь, к неописуемому изумлению соседей, к дому подъехала великолепная карета, обещанная накануне г-ном Мюллером.
Это был гигантский фиакр с гербами на дверцах, выкрашенный в ярко-желтый цвет. До наших дней дожили всего одни-два таких допотопных фиакра — это мамонты, мастодонты; вот уже лет десять как они перешли в разряд достопримечательностей, и мы непременно укажем музей, где они выставляются, если только услышим о таком.
Это настоящий ковчег, где в дождливые воскресные дни укрывалась целая семья буржуа; там можно было держать четыре пары животных, а семь или восемь человек помещались совершенно свободно, не стесняя друг друга; в наши дни для восьми человек понадобились бы четыре кареты: это в четыре раза удобнее, что верно — то верно, но в восемь раз дороже!
В этом ли заключается прогресс? Не знаем; стыд или славу этого решения, отчет за него перед потомством мы оставляем на совести тех, кто сдает кареты внаем.
Итак, у дома остановился огромный ослепительно желтый фиакр, и с него не сводили испуганных глаз дикари предместья.
Из фиакра вышел старый учитель и поднялся в дом; соседи не знали, что и думать: спустя некоторое время в фиакр сели Жюстен, его сестра и мать, а ведь старуху до той поры вообще никто ни разу не видел!
Господин Мюллер вышел последним и передал аптекарю-травнику, стоявшему, как и другие, у своей двери вместе с помощником и служанкой, которую все звали аптекаршей, ключ от квартиры. Он попросил, в случае если приедет деревенский священник и спросит г-на Жюстена или мадемуазель Мину, отдать ему этот ключ и сказать, что все в Версале и вернутся вечером вместе с его питомицей.
Священника просят подождать.
Учитель занял место рядом со своими нетерпеливыми друзьями, и лошадь побежала крупной рысью, унося счастливое семейство в версальский пансион, а Мина и не подозревала, какой ей готовится сюрприз.
Не успел фиакр проехать и двадцати шагов, как все соседи бросились к двери аптеки, расспрашивая ее хозяина, что ему дали и о чем попросили.
Господин Луи Рено хотел было сохранить все в тайне и напустил на себя важный вид. Но аптекарша была другого мнения.
— Подумаешь! — хмыкнула она. — Это ни для кого не секрет, еще чего! И потом, это дурным людям надо прятаться. Оставили ключ от квартиры и велели отдать его деревенскому кюре, который спросит свою питомицу.
— Мадемуазель Франсуаза! — произнес г-н Луи Рено, с величественным видом возвращаясь в дом. — Я вам всегда говорил, что вы слишком болтливы!
— Ну, болтлива или нет, а свое сказала, — отпарировала мадемуазель Франсуаза, — меня так и распирало, не разорваться же мне!
Новость стремительно облетела предместье Сен-Жак: все семейство поехало в Версаль; Мина — питомица кюре; днем ожидают прибытия ее опекуна.
Так как это происходило в воскресенье и, значит, заняться было нечем, с улицы в этот час дня никто не расходился, все начали обсуждать событие и строить догадки.
Потом стали по очереди отходить, чтобы позавтракать, оставляя боевой дозор на тот случай, если в их отсутствие появится на горизонте священник.
Восемь, девять, десять, одиннадцать часов пробило на часах церкви святого Иакова-Высокий порог, но сутаны не было видно, и кумушки ни на шаг не приблизились к истине. Наконец в половине двенадцатого несколько женщин высыпали после мессы, опередив других верующих как авангард — основные силы, и побежали, размахивая руками, задыхаясь, крича налево и направо:
— Женятся! Они женятся! Кюре от святого Иакова сделал оглашение! Они женятся! Они женятся!
Новость облетела квартал Сен-Жак со скоростью электрического разряда.
Только тогда обитатели предместья успокоились: теперь они знали великую тайну учителя!
Как и повсюду, нашлись умники, которые говорили:
— А я так и думал!
— Тоже мне, хитрость великая! — бросил на ходу мальчуган. — Еще бы не догадаться! Красивый парень женится на хорошенькой девчонке! Чтобы это предсказать, гадание Броканты ни к чему!
Тем временем фиакр подъезжал к Версалю; проехали три или четыре улицы, гулкие, как некрополь, и остановились у ворот пансиона как раз в ту минуту, как другой фиакр, точно такой же, стремительно отъезжал в противоположном направлении.
Они были похожи на оторвавшихся друг от друга сиамских близнецов.
Приехали вовремя: мать и сестра устали и сгорали от нетерпения; старый учитель бурчал что-то о том, как длинна дорога, а ведь именно он находил ее обыкновенно очень короткой, когда шел по ней пешком.
Сердце Жюстена по мере приближения к пансиону колотилось в груди все сильнее. Еще четверть льё — и его разорвало бы, как это чуть было не случилось с их соседкой мадемуазель Франсуазой.
Одним словом, они, повторяем, прибыли вовремя.
Вошли в приемную. Мать не была знакома с хозяйкой пансиона. Ее проводили в кабинет. Она поблагодарила за исключительную заботу, которой в течение семи месяцев была окружена ее приемная дочь.
Послали за девушкой.
Камеристка доложила, что мадемуазель Мины в комнате нет..
— Загляните к мадемуазель Сюзанне де Вальженез, — приказала хозяйка пансиона.
Обернувшись к гостям, она продолжала:
— Мина наверняка у своей подруги, мадемуазель Сюзанны де Вальженез; это прелестная девушка, очень вежливая, прекрасно воспитанная, примерно одних с Миной лет; они родом из одних и тех же мест: у отца мадемуазель де Вальженез обширные владения в окрестностях Руана. Они подружились с того дня, как Мина поступила в пансион, и я могу лишь поздравить себя с этой дружбой. Поверите ли, они вдвоем стоят воспитательницы! Мина преподает музыку, французский и историю, а Сюзанна проводит уроки рисования, арифметики и английского... A-а, вот и она.
В самом деле, Мина, раскрасневшаяся от радости, задыхавшаяся от счастья, стояла на пороге; она вскрикнула, увидев, что вся семья в сборе.
Словно не узнавая ни старого учителя, ни сестрицу Селесту, ни Жюстена, она бросилась прямо в объятия к г-же Корби с криком:
— Матушка!
Приезд г-жи Корби навел ее на мысль о том, что происходит или должно произойти нечто необычное.
Она почувствовала сильное волнение, когда ей сказали, что теперь, когда ей исполняется шестнадцать лет, она навсегда уезжает из пансиона.
Эту новость ей сообщил Жюстен, поцеловав ее, по своему обыкновению, в лоб и прижав к груди.
Мина обрадовалась; однако к ее радости примешивалось и сожаление: ее нежное сердце успело привязаться к мадам, то есть к хозяйке пансиона, к Сюзанне, своей подруге, и к комнате, выходившей окнами во двор, такой шумный во время рекреаций и такой тихий в остальное время.
Мина попросила позволения попрощаться со своей комнатой и с Сюзанной; оба разрешения были тут же получены.
Было условлено, что сначала она зайдет к себе в комнату, а на обратном пути встретится с Сюзанной в гостиной.
Мина вышла, помахав рукой, приветливо кивнув и улыбнувшись.
Ее комната находилась на первом этаже, в другой части дома, сообщавшейся с гостиной. Надо было только пройти по коридору.
Она вошла к себе, благоговейно попрощалась с каждой вещицей, с каждым предметом обстановки, как прощаются с покидаемыми друзьями, встала коленями на скамеечку для молитвы и возблагодарила Всевышнего точно так же, как в доме Жюстена на следующий день после своего появления в предместье Сен-Жак.
Тем временем Сюзанну попросили спуститься в гостиную.
Это была красивая девушка девятнадцати лет или около того, высокая и стройная. Ее большие черные глаза смотрели порой дерзко; впрочем, девушка умела, когда хотела, смягчить как по волшебству свой взор. Черные брови и волосы прекрасно соответствовали ее глазам. Говорила она резко и властно — одним словом, в ней за целое льё можно было угадать аристократку.
Жюстену она с первого взгляда не понравилась.
Однако она так огорчилась, когда узнала, что ей придется навсегда расстаться с Миной, что Жюстен, хотя его вначале оттолкнула внешность Сюзанны, проникся к подруге Мины симпатией.
И потом, юная красавица так ласково поздоровалась с г-жой Корби, с такой сердечностью протянула руку сестрице Селесте, так любезно улыбнулась старому учителю — она его уже знала, как и Жюстена, хотя они не были знакомы, — что Жюстен поспешил изменить о ней свое мнение.
Как и все добрые люди, готовые увидеть в ближнем хорошее и закрыть глаза на дурное, он склонился к г-же Корби и шепнул ей на ухо:
— Матушка! Мине, кажется, очень жаль расставаться с подругой. Я не хочу, чтобы Мину завтра хоть что-то печалило: не пригласить ли нам мадемуазель Сюзанну?
— Она откажется, — отвечала мать.
Госпожа Корби с проницательностью слепой услышала в голосе мадемуазель де Вальженез жесткие нотки, не предвещавшие ничего хорошего, несмотря на дружеский тон.
— Ну, а вдруг согласится?.. — продолжал настаивать Жюстен..
— Наш дом слишком беден для такой знатной девицы!
— Она уедет завтра после церемонии, а нынче вечером переночует в моей комнате.
— А где ляжешь ты?!
— Я найду местечко для раскладной кровати.
— Кто же отвезет мадемуазель обратно?
— Вы правы, матушка.
Они спросили совета по этому важному вопросу у хозяйки пансиона, и та предложила следующее: завтра хозяйка вместе с мадемуазель Сюзанной де Вальженез прибудут в Париж к десяти часам утра, чтобы присутствовать при благословении на брак, а после церемонии вернутся в Версаль.
Об этом проекте сообщили мадемуазель Сюзанне; та с радостью согласилась, хотя ей не сказали, зачем она поедет в Париж.
Опасались, как бы она не выболтала тайну подруге.
Мадемуазель Сюзанна попросила только позволения сообщить своему брату, г-ну Лоредану де Вальженезу, о готовящейся поездке.
Если бы ее предупредили чуть раньше, она могла бы рассказать ему об этом сама: он только что вышел из приемной.
Господин Лоредан де Вальженез жил в Версале, вернее, у него там была холостяцкая квартира, и Сюзанна сочла, что успеет написать ему сразу после отъезда Мины, тем более что Мина уже вошла в гостиную и бросилась к ней в объятия.
Жюстен очень боялся увидеть на глазах у Мины хоть слезинку и поспешил ее обрадовать: она прощается с подругой не навсегда, ведь мадемуазель Сюзанна, а также г-жа Демаре — так звали хозяйку пансиона — готовы оказать им честь и приедут к ним завтра.
С этой минуты слезы на прекрасных глазах Мины высохли; она запрыгала от радости и расцеловала Сюзанну и г-жу Демаре.
Обернувшись к своей любимой семье, она проговорила:
— Ну вот я и готова!
Все в последний раз простились; г-жа Демаре и Сюзанна пообещали не опаздывать; пятеро путешественников сели в карету и поехали в Париж, а Сюзанна вернулась в свою комнату и села за письмо к брату:
"После тебя прикатило семейство. Они увозят Мину. Думаю, завтра на улице Сен-Жак произойдет нечто из ряда вон выходящее. Нас с госпожой Демаре пригласили провести у них завтрашний день. Если хочешь быть в курсе, устрой так, чтобы ты сопровождал нас в своей коляске.
Любящая тебя сестра С. де В."
XXVII ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Как и мечтал Жюстен, его любимая Мина покидала пансион и возвращалась домой, ни о чем не печалясь.
Она, правда, испытывала некоторое беспокойство: как ее подруга-аристократка приедет в предместье Сен-Жак, пройдет через двор аптекаря и войдет в их мрачное жилище; какое впечатление произведет на нее если не нищета, то бедность, которую Мина до сих пор не замечала, но теперь видела, потому что смотрела глазами Сюзанны?
Сразу же оговоримся, Мина испытывала беспокойство, но отнюдь не стыд; она не променяла бы это жалкое жилище, в котором жила с друзьями, на дворец, населенный чужими для нее людьми. К тому же, она была уверена в Сюзанне как в себе самой; она думала, что для подруги не имеет значения, где и как живет Мина, подруга будет рада и почтет за честь быть принятой в доме Мины.
Время в пути пролетело незаметно для всех, особенно для Мины. Она держала Жюстена за руку, то прикладывая голову к стенке фиакра, то роняя ее на плечо к молодому человеку, и грезила наяву, как это умеют только в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет.
Около десяти вечера они были дома.
Как ни велика была любознательность обитателей предместья, она не смогла устоять против столь позднего часа: с семи часов они стали — каждый в меру своей настойчивости — расходиться по домам, но вот наконец последняя дверь захлопнулась за самым стойким из них и улица, обезлюдев, погрузилась во мрак.
Вдруг послышался шум подъехавшей кареты; она остановилась у дверей аптекаря.
Аптекарь еще не ложился, и не столько потому, что намеревался добросовестно исполнить поручение г-на Мюллера, сколько потому, что того требовало его ремесло; услышав, что у его дома остановилась карета, он снова отворил дверь; узнав своих соседей, он возвратил ключ г-ну Мюллеру и сказал, что священник не приезжал.
— Какой священник? — спросила Мина.
— Один мой друг, — поспешил ответить г-н Мюллер, солгав, может быть, впервые в жизни, но это была ложь во спасение.
Фиакр отпустили; расплачиваясь с кучером, г-н Мюллер шепнул ему:
— Жду вас здесь завтра утром ровно в десять.
— Договорились, хозяин, — кивнул кучер.
— Вы заказываете фиакр, дорогой папа Мюллер? — удивилась Мина.
— Да, дитя мое. Я приглашаю вас завтра прокатиться.
— Ты поедешь, братец Жюстен? — спросила Мина.
— Еще бы! — отвечал тот.
— О, прекрасно! — обрадовалась девушка.
Она поспешила в дом, обежала все уголки квартирки на улице Сен-Жак, здороваясь с каждой вещицей, точь-в-точь как недавно прощалась со своей комнатой в версальском пансионе.
Улеглись за полночь, и г-жа Корби сидела вместе со всеми весь вечер, чего никогда не случалось на памяти не только Мины, но и г-на Мюллера.
В полночь разошлись по комнатам.
Жюстен в последний раз поцеловал Мину по-братски в лоб; завтра он надеялся поцеловать ее как супруг.
Мюллер пожелал всем спокойной ночи; он не хотел уходить и заявил, что, если бы играли скрипки, он еще потанцевал бы с сестрицей Селестой.
Бедная сестрица Селеста! Как печально она улыбнулась: ей еще не доводилось танцевать!
Мужчины спустились в комнату Жюстена и проговорили еще целый час.
Потом Мюллер ушел.
Жюстен взял виолончель, достал ее из футляра, зажал между колен и, водя смычком в двух дюймах над струнами, но не касаясь их, мысленно сыграл один из самых веселых мотивов "II Matrimonio segreto"[15], украсив его замысловатыми триолями и ферматами.
Наконец, в три часа, он решил лечь в постель. Но он был слишком счастлив и, следовательно, слишком возбужден, чтобы по-настоящему заснуть. Впрочем, если бы он крепко спал, он потерял бы ощущение счастья.
Казалось, он боится, засыпая, выпустить из рук нить, связывающую его с пробуждением, — так ныряльщик держит веревку, за которую его вытаскивают на поверхность, когда он задыхается под водой.
В шесть часов он уже был на ногах.
Он не мог понять, почему так медленно тянется время, часы опаздывают, солнце не всходит — день никогда не наступит!
В половине восьмого рассвело. Он вышел во двор; это уже был не Жюстен — это был его двойник.
Он направился к воротам.
Что он там увидит?
Он и сам не знал. Бывают минуты, когда человек отворяет дверь, будто ждет кого-то.
Жюстен ждал свое счастье!
А счастье приходит так редко, когда перед ним заранее отворяют дверь...
Начали открываться лавочки. Кое-кто из соседей уже стоял на пороге своего дома.
Многие знаками показывали на Жюстена.
Булочник, живший напротив, толстяк с испачканным мукой лицом и выпиравшим животом, крикнул ему:
— Что, сосед, сегодня?..
Жюстен вернулся в дом и занялся туалетом. Это отняло у него добрый час.
Он надел лакированные башмаки, ажурные шелковые чулки, черные панталоны и черный сюртук, белый жилет и белый галстук.
Он пригладил красивые белокурые волосы, доходившие ему до плеч и делавшие его, по мнению г-н Мюллера, похожим на немца, что очень нравилось старому учителю: его ученик был похож на Вебера!
В восемь часов Жюстен услышал над головой шум.
Это проснулись девушки.
Мы говорим "девушки", имея в виду средний возраст Мины и Селесты.
Мине было шестнадцать, Селесте — двадцать шесть.
Значит, в среднем по двадцати одному году.
Не успела Мина проснуться, как начались сюрпризы, приготовленные для этого торжественного дня.
Пока она умывалась, сестрица Селеста вышла и принесла из комнаты будущих супругов весь наряд невесты, кроме флёрдоранжа.
Обернувшись, Мина увидела на своей кровати юбку из белой тафты, муслиновое кружевное платье и шелковые чулки.
Возле кровати стояли белые атласные туфельки.
Мина разглядывала все с удивлением.
— Для кого этот наряд? — спросила она.
— Для тебя, сестричка, — отвечала Селеста.
— Уж не иду ли я сегодня собирать пожертвования? — пошутила Мина.
— Нет, ты идешь на свадьбу.
Мина бросила на Селесту изумленный взгляд.
— А кто женится? — поинтересовалась она.
— Это секрет.
— Секрет?
— Да.
— Ну, скажи мне, сестрица Селеста, — попросила она, гладя старую деву по щекам.
— Спроси у Жюстена, — отвечала та.
— О, Жюстен! Как давно я его не видела! — воскликнула Мина. — А где он?
— Ждет, когда ты оденешься.
— Я сейчас! Помоги мне, сестрица Селеста!
В одну минуту Мина с помощью сестры была одета.
Больше всего времени в туалете женщины обычно отнимает прическа.
Но волосы у Мины вились от природы. Взмах гребня — и крупные завитки из-под ее пальцев упали вдоль щек, рассыпались по плечам и легли на грудь.
— Я готова, Селеста, — сказала Мина. — Где Жюстен?
— Ступай! — велела Селеста.
Чтобы сойти вниз, нужно было непременно пройти через спальню г-жи Корби.
Слепая угадала Мину по походке.
Едва успев отворить дверь, Мина очутилась в объятиях г-жи Корби.
Та поцеловала девушку и провела рукой по ее волосам. Старуха будто что-то искала и не находила.
— Она еще не виделась с Жюстеном? — спросила мать.
— Нет, Жюстен ждет ее.
— Ну иди! — приказала г-жа Корби. — Бывают минуты, когда ждать очень трудно!
Сестрица Селеста отворила дверь; Мина хотела было спуститься вниз.
— Нет, — остановила ее Селеста, — вот сюда.
Она отворила дверь напротив.
Дверь вела в уже описанную нами комнату новобрачных.
Жюстен стоял посреди комнаты, держа в руках то, чего недоставало в наряде Мины и что г-жа Корби тщетно пыталась нащупать на голове у сиротки — венок флёрдоранжа.
Мина все поняла.
Она радостно вскрикнула, побледнела, вытянула руки, словно в поисках опоры.
Опора была рядом. Жюстен одним прыжком оказался рядом и принял ее в объятия. Коснувшись губами уст Мины, он возложил ей на голову венок флёрдоранжа.
Так Жюстен — без слов, едва слышным восклицанием — сделал Мине предложение, так она ответила согласием.
Спустя пять минут Мина стояла перед г-жой Корби на коленях. Та нащупала, наконец, то, что безуспешно искала на голове у девушки десятью минутами раньше, подняла дрожащую руку и проговорила:
— Во имя счастья, которое ты мне дала, будь благословенна, дочь моя!
В это мгновение на пороге появились трое.
Это были г-жа Демаре и мадемуазель Сюзанна де Вальженез; из-за их спин выглядывал старый учитель, привстав на цыпочки, чтобы получше рассмотреть, что происходит.
Вдруг славный г-н Мюллер почувствовал, как кто-то схватил его в охапку. Старик едва не задохнулся.
Это Жюстен обнимал его.
— Ну что? — спросил добряк.
— Она меня любит! — вскричал Жюстен.
— Как сестра? — рассмеялся Мюллер.
— Как сестра, как невеста, как женщина, как супруга! Она меня любит, дорогой господин Мюллер! О, я счастливейший из смертных!
Жюстен был прав: в эту минуту он достиг такого блаженства, какое редко кому из людей дано испытать.
Он был на вершине счастья.
В это время мальчик-грум в черном рединготе, белых панталонах, сапогах с отворотами и обшитой галуном шляпе с черной кокардой протолкался среди действующих лиц этой сцены, подошел к Сюзанне де Вальженез и подал ей скатанный в трубочку лист бумаги и карандаш.
— От господина Лоредана, — доложил грум по-английски. — Он ждет ответа.
Сюзанна развернула листок и увидела огромный знак вопроса.
Она все поняла.
Под знаком вопроса она написала короткие строчки:
"Они женятся! Она выходит замуж за своего дурака-учителя!
Дай своей любви расчет и прогони ее... чтобы позже снова взять к себе на службу.
С. де В."
— Вот, Дик, отнеси своему хозяину, — сказала она. — Это ответ.
Жюстен все видел, но ничего не понял. Однако что-то похожее на предчувствие неведомой беды заставило его вздрогнуть.
Он подошел к окну, чтобы посмотреть, кому будет передана записка.
У дверей в коляске ожидал красивый элегантный молодой человек. Очевидно, это был г-н Лоредан де Вальженез.
Заслышав шаги грума, он обернулся. Жюстен мог рассмотреть его лицо.
Это был уже знакомый ему молодой человек, который на празднике Тела Господня так странно смотрел на Мину, что сердце школьного учителя впервые ужалила змея ревности.
Грум передал записку молодому человеку, тот прочел ее и знаком приказал груму сесть рядом с кучером.
Не успел мальчишка вскарабкаться на козлы, как коляска стремительно понеслась прочь.
XXVIII КЮРЕ ИЗ ЛА-БУЯ
Пока в знакомом нам домике на улице Предместья Сен-Жак происходили описанные выше события, почтенный священник лет семидесяти — семидесяти двух поднимался по улице к дому Жюстена; зеваки с радостным любопытством показывали на священника пальцами, а он безуспешно пытался понять, что бы это значило.
Обитатели предместья Сен-Жак вняли заявлению аптекарши и уже со вчерашнего утра ожидали приезда священника. Едва завидев сутану и треуголку аббата Дюкорне — так звали кюре из Ла-Буя, — зеваки сказали друг другу (кто стоял поближе — словами, кто подальше — жестами): "А вот и священник!"
И так как после столь долгого ожидания кюре уже не надеялись увидеть, его появление, как мы сказали, послужило причиной всеобщего оживления.
Каждый стремился подойти к нему поближе, его обступали со всех сторон, и он шагал в сопровождении целой процессии.
Когда он остановился, озираясь по сторонам и пытаясь сообразить, куда идти дальше, какая-то кумушка с поклоном приветствовала его:
— Здравствуйте, господин кюре!
— Здравствуйте, милая! — отозвался достойнейший аббат.
Увидев, что он стоит у дома № 300 по улице Сен-Жак, а ему нужен был дом №20 предместья Сен-Жак, аббат пошел дальше.
— Господин кюре приехал, должно быть, на свадьбу? — не унималась кумушка.
— Ну да, — отвечал кюре, останавливаясь.
— На свадьбу в дом номер двадцать? — присоединилась другая кумушка..
— Совершенно верно! — все больше удивляясь, проговорил кюре.
В это время часы на церкви святого Иакова пробили половину десятого, и он поспешил дальше.
— На свадьбу к господину Жюстену? — спросила третья сплетница.
— Он женится на Мине; а правда, что вы ее опекун? — поддержала четвертая.
Кюре озадаченно посмотрел на любопытных.
— Да оставьте человека в покое, трещотки! — вмешался бондарь, который набивал обручи на бочку. — Вы разве не видите, что он торопится?
— Да, я и вправду спешу, — подтвердил достойный священник. — Я так долго добирался! Если бы я знал, что до предместья Сен-Жак так далеко, то нанял бы экипаж.
— Да вы уже пришли, господин аббат: осталось два шага.
— Это вон там, где стоит желтый фиакр, — показала одна из женщин.
— Только что там еще стояла крытая коляска, — подхватила другая, — в ней сидел красивый молодой человек, а на козлах — напудренный кучер и мальчишка не больше дрозда, но, сдается мне, эта коляска не на свадьбу приезжала: она уже уехала.
— Я не вижу фиакра, — сказал кюре, останавливаясь и приставляя к глазам руку козырьком.
— О, будьте покойны, вы не заблудитесь, мы вас проводим до самых дверей, господин кюре.
— Эй, Баболен! Беги вперед! Скажи господину Жюстену, пусть не волнуется, кюре сейчас придет.
Мальчишка, которого назвали Баболеном и которого мы уже дважды встречали на страницах нашей книги, поспешил вверх по улице, напевая куплет собственного сочинения:
О да! Я ей скажу, скажу, скажу... О да! Я все же ей скажу!
А диалог (если угодно — триалог) продолжался.
— Вы никогда не были у Жюстена, господин кюре?
— Нет, друзья мои, мне не доводилось бывать в Париже.
— Вот как! Откуда же вы?
— Из Ла-Буя.
— Из Ла-Буя? А где это? — спросил кто-то.
— В департаменте Нижняя Сена, — ответил кто-то басом, интонации которого позаимствовал впоследствии г-н Прюдом.
— Верно, в Нижней Сене, — подтвердил аббат Дюкорне. — В нашем краю очень красиво, его называют руанским Версалем...
— Вам понравится квартира молодых!
— А какая у них мебель! Уже три недели только и видишь, как к ним возят мебель!
— Да такую, что и у короля Карла Десятого нет в Тюильри!
— Значит, господин Жюстен богат?
— Богат?! Да, богат, как церковная крыса!
— Откуда же?..
— Одни люди тратят то, что у них есть, другие — чего нет, — съязвил цирюльник.
— Не надо говорить гадости о несчастном школьном учителе только потому, что он бреется сам, а не ходит к тебе!
— Тогда уж пусть это делает как следует! А то три недели назад у него на подбородке был порез в полдюйма.
— Послушай, это его подбородок, и он может делать с ним все что хочет, — парировал мальчишка, закадычный друг Баболена. — Никто не может ему указывать: пусть хоть душистый горошек там выращивает — это его право!
— А, я вижу желтый фиакр, — заметил аббат.
— Еще бы вы его не видели! — отозвался мальчуган. — Он похож на скелет кита в Ботаническом саду, только раскрашен поярче.
— Идемте скорее, господин кюре, — заторопил его Баболен, уже исполнивший поручение, — там ждут только вас...
— Идемте! — сказал кюре. — Если ждут только меня, я готов.
Достойный пастырь собрался с силами и через несколько минут уже стоял рядом с желтым фиакром, против входной двери.
"А Париж, оказывается, еще больше, чем Ла-Буй и даже Руан!" — подумал старик.
Жюстен и Мина ждали его на пороге.
Завидев красивую пару, священник остановился и улыбнулся.
— Ах, Господи, ты в самом деле создал их друг для друга! — сказал он.
Мина подбежала и бросилась ему на шею, как в те времена, когда славный священник заходил к мамаше Буавен и когда Мине было всего восемь лет.
Кюре обнял Мину, потом отстранился, чтобы получше ее рассмотреть.
Он ни за что не узнал бы в прелестной девушке, готовой вот-вот стать женщиной, маленькую девочку, которую шесть лет назад отправил в Париж в белом платьице с голубым пояском и в голубых башмачках. Но ее нежную ласку он узнал сразу.
Оставалось еще несколько минут до того, как надо было отправляться в церковь.
— Входите, входите, господин кюре! — в один голос пригласили Жюстен и Мина.
Кюре поднялся в дом. Его ввели в комнату молодоженов, где находились матушка Корби, сестрица Селеста, г-жа Демаре, мадемуазель Сюзанна де Вальженез и старый учитель.
— Это наш дорогой кюре из Ла-Буя, матушка, — проговорила Мина. — Позвольте вам представить господина аббата Дюкорне, сударыня, — обратилась она к хозяйке пансиона.
— Да, да, — подхватил улыбающийся аббат. — И он принес своей питомице приданое!
— Приданое?!
— Ну да! Вообразите: три дня тому назад получаю я заказное письмо со штемпелем на немецком языке, а в нем — вексель на десять тысяч восемьсот франков, адресованный банкирскому дому господ Леклера и Луи в Руане.
— И что же? — дрогнувшим голосом спросил Жюстен.
— Погодите, я расскажу все по порядку. Сначала я развернул вексель, потому я вам прежде всего о нем и говорю.
— Да, мы слушаем.
Госпожа Корби заметно побледнела.
Другие, хоть и заинтересовались рассказом священника, но пока не понимали — в том числе и Мина — того, о чем Жюстен и его мать начинали догадываться.
— К векселю, — продолжал кюре, — было приложено письмо.
— Письмо? — прошептал Жюстен.
— Письмо? — повторила г-жа Корби.
— Ах! Письмо! — подхватил старый учитель, взволнованный не меньше Жюстена и его матери.
— Да, вот это письмо.
Аббат развернул письмо с иностранным штемпелем и прочел:
"Дорогой аббат!
Несколько лет тому назад я отправился в глубь Индии, и моя связь с Францией оборвалась. Вот почему Вы девять лет не получали от меня известий. Но я знаю Вас, знаю достойнейшую госпожу Буавен, которой доверил свою дочь: Мина ничуть от этого не пострадала.
Теперь я вернулся в Европу, но неотложные дела еще на некоторое время задержат меня в Вене. Спешу выслать вексель банкирского дома Арнштейна и Эскелеса, адресованный банкирскому дому Леклера и Луи в Руане, на сумму в десять тысяч восемьсот франков, которые я Вам задолжал.
Отныне Вы будете получать регулярно вплоть до моего возвращения (его дату я пока сообщить не могу) обещанные тысячу двести франков на содержание моей дочери.
Отец Мины.
Вена, Австрия, 24 января 1827 г."
При последних словах Мина радостно захлопала в ладоши и воскликнула:
— О, какое счастье, Жюстен! Папа жив!
Жюстен не сводил взгляда с матери и, видя, что она смертельно побледнела, вскрикнул:
— Матушка! Матушка!
Слепая поднялась и пошла к сыну, вытянув руки вперед. Она шла на его голос.
— Ты понимаешь, сынок, правда? — твердо проговорила она. — Понимаешь?..
Жюстен не отвечал, он залился слезами.
Мина смотрела на эту странную сцену и ничего не могла понять.
— Что с вами, матушка Корби? — спросила она — Что с тобой, Жюстен?
— Ты понимаешь, дорогое мое, несчастное мое дитя, — продолжала мать, — понимаешь, что ты мог жениться на Мине, пока она была бедной сиротой...
— Боже мой! — вскрикнула Мина, начиная догадываться.
— Но ты понимаешь также, что не можешь жениться на Мине, когда она стала богатой и зависит от воли отца.
— Матушка! Матушка! — закричал Жюстен. — Сжальтесь надо мной!
— Это было бы хуже воровства, сын мой! — воздев руки, сказала слепая, словно призывая Бога на помощь. — И если ты сомневаешься, спроси у порядочных людей, а я надеюсь, что здесь собрались порядочные люди.
Жюстен бросился к ее ногам.
— Да, ты меня понял, — продолжала слепая, — потому что встал на колени!
Она простерла над ним руки и, откинув голову назад, словно могла видеть небо, произнесла:
— Сын мой! Благословляю тебя на страдание, как благословила на счастье; надеюсь, что останусь для тебя любимой матерью в дни невзгод, как была ею в дни благоденствия.
— О матушка! Матушка! — вскричал Жюстен. — Ваша поддержка, ваше мужество будут мне подмогой, и я последую вашему указанию! Но без вас... О, без вас я совершил бы бесчестный поступок!
— Хорошо, сынок! Обними меня, Селеста.
Селеста подошла ближе.
— Помоги мне добраться до кресла, дочка, — шепнула она ей. — Я чувствую, что силы оставляют меня.
— Да что случилось, Боже мой! Что же случилось? — недоумевала Мина.
— Случилось... случилось то, Мина, — проговорил Жюстен сквозь слезы, — что, до тех пор пока твой отец не даст согласия, а он, возможно, никогда не согласится на наш брак, мы можем быть друг для друга только братом и сестрой.
Мина вскрикнула.
— О! — возразила она. — С какой стати отец, бросивший меня шестнадцать лет назад, теперь предъявляет на меня права? Пусть оставит себе эти деньги, мне — мое счастье! Пусть оставит мне моего милого Жюстена! Не как брата, да простит меня Господь, как супруга! Жюстен... О! О Жюстен, Жюстен, любимый мой! Ко мне, ко мне!... Не оставляй меня!
Жалобно вскрикнув, Мина упала без чувств на руки Жюстена.
А час спустя заплаканная девушка уезжала в Версаль, уронив головку на плечо г-же Демаре; Сюзанна держала ее за руку.
Перед тем как подняться в карету, Сюзанна успела написать карандашом и передать с посыльным такую записку:
"Свадьба провалилась! Похоже, Мина — дочь богатых и знатных родителей.
Мы возвращаемся в Версаль с безутешной красавицей.
С. де В.
Одиннадцать часов утра".
XXIX СМИРЕНИЕ
Безутешная красавица — как назвала прекрасная Сюзанна де Вальженез свою подругу — оставила позади себя не менее безутешное сердце.
Это было сердце Жюстена.
Впрочем, мы ошибаемся: следовало сказать сердца.
Безутешны были и Жюстен, и его мать, и славный учитель, и сестрица Селеста, и кюре из Ла-Буя, не ведавший, какое горе он принес, и полагавший, в простоте души, что будет вестником счастья, когда на самом деле оказался вестником горя.
Но больше всех печалилась, конечно, мать, потому что она страдала не только за себя, но и за сына.
Она прекрасно держалась в самом начале, но вот силы оставили ее.
Еще до того как были произнесены последние прощальные слова, она, не издав ни звука, не пролив ни единой слезинки, незаметно для всех лишилась чувств.
Каждый был занят своим горем, и никто поначалу не заметил ее обморока.
Раньше всех увидел это Жюстен; обморок матери был для него частью агонии его собственного сердца.
— Матушка! Матушка! — вскричал он. — Да взгляните же на мою мать!
Все бросились к слепой, Жюстен упал ей в ноги и обхватил руками ее колени.
Ее лицо стало бледным как воск, руки — холодными как мрамор, губы посинели.
Последняя надежда ее старости угасла, не успев родиться.
Самое ужасное заключалось в том, что некого было винить в случившемся. Ведь все были преисполнены самых добрых намерений, даже бедный кюре из Ла-Буя.
Это был рок, только и всего.
Кто-то сбегал к аптекарю и принес нюхательную соль.
Благодаря соли и уксусу г-жа Корби пришла в себя.
Первое, что не увидела, нет, но почувствовала несчастная слепая, так это то, что ее утешает сын, — а ведь он сам так нуждался в утешении!
Но он забывал о своей боли, славный Жюстен, если кто-то страдал рядом с ним, тем более когда это была мать.
Он оставался подле г-жи Корби не только до тех пор, пока она пришла в себя: он не отходил от нее, пока она не легла.
Мать понимала, что сыну надо выплакать свое горе, и чувствовала, что он не смеет плакать при ней, опасаясь огорчить ее еще больше. И она потребовала, чтобы он ее оставил.
Жюстен спустился в свою комнатушку, взяв с собой венок из флёрдоранжа, который Мина при расставании сорвала с головы и отдала ему.
Старый учитель пошел с ним.
А у кюре в Париже дел больше не было; в шесть часов вечера он снова сел в карету и отправился в Руан, увозя с собой проклятые деньги, причинившие столько горя.
В то время как он удалялся от нового Вавилона, где скоро развернется наша драма, Жюстен и его учитель спустились в классную комнату; ученики были отпущены по случаю ожидавшегося торжества, а также потому, что это был предпоследний день масленицы, выпавшей в тот год на начало февраля.
Мрачное выражение лица Жюстена внушало славному Мюллеру настоящий ужас; надеясь развлечь своего ученика, он обратился к воспоминаниям, пока не дошел до истории о том, как они с Жюстеном нашли Мину.
Он замолчал, но тогда сам Жюстен со всеми подробностями, день за днем, стал перебирать в памяти последние восхитительные шесть лет.
— Мы были слишком счастливы! — сказал он учителю. — Мне не раз подсказывало сердце, что я должен быть готов к тому, чтобы рано или поздно дорого заплатить за победу, которую я одержал над своей злой судьбой... Я шесть лет наслаждался несказанным счастьем, а ведь это почти шестая часть жизни: не многие могут этим похвастаться... Я позабыл, как был счастлив в эти шесть лет; я забуду горе, как забыл счастье: наступит день, когда радости и страдания сольются в серое прошлое. Не беспокойтесь же за меня, дорогой учитель. Не думайте, что я решусь на отчаянный поступок... Да и принадлежу ли я себе? Разве я не в ответе за матушку, за сестру? Нет, нет, дорогой учитель, мой выбор сделан. Я воевал с нищетой, теперь буду воевать со страданием... Через несколько дней моя рана зарубцуется, только дайте мне побыть одному: в одиночестве для смиренных душ заключена неведомая религия; смирение, дорогой учитель, это сила слабых, и вы увидите, что я стану более сильным и закаленным в жизненной борьбе!
Старый учитель в изумлении вышел, почти испугавшись силы смирения своего ученика, но совершенно уверенный в том, что молодой человек справится со своим горем.
Проводив г-на Мюллера до ворот, Жюстен вернулся в комнату и стал медленно ходить по ней взад и вперед, скрестив руки на груди, опустив голову и время от времени вскидывая глаза к потолку, словно спрашивал у Неба разгадку этой тайны под названием рок!
Несколько раз он подходил к дверце шкафа, где дремала в футляре его виолончель.
Но он даже не раскрыл шкаф.
В этот вечер он был еще слишком слаб.
Он ходил по комнате до трех часов ночи, не пролив ни слезинки с самого утра.
Боль, словно окаменев в груди, душила его. Тогда молодой человек бросился на кровать; его сразила усталость, и он задремал.
Накануне он точно так же долго не мог заснуть, был в такой же дреме; тогда радость не давала ему сомкнуть глаз, тогда счастливая усталость заставила их закрыться!
К счастью, наступал последний день масленицы; занятий не было: он мог побыть наедине со своим горем, помериться с ним силами, сразиться и попробовать одолеть его.
Борьба затянулась на весь этот день. Поцеловав мать и сестру, на рассвете он вышел из дому и снова отправился к тому месту, где в чудесную июньскую ночь он нашел девочку, спавшую среди цветов и колосьев.
Уже не было ни васильков, ни маков, ни колосьев. Земля, как и его душа, была голой, опустошенной, потрескавшейся от мороза.
Жюстен пошел через Мёдонский лес, который был таким веселым, солнечным, зеленым в те времена, когда он гулял там с учителем; так он добрел до Версаля.
Он нашел в себе силы не пойти в пансион.
К чему видеться с несчастной Миной?
Ведь он был уверен, что она плачет, не видя его. Стало быть, встретившись с ним, она будет тосковать еще больше.
Последняя надежда оставила его! Было очевидно, что Мина принадлежит к богатой аристократической семье. Мог ли он надеяться, что девушку отдадут за него, скромного бедняка?
Он мог, конечно, с ней встречаться, но вот этого-то ему и не хотелось.
Возвратился Жюстен в десять часов вечера; за день он прошел пятнадцать льё, но не чувствовал ни малейшей усталости.
Встревоженные мать и сестра в нетерпении поджидали его.
Он вошел с улыбкой на устах, поцеловал их и спустился к себе.
Произошло то же, что накануне, он долго шагал по комнате, считал минуты до полуночи, наконец, остановившись несколько раз перед шкафом, где хранилась виолончель, решился и распахнул дверцу. Он вынул ее из футляра и взглянул на нее с глубокой грустью.
Как помнят читатели, Мина запретила ему играть на этом печальном инструменте — то был ее детский каприз. Мы видели, что с тех пор Жюстен не раз вынимал виолончель из футляра, зажимал в коленях, опьяненный звучавшей в его воображении музыкой, но так и не извлекал ни звука.
Теперь он возвращался к ней.
— Как я был неблагодарен, о старая моя подруга, о нежная моя утешительница! — воскликнул он. — Я покинул тебя в дни счастья, я вновь тебя нахожу в ненастные дни!
И он порывисто прижал инструмент к груди.
— О неисчерпаемый источник утешения! — продолжал он. — Музыка! Убежище для безутешных душ! Я вел себя как блудный сын: он бросил семью, я бросил тебя, дорогая подруга! И вот я, сраженный горем, возвращаюсь к тебе со сбитыми в кровь ногами и израненной душой, и ты протягиваешь мне руки, красавица-богиня! Ты принимаешь меня, богиня гармонии, и преисполняешься милосердия любви!
Вслед за виолончелью он достал из шкафа старую нотную тетрадь, поставил ее на пюпитр, раскрыл, устроился на высоком стуле, взял в руки виолончель и опустил смычок на струны.
Когда он заиграл, из его глаз выкатились две крупные слезы.
Левой рукой он зажал смычок под мышкой, вынул платок, неторопливо вытер глаза и снова заиграл суровую и печальную мелодию. Эту музыку и услышали Сальватор с Жаном Робером.
Читателю уже известно, как Сальватор постучал в дверь, как Жюстен пригласил обоих друзей в дом, как они спросили о причине его слез, как, наконец, школьный учитель согласился рассказать им свою историю.
Эту историю мы только что представили на суд читателей.
На молодых людей она произвела разное впечатление.
Поэт в некоторых местах был по-настоящему взволнован: сцена, где мать обрекала родного сына на горе, но не позволила ему совершить недостойный поступок, заставила Жана Робера всплакнуть.
Философ же выслушал рассказ до конца с внешней невозмутимостью, лишь при имени мадемуазель Сюзанны и г-на Лоредана де Вальженезов он вздрогнул; похоже, он не в первый раз слышал эти имена и они вызывали у него то же ощущение, что бывает, когда бередят еще не затянувшуюся рану.
— Сударь! — обратился к Жюстену Жан Робер. — С нашей стороны было бы недостойно после вашего рассказа говорить такому человеку, как вы, банальные слова утешения... Вот наши адреса; если вам когда-нибудь понадобится помощь двух друзей, мы просим не забывать о нас.
Жан Робер вырвал из записной книжки листок, написал имена и адреса и протянул его Жюстену.
Тот принял его и вложил между страницами нотной тетради.
Жюстен был уверен, что там он сможет найти листок в любое время.
Потом он протянул молодым людям обе руки.
В ту самую минуту как их руки встретились, в дверь кто-то громко постучал.
Кто мог прийти в такое время?
Жюстен был настолько поглощен своими мыслями, что даже не подумал, что этот стук мог иметь к нему хоть какое-то отношение.
Он простился с молодыми людьми, предоставив им пропустить в дверь ночного посетителя или, скорее, утреннего: уже заиграли первые солнечные лучи.
Стучавший в дверь оказался мальчишкой лет тринадцати-четырнадцати, белокурым, кудрявым, розовощеким, в лохмотьях — настоящий парижский гамен в синей рубахе, в каскетке без козырька, в стоптанных башмаках.
Он поднял голову, чтобы посмотреть, кто ему открыт.
— Ой, это вы, господин Сальватор?! — воскликнул он.
— Что ты тут делаешь в такое время, господин Баболен? — спросил комиссионер, дружески схватив мальчишку за шиворот.
— Да я принес господину Жюстену, учителю, письмо; Броканта подобрала его нынче на улице, делая свой обход.
— Раз уж мы заговорили об учителе, — заметил Сальватор, — помнишь, ты обещал мне научиться читать к пятнадцатому марта?
— О-го-го, да сегодня только седьмое февраля: успею!
— Если ты не будешь к пятнадцатому бегло читать, шестнадцатого я отберу у тебя все свои книги.
— Даже с картинками?.. Ой, господин Сальватор!
— Все до единой!
— Да ладно, умею я читать, вот поглядите, — проговорил мальчишка.
Бросив взгляд на конверт, он прочитал:
"Господину Жюстену, предместье Сен-Жак, № 20. Луидор в награду тому, кто передаст это письмо.
Мина".
Адрес и приписка были написаны карандашом.
— Неси, неси скорей, мой мальчик! — приказал Сальватор, подтолкнув Баболена к двери в квартиру учителя.
Баболен в два прыжка перелетел через двор и ворвался к Жюстену с криком:
— Господин Жюстен! Господин Жюстен! Письмо от мадемуазель Мины!..
— Что будем делать? — спросил Жан Робер.
— Останемся, — предложил Сальватор. — Вероятно, в этом письме говорится о чем-то новом и мы можем понадобиться славному молодому человеку.
Не успел Сальватор договорить, как на пороге появился Жюстен — бледный как привидение.
— А, вы еще здесь! — вскричал он. — Слава Богу! Читайте! Читайте!
Он протянул молодым людям письмо.
Сальватор взял его и прочел следующее:
"Меня увозят силой... Я сама не знаю куда! На помощь, Жюстен! Спаси меня, мой брат! Или отомсти за меня, супруг мой!
Мина".
— Ах, друзья мои! — воскликнул Жюстен, простирая к молодым людям руки. — Само Провидение привело вас сюда!
— Ну что же, — заметил Сальватор, обращаясь к Жану Роберу. — Вы просили роман — вот и он, дорогой мой!
XXX КРАТЧАЙШИМ ПУТЕМ
Все трое на какое-то мгновение замерли, растерянно глядя друг на друга.
Первым в себя пришел Сальватор, к нему вернулось обычное хладнокровие.
— Спокойно! — сказал он. — Дело нешуточное, нельзя действовать необдуманно.
— Но ее же увезли! — закричал Жюстен. — Ее похитили! Она зовет меня на помощь! Она требует отмщения!
— Да, совершенно верно, именно поэтому и надо знать, кто ее похитил и куда ее увезли.
— Как же это узнать? Боже, Боже мой!
— Когда есть время и терпение, можно узнать все, дорогой Жюстен! Вы уверены в Мине, не правда ли?
— Как в себе.
— Тогда не беспокойтесь, она сумеет защититься. Пойдем кратчайшим путем.
— Сжальтесь надо мной... Я схожу с ума!
Жюстен забыл о смирении при мысли, что Мина попала в руки какого-то похитителя и ей угрожает физическое или моральное насилие.
— Баболен здесь? — спросил Сальватор.
— Да.
— Расспросим-ка его!
— Давайте! — согласился Жюстен.
— Вот именно, — подхватил Жан Робер, — с этого надо начать.
Они возвратились в комнату учителя.
— Прежде всего, — начал Сальватор, — дайте мальчику луидор для матери и какую-нибудь мелочь для него.
Жюстен выгреб из кармана два луидора и две пятифранковые монеты и протянул их Баболену.
Однако Сальватор перехватил руку мальчишки в ту самую минуту, как тот был готов зажать деньги в кулак. Он разжал его пальцы, к величайшему разочарованию Баболена, отобрал у него один луидор, одну пятифранковую монету и вернул их Жюстену.
— Положите эти двадцать пять франков в карман, — приказал он. — Через час они вам пригодятся.
Обернувшись к гамену, он продолжал:
— Где твоя мать нашла письмо?
— Что вы сказали? — надув губы, переспросил мальчишка.
— Я спрашиваю, где твоя мать нашла письмо... По каким улицам она ходила?
— Откуда же мне знать? Спросите у нее!
— Он прав, — заметил Сальватор. — Спрашивать надо у нее, и она, возможно, вас ждет... Погодите! Нам надо хорошенько приготовиться к бою.
— Приказывайте! Я готов вам повиноваться... Сам я совсем потерял голову.
— Вы знаете, что можете мною располагать, дорогой Сальватор, — сказал Жан Робер.
— Да, и я рассчитываю дать вам в этой драме роль.
— И, если можно, самую активную! Я пережил уже волнения автора, теперь ничего не имею против того, чтобы испытать волнения действующего лица.
— О, прошу, прошу вас, господа! — взмолился Жюстен, считавший каждую минуту.
— Вы правы... Вот что надо сделать.
— Говорите!
— Господин Жюстен, ступайте с мальчуганом к его матери.
— Я готов.
— Погодите... Господин Жан Робер, вы достанете оседланного коня и приедете на улицу Трипре к дому номер одиннадцать.
— Нет ничего легче.
— Я же пойду заявить в полицию.
— Вы там с кем-нибудь знакомы?
— Я знаю человека, который нам нужен.
— Хорошо... Что дальше?
— Дождитесь меня в доме одиннадцать по улице Трипре, где живет мать этого мальчишки, а там посмотрим.
— Идем, малыш! — заторопился Жюстен.
— Прежде напишите записочку вашей матери, успокойте ее, — посоветовал Сальватор. — Возможно, вы вернетесь поздно, а может, не вернетесь вовсе.
— Вы правы, — согласился Жюстен. — Бедная матушка! Как я мог о ней забыть?!
Он торопливо набросал несколько строк и, не складывая, оставил листок на столе.
Он коротко сообщал матери, что получил письмо, требующее его отлучки на день.
— Ну, можно идти, — проговорил он.
Трое молодых людей поспешно вышли из дому. Было около половины седьмого утра.
— Вам туда! — Сальватор указал Жюстену в сторону улицы Урсулинок. — А вам — вон туда, — прибавил он, обращаясь к Жану Роберу и кивая в сторону улицы, носившей выразительное название Грязной. — Мне же — сюда, — закончил он и зашагал по улице Сен-Жак.
Не пройдя и тридцати шагов, он обернулся и крикнул:
— Встречаемся в доме номер одиннадцать по улице Трипре.
Последуем за главным героем событий, происходящих в этот час, и, пока Жан Робер бежит на Университетскую улицу, чтобы велеть оседлать свою лошадь, а Сальватор спешит в полицию, не будем упускать из виду Жюстена Корби, устремившегося вслед за Баболеном на улицу Трипре.
Улица Трипре, как знает всякий или, вернее, как знает далеко не всякий, — это небольшой переулок, проходящий параллельно улице Копо и перпендикулярно улице Грасьёз.
В 1827 году весь этот квартал еще напоминал Париж времен Филиппа Августа. Сточные канавы вдоль стен Сент-Пелажи придают этой тюрьме сходство с античной крепостью, построенной на острове. Улицы шириной в восемь-десять футов завалены кучами навоза и мусора, а клоаки, где прозябают несчастные обитатели этих кварталов, похожи скорее на хижины, чем на дома.
Возле такой лачуги и остановился Баболен.
— Это здесь, — сказал он.
Место было отвратительное, каждый его уголок отдавал нищетой и нечистотами.
Жюстен не обратил на это обстоятельство ни малейшего внимания.
— Ступай вперед, — приказал он мальчику, — я следую за тобой.
Баболен вошел с добродушным видом человека, привыкшего, как говорится, ко всякой твари в доме.
Не пройдя десяти шагов, Жюстен остановился.
— Где ты? — спросил он. — Я ничего не вижу!
— Я здесь, господин Жюстен, — подходя поближе к учителю, сказал мальчуган. — Держитесь за подол моей блузы.
Жюстен так и сделал. Он поднялся вслед за Баболеном по высокой стремянке, которую называли громким именем лестницы. Она и привела его к Броканте.
Они подошли к двери ее конуры. Жилище Броканты во всех отношениях оправдывало это название: едва они очутились на лестничной клетке, как до них донесся визг дюжины собак, которые тявкали, выли, лаяли на все голоса.
Можно было подумать, что там целая свора и она вновь почуяла упущенную было добычу.
— Это я, мать, — крикнул Баболен, приложив рупором обе руки к замочной скважине. — Отоприте! Со мной гость.
— Да замолчите вы, проклятые! — донесся из-за двери голос Броканты, обращенный к собачьей своре. — Из-за вас ничего не слышно.. Ты замолчишь, Цезарь?.. Тихо, Плутон! Всем молчать!
После этого окрика, в котором звучала угроза, наступила такая тишина, что можно было бы услышать, как скребется мышь; впрочем, это было бы и неудивительно: мышей в этом доме водилось предостаточно.
— Можешь войти вместе с гостем, — послышалось из-за двери.
— А как?
— Толкни дверь, она незаперта.
— Это другое дело.
Приподняв защелку, Баболен толкнул дверь и пропустил вперед сгоравшего от нетерпения Жюстена. Ему открылось зрелище если и не самое поэтическое, то все-таки заслуживающее подробного описания.
Вообразите нечто вроде склада, разделенного в длину и в ширину скрещивающимися балками, которые поддерживали перекрытие чердака, превращенного в комнату. Обрешетка потолка служила основанием для черепицы кровли, а .через щели в крыше пробивались первые солнечные лучи. В иных местах крыша вздулась и грозила рухнуть при первом порыве грозового ветра. Представьте: оштукатуренные стены, серые и сырые, а по ним бегают одинокие пауки, презрительно поглядывающие на кишащих насекомых всех видов, — тогда будет понятно отвращение, охватывавшее любого, кто приходил в это место под влиянием чувства менее властного, чем то, которое привело туда Жюстена.
Дюжина собак — бульдогов, такс, пуделей, нечистокровных датских догов — копошилась в углу, в корзине, рассчитанной самое большее на пять собак.
В углу, образованном двумя балками, примостилась ворона; она хлопала крыльями: ей, очевидно, нравился собачий концерт.
На низкой скамеечке сидела женщина, высокая, костлявая, худая как кляча. Женщина привалилась спиной к столбу, на котором держалось все это ненадежное здание; рядом с ней у стены возвышалось подобие насыпи из разноцветных лоскутков, достигавшее высоты трех-четырех футов. Она выглядела лет на пятьдесят. Перед ней стояла на коленях девочка. Старая цыганка расчесывала ей длинные темные волосы; она делала это старательно то ли из привязанности к самой девочке, то ли из уважения к ее прекрасным волосам.
Эта сцена, не лишенная живописности —. прежде всего из-за типического несходства ее персонажей, — освещалась глиняной лампой, стоявшей на перевернутом манекене. Лампа по форме очень напоминала римские светильники, найденные при раскопках Геркуланума или Помпеев.
На старухе — той самой, которую Баболен называл Брокантой — было платье из собранных где попало коричневых лоскутков, похожее на витрину портного, который задался целью показать образчики всех оттенков коричневого цвета.
На девочке была только длинная рубашка из сурового полотна, подобная той, в какую Шеффер одевает Миньону; рубашка, имевшая вид блузы, была подпоясана хлопчатым серо-вишневым шнурком с кистями, как на подхватах у занавесей. Шею и грудь девочки закрывал рваный шерстяной шарф вишневого цвета, гармонировавший со шнурком, насколько шерсть может сочетаться с хлопком.
Ее скрещенные ножки, на которые она, отдыхая, опиралась, были босы.
Это были очаровательные ножки, изящные, как у принцессы, андалуски или цыганки.
Лицо ее — она обернулась к двери, когда та отворилась, пропуская Баболена и учителя, — лицо ее, говорим мы, отличалось болезненной бледностью, свойственной чахлым цветам наших предместий, черты его были удивительно правильны и чисты; портила впечатление ее болезненная худоба. Круги под глазами, глубокие орбиты, беспокойный взгляд, впалые щеки, приоткрытый рот, словно от голода или страха, нахмуренные брови, нежный мелодичный голос, неожиданные в устах тринадцатилетней девочки слова — все в ней было странно и фантастично; если бы эту прелестную модель увидел наш друг Петрус, он бы решил, что перед ним — Медея-девочка или юная Цирцея.
Девочке недоставало лишь золотой палочки; окажись она в Фессалии или Абруццских горах, она стала бы настоящей феей. Ей не хватало туники с пурпурными цветами, жемчужных браслетов и диадемы, чтобы называться колдуньей. Появись у нее венок из водяных лилий на голове, перламутровая колесница, увлекаемая двумя голубками, она стала бы королевой эльфов.
Возвращаясь в зловещую действительность, скажем, что она была (при всей поэтичности и опрятности, странной среди этой нищеты) типичной парижанкой — обитательницей тоскливых предместий. Недостаток в свежем воздухе, солнце, еде — трех основах жизни — наложил неизгладимый отпечаток на это тщедушное существо.
Прибавим — рискуя задержать наше повествование, в котором, кстати, история Жюстена и Мины не более чем эпизод, — прибавим все, что нам известно об этой таинственной и нежной девочке.
А Баболена и учителя мы найдем позднее на пороге той самой комнаты, где мы их оставляем.
XXXI РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РОЗА
Однажды вечером — было это 20 августа 1820 года около девяти часов — Броканта возвращалась на тележке (Жюстен мог бы увидеть ее во дворе), запряженной ослом (Жюстен мог бы услышать, как он кричит в конюшне), — итак, Броканта возвращалась после продажи партии тряпок бумажной фабрике в Эсоне, как вдруг на обочине дороги, словно из канавы, появилась бегущая с умоляюще протянутыми руками девочка — бледная, задыхающаяся, дрожащая, охваченная ужасом; она кричала:
— На помощь! На помощь! Спасите!
Броканта была из племени цыган (в Испании их зовут гитанос), у которых похищение детей — в крови, как у хищных птиц — охота на жаворонков и голубей. Она остановила осла, спрыгнула с повозки, подхватила девочку на руки, уселась вместе с ней на прежнее место и принялась нахлестывать осла.
Справедливости ради следует отметить, что в эту минуту она была скорее похожа на волчицу, похищающую ягненка, чем на женщину, спасающую дитя.
Происшествие это, быстрое как мысль, случилось в пяти льё от Парижа, между Жювизи и Фроманто.
Девочка выскочила с левой стороны от дороги.
Занятая одной мыслью — как можно скорее уехать, Броканта решила рассмотреть ребенка только после того, как они проехали около четверти льё.
Малютка была простоволосой. Ее длинные косы расплелись то ли от бега, то ли в борьбе, которую ей пришлось выдержать. Ее лоб покрывала испарина. Одного взгляда на ее ноги оказалось довольно, чтобы понять, как долго ей пришлось бежать по бездорожью. Белое платье было в крови, хлеставшей из раны, к счастью оказавшейся неглубокой; рана была нанесена острым режущим предметом.
Очутившись в повозке, девочка — на вид ей можно было дать не больше пяти-шести лет — воспользовалась тем, что обе руки Броканты были заняты (ей надо было и править, и погонять осла), и змеей соскользнула с колен старухи на дно повозки. Забившись в самый дальний угол, она на все вопросы отвечала только одно:
— Она не гонится за мной, правда? Она не гонится за мной?
Броканта, опасавшаяся погони не меньше беглянки, пугливо выглядывала из-за парусины, которым была накрыта повозка, и, видя, что дорога пустынна, успокаивала малышку, от ужаса почти забывшую и о ране, и о боли, которую эта рана должна была ей причинять.
Уступая ее просьбам, Броканта не переставала подгонять осла, и около полуночи они подъехали к заставе Фонтенбло.
У ворот ее остановили сборщики октруа. Броканте достаточно было высунуть голову и сказать: "Это я, Броканта!" — и ее пропустили: сборщики привыкли к тому, что раз в месяц цыганка проезжала с грузом тряпок, а на следующий день возвращалась в пустой повозке. Так осел, повозка, старая цыганка и девочка въехали в город.
Они проехали по улицам Муфтар и Кле и выбрались на улицу Трипре (название которой, судя по старой, существующей еще и сегодня табличке, должно было бы писаться через два "п").
Девочка, лежавшая или, вернее, забившаяся в самый дальний угол повозки, как мы уже сказали, не подавала других признаков жизни, кроме как время от времени с непередаваемым ужасом спрашивала Броканту:
— Она не гонится за мной, правда? Она не гонится за мной?..
Едва выйдя из повозки, она бросилась в коридор и, будто обладая способностью видеть в темноте, с проворством самой ловкой кошки вскарабкалась по ступеням наверх.
Броканта поднялась следом за ней, открыла дверь в свое логово и сказала:
— Входи, малышка! Никто не знает, что ты здесь. Не бойся!
— Она за мной сюда не придет? — спросила девочка.
— Можешь не бояться.
Малышка, словно ласка, проскользнула в приотворенную дверь.
Броканта захлопнула дверь и заперла ее на ключ. Потом она спустилась и поставила повозку под навес, а осла отвела в конюшню.
С теми же предосторожностями она вернулась, вновь закрыла за собой дверь, заперла ее на засов, зажгла огарок, прикрепленный к осколку бутылки, и стала при этом слабом свете искать маленькую беглянку.
Та добралась ощупью до самого дальнего угла чердака и там, стоя на коленях, читала все молитвы, какие только знала.
Броканта позвала ее.
Но та в ответ отрицательно покачала головой.
Броканта подошла ближе, взяла ее за руку и привлекла к себе. Девочка приблизилась с нескрываемым отвращением.
Старуха хотела ее порасспросить.
Но на все вопросы беглянка отвечала одно:
— Нет, она меня убьет!
Так Брокантаине узнала, откуда девочка, кто ее родители, как ее зовут, почему ее хотят убить, кто ее ранил в грудь.
Около года малышка не сказала о своем прошлом ни слова. Только однажды во сне, в страшном кошмаре она закричала:
— Смилуйтесь, смилуйтесь, госпожа Жерар! Я не сделала вам ничего дурного, не убивайте меня!
Таким образом стало известно имя той, что хотела ее убить, — г-жа Жерар.
Беглянку надо было как-то называть. Она была бледна, как роза, что цветет посреди зимы, и Броканта, не подозревая, какое поэтичное имя она выбрала, стала звать ее Рождественской Розой.
Так это имя за ней и осталось.
В первый вечер, видя, что девочка словно в рот воды набрала, Броканта подумала, что, может быть, на другой день она разговорится. Цыганка указала ей на убогое ложе, где спал мальчик чуть старше ее, и велела лечь с ним рядом.
Но та наотрез отказалась: засаленный матрац, грязные простыни вызывали у нее отвращение. Видимо, ее родители были богаты: на ней было тонкое белье и изящное платьице.
Она взяла стул, приставила его к стене, села и сказала, что ей вполне удобно.
Так она и провела всю ночь.
Только на рассвете она задремала.
Около шести часов утра, пока беглянка спала, Броканта поднялась и вышла.
Она отправилась на улицу Нёв-Сен-Медар за одеждой для девочки.
Улица Нёв-Сен-Медар — это Тампль квартала Сен-Жак.
Старуха купила хлопчатобумажное синее платье в белый горошек, желтую косынку с красными цветами, чепчик, две пары шерстяных чулок и пару башмаков.
Все обошлось в семь франков.
Броканта рассчитывала продать прежнее платьице малышки вчетверо дороже.
Спустя час она возвратилась с покупками и застала беглянку по-прежнему сидящей на плетеном стуле. Она упорно отказывалась играть с Баболеном, как ласково он ее ни уговаривал.
При звуке отпираемой двери девочка задрожала всем телом; когда дверь распахнулась, она смертельно побледнела.
Видя, что малышка вот-вот потеряет сознание, Броканта спросила, что с ней такое.
— Я думала, что это она! — ответила та.
"Она"!.. Значит, девочка сбежала все-таки от какой-то женщины!
Броканта разложила на скамейке синее платье, желтую косынку, чепец, чулки и башмаки.
Девочка с беспокойством следила за ней.
— Ну, подойди сюда! — пригласила Броканта.
Та, не двинувшись, показала пальцем на одежду.
— Уж не для меня ли все это? — презрительно спросила она.
— А для кого же еще? — удивилась Броканта.
— Я не стану это надевать.
— Ты, стало быть, хочешь, чтобы она тебя нашла?
— Нет, нет, нет, не хочу!
— В таком случае, надо переодеться.
— А в этой одежде она меня не узнает?
— Нет.
— Тогда поскорее переоденьте меня.
Она легко рассталась с прелестным белым платьицем, тонкими чулками, батистовыми юбками, хорошенькими туфельками.
Впрочем, все это было залито кровью, и нужно было поскорее замыть ее, чтобы не вызывать любопытство соседей.
Девочка надела то, что купила Броканта, — смиренную ливрею нищеты, непререкаемый символ ожидавшей бедняжку жизни.
Броканта выстирала вещи беглянки, высушила их и сбыла за тридцать франков.
Это было совсем недурно.
Но старая колдунья надеялась в один прекрасный день заработать еще больше: разыскать родителей, вернуть или, вернее, продать им беглянку.
С тем же отвращением, с каким девочка надела нищенское платье, она отнеслась к предложению разделить семейную трапезу.
Остатки мяса, подогретые в котелке, кусок черствого хлеба, купленного по дешевке или полученного в качестве милостыни, — вот чем обыкновенно питалась Броканта и ее сын.
Баболен, не знавший другой кухни, кроме материнской, не обладал иными гастрономическими пристрастиями.
Не то — Рождественская Роза.
Она, бедняжка, несомненно привыкла к изысканным блюдам, ела на серебре и фарфоре. Едва она бросила взгляд на ожидавший Баболена и Броканту завтрак, как поспешила сказать:
— Я не голодна.
То же случилось и за обедом.
Броканта поняла, что это аристократическое дитя скорее умрет с голоду, чем прикоснется к ее стряпне.
— Чего ж тебе нужно? — спросила она. — Может, хочешь фазана в апельсинах или пулярку с трюфелями?
— Я не прошу ни пулярку, ни фазана, — отозвалась девочка. — Мне бы хотелось съесть кусочек белого хлеба, какой у нас подавали бедным по воскресеньям.
Суровую Броканту тронули ее слова, простые и в то же время жалобные. Она дала Баболену монетку в одно су.
— Ступай к булочнику на улицу Копо и купи хлебец, — приказала она.
Баболен взял деньги, в миг скатился с лестницы, в один прыжок очутился на улице Копо и через пять минут возвратился, держа в руке белый хлебец с золотистой корочкой.
Бедняжка наголодалась и съела все до последней крошки.
— Ну как, полегчало? — спросила Броканта.
— Да, сударыня, благодарю вас.
Никому до сих пор не приходило в голову называть Броканту сударыней.
— Хороша сударыня! — хмыкнула Броканта. — А теперь, мадемуазель жеманница, что желаете на десерт?
— Стакан воды, пожалуйста, — попросила малышка.
— Подай кувшин, — приказала Броканта сыну.
Баболен принес кувшин без ручки, с зазубринами на горлышке и протянул его девочке.
— Вы пьете прямо из кувшина? — нежным голоском спросила она у Баболена.
— Это мать пьет из кувшина, а я пью вот так, залпом.
И, подняв кувшин на полфута над головой, он ловко направил струю прямо в рот; стало ясно, что это упражнение ему не в диковинку.
— Я не стану пить, — заявила малышка.
— Это почему? — удивился Баболен.
— Потому что я не умею пить, как вы.
— Ты же видишь, что мадемуазель нужен стакан, — вмешалась Броканта, пожимая плечами. — Вот бедняжка-то!
— Стакан? — переспросил Баболен. — Был у нас здесь где-то стакан!
Покопавшись, он обнаружил в углу то, что искал.
— Держи, — сказал он, наполняя стакан водой и подавая его девочке, — пей!
— Нет, я не буду, — отказалась она.
— Почему?
— Я не хочу пить.
— Хочешь! Ты же только что просила воды.
Малышка покачала головой.
— Ты же видишь, мы для нее хамы, — заметила мать, — мадемуазель не может пить ни из наших кувшинов, ни из наших стаканов.
— Да, если они грязные, — тихо и грустно проговорила девочка. — Но... но... я хочу пить! — прибавила она, разразившись слезами.
Баболен еще раз стремительно скатился вниз, сбегал к соседнему фонтану, несколько раз ополоснул стакан и принес девочке: теперь стакан сиял словно богемский хрусталь, а вода в нем была свежа и прозрачна.
— Спасибо, господин Баболен, — поблагодарила Рождественская Роза.
Она залпом выпила воду.
— О! Господин Баболен! — выпятив грудь, заважничал мальчуган. — Вот, мать, когда пойдем с тобой к Багру, о нас доложат: "Господин Баболен и госпожа Броканта!"
— Прошу прощения, — спохватилась девочка, — меня учили так обращаться. Я больше не буду так говорить, если это дурно.
— Да нет же, детка, это хорошо, — возразила Броканта, покоренная вопреки своей воле превосходством воспитания, которое простые люди порой поднимают на смех, но которое неизменно производит на них сильное впечатление.
Вечером перед сном повторилась та же сцена, что и накануне.
Мать и сын спали на одном матраце, брошенном на тряпье в углу комнаты.
Рождественская Роза упорно отказывалась спать вместе с ними.
Эту ночь она снова провела на стуле.
На следующий день Броканта сделала над собой усилие, положила в карман тридцать франков, вырученные от продажи нарядного платья девочки, вышла, купила кушетку за сорок су, матрац за десять франков — небольшой, но чистый, подушку за три с половиной франка, две пары мадаполамовых простынь и хлопчатое одеяло — все безупречной чистоты.
Она приказала отнести покупки к себе на чердак.
Истратила она ровно двадцать три франка и, значит, была с девочкой в расчете.
— Ой, какая хорошенькая чистая кроватка! — воскликнула та при виде заправленной кушетки.
— Это вам, мадемуазель Жеманница, — проворчала Броканта. — Похоже, вы принцесса, вот мы и обращаемся с вами как с принцессой, а как же!
— Я не принцесса, — возразила девочка, — но там у меня была чистая постель.
— Ну, стало быть, и здесь будет такая же, как там... Вы довольны?
— Да, вы очень добры!
— Где желаете поселиться? Не прикажете ли снять для вас комнату на улице Риволи, да еще в бельэтаже?
— Позвольте мне занять этот угол, — попросила девочка.
Она показала на выступ в чердаке, который образовывал нечто вроде маленькой комнатки, вдававшейся в соседний чердак.
— И вам будет этого довольно? — засомневалась Броканта.
— Да, сударыня, — с привычным смирением подтвердила Рождественская Роза.
Кушетку поставили туда, куда указала беглянка.
Мало-помалу угол обставили, и он стал похож на спальню.
Броканта была далеко не так бедна, как казалось, но отличалась чудовищной скупостью; ей стоило большого труда заставить себя достать деньги из тайника, в который она их прятала.
Но у Броканты был доход — она гадала на картах.
Вместо денег она решила брать с клиентов натурой: в квартале жили бедняки и деньги водились не у всех.
Поэтому со старьевщицы она потребовала занавеску из персидского шелка, с краснодеревщика — небольшой столик, с торговца подержанными вещами — ковер. Через месяц уголок Рождественской Розы был обставлен полностью и стал называться алтарем.
Она был счастлива или почти счастлива.
Мы говорим "почти", потому что ее бумажное синее платье, желтая косынка в красный цветочек, шерстяные чулки и чепец были ей отвратительны.
И по мере того как эти вещи изнашивались, Рождественская Роза сама стала заниматься своим туалетом.
Прежде всего она старательно расчесывала свои волосы, такие длинные, что, когда она откидывала их назад, они доходили до пят.
Она проявляла изобретательность: рубашку из грубого полотна подвязывала самодельным шнурком, сооружала на голове тюрбан из яркого шарфа, запахивалась в старую шаль как в плащ, а то из ветки боярышника делала себе душистый венок; и всегда она одевалась так живописно, что могла бы служить художнику моделью: он непременно увидел бы в ней то антильскую креолку, то испанскую цыганку, то галльскую жрицу.
Но она никогда не выходила на свежий воздух, а солнце пробивалось на чердак лишь через маленькие щелочки; питалась только хлебом и пила одну воду; холод проникал во все щели в конуре Броканты, а девочка, независимо от времени года, почти всегда была одета одинаково — и в десятиградусный мороз и в двадцатипятиградусную жару, — вот почему в ее облике появилось нечто болезненное и страдальческое, что мы и попытались изобразить. А сухой кашель, от которого на щеках Рождественской Розы появлялся румянец, указывал на то, что приютившее ее убогое жилище уже оказало на нее пагубное воздействие, а в будущем и вовсе могло свести ее в могилу.
О ее семье, как и о страшном происшествии, толкнувшем ее на встречу с Брокантой — а та полюбила девочку, насколько она была способна любить, — никогда больше не заговаривали.
Вот какой была Рождественская Роза, стоявшая на коленях в ногах у Броканты в ту минуту, когда Баболен с учителем появились на пороге.
XXXII SINISTRA CORNIX[16]
Зрелище, открывшееся Жюстену, было способно привлечь внимание человека, менее поглощенного своими мыслями; учитель помнил только о Мине, похищенной и взывавшей к его помощи.
Молодой человек шагнул на чердак, равнодушный ко всему, кроме занимавшей его мысли.
— Мать! — начал Баболен, выступая вперед, словно переводчик, за которым следует тот, чьи слова он должен передать. — Это господин Жюстен, учитель, пожелавший расспросить вас лично о том, что я не мог ему рассказать.
Старуха улыбнулась с таким видом, словно ожидала этот визит.
— А луидор? — вполголоса спросила она.
— Вот он, — отвечал Баболен, сунув ей в руку золотую монету, — но вы должны купить Рождественской Розе теплую одежду.
— Спасибо, Баболен, — поблагодарила девочка, подставляя ему лоб для поцелуя, и тот чмокнул ее по-братски, — спасибо, мне не холодно.
С этими словами она кашлянула несколько раз, что безоговорочно опровергало ее слова.
Но, как мы уже сказали, все эти подробности, способные поразить другого человека, для Жюстена будто не существовали или существовали как утренний туман, что поднимается между путником и целью его путешествия, застилает эту цель, но не может совершенно ее скрыть.
— Сударыня... — начал он.
При слове "сударыня" Броканта подняла голову, желая удостовериться, к ней ли он обращается.
Жюстен оказался вторым человеком, назвавшим ее сударыней; первой была Рождественская Роза.
— Сударыня, — продолжал Жюстен, — это вы нашли письмо?
— Надо думать! — хмыкнула Броканта. — Ведь переправила вам его я!
— Да, за что я вам чрезвычайно признателен, — сказал Жюстен. — Однако я хотел бы знать, где вы его подобрали.
— В квартале Сен-Жак, это точно.
— Я хотел бы знать, на какой улице?
— Я на табличку не глядела, но это было где-то между улицами Дофины и Муфтар.
— Постарайтесь вспомнить, умоляю вас! — воскликнул Жюстен.
— Мне кажется, это все-таки было на улице Сент-Андре-дез-Ар.
Более искушенный наблюдатель, знающий цыганок, сразу догадался бы, что Броканта мелет вздор не случайно. Наконец и до Жюстена дошло, с кем он имеет дело.
— Возьмите, это поможет вам вспомнить.
И он протянул ей другой луидор.
— Послушай, мать, смилуйся над господином Жюстеном, — стал увещевать ее сын, — сделай то, о чем он просит; господин Жюстен — это тебе не первый встречный, его уважают в квартале Сен-Жак!
— Ты зачем вмешиваешься, мальчишка? — проворчала старуха. — Проваливай!
— Ну, как хотите, — решил Баболен. — В конце концов, господин Жюстен просил меня привести его сюда; он здесь — пусть выпутывается сам! Он уже достаточно взрослый, пускай сам занимается своими делами.
И он пошел играть с собаками.
— Броканта! — заговорила Рождественская Роза нежным мелодичным голоском. — Вы же видите, как молодой человек беспокоится, как он страдает; пожалуйста, скажите ему то, о чем он вас просит.
— Заклинаю вас, прелестное дитя, — взмолился учитель, прижав руки к груди, — попросите за меня!
— Она скажет! — пообещала девочка.
— Скажет, скажет!.. Конечно, скажу, — проворчала старуха, словно подчиняясь некой высшей силе, — ты знаешь мою слабость: я ни в чем не могу тебе отказать.
— Итак, сударыня, — едва сдерживая нетерпение, продолжал. Жюстен, — напрягите память! Небом заклинаю вас, вспомните!
— Мне кажется, это было... Да, теперь я точно могу сказать, это было здесь.. Кстати, можно спросить у карт.
— Значит, — проговорил Жюстен, словно размышляя вслух и пропуская мимо ушей последние слова Броканты, — они пересекли Сену, проехав по Новому мосту и, вероятно, направились к заставе Фонтенбло или заставе Сен-Жак.
— Вот именно! — вставила Броканта.
— Откуда вы знаете? — удивился молодой человек.
— Я сказала: "Вот именно", это все равно, что сказать: "Вероятно".
— Послушайте, — продолжал Жюстен, — если вы что-нибудь знаете, Небом заклинаю: не молчите!
— Ничего я не знаю, — проворчала Броканта, — кроме того, что нашла на площади Мобер письмо на ваше имя, которое и передала вам.
— Броканта! — снова вмешалась Рождественская Роза. — Вы злая женщина! Вы еще что-то знаете и не говорите.
— Ничего я больше не знаю! — отрезала Броканта.
— Напрасно вы выпроваживаете господина Жюстена, мать! — подал голос Баболен. — Это друг господина Сальватора.
— Я не выпроваживаю этого господина; я говорю ему, что не знаю, о чем он спрашивает! А когда чего-то не знаешь, надо спросить еще у кого-нибудь.
— У кого мне спросить, говорите скорее!
— У того, кому известно все: у карт.
— Ладно, — смирился учитель. — Спасибо и на том, что вы сказали. Пойду теперь к господину Сальватору, он в полиции.
С этими словами молодой человек направился к выходу.
Броканта, видно, передумала и остановила его:
— Господин Жюстен!
Молодой человек обернулся.
Старуха показала пальцем на ворону, захлопавшую крыльями над его головой.
— Взгляните на птицу, — приказала она, — взгляните на птицу!
— Ну и что? — отозвался Жюстен.
— Она хлопает крыльями, не правда ли?
— Да.
— Вот и все. Раз ворона хлопает крыльями, надеяться особенно не на что.
— Это какой-нибудь знак?
— Господи Иисусе! И вы еще спрашиваете?! Образованный человек, учитель, а не знаете, что ворона — вещая птица?
— Так что же означает хлопанье крыльев вашей птицы?
— Это значит... Это значит, что вы не так-то скоро найдете человека, которого ищете. Вы ведь кого-то ищете?
— Да, и я готов все отдать ради того, чтобы найти этого человека.
— Теперь вы сами видите, что ворона знает это не хуже нас с вами.
— Так что это за знак?
— Этот знак... Этот знак, изволите видеть, изображает ваше старание: ворона хлопает крыльями в воздухе, как вы бьетесь в пустоте; она трижды хлопнула крыльями — значит, вы будете искать три года. От имени птицы советую вам попусту не хлопотать, а послушать, что скажут карты.
— Что ж, послушаем, — согласился Жюстен, — пусть они говорят!
И как тонущий хватается за соломинку, так и Жюстен вернулся, готовый поверить картам, как бы мало ни было похоже на правду то, что они скажут.
— Разложить малую или большую колоду? — спросила Броканта.
— Как вам будет угодно... Вот вам луидор.
— О, тогда разложу большую и еще пасьянс Калиостро!.. Подай мою большую колоду, Роза, — приказала Броканта.
Девочка встала, легкая, стройная и гибкая как пальма; она достала из старого сундука в углу колоду карт и подала старухе. Руки у девочки были худые, но белые, а ногти — ухоженные, как у щеголихи.
Баболену эти кабалистические опыты были, очевидно, не в диковинку, но он подошел поближе, сел на пол, скрестив ноги, и с простодушным восхищением приготовился смотреть и слушать магический сеанс.
Броканта вытащила из-за спины большую деревянную доску в форме подковы и положила себе на колени.
— Подзови Фареса, — приказала она девочке, кивнув в сторону вороны, сидевшей на балке и откликавшейся на одно из трех кабалистических слов, начертанных во время Валтасарова пира.
Ворона перестала хлопать крыльями и словно ждала своего выхода во время готовившейся сцены.
— Фарес! — позвала девочка как можно нежнее.
Ворона спрыгнула ей на правое плечо, девочка села перед старухой, немного наклонившись в ее сторону плечом, на котором устроилась ворона.
Броканта издала одновременно губами и горлом странный звук, похожий и на свист и на крик.
Заслышав этот пронзительный звук, двенадцать собак торопливо бросились вон из корзины и, как и подобало ученым тварям, расселись кругом слева и справа от гадалки с важностью докторов, готовых начать богословский спор; они образовали вокруг стола правильный круг, в центре которого находилась Броканта.
Когда собаки закончили свои шумные приготовления, по-видимому совершенно необходимые (так как в течение всего этого маневра собаки заунывно подвывали), установилась полная тишина.
Броканта оглядела ворону и собак; когда осмотр был закончен, она торжественно произнесла несколько слов, вероятно, на непонятном ей самой языке, который арабы могли бы принять за французский, но в котором французы ни за что не признали бы арабского.
Мы не знаем, поняли ли Баболен, Рождественская Роза и Жюстен смысл ее слов; но можем с уверенностью утверждать, что ее поняли двенадцать собак и ворона, судя по размеренному тявканью и по карканью птицы; карканье подражало резкому звуку, которым старуха подозвала к себе всю свору.
Потом тявканье прекратилось, крик птицы смолк; собаки, до тех пор чинно сидевшие и меланхолически глядевшие друг на друга, улеглись.
Ворона перелетела с плеча Рождественской Розы на голову старухе и уселась поудобнее, вцепившись когтями в седые волосы Броканты.
Окажись там в эту минуту художник-жанрист, ему открылась бы следующая картина.
Мрачный чердак; сквозь редкие щели с трудом пробиваются полоски света.
Старуха сидит в окружении лежащих псов; у нее в ногах Баболен; Рождественская Роза стоит, прислонившись к столбу.
Эта группа освещена красноватым светом глиняной лампы.
Жюстен, бледный, нетерпеливый, едва виден в полутьме.
Птица хлопает время от времени крыльями с пронзительным карканьем, как в басне о вороне, который хочет стать орлом.
Только, в отличие от ворона, вцепившегося в белую шерсть барашка, наша ворона запустила когти в седые волосы старухи.
Картина неправдоподобна, нелепа; она могла бы подействовать и на менее впечатлительного человека, чем Жюстен.
Освещенная, как мы уже сказали, красноватым светом коптящей лампы, колдунья вытянула вперед голую иссушенную руку и стала описывать в воздухе огромные круги.
— Молчите все! — приказала она. — Слово за картами.
Собаки и ворона притаились.
И вот Броканта хриплым голосом стала передавать таинственный рассказ карт.
Но прежде старая сивилла перемешала колоду и предложила Жюстену снять левой рукой.
— Вы, разумеется, хотите узнать, что с той, которую вы любите?
— Да, которую я обожаю! — кивнул Жюстен.
— Ладно!.. Вы будете валетом треф, то есть молодым человеком, предприимчивым и ловким.
Жюстен грустно улыбнулся: предприимчивости и ловкости ему прежде всего не хватало.
— Она... она дама червей, то есть женщина нежная и любящая.
Ну, на Мину, по крайней мере, это было похоже.
Перемешав и сняв колоду, условившись, что валет треф будет представлять Жюстена, а дама червей — Мину, Броканта открыла три карты.
Она проделала то же шесть раз.
Всякий раз, когда выпадало по две карты одной масти, то две трефы, то две бубны, то две пики, она забирала более крупную карту и выкладывала ее перед собой слева направо.
Итак, перед ней лежало шесть карт.
Покончив с этим, она снова перемешала колоду, опять заставила Жюстена снять левой рукой, и все повторилось сначала.
В одной из троек выпало три туза. Гадалка взяла их и разложила рядком.
Этот брелан сократил время, дав ей сразу три карты вместо одной.
Она продолжала до тех пор, пока не набрала семнадцать карт.
Карты, представлявшие Жюстена и Мину, тоже вышли.
Гадалка отсчитала семь карт справа налево; первой был валет треф.
— Ну вот! — проговорила она. — Та, которую вы любите, — юная блондинка лет шестнадцати-семнадцати.
— Верно, — подтвердил Жюстен.
Она отсчитала еще семь карт: выпала семерка червей.
— Несбывшиеся мечты!.. Вы с ней строили планы, которые так и не смогли осуществиться.
— Увы! — прошептал Жюстен.
Старуха отсчитала еще семь карт и показала на девятку треф.
— Эти планы были нарушены из-за денег, которых вы не ожидали, то ли пенсион, то ли наследство.
Она опять отсчитала семь карт и попала на десятку пик.
— Странно! — продолжала Броканта. — Деньги, которые обыкновенно приносят радость, заставили вас плакать!
Она снова отсчитала карты: вышел туз пик.
— Письмо, что я вам передала, от молодой особы, которой грозит тюрьма.
— Тюрьма? — вскричал Жюстен. — Это невозможно!
— Так говорят карты... Тюрьма, заточение, заключение...
— В самом деле, — прошептал Жюстен, — раз ее похитили, то для того чтобы спрятать... Продолжайте, продолжайте! До сих пор все верно.
— Письмо вы получили, когда находились среди друзей.
— Да, это друзья... и добрые друзья!
Броканта отсчитала еще семь карт и показала на выпавшую даму пик.
— Зло исходит от брюнетки, которую ваша возлюбленная считает своей подругой.
— Мадемуазель Сюзанна де Вальженез, может быть?
— Карты говорят, что брюнетка, имени они не называют.
Она продолжала отсчет и попала на восьмерку пик.
Открыв ее, она сказала:
— Несбывшаяся мечта — это свадьба.
Жюстен задыхался: до сих пор, то ли случайно, то ли по волшебству, но карты говорили правду.
— О, продолжайте, во имя Неба, продолжайте!
Она так и сделала и попала на одного из трех тузов, лежавших вместе.
— Ого! — вскрикнула она. — Заговор!
Через семь карт выпал король треф.
— В эту минуту вам помогает верный друг, который любит оказывать услуги...
— Сальватор! — прошептал Жюстен. — Так он мне представился.
— Но его планы кто-то расстроил! — прибавила старуха. — А то, что он сейчас для вас делает, запоздало.
— Что с блондинкой? Что с блондинкой? — спросил Жюстен.
Старуха отсчитала еще раз до семи и показала на валета пик.
— О! — воскликнула она. — Ее похитил молодой человек, черноволосый, с дурными наклонностями.
— Где она? Скажи, где она, и я отдам тебе все, что имею! — закричал Жюстен.
Порывшись в карманах, он выгреб горсть серебряных монет и приготовился высыпать их на стол, где Броканта раскладывала карты, как вдруг почувствовал, что кто-то остановил его руку.
Он обернулся: это Сальватор — никто не видел и не слышал, как он вошел, — воспротивился его чрезмерной щедрости.
— Спрячьте деньги в карман, — приказал он Жюстену, — спускайтесь вниз, садитесь на коня господина Жана Робера, галопом скачите в Версаль, никого не пускайте в комнату Мины и следите за тем, чтобы никто не выходил во двор... Сейчас половина восьмого, через час вы должны быть у госпожи Демаре.
— Но... — нерешительно начал Жюстен.
— Поезжайте, не теряя ни минуты, так надо! — сказал Сальватор.
— А как же...
— Отправляйтесь или я ни за что не поручусь!
— Еду! — отозвался Жюстен.
Уже выходя, он крикнул Броканте:
— Не беспокойтесь, я к вам еще зайду!
Он торопливо спустился, принял повод из рук Жана Робера, прыгнул в седло — ведь он, сын фермера, с детства привык к лошадям — и поскакал галопом по улице Копо, то есть самым коротким путем к дороге на Версаль.
XXXIII КАРТЫ НЕ ЛГУТ
Передав Жюстену коня, Жан Робер ощупью нашел лестницу, которую показал ему Сальватор, когда вернулся из полиции и застал его первым в условленном месте.
Мы сколько угодно могли бы шутить на тему о лестницах, чердаках и поэтах. Но у Жана Робера, как мы уже сказали, была лошадь — отличная полукровка, способная за час проскакать пять льё; итак, Жан Робер не был похож на обыкновенного поэта, у которого в голове только лестницы да чердаки.
Завидев Сальватора, старуха с тяжелым вздохом выронила колоду из рук, собаки вернулись в корзину, ворона снова уселась на балку.
Когда Жан Робер вошел в комнату, он все же увидел живописную группу, которая могла порадовать глаз его друга художника Петруса и которая именно своей живописностью сразу захватила его поэтическую натуру.
Перед ним сидела на скамеечке старая гадалка, в ногах у нее лежал Баболен, а Рождественская Роза, как и прежде, стояла, прислонившись к столбу.
Броканта с заметным беспокойством ждала, что скажет Сальватор.
Дети улыбались ему как другу, но по-разному.
У Баболена улыбка была веселой, у Рождественской Розы — грустной.
К величайшему изумлению Броканты, Сальватор словно не заметил карт.
— Это вы, Броканта? — спросил он. — Как себя чувствует Рождественская Роза?
— Хорошо, господин Сальватор, очень хорошо, — пролепетала девочка.
— Я не тебя спрашиваю, бедняжка, а вот ее.
— Покашливает, — отвечала старуха.
— Доктор заходил?
— Да, господин Сальватор.
— Что сказал?
— Что надо как можно скорее съезжать с этой квартиры.
— Правильно сделал, я давно вам об этом толкую, Броканта.
Нахмурившись, он еще строже продолжал:
— Почему у девочки голые ноги?
— Не хочет надевать ни чулки, ни башмаки, господин Сальватор.
— Это правда, Рождественская Роза? — ласково спросил молодой человек, хотя в голосе его слышался упрек.
— Я не надеваю чулки, потому что у меня они одни — из грубой шерсти, а башмаки тоже одни — из грубой кожи.
— Почему же Броканта не купит тебе тонкие чулки и туфли?
— Это слишком дорого, господин Сальватор, а я бедна, — вмешалась старуха.
— Ошибаешься, это недорого, — возразил Сальватор. — И ты лжешь, когда говоришь, что бедна.
— Господин Сальватор!
— Тихо! И послушай-ка меня!
— Я слушаю, господин Сальватор.
— И сделаешь, как я скажу?
— Постараюсь.
— И сделаешь, как я скажу? — повелительно повторил молодой человек.
— Да.
— Если через неделю — слышишь? — если через неделю ты не найдешь комнату для себя и Баболена, а также просторную светлую комнату для этой девочки и отдельную конуру для собак, я заберу у тебя Рождественскую Розу.
Старуха обхватила девочку за талию и прижала к себе, словно Сальватор мог сейчас же привести угрозу в исполнение.
— Вы отнимете у меня мою девочку?! — вскричала старуха. — Мою девочку, которая живет со мной семь лет?
— Прежде всего, она не твоя, — возразил Сальватор. — Ты ее украла.
— Спасла, господин Сальватор! Спасла!
— Украла ты ее или спасла, об этом ты поспоришь с господином Жакалем.
Броканта умолкла и еще крепче прижала к себе Рождественскую Розу.
— Впрочем, я пришел не за этим, — продолжал Сальватор, — я пришел за несчастным юношей, из которого ты вытягивала последние деньги, когда я появился.
— Ничего я не вытягивала, господин Сальватор: я брала то, что он мне давал добровольно.
— Значит, ты его обманывала.
— Я его не обманывала, я говорила ему правду.
— Откуда тебе ее знать?
— Из карт.
— Врешь!
— Однако карты...
— Твои карты — средство мошенничества!
— Господин Сальватор! Рождественской Розой клянусь: все, что я ему сказала, — чистая правда.
— Что ты ему сказала?
— Что он любит блондинку лет шестнадцати-семнадцати.
— Кто тебе это сказал?
— Карты.
— Кто тебе это сказал? — властно повторил Сальватор.
— Баболен; он слышал об этом от соседей.
— Вот ты чем занимаешься! — обратился Сальватор к Баболену.
— Простите, господин Сальватор, я не думал, что поступаю плохо, рассказывая об этом Броканте. Все в предместье Сен-Жак знают, что господин Жюстен влюблен в мадемуазель Мину.
— Дальше, Броканта. Что еще ты ему сказала?
— Сказала, что девушка его любит, что они хотели пожениться, но этому помешали неожиданные деньги.
— Кто тебе это сказал?
— Господин Сальватор! Трефовая десятка означает "деньги", пиковая восьмерка — "обманутую мечту".
— Кто тебе это сказал, Броканта? — все более теряя терпение, продолжал настаивать Сальватор.
— Один славный кюре, господин Сальватор... Старый добрый седовласый кюре, а уж он, конечно, врать не станет! Он говорил толпе, которая его расспрашивала: "Как подумаю, что из-за этих двенадцати тысяч франков..." Не упомню точно, десяти или двенадцати.
— Неважно!
— "Как подумаю, — говорил добрый старый кюре, — что из-за двенадцати тысяч франков, которые я привез, и произошло это несчастье!.."
— Хорошо, Броканта. А потом что ты ему сказала?
— Что мадемуазель Мину похитил черноволосый молодой человек.
— Откуда ты это знаешь?
— Господин Сальватор, там, видите ли, был пиковый валет, а пиковый валет...
— Откуда ты знаешь, что девушка была похищена? — топнув ногой, повторил Сальватор.
— Сама ее видела, сударь.
— Ты ее видела?
— Как вижу вас, господин Сальватор.
— Где?
— На площади Мобер.
— Ты видела Мину на площади Мобер?
— Нынче ночью, господин Сальватор, нынче ночью... Я только что обошла улицу Галанд и пошла через площадь Мобер. Вдруг пролетает карета, да так быстро, словно лошади понесли. Стекло опустилось, и я слышу: "Ко мне, на помощь! Меня похищают!" Затем из окна показывается хорошенькая, словно у херувимчика, белокурая головка. Сейчас же рядом — другая голова: черноволосый молодой человек, усатый... Он втягивает назад ту, что кричала, и поднимает стекло. Но девушка успела бросить письмо.
— И письмо это?..
— То самое, на котором был указан адрес господина Жюстена.
— В котором часу это было, Броканта?
— Было, должно быть, пять часов утра, господин Сальватор.
— Ладно! Это все?
— Да.
— Поклянись Рождественской Розой!
— Клянусь Рождественской Розой!
— Почему ты просто не рассказала господину Жюстену все, как оно было?
— Соблазнилась я, господин Сальватор: он всем станет рассказывать, что тут было, и у меня прибавится клиентов.
— Вот тебе, Броканта, луидор за то, что сказала правду, — продолжал Сальватор. — Но на этот луидор ты купишь девочке три пары хлопчатых чулок и шевровые туфли.
— Я хочу красные туфли, господин Сальватор, — вставила Рождественская Роза.
— Получишь любого цвета, какой захочешь, дитя мое.
Повернувшись к Броканте, он продолжал:
— Ты все слышала! Если через неделю, день в день, час в час, я вас еще застану здесь, то заберу Рождественскую Розу.
— Ах! — вздохнула старуха.
— А тебя, Розочка, если я еще застану с голыми ногами, я прикажу одеть так, как ты была одета, когда я увидел тебя впервые пять лет назад.
— Ой, господин Сальватор! — испугалась девочка.
Еще раз приблизившись к старухе, он негромко сказал ей:
— Не забудь, Броканта, что ты отвечаешь за девочку головой! Если ты ее заморозишь на своем чердаке, ты сгниешь в тюрьме от холода, голода и нищеты.
После этой угрозы он склонился над девочкой, и та подставила ему лоб для поцелуя.
Он направился к выходу и знаком приказал Жану Роберу следовать за ним. Жан Робер бросил последний взгляд на старуху и двоих детей и вышел вслед за Сальватором.
— Кто эта странная девочка? — спросил он у Сальватора, когда они очутились на улице.
— Одному Богу известно! — ответил тот.
Продолжая спускаться по улице Копо, а затем по улице Муфтар, он рассказал поэту о том, что произошло вечером 20 августа и как девочка, которую поэт только что видел и чья дикая красота произвела на него такое сильное впечатление, попала в руки Броканты, — в навозной куче оказалась жемчужина.
Рассказ много времени не занял: когда они вышли на Новый мост, Сальватор умолк.
— Здесь! — сказал Сальватор, прислонившись к решетке, окружавшей статую Генриха IV.
— Вы здесь решили остановиться? — уточнил Жан Робер.
— Да.
— Зачем?
— Надо подождать.
— Чего?
— Карету.
— Куда она нас повезет?
— О, дорогой мой, вы слишком любопытны!
— Тем не менее...
— Будучи драматическим поэтом, вы должны знать, что это настоящее искусство — уметь поддерживать интерес.
— Ну, как вам будет угодно. Подождем.
Впрочем, ждать им пришлось недолго.
Спустя десять минут карета, запряженная парой выносливых лошадей, свернула с набережной Орфевр и остановилась против статуи Генриха IV.
Человек лет сорока отворил дверцу и проговорил:
— Едем! Скорее!
Молодые люди сели в карету.
— Ты знаешь, куда ехать, — сказал человек кучеру.
И лошади помчались галопом, проехали мост и свернули на Школьную набережную.
XXXIV ГОСПОДИН ЖАКАЛЬ
Поведаем нашим читателям о том, во что г-н Сальватор не счел нужным посвящать Жана Робера.
Расставшись с Жюстеном и Жаном Робером на улице Предместья Сен-Жак, Сальватор, как мы уже сказали, отправился в префектуру полиции.
Он пришел в отвратительный тупик, носящий имя Иерусалимской улицы, тесную, темную, грязную клоаку, куда даже солнце никогда не заглядывает.
Сальватор шагнул за порог префектуры проворно и свободно, как завсегдатай мрачного особняка.
Было семь часов утра — иными словами, только что начало светать.
Его остановил привратник.
— Эй, сударь! — крикнул он. — Вы куда?.. Сударь! Эй!
— В чем дело? — обернулся Сальватор.
— Простите, господин Сальватор, я вас не узнал.
И он со смехом прибавил:
— Сами виноваты: одеты как важный господин.
— Господин Жакаль уже у себя? — спросил Сальватор.
— Еще у себя — он там и ночевал.
Сальватор прошел через двор, потом в арку напротив двери, свернул налево, по небольшой лестнице поднялся двумя этажами выше, прошел коридор и спросил у пристава, где г-н Жакаль.
— Он сейчас очень занят! — отвечал пристав.
— Скажите, что его спрашивает Сальватор, комиссионер с Железной улицы.
Пристав исчез за дверью и почти тотчас вернулся.
— Через две минуты господин Жакаль будет в вашем распоряжении.
Действительно, дверь скоро снова распахнулась и, раньше чем показался хозяин кабинета, послышался его голос:
— Ищите женщину, черт побери! Ищите женщину!
Потом показался тот, чей голос они только что слышали.
Попытаемся набросать портрет г-на Жакаля.
Это был человек лет сорока, неимоверно длинный и тонкий, червеобразный, как говорят натуралисты, но с короткими жилистыми ногами.
Тело говорило о гибкости, ноги — о проворстве.
Голова его, казалось, принадлежала сразу всем семействам разряда пальцеходящих хищников: шевелюра, или грива, или масть — как угодно читателю, — была рыжевато-серая; уши, длинные, торчащие на голове, были заострены и покрыты шерстью, совсем как у барса; глаза, цвета желтого ириса вечером, зеленые днем, напоминали одновременно глаза рыси и волка; зрачок, вытянутый вертикально, как у кошки, сужался и расширялся в зависимости от силы света; нос и подбородок (мы чуть не сказали морда) были заострены, как у борзой.
Голова лисицы и тело хорька.
А ноги, о которых мы уже упомянули, были такие, что г-н Жакаль мог, по примеру куницы, проскользнуть повсюду и проскочить в самую узкую щель, лишь бы пролезла голова.
Вся физиономия, как у лисицы, изобличала лукавство, хитрость и тонкость; как ночной хищник, охотящийся на кроликов и кур, г-н Жакаль выходил из своей норы на Иерусалимской улице и отправлялся на охоту лишь с наступлением темноты.
Он прищурился и заметил в полумраке коридора того, о ком ему доложил пристав.
— A-а, это вы, дорогой господин Сальватор! — поспешив навстречу гостю, воскликнул он. — Чему я обязан удовольствием видеть вас так рано?
— Мне сказали, сударь, что вы очень заняты, — отвечал Сальватор, с трудом преодолевая отвращение к полицейскому.
— Верно, дорогой господин Сальватор. Но вы отлично знаете, что нет такого дела, какое я сейчас же не оставил бы ради удовольствия побеседовать с вами.
— Идемте к вам в кабинет, — пропуская комплимент г-на Жакаля мимо ушей, предложил Сальватор.
— Невозможно, — возразил г-н Жакаль, — меня ждут двадцать человек.
— Эти люди у вас надолго?
— Минут на двадцать, по минуте на каждого. В девять я должен быть в Ба-Мёдоне.
— В Ба-Мёдоне?
— Да.
— Какого черта вы там собираетесь делать?
— Должен констатировать смерть от удушья.
— Удушья?
— Двое молодых людей покончили с собой, да... Старшему всего двадцать четыре года, кажется.
— Несчастные! — вздохнул Сальватор.
Потом, переходя к делу Жюстена, он сказал:
— Дьявольщина! Мне так нужно было поговорить с вами без помех! Я хотел сообщить вам нечто очень важное.
— У меня идея...
— Говорите!
— Я еду в карете один. Поедемте со мной: в дороге вы мне обо всем расскажете. О чем речь, в двух словах?
— О похищении.
— Ищите женщину!
— Черт подери! Ее-то мы и ищем.
— Нет, не похищенную надо искать.
— Кого же?
— Ту, которая приказала ее похитить.
— Вы полагаете, в этом деле замешана женщина?
— Женщина замешана в любом деле, господин Сальватор, поэтому-то наша работа так трудна. Вчера мне сообщили, что один кровельщик упал с крыши...
— И вы сказали: "Ищите женщину!"
— Это первое, что я сказал.
— И что же?
— Они надо мной посмеялись и сказали, что у меня навязчивая идея. Но стали искать женщину и нашли!
— Как же было дело?
— Недотепа обернулся поглазеть на женщину, она одевалась в мансарде напротив, и так ему это понравилось, ей-Богу, что он забыл, где стоит: нога подвернулась и — трах-тарарах!
— Убился?
— Насмерть, дурачина! Ну что, договорились: вы едете со мной в Ба-Мёдон?
— Да, но я с другом.
— У меня четырехместная карета. Фаржо, — обратился г-н Жакаль к приставу, — прикажите запрягать.
— Сначала мне надо зайти на улицу Трипре, — предупредил Сальватор.
— Даю вам полчаса.
— Где мы встретимся?
— У статуи Генриха Четвертого. Я прикажу остановить карету, вы сядете и — вперед, кучер!
Господин Жакаль возвратился к себе в кабинет, Сальватор отправился за Жаном Робером на улицу Трипре.
Все произошло так, как они условились: молодые люди сели в карету к г-ну Жакалю и втроем они покатили в Ба-Мёдон.
Мы попытались описать внешность г-на Жакаля; теперь два слова о его характере.
Господин Жакаль начинал с должности комиссара полиции, но благодаря выдающимся способностям постепенно поднялся до самой вершины — должности начальника уголовной полиции.
Он знал наперечет всех парижских воров, мошенников, цыган, освобожденных каторжников, беглых каторжников, матерых воров, начинающих воров, искусных воров, отошедших от дел воров — все они кишмя кишели под его всеохватывающим взглядом, в грязном пандемониуме старой Лютеции, и не могли ни в кромешной темноте, ни в глубоком подземелье, ни в бесчисленных кабаках укрыться от начальника полиции. Он отлично знал все меблированные комнаты, притоны, дома терпимости, западни, как Филидор — клетки своей шахматной доски. Стоило ему лишь взглянуть на сорванный ставень, на разбитое окно, на ножевую рану, как он говорил: "Ого! Это мне знакомо! Так работает такой-то!"
И почти не ошибался.
У г-на Жакаля словно не было природных потребностей.
Если ему было некогда позавтракать — он не завтракал, если было некогда пообедать — он не обедал, если было некогда поужинать — он не ужинал; если у него не было времени поспать — не спал вовсе!
Господин Жакаль с одинаковым удовольствием и успехом переодевался в любой костюм: рантье из Маре, генерала Империи, члена общества "Каво", швейцара богатого дома, портье небольшого дома, бакалейщика, торговца целебными снадобьями, бродячего акробата, пэра Франции, циркача из Гента — одним словом, он мог превратиться в кого угодно и посрамить самого ловкого комедианта.
Протей рядом с ним был бы всего-навсего кривлякой из Тиволи или с бульвара Тампль.
У г-на Жакаля не было ни отца, ни матери, ни жены, ни сестры, ни брата, ни сына, ни дочери; он был один в целом свете, и казалось, что само Провидение позаботилось о том, чтобы освободить его от свидетелей его таинственной жизни и дать возможность свободно идти своей дорогой.
На четырех полках книжного шкафа у г-на Жакаля стояло по собранию сочинений Вольтера! В те времена, когда все, особенно полицейские, были иезуитами в рясах или без оных, он один выражался открыто, цитировал по любому случаю "Философский словарь" и знал "Девственницу" назубок. Четыре разных издания сочинений автора "Кандида" стояли в шагреневых переплетах с серебряным обрезом — мрачный символ навсегда похороненных надежд их владельца.
Господин Жакаль не верил в добро: зло, по его мнению, господствовало над всем сущим. Обуздать зло было единственной целью всей его жизни; он не понимал, как может существовать в мире какая-то иная цель.
Он был Михаилом-архангелом бедных кварталов. Последнее слово всегда было за ним, и он пользовался полученными от общества полномочиями, как карающий ангел — пылающим мечом.
Люди представлялись ему большим собранием марионеток и паяцев, исполняющих самые разные обязанности; по его мнению, за веревочки этих марионеток и паяцев дергали женщины. Вот чем объяснялась его навязчивая идея; мы с вами видели, как, едва выйдя из кабинета, он заговорил о женщине. Но именно благодаря своей навязчивой идее он почти непременно раскрывал любое преступление.
Всякий раз как ему докладывали о заговоре, убийстве, краже, похищении, покушении на собственность, кощунстве или самоубийстве, у него на все был один ответ: "Ищите женщину!"
Отправлялись на поиски женщины, и, когда ее находили, можно было ни о чем не беспокоиться: остальное отыскивалось само собой.
Он и сам это доказал, когда привел пример с кровельщиком, упавшим с крыши на мостовую.
Господин Жакаль и в этом деле разглядел женщину, а ведь другой сказал бы, что кровельщик просто оступился и потерял равновесие.
Опыт показывал, что у г-на Жакаля был острый глаз.
Итак, г-н Жакаль был верен своему принципу, когда сказал Сальватору по поводу похищения Мины: "Ищите женщину!"
Вот что представлял собой — наше описание получилось далеко не столь полным, как нам бы хотелось, — г-н Жакаль, то есть тот, в чьей карете Сальватор и Жан Робер ехали вдоль набережной Тюильри.
Ах да, мы забыли сказать еще об одной характерной черте г-на Жакаля: он носил зеленые очки, но не для того, чтобы лучше видеть, а затем, чтоб его меньше замечали.
Когда он хотел что-то рассмотреть, он резким движением поднимал очки на лоб и его глаза, отливавшие всеми цветами радуги, в любое мгновение готовы были метнуть молнию из-под полуприкрытых век. Потом он опускал очки, но не рукой, а движением височных мускулов, и очки садились на место в канавку, проложенную стальной дужкой на его переносице.
Ему почти всегда оказывалось довольно первого осмотра: такой быстрый, пытливый, верный взгляд был у него!
Этот взгляд был похож на бесшумные летние молнии, вспыхивающие меж двух грозовых туч в теплые августовские вечера.
XXXV ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ!
Когда молодые люди сели в карету, г-н Жакаль начал с того, что поднял очки и бросил на Жана Робера один из тех проницательных взглядов, которые позволяли ему сразу оценить внешность и моральные качества человека.
Через мгновение его очки упали на переносицу — то ли потому, что он узнал Жана Робера, поэта, который, как мы говорили, прошел уже первый круг популярности, то ли потому, что, едва взглянув на благородные черты его лица, г-н Жакаль понял, с кем имеет дело.
— Итак, — сказал полицейский, прочно устроившись в мягком углу кареты, который он хотел было уступить Сальватору, но тот наотрез отказался, — итак, вы говорите, что речь идет о похищении?
Господин Жакаль взялся за табакерку — прелестную изящную бонбоньерку, хранившую, должно быть, когда-то пастилки для маркизы Помпадур или графини Дюбарри, — и с наслаждением засунул в нос огромную понюшку.
— Ну, рассказывайте.
У каждого человека есть свое слабое место, своя уязвимая пята, не омытая водами Стикса.
Было уязвимое место и у г-на Жакаля; и мы были бы недобросовестными историками, если бы забыли о нем упомянуть.
Господин Жакаль мог не есть, не пить, не спать, но не мог обойтись без нюхательного табаку. Табакерка и табак были его неизменными спутниками. Похоже, в табакерке он и черпал свои нескончаемые хитроумные идеи, внезапностью и изобилием которых изумлял современников.
Итак, он поднес к носу табак со словами: "Ну, рассказывайте!"
Господин Жакаль уже слышал историю Жюстена в двух словах, но на бегу, когда его голова была занята другими мыслями.
Ему необходимо было послушать еще раз.
Впрочем, повторение рассказа не изменило первого его впечатления, хотя теперь Сальватор излагал дело со всевозможными подробностями, услышанными из уст Броканты.
— И вы не искали женщину? — спросил полицейский.
— У нас не было времени: мы узнали о происшествии лишь в семь часов утра.
— Дьявольщина! Они, должно быть, перевернули всю комнату и затоптали весь сад.
— Кто?
— Эти идиотки.
"Этими идиотками" были хозяйка пансиона, воспитательницы и ученицы.
— Нет, — возразил Сальватор. — Опасаться нечего.
— Почему?
— Жюстен во весь опор помчался верхом на лошади этого господина, — Сальватор указал на Жана Робера, — и будет охранять дверь в комнату...
— ...если доедет!
— То есть как?
— Разве школьный учитель умеет садиться на лошадь? Надо было мне сказать, я бы дал вам Гусара.
Гусаром называли одного из подчиненных г-на Жакаля;
это изысканное и выразительное прозвище дано было за ловкость в обращении с лошадьми.
— Я тоже ему об этом говорил, — ответил Сальватор, — но Жюстен мне сказал, что он сын фермера и с детства знает лошадей.
— Ну, теперь, если найдем женщину, все пойдет хорошо.
— Я не вижу радом с ней женщины, которую можно было бы подозревать, — позволил себе заметить Сальватор.
— Женщину надо подозревать всегда.
— По-моему, вы слишком категоричны, господин Жакаль.
— Вы говорите, что вашу Мину похитил молодой человек?
— Мою Мину? — улыбаясь, переспросил Сальватор.
— Ну, Мину школьного учителя, словом, Мину, о которой идет речь!
— Да, Броканта видела карету в четыре часа утра, как я вам сказал, и разглядела молодого человека. Она даже утверждала, что он брюнет.
— Ночью все кошки серы.
Произнося эту поговорку, г-н Жакаль покачал головой.
— Вы сомневаетесь? — спросил Сальватор.
— Видите ли... Мне представляется неестественным, что молодой человек похищает девицу; это не в наших традициях, если только молодой человек не является отпрыском богатой и могущественной при дворе фамилии и не боится в девятнадцатом веке изображать Лозена и Ришелье. Может быть, это сын пэра Франции, племянник кардинала или архиепископа... Похищают обыкновенно старики; я говорю это для вас, господин Сальватор, и особенно для господина, который пишет пьесы, — прибавил полицейский, едва заметно кивнув в сторону Жана Робера. — Ведь старость бессильна и пресыщенна. Но похищение со стороны молодого человека, красивого и сильного, — чудовищное преступление!
— Однако дело обстоит именно так.
— В таком случае поищем женщину! Очевидно, женщина замешана в этом преступлении. В какой мере — не знаю. Но какая-то роль в этой таинственной драме несомненно принадлежит женщине. Вы говорите, что не видите около нее никакой женщины. А вот я вижу одних только женщин: воспитательницы, помощницы воспитательниц, подруги по пансиону, камеристки... Вы даже не подозреваете, что такое пансион, наивный вы человек!
И г-н Жакаль взял еще щепотку табаку.
— Все эти пансионы, изволите ли видеть, господин Сальватор, — продолжал он, — это очаги пожара; в них живут и бьются пятнадцатилетние девочки, подобно саламандрам, о которых рассказывают древние натуралисты. Что до меня, я знаю одно: если б я имел честь быть отцом дочери на выданье, я бы скорее запер ее в погребе, чем отдал в пансион. Вы не можете себе вообразить, какие жалобы поступают в полицию нравов на пансионы, и не потому, что плохи хозяйки, а всему виной постоянно влюбляющиеся девочки: это старая басня о Еве. Воспитательницы, их помощницы, надзирательницы, напротив, всегда начеку, как собаки вокруг фермы или телохранители вокруг короля. Но как помешать волку войти в овчарню, когда овечка сама отпирает ему дверь?
— Это не тот случай: Мина обожает Жюстена.
— Значит, это дело подруги; вот почему я говорил и повторяю: "Поищем женщину!"
— Я начинаю склоняться к этому же мнению, господин Жакаль, — проговорил Сальватор, наморщив лоб, словно для того, чтобы заставить свою мысль остановиться на каком-то неясном и подозрительном пункте.
— Разумеется, — продолжал полицейский, — я не ставлю под сомнение целомудрие вашей Мины... Я говорю "ваша Мина"... В общем, я хочу сказать, Мина вашего школьного учителя... Я уверен, что она не принесла с собой в пансион ничего такого, что могло бы испортить окружавших ее девиц. Она получила хорошее воспитание и заключала в себе сокровища доброты и благочестия, накопленные под неусыпным оком приемных родителей. Но сколько вокруг этого чистого благоухающего цветка вредных растений, дыхание которых для него гибельно! И ведь они подцепили заразу в родной семье! Ребенка считают беззаботным несмышленышем, а он никогда и ничего не забывает, господин Сальватор, запомните это! Тот, кто в десять лет видел невинные феерии в театре Амбигю-Комик или в Тэте, в пятнадцать лет, если это мальчик, попросит рыцарское копье, чтобы поразить великанов, охраняющих и мучающих принцессу его сердца; если же это девочка, она вообразит себя этой самой принцессой, которую мучают родители, и употребит, ради того чтобы снова соединиться с любовником, с кем ее разлучили, все, чему она научилась от колдуна Можи или феи Колибри. Наши театры, музеи, стены, магазины, места прогулок — все способствует тому, чтобы пробудить в детской душе любопытство, и его готов удовлетворить первый встречный, если не будет рядом матери или отца. Все стремятся пробудить и постоянно поддерживать в ребенке желание все узнать, жажду все понять, а ведь это бич детства. И мать не может объяснить дочери, почему, входя в церковь, красивый молодой человек подает святую воду юной девушке, почему в летний полдень пара влюбленных целуется в поле, почему люди женятся, почему один идет к мессе, а другой — нет; мать не может открыть дочери ни одну из тайн, о каких та смутно догадывается, и посылает ее, испугавшись растущего с годами любопытства, в пансион, где девочка узнает от старших подруг нечто такое, что пагубно влияет на ее здоровье и на ее нравственность, а потом и сама передает все это младшим подругам. Дорогой мой Сальватор, да будет вам известно, если вы когда-нибудь задумаете жениться, что даже девушка из хорошей семьи, поступая в пансион, несет в себе ядовитые семена, способные позднее отравить целое поле!
— Но ведь есть, наверно, какое-нибудь лекарство? — спросил Сальватор, пока Жан Робер удивленно слушал рассуждения полицейского.
— Да, разумеется, вылечить можно все, и это тоже, но — черт подери! — существует стена более прочная, высокая и протяженная, чем Великая китайская стена: существует обычай — бич всякого общества. Вот, к примеру, с некоторых пор молодежь взяла себе пагубную привычку, тем более пагубную, что от нее лекарства нет...
— Какую?
— Самоубийство. Юноша любит девушку, она его пока не любит. Он не ждет, пока она его полюбит, — он накладывает на себя руки! Девушка любит молодого человека, а он ее разлюбил, она надеялась, что он прикроет их грех, женившись на ней, — она кончает жизнь самоубийством! Двое любят друг друга, но родители против их брака, — они умирают! И знаете, почему чаще всего они накладывают на себя руки?
— Очевидно, потому что устали от жизни, — предположил Жан Робер.
— Э, нет, господин поэт, — возразил полицейский, — от жизни устать нельзя, а доказательством тому — то, что, чем человек старше, тем сильнее он за нее держится. На сто случаев самоубийств среди тех, кто моложе двадцати пяти лет, приходится только один случай самоубийства среди стариков, которым за семьдесят. Люди умирают, — ужасно такое говорить! — чтобы сыграть шутку над близкими: юноша подшучивает над любовницей, любовница — над возлюбленным, влюбленные — над родителями. Страшная шутка, которая и не понадобилась бы, стоило лишь подождать год, полгода, неделю, а то и вовсе час: девушка успела бы полюбить, возлюбленный вернулся бы, родители дали бы свое согласие. Раньше такого не было — люди не знали, что такое самоубийство, или почти не знали. За все средние века, то есть за три-четыре столетия, вы насчитаете не более десятка случаев самоубийства!
— В средние века существовали монастыри, — вставил Жан Робер.
— Вот именно! Вы попали в самую точку, молодой человек. Жили тогда со скорбью, жизнь была не мила: мужчина становился монахом, женщина — монахиней; это был способ пустить себе пулю в лоб, повеситься, утопиться. Вот сегодня я, к примеру, еду в Ба-Мёдон констатировать самоубийство мадемуазель Кармелиты и господина Коломбана. Так вот...
Молодые люди вздрогнули.
— Простите... — в один голос перебили они г-на Жакаля.
— Что такое?
— Это не та мадемуазель Кармелита, что была воспитанницей Сен-Дени? — спросил Сальватор.
— Совершенно верно.
— А господин Коломбан был бретонский дворянин? — уточнил Жан Робер.
— Абсолютно точно.
— В таком случае, — прошептал Сальватор, — я понимаю смысл письма, которое получила сегодня утром Фрагола.
— Несчастный юноша! — воскликнул Жан Робер. — Я слышал это имя от Людовика.
— Но эта девушка — ангел! — заметил Сальватор.
— А молодой человек — святой! — проговорил Жан Робер.
— Несомненно! — кивнул старый вольтерьянец. — Потому-то они и вознеслись на небо: им не было места на земле, несчастным детям!
Он произнес эти слова со странной смесью сарказма и умиления.
— Ах, Боже мой! Бедный Людовик придет в отчаяние! — заметил Жан Робер.
— Боже мой, как бедняжка Фрагола огорчится! — прошептал Сальватор.
— А причины этой смерти содержатся в тайне или вы можете нам рассказать?.. — начал Жан Робер.
— Об этом несчастье во всех подробностях? Да ради Бога; вам достаточно будет заменить имена, и поэма или роман готовы; ручаюсь, что тема подходящая.
Карета свернула с набережной Конферанс на Севрский мост, и г-н Жакаль поведал молодым людям следующую историю, которая, на первый взгляд, не имеет отношения к нашему повествованию, но рано или поздно вольется в него.
XXXVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО СЛУЧАЙНО И ОДИН РАЗ ИЗ СТА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ХОРОШИХ СОСЕДЕЙ
Двенадцатый округ был в 1827 году, да и теперь остается, самым бедным в столице, как видно из результатов последней переписи неимущего населения, опубликованных ведомством общественной благотворительности.
Так, в первом округе бедняков — 3 707 из общего числа жителей 112 740, в то время как в двенадцатом — на 95 243 жителя приходится 12 204 неимущих.
Вот почему в отчете соотношение числа неимущих и общего количества жителей составляет такие пугающие цифры: в первом округе — 10 к 304; в двенадцатом округе — 10 к 78.
А если учесть, что в двенадцатом округе живут в основном старьевщики, кучера, башмачники, перекупщики, водовозы, грузчики и поденные рабочие, то читателям будет ясно, что мы ничего не преувеличили, утверждая, что этот округ был и остается самым бедным.
С высоты птичьего полета этот округ напоминает четырехугольник. Он разделен на четыре квартала, носящих названия: Обсерватория, Сен-Жак, Ботанический сад, Сен-Марсель.
В ходе нашего повествования мы постепенно познакомим читателей со всеми этими кварталами; значительная часть описываемых нами событий будет происходить в двенадцатом округе.
Начнем с того, что самая живописная часть квартала Сен-Жак находится между улицей Вальде-Грас и Грязной улицей, носящей ныне название улицы Пор-Рояль.
Поднимаясь по улице Сен-Жак от улицы Вальде-Грас к предместью, можно увидеть, что все дома с правой стороны — старые, некрасивые, небрежно построенные — ведут в восхитительные сады, какие, может быть, сохранились лишь вокруг нескольких аристократических парижских особняков.
Мы приглашаем наших читателей в один из домов между номерами 330 и 350 по улице Сен-Жак. Надеемся, что нам удастся познакомить вас с совершенно неведомой страной, а кое-кто, чувствуя обычно при упоминании квартала Сен-Жак запах нищеты, будет, возможно, немало удивлен и даже очарован, вдыхая аромат роз и жасмина, поднимающийся в окна этих привилегированных жилищ, выходящие в настоящие уголки земного рая.
Фасад дома, в котором живут герои страшной истории, рассказанной г-ном Жакалем, был того тусклого, наводящего тоску цвета, в который время и дождь выкрасили старые стены Парижа.
В дом вела небольшая узкая дверь, и посетители попадали в коридор, темный даже средь белого дня.
Оказавшись в этом коридоре впервые, посетитель мог подумать, что очутился в разбойничьем притоне — доме скупщика краденого или фальшивомонетчика. Но когда последняя плита была пройдена, отважный исследователь оказывался в подобии Эдема.
И действительно, выйдя из коридора, человек попадал во двор, а из него — в огромный сад. Там у посетителя разбегались глаза, когда он видел белый домик с зелеными ставнями; стены домика утопали в розах, жимолости и ломоносах, а ступени сбегали в расстилавшийся, как озеро, газон.
Домик был трехэтажный; все его окна, благодаря восхитительному расположению небольшого здания, выходили в сад. В доме было шесть квартир, каждая из трех комнат и кухни.
Четыре квартиры, расположенные в первом и втором этаже, занимали семьи ремесленников. Вместо того чтобы напиваться у заставы, как их товарищи по работе, эти люди, степенные и непьющие, копались по воскресеньям в той части сада, что прилегала к их скромному жилищу.
В третьем этаже на одной лестничной площадке, один — слева, другой — справа, жили два главных персонажа этой истории.
Квартиру слева занимал молодой человек лет двадцати-двадцати трех. Это был красивый юноша с открытым лицом, голубоглазый, светловолосый и крепкого сложения. Он был невысокого роста, но широкие плечи свидетельствовали о недюжинной силе. Он родился в Кемпере, но было вовсе не обязательно заглядывать в его свидетельство о рождении, чтобы убедиться, что он бретонец, это и так было написано у него на лице, отмеченном энергией и благородством прекрасной гэльской расы.
Его отец, старый обедневший дворянин, удалившийся в башню — все, что уцелело от феодального замка XIII века, разрушенного во время войн в Вандее, отправил сына в Париж, где тот изучал право. Окончив коллеж, юный Коломбан де Пангоэль поселился на улице Сен-Жак и жил там уже в течение трех лет, то есть с 1823 года — даты, с которой мы начнем этот рассказ.
Отец назначил ему небольшое содержание в тысячу двести франков годовых: славный старик делил с сыном все, что у него оставалось от родового наследия.
Квартира Коломбану обходилась всего в двести франков в год; таким образом, у юноши оставалась тысяча франков, то есть целое состояние для непьющего, экономного, степенного юноши.
Мы ошиблись, когда сказали, что ему оставалась тысяча франков в год: из этой суммы мы должны вычесть десять франков в месяц — плата за прокат фортепьяно; это была единственная роскошь, которую себе позволил Коломбан, несомненно, чтобы не нарушать одну из политических аксиом древних бретонцев, сохранившуюся до сих пор; она, как рассказывает Огюстен Тьерри, считает музыканта (наряду с землепашцем и ремесленником) одним из трех столпов общественной жизни.
Стоял январь 1823 года. Коломбан изучал право уже третий год. Часы церкви святого Иакова-Высокий порог пробили десять.
Молодой человек сидел в углу перед камином и изучал кодекс Юстиниана, как вдруг услышал громкие жалобные стоны.
Он отворил дверь на лестницу и увидел на пороге соседней квартиры девушку — бледную, растрепанную; заливаясь слезами, ломая руки, она звала на помощь.
В этой квартире жили девушка с матерью, вдовой капитана, убитого при Шампобере во время кампании 1814 года. Мать получала пенсию в тысячу двести франков и немного зарабатывала шитьем: работу давали ей белошвейки квартала.
Она прожила полгода в одиночестве, как вдруг однажды утром Коломбан, возвращаясь из Школы права, столкнулся на лестнице с высокой красивой девушкой, которая была ему совершенно незнакома.
Коломбан был по природе своей неразговорчив, и поэтому лишь спустя несколько дней после этой и еще двух-трех встреч он узнал от одного из жителей первого этажа, что мадемуазель Кармелита — дочь г-жи Жерве, его соседки; девушка, как дочь офицера Почетного легиона, воспитывалась в королевском пансионе Сен-Дени и, завершив обучение, вернулась к матери.
Первая встреча юноши и девушки произошла в сентябре 1822 года, во время каникул. Через две недели Коломбан отправился погостить в Пангоэль, вернулся в ноябре и до января 1823 года лишь изредка встречал девушку на лестнице, когда возвращался к себе с молоком; они вежливо раскланивались, но ни разу не обменялись и словом.
Девушка была робка, Коломбан — слишком почтителен.
Но в один прекрасный день молодой человек вышел раньше обычного и поднимался по лестнице с завтраком в руках и встретил девушку: она задержалась в то утро и спускалась за своим завтраком.
Молодой человек раскланялся с ней не как простой студент, а как дворянин (воспитание, полученное в раннем детстве, остается на всю жизнь), и хотел пройти дальше.
Она покраснела и остановила его такими словами:
— Я хочу вас кое о чем попросить, сударь. Мы с матушкой очень любим музыку и обычно с большим удовольствием слушаем, как вы поете, аккомпанируя себе на фортепьяно. Но вот уже три дня, как матушке нездоровится. И хотя сама она ничего не говорит, доктор, приходивший к нам с визитом вчера вечером, как раз во время вашего пения, сказал, что музыка, должно быть, ее утомляет.
— Прошу прощения, мадемуазель, — покраснев до корней волос, отвечал молодой человек. — Я не знал, что ваша матушка больна; поверьте, что я ни за что этого себе не позволил бы, зная о ее болезни.
— О Боже мой! Это я, сударь, прошу у вас прощения, что лишаю вас удовольствия, и от всего сердца благодарю за то, что ради нас вы готовы пойти на это лишение.
Молодые люди раскланялись. Вернувшись к себе, Коломбан закрыл фортепьяно до тех пор, пока не поправится г-жа Жерве.
С этого времени он стал встречать девушку все чаще. Болезнь матери становилась все серьезнее. Кармелита постоянно бегала то ко врачу, то в аптеку. Несколько раз Коломбан слышал, как она поздним вечером спускается по лестнице. Он хотел бы предложить ей свои услуги — и ни одна девушка, нуждающаяся в помощи, не получила бы поддержки более благородного и более бескорыстного сердца, — но Коломбан был столь же робок, сколь благороден; его смущало не столько предложение, как то, в какой форме он должен его сделать. Лишь заслышав крики о помощи, он осмелел и предложил ей располагать им.
К несчастью, было слишком поздно: девушка кричала не от бессилия, а от страха, от ужаса.
Госпожа Жерве, четыре дня не встававшая с постели из-за серьезной угрозы разрыва аневризмы (доктор решил скрыть это от Кармелиты), стала задыхаться и попросила стакан воды. Девушка не хотела давать ей простую воду и отправилась на кухню приготовить питье. Стон, донесшийся до ее слуха и напоминавший зов, заставил ее поторопиться. Она вошла в комнату и увидела, что мать лежит с запрокинутой головой. Девушка просунула руку ей под спину и приподняла ее голову: бедная женщина смотрела на дочь как-то странно. Похоже, она не могла говорить, но всю душу вложила в свой взгляд. Кармелита, дрожа от страха, который, однако, придавал ей силы, продолжала поддерживать голову матери и поднесла стакан к ее губам. Но прежде чем стакан коснулся губ, г-жа Жерве издала глубокий, протяжный, скорбный вздох и ее голова тяжело упала девушке на руку, а потом на подушку.
Девушка с усилием снова приподняла ее голову и поднесла стакан к губам со словами:
— Выпей, матушка!
Однако зубы матери были плотно сжаты, она ничего не отвечала. Кармелита наклонила стакан. Вода полилась по губам, но в рот так и не проникла.
Глаза больной по-прежнему были широко раскрыты. Госпожа Жерве словно не могла отвести от дочери взгляд.
Кармелита почувствовала, как лоб ее покрывается испариной. Только широко раскрытые глаза матери еще придавали девушке мужества.
— Да пей же, мамочка! — повторила она.
Больная снова ничего не ответила. Кармелите показалось, что шея, которую она поддерживала, медленно остывает и что ее самое охватывает смертельный холод. Испугавшись, она опустила голову матери на подушку, поставила стакан на стол, бросилась к матери, обхватила ее обеими руками, осыпала ее лицо поцелуями и поднялась, не сводя с нее почти столь же неподвижного взгляда, как у г-жи Жерве. Только тогда бедная девочка, полная жизни и никогда не задумывавшаяся о том, что единственное любимое в мире существо может умереть, вдруг поняла, что случилось! Однако она не могла поверить, что матери, всего минуту назад с ней разговаривавшей, больше нет, что она умерла вот так, тихо, незаметно. Она прижалась губами ко лбу умершей и испугалась: ей почудилось, что ее лихорадочно горящие губы коснулись мрамора.
Она в ужасе попятилась назад, но еще не смела поверить, что это смерть.
Голова матери была слегка повернута, и широко раскрытые глаза продолжали смотреть на девушку с застывшим в них выражением материнской любви. Но этот взгляд не успокаивал, а пугал Кармелиту.
Она озиралась по сторонам, но все время возвращалась к этим неподвижным глазам и вдруг в ужасе изо всех сил закричала:
— Матушка! Матушка! Скажи хоть что-нибудь! Отзовись, матушка! Или я подумаю, что ты умерла...Умерла!.. — повторяла она, с тоской приближаясь к матери.
Сделав шаг, она застыла перед неподвижным телом, но продолжала звать мать все громче, не осмеливаясь к ней прикоснуться. Отчаявшись добиться ответа, не осмеливаясь дольше оставаться в этой комнате под этим взглядом, похожим на взгляд призрака, боясь всего и ничему не веря, она распахнула входную дверь и закричала: "На помощь!"
Коломбан вышел на крики и увидел, как мы уже сказали, растрепанную, заплаканную девушку, заломившую руки.
— Сударь! Сударь! Матушка на меня смотрит, но не отвечает!
— Она, должно быть, лишилась чувств от слабости, — предположил молодой человек: он тоже не хотел верить в худшее.
И он вошел в спальню.
Он вздрогнул, увидев тело, постепенно принимавшее облик трупа: лицо напоминало маску Гиппократа; члены окоченели; рука, которую он взял, чтобы пощупать пульс, была холодна как мрамор.
Он вспомнил, как пятнадцатилетним мальчиком смотрел на свою мать, благородную графиню де Пангоэль, лежавшую на смертном одре. Вот и теперь он видел, что на лбу у г-жи Жерве залегли такие же, как тогда у покойной матери, сиреневатые тени.
— Ну что, сударь?.. Что?.. — спрашивала, рыдая, Кармелита.
Молодой человек не стал разуверять девушку в том, что это обморок, надеясь постепенно приготовить ее к удару.
— О, ваша мать очень плоха, бедное дитя!
— Но почему она не отвечает мне, сударь? Почему она мне не отвечает?
— Подойдите, мадемуазель, — предложил Коломбан.
— Я не смею... Не смею... Почему она на меня так смотрит? О чем она хочет спросить?.. Зачем она так на меня смотрит?
— Она просит, чтобы вы закрыли ей глаза, мадемуазель! Она просит, чтобы мы помолились о ее душе!
— Но она ведь не умерла, правда? — вскричала девушка.
— Опуститесь на колени, мадемуазель! — подавая ей пример, сказал Коломбан.
— Что вы говорите, сударь?..
— Я говорю, мадемуазель, что Господь, дарующий нам жизнь, имеет право взять ее, когда пожелает.
— О! — вскрикнула девушка, словно громом пораженная. — О, я вижу, вижу!.. Моя матушка умерла!
Она откинулась назад, словно тоже умирая.
Молодой человек подхватил ее, лишившуюся чувств, на руки и перенес на кровать, стоявшую в алькове соседней комнаты.
На крики девушки, на шум только что описанной нами сцены поднялась жена мастерового со второго этажа вместе с подругой, зашедшей к ней в это время.
Все двери квартиры были распахнуты настежь; женщины вошли и увидели, как Коломбан пытается привести девушку в чувство, похлопывая ее по рукам.
Средство это не помогало. Тогда одна из женщин взяла с туалетного столика графин и брызнула водой в лицо несчастной сироте.
Кармелита пришла в себя; ее бил озноб. Женщины хотели было раздеть ее и уложить в постель.
Но она сделала над собой усилие, поднялась на ноги и обернулась к Коломбану.
— Сударь! Вы сказали, что моя мать просит закрыть ей глаза... Проводите меня к ней... проводите, прошу вас!.. Иначе, — прибавила она, со страхом приближая губы к уху Коломбана, — иначе она будет так на меня смотреть до конца моих дней!
— Идемте, — кивнул молодой человек, полагавший, что девушка бредит.
Она прошла через всю комнату, опираясь на руку Коломбана, вошла в спальню матери, чей взгляд хотя и замутился, но еще сохранял свою пугающую неподвижность, медленными, твердыми, торжественными шагами приблизилась к кровати и, наклонившись над покойницей, благоговейно закрыла одно за другим ее веки.
Тут силы оставили ее, Кармелита рухнула на тело матери и снова лишилась чувств.
XXXVII ФРА ДОМИНИКО САРРАНТИ
Молодой человек поднял Кармелиту на руки и как ребенка перенес в соседнюю комнату, где их ожидали две женщины. Пора было ее раздеть и уложить в постель.
Коломбан удалился к себе, попросив одну из соседок зайти за ним, как только девушка будет в постели.
Через десять минут соседка была у него.
— Ну как? — спросил Коломбан.
— Она пришла в себя, — сказала соседка, — но держится за голову и говорит что-то бессвязное, вроде как бредит.
— У нее есть родственники? — спросил молодой человек.
— Мы не знаем.
— А подруги в квартале?
— Ни одной. Это тихие, порядочные женщины, они жили очень уединенно, ни с кем не встречались.
— Что же вы намерены делать? Ее нельзя оставлять в этой квартире с покойницей! Ее надо бы поместить в другое место.
— Я бы предложила свою квартиру, — сказала соседка, — но у нас одна кровать... Хотя... — прибавила славная женщина, размышляя вслух, — отошлю-ка я мужа спать на чердак, а сама посижу ночь на стуле.
На такой самоотверженный поступок ради незнакомых людей способны лишь немногие женщины, чаще всего простолюдинки: они предлагают свой стол, свою комнату и свою постель так же бескорыстно, как лавочник подает стакан воды. Если душевное или физическое страдание взывает к ее помощи, будь то умирающий или отчаявшийся человек, простолюдинка будет выхаживать, утешать, помогать от всего сердца, щедро и самозабвенно; это, несомненно, заслуживает восхищения философа и наблюдателя.
— Нет, — возразил Коломбан. — Поступим иначе. Принесем сюда ее кровать, а мою отнесем к ней в альков. Потом сходите за священником, пусть отслужит у постели усопшей. А я пойду за доктором для девушки.
Соседка замерла в нерешительности.
— В чем дело? — спросил Коломбан.
— Лучше я схожу за доктором, а вы позовите священника.
— Почему?
— Потому что несчастная женщина скончалась внезапно...
— Увы, да, внезапно.
— И, стало быть, умерла... ну, вы понимаете?
— Нет, не понимаю.
— Умерла, не успев исповедаться.
— Но вы же сами говорите, что она святая.
— Да, но священник... священник может не согласиться.
— Как?! Священник откажется отслужить у гроба покойной?
— У умершей без покаяния, могу побиться об заклад, он откажется.
— Ну, хорошо. Приведите доктора, я беру священника на себя.
— О, я мигом: доктор живет почти напротив.
— А кого можно попросить отнести письмо на улицу Железной Кружки?
— Давайте мне, я пошлю кого-нибудь.
Коломбан сел за стол и написал:
"Приходите, друг мой!В Вас нуждаются мертвец и живой".
Сложив письмо, он надписал адрес:
"Брату Доминику Сарранти, монаху-доминиканцу, улица Железной Кружки, №11".
— Возьмите, — протянул он письмо соседке.
Та пошла вниз.
Пока она спускалась, Коломбан взялся за перестановку: свою кровать перенес в спальню девушки, а ее кровать — в свою квартиру.
Подруга соседки вызвалась посидеть с Кармелитой до прихода доктора, а если будет нужно, то подежурить всю ночь.
Бред девушки все усиливался.
Женщина села у нее в изголовье. Коломбан сходил к бакалейщику, купил свечу, поставил ее в изголовье усопшей.
Пока Коломбана не было, вернулась с доктором другая соседка. Проводив ученого человека к больной, она сама отдала покойнице последний долг, сложив ей на груди руки и вложив в них распятие.
Коломбан зажег свечу, опустился на колени и стал читать заупокойные молитвы.
Женщинам у постели Кармелиты хватало дел: доктор заметил первые признаки менингита. Он оставил рецепт и велел точно следовать его указаниям, не став скрывать, что болезнь серьезная — она могла перейти в острую форму.
А мать, сказал доктор, скончалась от разрыва одного из крупных сердечных сосудов.
Многие вольнодумцы посмеялись бы, увидев красивого двадцатидвухлетнего юношу на коленях у постели незнакомой женщины, читавшего молитвы по часослову, украшенному семейным гербом.
Но Коломбан был набожным бретонцем прежних времен: подобно своим предкам, он был готов, продав земли и замки, следовать за Готье Нищим в Иерусалим со словами: "Так хочет Бог!"
Итак, он молился с неподдельным рвением, стараясь изгнать из своей молитвы всякие земные помыслы. Вдруг у него за спиной послышался скрип входной двери.
Он обернулся.
Пришел тот, кого он вызывал: брат Доминик, в красивой черно-белой одежде, стоял на пороге.
Молодому монаху было не больше двадцати семи-двадцати восьми лет; он был едва ли не единственным другом Коломбана, не считая школьных приятелей, которых принято называть друзьями, хотя они представляют собой особую породу. А вот монах, как мы сказали, был, пожалуй, его единственным другом в Париже.
Однажды Коломбан проходил мимо церкви святого Иакова-Высокий порог и увидел, что в дверях толпятся жители предместья. Он спросил, что там такое, и ему сказали, что молодой монах в длинном белом одеянии произносит проповедь.
Коломбан вошел.
Монах, юный годами, но до времени состарившийся то ли из-за строгих постов, то ли от страданий, стоял на кафедре и проповедовал.
Темой его проповеди было смирение.
В смирении он как бы видел две четко различающиеся стороны.
В горе, посылаемом Господом, то есть в случае смерти, непоправимых несчастий, неизлечимых болезней он советовал уповать на Господа.
"Смиритесь, братья! — говорил он. — Преклоните голову перед карающей десницей! Молитесь и любите! Смирение есть добродетель!"
Но всем несчастьям, исходящим от людей, таким, как обманутое честолюбие, пущенные по ветру состояния, сорванные планы, он учил не поддаваться и призывал:
"Надо противостоять невезению, братья! Поднимитесь, сильные верой в Господа, в свою правоту и в себя самих. Бейтесь и не сдавайтесь! Смирение — трусость!"
Коломбан дождался окончания проповеди и при выходе из церкви подошел пожать монаху руку, как пожал бы не только духовному лицу, но любому человеку, в котором видел три добродетели, более других им почитаемые: простоту, честность, силу.
С этого дня молодые люди — монах был лет на пять старше Коломбана — подружились, обнаружив редкостное совпадение своих принципов и взглядов.
За редким исключением, они виделись раз или два в неделю и проводили вместе по два-три часа.
Бросим взгляд назад и посмотрим, какой суровый путь проделал этот строгий и задумчивый молодой монах, прежде чем появиться перед нами.
Звали его Доминик Сарранти; помимо имени, у него было немало общего с мрачным святым, которого случай сделал покровителем нашего юноши.
Он родился в Викдесо, маленьком городке департамента Арьеж, расположенном на краю леса в шести льё от Фуа, в нескольких шагах от испанской границы.
Отец его был корсиканец, мать — каталонка. Сын был похож на обоих родителей: он унаследовал от отца редкую памятливость, а от матери — необычайную стойкость. Видя его властные жесты на кафедре, слыша эти строгие и суровые проповеди, можно было сразу принять его за испанского монаха, прибывшего миссионером во Францию.
Его отец родился в Аяччо в один год с Бонапартом и связал свою судьбу со знаменитым земляком, разделив все ее превратности: он сопровождал поверженного императора на остров Эльбу, он же последовал за покинутым Наполеоном на остров Святой Елены.
В 1816 году он возвратился во Францию. Почему он так скоро оставил прославленного пленника? Гаэтано Сарранти уверял, что сделал это из-за вредного климата, невыносимой жары.
Люди, хорошо знавшие его, не верили этому и видели в Сарранти одного из тайных агентов, рассылаемых, как поговаривали, императором по всей Франции, чтобы подготовить возвращение его со Святой Елены или, если это окажется невозможно, хотя бы защитить интересы его сына.
Гаэтано поступил воспитателем детей к одному очень богатому человеку, которого звали г-н Жерар.
Это были не родные дети г-на Жерара, а племянник и племянница.
Внезапно в 1820 году во время заговора Нантеса и Берара Гаэтано Сарранти исчез. Говорили, что он отправился в Индию, дабы присоединиться там к бывшему генералу Наполеона, поступившему в 1813 году на службу к князю Лахора.
Мы уже упомянули мельком об этом бегстве Гаэтано Сарранти, когда рассказывали об исчезновении каретника с улицы Сен-Жак, брата мамаши Буавен, — происшествии, которое закрыло перед маленькой Миной дверь, куда ей предстояло постучаться, и девочку приютила семья школьного учителя.
Мы также упомянули о сыне этого беглого корсиканца, учившемся в семинарии Сен-Сюльпис.
Этим сыном и был человек, портрет которого мы пытаемся нарисовать; это был брат Доминик Сарранти, которого за сходство с испанцем чаще звали фра Доминико.
Молодой человек с детства решил стать служителем Церкви; мать его умерла, отец уехал на остров Святой Елены, и мальчика отдали в семинарию.
Когда в 1816 году отец вернулся, он был неприятно удивлен этим странным призванием: по его мнению, сын мог стать кем угодно, только не священником. Отец предпринял последнюю попытку возвратить сына к мирской жизни. Он привез с собой значительную сумму, желая обеспечить сыну независимое существование, однако тот наотрез отказался.
В 1820 году, когда Гаэтано Сарранти исчез, его сына, учившегося тогда, как мы уже рассказывали, в семинарии Сен-Сюльпис, не раз вызывали в полицию.
Однажды его товарищи увидели, что он возвратился еще печальнее и взволнованнее, чем обыкновенно.
Против его отца было выдвинуто обвинение куда более страшное, чем заговор против государственной безопасности. Его обвиняли не только в намерении свергнуть существующее правительство: против него велось следствие по обвинению в краже трехсот тысяч франков у г-на Жерара, у которого он служил воспитателем детей. Но и это еще не все. Ему вменялось в вину сначала исчезновение, а потом даже убийство племянников г-на Жерара.
Правда, расследование зашло в тупик, но страшное обвинение по-прежнему тяготело над изгнанником.
Эти события омрачали жизнь Доминика и превращали его в еще более непримиримого проповедника.
При произнесении обета он выразил желание вступить в самый строгий монашеский орден и выбрал орден доминиканцев, который во Франции существовал под названием ордена якобинцев, потому что первый доминиканский монастырь был когда-то построен на улице Сен-Жак, иначе — святого Иакова.
Он дал обет и был назначен священником на следующий же день после своего совершеннолетия, то есть 7 марта 1821 года.
Итак, в описываемое нами время брат Доминик уже около двух лет был священником.
Теперь это был мужчина лет двадцати семи-двадцати восьми, с проникающим в душу живым, ясным, глубоким взглядом больших черных глаз, с бледным, суровым, сосредоточенным лицом, с гордой, энергичной и решительной манерой держаться; он был высок, сдержан в жестах, немногословен; походка его была величественной, неторопливой, степенной, размеренной. Кто видел, какой идет по улице в тени домов, кто видел его задумчивое лицо, неизменно хранящее след мрачной печали, тот решил бы, что один из красивых монахов с полотен Сурбарана вышел из склепа и, возвратясь на землю, размеренным и гулким шагом Каменного гостя направляется на встречу с Дон Жуаном.
Впрочем, несгибаемая воля и исключительная сила духа, угадывавшиеся в этом угрюмом лице, свидетельствовали скорее о непоколебимости строгих принципов, чем о борьбе честолюбивых страстей.
Кроме того, он как никто в мире отличался прямотой суждений, здравым умом и щедростью сердца.
Единственный непростительный грех, по его мнению, заключался в равнодушном отношении к людям, ибо любовь к ним он считал основой жизни народов. Восхитительные порывы воодушевления охватывали его, когда он представлял себе будущее — каким бы отдаленным оно ни было — как всеобщую гармонию, основанную на братстве народов, которая будет соответствовать гармонии миров во Вселенной.
Когда он с увлекательным красноречием говорил о будущей независимости наций, слушателей неудержимо влекло к нему; в словах монаха словно отражалась его душа, его речь воодушевляла! Его зажигательная сила освещала все вокруг; слышавший Доминика был готов взяться за подол его сутаны со словами: "Ступай вперед, пророк, я иду за тобой!"
Но страшный червь подтачивал этот сочный плод изнутри — то было обвинение в краже и убийстве, тяготевшее над его отсутствовавшим отцом.
XXXVIII СИМФОНИЯ ВЕСНЫ И РОЗ
Таков был молодой монах, появившийся на пороге.
Он замер, пораженный зрелищем, открывшимся его взору.
— Друг мой, — проговорил он печальным голосом, которому умел в случае необходимости придать утешительные интонации, — надеюсь, женщина, лежащая здесь, не ваша мать и не ваша сестра?
— Нет, — отвечал Коломбан. — Мне было пятнадцать лет, когда я потерял мать, а сестры у меня никогда не было.
— Да хранит вас Господь, Коломбан, для утешения вашего отца в старости!
И он хотел было опуститься перед покойницей на колени.
— Погодите, Доминик, — остановил его Коломбан, — я посылал за вами...
Доминик его перебил:
— Вы посылали за мной, потому что я понадобился вам. И вот я пришел.
— Я посылал за вами, друг мой, потому что женщина, лежащая перед вами, умерла внезапно от разрыва сердца. Она была истинной христианкой, святой женщиной, но умерла без исповеди.
— Одному Господу, а не людям, дано судить, в каком расположении духа она умерла, — заметил монах. — Помолимся!
Он опустился на колени у изголовья кровати.
Коломбан, зная, что за девушкой присматривают, а рядом с покойницей теперь священник, мог заняться похоронами.
По дороге он зашел узнать, как чувствует себя Кармелита.
Обессиленная девушка уснула под влиянием опийной микстуры, прописанной доктором.
Коломбан забрал с собой все свои деньги до последнего су; он уладил дела с церковью, с похоронами, с кладбищенским сторожем и подготовил все необходимое для последнего, пятого акта жизни.
В семь часов вечера он вернулся.
Он застал Доминика если и не за молитвой, то глубоко задумавшимся у изголовья усопшей.
Служитель Божий ни на мгновение не оставлял комнату г-жи Жерве.
Коломбан настоятельно просил его сходить поесть. Монаху, казалось, были неведомы человеческие потребности. Все же он внял просьбам друга, но через десять минут вернулся и занял свое место у изголовья покойной.
Кармелита проснулась; ее бред усилился.
Хорошо еще, что, находясь в беспамятстве, несчастная девушка не понимала, что готовилось в ее доме.
В сущности говоря, для нее легче было пережить физические мучения, чем глубокие душевные потрясения.
Соседи взялись приготовить покойную в последний путь; столяр принес гроб; его не стали забивать гвоздями, а скрепили винтами, чтобы Кармелита в бреду не услышала молотка, стучащего по гробу матери.
Поскольку смерть наступила внезапно, гроб перенесли в церковь святого Иакова-Высокий порог только на третий день.
Брат Доминик отслужил мессу в отдельной часовне.
Потом гроб отнесли на Западное кладбище.
Коломбан проводил г-жу Жерве в последний путь вместе с двумя ремесленниками, согласившимися потерять дневной заработок ради того, чтобы исполнить христианский долг.
Болезнь Кармелиты благодаря правильному лечению шаг за шагом отступала перед могуществом науки.
Через неделю девушка пришла в себя. Через десять дней доктор уже мог поручиться за благополучный исход. Спустя две недели она встала с постели.
Слезы хлынули у нее из глаз — она была спасена!
Однако бедняжка была на первых порах так слаба, что едва могла вымолвить слово.
Она снова открыла глаза: у изголовья был верный Коломбан — человек, которого она видела последним перед тем, как лишилась чувств, и первым — после того как пришла в себя.
В знак благодарности Кармелита едва заметно кивнула головой, потом вынула из-под одеяла исхудавшую руку и протянула ее молодому человеку. Вместо того чтобы ее пожать, тот почтительно коснулся ее губами, будто печать страдания на челе девушки в глазах благородного бретонца требовала не меньшего уважения, чем королевская корона.
Выздоровление Кармелиты длилось целый месяц. Только в начале марта она вернулась в свою комнату, а молодой человек — в свою.
С этого дня отношения, установившиеся было между ними, прекратились.
Коломбан в одном из уголков памяти сохранил воспоминание о красоте и доброте девушки.
Кармелита в одном из уголков сердца хранила безграничную признательность и искреннюю привязанность к Коломбану.
Но они виделись теперь очень редко, как соседи, живущие на одной площадке, и только.
Встречаясь, они перебрасывались несколькими словами, но никогда не заходили друг к другу.
Наступил май. Садики Коломбана и Кармелиты находились по соседству, разгороженные лишь сиреневыми кустами, а ведь изгородь из кустов — это даже не стена, разделявшая когда-то влюбленных Пирама и Тисбу.
Молодые люди находились, можно сказать, в одном саду; когда ветер пригибал кусты, изгородь словно раздвигалась, приглашая юношу и девушку поговорить, а ее цветы осыпались то по одну, то по другую сторону.
Однажды вечером молодой человек по просьбе Кармелиты открыл фортепьяно и стал извлекать из инструмента, долго запертого, долго молчавшего, как и сердце Коломбана, тысячи мелодичных звуков; они вырывались из окон его комнаты и звучали в неподвижном вечернем воздухе, а потом влетали в окна Кармелиты и, словно свежий весенний ветерок, ласкали девушку.
Так она наслаждалась не только музыкой, но и весенними ароматами.
Но какая глубокая печаль омрачала ее душу!
Бедняжка Кармелита! Она была менее всего или, напротив, больше всего расположена полюбить, в зависимости от того, дорогой читатель, что вы склонны видеть в любви: страдание или радость, невезение или счастье.
Теперь посмотрим, к чему приведет это болезненное состояние души.
В одной из предыдущих глав мы рассказывали о том, что все дома, расположенные по правой стороне улиц Вальде-Грас и Сен-Жак в этой части города, выходили в восхитительные сады.
В самом деле, из окон молодых людей, откуда лились мелодичные звуки и куда поднимались весенние ароматы, глазам открывался прекрасный вид.
Справа, на севере, — огромный участок, засаженный тополями и другими высокими деревьями.
Слева, на юге, — сады, засаженные акациями, сиренью, жасмином и альпийским ракитником с гроздьями желтых цветов.
Вдали, на западе, словно зеленый гамак, в который укладывалось на покой солнце, — верхушки деревьев Люксембургского сада.
Наконец, в середине этого треугольника — великолепнейшее зрелище, какое когда-либо открывалось взорам поэта или влюбленного!
Вообразите целое поле роз площадью в двадцать или двадцать пять арпанов; в центре — небольшое надгробие XVII века, напоминающее очертаниями часовню из тех, что наследники заказывают на Пер-Лашез над склепом почившего родственника.
Да что там поле — целая равнина роз в окрестностях Персеполя, где, как говорят, родилась королева цветов. И не думайте, что мы хоть сколько-нибудь преувеличиваем; живя в таком городе, как Париж, приятно окружить себя хотя бы несколькими горшками с розами, и когда кто-то имеет перед глазами целое море цветов, это может показаться сказкой. Однако это сущая правда: еще и сегодня, тридцать лет спустя, можно увидеть четыре-пять арпанов, оставшихся от того библейского поля.
Это были, как мы сказали, не клевер, не люцерна, а настоящие розы, аромат которых распространялся на два льё вокруг.
Каждая местность словно принесла в этот сад, к могиле, где покоились, может быть, мощи какой-то святой, самые красивые розы.
Это напоминало цветные вкладыши из "Монографии о розах", опубликованной в те времена англичанином Линдли.
Каких только роз там не было! Все без исключения виды их росли на этом поле, все пять частей света были представлены своими прекраснейшими цветами. Здесь были розы с Кавказа, с Камчатки, разноцветные китайские, розы-турнепс из Каролины, светящиеся розы из Америки, майские розы, шведские, альпийские, сибирские, желтые розы из Леванта, розы из Нанкина, дамасские, бенгальские, розы из Прованса, Шампани, Сен-Клу, Провена (согласно легенде их привез в Провен из Сирии граф Бри по возвращении из крестового похода) — одним словом, это была коллекция уникальная, может быть, потому, что была полной, ведь в ней насчитывалось две или три тысячи видов роз, известных в то время (число это до сих пор постоянно увеличивается, за что мы должны быть чрезвычайно благодарны садоводам).
"Роза заслуживает звания королевы цветов, но оно стало банальным от частого повторения, — говорится в "Умелом садоводе". — Роза обладает всеми достоинствами, какие только можно желать: соблазнительное кокетство ее бутонов, изящное расположение приоткрытых лепестков, грациозные очертания распустившегося цветка делают ее форму совершенной; нет более приятного и нежного аромата, чем у нее; изумительный ярко-розовый цвет самых разных оттенков делает ее схожей с румяной вакханкой; ее белизна — символ непорочности и чистоты".
Это определение розы, красочное, как старинная пастель времен Людовика XV, послужит для нас естественным переходом к описанию юной красоты нашей героини. В самом деле, достаточно прибавить всего несколько слов к описанию владычицы цветов в "Умелом садоводе" — и портрет Кармелиты готов.
Она была высокой и гибкой; ее красивые темно-каштановые волосы были так густы, что казались жесткими, хотя на ощупь оказывались мягкими как шелк.
Сапфировые глаза, коралловые губы, жемчужные зубки дополняли портрет этого прекрасного и соблазнительного создания.
Однажды в конце мая Кармелита и Коломбан сидели каждый у своего окна. У девушки глаза разбегались при виде окружавшей ее красоты; ее дурманили ароматы, поднимающиеся из сада.
Весь день стояла невыносимая жара, три или четыре часа лил дождь, а к семи часам вечера Кармелита отворила окно и была очарована видом, открывшимся на поле роз, которые еще утром были в бутонах. Она не могла понять, каким образом они так скоро распустились; так же как в скорбный день, память о котором постоянно жила в ней, она не могла понять этого внезапного перехода от жизни к смерти.
И вот с наступлением вечера молодые люди спустились в сад, где их разделяла только живая изгородь из осыпавшейся сирени. Кармелита спросила Коломбана об этом внезапном превращении бутонов в цветы.
Она совершенно не разбиралась в ботанике: в описываемые нами времена эта наука считалась излишней для юных девиц. Коломбан не раз имел случай в этом убедиться; он пустился — по-прежнему стоя за живой изгородью — в изложение курса физиологии растений, избегая точных, но малопонятных, особенно для женщин, слов, которыми загромоздили эту науку ученые.
Он очень доступно объяснил ей устройство растений, сведя его к трем простейшим органам, которые, соединяясь, образуют растительную ткань. Эту ткань в принципе можно сравнить с раствором камеди, которая, быстро густея, сплетает свои разбросанные нити; между ними мало-помалу образуется бесчисленное количество крошечных клеток. Он ей растолковал, что в этих трех простейших органах содержится и материал, из которого образуются слои древесины, и кристаллизованные соки, крахмал, клейковина, летучие масла, различные красящие вещества, а преобладающее из них — зеленое.
От простейших органов он перешел к сложным, рассказал об эпидерме, служащей растениям для перехода из одного состояния в другое. Начав с зародыша растения, когда оно только рождается и еще плотно прилегает к материнскому стеблю, он проследил за всеми фазами его развития вплоть до того момента, когда, готовое отделиться от родного корня, оно в свою очередь размножается.
Он дал своей соседке ясное и четкое определение корня, стебля, листа, почки и объяснил, как происходят у многих растений преобразования некоторых их органов: в колючки — как у чертополоха, барбариса, ложной акации, или в усики — как у винограда, гороха и пассифлоры.
Он рассказал, о единстве, существующем между всеми царствами природы. Человек не может жить без растений, как растения — без человека. Все в мире устроено очень разумно и гармонично, одно дополняет другое. Он объяснил, как растения питаются, как они получают необходимые вещества и через корневую систему, и через листья, получая их и из почвы и из воздуха; назвал вещества, необходимые для их развития. Он показал, каким образом сок — а это кровь растений — поднимается снизу вверх; он продемонстрировал, как свежесрезанная виноградная лоза истекает соком, что называется виноградными "слезами". Наконец, он рассказал, что растения спят, дышат, воспроизводятся подобно животным, и окончательно сразил юную слушательницу, сказав, что некоторые растения умеют даже передвигаться.
Не раз он готов был замолчать, боясь утомить девушку или наскучить ей. Но если бы не сумерки и листва, скрывавшие от него лицо Кармелиты, он прочел бы в ее глазах глубочайший интерес.
Вдруг пронеслась по небу и упала звезда; тогда от патологии растений он перешел к астрономии, от душистых земных цветов — к сияющим небесным цветам. Он перебрал все мифологические имена, которыми люди наградили неведомые миры, предмет их непреходящего интереса; небо, земля, современная эпоха, античность; Греция, Египет, Индия (эти три прародителя человечества) — все эти разнообразные темы послужили тому, чтобы первые часы сближения двух душ в ту теплую весеннюю ночь стали праздничными.
Они позабыли обо всем на свете — о людях, о себе; они не подозревали, что эти цветы, волны, облака, звезды, эти ветры, на которых они странствовали всю ночь, неизбежно увлекут их в небесную страну платонической любви.
Но чем была страстная горячность, что Коломбан вкладывал в описание гармонии природы, если не ярким проявлением самой чистой и сильной любви, которая — дитя жизни или смерти — когда-либо зарождалась в душе юноши?
А это пристальное внимание, этот восторг девушки, с какими она внимала рассказу юноши о чудесах мироздания — рассказу, промелькнувшему для нее так же быстро, как эта падающая звезда, — разве не было оно откровением первой любви?
Прибавьте к этому ее семнадцать лет и его двадцать два года, да еще знойный день, да теплый ласковый ветер и целое поле роз, утром стоявших в бутонах, к вечеру распустившихся пышным цветом!
XXXIX МОГИЛА ЛАВАЛЬЕР
Итак, в этот вечер, опьяненные ароматом роз, окутавшим их подобно душистому облаку, в котором Вергилий скрывает своих богинь; под светящимся небом, где влюбленные звезды играли в прятки, как Аполлон и Дафна; в прохладе, наступившей после дневного дождя, — одним словом, в эту первую весеннюю ночь, тихую, ясную, благоуханную, сердца молодых людей открылись навстречу любви, как раскрываются благодатной вечерней росе чашечки цветов.
Часы пробили полночь; насчитав двенадцать гулких размеренных ударов, влюбленные встрепенулись, вскрикнули, торопливо попрощались и бросились в дом, словно чувствуя какую-то вину.
Взбежав на верхнюю площадку, они замерли: окно было отворено; безмолвная печальная луна освещала могилу в окружении роз.
— Что это за надгробие? — спросила Кармелита, опершись локтями на подоконник.
— Это могила мадемуазель де Лавальер, — отвечал молодой человек, облокачиваясь рядом с ней в узком проеме открытого окна.
— А почему ее могила здесь? — удивилась Кармелита.
— Все земли, которые вы видите, — пояснил Коломбан, — были когда-то монастырским садом, принадлежавшим католическому ордену, чье поэтическое имя вы носите. Посреди этого сада стояла церковь, построенная, согласно легендам древней Лютеции, на развалинах храма Цереры. Точная дата появления этой часовни неизвестна; предполагают, что она была построена в эпоху царствования Роберта Благочестивого. Доподлинно известно только, что с конца десятого века ее занимали монахи-бенедиктинцы аббатства Мармутье, владевшие ею как приоратом, находившимся под покровительством Богоматери, вплоть до тысяча шестьсот четвертого года. Потом она была передана монахиням-кармелиткам, последовательницам реформы святой Терезы. Екатерина Орлеанская, герцогиня де Лонгвиль, по наущению святош, предложивших ей звание учредительницы, а также заручившись поддержкой Марии Медичи, добилась от короля разрешения и основала здесь монастырь. С позволения короля Генриха Четвертого и одобрения папы Климента Восьмого в Париж из Авилы пригласили шесть сестер-кармелиток, воспитанных серафической святой Терезой Сепеда. Эти шесть монахинь стали основательницами ордена во Франции. Они жили в монастыре, не сохранившемся до наших дней. Они молились, пели, умирали в этой церкви; от нее теперь осталась только эта могила, о которой вы меня спросили.
— Как интересно! — воскликнула Кармелита, все более изумляясь открывавшимся ей тайнам вечной природы и эфемерного прошлого. — А известны имена этих шести несчастных?
— Да, я знаю их имена, — с улыбкой отвечал юный бретонец, — ведь я обожаю легенды. Их звали: Анна от святого Варфоломея, Изабелла от Ангела, Беатриса от Непорочного зачатия, Изабелла от святого Павла и Элеонора от святого Бернара. Герцогиня Лонгвильская выехала им навстречу и пожелала, чтобы их прибытие в приорат было отпраздновано.
Все это, возможно, было не так интересно, как считала Кармелита, и не так любопытно, как утверждал Коломбан. Просто бедные дети обманывали друг друга и искали повода подольше не расставаться. Может, так оно и было? Беседа продолжалась.
— Вот бы посмотреть на тот праздник, — мечтательно проговорила Кармелита.
— Знаете что, мадемуазель, оставайтесь, где стоите, закройте глаза и вообразите: слева от вас — мрачный монастырь с высокими стенами, а напротив — церковь. Подождите-ка...
Молодой человек пошел к себе.
— Куда вы? — забеспокоилась Кармелита.
— За книгой! — крикнул из глубины квартиры молодой человек.
Спустя несколько секунд он возвратился с книгой в руке.
— Вы закрыли глаза? — спросил он.
— Закрыла.
— Видите слева монастырь?
— Да.
— А церковь напротив?
— Вижу.
Коломбан раскрыл книгу.
Было полнолуние, и ясный свет, льющийся на уснувшую природу, был настолько ярок, что Коломбан мог читать как днем.
Он начал:
"В среду двадцать четвертого августа тысяча шестьсот пятого года, в день Святого Варфоломея, в Париже прошло новое торжественное шествие сестер-кармелиток. В этот день они вступали во владение своим монастырем. При большом стечении народа, как при отпущении грехов, сестры торжественно шествовали в сопровождении доктора Дюваля, приставленного к ним для охраны. Он шагал с палкой в руке и весьма походил на оборотня.
Но случаю было угодно, чтобы прекрасное святое таинство было нарушено звуками двух скрипок, заигравших берга-маск. Напуганные бедные кармелитки опрометью бросились прочь, вместе с сопровождавшим их оборотнем укрылись в церкви и там, почувствовав себя под надежным и безопасным кровом, запели "Те Deum laudamus,[17]".
— Ну как, представили все это? — спросил Коломбан.
— Да, но я все увидела совсем не так, как ожидала, — улыбнулась Кармелита.
— Даже с открытыми глазами не всегда удается увидеть то, что хочется, тем более — с закрытыми, — заметил Коломбан.
— В этот монастырь и удалилась мадемуазель де Лавальер?
— В этот самый, где она провела тридцать шесть лет в постах и молитвах, укрепляющих веру, и умерла шестого июня тысяча семьсот десятого года.
— Значит, в этой могиле и покоится несчастная герцогиня? — спросила девушка.
— Я бы не взялся это утверждать, — отвечал Коломбан.
— Так ее, что же, выкопали?
— В тысяча семьсот девяностом году декретом Национального собрания монастырь был закрыт. Церковь разрушили... Кто знает, что сталось с телом бедной грешницы, изображенной Лебреном в образе Магдалины? Однако, как я уже сказал вам, заинтересовавшейся ее судьбой спустя полтора столетия, в народе бытует мнение, что тело не тронули, что оно и сейчас покоится в склепе под этой часовенкой.
— Туда, конечно, нельзя войти? — спросила Кармелита с любопытством и в то же время с опаской, как бы страшась быть разочарованной.
— Прошу прощения, мадемуазель, — отвечал Коломбан, — туда не только входят, там даже живут.
— Какой нечестивец может жить в святом месте?
— Садовник, мадемуазель. Тот самый, что ухаживает за всеми этими прекрасными розами, ароматом которых мы с вами сейчас наслаждаемся.
— Как бы я хотела осмотреть эту часовню! — воскликнула Кармелита.
— Нет ничего проще.
— Как же это сделать?
— Достаточно спросить позволения у садовника.
— А если он откажет?..
— Если он не допустит вас к могиле, вы попросите позволения полюбоваться розами, а из любви к своим цветам он разрешит взглянуть и на надгробие.
— Значит, это его цветы?
— Он их единственный владелец.
— Зачем ему столько роз?
— Он их продает, — сообщил юный бретонец.
— О, дурной человек! — возмутилась Кармелита, и что-то детское прозвучало в ее упреке. — Продавать эти чудесные розы! А я-то думала, что он их выращивает из благоговения или в крайнем случае — ради собственного удовольствия!
— А он их продает... Да вот, взгляните: отсюда на моем окне видны три розовых куста, которые он продал мне на днях.
Кармелита высунулась из окна, задев своими прекрасными развевающимися волосами лицо молодого человека, отчего он задрожал всем телом.
Кармелита почувствовала его дыхание, отпрянула и, покраснев, неосторожно промолвила:
— Как бы мне хотелось иметь розовый куст из тех, что окружают эту часовню!
— Позвольте мне подарить вам один из моих! — осмелился предложить Коломбан.
— Спасибо, сударь, — спохватившись, отвечала Кармелита, — я бы хотела вырыть его собственными руками, ведь где-то здесь жила сестра Луиза Милосердная; здесь же покоилось, да и сейчас, может быть, лежит ее тело.
— Почему бы вам не отправиться туда завтра же утром?
— Я ни за что не осмелюсь пойти одна.
— Разрешите предложить мою руку, если вам угодно будет ее принять.
Девушка смутилась и, сделав над собой усилие, сказала:
— Послушайте, господин Коломбан! Я глубоко вас уважаю и очень вам признательна. Но, если я выйду с вами под руку среди белого дня, все кумушки квартала задохнутся от возмущения.
— Пойдемте ночью!
— А можно?
— Отчего же нет?
— Мне кажется, садовник должен засыпать и просыпаться вместе с цветами.
— Не знаю, когда он ложится, но знаю наверное, что встает он раньше своих цветов.
— Откуда вам это известно?
— Иногда ночью, когда мне не спится, — при этих словах голос Коломбана едва заметно задрожал, — я подхожу к окну и вижу, как он ходит по саду с фонарем в руке... Вон, взгляните, мадемуазель! Видите блуждающий среди роз огонек? Должно быть, это он там.
— Куда это он так бежит? — удивилась Кармелита.
— За кошкой, верно.
— Однако раз он уже встал, — улыбнулась Кармелита, — то для него это, может быть, и рано, а для нас чересчур поздно!
— Поздно? — переспросил Коломбан.
— Да... Который теперь час?
— Около двух, — поколебавшись, ответил Коломбан.
— Ох, я еще никогда так поздно не ложилась! — вскрикнула девушка, воздев руки. — Два часа ночи! Боже милостивый! Простимся скорее, господин Коломбан!.. Благодарю за поучительный рассказ. Как-нибудь, когда все соседи уснут, — прибавила она шепотом, — я попрошу вас проводить меня, чтобы вырыть розовый куст.
— Лучше сегодняшней ночи никогда не будет, мадемуазель, — проговорил молодой человек, с трудом сдерживая дрожь.
— Если бы я была уверена, что нас никто не увидит, — с простодушной откровенностью отвечала девушка, — я пошла бы прямо сейчас.
— Кто может увидеть вас в такой час?
— Прежде всего привратница.
— Я знаю, как отпереть дверь и не разбудив ее.
— Как!? Вы отопрете их отмычкой?
— Нет, мадемуазель, своим ключом. Мне случается возвращаться из библиотеки за полночь, а привратница — калека, и мне неловко ее беспокоить, вот я и заказал себе ключ.
— Раз так, — сказала девушка, — идемте прямо теперь. Мне кажется, я все равно не засну и буду все время думать о своей розе.
Неужели из-за розы вы не смогли бы уснуть, Кармелита? Нет, конечно. Но вы так думали, бедное дитя, невинная девушка, и именно ваша чистота толкнула вас на эту ночную вылазку под руку с молодым человеком, таким же чистым, как вы.
Кармелита надела чепчик, набросила на плечи косынку; молодой человек взял шляпу, и, крадучись, они сошли по лестнице. Они старались не шуметь, но все-таки разбудили птиц, спавших в кустах сирени, и птицы, заслышав их шаги и увидев, какая красивая на небе луна, запели, то ли решив, что наступил рассвет, то ли пожелав принять участие в этом ночном празднике, устроенном весной и природой в честь двух молодых людей.
Миновав улицы Сен-Жак и Вальде-Грас, они вышли на улицу Анфер и остановились перед большими решетчатыми воротами, закрывавшими вход в бывший сад кармелиток.
Они позвонили.
Для посетителей время было слишком раннее или чересчур позднее, и сторож не торопился отпирать.
Но когда колокольчик снова задребезжал, человек с фонарем зашевелился. Молодые люди подошли поближе. Сторож осветил их лица и узнал юношу, которого часто видел в окне, а лежа среди роз, слышал, как он поет, аккомпанируя себе на фортепьяно.
Садовник открыл ворота и пригласил наших Адама и Еву в свой райский сад.
Как мы уже сказали, это был огромный питомник, где росли только розы.
Невозможно описать ощущение необычайной нежности и легкого опьянения, овладевшее молодыми людьми, когда они проникли в этот гарем роз; его султан с фонарем в руках называл их мелодичные имена, ласкавшие посетителям слух, будто пение птиц.
Можно было подумать, что эти звуки издает бюль-бюль, этот соловей Востока, который знает тайну цветов и, подобно тростнику царя Мидаса, поверяет эту тайну легкому восточному ветру.
Держа друг друга за руку и слушая рассказ садовника, они подошли к могиле, или часовне, сестры Луизы Милосердной.
Кармелита оробела и не решилась войти; Коломбан ее уговорил.
Но она почти тотчас в ужасе выбежала вон, когда вместо символов веры, какие она надеялась увидеть, она разглядела прислоненные или подвешенные к стенам лопаты, заступы, грабли, лейки, тачки и другой садовый инвентарь, которым пользовался хозяин питомника.
Девушка с любопытством обошла вокруг часовни, окруженной необыкновенными розами в восемь футов высотой.
— Что это за восхитительные розы? — полюбопытствовала Кармелита.
— Александрийские белые, — отозвался садовник. Они растут преимущественно на юге Европы и побережьях Северной Африки. Из их лепестков получают розовое масло.
— Продайте мне, пожалуйста, один куст! — попросила девушка.
— Какой? — спросил садовник.
— Вот этот.
Кармелита указала на куст, росший ближе других к могиле.
Садовник вошел в часовню и взял заступ.
В нескольких шагах от часовни пел свою лучшую любовную песню соловей.
Луна была похожа на греческую Фебу, что обводит землю любовным взором в поисках тени Эндимиона.
Ночной ветерок, нежный, будто поцелуй природы, играл завитками волос Кармелиты и Коломбана.
Сцена поражала красочностью и поэтичностью: высокая девушка в трауре, светловолосый юноша в черном костюме и садовник, копающий землю в этот ночной час при ясном свете луны, под теплым ветром, под пение соловья. Все дышало жизнью, и каждый из них готов был воскликнуть: "До чего жизнь прекрасна! Благодарю тебя, Господи, за то, что мы все живем в одно время!"
Увы!
Первый удар заступа болью отозвался в душах молодых людей. Им казалось кощунством копаться в земле, где покоилось тело раскаявшейся любовницы короля-эгоиста, как называли Людовика XIV.
Они поспешили из питомника, унося с собой розовый куст и чувствуя испуг, словно дети, сорвавшие цветок на кладбище.
Очутившись за воротами сада, они забыли свои мрачные мысли, бросили прощальный взгляд на питомник, посылавший им вдогонку свои ароматы, потом посмотрели на звезды, будто пытаясь навсегда запомнить все радости кипевшей вокруг жизни, и возблагодарили Провидение за все благодеяния, которыми оно их осыпало в эту необыкновенную весеннюю ночь.
XL КОЛОМБАН
Сердце юного бретонца, которого мы назвали Коломбаном, напоминало четырехгранный бриллиант чистой воды. А гранями его были: доброта, нежность, простодушие и верность.
Несколько умников в коллеже — пять или шесть восемнадцатилетних повес, которые уже к двадцати годам становятся потасканными львами, — прозвали его Коломбаном-дурачком в память о некоторых шутках, жертвой которых стал наш бретонец.
Благодаря геркулесовской силе он мог бы заставить замолчать эти злые языки. Однако он питал к этим пустомелям такое же презрение, как ньюфаундленды и огромные сенбернары — к турецким собачкам и кинг-чарлзам.
Но однажды один из самых тщедушных и злобных его товарищей — юный креол из Луизианы, недавно поступивший в коллеж, — видя, что Коломбан с непоколебимым терпением невозмутимо сносит все оскорбления, придумал такую шутку: сел верхом на одного из верзил и дернул Коломбана за белокурые волосы.
Если бы это была игра, Коломбан промолчал бы.
Но ему было больно и обидно.
Дело происходило во время вечерней рекреации, когда учащиеся прогуливались в гимнастическом дворе.
Почувствовав резкую боль и услышав хохот всех, кто был во дворе, Коломбан обернулся и, оставаясь внешне совершенно спокойным, схватил креола за шиворот, сдернул со спины верзилы и понес к трапеции, где была подвешена веревка с узлами.
Подойдя к трапеции, он хладнокровно перекинул веревку поперек его тела и подтянул ее вверх — забияка беспомощно стал болтать в воздухе руками и ногами.
Зрители перестали смеяться и запротестовали, но тщетно.
Верзила, с плеч которого был сдернут Камилл Розан (так звали креола), подошел к Коломбану и потребовал освободить товарища.
В ответ Коломбан достал часы, взглянул на них и, убирая в кармашек, сказал:
— Еще пять минут!
Наказание и без того уже продолжалось пять минут.
Верзила, что был на целую голову выше Коломбана, бросился на него. Но бретонец схватил противника поперек туловища, оторвал от земли, сдавил изо всех сил, как Геракл Антея, о чем им рассказывали на уроках мифологии, а потом бросил наземь под рукоплескания всех учеников, ведь дети со школьной скамьи привыкают принимать сторону сильнейшего.
Коломбан наступил коленом на грудь верзилы. Тот, задыхаясь, запросил пощады, но упрямый бретонец опять вынул часы и сказал просто:
— Еще две минуты!
Весь двор взорвался ликующим "ура".
Среди этого веселья Камилл Розан продолжал извиваться, хотя не так отчаянно, как раньше.
Когда истекли пять минут, Коломбан, столь же свято исполнявший данное слово, как его земляк Дюгеклен, убрал колено с груди верзилы, который и думать забыл о мщении, и отвязал злобного американца; тот в бешенстве кинулся в лазарет, где пролежал целый месяц в бреду.
Отступление креола сопровождалось, о чем нетрудно догадаться, громким смехом; все бросились поздравлять Коломбана. Но тот будто не слышал этих похвал и невозмутимо продолжал прогулку, повернувшись спиной к однокашникам, но перед тем по-дружески их предупредил:
— Вы видите, на что я способен. И с первым из вас, кому взбредет на ум со мной шутить, будет то же самое.
Целый месяц состояние юного Камилла Розана вызывало опасения.
Но кто впал в настоящее отчаяние, так это славный Коломбан. Он уже забыл, что напали на него, что он защищался и потому правда была на его стороне, и винил в этой болезни себя, и только себя.
Его отчаяние естественно переросло в искреннюю симпатию, когда молодой человек начал поправляться. Вскоре он почувствовал к маленькому Камиллу нежность, какую сильные испытывают по отношению к слабым, а победители — к побежденным. То было чувство, рожденное самой трогательной из всех добродетелей — состраданием.
Мало-помалу эта случайно возникшая нежность превратилась в настоящую привязанность, в дружбу-покровительство, какая бывает у старшего брата с младшим.
Камилл Розан тоже, казалось, искренне полюбил Коломбана. Но к его симпатии примешивался страх. Его слабая натура скоро привыкла к покровительству бретонца, но в то же время гордыня противилась, воздвигая между ним и Коломбаном непреодолимое, хоть и невидимое, препятствие.
Камилл был хилый, но задиристый, и он ежедневно получал бы от товарищей внушение, подобное тому, какое задал ему Коломбан. Однако стоило бретонцу шагнуть вперед и тихо спросить: "Эй, в чем дело?", как опасность отступала.
Коломбану, как дубу, достаточно было простереть могучие ветви над тростником, чтобы защитить Камилла от непогоды.
С течением времени Камилл, казалось, смирил гордыню, искренне полюбил Коломбана и постоянно искал случая доказать свою любовь. Они учились в разных классах, спали в разных дортуарах и могли увидеться и поболтать только во время рекреаций. Но потребность в излияниях у креола была так велика, что, как только он оказывался вдали от друга, непременно писал ему письма. Начавшаяся переписка, постоянная, обстоятельная, сблизила их. Она была почти такой же нежной, как у двух влюбленных.
Первая юношеская дружба бывает столь же бурной, как первая любовь. Душа похожа на человека, который долгое время провел в заключении и ждет не дождется свободы, чтобы дать возможность своим самым сокровенным мыслям распуститься под солнечными лучами. Встретившись, души молодых людей щебечут, словно птички ранней весной. Человек, сразу же вступивший во взрослую жизнь и не узнавший всего очарования юной и целомудренной богини Дружбы, достоин жалости! Ни страстная любовь к женщине, ни эгоистическая привязанность зрелого мужчины не могут дать ему той чистой радости, какую он получает, поверяя другу сердечные тайны в шестнадцать лет.
И вот с этого времени молодые люди очень сблизились. В следующем году Камилл начал заниматься на том же отделении, что и Коломбан, и они стали приятелями, как принято выражаться в коллеже, то есть делили все, что имели, от перьев и бумаги до белья и денег.
Если родные креола присылали ему варенье из гуайявы или консервированные ананасы, Камилл половину приносил Коломбану. Если граф де Пангоэль присылал соленья с берегов Бретани, Коломбан перекладывал половину Камиллу на стол.
Эта дружба становилась с каждым днем все нежнее, но вдруг Камилл уехал: родители неожиданно вызвали его в Луизиану незадолго до окончания класса философии.
Друзья распростились, нежно обнявшись и обещая друг другу писать не реже раза в две недели.
Первые три месяца Камилл держал слово, потом письма стали приходить раз в месяц, потом раз в три месяца.
Зато верный бретонец, свято выполняя обещание, писал другу аккуратно раз в две недели.
На следующий день после той весенней ночи, что мы описали в предыдущей главе, в десять часов утра старая привратница принесла молодому человеку письмо, на котором он тотчас узнал долгожданный штемпель.
Письмо было от Камилла.
Он возвращался во Францию!
Письмо дошло всего за несколько дней до его приезда.
Камилл предлагал Коломбану вернуться к прежней совместной жизни, как это было в коллеже.
"У тебя три комнаты и кухня, — писал он, — половина кухни — моя, половина от трех комнат — моя".
— Черт побери! Ну еще бы! — воскликнул бретонец, обрадованный неожиданным возвращением молодого человека.
Потом он спохватился: если его дорогой Камилл приезжает, ему же нужны стол, кровать, туалетный столик и в особенности диван, где ленивец-креол мог бы валяться, покуривая великолепные сигары, которые, несомненно, он привезет с берегов Мексиканского залива. И Коломбан, взяв все свои сбережения — триста франков, — побежал покупать все необходимое.
На лестнице он столкнулся с Кармелитой.
— Ах, Боже мой! Какой у вас довольный вид сегодня, господин Коломбан! — заметила Кармелита при виде сияющего соседа.
— Да, мадемуазель, я счастлив, очень счастлив, — отвечал Коломбан. — Ко мне едет друг из Америки, из Мексики, из Луизианы! Школьный друг, самый близкий!
— Тем лучше! — проговорила девушка. — А когда он приезжает?
— Не могу сказать точно, но я бы хотел, чтобы это произошло сию минуту!
Кармелита улыбнулась.
— Да, я бы хотел, повторяю, чтобы он уже был здесь, потому что вам было бы приятно увидеть и услышать его. Он воплощение красоты и веселья. Я никогда не видел даже на полотнах мастеров такого красивого лица... Оно, пожалуй, немного женственно, но и только... — прибавил он, ничуть не желая умалить достоинств друга, которого только что описал с такой искренностью; Коломбан лишь хотел оставаться в рамках достоверности. — Да, лицо немного женственное, но оно прекрасно гармонирует со всем его обликом! Ни у одного принца из волшебных сказок не бывало такого изящного поворота головы, ни один выпускник Саламанки не умеет так молодцевато держаться, как он, ни один парижский студент не сможет с ним сравниться в беззаботной легкости! И потом... Говорю это нарочно для вас, ведь вы любите музыку: у него восхитительный тенор, и он прекрасно поет! О, вы услышите старинные дуэты, которые мы распевали в коллеже... Кстати, о музыке: когда мы расстались сегодня ночью, я решил вот что вам предложить... Вы ведь мне говорили, что изучали в Сен-Дени музыку?
— Да, я прилично пела сольфеджио, и мое контральто хвалили. Уезжая из Сен-Дени, я больше всего жалела о трех своих подругах — мы дружили так же, как вы с Камиллом Розаном, — и об уроках музыки, которые не смогла продолжать; думаю, что, если бы я немного поработала над голосом, то могла бы кое-чего добиться.
— Если пожелаете... — продолжал Коломбан, — я не говорю, что буду давать вам уроки, я не настолько сведущ, но все-таки смог бы с вами заниматься; я не Бог весть какой певец, но в коллеже у меня был отличный старый преподаватель-немец, господин Мюллер; с тех пор я много работал сам и охотно с вами поделюсь своими знаниями.
Коломбан сам испугался: как это он мог столько наговорить? Однако всколыхнувшее тихую жизнь бретонца известие о том, что приезжает Камилл, вывело его из равновесия; от радости он потерял голову — вот чем объяснялась его смелость и многословие.
Кармелита с благодарностью приняла предложение соседа. Она обрадовалась больше, чем если бы получила наследство. Она раскрыла было рот, чтобы поблагодарить, как вдруг заметила внизу у лестницы монаха-доминиканца, того самого, что читал молитвы над ее усопшей матерью. С того рокового дня она не раз его видела, когда он навещал друга.
Она покраснела и ушла к себе.
Коломбан тоже смутился.
Монах с удивлением и упреком взирал на Коломбана. Он словно хотел сказать: "Я думал, что знаю все ваши тайны, потому что раскрыл перед вами душу, а оказывается, есть нечто такое, что вы мне не доверили!"
Коломбан покраснел как девушка и, отложив покупку мебели на другое время, пригласил монаха к себе.
За пять минут Доминик сумел разглядеть в душе друга такое, о чем тот не подозревал и сам.
И Коломбан рассказал ему все-все, вплоть до событий последней ночи, со всеми милыми подробностями, воспоминания о которых до сих пор опьяняли его сердце.
Если бы монах стал осуждать Коломбана за эту чистую первую любовь, он впал бы в противоречие с собственными теориями всеобщей любви, ведь он называл любовь во всех ее проявлениях "узлом жизни", сравнивая таким образом жизнь с деревом, любовь — с узелком, где зарождается листва, а человечество — с плодами, венчающими это дерево.
И потому брат Доминик узрел в этой зарождавшейся страсти, неведомой дотоле молодому человеку, животворное возбуждение, признаки которого скорее радовали, нежели настораживали.
С другой стороны, он прощал Коломбану, что тот не рассказал ему ранее о своей любви: монах понимал, что Коломбан сам не знал, что творится у него в душе.
Поняв, что он влюблен, юный бретонец готов был ужаснуться.
Монах улыбнулся и взял его за руку.
— Вы нуждаетесь в этой любви, друг мой, — сказал он, — иначе ваша молодость так и пройдет в вялом безразличии. Благородная страсть, а именно такая и должна была зародиться в вашем благородном сердце, придаст вам сил и послужит вашему обновлению. Выгляните в этот сад, — прибавил монах и указал на питомник, — еще вчера в это время земля была сухая, растения зачахли, рост их прекратился. Но вот прошел дождь, и из земли проклюнулись ростки, корни дали побеги, почки превратились в листья, а бутоны — в цветы! Люби, юноша! Цвети и плодоноси, молодое дерево! Где же, как не на этом юном и мощном стволе, рождаться ярким цветам и зреть плодам!
— Значит, — сказал Коломбан, — вы не осуждаете меня и советуете прислушаться к тому, что мне подсказывает сердце?
— Я одобряю вас, Коломбан! Я мог бы вас осудить только за то, что вы пытались утаить от меня свою любовь, ведь обыкновенно скрывают любовь порочную. Что может быть прекраснее в свободном человеке, чем зависимость от своего сердца; насколько страсть, зародившаяся в низменной душе, может опорочить и унизить человека, настолько она возвышает и освящает благородное сердце. Оглянитесь, друг мой! Вы увидите, что именно живительные силы страсти, даже в большей степени, чем человеческий гений, двигали империями, потрясали мир или делали его сильнее. Как бы всемогущ ни был разум, он робок, беспокоен, он дремлет и в любую минуту готов отступить перед препятствием на своем пути; сердце, напротив, находится в постоянном волнении, быстро принимает решения, твердо стоит на своем, и никакая преграда не может противостоять его стремительному натиску. Разум — это отдохновение, а сердце — сама жизнь. Но отдохновение в вашем возрасте, Коломбан, было бы опасным бездельем; чем накапливать силы в праздности, чем хранить в себе эту драгоценную активность, бурлящую во мне, я скорее расшатал бы, как Самсон, колонны храма, даже если бы мне было суждено погибнуть под его развалинами!
— Но ведь вы, брат мой, не можете любить, — возразил Коломбан.
Молодой монах печально улыбнулся.
— Нет, — сказал он, — я не могу любить вашей земной, плотской любовью, потому что служу Господу. Но, лишив меня возможности любить женщину, Бог наделил меня способностью любить всех! Вы горячо любите женщину, а я, друг мой, страстно люблю человечество! Чтобы вы влюбились, вам необходимо иметь-перед глазами юную и богатую девушку, которая платила бы вам взаимностью. Я же, напротив, прежде всего, люблю бедных, немощных, страждущих. И если я не нахожу в себе сил любить ненавидящих меня, то могу их, по крайней мере, пожалеть... О, вы не правы, Коломбан, когда говорите, что мне запрещено любить. Господь, которому я себя посвятил, является источником всякой любви. Бывают минуты, когда я, подобно святой Терезе, готов оплакивать Сатану, потому что он единственное существо, кому не позволено любить!
Долгим был разговор на эту неисчерпаемую тему, предложенную братом Домиником. Они перебирали достижения, которыми человек был обязан благородным страстям своего сердца. И Коломбан подумал, что монах пришел в этот час нарочно для того, чтобы приподнять перед ним краешек завесы, скрывающей жизнь; слова монаха были благодатны, как крупные капли летнего дождя: они омыли душу юноши и он почувствовал себя более достойным любви. Мысль о том, что девушка, может быть, не отвечает ему взаимностью, даже не пришла Коломбану в голову.
Внимая истине, бретонец вздохнул свободнее; вместо задумчивого серьезного молодого человека перед монахом был теперь страстно влюбленный юноша. Он стал похож на поэта или живописца: на поэта — ибо речь его украшали образы, почерпнутые в лучших произведениях мировой поэзии; на живописца — ибо он не столько рассказывал о своей страсти, сколько рисовал ее ярким красками, черпая их в своем пылающем сердце.
Они, несомненно, провели бы весь день, припав к сосцам этой плодородной Исиды, которую зовут Любовью. Но вдруг с лестницы кто-то дважды громко позвал Коломбана.
— О! Это голос Камилла! — вскричал восторженный бретонец.
Он не слышал голоса друга три года, но сразу его узнал.
— Коломбан! Коломбан! — снова послышался с лестницы веселый голос.
Коломбан отворил дверь и принял в объятия Камилла.
Ни один слепец еще не раскрывал столь братского объятия Несчастью, принимая его за лучшего друга.
XLI КАМИЛЛ
Завидев Камилла, с которым он был незнаком, брат Доминик скромно удалился, несмотря на то что Коломбан настойчиво уговаривал его остаться.
Камилл провожал монаха взглядом до тех пор, пока за ним не захлопнулась дверь, а потом с комической важностью заметил:
— О! Римлянин счел бы, что получил предупреждение!
— Что ты хочешь сказать?
— Помнишь латинскую поговорку: "Если споткнешься, выходя из дома, или увидишь слева ворона, ступай назад!"
На открытом и радостном лице Коломбана промелькнуло выражение досады, почти страдания.
— Ты все тот же, милый Камилл, — проговорил он. — Неужели ты хочешь первым же словом разочаровать друга, с которым не виделся три года?
— Почему это?
— Потому что этот ворон, как ты выразился...
— Ты прав, скорее он похож на сороку: у него черно-белое одеяние...
Второй удар поразил Коломбана в самое сердце.
— Этот ворон или эта сорока — один из лучших, умнейших, сердечнейших людей, каких я знаю. Когда ты познакомишься с ним поближе, ты сам увидишь, что спутал его со священниками, воюющими с Господом, вместо того чтобы бороться во имя его, и пожалеешь, что в самом начале придумал ему это глупое прозвище.
— О! Ты как всегда, суров и назидателен, словно миссионер, дорогой мой Коломбан! — рассмеялся Камилл. — Ну ладно, пусть я не прав, но ты же знаешь, у меня такая привычка! Прости, что я обидел твоего друга, ведь этот красавец-монах — твой друг, верно? — прибавил американец, сбавив тон.
— Да, Камилл, это настоящий, искренний друг, — серьезно ответил бретонец.
— Мне жаль, что я дал ему прозвище или наградил эпитетом, как тебе будет угодно. Но, понимаешь, когда я уезжал из коллежа, ты не был набожным, вот почему меня несколько удивляет, что я застал тебя за беседой с монахом.
— Ты перестанешь удивляться, когда познакомишься с братом Домиником. Впрочем, — продолжал Коломбан, и в его голосе зазвучали ласковые нотки, а лицо осветила дружеская улыбка, — речь теперь не о брате Доминике, а о брате Камилле. Один — мой духовный брат, другой — названый. Вот, наконец, и ты! Давай-ка обнимемся еще раз! Не могу тебе сказать, как меня обрадовало твое письмо! А уж как я рад — и еще буду радоваться — твоему приезду! Надеюсь, мы будем жить вместе, как в коллеже?
— Даже лучше, чем в коллеже! — почти с такой же радостью отозвался Камилл. — В коллеже нам все мешало быть вместе. Здесь, напротив, у нас не будет ни злобных товарищей, ни угрюмых надзирателей, которых надо опасаться, и мы вволю нагуляемся, будем музицировать, ходить в театр, ночами наговоримся досыта. Ведь в коллеже это было строго запрещено!
— Да, я помню ночные разговоры в дортуаре; как это было чудесно! — мечтательно проговорил Коломбан.
— Особенно в ночь с воскресенья на понедельник, да?
— Верно, — вспомнив, подхватил Коломбан с полурадостной, полугрустной улыбкой, — в ночь с воскресенья на понедельник. Я редко выходил: родственников в Париже у меня не было. Весь день я слонялся по двору наедине со своими мыслями, — нет, это слишком громко сказано: со своими мечтами. А ты, беглец, поднимался в этот день, как жаворонок, спозаранку и с веселым щебетом улетал Бог знает в какое прелестное гнездышко! Я всегда провожал тебя без зависти, но с сожалением. А вечером ты возвращался полный новых впечатлений и делился ими со мной:
мы разговаривали всю ночь, ты рассказывал, а я слушал о твоих дневных проказах.
— Мы снова заживем такой жизнью, Коломбан, не беспокойся! Ты рассудителен, а я сумасброд и еще не одну ночь буду забавлять тебя рассказами о дневных приключениях. В Луизиане я жил как настоящий Робинзон и теперь надеюсь наверстать в Париже упущенное.
— Время тебя не изменило, — с ласковой озабоченностью проговорил степенный бретонец.
— Да, и прежде всего, сохранило мой хороший аппетит. Скажи-ка, где тут едят, когда голодны?
— Мы поели бы в столовой нашей квартиры, если бы я знал заранее.
— Ты что же, не получил моего письма?
— Получил час назад.
— Ах да, — вспомнил Камилл, — оно же отправилось на одном со мной пакетботе, прибыло на нем в Гавр одновременно со мной и опередило меня лишь потому, что почтовые кареты ездят быстрее дилижансов. Тем уместнее мой вопрос: где можно поесть?
— Дорогой мой! — сказал Коломбан. — Я не стану возражать, когда ты сравниваешь себя с Робинзоном Крузо; это означает, что ты привык к лишениям.
— Ты заставляешь меня трепетать, Коломбан! Оставь эти шутки. Я не герой романа. Я хочу есть! В третий раз спрашиваю, где это можно сделать.
— Здесь, друг мой, договариваются с привратницей или с какой-нибудь доброй женщиной по соседству, чтобы она вас кормила за определенную плату.
— А в непредвиденных случаях?..
— У Фликото!
— A-а, милейший Фликото с площади Сорбонны! Так он еще существует? Он еще не съел все бифштексы?
И Камилл закричал:
— Фликото! Бифштекс и гору картошки!
Он схватился за шляпу.
— Куда ты идешь? — спросил Коломбан.
— Не иду, а бегу! Бегу к Фликото. Ты со мной?
— Нет.
— Почему?
— Надо купить для тебя кровать, чтобы ты спал, стол, чтобы ты мог работать, диван, чтобы ты мог курить, не так ли?
— Кстати, о курении: я привез отличные гаванские сигары!.. То есть, они у меня будут, если таможня соблаговолит вернуть их мне. Должно быть, лучшие "пурос" курят господа таможенники!
— Сочувствую твоему горю не из эгоизма, а по-христиански — сам я не курю.
— Ты полон пороков, дорогой друг; не знаю, какая женщина могла бы тебя полюбить.
Коломбан покраснел.
— Неужели уже нашлась такая? — удивился Камилл. — Ну ладно!
Он протянул руку со словами:
— Дорогой друг! Прими мои самые искренние поздравления! Значит, с женщинами дело обстоит лучше, чем с едой? Можно кого-нибудь найти в этом квартале? Коломбан, как только я пообедаю, можешь быть уверен, я немедленно отправлюсь на поиски. Жаль, что я не привез тебе негритянку... О, не вороти нос: среди них встречаются великолепные! Но таможенники отняли бы ее у меня: заграничный товар конфискуется!.. Так ты идешь?
— Нет, я же сказал.
— Верно, ты отказался. А почему ты отказался?
— Пустая твоя голова!
— Пустая? А вот мой отец придерживается иного мнения: он утверждает, что у меня в голове вместо мозгов — креветка. Так почему ты отказался?
— Потому что надо купить тебе мебель.
— Резонно. Беги за моей мебелью, а я побегу набивать свой желудок. Встречаемся здесь через час.
— Хорошо.
— Дать тебе денег?
— Спасибо, у меня есть.
— Ладно, когда кончатся, возьмешь.
— Где же? — рассмеялся Коломбан.
— У меня в кошельке, если там еще что-нибудь останется, дорогой мой. Я теперь богат: Ротшильд и Лаффит в подметки мне не годятся! У меня шесть тысяч ливров годового дохода, то есть пятьсот ливров в месяц, шестнадцать франков тринадцать су и полтора сантима в день. Хочешь, купим Тюильри, Сен-Клу или Рамбуйе? В этом кошельке — за три месяца вперед.
Камилл достал из кармана кошелек, в ячейках которого сверкало золото.
— Поговорим об этом потом, — предложил Коломбан.
— До встречи через час!
— Договорились!
— В таком случае, Умри за короля, я за страну умру! процитировал Камилл.
И он скатился по лестнице вниз, но не с намерением умереть "за короля", как призывали стихи Казимира Делавиня, а чтобы пообедать у Фликото.
Коломбан спустился вслед за ним размеренным шагом, как и подобало человеку его характера.
Вы видели, дорогие читатели, с каким насмешливым легкомыслием относился Камилл к самым серьезным вещам; он проявил это, едва войдя к Коломбану, в первых же словах по поводу брата Доминика.
Французов принято обвинять в легкомыслии, беззаботности, насмешливости.
В данном же случае француз напоминал чопорного англичанина, а американец держал себя с истинно французской легкостью.
Если бы не его возраст, выражение лица, изысканные манеры, элегантный костюм, его можно было бы принять за парижского гамена — тот же ум, та же живость, тот же громкий смех и та же манера говорить.
Напрасно собеседник затолкал бы его в угол комнаты, втиснул в оконный проем, зажал между двумя дверьми, чтобы попытаться его урезонить, растолковать ему серьезную мысль — первая же муха отвлекла бы его, и он внял бы увещеваниям не больше, чем любой случайный прохожий.
Впрочем, у него было одно преимущество — с ним довольно было перемолвиться всего несколькими словами, чтобы постичь его характер. В пять минут, если только у вас был сачок, вы могли поймать ту самую креветку, которая, по меткому выражению папаши Розана, сидела у него в голове вместо мозгов.
Все говорило об этом: выражение лица, слова, походка, весь его облик.
Впрочем, он был очаровательным кавалером, как справедливо заметил Коломбан в разговоре с Кармелитой.
У него была восхитительная посадка головы, он был строен и гибок, хотя его нельзя было назвать ни худым, ни высоким; внешне он казался хрупким и изящным, но это проистекало благодаря гибкости его стана и изысканности манер.
У него были живые миндалевидные глаза, темно-коричневые, как и положено креолу, бархатистые, опушенные ресницами в шесть линий длиной.
Красивые иссиня-черные волосы обрамляли его тонкое смуглое лицо.
Нос у него был прямой, пропорциональный, как у древнегреческой статуи.
Рот его был маленький, красиво очерченный, свежий, губы — немного вывернутые, в любое мгновение готовые к поцелуям.
Одним словом, во всем его облике, осанке, манере держаться, даже в одежде (хотя у него — у этой очаровательной тропической птицы, этой великолепной экваториальной бабочки — были, возможно, слишком яркие галстуки и слишком пестрые жилеты) проявлялось столько изысканности, что самые почтенные маркизы приняли бы его за отпрыска древнего рода.
Его своенравная красота, кокетливая и яркая, странным образом вступала в противоречие со строгой, суровой, я бы сказал, почти мраморной красотой Коломбана.
Один силой и красотой походил на древнего Геракла; мягкость, юношеская грациозность, morbidezza[18] другого напоминала Кастора, Антиноя и даже Гермафродита.
Довелись кому-нибудь увидеть их обнимающимися, он бы не понял, что за тайная симпатия, что за таинственная близость толкают друг другу в объятия этого сильного мужчину и слабого юнца. Их нельзя было назвать братьями, потому что природа не терпит несходства, — стало быть, это были друзья.
Но какие невидимые нити связывали их сердца?
Мы уже рассказывали об этом в предыдущей главе. Покровительство, каким Коломбан постепенно окружил молодого человека, незаметно переросло в нежную дружбу. Он бережно хранил в душе, не растрачивая направо и налево, сокровища привязанности, которую испытывал в коллеже к Камиллу Розану.
И вот теперь он принял его как любимого брата. Силу его дружбы доказывает то, что за весь день он ни разу не вспомнил о новом чувстве, на которое только что открыл ему глаза брат Доминик.
Небольшую гостиную, где Коломбан принимал изредка школьных товарищей, он превратил в спальню для Камилла.
Коломбан спал в соседней комнате, разделенной с гостиной перегородкой, и такой тонкой, что из одной комнаты было отлично слышно, что делается в другой.
Сначала Коломбан обошел торговцев мебелью в квартале Сен-Жак. Но там, как известно, продавалась только ореховая мебель, а Коломбан, сам спавший на крашеной кушетке, понимал, что его друг-аристократ согласится только на красное дерево.
Он прошел вниз по улице Сен-Жак, пересек оба рукава Сены и вышел на улицу Клери.
Там он нашел то, что искал: кровать красного дерева, такие же письменный стол, диван и полдюжины стульев.
Все это обошлось ему в пятьсот франков.
Так как это ровно вдвое превосходило сумму, которой он располагал, ему пришлось занять недостающее.
Что же до постели, то он снял два матраца, одну подушку и одеяло со своей кровати, а себе оставил металлическую сетку, простыню, одну подушку и зимнее пальто.
Коломбан возвращался в отчаянии оттого, что опаздывал на два часа. Должно быть, Камилл его заждался.
К счастью, Камилла еще не было.
"Тем лучше! — подумал Коломбан. — Дорогой Камилл! Я успею приготовить тебе комнату".
Коломбан прождал Камилла весь день.
Тот вернулся лишь в одиннадцать часов вечера. Сияющий Коломбан ввел его в приготовленную комнату, заранее представляя, как обрадуется его дорогой друг.
— Уф! — бросил тот, громко рассмеявшись. — Красное дерево! Дорогой мой, у нас только негры покупают такую мебель!
Коломбан в третий раз за день почувствовал укол в сердце.
— Да ничего, дорогой Коломбан, — поспешил его успокоить Камилл. — Я знаю, что ты хотел сделать как лучше. Обними меня и прими мою благодарность.
Он сам поцеловал Коломбана, не подозревая ни того, какую боль причинил ему своим замечанием, ни того, как обрадовал его поцелуй друга.
XLII ИСТОРИЯ ПРИНЦЕССЫ ВАНВРСКОЙ
Первые дни пролетели в воспоминаниях о прошлом и в рассказах Камилла о разнообразных приключениях, жертвой или героем которых он был.
При всей широте своей натуры он был эгоистом: радостью для него было лишь удовлетворение собственных прихотей, а огорчением — отсутствие удовольствий.
Он много путешествовал, видел Грецию, Италию, Восток, Америку. Казалось, разговор с ним должен был бы весьма занимать пытливый ум жадного до всего нового Коломбана.
Но Камилл путешествовал не как ученый, не как художник, даже не как коммивояжер.
Он путешествовал подобно птице, и первый же ветер сдувал с его крыльев даже пыль той страны, в которой он побывал.
Однако во время своих странствований он встретил нечто такое, что поразило его воображение.
Это не были ни памятники, ни ландшафты, ни нравы, ни люди, ни произведения искусства, ни красоты природы. Нет, его поразило, взволновало, ослепило разнообразие женской красоты в странах с разным климатом. Камилл жил скорее ощущениями, чем впечатлениями. Переживая минуты блаженства, он чувствовал его всем телом, но не душой. Он принимал радость, счастье, сладострастие так, как другой принимает ванну; он уходил с головой в собственное ощущение надолго или на короткое время, в зависимости от того, насколько сильное удовольствие это ему доставляло.
Вот как случилось, что Камилл был готов пожертвовать всеми на свете лесами, джунглями, саваннами, озерами, прериями, Грецией с ее развалинами, Иерусалимом с его памятниками, Нилом с тысячью его городов за поцелуй первой красавицы, которую он встречал на своем пути.
Напрасно Коломбан с настойчивостью, свидетельствовавшей о его наивности, пытался вытянуть из него живописный рассказ о разных странах, где Камилл побывал, — тот отмалчивался. И не то чтобы ему не хватало слов для выражения своих впечатлений: напротив, слова он находил точные и очень поэтичные. Но когда друг пытался возвратить его мысли к берегам Огайо или в большую каирскую мечеть, у Камилла возникало воспоминание о юной краснокожей индианке или черноглазой гречанке, и о серьезном рассказе речи уже не было.
Однажды, когда он описывал Коломбану Грецию — классическую страну, больше всего восхищавшую юного бретонца, тот тщетно пытался заставить его рассказать о живописных островах, на которых побывал Камилл: о Делосе, Кее, Пафосе, Кифере, Паросе, Итаке, Лесбосе, Амафонте — об этих цветах в венке Ионического архипелага; от одних их названий сердце замирает, как при чтении античных поэтов, и ты снова чувствуешь себя пятнадцатилетним. Выслушав во всех подробностях повествование о любви юной дарданелльской красавицы под абидосскими олеандрами, Коломбан стал умолять его рассказать об Афинах и о впечатлениях от поездки в этот великий город, по которому они вместе мысленно путешествовали, сидя за школьной партой.
— Ах, ты хочешь услышать рассказ об Афинах? — переспросил Камилл.
— Да, я хочу знать, что ты о нем думаешь...
— Что я думаю об Афинах?.. Дьявольщина! Нечего мне тебе сказать.
— То есть как это нечего?
— Нет... Слушай, ты знаешь Монмартр? Ну вот, город стоит на такой же горе, как Монмартр, только она господствует над Пиреем.
Разум, темперамент, характер Камилла — все выразилось в этой оценке Афин.
С такой же беззаботностью, с таким же легкомыслием он относился к самым серьезным сторонам жизни.
Впрочем, у нас еще будет случай убедиться в том, какие прекрасные воспоминания умел извлекать при необходимости из самых сокровенных уголков памяти забывчивый креол.
Однажды Коломбан — иными словами, актер, исполнявший в комедии жизни Камилла роль резонера, как Арист, Филинт, Клеант при Дамисе или Валере, сказал ему:
— Послушай, Камилл, нельзя же ничего не делать! Живи в свое удовольствие, сколько твоей душе угодно, если здоровье тебе позволяет, — это твое дело. Но удовольствие не может быть целью жизни. Настоящая цель — это труд. Ты должен подумать о том, чем тебе заняться. Кстати, чем бы ты ни занимался, ты получишь еще большее удовольствие. И потом, не так уж велико твое состояние. Придет день, когда тебе его не хватит, если, например, ты женишься и у тебя родятся дети. Если в самом начале жизни ты привыкнешь ничего не делать, тебе будет трудно избавиться от этой привычки. Ты окажешься никому не нужен, потому что будешь отдыхать, пока другие будут трудиться. Если бы ты был человеком недалеким, лишенным воображения, я бы, может быть, ничего не стал тебе говорить. Но у тебя прекрасные данные, ты очень способный... Что ты умеешь делать? Ах, Боже мой! Я, как и ты, не имею об этом понятия! Вернемся к этому разговору, когда пожелаешь. Но пока, мне кажется, ты достаточно умен для любого занятия и мог бы с одинаковым успехом посвятить себя и искусству и наукам. Из тебя может выйти хороший адвокат, врач, знаменитый композитор, у тебя есть способности к музыке — у меня сохранилось кое-что из того, что ты сочинил в коллеже. Прошло пять лет, а я и сейчас нахожу в твоей музыке восхитительно свежие и оригинальные мотивы. Выбери себе занятие, Бога ради! Займись правом или медициной, стань ученым или музыкантом, стань кем-нибудь! Я не знаю, как тобой руководить. Я понятия не имею о твоих вкусах: мы давно не виделись. Но поверь мне, дорогой Камилл, лучше заниматься тем, что тебе не очень нравится, чем не делать ничего!
— Я подумаю, — пообещал Камилл с таким видом, что можно было понять: он скорее повесится, чем будет ломать голову над словами Коломбана.
— Если бы ты дорожил моей дружбой так же, как я твоей, — не отступал Коломбан, — я пригрозил бы, что перестану быть тебе другом, если ты не найдешь себе занятия. Брат Доминик называет тех, кто ничего не делает, бесчестными людьми, и он прав.
— Хорошо, выберу я себе занятие, — сказал Камилл, и было непонятно, шутит он или говорит всерьез. — Я уже думаю об этом, просто со стороны это незаметно. Но в глубине души я только об этом и мечтаю: каждый вечер, раздеваясь перед сном, я себя спрашиваю, почему мои подтяжки с утра лежат ровно и прямо, а к вечеру оказываются вытянуты и перекручены, словно веревки. Это наблюдение, друг мой, навело меня на глубокие размышления: я полагаю, надо посвятить себя усовершенствованию подтяжек, чтобы облагодетельствовать человечество.
Коломбан тяжело вздохнул.
— Да не вздыхай ты так, Коломбан, это же шутка! — воскликнул Камилл. — Ну что за несчастье? Завтра я запишусь в Школу права, куплю уголовный кодекс, закажу для него шагреневый переплет, и пусть это будет трогательным напоминанием о том, что когда-то я причинял тебе огорчения.
— Камилл! Камилл! — покачал головой Коломбан. — Я в отчаянии! Боюсь, что из тебя никогда не будет толку.
Камилл понял, что надо поскорее перевести разговор на другую тему, иначе он плохо кончится.
— Ах, ты боишься, что я никогда не стану человеком? — вскричал он. — А вот твоя прачка так не думает!
Коломбан смотрел на Камилла словно человек, с которым посреди беседы вдруг заговорили на незнакомом языке.
— Моя прачка? — переспросил он.
— Ну, дорогой, — продолжал Камилл, — что же ты строил из себя скромника?.. Дьявольщина! Ах, господин доктор, господин мудрец, господин святой Иероним! У вас, оказывается, есть восемнадцатилетняя прачка, за обворожительную красоту единодушно прозванная принцессой Ванврской и королевой Средокрестья! И вот лучший друг приезжает из девственных лесов Америки, в нем бурлят юные соки вышеназванных лесов, а вы нарушаете первейшую обязанность гостеприимного хозяина, скрывая от гостя самое дорогое сокровище?! Чрево Магона (как говорит не помню уж какой персонаж Вальтера Скотта)! Так-то вы понимаете основные правила содружества; не похожа ли ваша скрытность на предательство?
— Друг мой! — с восхитительным простодушием отвечал Коломбан. — Ты можешь мне не верить, но я не помню лица своей прачки.
— Не помнишь лица своей прачки?
— Клянусь.
— Странно, как это за три года двадцатидвухлетний . мужчина не успел разглядеть такое личико! Я ведь у нее спросил, сколько лет она у тебя в прачках, и она сама сказала: "Три года".
— Возможно, так оно и есть, — отвечал Коломбан. — У меня, во всяком случае, нет причин менять прачку, раз она хорошо стирает.
— И раз она хорошенькая!
— Камилл! Есть женщины, внешность которых меня не интересует.
— Полюбуйтесь на господина виконта де Пангоэля! Каков аристократ! По-вашему, господин де Беранже, увлекавшийся своей Лизеттой, — хам, простолюдин вроде Камилла Розана? Что такое Лизетта? Прачка господина де Беранже. Правда, у господина де Беранже есть песенка, в которой поэт говорит, что он не благородного, а, наоборот, низкого, самого низкого происхождения: отсюда и Лизетта, Фретийон, Сюзон... Но господин Коломбан де Пангоэль — это же, черт возьми, совсем другое дело!..
— Говори что хочешь, Камилл, но так оно и есть.
Камилл с комическим сочувствием воздел руки к небу.
— Так оно и есть, говоришь? — переспросил он. — Как? Верховное Существо всячески старается раскрыть тебе глаза на все прелести женской красоты, воплощенные в одном-единственном создании, а ты, язычник, утверждаешь, что есть нечто более важное, и не хочешь полюбоваться этим шедевром? Да если бы покойный Рафаэль с таким же презрением относился к Форнарине, как ты к принцессе Ванврской, мы никогда не увидели бы его "Сидящую мадонну". А кем была Форнарина? Прачкой, которая стирала в Тибре его белье. Не возражай: я навел справки в порту Рипетга!
— Хорошо, согласен. А как ты познакомился с моей прачкой? Где ты ее видел?
— Вот об этом я и хотел рассказать. Ну что, змея ревности уже впилась в твое сердце?
— Ты рехнулся! — пожал плечами Коломбан.
— Дай слово, что прелестная принцесса Ванврская тебя не интересует!
— Слово дворянина.
— Значит, если я поухаживаю за этой феей вод, этой наядой Сены, я не вторгнусь в твои владения?
— Да нет, тысячу раз нет!
— Тогда слушай внимательно, я начинаю. "Рассказ о первой встрече Гийома Феликса Камилла Розана, креола из Луизианы, с ее высочеством мадемуазель Шант-Лила, принцессой Ванврской, прачкой в вышеуказанном княжестве".
Случилось это вчера... Романист сказал бы, что был ослепительный майский полдень. Но этот романист обманул бы тебя, мой дорогой, потому что шел проливной дождь, как ты знаешь, ибо ты забрал зонт; по этой причине я, учитывая невозможность нанять фиакр, поскольку это привилегия только цивилизованных стран, не смог выйти из дому, пока ты был на занятиях. Впрочем, я не жалуюсь, потому что в это время я имел удовольствие принимать твою прачку, которая промокла, будто ее окунули в вино, выпитое нами в коллеже. Помнишь наши возлияния, а! Вот до чего промокла принцесса Ванврская! Когда я это увидел, первой моей мыслью было — смотри, какой я философ! — купить второй зонт. Запомни эту аксиому, Коломбан: насколько два зонта не нужны в хорошую погоду, настолько же в дождь одного зонта мало для двоих, если им надо идти в разные стороны. Но это так, к слову.
Итак, прачка белой голубкой влетела в твой ковчег, правда, не в конце, а в самом начале потопа. Она выглянула в окно, увидела: дождь льет так, что "покрылись все высокие горы", как сказано в Библии, — вот почему она с удовольствием приняла мое предложение остаться, чтобы переждать непогоду.
А как бы ты, Коломбан, поступил на моем месте? Ну, скажи откровенно!
— Рассказывай дальше, проказник! — невольно забавляясь щебетом этой птички-пересмешника, попросил степенный бретонец.
— Насколько я тебя знаю, — продолжал Камилл, — ты либо обрек бы прачку на прозябание под дождем, либо проявил человечность, предложив ей свой кров, но при этом или повернулся бы к ней спиной, лишив возможности созерцать твое прекрасное лицо, или снова взялся бы за книгу, лишив удовольствия побеседовать с тобой. Ты поступил бы именно так, не правда ли? И сделал бы это под тем предлогом, что есть женщины, которые для тебя, дворянина, не существуют! Я же дикарь и поступил, как индеец в своем вигваме или араб в своей палатке: со всею скрупулезностью исполнил обязанности гостеприимства. Первой обязанностью после того, как мы обменялись несколькими незначащими словами, я полагал уговорить ее снять косынку, учитывая то обстоятельство, что с вышеуказанной косынки вода стекала ей на спину, как с зонтика. Не сжалься я над бедняжкой — принцесса Ванврская неизбежно заболела бы воспалением легких и я бы никогда себе этого не простил! A-а, я вижу, какая дурная мысль тебя "пронзает", как сказал бы метр Амьо. — Нет, дорогой мой, никаких порочных намерений у меня не было, и вслед за Ипполитом я могу повторить:
... А сердце у меня Едва ли в ясности уступит свету дня.[19]
Впрочем, стихи тут ни при чем, и я очень рад: я никогда не любил стихов... Итак, повторяю, я просто сжалился над бедняжкой, опасаясь, как бы она не простудилась в твоей холодной квартире, и предложил ей платок, лежавший на твоем стуле. Ну, как? Сам Тартюф такого не выдумал бы, а?
Это был твой белый шейный платок, самый красивый! Но должен предупредить, что принцесса унесла его с собой, решив, что это подарок. Впрочем, это тоже можно опустить.
Итак, когда жизнь ее была вне опасности, я пригласил ее присесть на стул. К чести ее; должен признать, что она сначала отказывалась, но не потому, что, будучи принцессой Ванврской, считала недостойным сидеть в присутствии одного из своих покорнейших слуг, а потому, что платье у нее было мокрое и она боялась испортить утрехтский бархат твоей мебели... Думаю, что я правильно понял причину, судя по тому, что она, немного пожеманившись, согласилась присесть рядом со мной на канапе, покрытое тиковым чехлом и, следовательно, не подвергавшееся опасности.
Ты не поверишь, Коломбан, ведь ты не признаешь Лизетту, не снисходишь до Фретийон, презираешь Сюзон господина де Беранже. Но человек, родившийся между восемьюдесятью шестью градусами сорока минутами и девяноста двумя градусами пятьюдесятью пятью минутами западной долготы, а также между двадцать девятым и тридцать третьим градусами северной широты, не может спокойно сидеть рядом с хорошенькой девчонкой, даже если она прачка. Между ними, видишь ли, Коломбан, возникает нечто похожее на то, что наш учитель физики в коллеже называл электрическим током. Тебе, о Сократ, король мудрецов, не дано знать, как под действием этого тока в голове зарождается, растет и расцветает тысяча таких смелых мыслей, какие никогда не возникнут при чтении статьи закона, как бы увлекательна эта статья ни была.
Вот одна такая мысль, дорогой друг, и заставила меня обратиться к девочке с такими словами: "Ваше высочество принцесса Ванврская! Клянусь честью, вы очаровательны!"
Безусловно, девочка думала о чем-то подобном: она стала красной как мак.
Даже такому невинному человеку, как ты, дорогой Коломбан, незачем рассказывать, что, чем ярче румянец, тем привлекательнее девушка. А принцесса Ванврская — привлекательнейшая из принцесс, и у меня закружилась голова, но, к счастью, я успел зацепиться взглядом за твой белый платок, сменивший ее косынку. Платок был как бы тобой, мой друг; я не знал о твоем отвращении к феям, наядам и русалкам. Я побоялся, что предаю дружбу, это и остановило меня на краю пропасти.
И вот теперь ты мне клянешься, что незнаком с принцессой Ванврской, — тем лучше! Я родом из тех мест, где много пропастей, я их не боюсь. При первой же возможности я с большим удовольствием спущусь в эту пропасть!
Когда рассказ был окончен, Коломбан хотел высказать свои соображения, но Камилл запел восхитительным голосом:
Лизетта так и этак Меня морочит вновь;
Но выпью за гризеток,
За милую Лизетту,
За нас и за любовь![20]
При звуках этого мелодичного, звонкого, магического голоса, заставляющего трепетать самые сокровенные струны сердца, Коломбан уже мог только аплодировать.
XLIII ДУБ И ТРОСТНИК
Этот рассказ о первой встрече Камилла с принцессой Ванврской, который мы попытались воспроизвести не только в целом, но и во всех подробностях, лучше всякого анализа даст читателю представление о характере Камилла, беззаботном и веселом.
Такую веселость вряд ли можно считать достоинством мужчины, но на серьезного бретонца она оказывала такое же действие, как кошачьи ласки или болтовня попугая. В начале разговора Камилл всегда был не прав, зато к концу рассказа неизменно оказывался оправдан.
Но однажды его настойчивость натолкнулась на непреодолимое препятствие.
Размеренный, даже монотонный образ жизни Коломбана был далек от идеала, о котором мечтал Камилл. Креолу было не по себе в тихом прибежище друга. Квартира бретонца внушала ему ужас, какой должен испытывать молодой человек, вступивший в монастырь не по призванию, при выборе своей кельи.
Вернувшись однажды после занятий, Коломбан увидел в изголовье своей кровати череп с костями и утешительной надписью: "Камилл, надобно умереть!"
Серьезного и вдумчивого молодого человека ничуть не испугала эта мрачная максима, и он оставил над кроватью зловещее украшение, помещенное туда Камиллом.
Итак, эта уютная квартирка, такая веселая, по мнению Коломбана, для Камилла источала миазмы не меньше, чем семинария; все здесь его раздражало, наводило на него тоску, даже трогательная могила Лавальер, так полюбившаяся Коломбану и Кармелите, — вечное напоминание о смерти у них перед глазами, утешительное для благочестивой души, — все вызывало в душе Камилла протест и побуждало к самым язвительным насмешкам.
— Почему бы тебе не купить место на кладбище прямо сейчас? — говорил он Коломбану. — Ты обтянешь стены черным с серебром и уже при жизни приготовишь себе веселенькую квартирку, где сможешь остаться и после смерти.
Раз двадцать он предлагал Коломбану съехать с его квартиры, которую он называл тюрьмой, и поселиться, как он говорил, "в Париже или хотя бы в предместье Парижа", например, на улице Турнон или Паромной улице.
Коломбан наотрез отказывался.
Тогда Камилл сделал вид, что смирился, и о переезде больше не заговаривал, но в душе лелеял мысль переубедить Коломбана и постоянно подшучивал над их монашеским заточением. Камилл был по натуре нетерпелив, но когда встречал сопротивление, превосходившее по силе его волю, он пускал в ход неистощимую изобретательность и ужом проскальзывал в самую узкую щель. Он тянул время, пытаясь обойти препятствие, которое не мог преодолеть, при первой же возможности извлекая выгоду и из преданной дружбы Коломбана, и из своих слабостей избалованного ребенка. Он стремился к одному — как можно скорее расстаться с кварталом Сен-Жак.
К несчастью для креола, Коломбана эта квартира устраивала невысокой платой, позволявшей сохранять равновесие его бюджета; квартал был тихий, что тоже отвечало потребностям прилежного бретонца. Но главная причина, по которой он не хотел съезжать, заключалась в том, что здесь ему впервые улыбнулась любовь.
Опасаясь легкомыслия Камилла, Коломбан поостерегся доверять ему тайну, переполнявшую его душу. И американец никак не мог понять, почему Коломбан так отчаянно сопротивляется.
Камилл не раз встречал Кармелиту на лестнице. Пылкий креол по достоинству оценил яркую красоту соседки и засыпал Коломбана вопросами, недоумевая, почему Кармелита носит траур.
Коломбан ограничился тем, что сообщил другу:
— Эта девушка носит траур по матери. Надеюсь, ты с уважением будешь относиться к ее горю.
И Камилл больше не заговаривал о Кармелите.
Но однажды, "вернувшись из Парижа", как говорил юный креол, он поудобнее устроился в кресле, закурил сигару и повел рассказ:
— Я только что из Люксембургского сада...
— Очень хорошо, — только и произнес в ответ Коломбан.
— Я встретил нашу соседку.
— Где именно?
— Мы столкнулись в воротах дома: она как раз выходила, когда я вернулся.
Коломбан промолчал.
— В руках у нее был небольшой сверток.
— И что ты нашел в этом интересного?
— Да погоди...
— Ну, я слушаю.
— Я спросил у привратника, что у нее в пакете.
— Зачем?
— Чтобы знать...
— И...
— Он ответил: "Рубашки".
Коломбан не проронил ни звука.
— И знаешь, для кого эти рубашки? — продолжал Камилл.
— Полагаю, что для какой-нибудь бельевой лавки.
— Для больниц и монастырей, дорогой мой!
— Бедняжка! — прошептал Коломбан.
— Тогда я спросил у Мари Жанны...
— Кто такая Мари Жанна?
— Да твоя привратница! Ты не знал, как ее зовут?
— Нет.
— Как?! Ты же здесь три года живешь!
Коломбан снова промолчал, всем своим видом словно желая сказать: "К чему мне знать, что привратницу зовут Мари Жанна?"
— В этом весь ты! — заметил Камилл, — но не о том речь. Я спросил у Мари Жанны: "Сколько, по-вашему, эта красавица зарабатывает рубашками для больниц и монастырей?" И знаешь, сколько?
— Не знаю, — признался Коломбан. — Должно быть, немного.
— По франку за рубашку, дорогой мой!
— Ах ты, Господи!
— А знаешь, сколько времени у нее уходит на одну рубашку?
— Откуда мне знать?
— Верно! Я и забыл, что ты нелюбопытен. Так вот, дорогой мой, она вынуждена тратить на рубашку целый день, да еще при условии, что будет трудиться не разгибаясь, как негритянка, с шести утра до десяти вечера. А если она хочет заработать тридцать су, — то есть столько, сколько нужно на обед, понимаешь? — она прихватывает и ночь.
Коломбан провел рукой по вспотевшему лбу.
— Ну, не ужасно ли? — продолжал Камилл. — Ответь-ка мне, каменное сердце! Возможно ли, чтобы Божье создание — красивое, юное, изысканное — надрывалось словно вьючное животное?
— Ты прав, Камилл, совершенно прав, — согласился Коломбан, тронутый чувствительностью друга ничуть не меньше, чем бедностью девушки, — и я очень признателен тебе за то, что ты жалеешь бедных тружениц, этих никому не известных святых, которые в глазах Господа искупают своим трудом безделье других!
— Ты на меня намекаешь? Благодарю!.. Ну да ладно! Впрочем, я с тобой согласен. Клянусь честью, несправедливо, когда женщина, созданная Богом для того, чтобы давать счастье мужчине, рожать, кормить, воспитывать детей, это существо, состоящее из лепестков роз, благоухания цветов и капель росы, существо, чья улыбка для мужчины то же, что солнечный луч для природы, — обречено зарабатывать шитьем рубашек для монастырей и больниц по франку за штуку, то есть триста франков в год за вычетом воскресений, праздников и тех дней, когда нет работы! Стало быть, чтобы по-прежнему жить в квартире матери, твоей соседке Кармелите... Ты хоть знал, что ее зовут Кармелита?
— Да.
—...Кармелите приходится платить по сто пятьдесят франков. Значит, на одежду, дрова, обувь, еду ей остается сто пятьдесят франков в год или сорок один сантим в день, если только она не работает по ночам: в таком случае она, может быть, получит на пятьдесят франков больше! А ведь это такой же человек, как я, с той разницей, что она красива. За что же она обречена на эту муку? Но, друг мой, нет правды на земле; чтобы изменить такой порядок вещей, нужна революция!
— Кармелита, если не ошибаюсь, получает небольшой пенсион в триста франков.
— Неужели? Триста франков! "Небольшой пенсион в триста франков" да еще сто пятьдесят — это четыреста пятьдесят франков... И вам кажется, что этого довольно? А ведь вы сами живете на тысячу двести ливров годовых, не так ли? Ах, господин филантроп! Четырехсот пятидесяти франков на триста шестьдесят пять дней, и даже на триста шестьдесят шесть, если год високосный, довольно, по-вашему, чтобы жить, одеваться, завтракать, обедать, ужинать, платить за стул в церкви? Да знаешь ли ты, несчастный, что если поручить правительству заботиться о растениях, то необходимый им кислород и углекислый газ обошлись бы вдвое дороже расходов этой несчастной девочки?
— Ты прав, — отвечал бретонец; до сих пор он не задумывался о том, в какой нищете живет Кармелита. — Да, ты прав, все это очень печально, и я ума не приложу, как она выкручивается.
— А тебя это интересует? — спросил Камилл, стремившийся взять верх над Коломбаном и, кроме того, воодушевленный красотой соседки. — Тебя это интересует? Ну что ж, я тебе отвечу: она работает почти каждую ночь до трех часов.
— Это привратница тебе сказала?
— Нет, я сам видел.
— Ты, Камилл?
— Да, я, Камилл Розан, креол из Луизианы, видел это собственными глазами.
— Когда?
— Когда? Вчера, третьего дня и еще раньше.
— Как же ты видел?..
— Она не настолько богата, чтобы спать с зажженной лампой или свечой, верно? Значит, если свет у нее горит, она не спит. А лампа или свеча гаснет в окне твоей соседки не раньше трех часов ночи.
— Но ты-то ложишься раньше трех часов, откуда же ты об этом знаешь?
— Кто тебе сказал, что я ложусь раньше трех? Тут-то ты и ошибаешься! Третьего дня, например, я был в Опере, помнишь?
— Да, кажется...
— Ах, ты не знаешь, по каким дням бывает Опера? По понедельникам, средам и пятницам, дикарь! Третьего дня был понедельник, стало быть...
— Пусть так!
— Даже если тебе неприятно, это, тем не менее, так и есть... Выйдя из театра, я встретил школьного товарища...
— Кого-то из наших?
— Нуда!
— Кого же?
— Людовика.
— Хороший малый! Удивительно, как это мы теряем друг друга из виду!
— Не говори об этом при мне! Если об этом думать, только расстроишься понапрасну.
— Чем он занимается?
— Стал доктором; все как взбесились: всем надо чем-нибудь заниматься!
— Один ты...
— О, я так и думал... Не береди рану! Я сражен; не будем больше об этом. Итак, он доктор.
— Людовик многого добьется: он очень умен, только с виду слишком откровенный материалист.
— Да, да, немного есть. Принцесса Ванврская могла бы тебе кое-что об этом рассказать.
— Итак...
— Да, ad eventum[21]... Впрочем, чтобы festinare ad even-turn[22], надо покончить с мелочами. Людовик обещал к тебе зайти — вы соседи; я дал ему адрес.
— Слушай, неисправимый болтун, что может быть общего между Людовиком и...
— ... Кармелитой?
— Да.
— Сейчас расскажу, ты же сам мне не даешь. Будь ты Тесеем, стал бы ты прерывать Терамена на десятом стихе? Тогда ты так и не узнал бы, что волна, которая принесла чудовище, в ужасе отхлынула. Ты не узнал бы, что тело упомянутого чудовища было "чешуей покрыто желтоватой", что "свивался в кольца он" — все эти подробности не могут не интересовать отца! Какого черта! Если ребенка слопало чудовище, должен же его отец знать, что это за существо, и если оно красиво, у отца будет утешение: "Пусть я лишился сына, но его проглотило красивое чудовище"...
— Я слушаю, продолжай!
— Это твой долг! Впрочем, мне тебя жаль, и я буду краток. Что общего между Людовиком и Кармелитой? Сейчас объясню. Я встретил Людовика, когда выходил из театра...
— Это ты уже говорил...
— И повторю, не беда. Ты же понимаешь, не каждый день встречаешь школьных друзей, с которыми вы не виделись три года, и вам есть о чем вспомнить. Мы с Людовиком зашли в кафе Оперы, надо было подкрепиться перед разговором; я должен пояснить...
— Можешь это опустить.
— Да, потому что эта подробность чести тебе не делает, не правда ли, эгоист ты этакий?
— Ну-ка, ну-ка, рассказывай!
— Дело в том, что по твоей милости я третьего дня постился. Ханжа!
— По моей милости?
— Это же было в понедельник! Правда, ты на такие мелочи внимания не обращаешь, да я тебя и не упрекаю, я просто-напросто констатирую факт. Ты на завтрак заказал свежую свинину, а нам подали яйца вкрутую (метаморфоза, которой ты по своей обычной рассеянности даже не заметил); вот я и решил подкрепить силы кусочком цыпленка в обществе нашего друга Людовика. Был цыпленок лишь предлогом, чтобы поговорить, или, наоборот, разговор был предлогом, чтобы съесть цыпленка? Этого я не знаю. Должен тебе, однако, заметить, что разговор закончился гораздо позже, чем цыпленок, и я вернулся в наш с тобой монастырь лишь около трех часов ночи. Подняв глаза кверху, но не для того, чтобы определить, какая будет завтра погода, а скорее просто так, я увидел бледный отсвет рабочей лампы в окне нашей соседки, а сегодня, когда я увидел ее со свертком в руке, я вспомнил об этом ночном бдении и из простого человеколюбия расспросил о ней Мари Жанну. Ты знаешь, что она мне ответила... Бедная девочка!
— Да, бедная девочка! Ты прав, Камилл; все даже печальнее, чем ты думаешь, потому что у нее нет в этом мире ни родных, ни друзей, ни знакомых.
— Это ужасно! — вскричал Камилл. — И ты, живя пять или шесть месяцев с ней по соседству, не искал ее знакомства?
— Я с ней знаком, — со вздохом признался бретонец, — и разговаривал с ней несколько раз...
Возможно, в ту минуту Коломбан собирался все открыть другу, но тот оттолкнул его одной из тех фраз, которые неизменно настораживали готового сдаться Коломбана.
— Ах, скрытный бретонец! — вскричал Камилл. — Ты с ней разговаривал, а мне — ни слова! Ты что же, решил изменить искренности и честности, которую твои предки объявили своей привилегией на том основании, что у них твердые лбы и квадратные лица? Да, в самом деле, твоя скрытность во время разговора о принцессе Ванврской должна была меня насторожить. Но я тебя прощу при условии, что ты мне поведаешь об этой пасторали подробнейшим образом, не опуская ни единой мелочи и не жалея цветов красноречия. В отличие от тебя, я обожаю длинные истории... Сейчас я возьму сигару, прикурю... вот так! Ну, я готов. Начинай, Коломбан. Ты так хорошо рассказываешь!
— Уверяю тебя, Камилл, — смущенно пробормотал Коломбан, — что в наших разговорах не было ничего для тебя интересного.
— Ловлю на слове, дружок!
— То есть?..
— Когда ты говоришь, что не было ничего интересного для меня, то подразумевается, что тебе эти разговоры чрезвычайно интересны, не так ли? Я хочу знать, затронул разговор с Кармелитой твой ум, твою душу или твое воображение? Одним словом, я могу повторить все то, что говорил по поводу принцессы Ванврской. Разумеется, я не ставлю нашу соседку в один ряд с прачкой... Эта красавица, что проводит ночи за шитьем рубашек для больниц и монастырей, интересует тебя особым образом? Отвечай, Коломбан! Отвечай же!
Видя себя припертым к стенке, бретонец тронул его за колено и с ласковой серьезностью произнес:
— Послушай, Камилл, я все тебе расскажу, но Богом заклинаю тебя: отнесись к моей исповеди без своего обычного легкомыслия и храни мою тайну так, как хранил бы ее я сам, если бы не считал, что скрыть от тебя уголок моего сердца — значит изменить нашей дружбе.
И Коломбан слово в слово пересказал Камиллу то, что он уже доверил брату Доминику.
— А что сказал на это брат Доминик? — поинтересовался Камилл, когда его друг умолк.
Коломбан передал молодому креолу обнадеживающие слова монаха.
— Ну что ж, в добрый час! — подхватил Камилл. — Вот аббат моей мечты! Будь я сыном аббата, хотел бы я, чтобы мой отец был похож на брата Доминика! Хорошо, что он тебя поддержал, хотя, откровенно говоря, ты в поддержке не нуждаешься. Поджигать тлеющую паклю всегда казалось мне праздным занятием. Но как я сразу не догадался?!
Должен же я был заподозрить неладное по детским разговорам, которые ты вел в первые дни после моего приезда, а в особенности по тому, как упрямо ты отказывался съезжать с этой квартиры. Хорошо, что ты меня предупредил: самое время! Я сгорал от нетерпения. Завтра я уже был готов ринуться в бой. Но теперь все кончено. Возлюбленная моего хозяина — как супруга Цезаря: ее не должно коснуться даже подозрение! Положись на мою скромность и скажи мне теперь, что ты намерен делать... Позволь тебе заметить, что твое продвижение к цели идет в противоположном направлении с твоей страстью: ты обожаешь женщину, но не приближаешься к ней ни на шаг.
— Что значит, по-твоему, приближаться, Камилл? — робко спросил Коломбан.
— Приближаться — значит не отступать, а отступление, по моему мнению, это то, что ты делаешь целый месяц с тех пор, как я здесь... Я думаю вот о чем... Это глупо... Ах я дурак, скотина безмозглая! Ах, простофиля! Тебя стесняет мое присутствие, дорогой друг! Завтра я тебя от него избавлю.
— Камилл! Камилл! Ты в своем уме? — вскричал Коломбан.
Словно лев из Ботанического сада, он нуждался в шавке-приживалке.
— Разумеется, Коломбан! Я не хочу мешать счастью своего единственного друга.
— Да ты нисколько мне не мешаешь, Камилл.
— Нет, очень даже мешаю. И завтра же я отправляюсь на поиски холостяцкой квартиры.
— Ну вот, ты хочешь меня бросить, — грустно сказал Коломбан, — мое соседство тебе надоело, моя дружба тебе в тягость!
— Ах, дорогой Коломбан, не говори глупостей!
— Ладно, уходи, но я уйду с тобой.
— Тогда беги к хозяину, и если мое присутствие тебя не смущает...
— Мальчишка! — задохнувшись от радости, воскликнул бретонец.
— ...Заключи договор на нас обоих на три, шесть или даже девять месяцев... если, конечно, повторяю...
— Камилл! — перебил его Коломбан. — Я люблю Кармелиту, люблю всей душой, но если бы ты сказал: "Коломбан! Мои имения в Америке уничтожены пожаром, я разорен, надо начинать все сначала; взгляни на мои руки, они слабы, и мне нужна твоя помощь!" — Камилл, я поехал бы в ту же минуту не задумываясь, без сожалений, без оглядки, не печалясь о том, что оставил здесь половину жизни.
— Хорошо, хорошо, договорились! Я знаю, что ты поступил бы как говоришь.
Бретонец печально улыбнулся.
— Разумеется, я так и сделал бы, — сказал он.
— Куда же тебя приведет эта любовь?
— К алтарю, вероятно.
— Ого! Хочешь жениться на девочке, которая шьет рубашки для больниц и монастырей, ты, виконт де Пангоэль, отпрыск Роберта Сильного?
— Она дочь капитана, офицера Почетного легиона.
— Ну да, ну да, военная знать... Впрочем, не в этом суть. Если это приемлемо для тебя, для твоего отца, то кому какое дело?
— Мой отец будет готов на все ради счастья единственного сына.
— Что ж тебе мешает переговорить с ним?
— Дорогой Камилл! Я еще не знаю, любит ли меня Кармелита.
— И потом, ты хочешь, наверное, прежде чем вступить на тернистый путь, именуемый браком, упиться ароматом цветущих лугов любви, не так ли? Вот это я понимаю! Такой приступ чувственности, такое изысканное сладострастие по мне! Однако ты же, надеюсь, не позволишь возлюбленной портить глаза на этой паучьей работе?
— А как же быть, Камилл? Я не настолько богат, чтоб ей помочь. Впрочем, будь я миллионером, разве она приняла бы помощь, в какой бы форме я ее ни предложил?
— Она не примет помощь, но она примет заказ.
— А как я найду ей работу?
— До чего ты туго соображаешь, мой милый!
— Ну, объясни же мне! Я умираю от нетерпения!
— Один мой приятель из колоний поручил заказать шесть дюжин рубашек: три — из голландского полотна, другие три — из батиста. Я на днях купил ткань, мне доставят ее нынче вечером или завтра. Приятель, давший мне это поручение, просил, чтобы в среднем каждая рубашка обошлась ему в двадцать пять франков. На мужскую рубашку идет три метра двадцать пять сантиметров ткани. Положим, материя обходится по пять франков за метр, на рубашку уходит по шестнадцать франков двадцать пять сантимов. Стало быть, на шитье остается по восемь франков семьдесят пять сантимов за штуку" Давай закажем рубашки соседке: похоже, у нее золотые руки и вместо одного франка за рубашку она заработает почти по девять. Теперь тебе ясно?
— Она не согласится, — покачал головой Коломбан.
— Почему?
— Она подумает, что это просто хитроумный способ ей помочь, она знает, сколько стоит такая работа, и, когда ты предложишь баснословную цену, она откажется.
— Ах, ты истинный бретонец, упрямый до одури! Да с какой стати она станет отказываться взять за свою работу деньги, которые я все равно заплатил бы в магазине готового платья. Я покажу ей мои счета, черт возьми!
— В таком случае она, возможно, и согласится, и я от души тебя благодарю: ты все замечательно придумал!
— Предложи ей это сегодня же вечером.
— Я подумаю.
— Заодно поразмышляй и о том, что шитье рубашек — это не дело. Я поездил по свету и иногда — ты будешь смеяться! — в отличие от многих других, кто смотрит, но не видит, я кое-что замечал помимо своей воли... Я увидел, что недалеко то время, когда машина за час будет выполнять работу, которую сотня женщин не сделает за неделю. Возьми, к примеру, кашемировую шаль — целая индийская деревня работает над ней полгода, а лионские ткачи — всего двенадцать часов! Надо подыскать Кармелите занятие, которое не даст ей умереть с голоду, на случай если господин граф де Пангоэль не позволит господину своему сыну жениться на белошвейке.
Коломбан поднял на Камилла глаза, полные слез.
— Я никогда не видел тебя таким серьезным, таким добрым, таким рассудительным, Камилл! От всего сердца благодарю тебя за это, ибо тобою движет дружба.
Пропустив излияния Коломбана мимо ушей, Камилл спросил:
— Ты, кажется, говорил, что она любит музыку?
— Страстно! Она даже недурно музицирует, насколько я могу судить.
— Ты слышал, как она поет и музицирует?
— Никогда: у бедняжки нет инструмента.
— Будет у нее инструмент!
— Каким образом?
— Еще не знаю, но говорю тебе, он у нее будет.
— Ты начинаешь заходить слишком далеко, Камилл.
— Незачем ходить далеко, чтобы найти для нее фортепьяно: мы ей отдадим твое.
— Мое фортепьяно?
— Разумеется.
— Да мой инструмент вконец расстроен.
— Знаю, вот поэтому и надо отдать.
— Ты хочешь отдать ей плохое фортепьяно — ну и ну!
— До чего ж ты глуп, дружок!
— Спасибо!
— Не обижайся, это я говорю по-дружески... Но пойми, я сто раз говорил, что не выношу твой инструмент, он на целый тон выше, чем надо... Какой у нее голос?
— Контральто.
— То, что нужно! У тебя ведь баритон! Мы обменяем твой инструмент, я возмещу пятьсот франков, у вас будет отличное фортепьяно! Инструмент — как зонтик: одного хватит двоим и даже троим.
— Камилл...
— Дело сделано, инструмент куплен, завтра он будет здесь.
— Ты меня обманываешь, Камилл!
— Все обстоит именно так, как я имел честь тебе доложить. Я готовил сюрприз к твоим именинам, но день именин уже прошел; я отложил до твоего дня рождения, но он еще не наступил, а мне так не хочется играть на инструменте, слишком для меня высоко настроенном! Я вручу тебе подарок завтра в честь дня рождения твоего отца, дядюшки, тетушки или какого-нибудь кузена... Какого черта!.. Есть же у тебя какой-нибудь родственник, у которого завтра день рождения?!
— Ах, Камилл! — вскричал до слез растроганный бретонец. — Спасибо, друг мой, спасибо!
Часть вторая
ХLIV LA GEMMA DI PARIGI[23]
Несмотря на внушительные размеры книги, которую мы публикуем, а также на удовольствие, которое всегда испытывает автор, анализируя характеры своих героев, мы не намерены описывать день за днем жизнь троих молодых людей. Мы могли бы это сделать, если бы публиковали только их историю, но раз их приключения лишь эпизод огромного романа, представленного на суд читателей, то мы не рискуем докучать излишними подробностями.
Заметим только, что Камилл точно исполнил намерения, которые он изложил Коломбану.
Кармелита не стала возражать против назначенного вознаграждения, когда увидела в счетах Камилла, как высоко оценивается такая работа. Она приняла предложение молодого человека. Теперь она обходилась без посредника — этой пиявки, обогащающейся за счет производителя и покупателя, — и в ее доме воцарилось благополучие. Правда, когда речь зашла о новом фортепьяно, которому предстояло переместиться из квартиры двух друзей в ее жилище, девушка показала себя не такой уж покладистой. Но она, испытывая к Коломбану привязанность, смешанную с уважением, не могла устоять перед ним и распахнула двери звонкоголосому гостю.
Более того: она согласилась брать уроки пения. Друзья должны были заниматься с ней по очереди.
Кармелита прекрасно читала ноты, с блеском разбирала самые трудные места. У нее были отлично поставлены руки, но она так же плохо разбиралась в музыке, как и в любви.
Она играла, весьма смутно представляя, что именно она исполняет, и в этом — да будет позволено профану вмешаться на минуту в то, что его не касается, — огромный недостаток музыкального образования, которое девицы получают в пансионах. Ученицам забивают головы отвратительной музыкой под тем предлогом, что она нетрудная. А если еще, к несчастью, преподаватель поет гнусавым голосом, который зовется камерным (это означает попросту, что в театре подобный голос был бы невозможен), и к тому же, как все певцы, одержим страстью сочинять романсы, словно достаточно иметь хоть какой-то голос, чтобы быть музыкантом, — такой преподаватель и юным ученицам почти всегда прививает столь же сомнительный вкус. Если учитель сам не поет, от этого не легче: вместо романсов он будет пичкать девочек своими кадрилями, вальсами, галопами, фантазиями, вариациями, каприччо — скучными каприччо и дурацкими вариациями!
Богом заклинаю вас, дорогие содержательницы пансионов! Требуйте от педагогов, чтобы они преподавали музыку, которую изучали, а не ту, что они сочиняют сами. Как?! Существуют шедевры великих мастеров, исполинских гениев: Гайдна, Генделя, Глюка, Моцарта, Вебера и Бетховена — а вы разрешаете изучать гавоты этих господ!
Может, кто-нибудь полагает, что такое невозможно?
Как бы не так! Это происходит на каждом шагу.
Вот и с бедняжкой Кармелитой, от природы одаренной девочкой, было то же: ей приходилось исполнять только третьесортные пьески, она не имела представления об очаровании истинной музыки.
Первые же уроки молодых людей она восприняла с воодушевлением. Для нее это было настоящее откровение.
Вот только два друга никак не могли договориться.
Коломбан, серьезный и чопорный, как немец, к тому же верный ученик старого Мюллера, полагал, что все его раздумья и мечтания находят выражение в немецкой музыке.
Камилл, живой и легкомысленный, как неаполитанец, понимал, любил и признавал только итальянцев.
Различия в музыкальных вкусах вполне выражали несходство характеров двух друзей; они без конца спорили о музыкальном образовании Кармелиты.
— Немецкая музыка, — говорил Коломбан, — это человеческие страсти, переложенные на музыку.
— Итальянская музыка, — говорил Камилл, — это воспетая мечта.
— Немецкая музыка глубока и печальна, — говорил Коломбан, — она подобна Рейну, несущему воды в тени елей среди скалистых берегов.
— Итальянская музыка весела и беззаботна, — говорил Камилл, — она напоминает Средиземное море в тени олеандров.
Эти стычки грозили затянуться. Тогда мудрый бретонец предложил заключить перемирие.
Коломбан полагал, что с девушкой можно параллельно изучать музыку Бетховена и Чимарозы, Моцарта и Россини, Вебера и Беллини.
Разные пути вели к одной цели.
Вот так Кармелита стала брать уроки двух друзей.
Три месяца спустя она уже замечательно распевала с ними трио.
С этого времени счастье вошло в дом через ту же дверь, через которую тремя месяцами раньше вошло благополучие.
Молодые люди почти каждый вечер собирались в небольшой гостиной у девушки. Изобретательный Камилл как-то в отсутствие Кармелиты приказал оклеить эту комнату новыми обоями, желая избавить несчастную сироту от горьких воспоминаний о смерти матери. Втроем они проводили прелестные вечера, забывая о времени и с удивлением спохватываясь, когда часы били полночь.
У Коломбана был красивый звучный баритон широчайшего диапазона. Молодой человек исполнял то отрывок из Вебера или Моцарта, то арию Меюля или Гретри. Камилл пел тенором, голос его был чист и нежен; когда сладкогласый ангел выводил арию из "Иосифа" "Поля родимые! Хеврон, долина грез!", в ней слышалась такая нежность, такая глубокая печаль, что ни Коломбан, ни Кармелита не могли удержать слез.
Кармелита не смела петь соло. До сих пор она лишь робко подпевала кому-нибудь из друзей в дуэтах или им обоим в трио.
У нее был голос редкой красоты и силы. В некоторых трагических ариях из детского ротика Кармелиты вырывались звуки, напоминавшие партию трубы в похоронном марше.
Бывали минуты, когда ее голос рыдал подобно виолончели.
В иные минуты он звучал нежно, словно хрустальная флейта, или печально, как гобой.
Оба друга слушали ее с восхищением, а Камилл, не пропускавший раньше ни одного спектакля в Опере, ни разу не бывал там с тех пор, как впервые услышал Кармелиту, которую назвал la gemma di Parigi — жемчужиной Парижа.
Оба друга не переставали удивляться стремительным успехам девушки.
Однажды вечером они были просто потрясены: она от начала до конца спела всю партитуру "Дон Жуана", а ведь друзья дали ее Кармелите только накануне. У нее в самом деле была необыкновенная музыкальная память: ей было достаточно раз услышать мелодию, чтобы безошибочно повторить ее четверть часа спустя.
У Коломбана была целая коллекция немецкой музыки, но всего за несколько месяцев она была исчерпана. Тогда Камилл взялся удовлетворить нужды их филармонического общества; он обыскал все магазины, выбирая, как и следовало ожидать, произведения своих любимых авторов (Коломбан в шутку называл их испорченной латынью).
Девушка с жадностью набрасывалась на ноты и постепенно познакомилась с основными творениями всех великих мастеров. Скоро она стала прекрасно разбираться в музыке; занятия пением развили ее необыкновенный талант.
Так проходили вечера; молодые люди слушали пение друг друга, и это было их главное занятие, а после каждого музыкального номера Камилл отпускал какую-нибудь неотразимую шутку, заставлявшую Кармелиту с Коломбаном заливаться по-детски веселым хохотом.
Бывало, что Камилл рассказывал в самых приличных выражениях о каком-нибудь дорожном приключении, пикантном или рискованном.
Одному Коломбан не переставал удивляться. Казалось, что Камилл, этот беззаботный путешественник, побывавший в Италии, Греции, Малой Азии, подобно перелетной птице ничего там не разглядел, не запомнил, не постиг. Но как только его слушательницей стала Кармелита, его словно подменили: он теперь повествовал о путешествиях как ученый, как художник, как поэт. Он рассказывал о раскопках, о прогулках при луне на берегах знаменитых озер, о стоянках в безводной пустыне или в девственном лесу. И тогда это был новый, неведомый Камилл, чьи красочные рассказы были полны страсти, воодушевления, искренности.
Коломбана потрясла эта перемена. Друг представал совершенно в ином свете: теперь это был не легкомысленный юнец, пустой, беззаботный и тщеславный; теперь это был очаровательный кавалер, светский лев и в то же время блестящий артист.
Кто сотворил это чудо? Коломбан не знал, да и не задавался этим вопросом.
Но мы, читатели, любопытнее бретонца; давайте вместе попробуем определить, чем объясняются перемены в образе мыслей и манерах Камилла де Розана, как он теперь иногда то ли в шутку, то ли с гордостью представлялся.
Причину этих изменений разглядеть не трудно.
Вы видели, как гордо вышагивает павлин по гребню крыши? Конечно, нет ничего красивее, но в то же время нет ничего печальнее, чем наблюдать это самодовольство! Издали завидев самку, он сейчас же распускает переливающийся хвост, словно расшитый бриллиантами, жемчугами, рубинами.
Под взглядом Кармелиты точно так же переливались бриллианты, жемчуга и рубины, которыми были пересыпаны рассказы Камилла.
Он распускал хвост (употребим это тривиальное, но меткое выражение).
Проживи Камилл бок о бок с Коломбаном хоть двадцать лет, он не удостоил бы друга зрелищем хоть одного драгоценного камешка из своего богатого хвоста.
Но для таинственного и неведомого бога, что незримо витает над головою юных девушек, Камилл не жалел сокровищ красоты, ума и воображения.
Между двумя старыми друзьями складываются порой такие же отношения, как между мужем и женой: беседуя, они не считают нужным до конца раскрывать себя; но пусть только появится третий, и разговор их в ту же минуту станет захватывающе интересным, словно двое немых вдруг обрели дар речи.
Честный Коломбан приписывал прежнее молчание и теперешнюю разговорчивость Камилла его неровному и капризному характеру.
Для Кармелиты, воспитанной в строгом пансионе Сен-Дени, а потом ставшей сиделкой больной матери и свидетельницей ее смерти, печаль составляла до сих пор основу жизни, и суровый бретонец, сам того не ведая (не догадывалась об этом и девушка), словно продолжал благотворные, но наводящие грусть уроки, которые она получила в пансионе.
Если бы в то время у ее сердца прямо спросили, кто из двоих молодых людей ей больше нравится, она, конечно, без колебаний, повинуясь природному инстинкту и непреодолимому влечению, указала бы на Коломбана.
Его серьезный характер не только не отталкивал, но привлекал девушку. Они неизменно сходились во мнениях и оценках, о чем бы ни шла речь.
Характер Камилла, наоборот, был совершенно противоположен характеру Кармелиты; его горячность вызывала у нее беспокойство, его легкомыслие порой возмущало девушку. Она в любую минуту была готова, как старшая сестра, выбранить его словно школьника; ее сильная, решительная натура имела над Камиллом некоторую власть, подобно той, какую Коломбан имел в коллеже над своим однокашником. По отношению к нему она скорее была по-матерински заботлива, чем испытывала настоящее влечение.
Когда она работала или хотела побыть одна, а Камилл входил без предупреждения, она, не стесняясь, могла ему сказать: "Ступайте, Камилл, вы мне мешаете!"
Никогда она не посмела бы сказать такое Коломбану.
Да Коломбан никогда ей и не мешал.
Вот как вышло, что Кармелита сама запуталась в своих чувствах; она стала принимать непринужденные отношения, установившиеся между ней и Камиллом, за разгорающуюся страсть, а почтительную и глубокую любовь, которую она питала к Коломбану, — за страх.
Коломбан словно удерживал ее, Камилл — увлекал.
Коломбан любил ее, Камилл соблазнял.
Как воспринимает жизнь ребенок? Как гирлянду цветов, из которых самый красивый тот, что всех ярче. Как девушка представляет себе любовь? Как землю обетованную, где она сможет оборвать лепестки с венка своих мечтаний.
Жизнь с Коломбаном подразумевалась как постоянное учение и ежедневный труд; жизнь с Камиллом представлялась ей нескончаемым путешествием по разноцветной стране фантазии.
Если вечером у Кармелиты появлялось желание ознакомиться с какой-нибудь пьесой, о которой заходила речь, Коломбан говорил:
— Завтра она у вас будет.
А Камилл, всегда готовый исполнить чужое желание как свое собственное, невзирая на поздний час, на проливной дождь, на то, что все вокруг закрыто, что издатели давно спят, бежал через весь Париж, барабанил в дверь владельца нотного магазина до тех пор, пока тот, соблазнившись большими деньгами, не отпирал дверь.
Гуляя однажды в Люксембургском саду, Кармелита изъявила желание, весьма, впрочем, ненавязчиво, заполучить один-два цветка розового каштана.
— Я знаю одного садовника на улице Сайте. На обратном пути вы получите целую охапку, милая Кармелита, — пообещал Коломбан.
Но Камилл, проворный, словно кошка, уже вскарабкался на дерево, не обращая внимания на справедливые упреки Коломбана, напоминавшего, что они находятся в общественном месте. Сломав огромную ветку розового каштана, он, торжествуя, спрыгнул наземь. Его не остановил ни один сторож: Камилл будто заключил сделку со счастьем и удачей; если бы хироманту довелось изучать линии жизни по руке Камилла, он, несомненно, различил бы и проследил линию счастья, берущую начало на Марсовом бугре и сбегающую к запястью, — линию прямую, ясную, непрерывную, без отклонений.
И действительно, невозможно было себе представить человека более дерзкого и удачливого, чем Камилл.
Эти и подобные приключения, следовавшие одно за другим по любому поводу и на каждом шагу, пробудили в сердце Кармелиты удивление, смешанное с восхищением.
Коломбан по некоторым признакам заметил, что Кармелита увлеклась креолом.
"Это вполне естественно, — сказал он себе, нимало не тревожась этим увлечением, — он красив, весел, обходителен, умеет произвести впечатление, от меня же веет только грустью и силой".
Но, возвращаясь время от времени к этой мысли, он все больше хмурился, а в честное сердце его закрадывалась печаль. Тогда он стал рассуждать так:
"Господи Боже мой! Ты сделал меня чопорным и строгим в двадцать четыре года, точно я старик! Какой скучный вышел бы из меня спутник для восемнадцатилетней девушки! Ведь у нас будут совершенно разные вкусы... Однако, — прибавлял он, словно еще сомневаясь, — все говорит за то, что я мог бы составить счастье Кармелиты, у меня достало бы на это сил, как есть к тому желание и воля!"
Он смотрел на них — красивых, молодых, смеющихся, сидящих бок о бок, и ему чудилось, будто ореол юности, осенявший чело каждого из них, сливается в один ореол любви.
Он бледнел, сокрушенно качал головой и отходил в тень, тогда как Камилл и Кармелита светились радостью.
"Напрасно я пытался себя обманывать, — продолжал он молчаливый монолог, — они любят друг друга, и это справедливо: они будто созданы друг для друга... А ведь я мечтал о совсем другой жизни для нее... Кармелита, любимая! Я хотел, чтобы ты заняла высокое положение и могла этим гордиться! Камилл понимает жизнь лучше меня: он сделает ее счастливой!"
Несмотря на невыносимые страдания, на тоску, с каждым днем все больше овладевавшую его сердцем, Коломбан с этой минуты решился на полное самоотречение, отдав Камиллу сокровище, которое берег для себя.
Однажды вечером Камилл с Кармелитой пели чарующими голосами дуэт влюбленных. Они касались друг друга плечами, волосы их развевались, дыхание смешивалось, а в пении слышалась неподдельная человеческая страсть, достигающая почти небесных высот. Когда друзья вернулись к себе, Коломбан положил руку Камиллу на плечо и строго на него взглянул; в его глазах блестели слезы, но он подавил вздох и ровным голосом сказал:
— Камилл, ты любишь Кармелиту!
— Я? — вскричал Камилл и покраснел. — Клянусь тебе...
— Не клянись, Камилл. Лучше выслушай меня, — сказал Коломбан. — Ты любишь Кармелиту, может быть сам того не сознавая, но ты ее любишь по-настоящему, если не так же, то, по крайней мере, не меньше, чем я сам.
— А Кармелита?.. — спросил Камилл.
— Я ее не спрашивал, — признался Коломбан. — Да и к чему? Я и так вижу, что творится в ее душе! Признаюсь, к чести вас обоих, что вы долго боролись и увлеклись друг другом, так сказать, против собственной воли... Вот что я задумал...
— Нет! Нет! — воскликнул Камилл. — Сначала выслушай ты меня, Коломбан. Я уже давно получаю от тебя, ничего не отдавая взамен; я принимаю твои жертвы, не имея возможности отплатить тебе тем же! Ты, вероятно, прав: я готов влюбиться в Кармелиту, предать нашу дружбу. Но клянусь тебе, Коломбан, о своей любви я не говорил ей ни слова. Клянусь, что до этой минуты, до сегодняшнего дня, когда ты вырвал у меня это признание, я прятал свою любовь от себя самого... Это первая моя вина по отношению к тебе. Но повторяю тебе: я не подозревал, вступая на этот скользкий, но заманчивый путь — дружбы втроем, — что приду прямо к любви. Ты увидел это первым — благодарю! Ты говоришь мне об этом — тем лучше! Еще не поздно! Да, да, дорогой Коломбан, я был готов влюбиться в Кармелиту, и меня страшит эта любовь, потому что Кармелита для меня словно жена брата моего. Я тебя выслушал, спросил свое сердце и, увидев разверзшуюся бездну, принял окончательное решение: сегодня же вечером я уезжаю.
— Камилл!
— Уезжаю!.. Я поставлю между своими желаниями и страстью непреодолимое препятствие. Я уеду за море и поселюсь где-нибудь в глуши в Шотландии или Англии. Но я во что бы то ни стало уеду из Парижа, оставлю Кармелиту, оставлю тебя!
Камилл разразился слезами и бросился на диван.
Коломбан остался стоять, твердый, как скала его родных берегов, о которую шесть тысячелетий разбиваются волны.
— Благодарю тебя за благородное намерение! — сказал он. — Я знаю, что ты способен пойти ради меня на величайшую жертву. Но, увы, слишком поздно, Камилл!
— Почему поздно? — спросил креол, вскидывая заплаканное лицо.
— Да, слишком поздно! — повторил Коломбан. — Если бы даже я был до такой степени себялюбив, что принял бы от тебя эту жертву, мне не вырвать из сердца Кармелиты любовь к тебе.
— Кармелита любит меня? Ты уверен? — вскочив на ноги, воскликнул Камилл.
Коломбан взглянул на друга, слезы которого внезапно высохли словно под лучами августовского солнца, и повторил:
— Да, любит.
Камилл догадался, что его эгоистичная радость слишком очевидна.
— Я уезжаю, — заявил он. — С глаз долой — из сердца вон!
— Вам не следует разлучаться, — возразил Коломбан. — Вернее, не мне вас разлучать. Я презирал бы себя, если бы не сумел справиться с любовью, которая может огорчить моего брата и мою сестру.
— Коломбан! Коломбан! — воскликнул креол, видя, каких усилий стоило его другу сдерживаться.
— Не беспокойся, Камилл. Через несколько дней каникулы; уеду я!
— Никогда!
— Говорю тебе: я уеду... Только, — прибавил бретонец дрогнувшим голосом, — обещай мне, Камилл...
— Что?
— Обещай, что Кармелита будет счастлива.
— Коломбан! — вскричал креол, бросаясь другу на шею.
— Поклянись, что не будешь на нее посягать до свадьбы!
— Перед Богом клянусь! — торжественно произнес Камилл.
— В таком случае, — смахнув слезу, проговорил Коломбан, — я ускорю отъезд. Ты ведь меня понимаешь, Камилл? — продолжал бретонец, едва переводя дух. — Как бы ни был я силен, я не так давно от нее отказался, чтобы спокойно взирать на ваше счастье... Я буду для вас немым укором! Решено: я уеду завтра же; меня отчасти утешает мысль, что я побуду с отцом немного дольше чем обычно: пусть хоть ему будет хорошо!
— О Коломбан! — вскрикнул Камилл, обнимая благородного бретонца. — До чего же я жалок и ничтожен рядом с тобой! Прости, что заставляю тебя пожертвовать своим счастьем! Но видишь ли, мой дорогой, мой обожаемый Коломбан! Я тебя обманывал, когда говорил, что собираюсь уехать. Я бы не уехал, я покончил бы с собой!
— Несчастный! — вскричал Коломбан. — Я уеду, я! Уж я не покончу с собой, ведь у меня отец!
Немного успокоившись, он продолжал:
— Тем не менее, ты понимаешь, что ради любимой человек иногда готов принять смерть, не так ли?
— Я во всяком случае не понимаю, как можно жить без нее.
— Ты прав, — кивнул Коломбан, — иногда у меня самого появлялись такие же мысли.
— У тебя, Коломбан?! — ужаснулся Камилл: такие речи в устах мрачного бретонца имели совсем другой смысл, чем в его собственных.
— У меня, Камилл, да!.. Впрочем, успокойся, — поспешил прибавить Коломбан.
— Да, ты же сказал, что у тебя отец!
— И кроме того, у меня есть вы оба, мои добрые друзья, и я бы ни за что на свете не согласился, чтобы вас мучили угрызения совести. Ступай в свою комнату, Камилл. Я спокоен, я сейчас хочу только одного — поскорее увидеться с отцом.
Юному креолу не терпелось остаться одному. Как только он вышел, Коломбан, мрачный и обездоленный, словно дерево, лишившееся всех своих листьев под порывом декабрьского ветра, прошептал:
— Ах, отец! Зачем только я тебя покинул!..
XLV ОТЪЕЗД
Коломбан сам назначил свой отъезд на следующий вечер.
Ему было нестерпимо тяжело сообщить об этом Кармелите.
Она вышивала, когда Коломбан вошел к ней в сопровождении Камилла.
Кармелита подняла голову, улыбнулась молодым людям, протянула им руку и вновь взялась за работу.
Воцарилась такая тишина, что, казалось, можно было услышать ровное и чистое дыхание Кармелиты. Молодые люди не в силах были вздохнуть.
Девушка собиралась было спросить, почему они молчат. В это мгновение Коломбан печально проговорил:
— Кармелита! Я уезжаю.
Кармелита встрепенулась и переспросила:
— Уезжаете?
— Да.
— Куда же?
— В Бретань.
— Почему? Не дожидаясь каникул?
— Так нужно, Кармелита.
Девушка пристально на него посмотрела.
— Так нужно? — переспросила она.
Коломбан собрался с духом, чтобы выговорить ложь, которую он придумал накануне.
— Таково желание моего отца, — солгал он.
Но бретонец не умел лгать, губы его не слушались, и он пробормотал эти слова едва слышно.
— Вы уезжаете? А я?.. — забывшись, воскликнула девушка.
Коломбан смертельно побледнел; его сердце готово было остановиться.
Зато Камилл почувствовал, что краска бросилась ему в лицо, а сердце бешено заколотилось.
— Вы знаете, Кармелита, — продолжал Коломбан, — что в человеческом языке есть слово, о которое разбиваются все наши желания и надежды, — надо!
Коломбан произнес это столь решительно, что Кармелита опустила голову, будто услышала приговор из уст самой Судьбы.
Но молодые люди увидели, как слезы падают из ее глаз прямо на вышивание.
В душе бретонца происходила страшная борьба, мучительные стадии которой Камилл читал на его лице. Возможно, Коломбан не выдержал бы, упал бы Кармелите в ноги и во всем ей признался, но Камилл положил руку ему на плечо и проговорил:
— Дорогой Коломбан, ради Бога, не уезжай!
Эти слова вернули Коломбану мужество.
— Так нужно, — повторил он Камиллу то, что уже сказал Кармелите.
Камилл отлично понимал, что делает. Он знал, какую власть над сердцем друга имеет его голос.
И потому двух слов, которых недостаточно было Кармелите, оказалось для Камилла довольно.
Камилл умолк: он добился своего.
Трое друзей провели вместе унылый вечер.
Только перед разлукой они по-настоящему поняли, что творится в сердце каждого из них.
Коломбан осознал, как глубоко, непреодолимо и безгранично его чувство к Кармелите.
Чтобы вырвать эту любовь из сердца, пришлось бы вырвать сердце из груди.
Но он был уверен в своих силах и не боялся, что когда-нибудь предаст друга. Вот почему он мог лелеять свою любовь, надежно спрятав ее в душе, словно сокровище.
Кармелита тоже понимала, как сильно она привязана к Коломбану.
Но когда в ночной тиши, размечтавшись, она оказывалась лицом к лицу со своей любовью и подумывала о замужестве, которое ее чистому сердцу представлялось следствием всякого увлечения, она себя спрашивала, согласится ли когда-нибудь отец Коломбана — представитель старинного дворянского рода, не лишенный, по-видимому, предрассудков, свойственных людям его круга, — чтобы его сын женился на сироте без состояния и без имени.
Правда, ее отец дослужился до звания капитана и пал на поле боя; но в те времена, о которых мы повествуем, Реставрация провела четкую границу между теми, кто служил Наполеону, и солдатами, преданными Людовику XVIII. Не было бы ничего удивительного даже для Кармелиты, если бы граф де Пангоэль не дал согласия на брак своего сына с дочерью капитана Жерве.
Услышав об отъезде Коломбана, Кармелита решила, что его отец узнал о дружбе трех молодых людей и теперь хочет положить ей конец.
Гордая девушка вспыхнула и ни о чем больше не спросила.
Последние часы, проведенные вместе, были томительны: не раз слова замирали на губах то у того, то у другого из троих друзей, а из глаз падали слезы.
Но и в эти решающие часы ни словом, ни взглядом мужественный бретонец не выдал мучительной страсти, таящейся в его груди.
Подобно юному спартанцу, он с улыбкой наблюдал за тем, как рвут его тело.
Правда, улыбка его была невесела.
Настало время отъезда. Коломбан дружески поцеловал Кармелиту в побледневшие и мокрые от слез щеки и вышел вслед за Камиллом.
Камилл проводил Коломбана до дилижанса.
Там Коломбан отвел друга в сторону и еще раз заставил поклясться, что тот будет относиться к девушке как к будущей супруге, с должной почтительностью.
Потом Камилл вернулся на квартиру на улице Сен-Жак и застал Кармелиту в слезах.
Сердце Кармелиты разрывалось при мысли о том, что она окончательно расстается с прошлой жизнью. Дружеские чувства, которые она питала к Коломбану, родились из преданности и благодарности у изголовья умиравшей матери Кармелиты и служили для девушки как бы переходом от прошлого к будущему; с отъездом Коломбана детство для несчастной сироты кончилось. Ведь Коломбан не сказал, когда вернется. Отныне девушка была одна в целом свете и могла просить дружбу и защиту только у Камилла. Но она испуганно сравнивала легковесного и непутевого креола с серьезным и нежным Коломбаном, и ее охватывала томительная грусть, граничившая с отчаянием. Теперь она чувствовала себя одинокой, затерянной в этой бескрайней пустыне, что зовется миром, без любви, без сил, без поддержки.
Вот почему бедняжка заливалась горькими слезами, когда вошел Камилл.
На шум шагов Кармелита подняла голову в надежде, что вернулся Коломбан.
Видя, что креол один, она снова уронила голову на грудь.
Некоторое время Камилл молча стоял на пороге. Он растерялся, видя, что занимал в сердце девушки гораздо меньше места, чем ему казалось.
Он понял, что говорить надо не о себе, а о бретонце.
— Я пришел передать вам от имени Коломбана уверения в искренней дружбе, — сказал он.
— Что же это за дружба, если ее можно по желанию как завязать, так и разорвать? — мрачно заметила Кармелита. — Если бы мне пришлось уехать, разве я не предупредила бы об отъезде своих друзей сразу же, как только приняла такое решение? А приняв такое решение, разве уехала бы я столь стремительно, заставив друзей страдать?
Бедняжка Кармелита! Она забыла или сделала вид, что не помнит, как Коломбан рассказывал ей о письме отца.
Камилл понял, что творится в ее душе и какую выгоду он может извлечь из предполагаемого недовольства графа де Пангоэля. Однако письмо Коломбана могло бы разоблачить Камилла, а креол знал, что прямодушная девушка могла простить все, кроме лжи.
Поэтому он решил не очень отклоняться от истины.
— Поверьте, дорогая Кармелита, что только очень серьезная причина могла заставить Коломбана уехать, — сказал он.
— Что же это за серьезная причина? — спросила Кармелита. — Раз он не пожелал мне открыться, стало быть, в этом есть что-то для меня обидное?
Камилл промолчал.
— Почему он уехал? Говорите! — теряя терпение, продолжала настаивать Кармелита.
— Я не смею, Кармелита.
— Вы должны мне сказать, Камилл, если хотите, чтобы я относилась к Коломбану с прежней искренней и крепкой дружбой. Вам непозволительно пробуждать во мне подозрительность: вы должны оправдать своего друга, раз я его обвиняю.
— Я знаю, все знаю, Кармелита. Но не спрашивайте, почему уехал Коломбан... Ради себя, ради меня, ради всех нас не спрашивайте!..
— Наоборот, я настоятельно требую сказать мне правду, — возразила девушка. — Возможно, он хотел уберечь меня от огорчения, но вы не бойтесь причинить мне боль: что может быть страшнее предательства друга! Итак, во имя нашей дружбы, скажите мне все!
— Вы этого хотите, Кармелита? — спросил Камилл, делая вид, что уступает ее настойчивости.
— Я требую сказать правду!
— Извольте: он уехал...
Камилл умолк, словно язык его не слушался.
— Продолжайте! Продолжайте же!
— Итак, Коломбан уехал потому...
— Почему?
— Потому... — снова в нерешительности замер молодой человек.
— Говорите!
— До чего это трудно, Кармелита!
— Может, то, что вы хотите сказать, неправда?
— Чистейшая правда!
— Тогда смело говорите!
— Коломбан уехал... уехал... потому что я вас люблю!
Он правильно делал, притворяясь нерешительным, наш ловкий креол, прежде чем выговорить это "я".
Слишком большой смысл заключался в этом коротком местоимении. Что бы Камиллу сказать: "Коломбан уехал, потому что он любит вас"?! Тогда он не уступил бы в благородстве Коломбану.
И такое доказательство дружбы в отсутствие бретонца вознесло бы его друга на необычайную высоту, разом искупило бы забывчивость себялюбивого креола, которую тот себе позволял со школьных времен по отношению к верному Коломбану.
Если бы Камилл сказал: "Потому что мы с Коломбаном вас любим", он тем самым предоставил бы свободу выбора Кармелите.
Кармелита мысленно сопоставила бы любящего бретонца, который уехал, и себялюбивого креола, который остался.
Если мы достаточно ясно показали — не скажем характер, но темперамент Камилла, читатель согласится, что для удовлетворения не только страсти, но ничтожного каприза, креол не отступал ни перед чем, независимо от того, приходилось ему устранять препятствие хитростью или пускать в ход отвагу. Он неуклонно шел к своей цели — напрямик, когда мог, или окольными путями, если иначе достигнуть желаемого было невозможно. Прежде всего им руководили чувственность и потребность в исполнении любого его желания, а вовсе не глубокая испорченность.
Если дурной поступок приводил к прискорбным результатам, Камилл был способен на искреннее раскаяние, которое, правда, было слишком бурным, чтобы длиться долго. Однако, как ни был развращен Камилл, воспоминание о последней жертве друга, которого он только что обнял на . прощание, было еще слишком свежо, и Камилл не решился так скоро его предать.
Итак, отвечая на расспросы Кармелиты, Камилл ограничился полуправдой, когда сказал: "Коломбан уехал, потому что я вас люблю".
Когда он отвечал таким образом, он был предателем лишь наполовину.
Коломбан не позволил бы своему другу уехать. А если бы тот уехал без его ведома или вопреки его воле, Коломбан сказал бы так: "Камилл уехал, потому что любит вас. Камилл лучше меня, потому что я не нашел в себе мужества уехать".
Когда Камилл по-своему представил Кармелите причину отъезда Коломбана, девушку это поразило.
Она посмотрела на Камилла так пристально, что он покраснел и опустил глаза.
— Камилл, вы лжете! — воскликнул она. — Не мог Коломбан уехать из-за вас.
Камилл поднял голову.
Это было совсем не то обвинение, которого он боялся.
— Единственно из-за меня! — подтвердил он.
— Какое Коломбану дело до того, что вы, по вашим словам, любите меня? — спросила девушка.
— Он боялся влюбиться, — отвечал креол.
— Милый Коломбан! — прошептала Кармелита.
Обернувшись к Камиллу, она прибавила:
— Оставьте меня, друг мой. Я буду плакать и молиться.
Камилл взял девушку за руку, почтительно ее поцеловал, и Кармелита почувствовала, как ей на руку упала слеза.
Что заставляло Камилла плакать — благодарность, стыд или угрызения совести?
Кармелита и не задавалась этим вопросом: для нее слеза была слезой — жемчужиной, которую боль отыскивает на дне глубокого океана, именуемого сердцем.
Камилл возвратился к себе и крайне удивился, заметив в своей комнате свет.
Он еще больше изумился, увидев в комнате женщину.
Это была принцесса Ванврская. Ее предупредили об отъезде Коломбана, и она принесла его белье.
Только вот прелестная Шант-Лила — мы помним, что именно так звали принцессу Ванврскую — опоздала на четверть часа.
Она не хотела оставлять белье просто так и решила дождаться Камилла.
Но Камилл вернулся только после того, как Кармелита попросила оставить ее одну, иными словами — около половины одиннадцатого.
Возвращаться одной в Ванвр было слишком поздно!
Камилл предложил принцессе расположиться в комнате Коломбана.
Принцесса заупрямилась было, но Камилл ее заверил, что на двери есть засов, и она согласилась.
Однако существовал в действительности засов или его не было? Закрыли на него дверь или она осталась незапертой? Об этом мы можем только догадываться, судя по первой встрече соблазнительного Камилла и прелестницы Шант-Лила.
XLVI ГРОЗОВАЯ НОЧЬ
Так как мы ничего не знаем (пока, во всяком случае) о том, что произошло той ночью, понаблюдаем за Камиллом с той минуты, когда на следующее утро, около одиннадцати часов, он подходит к двери Кармелиты и в задумчивости останавливается, перед тем как постучать.
О чем думал Камилл?
Он размышлял о трудном, почти невозможном деле, затеянном им.
Он знал Кармелиту, знал, что ее целомудрие зиждется на строгих и непоколебимых принципах.
Следовательно, чтобы сломить ее сопротивление, необходимо было употребить либо силу, либо необычайную ловкость.
Камилл был настолько же ловок, насколько силен!
Он давно изучал характер Кармелиты, словно генерал — поле сражения.
Может быть, по совету Малерба ему следовало взять ее в результате регулярной осады, иными словами — окружить неусыпной заботой и прилежно за ней ухаживать; о действенности такого способа и говорит поэт:
Вот крепость красоты сдается мне на милость;
Да, было нелегко: осада долго длилась,
Но победители мои побеждены!..
Может быть, следовало взять ее измором, приступом, рыть окопы, штурмовать?
Нет, такая стратегия не годилась.
Победить можно было только внезапностью.
Камилл остановился на этой тактике и стал хладнокровно выжидать, когда представится удобный случай.
Сердце его кипело страстью; он никогда ничего еще так не желал, но сейчас, стоя у дверей Кармелиты, он сумел взять себя в руки, решив, что еще будет время дать волю страстям и желаниям, — и вошел.
Кармелита мало спала и много плакала.
Она встретила Камилла довольно холодно.
Такой прием входил в расчеты креола.
С этого дня он совершенно переменил образ жизни.
Он словно забыл о прежних безумствах и всякую минуту обнаруживал рассудительность, на которую его считали неспособным.
Умерив присущую ему игривость и постоянно себя сдерживая, он теперь казался чопорным и серьезным.
Читатели, несомненно, поняли, какую цель преследовал Камилл. Он решил во что бы то ни стало вытеснить из сердца Кармелиты воспоминание о Коломбане. А как Камилл мог заставить ее забыть бретонца? Ему ничего не оставалось, как превратиться в сдержанного, печального, здравомыслящего молодого человека, точь-в-точь как наш бретонец, с той, пожалуй, разницей, что Камилл был приветливей и изысканней.
Такое превращение, по мнению бесхитростной Кармелиты, объяснялось, во-первых, тем, что Камилл, тосковал после отъезда друга, а во-вторых — любовью к ней.
Ее девичьей гордости льстило, что молодой человек с единственной целью ей понравиться ломал свой характер, свои привычки, свои вкусы и пренебрегал своими самыми неодолимыми, самыми милыми сердцу капризами.
Ах, Боже мой! Да любая восемнадцатилетняя девушка на ее месте обманулась бы точно так же.
Раньше Камилл обожал Оперу — теперь же он перестал там бывать.
Трижды в неделю он непременно появлялся в манеже, а оттуда отправлялся на прогулку в лес — теперь он вдруг отказался и от манежа и от прогулок.
В аристократических кварталах Парижа у Камилла было несколько знакомых американцев, и с ними он время от времени обедал или ужинал — теперь Камилл сидел дома.
Раз двадцать случалось так, что, находясь у Кармелиты, он слышал, что к нему кто-то звонит или стучит. Девушка уговаривала его посмотреть, кто там, но креол отказывался наотрез.
В подражание Кармелите он хотел жить уединенно и скромно.
Он купил книги по ботанике. Он не имел представления об этой науке и попросил Кармелиту научить его тому, что она сама узнала от Коломбана.
Читатели заблуждаются, если полагают, что Камилл расчетливо и лицемерно надел на себя маску в надежде соблазнить юную особу.
Он любил!
Просто это слово применительно к Камиллу приобретало совсем другой смысл, нежели когда речь шла о Коломбане.
Бретонец любил Кармелиту всей силой души. Камилл любил собственные удовольствия, давая при этом волю своей фантазии, а на сей раз воображение его разыгралось, и он предвкушал райские наслаждения.
До сих пор его окружали доступные женщины, и потому сопротивление добродетельной Кармелиты в высшей степени возбуждало его: ради победы над бедняжкой он пускал в ход всю изобретательность своего ума, может быть думая, что пользуется лишь обольстительностью своего сердца.
Если бы Кармелита не обольщалась относительно произошедших перемен в характере Камилла — а заслугу в этом она приписывала себе — и заставила его снова стать самим собой с его достоинствами и недостатками, ей, возможно, удалось бы, опираясь на его пылкую любовь к ней, сделать из него доброго и порядочного человека. Но она не замечала его лжи, обманывала себя и тем невольно подталкивала Камилла на путь обмана.
И Камилл с каждым днем завоевывал все новые позиции.
Когда он, отвечая на вопрос Кармелиты, откровенно сказал: "Коломбан уехал, потому что я вас люблю", это избавило его от необходимости признания в любви, а Кармелите не пришлось на это признание отвечать.
С той минуты как Коломбан уступил место Камиллу, он отказывался от Кармелиты.
Оставалось лишь выяснить, могла ли Кармелита полюбить Камилла.
Однако юный креол обладал не только блеском колибри, но и изворотливостью кобры.
Он ни разу не спросил у девушки: "Вы будете моей женой?" Зато при каждом удобном случае он повторял: "Когда вы станете моей супругой..."
И он рисовал заманчивые, достойные мира художников картины их свадебного путешествия.
Под действием пламенного красноречия Камилла перед мысленным взором Кармелиты развертывались сверкающей панорамой все прелести жизни вдвоем.
Однажды она, улыбнувшись, заметила:
— Это только мечты, Камилл!
Молодой человек прижал ее к груди и вскричал:
— Нет, Кармелита, все это вполне возможно!
Теперь Камилл знал, что попал в самую точку.
Девушка отныне была в его власти.
Однако Камилл оставался по-прежнему почтителен, скромен, строг: Кармелита была не из тех женщин, с какими в случае неудачи можно начать игру с начала.
Тогда ему пришлось бы навсегда проститься с надеждами.
Вот почему он подстерегал добычу, словно дикая кошка, притаившаяся на ветке, или змея, свернувшаяся в кустарнике.
Однажды вечером они спустились в сад — тот самый, где тремя месяцами раньше гуляли Коломбан и Кармелита.
Стояла удушливая жара.
Был конец августа. Далекие громовые раскаты в неподвижном горячем воздухе предвещали грозу. Всполохи исчертили все небо.
Но тщетно цветы, склонив головки и судорожно сжав листочки, вымаливали спасительный дождь.
Небо, подобно пневматической машине, словно поглощало живительный воздух, и все живое вот-вот должно было погибнуть от удушья.
Молодые люди невольно подпали под влияние этой напряженной атмосферы — жизнь для обоих будто замерла; как цветы, как животные, как все вокруг, они с нетерпением ждали дождя, в надежде что он вернет их к жизни.
Впрочем, в отличие от ослабевшей Кармелиты, Камилл, привычный к тропической жаре, сохранял ясность мысли. Видя, что Кармелита впадает в мечтательную истому, близкую к летаргическому оцепенению, он понял: вот долгожданный случай! Пора действовать!
И как колыбельная песня усыпляет малыша, так искусно подобранные любовные слова Камилла, покачиваясь над головой девушки подобно осыпающимся макам, постепенно погружали ее в магнетический сон — самый глубокий, самый опасный, самый неодолимый из всех видов сна.
Если бы в то время кто-нибудь увидел, как блестят в темноте глаза креола, он понял бы, что творится у Камилла в душе.
Так ястреб, все сужая круги, завораживает жаворонка.
Так змея гипнотизирует птицу, заставляя ее опускаться с ветки на ветку прямо в зияющую пасть.
О, не так Коломбан смотрел на Кармелиту в тот восхитительный весенний вечер, когда они гуляли в этом самом саду, в тени тех же сиреневых кустов!
Сравнивая эти два вечера, можно сказать, что они так же мало были похожи один на другой, как Камилл — на Коломбана, а лето — на весну.
В самом деле, тогда весна, юная, свежая, робкая, едва осмеливалась приоткрыть свои лепестки.
Теперь же, напротив, лето, могучее, дерзкое, ненасытное, расточало свои цветы.
Коломбан олицетворял собою детство; он был несмел, полон сомнений и страхов.
Камилл, если продолжить это сравнение, представлял собой юность — вспыльчивую, увлекающуюся, решительную.
В тот весенний день, что предшествовал памятной ночи, которую провели вместе Коломбан и Кармелита, тоже гремел гром, так же замерла жизнь в природе. Но пролился дождь, и все живое было спасено.
Зато теперь, в эту летнюю ночь, цветы напрасно молили небеса о милосердии: им ничего не оставалось, как склонить головки и, один за другим роняя лепестки, умереть.
Подобно цветам, под тяжестью навалившейся на нее удушливой ночи Кармелита тоже склонила свою головку и, за неимением освежающей росы, нашла утешение в неизъяснимых радостях любви, вырвавших девушку из оцепенения, развеявших дурман.
В эту ночь бедняжка один за другим оборвала лепестки с венка своей невинности и ее ангел-хранитель поспешил на небо, не зная, куда спрятать от стыда глаза.
Когда Кармелита вернулась домой и осталась одна, ее взгляд упал на красивый розовый куст: цветы на нем, как и повсюду, поникли перед грозой.
Она подошла ближе, обливаясь слезами. Щеки ее горели.
Девушка стала срывать не только цветы, но все до единого бутоны, потом завернула их в белое покрывало и заперла в ящик туалетного стола со словами:
— Умрите! Умрите, розы Коломбана!
Затем она взяла графин, вылила всю воду под куст, и, печально качая головой, прошептала:
— Теперь цветите, розы Камилла!
XLVII ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ
С той минуты как Кармелита отдалась креолу, он снова стал прежним Камиллом.
Цель его была достигнута. Так к чему притворяться?
Заметим, впрочем, что он постарался сгладить слишком резкие черты своего характера и понравиться девушке, которую страстно любил.
Кармелита, опьяненная радостями этой странной любви, забыла о былых безумствах и легкомыслии молодого американца.
Ей казалось, что восхитительные минуты будут длиться вечно; и то ли она верила в Камилла, то ли — в свои силы, но она не боялась за свое будущее.
Она полагала себя безраздельной повелительницей молодого человека, видя, что он готов исполнить любое ее желание, подчиниться ее воле.
И вот наступил день, когда она заметила на лице одного из соседей — опять соседи! проклятые соседи! постарайтесь, дорогой читатель, никогда не иметь соседей и не быть ничьим соседом? — итак, она заметила на противном лице одного из соседей недвусмысленное выражение осуждения. Она поделилась своим наблюдением с Камиллом, и тот сейчас же предложил ей переехать.
Девушка согласилась.
Они стали выбирать, в каком бы квартале им поселиться. Камилл предлагал поселиться в одном из самых богатых парижских кварталов — на Шоссе д’Антен, — иными словами, в центре всех взглядов (и это когда они избегали любопытных!), в окружении тысячи соседей (и это когда они в испуге бежали от одного-единственного свидетеля!).
В том-то состояла одна из особенностей характера Камилла: он отличался честолюбием и был не прочь выставить на обозрение парижского света свою новую прелестную любовницу.
Однако Кармелита, не задумываясь о целях, которые преследовал Камилл, чувствовала, что счастье любит тень и гибнет подобно фиалке в ярких лучах солнца. От его предложения она пришла в ужас и принялась умолять Камилла забыть о богатых кварталах Парижа и, напротив, свить гнездышко в каком-нибудь тенистом лесу подальше от города.
Камилл непроизвольно подпадал под благотворное влияние Кармелиты. Однажды утром он пригласил ее за город и они отправились на поиски убежища подальше от соседей.
Увы! Кто из нас, наивных мечтателей, не питал очаровательных замыслов свить гнездо в каком-нибудь уединенном тихом месте, где человеческие голоса не нарушают сладкогласных любовных напевов? Чистенький домик, увитый виноградом, жимолостью и розами, окруженный высокими деревьями, откуда, словно в полной звуков клетке, льется нескончаемая симфония птичьих голосов! Растущие по берегам ручья лютики, маргаритки и незабудки покачивают головками в такт пению воздушных музыкантов; извилистая тропинка усыпана прошлогодней листвой, заглушающей шаги, — словом, зеленая часовня, где можно уединиться вдвоем, в любое время возблагодарить Господа, сотворившего небеса, придумавшего занятия, подарившего любовь! Признайтесь, каждый из нас лелеял эту восхитительную мечту и тщетно пытался ее осуществить!
А вот Камилл и Кармелита ее осуществили. Однажды воскресным утром они уехали поодиночке, дабы не вызывать зависть одних и злословие других, а потом встретились у заставы Мен. Сойдясь в назначенном месте, они взялись за руки, радуясь встрече так, словно не виделись целую вечность.
Стояла чудесная погода. На небе ни облачка; золотые нивы волновались на ветру; деревья, поднимавшиеся вдоль дороги, величаво покачивали верхушками, откуда слетали первые увядшие листья, подобно тому как покидают сердце первые иллюзии. Наши герои шли словно под некой триумфальной аркой; природа щедро одаряет влюбленных такими радостями: будучи тайной и услужливой соучастницей, неистощимой кормилицей, она, словно мать, готова вскормить едва родившуюся любовь.
Молодые люди шли по равнине, ведущей к Мёдону, и у всех, кто их видел, вызывали восхищение. Повсюду их провожали восторженные взгляды: старики, глядя на них, вспоминали юность и грустили о прошлом; молодые предвкушали грядущие радости.
Эта пара в самом деле заслуживала такого внимания. Оба были молоды, красивы, оба любили; в Камилле покоряла гордость, в Кармелите угадывалась затаенная грусть. Девушка была живым воплощением счастья, а оно не бывает безмятежным и беспечальным, как не бывает совершенно голубого неба: хоть маленькое облачко да мелькнет среди лазури! От молодых людей веяло таким блаженством, что хотелось прикоснуться к краю их платья и тем причаститься их радости.
Наконец они прибыли в Ба-Мёдон (соседний Мёдон показался Камиллу слишком шумным).
Едва войдя в новый свой дом, Кармелита была приятно удивлена: она увидела там свой любимый розовый куст.
Камилл не знал, какие тайные воспоминания связаны у Кармелиты с поэтическим кустиком; молодой человек лишь отметил про себя, что девушка относится к своему благоухающему талисману с необычайной нежностью. Вот он и приказал посыльному отправиться самой короткой дорогой, а девушку повел самым длинным путем; когда они прибыли на место, куст уже был там.
Кармелита ласково провела рукой по розам, перенесла куст в свою комнату, а потом обошла остальной дом.
Прелестный домик был построен неизвестным мастером на манер тех сельских хижин, какие сорока годами раньше королева Мария Антуанетта завела в Малом Трианоне. Такие домики строили из глины, кирпичей, необструганных бревен, обсаживали диким виноградом, плющом и жасмином, и все это — вперемешку, как попало, зато живописно и естественно.
Внизу были расположены передняя, гостиная, столовая, кухня.
Крохотная внутренняя лестница вела на террасу; там без особого труда можно было раскинуть навес, и тогда терраса становилась прелестной летней столовой.
Внешняя лестница поднималась вдоль стены; на ее перилах раскинулись огромные листья кирказона; она вела в две спальни, соединявшиеся с туалетными комнатами.
Две комнаты для прислуги дополняли это гнездышко малиновки, почти полностью скрытое среди листьев, мхов и цветов.
В саду молодые люди увидели небольшой павильон.
— Ах, до чего хорош! — воскликнула Кармелита, подходя поближе. — А здесь что будет?
— Здесь будет жить Коломбан, — как ни в чем не бывало, отозвался Камилл.
Девушка стремительно отвернулась: она почувствовала, что краска заливает ей лицо.
Нетрудно догадаться, что Камилл не раз повторял имя Коломбана, а в сердце Кармелиты оно поселилось навсегда. Но никогда еще тень обманутого друга не являлась им во всей своей безупречности, как теперь.
И вот, чудовищно обманув Коломбана, Камилл рассчитывал сделать его свидетелем своего предательства!
Воспоминание о благородстве Коломбана сейчас же вернулось к Кармелите, и, хотя она понятия не имела, как нежно ее любит бретонец и, следовательно, как велика жертва, принесенная им во имя дружбы, она почувствовала, что с ее стороны было бы жестокостью жить с ним бок о бок, не скрывая от него свою любовь к другому.
Оправившись от смущения, она неуверенно переспросила:
— Коломбан? Ведь по вашим словам, Камилл, он уехал потому, что вы меня любите?
— Конечно, — ответил креол.
— Но, — продолжала девушка, — если он уехал потому, что вы меня любите, значит он тоже любит меня?
— Разумеется, он тебя любит, дорогая, — кивнул Камилл. — Но, как тебе известно, в разлуке многое забывается; если он и хмурился, глядя на нашу рождавшуюся любовь, то уж теперь, когда увидит, что мы счастливы, он будет по-настоящему рад, ведь он наш друг, не так ли?
Кармелита вздохнула. Итак, в разлуке многое забывается...
Значит, думала она, если бы Камилл уехал, он о многом забыл бы!
Она в задумчивости поднялась к себе.
Комната Кармелиты была точно такой же, как на улице Сен-Жак: Камилл приказал обставить ее такой же мебелью, те же белые занавески были на окнах, то же розовое покрывало лежало на кровати.
Другие комнаты, меблированные с выдумкой и вкусом художника и светского льва, заключали в себе шедевры парижских краснодеревщиков; это был целый ряд будуаров, в которых серьезный Коломбан чувствовал бы себя не на месте.
Итак, Камилл поступил умно, приготовив для Коломбана отдельное жилье.
Весь сентябрь молодые люди прожили в восхитительной близости, просыпаясь и засыпая с мыслями друг о друге.
Казалось, каждая минута была создана только для них.
Они позабыли обо всем на свете: о Париже, об улице Сен-Жак, мы бы даже осмелились сказать — о Коломбане, если бы не вздохи, вырывавшиеся у Кармелиты, когда она прикрывала глаза и проводила рукой по лбу.
Но об этих вздохах может догадаться лишь пишущий эту историю — влюбленный Камилл их не слышал; а в остальном все было прекрасно: целый мир сосредоточился для них в арпане сада, в бежавшем там ручейке и в солнце, поднимавшемся из-за высоких деревьев.
Их безразличие к вещам было таким же, как их безразличие к людям; пора было пополнить музыкальную библиотеку, обновить кое-что из предметов туалета — словом, была тысяча причин поехать в Париж; но им было так хорошо, что они не могли решиться оставить свое уютное шале в Ба-Мёдоне.
Кроме того, появиться вместе на улице Сен-Жак, опять войти в дом, откуда, как казалось, они забрали все необходимое и где, однако, забыли многое из того, в чем теперь ощущали нехватку, наконец, снова пройти мимо насмешников-соседей — нет, вынести такое бесчестье для Кармелиты было выше ее сил!
И потом, раз целый месяц они могли обойтись безо всех этих вещей, значит, можно было потерпеть еще месяц.
Почему же Камилл или Кармелита не могли съездить в Париж в одиночку?
Но это означало бы разлуку, а расстаться хотя бы на миг в эти первые счастливые дни было бы равносильно потере навек!
Так прошло еще две недели. Но вещи, без которых вначале они вполне могли обходиться, теперь непонятно почему становились все более необходимыми.
В один прекрасный вечер пришлось решиться на то, чтобы составить список недостающих вещей; было решено, что на следующее утро Камилл поедет в Париж и купит или заберет на прежней квартире все, что было нужно в шале.
И вот, раз десять простившись и столько же раз возвратившись от двери, Камилл все-таки уехал.
Кармелита провожала его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду.
А он все это время посылал ей воздушные поцелуи и махал платком.
Наконец он исчез за поворотом.
Камилл должен был сесть в первый же экипаж и возвратиться не позднее двух часов пополудни.
Но судите сами, как безжалостно оказалось Провидение, которое непонятно почему продолжают называть этим именем. (Стоит ли величать Провидением божество, что поднимает на смех все наши планы и поминутно вводит нас в обман самым неподобающим образом?)
Не нам восхвалять верность Камилла: мы настолько подробно и настолько откровенно высказали свое мнение о креоле, что нас нельзя заподозрить в подобном намерении. Но не кажется ли вам, дорогой читатель, что Провидение к нему несправедливо?
Полтора месяца он не отходит от Кармелиты ни на шаг, не сводит с нее глаз. Но наступают холода, дают себя знать осенние ветры; Кармелите нужны теплые платья, а Камиллу — более плотные панталоны. Нужно еще очень многое, но, несмотря на это, Камилл лишь через силу соглашается съездить в Париж, а самое его горячее желание при этом — вернуться через два часа, если только это окажется возможным.
Итак, Камилл отправляется в путь с самыми похвальными намерениями.
Кстати сказать, после разлуки еще желаннее будет возвращение, он снова переживет волнующие минуты встречи с любимой.
Увы!
Провидение, устав, по-видимому, от бесцеремонного с ним обращения в последнее время, больше не принимает всерьез жителей нашей надоедливой планеты и безжалостно спутывает все их карты.
Без сомнения, именно по этой причине оно помешало исполнению планов Камилла, заманив его в самую опасную ловушку, какую только можно придумать для человека его характера.
Не успел он отойти от Ба-Мёдона на двести шагов, как в облаке золотистой пыли заметил двух девушек в белых платьях. Они сидели верхом на осликах, покрытых черными попонами.
Человек предполагает, а дьявол располагает!
XLVIII КАМИЛЛ У ВОЛЬСКОВ
Однажды меня упрекнули в невежестве за то, что я сказал — не помню теперь, по какому случаю, — что громоотвод "притягивает" молнию.
Предположим, дорогой читатель, что мне не пошли в прок наставления ученейшего г-на Бюлоза относительно электричества и вольтова столба и что я до сих пор пребываю в заблуждении.
Я говорил: "Как громоотвод существует с одной целью: притягивать молнию, так нам кажется, что и девушки созданы единственно для того, чтобы привлекать молодых людей". Разумеется, я тогда был весьма далек от мысли, что высказываю нечто новое или очень смелое.
Итак, девушки еще издали привлекли горячий взгляд Камилла, как только пылкий креол заметил их издали в облаке пыли.
Камилл ускорил шаг и, поскольку он двигался быстрее осликов, скоро приблизился к амазонкам. Тут одна из них случайно обернулась и, натянув поводья, подала спутнице знак сделать то же.
Видя этот маневр, Камилл прибавил шагу и скоро поравнялся с девушками. Тогда та из них, что была повыше, приподнялась на деревянной планке, служившей ей стременем, и бросила повод на шею ослу. Рискуя скатиться наземь в пыль, она упала молодому человеку в объятия и принялась изо всей силы целовать его.
— О! Шант-Лила, принцесса Ванврская! — воскликнул Камилл.
— Ну, наконец-то! Ах ты неблагодарный! — вскричала девушка. — Давненько я тебя ищу!
— Ты меня ищешь, принцесса? — переспросил Камилл.
— Где я только не была! Я и здесь искала тебя.
— Смотри-ка! — усмехнулся Камилл. — Я тоже здесь с одной целью — найти тебя.
— Ну, раз мы друг друга нашли, — опять бросаясь ему на шею, вскричала Шант-Лила, — дольше искать незачем... Давай поцелуемся и забудем об этом.
— Забудем об этом и обнимемся! — подхватил Камилл, точно исполняя ее приказание.
— Кстати... — продолжала прачка.
— Что такое? — перебил ее Камилл. — Мы еще не поцеловались?
— Нет, не то... Позволь тебе представить мою лучшую подругу, мадемуазель Пакеретту, графиню дю Батуар. Ни к чему говорить, что Пакеретта — это имя, а графиня дю Батуар...
— ...ее титул? Ну ладно. А какая у нее фамилия?
— Просто-напросто Коломбье, — отвечала прекрасная прачка.
— Прибавь к этому, что так зовут ее ротик, ибо никогда еще любовное воркование не вылетало из такого розового и свежего гнездышка!
Розовые губки Пакеретты немедленно расплылись до ушей, и она непременно потупила бы взор, но принцесса Ванврская, представив молодого человека своей первой фрейлине, заставила ее остановить взгляд на Камилле.
— Господин Камилл де Розан, американский дворянин, ворочающий миллионами на Антильских островах, у которого, как ты могла заметить, хлопушками полны карманы.
Принцесса Ванврская называла "хлопушкой" всякое острое словцо из тех, которыми Камилл обычно украшал свою речь.
— Куда же вы направляетесь, если не секрет? — спросил Камилл.
— Да я только что тебе сказала, несчастный! — вскричала принцесса. — Мы искали тебя.
— В самом деле, Пакеретта?
— Никого другого, это точно, — подтвердила графиня.
— Как же так получилось, что нынче, во вторник, вы не в своем мыльном королевстве, прекрасные наяды? — удивился Камилл. — Уж не высушило ли, случайно, солнце ваш дворец?
— Да, милейший, наши дворцы действительно высохли, — отвечала Шант-Лила, прищелкнув языком. — И если вы в самом деле дворянин, как утверждаете и как можно подумать по вашему виду, вы сейчас же найдете для нас прелестное местечко — пусть даже это будет что-то огромное и грязное, мне все равно! — где мы могли бы съесть молока и выпить по пирожку.
— Принцесса... — начал было Камилл.
— Да, я совсем не то хотела сказать, но я так ослабела, что и соображать не могу.
— Спешу на поиски! — воскликнул Камилл.
Но Шант-Лила удержала его за полу редингота.
— Ну нет, принцессу Ванврскую так просто не провести, господин Руджери! — закричала она.
— Что ты хочешь этим сказать, владычица моего сердца? — простодушно спросил креол.
— Да она боится, что вы не вернетесь, — ответила Пакеретта. — А мы уж так хотим пить!..
— Правду ты сказала, Пакеретта! — подтвердила Шант-Лила, не выпуская из рук полу редингота.
— Чтобы я тебя бросил, принцесса! — вскричал молодой человек. — Покинуть тебя, сбежать от тебя, когда ты посылаешь меня за пирожком?! Что же за люди тебя окружали с тех пор, как мы расстались, душа моя? Как?! Неужели полтора месяца разлуки изменили тебя до такой степени, что ты сомневаешься в порядочности Камилла де Розана, американского джентльмена? Не узнаю тебя, владычица моего сердца! Да мою Шант-Лила подменили!
И Камилл словно в отчаянии простер руки к небу.
— Ладно уж, ступай! — сказала она, выпустив из рук полы его редингота. — Хотя нет, — прибавила она, подумав, — было бы жестоко заставлять тебя возвращаться в такую жару! Идемте все вместе!.. Только постарайся отыскать моего осла: пока мы болтали, он куда-то запропастился, а я за него поручилась головой нашего хозяина.
Осел и впрямь исчез; как ни обшаривали они взглядом равнину по обе стороны дороги — ни малейшего следа.
Они потратили немало времени, прежде чем нашли беглеца.
Он лежал в канаве и спал сладким сном.
Осла ласково окликнули, и он с покорностью, на какую способен даже не каждый человек, вышел на дорогу, внял просьбе и как нельзя более любезно подставил девушке спину.
Графиня дю Батуар уступила своего осла Камиллу, а сама уселась позади Шант-Лила.
И веселый караван двинулся на поиски фермы, кабачка или мельницы.
Пиротехник Камилл истратил далеко не все свои "хлопушки", как выражалась принцесса Ванврская. И одному Богу ведомо, какими веселыми словечками был осыпан путь! Наездницы и всадник состязались в остроумии, звонкий смех разносился по всей равнине; птицы принимали их за своих веселых собратьев и ничуть не пугались при их приближении; путешествующая троица была похожа на первые майские воскресенья, воплощала в трех лицах саму весну.
Камилл уже спрашивал, как могло случиться, что во вторник, то есть в будний день, девушки оказались на парижской дороге верхом на ослах, вместо того чтобы гладить рубашки в своей прачечной. Шант-Лила передала слово Пакеретте. Та сообщила молодому человеку, что в этот вторник у хозяйки были именины и они улизнули с твердым намерением найти американца.
Шант-Лила тоже, как видит читатель, возвращалась, если можно так выразиться, к своим баранам.
— Однако как могло случиться, — заметил Камилл, — что я встретил тебя именно на этой дороге?
— Начнем с того, что я искала тебя повсюду, — возразила принцесса. — Но особенно старательно искала здесь, потому что мне сказали, что ты живешь в Ба-Мёдоне.
— Кто же мог тебе это сказать? — спросил Камилл.
— Да все соседи!
— Ах, принцесса! — с изумительной самоуверенностью воскликнул Камилл. — Соседи просто-напросто над тобой посмеялись.
— Не может быть!
— Это так же верно, как то, что я вижу вон там желанную мельницу.
Вдали в самом деле показалась мельница.
— Если твои соседи меня разыграли, что, конечно, возможно, почему же тогда я тебя встретила на мёдонской дороге? — спросила Шант-Лила с искренностью и простодушием, которое являлось уделом гризеток в те времена, когда еще существовали и гризетки и простодушие.
Камилл пожал плечами, словно желая сказать: "Неужели не догадываешься?"
Шант-Лила поняла его жест.
— Нет, не догадываюсь, — призналась она.
— А ведь в этом нет ничего удивительного, — отвечал Камилл. — Мой нотариус живет в Мёдоне, я только что получил от него деньги... Вот послушай!
Он похлопал себя по жилетному карману. Послышался звон монет — это было золото, которое он взял из дому на покупки.
— Ну хорошо, я тебе верю, — проговорила принцесса, убежденная красноречивым звоном монет. — А теперь я хочу, чтоб ты познакомил меня со своим нотариусом... Я уже не в первый раз слышу о нотариусе и мечтаю увидеть хотя бы одного: говорят, это очень любопытно.
— Верно, принцесса! Это даже любопытнее, чем об этом рассказывают.
Они прибыли на мельницу, что изменило течение мыслей девушки.
Увы! Вот что еще уходит из нашей жизни — мельницы! Не пройдет и десяти лет, а наши внуки будут покатываться со смеху, когда мы станем рассказывать о мельницах, на которых когда-то мололи хлеб; и если Музей античностей не позаботится о том, чтобы сохранить хотя бы одну из них, наши потомки не поверят, когда мы будем им описывать оригинал.
Однако в былые времена мельница являлась вожделенной целью прогулки для юношей и девушек. Мельницы были любой величины, любой окраски и носили самые разные имена: Красивая мельница, Белая мельница, Красная мельница, Черная мельница, Пирожковая мельница, Масляная мельница — короче говоря, можно было выбрать мельницу на любой вкус.
Посетители садились за стол, несколько часов подряд смотрели за тем, как вращаются крылья, и поедали при этом пирожки, запивая их молоком. Вот в чем заключалось незатейливое, невинное, ничуть не угрожающее общественному строю развлечение тех времен!
Трое путешественников привязали ослов и вошли на мельницу; им подали горячие пирожки и холодное молоко.
Камилл с Пакереттой уплетали за обе щеки. А принцесса Ванврская, в третий раз откусив от пирожка, воскликнула:
— Какую глупость мы делаем! Зачем мы едим пирожки?
— Эй, принцесса! — перебил ее Камилл. — Говори, пожалуйста, в единственном числе.
— Какую глупость ты делаешь! Зачем ты ешь пирожки?
— Браво! — похвалил Камилл. — Это получше, чем моя хлопушка, это целая бомба!.. Так почему же я глуп, если ем пирожки?
— Потому что сейчас три часа пополудни, — заметила Шант-Лила, — и мы могли бы пообедать. Надеюсь, господин Камилл де Розан, американский дворянин, предложит нам восхитительный обед.
— Все что пожелаешь, принцесса! Клянусь честью, самое меньшее, что можно сделать, когда люди после такой долгой разлуки наконец встретились, — это не допустить, чтобы они расстались, не выпив за здоровье друг друга; ведь так?
— Тогда закажи обед.
— Только не здесь, мои пастушки.
— А где?
— В Париже!.. В деревне, черт побери, обеды неважные! В деревенской харчевне хорошо лишь раздразнить аппетит, а утолять голод лучше в городе.
— Пусть будет Париж... Где мы будем обедать в Париже?
— У Вефура, черт возьми!
— У Вефура?.. Ах, какое счастье! — вскричала девушка, прищелкнув от удовольствия пальцами. — Я так давно слышу рассказы о заведении Вефура. Говорят, это очень любопытно.
— Не менее любопытно, чем нотариусы! — заметил Камилл. — Некоторые даже утверждают, что это еще любопытнее, принимая во внимание, что у Вефура едите вы, а у нотариусов едят вас.
— Ну, Пакеретта, надеюсь, ты не в обиде? Вот это хлопушка: к Вефуру!..
— В путь, мои милые! — подхватил Камилл. — Только предупреждаю заранее: перед обедом мне нужно кое-что купить.
— Для дам? — впиваясь ногтями в руку Камилла, прошипела Шант-Лила.
— Скажешь тоже: дамы! Да разве я знаком с дамами?
— Вы за кого меня принимаете, сударь мой? — приняв комически-гордую позу, спросила Шант-Лила.
— Тебя, принцесса? — переспросил Камилл, обнимая ее. — Тебя я принимаю за самую свеженькую, умненькую и хорошенькую прачку с речного берега, когда-либо расцветавшую в поднебесной!
Мимо мельницы проезжал свободный фиакр. Путешественники остановили его знаком.
Потом они отвязали ослов и за монету в тридцать су — в те времена еще были в ходу такие монеты, — сговорились с подмастерьем, чтобы он отвел животных в Ванвр.
Путешественники сели в фиакр и приказали везти их к Вефуру.
О покупках в этот день не могло быть и речи.
После десерта, когда клубника была съедена, кофе выпит, анисовый ликер пригублен, Пакеретта Коломбье, чья роль в этой компании становилась все более затруднительной, вдруг спохватилась: ее дядюшка, старый вояка, ждет, когда она перевяжет ему раны.
И она оставила американского дворянина с глазу на глаз с Шант-Лила.
У нас с вами больного дядюшки нет, и потому мы возвратимся в Ба-Мёдон, где Кармелита с семи часов вечера сидит у окошка; она в отчаянии, слыша, как часы бьют полночь.
XLIX ПОСЛЕДНИЕ ОСЕННИЕ ДНИ
Одно из окон дома выходило на улицу Пти-Амо.
У этого окна и сидела Кармелита, облокотившись на подоконник и уронив голову на руку.
Она прислушивалась к далеким редким звукам, долетавшим с покрытой мраком равнины, и вздрагивала всякий раз, как до нее доносился хруст сухой ветки или шелест падающего листа: в этих звуках ей чудились шаги Камилла.
Но в столь поздний час Камилл не мог возвратиться из Парижа пешком: Кармелите следовало ожидать не звук шагов, а стук подъезжавшей кареты.
Ночная тишина, печальный шепот ветра в листве, скользящие по ветру листья, леденящий кровь крик совы с соседнего тополя — все это так действовало на Кармелиту, что в конце концов из ее глаз брызнули слезы и потекли по пальцам.
Как не похожа была эта осенняя ночь, мрачная и полная страхов, когда Кармелита, сидя у окна, в отчаянии ожидала возвращения Камилла, на тот весенний вечер, который она провела вместе с Коломбаном среди сирени и роз!
А ведь с тех пор прошло всего пять месяцев.
Правда, для того чтобы полностью изменить жизнь, пяти месяцев много — довольно одной минуты, одного мгновения, одной-единственной ненастной ночи!
Наконец около часу ночи послышался шум подъезжающей кареты.
Кармелита вытерла слезы, прислушалась и с радостью, к которой примешивалась безотчетная грусть, отметила про себя, что карета съехала на обочину и остановилась у ворот.
Почему в ее сердце одна струна отозвалась острой болью, в то время как все другие трепетали от радости?
Она хотела было спуститься вниз, чтобы поскорее оказаться в объятиях Камилла, но на первой же ступеньке остановилась.
Зато сам Камилл выпрыгнул из кареты и, хлопнув дверью, бросился к ней.
Он встретил Кармелиту на полдороге. Едва держась на ногах, она прислонилась к стене.
Она так страстно ждала его возвращения! Что же за болезненная слабость поразила девушку при его приближении?
Камилл обнял Кармелиту со свойственным ему пылом.
Утром он точно так же обнимал принцессу Ванврскую, может быть, не так крепко, даже, возможно, не так горячо, ведь за опоздание ему предстояло вымолить у Кармелиты прощение.
Девушка встретила его холоднее, чем собиралась. Женщины обладают своеобразным инстинктом, и он редко их подводит: мужчина всегда уносит от женщины, только что оставленной, нечто неуловимое, внушающее подозрение той, к которой он возвращается.
Кармелита ни о чем таком и понятия не имела; просто ей казалось, что, помимо опоздания, ей следует упрекнуть Камилла в чем-то еще.
В чем? Она не знала; но болезненно звучащая в ее сердце струна таила в себе упрек.
— Прости, дорогая, что я заставил тебя волноваться! — проговорил Камилл. — Клянусь тебе, что это зависело не от меня.
— Не клянись! — попросила Кармелита. — Разве я в тебе сомневаюсь? Зачем тебе меня обманывать? Если ты меня еще любишь, значит, тебя задержали обстоятельства, которые были сильнее тебя. Если же ты меня больше не любишь, зачем мне знать причину твоего опоздания?
— Ах, Кармелита! — вскричал Камилл. — Как я могу тебя не любить?! Как я могу жить без тебя?
Кармелита печально улыбнулась.
Ей почудилось, будто между ней и ее возлюбленным промелькнула тень женщины.
Камилл проводил Кармелиту в ее комнату и подошел к окну, чтобы его закрыть: ночи становились холодными.
Кармелита пять часов просидела у этого окна, но не почувствовала холода.
Она хотела было сказать: "Оставь окно отворенным, Камилл, я задыхаюсь!"
Она открыла рот, но не издала ни звука и опустилась на диван.
Камилл обернулся, увидел, что ей нехорошо, и бросился к ее ногам.
— Произошло вот что, — заторопился он. — Вообрази, я встретил в Париже двух креолов с Мартиники, двух друзей, которых я не видел., даже не могу тебе сказать, с каких пор. Мы вспоминали о нашей прекрасной родине — она скоро станет и твоей родиной, мы говорили о тебе...
— Обо мне? — вздрогнула Кармелита.
— Ну, конечно, о тебе... Разве я могу говорить еще о чем-нибудь, когда у меня есть ты? Я не называл твоего имени, разумеется. Я успел купить не все, что хотел. Они поехали со мной за покупками, но при условии, что я с ними пообедаю и поеду в Оперу... Там сегодня давали спектакль об убежище Лаисы. Ты ведь знаешь, что для меня существуют две вещи в целом свете: ты и музыка. Как жаль, что тебя не было с нами! Как бы тебе это понравилось!
Кармелита едва заметно шевельнула бровями.
— Меня там не было, — сказала она.
— Да, ты была здесь, бедная крошка. Но ты сама виновата: почему ты не захотела поехать со мной?
— Да, я сама виновата, — подтвердила Кармелита. — Поэтому я и не жалуюсь.
— Почему же, вместо того чтобы развлекаться, ты скучала?
— Я не скучала, я ждала тебя.
— Да ты просто ангел!
Камилл снова пылко обнял Кармелиту.
Она встретила его ласку почти равнодушно.
Поверх головы Камилла, по-прежнему стоявшего перед ней на коленях, она смотрела на розовый куст, на котором оставалось несколько цветков — бледных, чахлых, последних.
В эту самую минуту один из них стал осыпаться у Кармелиты на глазах, и она с невыразимой печалью провожала взглядом падающие лепестки.
Камилл чувствовал, что его слова не достигают цели; он продолжал настаивать, он возвращался к подробностям, которые должны были придать его рассказу больше правдоподобия.
Кармелита слышала его, но смысл его слов перестал доходить до ее сознания.
Она улыбалась, кивала, отвечала односложно и не понимала ни того, что говорит ей Камилл, ни того, что она ему отвечает.
Пробило два часа. Кармелита вздрогнула.
— Два часа! — заметила она. — Вы устали, я — тоже, друг мой; ступайте к себе и оставьте меня; завтра вы мне сообщите все, о чем не успели рассказать сегодня; я теперь знаю, что с вами не случилось ничего страшного, и я счастлива!
Камиллу уже несколько минут было не по себе: он не знал, ни как выйти, ни как остаться.
Впрочем, слова Кармелиты, казалось, его опечалили.
— Ты меня выпроваживаешь, злючка? — сказал он.
— Что, что? — не поняла Кармелита.
— Ладно, ладно, я вижу, ты на меня дуешься, — проговорил Камилл.
— Я? — удивилась Кармелита. — А с какой стати мне на тебя дуться?
— Да откуда мне знать? Каприз, может быть.
— Да, действительно, — печально улыбнувшись, кивнула Кармелита. — Возможно, я капризна, Камилл. Постараюсь исправиться... До завтра!
Камилл в последний раз поцеловал Кармелиту; она холодно, как мраморная статуя, встретила его ласку. Он вышел.
Едва за ним затворилась дверь, как слова, которые она не могла выговорить в присутствии Камилла, сорвались у нее с языка.
— Я задыхаюсь! — прошептала она.
Она снова отворила окно и облокотилась на подоконник — так же, как недавно в ожидании Камилла.
Так она до самого утра просидела не шевелясь.
Только когда ночная мгла стала рассеиваться, Кармелита встрепенулась и, словно только сейчас заметив, который час, возвела к небу прекрасные глаза, вздохнула и легла в постель.
Это происшествие было первым облачком, промелькнувшим между молодыми людьми.
Камилл сказал Кармелите, что купил не все.
В действительности он не купил ничего, если только читателю угодно будет припомнить, на что креол употребил время.
Итак, надо было снова ехать в Париж.
И Камилл поехал. На сей раз все покупки были сделаны: ничто не отвлекло Камилла от его намерений.
Он вернулся рано.
Кармелита не ждала его у окна, она гуляла в саду — том самом, где находился предназначавшийся для Коломбана павильон.
С этого дня Камилл стал отлучаться все чаще, и беззаботность, вернее сказать, равнодушие Кармелиты не сдерживало, а, скорее, подталкивало его к тому.
Постепенно его поездки в Париж стали настолько частыми, что уж редкий день его можно было застать дома.
То он спешил на Марсово поле, то на премьеру в Оперу, то на петушиные бои, устраиваемые у заставы. Справедливости ради следует заметить, что всякий раз Камилл предлагал Кармелите: "Хочешь поехать со мной, дорогая?" Но Кармелита отвечала: "Спасибо".
И Камилл отправлялся один.
Однажды утром, когда его не было дома, в дверь позвонили.
Кармелита слышала звонок. Но с некоторых пор этот звук не вызывал в ее душе волнения.
Позвонили еще раз. Она подняла голову, отложила вышивание; удивляясь, почему садовница долго не открывает, Кармелита подошла к окну, отодвинула занавеску, посмотрела, кто звонит, и вскрикнула от изумления: внизу стоял Коломбан!
От страха она чуть было не лишилась чувств.
Она выбежала на лестницу. Садовница, возвращавшаяся из глубины сада, показалась в коридоре.
— Нанетта! — закричала Кармелита. — Проводите господина в садовый павильон и не говорите ему, что я здесь.
Потом она заперла дверь на ключ, дрожащими руками задвинула засов и села — вернее, упала — на диван.
Коломбан!..
Он аккуратно писал Камиллу, однако со времени отъезда бретонца Камилл ни разу не заглянул на улицу Сен-Жак, и письма оставались лежать нераспечатанными у Мари Жанны.
А беззаботный Камилл, не получая их, не счел нужным сам написать бывшему товарищу по коллежу.
Кстати сказать, насколько это было в его власти, он старался забыть своего друга.
Коломбан явился живым укором за преданную дружбу, за нарушенное обещание, а это сулило Камиллу угрызения совести!
Молчание креола обеспокоило Коломбана, как ни мало он был подозрителен.
Кроме того, бретонец — так ему самому, по крайней мере, казалось — совершенно окреп душой среди суровых красот родного края.
Он чувствовал, что обрел стойкость и набрался сил, бродя среди каменных глыб Карнака и карабкаясь по отвесным армориканским скалам.
Наступил день, когда он себе сказал:
"Я здоров и снова продолжу учебу. Заодно погляжу, что поделывают Камилл с Кармелитой".
Он заставил себя улыбнуться, произнося их имена, и вообразил, что уже пережил боль потери.
Итак, он отправился в путь, полагая, что совершенно справился со своими чувствами.
Кажущаяся победа над собой оказалась в действительности поражением, но он этого не знал. Одному Богу была ведома его тайна.
Он прибыл в Париж и нанял экипаж, торопясь на улицу Сен-Жак.
Было семь часов утра: он застанет Камилла в постели.
Камилл был ленив, как всякий креол.
А вот Кармелита, верно, уже поднялась. Он помнил, что она просыпалась вместе с птицами, как и они, песней встречая восход.
С сильно бьющимся сердцем и пылающим лицом он приехал на улицу Сен-Жак.
Мари Жанна увидела, как он выходит из экипажа.
— Да это господин Коломбан! — воскликнула она. — Куда это вы, господин Коломбан?
— Как куда? К себе! К Камиллу! — отвечал он.
— Да он уж давно съехал, ваш господин Камилл!
— Съехал? — переспросил Коломбан.
— Да, да, да.
— А?..
Коломбан замешкался.
— А Кармелита?.. — сделав над собой усилие, спросил он.
— Тоже переехала.
— Куда же они отправились? — спросил Коломбан.
— Да почем я знаю? Муж вам, верно, скажет, да еще, может быть, мадемуазель Шант-Лила, прачка.
Коломбан прислонился к стене, чтобы не упасть.
— Ну хорошо, — едва выговорил он. — Дайте мне ключи от квартиры.
— Ключ от квартиры? Зачем? — удивилась Мари Жанна.
— Зачем обыкновенно спрашивают ключ от своей квартиры?
— Чтобы войти к себе! Но вы-то здесь больше не живете!
— Как не живу? — сдавленным голосом проговорил бретонец.
— Вы тоже переехали.
— Я... Переехал? Вы в своем уме?
— Не жалуюсь! Можете подняться, если угодно. Ваша бывшая квартира совершенно пуста: господин Камилл вывез всю мебель и сказал, что вы переезжаете вместе с ними.
— С ними? — переспросил Коломбан.
Все поплыло у него перед глазами.
— Раз я должен жить с ними, надо же мне, по крайней мере, знать их адрес! — пролепетал он.
— Кажется, это где-то в Мёдоне, — отвечала Мари Жанна.
Молодой человек еще не отпустил экипаж, в котором приехал. Он снова погрузил свой чемодан, сел в карету и приказал:
— В Мёдон!
Полтора часа спустя он был уже в Мёдоне. Но читатели помнят, что Камилл жил в Ба-Мёдоне.
Как истинный бретонец, Коломбан был терпелив и упрям. Он неутомимо переходил от двери к двери.
В последнем доме ему сказали, что молодых людей следует, по-видимому, искать в Ба-Мёдоне.
Коломбан отправился в Ба-Мёдон.
В Ба-Мёдоне дело пошло лучше: ему показали дом; он позвонил раз, потом другой.
Кармелита выглянула в окно, узнала его и приказала Нанетте ничего о ней не говорить и проводить Коломбана в павильон.
L ТОТ, КТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Когда Нанетта отворила дверь, Коломбан был почти так же бледен, как Кармелита.
Он собирался спросить Камилла, но голос ему изменил.
— Вы господин Коломбан, не так ли? — пришла ему на помощь Нанетта.
— Да, — прошептал Коломбан.
— Сюда прошу, сударь.
Нанетта пошла вперед, бретонец — за ней. Она привела его прямо в садовый павильон.
Кармелита слышала, как отворилась и снова захлопнулась входная дверь. Она встала, отодвинула засов, открыла дверь и на цыпочках подкралась к окну в коридоре, выходившему в сад.
Теперь Коломбан шел впереди Нанетты. Он спешил повидаться с Камиллом и потребовать у него объяснений.
Он распахнул дверь павильона.
Там никого не было!
Он обернулся к Нанетте.
— Куда вы меня привели? — спросил он.
— К вам на квартиру, сударь, — отвечала садовница.
— Ко мне на квартиру?
— Да! Вы ведь друг господина Камилла, которого он ожидает из Бретани, не так ли?
— Камилл меня ждет?..
— Уже два месяца.
— Где он сам?
— В Париже.
— Но он сегодня вернется?
— Возможно.
— Часто он бывает в Париже?
— Почти каждый день.
— Вот как?.. — прошептал Коломбан. — Он поселился здесь, а она живет в Париже. Должно быть, Камилл боится ее скомпрометировать, если будет жить не только в одном с ней доме, но даже просто в одном и том же городе. Дорогой Камилл! Я его недооценивал!.. Как я заблуждался!..
Обернувшись к Нанетте, он продолжал в полный голос:
— Я подожду Камилла здесь. Как только он вернется, доложите о моем приезде.
Нанетта кивнула и вышла.
Оставшись один, Коломбан огляделся и провел рукой по глазам: ему почудилось, что это игра воображения.
Он находился в своей комнате на улице Сен-Жак; только неведомый чародей перенес ее в этот сад. Та же мебель, те же обои — все здесь было по-прежнему, даже кодекс словно по волшебству оказался на своем обычном месте — на ночном столике рядом с подсвечником — и был раскрыт на той же странице, на какой Коломбан вложил зеленую закладку тремя месяцами раньше, даже ящички с розами висели, как раньше, за его окном!
Этой комнатой Камилл как бы вымаливал у Коломбана прощение.
Однако Коломбан увидел в этом лишь заботу нежного и деликатного друга.
Но эта комната была полна для него мрачных воспоминаний.
Ничто так не рвет сердце и не заставляет оплакивать прошлое, как предметы, что были свидетелями нашего счастья.
Надеясь приготовить для друга приятный сюрприз, Камилл по существу стал палачом, побуждая Коломбана жить в комнате, вызывавшей у бретонца мрачные мысли.
Как в ту ночь, когда Камилл впервые задержался в Париже, Кармелита прошептала: "Я задыхаюсь!", Коломбан повторил почти те же слова: "Мне душно!" — и выбежал в сад.
Кармелита не отходила от окна: она видела, как он вышел или, вернее, выскочил из павильона.
Она прижала руку к груди и откинула голову назад — бедняжка едва не упала без чувств!
Открыв глаза, она посмотрела в сад и увидела, что Коломбан сидит на скамейке, спрятав лицо в ладонях, точь-в-точь в таком же положении, в каком она сама просидела пять часов в ожидании Камилла.
Коломбану пришлось ждать столько же. Наконец послышался шум остановившейся у ворот кареты. Затем громко зазвонил колокольчик, как бы почувствовав хозяйскую руку.
На сей раз Нанетта была начеку и побежала отворять.
Очевидно, она доложила Камиллу о приезде Коломбана: креол не стал подниматься на второй этаж, а двинулся по коридору и вышел в сад.
Он поискал Коломбана глазами, увидел его на скамейке и пошел прямо к нему. Тот сидел, по-прежнему спрятав лицо в ладонях, и не видел Камилла.
Однако он услышал шаги, поднял голову и заметил Камилла, когда тот уже стоял перед ним.
Он вскрикнул и бросился ему на шею.
Кармелита наблюдала за ними из-за занавески.
Ничто не отравляло Коломбану радость от встречи с Камиллом: он решил, что Камилл живет в Ба-Мёдоне, а Кармелита — в Париже.
Молодые люди взяли друг друга под руку и пошли к дому.
Когда Кармелита увидела, что они приближаются, она, дрожа всем телом, поспешила укрыться в своей комнате и снова задвинула засов.
Камилл показал другу весь дом, за исключением комнаты Кармелиты.
Бретонца ничуть не удивило утонченное убранство дома: он знал вкус изнеженного Камилла.
Когда Коломбан осмотрел весь дом, креол подвел его к таинственной двери, мимо которой они уже несколько раз проходили, но она так и оставалась закрытой.
Камилл остановил Коломбана.
— Сними шляпу! — приказал он.
— Зачем? — удивился бретонец.
— Ты у святилища!
— Что ты имеешь в виду?
— Послушай, — начал Камилл своим обычным полунасмешливым, полусерьезным тоном, — у меня довольно расплывчатые или, если угодно, вполне сложившиеся взгляды на религию. Каждый поклоняется богу, которого выбирает по своему вкусу; мне ничто не мешает поступать точно так же.
— На что ты намекаешь и что это за комната? — спросил Коломбан. — Договаривай!
— Это храм великой богини красоты, доброты, величия! Она была бы похожа на бога Пана, если бы ему удалось соединить в себе женское и мужское начало, унаследовав от женщин слабость и красоту, от мужчин — силу и отвагу. В этой комнате, Коломбан, находится женщина, которую я обожаю больше всего на свете, я считаю ее богоподобной! Склони же голову и, как я тебе велел, сними шляпу, входя в эту комнату: никогда простому смертному не доводилось созерцать лик более высокочтимого божества!
Кармелита слышала из своей комнаты все, что сказал Камилл. Она встала, бледная, но решительная, какой ей случалось бывать в трудные минуты, шагнула к двери и сама ее распахнула в тот момент, когда Камилл хотел уже взяться за ручку. При виде девушки Коломбан едва не лишился чувств.
— Входите, друг мой! — пригласила его Кармелита.
— Что это с тобой? — пытаясь скрыть смущение под маской веселости, спросил Камилл. — Ты что же, не узнаешь Кармелиту? В таком случае, я вас сейчас представлю друг другу... Мадемуазель Кармелита Жерве — господин виконт де Пангоэль... Господин виконт де Пангоэль — мадемуазель Кармелита Жерве.
Молодые люди смотрели друг на друга: Коломбан не скрывал изумления, Кармелита от стыда не смела пошевелиться.
— Да поцелуйтесь же! — вскричал Камилл. — Какого черта вы стоите? Что вас смущает? Может, мне пойти прогуляться в мёдонском лесу?
Такое предложение, дружеское по существу, но оскорбительное по форме, произвело на Кармелиту и Коломбана разное действие: девушка покраснела до корней волос, бретонец смертельно побледнел.
Оба отступили назад.
Кармелита себя чувствовала так, как на ее месте чувствовала бы себя любая женщина, над которой совершено насилие и чистота которой осквернена. Ее губы едва заметно морщились в презрительной усмешке.
Коломбан сознавал, что его предали, что попраны святые клятвы дружбы. Вот почему его лицо исказила боль.
Минута замешательства для обоих была мучительна.
Кармелита положила ей конец, с дружеским чистосердечием протянув бретонцу руку.
Коломбан вспомнил, как впервые увидел эту руку, исхудавшую и бледную, выбившуюся из-под одеяла, когда Кармелита лежала в горячке, и сейчас же протянул свою руку навстречу. Две верные руки, дрожа, соединились в дружеском пожатии.
— Ах ты, Господи! Что за манеры! С каких это пор человеку не позволено поцеловать жену друга? — воскликнул Камилл.
Коломбан поднял голову и просиял.
— Жену?.. — переспросил он, забыв все обиды, когда услышал, что Камилл исполнил данное слово. — Жену? — еще раз повторил он со слезами на глазах, не замечая, как смутилась при этих словах Кармелита.
— Или будущую жену, потому что я ждал только твоего возвращения, чтобы уладить это дело, — поспешил вставить Камилл.
— Ах, так... — холодно произнес Коломбан. — Что ж, вот и я!.. — прибавил он с угрозой в голосе.
— Ну-ну, — перебил его Камилл, — раз не хочешь ее поцеловать из любви к ней самой, поцелуй ради меня!
Коломбан приблизился к Кармелите и, почтительно поклонившись, проговорил:
— Вы позволите, мадемуазель?..
— Мадам, мадам, — поправил Камилл.
— Вы мне позволите поцеловать вас, мадам? — повторил Коломбан.
— О, с удовольствием! — воскликнула Кармелита, подняв глаза к небу, словно приглашала Бога в свидетели своей искренности. — Надеюсь, Господь меня слышит и знает, что я делаю это от всего сердца!
Они поцеловались, и оба залились краской.
— Ну, не умерли же вы от этого? — со смехом вскричал Камилл. — Боже мой! Какие вы глупые! Ведь мы договорились, что будем жить как раньше!
— Хорошо, — отозвался Коломбан. — Но прежде чем принять это чудесное предложение, я хочу с вами поговорить, Камилл.
— С "вами"?! — повторил креол. — Дьявольщина! Это серьезно.
— Очень серьезно, — подтвердил Коломбан.
— Ты хочешь послушать, о чем мы будем говорить? — спросил Камилл Кармелиту.
— Нет, — сказал Коломбан, — мадемуазель останется у себя, а мы перейдем к тебе.
— Ну, пойдем ко мне, — согласился Камилл.
И он распахнул дверь, расположенную напротив комнаты Кармелиты.
Бретонец последовал за ним, бросив на девушку взгляд, который словно говорил: "Будьте покойны, я хочу позаботиться о вас".
Кармелита печально улыбнулась, из ее груди вырвался вздох, и она вернулась к себе.
— Ну что, — начал было Камилл, упав в кресло и пытаясь уйти от серьезного разговора, — как тебе понравился твой павильон?
— Очарователен! — отозвался Коломбан. — Я очень вам признателен за память и внимание, но я никогда не соглашусь жить в этом павильоне.
— От чего же?
— Я не хочу быть ни соучастником ваших проступков, ни прикрытием для ваших дурных страстей.
— Коломбан! — насупившись, попытался остановить его Камилл.
— У нас еще будет время припомнить друг другу обиды, если пожелаете, Камилл. А сейчас позвольте вам сказать следующее. Вы мне поклялись — и в этом заключалось одно из условий моего отъезда, — что будете почитать Кармелиту как будущую супругу, а сами недостойнейшим образом нарушили свое обещание! С этого дня, Камилл, между нами лежит пропасть, отделяющая порядочного человека от клятвопреступника, и я не останусь здесь ни минутой дольше.
С этими словами Коломбан шагнул к двери.
Но Камилл преградил ему путь.
— Выслушай меня! — попросил он. — Как верно то, что ты мой единственный друг, Коломбан, — а я чувствовал бы себя глубоко несчастным, если бы это было не так! — так же верно и то, что я хотел бы сделать для тебя хотя бы половину того, что ты сделал для меня. Я люблю, обожаю, почитаю Кармелиту, а сдержать клятву мне одному было невозможно.
Коломбан презрительно усмехнулся.
— Да, я взываю к ней, — продолжал Камилл. — Спроси у нее; надеюсь, ей ты поверишь? Спроси, соблазнял я ее когда-нибудь или хотя бы искушал? Спроси, не получилось ли так, что мы оба непреднамеренно, сами того не желая, роковым образом оказались во власти таинственных сил, и произошло это в одну из душных летних ночей. Спроси у нее, и она тебе скажет, что мы, как дети, обманутые своей невинностью, не искали случая сблизиться, это получилось само собой... Ты умеешь управлять своими чувствами, у тебя нечеловеческая сила воли, ты, возможно, устоял бы. Я же слаб, как тебе известно, друг мой; я чувствовал, как меня одолевают тысячи неведомых желаний, находивших отклик в моем сердце, — ведь эти же желания будоражили Кармелиту, — и я закрыл на все глаза: мир перестал для меня существовать! Можно ли поэтому сказать, Коломбан, что я поступил как неблагодарный друг и нечестный человек? Нет, потому что, как верно то, что меня зовут Камилл де Розан, так же верно и то, что я женюсь на Кармелите в день, который ты назначишь сам! Я не хотел тебе писать обо всем этом, понимаешь? Ведь это привело бы к нескончаемому спору в письмах; но ты здесь, и, как я уже сказал, за тобой слово — назначь день свадьбы!
Коломбан на мгновение задумался.
— Ты говоришь правду? — спросил он, пристально глядя на Камилла.
— Слово чести! — отвечал молодой человек, прижав руку к груди.
— Если так, я остаюсь, — продолжал Коломбан. — Честный человек всегда может рассчитывать на мою дружбу. Что же касается свадьбы, ты сам должен назначить день; разумеется, чем раньше вы поженитесь, тем лучше.
— Сегодня же, Коломбан, слышишь, сегодня же я напишу отцу; я попрошу прислать необходимые бумаги, и через полтора месяца мы сможем сделать оглашение.
— Положим два месяца на случай каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Но уверен ли ты, что твой отец даст согласие на брак?
— Почему он должен отказать?
— Твой отец богат, Камилл, а Кармелита бедна.
— Ее добродетель будет в глазах отца лучшим приданым.
"Эх ты, мот! — хотел воскликнуть Коломбан. — Ты это приданое пустил по ветру!"
— А что, если твой отец все-таки воспротивится браку? — продолжал настаивать бретонец.
— Это невозможно, мой друг!
— Как бы то ни было, представь на минуту, что отец откажет. Что ты будешь делать?
— Мне двадцать четыре года. Дождусь полного совершеннолетия и женюсь на Кармелите без согласия отца!
— Плохо, когда сын поступает против воли родителей, но еще хуже, Камилл, обесчестить девушку и не жениться на ней... Напиши отцу, Камилл, напиши как почтительный сын, но со всей решимостью проси позволения на брак. Пакетботы отходят пятого, пятнадцатого и двадцать пятого числа каждого месяца; послезавтра — пятнадцатое: нельзя терять ни минуты.
— Так ты остаешься? — спросил Камилл.
— Да.
Коломбан приготовил на столе перо и бумагу:
— Я жду тебя с письмом в павильоне.
Бретонец спустился в сад, обрадованный тем, что друг готов сдержать слово.
LI ТОТ, КТО УХОДИТ
Четверть часа спустя Камилл вошел в павильон, держа в руке наполовину исписанный лист.
— Уже готово? — удивился Коломбан.
— Нет, — возразил Камилл. — Напротив, я только начал.
Коломбан бросил на него строгий и вместе с тем вопросительный взгляд.
— О, не торопись меня осуждать! — остановил его Камилл. — Едва я взялся за дело, как мне на ум пришли твои замечания относительно согласия моего отца. Мне показалось, что твои сомнения небезосновательны.
— Какое это имеет значение, Камилл, — сказал бретонец, — если ты твердо решился?
— Верно! Но я думаю, что придется написать немало писем, прежде чем я добьюсь своего. Вряд ли мне удастся уговорить отца с первой попытки. Мы будем долго спорить, обсуждать разные мелочи. Так мы попусту будем терять время и терпение...
— Ты можешь предложить иной способ?
— Думаю, что да.
— Какой же?
— Я должен поехать сам и лично испросить позволения на брак.
Бретонец пристально посмотрел на Камилла.
Тот, не дрогнув, выдержал взгляд друга.
— Ты прав, Камилл, — согласился Коломбан. — Такое решение мог принять честный человек... или отпетый мошенник!
— Надеюсь, ты не сомневаешься в моей порядочности? — спросил Камилл.
— Нет.
— Понимаешь, — продолжал Камилл, — если я сейчас отправлюсь к отцу, я за неделю добьюсь от него согласия; а письмами мне пришлось бы донимать его месяца три.
— Я тоже так думаю.
— Три недели — туда, три — обратно, недели две — на уговоры — итого два месяца.
— Ты рассуждаешь здраво, Камилл.
— Мудрость приходит с годами, старина Коломбан. К несчастью...
— Что такое?
— ...все это почти неисполнимо...
— Как так?
— Я не могу взять с собой Кармелиту.
— Ну, разумеется.
— С другой стороны, я не могу оставить ее здесь.
— Что тебе мешает?
— Бросить девушку, обречь на насмешки соседей, да что там соседей — первого встречного...
Коломбан нахмурился.
— Неужели ты думаешь, что я позволю кому-нибудь оскорбить Кармелиту? — возмутился он.
— Так ты согласен побыть с ней?
Коломбан улыбнулся.
— По правде говоря, я полагал, что ты знаешь мой характер.
— Ты будешь с ней жить под одной крышей?
— Ну, конечно!
— Коломбан! — вскричал Камилл. — Если ты сделаешь это для меня, всей моей жизни не хватит, чтобы выразить тебе мою признательность!
— Неблагодарный! — пробурчал бретонец.
— Нет, Коломбан, нет, не называй меня неблагодарным! Но я знаю твою щепетильность в делах такого рода: я боялся тебя оскорбить, предлагая жить наедине с девушкой.
— Не я ли жил с Кармелитой три месяца в одном доме до того, как она тебя узнала?
— Да, но это было до того, как она меня узнала, как ты выражаешься...
— А почему меня должна оскорбить просьба моего брата позаботиться о его супруге, которая для меня свята как сестра? Или ты имеешь в виду мою прошлую любовь к Кармелите?
— Коломбан!
— По-твоему, я способен нарушить клятву?
— Думаю, ты готов скорее умереть, Коломбан! Я рядом с тобой ничтожество! Да, да, я дурной человек, а ты добрый, ты верный, ты сильный. Я знаю, что ты будешь защищать жизнь Кармелиты лучше, чем мою, а мою жизнь — лучше, чем свою собственную. Поэтому мне нечего опасаться: зная, что ты здесь, я не дрогнул бы, если б мне пришлось сейчас отправляться в кругосветное путешествие!
— В таком случае, — отвечал Коломбан, — предупреди Кармелиту; ты понимаешь, что без ее согласия я не могу остаться в доме. Если она откажет, ты все равно можешь ехать: я сниму комнату напротив или где-нибудь неподалеку и буду охранять ее так же, как если бы мы жили под одной крышей. Ну, иди, у тебя мало времени: одно дело — отправить письмо, другое — собраться в дорогу.
Камилл безропотно подчинился.
Кармелиту передернуло, когда она услышала новость.
Однако она не высказала ни замечания, ни возражения.
Услышав предложение Камилла, она оторопела. Кармелита не пыталась понять, что ее так задело. Она инстинктивно чувствовала всю низость Камилла, все величие Коломбана.
Бретонец настолько вырос в ее глазах, что казался гигантом по сравнению с карликом, которого он называл своим другом.
В принятом решении изменилось только одно — отъезд Камилла был перенесен на 23 октября.
Пакетбот в колонии отплывал 25 октября; до отъезда оставалось десять дней.
Коломбан рассказывал, какую суровую, почти монашескую жизнь он вел в фамильной башне Пангоэлей, как гулял по берегу бушующего моря, как сидел у изголовья больного отца, читая ему "Одиссею".
Кармелита удивила Коломбана музыкальными познаниями, которые она приобрела за время долгого отсутствия бретонца и частых отлучек Камилла.
Креол попытался возобновить прежние занятия музыкой, доставлявшие когда-то всем троим столько удовольствия; но мысль о скором расставании не давала им покоя. Кроме того, каждый из них чувствовал в душе смятение.
Камилла мучили угрызения совести.
Коломбана одолевали сомнения.
Кармелита впала в отчаяние.
Так в тоске и тревоге проходили безрадостные дни и печальные вечера, пока не настало время прощаться.
Случалось так, что всех троих охватывало смутное нетерпение, пугавшее их самих; они казались себе людьми, затеявшими спор в минуту опасности, и торопились расстаться, потому что рано или поздно это должно было произойти.
В этих грустных ожиданиях наступило 23 октября.
Они условились, что Коломбан посадит Камилла в дилижанс, который отправлялся из Парижа в десять часов утра и, следовательно, в одиннадцать должен был проезжать по версальской дороге.
Бретонец всю ночь не смыкал глаз. В шесть часов он был на ногах, ожидая пробуждения Камилла.
В восемь Коломбан вошел к нему в комнату.
— Который час? — спросил Камилл.
— Восемь, — отвечал Коломбан.
— О, у нас уйма времени! — воскликнул креол. — Я посплю еще часок?
Дверь в комнату Кармелиты была отворена. Девушка услышала ответ ленивца.
— Он прав, дайте ему поспать, друг мой, — сказала она.
Коломбан притворил дверь в комнату Камилла и вошел к Кармелите.
Вероятно, она не ложилась: ее постель была почти нетронута.
— Вы устали, Кармелита, — с беспокойством поглядывая на девушку, заметил бретонец.
— Да, — отозвалась она, — я почти всю ночь читала.
— А остальное время плакали!
— Я? Совсем нет, — возразила Кармелита, подняв на него сухие, лихорадочно горевшие глаза.
Коломбан опустил голову и вздохнул.
Несмотря на то что к отъезду все было давно готово, он поднялся и вышел под тем предлогом, что хочет еще раз взглянуть на чемоданы.
Ему было тяжело оставаться с Кармелитой наедине, и он поспешил в сад.
В девять часов он вернулся в дом, вошел к Камиллу и почти насильно поднял его с постели.
Четверть часа спустя креол сидел в столовой вместе с Кармелитой и Коломбаном.
Последние минуты перед разлукой были столь же томительны, как проведенные вместе вечера.
Отъезд чем-то напоминает смерть: человек свыкается с мыслью о грозящей беде, и когда наступает критическая минута, он ничего не чувствует — источник слез истощился!
Карета, в которой Камилл собирался доехать до версальской дороги, ждала у ворот. Все трое в последний раз посмотрели друг на друга и обнялись.
Но плакали только Коломбан и Камилл.
— Вверяю в твои руки свою жизнь, — промолвил Камилл. — Больше чем жизнь — душу!
По всей вероятности, в эту минуту Камилл не лгал.
— Поезжай! Отвечаю перед Богом своей душой, своей жизнью! — торжественно произнес бретонец, устремив к небу ясный взор.
Молодые люди пошли к выходу.
Коломбан обернулся; видя, что всеми оставленная Кармелита опустила руки и уронила голову на грудь, подобно статуе Одиночества, он пожалел девушку и предложил Камиллу взять ее с собой до версальской дороги.
Кармелита благодарно на него взглянула, но не поддалась искушению и возразила:
— К чему?
И столько отчаяния было в ее голосе!
Камилл поспешно вернулся, в последний раз обнял ее, потом в ужасе отпрянул.
Ему почудилось, что он сжимал в объятиях мраморную статую.
До дилижанса оставалось десять минут: надо было торопиться. Коломбан увлек за собой Камилла; оба сели в карету, и лошади понеслись галопом.
Ворота были распахнуты настежь.
— Заприте ворота, — хмуро проговорила Кармелита, обратившись к садовнице.
Та повиновалась и толкнула створку — ворота с грохотом захлопнулись.
Кармелита вздрогнула.
— Это закрылась дверь моего склепа, — прошептала она.
Затем она медленно поднялась в дом, вошла в комнату и рухнула на диван.
Чем объяснить отчаяние Кармелиты, ее печаль, ее холодность?
Как это часто бывает у тонко чувствующих женщин, она бессознательно сравнивала Коломбана и Камилла.
И в самом деле, Коломбан — который со дня своего прибытия все больше вырастал в глазах Кармелиты, — Коломбан за эти десять пробежавших дней поднялся на необычайную высоту.
Ей казалось, что во все время его отсутствия она жила словно в дурном сне.
Сон... Да, конечно, сон! Не может действительность быть такой страшной!
Три месяца она была любовницей фата — обаятельного и веселого, что верно то верно, но человека без чести, без совести, бездушного, недостойного, слабовольного; он напоминал разряженную куклу, напомаженную, напудренную, завитую, временами даже забавную, но в конечном счете недостойную настоящей любви. Разумеется, только в страшном сне ей могла привидеться жизнь с этим американцем в пестрых галстуках, ярких жилетах, светлых панталонах, с золотыми цепочками на шее и рубинами на пальцах... Для нее он явился воплощением демона тьмы, который опускается по ночам на грудь спящему человеку. И все эти планы женитьбы, этот отъезд в Америку за разрешением на брак, эта угроза возвращения, нависшая над Кармелитой не как надежда, а как меч, — все это был кошмар, родившийся летней ночью в ее воспаленном мозгу.
Да, да, это страшный сон!
А действительность? Великодушный и преданный Коломбан!
Бесхитростный, большой и сильный, настоящий мужчина! Скажи он любой женщине: "Закрой глаза и ступай!" — она могла бы безоглядно идти за ним; скажи он: "Я так хочу" — она повиновалась бы; прикажи он: "Надо умереть" — она бы умерла!
Он был благороден и честен, добр и великодушен!
Это он после трехмесячного отсутствия мог потребовать от друга вернуть доверенное ему сокровище...
И когда бедняжка Кармелита подняла голову и увидела, что ее окружают вещи Камилла, увы, — несчастное дитя! — она вынуждена была признать, что прекрасным сном явилась для нее прогулка с бретонцем весенней ночью, а ужасной действительностью оказался американец.
Слезы, накопившиеся в душе Кармелиты, хлынули из ее глаз неудержимым потоком. Она оплакивала свою ошибку, облетевшие и развеянные по ветру лепестки своих иллюзий, свое счастье, улетучившееся, как запах духов, неосторожно пролитых над огнем; она оплакивала навсегда разбитую жизнь, как оплакивают мать или дитя; она в отчаянии заламывала руки, громко жалуясь и рыдая, — она, только что не позволившая себе ни жеста, ни вздоха, ни слезинки. Оглядываясь вокруг, как львица, ужаленная ядовитой змеей, она вскочила и зашагала по комнате, задыхаясь и не замечая ничего перед собой.
Попадись на ее пути река — Кармелита бросилась бы в ее воды.
Словно решившись на что-то, она подошла к окну и распахнула его, смерила взглядом расстояние, отделявшее ее от мостовой.
Ее комната находилась на втором этаже, но потолки были невысокие, и до земли недалеко: она вряд ли разбилась бы насмерть.
Кармелита отшатнулась, застонав от ярости и боли.
Но вдруг ее глаза — прекрасные, печальные, полные слез — сверкнули и остановились на каком-то предмете; во взгляде, за минуту до того выражавшем неизбывную тоску, вдруг засветилась несказанная радость, слезы высохли, словно роса под солнцем, и как роса блестит, подрагивая, на лепестке, так в ее заплаканных глазах блеснул луч надежды.
Она увидела куст белых роз — символ невинности, воспоминание о первой любви.
— Ах, моя роза! — воскликнула она и прижала к груди цветы, забыв о шипах. — В ту ночь, когда я тебя выкопала, ты едва появилась из лона земли, нашей общей матери, ты тогда еще не успела показать солнцу свои белые бутоны, скрытые под плащом мха; полуденный зной был тебе нипочем, тебе не грозили ночные заморозки... Ах, моя роза! Как и я, в ту душную ночь ты показала сокровище, сокрытое в твоих белоснежных лепестках — ты гордилась своей красотой; потом ты подставляла себя солнцу, принимая его за друга; ты верила в вечную жизнь, как я верила в вечную любовь! О моя роза! Зачем ты отдала свою красоту, как я — свою любовь? Ведь теперь нам обеим суждено умереть!..
С этими словами Кармелита оборвала с розового куста несколько запоздалых цветков, но не завернула их в покрывало, как поступила в прошлый раз: она оборвала лепестки и развеяла по ветру, а тот разметал их по грязной дороге.
LII РАНЕНАЯ ЛЬВИЦА
С этой минуты Кармелита стала относиться к дому в Ба-Мёдоне как к собственному склепу (о чем она сама сказала), а сад казался ей кладбищем кармелиток, чье имя, по странному стечению обстоятельств, она носила. Теперь она хорошо понимала Лавальер, искупавшую три года счастья и солнца тридцатью годами забвения в монастыре; теперь ей была близка Мария Магдалина, не смевшая поднять глаза на Христа и потому отиравшая ему стопы собственными волосами.
Ее будущее выражалось в двух словах, отчетливых, словно черные буквы на белом листе: "плакать" и "умереть".
И действительно, ничто не связывало ее отныне с внешним миром; она словно превратилась в призрак. Все время, которое потребовалось бретонцу, чтобы проводить Камилла, дождаться дилижанса и вернуться, она неподвижно просидела в комнате, погрузившись в мрачные размышления.
Кармелите эти три четверти часа показались целой вечностью.
Когда Коломбан вернулся, вместо цветущей девушки он застал незнакомое существо, поразившее его потухшим взглядом, вялыми движениями, безразличием и холодностью.
Но простосердечный Коломбан ничего не понял: он решил, что отчаяние Кармелиты вызвано отъездом Камилла. Он попробовал утешить несчастную отверженную и заговорил о скором возвращении креола. Однако девушка покачала головой, и только тогда он понял, что причину ее горя нужно искать в другом. Как верный друг, он стал расспрашивать Кармелиту о том, что ее тревожит.
Она не отвечала ни слова, оставалась глуха к его увещеваниям, равнодушна к его взглядам — ее горе было велико, и она боялась опечалить единственного друга.
Так прошел первый день. Видя, что Кармелита не принимает его утешений, как больной ребенок отталкивает ложку с лекарством, Коломбан приписал это нервному расстройству, которое вот-вот пройдет, и на время отложил расспросы.
Но и назавтра, и в последующие дни она была все так же печальна и не искала успокоения в откровенных разговорах с Коломбаном.
Время шло, а бретонец так и не разгадал тайну отчаяния Кармелиты.
Распорядок дня у них был неизменным: начиная с ноября, Коломбан каждое утро, несмотря на дождь, грязь, ветер, снег, холод, отправлялся пешком в половине восьмого из Ба-Мёдона в Париж, в Школу права; занятия начинались в половине десятого. Они заканчивались в половине одиннадцатого, и ровно в полдень Коломбан возвращался назад.
Сначала они обедали. Потом каждый занимался своим делом, а вновь сходились в шесть вечера, за ужином.
Вечер проводили вместе то за чтением, то музицируя, очень редко — за разговором.
Беседовать было опасно.
Бретонец чувствовал, что должен продолжать расспросы Кармелиты. Но он видел сопротивление девушки. Намеренно он не избегал разговоров, но и не искал их, как раньше: подобно опытному доктору, он больше полагался на время, а не на лечение, уповая на Господа, а не на собственное вмешательство.
Коломбана не переставало удивлять, каких огромных успехов добилась Кармелита в занятиях музыкой с тех пор, как уехал Камилл.
В ней словно родилось новое чувство музыки — неведомое, почти пугающее. Когда она садилась за фортепьяно, инструмент будто оживал: он плакал, стонал, рыдал. Когда она пела, в ее голосе, особенно в высоких нотах, звучало неподдельное горе, неизбывное страдание; так, должно быть, пел безутешный ангел, оплакивая небеса.
В воскресные дни они особенно много занимались музыкой и гуляли, не разлучаясь и на четверть часа. Когда погода не позволяла выйти, молодые люди сходились в павильоне Коломбана. Поначалу бретонца удивил выбор Кармелиты, когда она отдала предпочтение его комнате, ведь в доме была гостиная. Но, будучи истинным слугой французского правопорядка, принимающим временные законы как окончательные, Коломбан принял каприз Кармелиты без возражений, не задумываясь о причинах такого решения.
Впрочем, у Кармелиты не было недостатка в предлогах, чтобы доказать Коломбану, что его комната больше подходит для их бесед, чем любая другая. То ее инструмент оказывался не так настроен, а фортепьяно Коломбана лучше подходило ее голосу. То оказывалось, что в гостиной дымит камин, а в комнате Коломбана тепло и уютно. То вдруг нужна была какая-нибудь серьезная книга — уточнить факт или дату, а все серьезные книги находились в библиотеке Коломбана. Одним словом, тысяча причин заставляли их встречаться в комнате Коломбана, а не где-нибудь еще, и молодые люди сходились у него.
Так прошла не одна неделя. Писем от Камилла не было, и Коломбан с удивлением отмечал про себя, что Кармелита никогда не справлялась у Нанетты о почте.
Однако к концу декабря первое письмо все-таки пришло.
Обрадованный Коломбан принес его Кармелите.
Она сидела за фортепьяно.
— Письмо от Камилла! — с порога закричал Коломбан.
Не снимая рук с клавиатуры, Кармелита приказала:
— Читайте, мой друг!
Коломбан ни в чем не мог отказать ей.
Он распечатал письмо и стал читать.
Камилл в подробностях пересказывал все свои разговоры не только с отцом, но и с тетушками, двоюродными бабушками и прочими родственниками; когда он писал эти строки, родня яростно противилась его счастью.
Письмо дышало нежностью к Кармелите, благодарностью к Коломбану. В общем тоне этого послания угадывалась несвойственная американцу грусть, и бретонец решил, что влюбленный друг расстроен из-за семейных неурядиц и борьбы, которую ему приходится выдерживать.
Однако Коломбан был поражен тем, что Кармелита встретила письмо будущего супруга с необычайной холодностью. Молодой человек не позволил себе сделать на этот счет никакого замечания. Вечером, оставшись один, он стал ломать голову над этой загадкой; но чем больше он пытался разобраться в таинственных глубинах женского сердца, тем больше удалялся от истины.
В конце января от Камилла пришло другое письмо, полное любви и нежности. В семействе Розан по-прежнему кипели страсти; однако кое-кого из членов семьи Камиллу удалось склонить на свою сторону, других он разжалобил... Одним словом, он отчасти преуспел — дело сдвинулось.
Второе письмо Кармелита приняла с прежним безразличием; она прочла пылкие слова без малейшего волнения; дочитав до конца, она сложила письмо и бросила его на камин — равнодушно, с ледяным презрением.
Коломбану очень хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы поговорить с Кармелитой, но под внешней холодностью он почувствовал в ней такое лихорадочное волнение, что побоялся разбередить ее рану.
Итак, он отказался на время от этой мысли и попытался сам разгадать (как делал это уже три месяца, но все безуспешно) причину этого необъяснимого болезненного состояния Кармелиты.
Так прошел год.
Коломбан не хотел оставлять девушку одну; он написал отцу, что считает своим долгом оставаться в Париже и не будет иметь удовольствия навестить старика в каникулы.
Вместо того чтобы тянуться бесконечно, как положено году разлуки, этот год пролетел незаметно; Коломбан был безмятежен; Кармелита не переставала восхищаться бретонцем, и вместе с тем ее мучили угрызения совести.
Однажды вечером они, как обычно, сошлись в комнате Коломбана — происходило это 23 октября, ровно год спустя после отъезда Камилла, — и бретонец высказал мнение, основанное на его вере в порядочность креола: вот уже месяц как Камиллу исполнилось двадцать пять лет, и, значит, скоро он приедет и женится на Кармелите; теперь он может это сделать, не дожидаясь согласия отца.
Кармелита покачала головой и в который уже раз встревожила этим бретонца; он не понимал, что это означало.
Теперь он решился потребовать от девушки объяснений.
— Кармелита, — начал он, — вот уже целый год я пытаюсь заставить вас поверить в скорое возвращение Камилла, но, всякий раз как я об этом заговариваю, вы только качаете головой... Я тщетно пытался понять причину этого молчаливого осуждения и прошу вас назвать ее с той же откровенностью, с какой я об этом спрашиваю.
— Вы ко всему относитесь серьезно, Коломбан, — отозвалась Кармелита, — и хотите все постичь разумом. Так вот, я качаю головой, друг мой, потому что не верю... Я не так доверчива, как вы, и не обладаю вашим почти божественным совершенством; с той самой минуты как Камилл уехал, я не жду его возвращения; прошел целый год, и я теперь меньше чем когда-либо верю в то, что он вернется!
— Вы заблуждаетесь, Кармелита! — вскричал Коломбан. — Разве вы не знаете, что в Америке семьи напичканы предрассудками? В этом единственная причина задержки Камилла, уверяю вас! Камилл преодолеет все эти преграды, несмотря на внешнюю легкомысленность, он честен и прямодушен, и я сожалею, Кармелита, что вы имели случай оценить Камилла, но так и не разглядели в нем лучшие его стороны.
Кармелита вздохнула:
— Это у вас, Коломбан, золотое сердце; вы видите повсюду только хорошее, потому что добро — в вас самом. Вы говорите, что я имела случай оценить Камилла... Да, друг мой, я его оценила и именно потому повторяю: Камилл не вернется.
— Да кто мог ввести вас в такое заблуждение, Кармелита?
— Наша совместная жизнь на протяжении трех месяцев! В это время я вполне постигла его характер, и мне не было нужды ни расспрашивать его, ни изучать... Два друга могут прожить бок о бок хоть двадцать лет, так и не узнав один другого; но когда человек живет с женщиной, бывают такие минуты, когда он себя выдает; после сближения неизбежно наступает период охлаждения, тогда-то человек невольно и сбрасывает маску — так я узнала истинный характер Камилла... Я не хочу говорить плохо о Камилле в его отсутствие; могу лишь прибавить: то, что мне стало о нем известно, вызвало во мне сначала холодность, а потом и вовсе отвращение, которое мало-помалу переросло в презрение. Пусть Камилл по-своему меня любит, не стану этого отрицать. Но в то же время он меня побаивается, как нашкодивший ученик — учителя, он чувствует мое превосходство, и его тщеславию надобно меня поработить, а любовь не главное в его отношении ко мне. Не стану отрицать, что в минуту расставания, в предотъездной суете у него, может быть, появилось желание вернуться; он привык к любви доступных женщин и потому удивился, даже, вероятно, почувствовал раздражение, встретив во мне постоянное сопротивление; он захватил меня врасплох, но так и не завладел моей душой. Борьба, которую он ведет за две тысячи льё от нас, держит его в постоянном напряжении. Однако можете мне поверить, друг мой: я для Камилла желанный трофей, а не любимая женщина.
Коломбан с сокрушенным видом посмотрел на Кармелиту.
— Вы больше не любите Камилла?
— Я никогда его и не любила, — гордо ответила она, словно эти слова должны были ее оправдать.
— О, не говорите так, Кармелита! — с нежностью прошептал бретонец.
— Клянусь перед Господом Богом, — торжественно произнесла Кармелита, — я говорю правду: я никогда не любила Камилла.
— Однако... — робко попробовал возразить Коломбан.
— Однако я пала... вы это хотели сказать, не правда ли, друг мой? Да, я пала, но не потому, что была слаба, и не потому, что был силен Камилл: меня победило что-то неведомое, таинственное; Камилл не сделал ни малейшего усилия для моего падения, как он вам и сказал, когда оправдывался в нарушении данного вам слова. Он просто все рассчитал и дождался удобного случая — именно в этом я его упрекаю; не стыдливый румянец заливает сейчас мои щеки: я краснею от презрения и гнева.
— Молчите, Кармелита! — взмолился Коломбан и закрыл глаза рукой, словно этот жест мог быть преградой не только для зрения, но и для слуха.
— Хотите, я скажу вам всю правду, Коломбан? — не умолкала Кармелита, не замечая, что встает на скользкий путь.
— О нет, нет, не желаю ничего больше слышать! — воскликнул бретонец.
— Зачем же вы меня расспрашивали? — с угрозой в голосе спросила она.
— Хорошо, говорите!
— Вы узнаете, как велика моя боль, как непоправима ошибка, если я вам скажу, что в ту ночь, когда Камилл торжествовал надо мной победу, я уступила не Камиллу.
— Кому же? — изумился Коломбан.
— Призраку, рожденному моим воображением, моей сокровенной мечте! Камилл был лишь посланцем несчастья, подставным лицом рока!
Коломбан поднял на девушку ясный взгляд.
— Я вас не понимаю, Кармелита! — признался он.
— Ах, Коломбан, до чего была хороша та ночь, когда мы пошли за розовым кустом к могиле бедняжки Лавальер!..
Неторопливо поднявшись, она вышла из павильона и вернулась к себе. Коломбан провожал ее взглядом, ослепленный догадкой. Наконец он прошептал:
— Боже мой, Боже! Так она могла полюбить меня, раз не любила Камилла?..
LIII ГЛАВА, ГДЕ КАЖДЫЙ НАЧИНАЕТ РАЗБИРАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В СОБСТВЕННОМ СЕРДЦЕ, НО И В СЕРДЦЕ ДРУГОГО
С этого дня простые и сердечные отношения между Коломбаном и Кармелитой стали холодными и натянутыми.
Кармелита понимала, что в разговоре с Коломбаном позволила себе лишнее.
Коломбан боялся, что ослышался.
Он все так же верил в возвращение Камилла; он держался с Кармелитой почтительно, и только; он избегал щекотливых разговоров и был прав: у Кармелиты почти вырвалось признание.
Коломбана страшила мысль, что он с каждым днем все больше любит Кармелиту.
Что же с ним стало бы, если бы он узнал, что любим?
Да он в ту же минуту сбежал бы из Парижа, вернулся бы в Бретань.
А пока проходили дни, недели, месяцы, но согласие от отца Камилла все не приходило. Коломбан с Кармелитой по-прежнему получали от креола письма, нежные, порой даже страстные, но ни о чем другом в них не говорилось.
Однажды утром принесли письмо от его брата.
Камилл тяжело заболел.
Кармелита выслушала эту новость почти с таким же равнодушием, с каким получала другие письма.
Болезнь продолжалась три месяца.
Все мы знаем, какие чувства испытывает выздоравливающий после того, как болезнь иссохшей, лихорадочно горячей рукой показала ему приоткрытую дверь склепа.
Первые его слова, вернее, радостные крики, — это хвала Богу всемогущему, родным, друзьям, тем, кого он любит или даже любил; дурные чувства гаснут, добрые — крепнут; можно подумать, что, отступая, лихорадка не только уносит все гнилое и вредное из тела, но и выкорчевывает сорняки из сердца, превращая его в нетронутую плодородную землю, и на ней всходят новые, ароматные цветы. Серьезная болезнь — как промежуточная станция между жизнью и смертью, нечто вроде вынужденной остановки, во время которой душа, совершенно освободившись от телесной оболочки, парит над человеческими страстями, — так розенкрейцеры поселялись на горных вершинах, чтобы напрямую общаться с духом Божьим.
Комната выздоравливающего — это святилище, подобное тому, в котором произошла метаморфоза со старым Эсоном: прежний человек исчез, а пришедший ему на смену сосредоточенно думает; в такие минуты дурные люди становятся лучше.
Возвращающийся к жизни человек сродни появившемуся на свет младенцу: все его радует, все веселит его сердце, он тянется ручонками к любому человеку, которого видит, как к доброму другу; долго сдерживаемая нежность столь же чиста и неудержима, как вода, прорвавшая плотину, и никакое препятствие не в силах ей противостоять.
Перед этим великолепным и бурным извержением, боясь помешать ему, пасуют родственники, друзья, случайные свидетели; они готовы обещать что угодно, даже то, что впоследствии оказывается невыполнимо.
Какой отец откажет ребенку в погремушке, к которой тот тянет ручки?
Вот так и Камилл: как только он пошел на поправку, ему удалось добиться от отца и всех родственников согласия на брак с Кармелитой; об этом Камилл и поспешил написать пространное письмо. По-видимому, он не вполне оправился после горячки — письмо вышло очень страстное, оно так и излучало любовь, и добрый Коломбан подал его Кармелите со слезами на глазах.
— Вот видите, Кармелита, — заметил он, — я не ошибся!
Однако Кармелита думала иначе: в восторженных словах, в любовных признаниях она угадывала следы перенесенной горячки, видя в этом послании всего лишь яркую радугу — недолговечное дитя грозы, исчезающее вместе с ней. И потом, ей было совершенно безразлично, любит ли ее Камилл. Довелись ему снова заболеть, Кармелита пальцем не шевельнула бы, чтобы ему помочь. Ей, пожалуй, нельзя было приписать хладнокровие палача; скорее всего, в ее поведении можно было усмотреть мужество судьи: про себя она уже вынесла приговор.
Самой большой радостью для нее было бы не получать больше от креола писем, не слышать о нем ни слова, забыть даже его имя.
Она всем сердцем любила Коломбана, была полна раскаяния и угрызений совести. Когда Кармелита увидела, как он печален и в то же время горд тем, что его друг оказался порядочным человеком, она едва не бросилась Коломбану на шею и не призналась ему в своей любви; но бретонец глядел так хмуро, что она не осмелилась и молча вернулась к себе.
Любовь к Коломбану, с каждым днем все сильней овладевавшая ею, была уже не просто любовью; это было нечто большее — преклонение перед высшим, почти божественным существом.
Если бы Коломбан заметил, как она рассматривает его украдкой, как пожирает его глазами, он все понял бы, как ни был он прост и скромен.
Оставаясь наедине, они испытывали неловкость, однако для обоих это были минуты несказанного блаженства.
Когда Коломбан читал — обычно какую-нибудь оду Гюго или поэму Ламартина, — Кармелита, сидя на диване, то подавалась всем телом вперед, то выпрямлялась, наконец ложилась и следила взглядом за молодым человеком, похожая на молодую львицу, готовую вот-вот наброситься на льва — предмет ее страстных любовных игр.
Когда Кармелита пела — либо "Рnа che spunti l’aurora"[24]неаполитанского маэстро, либо "Жар в крови" Гретри, — Коломбан чувствовал стеснение в груди; он впадал в восторженное состояние и словно воочию видел, как каждая сверкающая нота, подобно зажженной на земле ракете, взлетала к небесам, рассыпалась фейерверком и угасала. В любви Коломбан был робок и почтителен, будто женщина. Он жизнь был готов отдать за то, чтобы только почувствовать на своем лице божественное дыхание Кармелиты, исходящую от нее небесную гармонию; о поцелуе он не мог и помыслить!
В полночь или около часу ночи молодые люди желали друг другу спокойной ночи, Коломбан возвращался в павильон, Кармелита запирала за ним (или делала вид, что запирает) дверь; едва шум его шагов замирал на лестнице, Кармелита снова отворяла дверь, подбегала к окну в коридоре, смотрела, как молодой человек идет через сад, и, не спуская глаз с освещенных окон павильона, порой просиживала так до рассвета, не в силах справиться со снедавшей ее любовью; она уходила, только когда в окнах Коломбана гас свет.
Не раз она, словно в лихорадке, следовала за ним и дальше. Теплыми летными ночами, когда звезды освещали путь или, точнее, едва рассеивали темноту, Кармелита на цыпочках спускалась по лестнице, пугливо озиралась, выходила в сад, забиралась в чащу, чтобы перевести дух, а потом, подобно печальной фее или ундине, чья белая тень вышла из могилы и жалобно бродит возле дома своего возлюбленного, она ходила кругами у павильона Коломбана.
Будто охваченный таким же чувством, Коломбан порой отворял дверь, и тоже выходил в сад, всей грудью вдыхал ночной воздух и садился на ту же скамейку, где он поджидал Камилла после своего возвращения из Бретани. Там он сидел неподвижно, не сводя глаз с окна коридора, через которое его взгляд мог, казалось, проникнуть в комнату любимой.
Тогда Кармелита бесшумно, медленно, сдерживая дыхание, переходила от дерева к дереву; она пожирала взглядом молодого человека до тех пор, пока он не возвращался к себе, так и не зная, что душа его любимой, будто блуждающий огонек, целый час была с ним рядом.
Однажды зимней ночью — уже выпал снег, и Кармелита не посмела выйти в сад, опасаясь оставить следы на пушистом снежном покрывале, — она стояла в коридоре у окна, следя взглядом за лампой Коломбана, не заботясь о том, тепло ей или холодно, — огонь не согрел бы ее ледяных рук, снег не охладил бы ее пылающего лба. Вдруг дверь павильона распахнулась, бретонец крадучись, как часто делала она сама, вышел в сад, направился к дому и взошел на крыльцо.
Кармелита хотела было убежать к себе.
Но любопытство одержало верх. И потом, отворяя и затворяя дверь комнаты, она выдала бы себя.
Тогда она спряталась за шторой и стала ждать.
Заскрипели ступени: Коломбан поднимался по лестнице. В самом деле, спустя несколько мгновений его тень мелькнула на верхних ступенях и медленно двинулась по коридору.
Молодой человек прислонился к стене напротив комнаты Кармелиты и замер, будто опасаясь быть услышанным.
Подойдя ближе к комнате девушки, он остановился, опираясь о стену, сдерживая дыхание и не сводя с двери глаз, словно видел сквозь нее.
Время от времени он отнимал руку от груди и смахивал слезу.
Кармелита был потрясена. С какой целью он подошел к ее комнате? Может быть, затем же, зачем она сама так часто подходила тайком к его павильону? Какие слезы он мог проливать, если не обжигающие слезы любви, не горькие слезы сожаления?
И действительно, тихие слезы Коломбана скоро перешли в рыдания.
Кармелита обеими руками зажала рот, чувствуя, как с ее губ готов сорваться крик: "Я люблю тебя, люблю тебя!"
В то же время она лихорадочно, сто раз в минуту, в такт . быстрому биению сердца, про себя повторяла: "Слава Богу! Он меня любит! Любит! Любит!"
О, как неудержимо хотелось ей броситься Коломбану на шею и крепко прижаться к его груди! Но она вдруг представила себе строгое лицо бретонца и сдержалась; воля остановила желание, как до этого рука зажала рот.
Она был права: Коломбан мог доверить таинственной ночной тишине свою печаль, свои сожаления, свою любовь. Он мог жаловаться одиночеству, считая его немым и слепым, на трудность своего долга; но пренебречь этим долгом, но во всеуслышание объявить о своей тайне, которую выдавали его молчаливые слезы, — нет, это было невозможно!
И Кармелита решила таить в себе эту неожиданную, несказанную, бесконечную радость, не давая ей вырваться наружу.
А Коломбан простоял у ее двери около часу, потом опустился на колени, поцеловал порог, со вздохом поднялся и медленно вышел.
Кармелита провожала его взглядом до тех пор, пока он не вернулся в павильон, и только тогда, упав на колени, решилась вслух повторить то, что все время твердила про себя:
— Слава Богу! Он меня любит! Любит! Любит!..
LIV АСИМПТОТИЧЕСКИЕ ДУШИ
Кармелита была счастлива. Она провела такую же ночь, как тогда, весной, когда вместе с Коломбаном они выкопали розовый куст, выросший меж могильных камней.
Итак, Коломбан ее любит!
Этот серьезный и сильный человек, при взгляде на которого Кармелита испытывала робость, был способен на нежное и почтительное чувство, был подвержен детским слабостям любви! Но от других людей он отличался тем, что нежность его была целомудренна и он хранил ее, скрывая от всех.
Кармелите открылась его тайна, и это оказало на нее столь же благотворное действие, какое оказывает ливень на иссушенную землю. На следующий день Коломбан, не зная причины такого преображения, был удивлен, видя, что девушка снова повеселела.
Кармелита теперь знала, чем ей заняться. И дни стали казаться ей слишком короткими, а ночи — непомерно долгими.
Жизнь больше не казалась Кармелите бесконечной цепью томительных часов: у нее появилась цель.
С этого времени счастье, лишь случайно заглядывавшее в их дом, — как незнакомец, что по ошибке толкнулся в вашу дверь и уже занес ногу, готовый бежать прочь, — с этого времени счастье смело поселилось у них, обитая то в комнате Кармелиты, то в павильоне Коломбана, а порой тут и там одновременно.
Однако это счастье, не имея общего источника, проявлялось у молодых людей по-разному.
Для Коломбана было несказанным очарованием любить девушку глубоко и тайно, скрывая даже от нее свое чувство. Его любовь отчасти напоминала то восторженное обожание, с каким древний христианин молился на свою мадонну; в его чувстве было больше почитания и поклонения, чем любви, стремящейся к обладанию; скорее это было сочетание любви и благоговения.
Молодой бретонец был по-настоящему счастлив, когда запирался у себя; в присутствии же Кармелиты он трепетал. Оставшись наедине со своими мыслями, он прикрывал глаза рукой и погружался в мечты; с высоты этого уединения, словно с вершины горы, перед ним развертывались картины невыразимого блаженства, подобные цветущим лугам и плодородным равнинам.
Но к его радости, его счастью, его обожанию примешивалась боль, родственная угрызениям совести; раз двадцать за ночь Коломбан просыпался от нестерпимой сердечной боли: ему не давала покоя совесть.
Стонущая тень преданного им Камилла выступала из темноты, словно привидение из могилы, и замирала у изголовья бретонца. Тогда Коломбан был готов броситься к ногам Кармелиты и признаться в своей любви, но не с радостью, а словно исповедуясь в грехе.
А Кармелита, свободная от укоров совести, уверенная, что она любима, не однажды выходила из своей комнаты с твердым намерением отправиться к Коломбану и сказать ему: "Ты меня любишь, Коломбан!.. Я тоже тебя люблю!"
Если бы они встретились в такую минуту, несомненно, признание сорвалось бы с их губ.
Но каждый из них, едва пройдя несколько шагов, возвращался назад, сдерживаемый целомудренной стыдливостью.
Одним словом, подобно линиям, зовущимся в геометрии асимптотами, — отсюда и название этой главы! — линиям, которые стремятся друг к другу, но никогда не пересекаются, даже будучи продолжены до бесконечности, душам Кармелиты и Коломбана было суждено сгорать от любви, но так и не соединиться.
Впрочем, блаженство, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой все больше переполнявшее их сердца, грозило вот-вот выплеснуться через край.
Однажды, после того как Кармелита провела ночь в томительном беспокойстве, она увидела, как Коломбан, расставшийся с ней накануне лишь в полночь, входит в дом; бретонец был бледен, но смотрел веселее обычного.
Она поняла, что на этот раз ему удалось справиться с сомнениями, что он принял решение, что он готов признаться в любви.
Она радостно вскочила, порхнула ему навстречу и усадила его рядом с собой на диван.
Но в эту минуту на пороге двери, остававшейся открытой, появилась садовница с письмом в руке.
— Мадемуазель! — проговорила Нанетта. — Письмо от господина Камилла!
Кармелита пронзительно вскрикнула и схватилась за сердце.
Коломбан откинулся назад и еще сильнее побледнел.
Видя, что никто из них не отвечает, садовница положила письмо Кармелите на колени.
Девушка первая оправилась от удара. Из них двоих она была если и не сильнее, то, по крайней мере, решительнее.
Она все взяла в свои руки.
Итак, она вздохнула, покачала головой, распечатала письмо и прочла; потом она протянула его Коломбану и приказала: "Прочтите!" Пока он читал, она не сводила с него глаз.
Казалось, невозможно было побледнеть сильней, тем не менее он стал еще белее.
Сначала про себя, а потом вслух он прочитал следующие строки:
"Дорогая Кармелита!
Я, наконец, получил согласие отца, тетушек и всех родных. Седьмого числа будущего месяца я приеду в Париж.
Камилл".
Никогда еще осужденный на смерть, читая собственный приговор, не чувствовал себя столь раздавленным, как бретонец, ознакомившись с письмом друга.
Облокотившись на спинку дивана, Кармелита пылко и пристально смотрела на Коломбана, ловя его взгляд.
Но, вместо того чтобы поднять глаза, молодой человек их закрыл, а из-под ресниц его хлынули слезы.
— Что с вами? — ласково спросила Кармелита. — Почему возвращение друга до такой степени вас ошеломило?
— Ах, Кармелита, Кармелита! Не спрашивайте меня! — вскричал бретонец.
— Коломбан! — продолжала она. — Почему вы так бледны, почему вы плачете?
— Потому что я умираю, Кармелита! — воскликнул молодой человек, терзая жилет на груди, словно ему не хватало воздуха.
— Вы умираете, Коломбан, — безжалостно продолжала девушка, — потому что любите меня, не так ли?
— Я?! — вскричал Коломбан, широко раскрыв глаза. — Я вас люблю?!
— Да, — просто отвечала Кармелита. — Почему бы и нет? Я ведь тоже вас люблю!
— Замолчите! Замолчите, Кармелита!
— Я и так слишком долго молчу, как, впрочем, и вы! Мы слишком долго скармливаем наши сердца гложущему их змею!
— Кармелита! — вскричал Коломбан. — Я ничтожество!
— Нет, Коломбан, вы великодушны. Просто долгое время вы одерживали победу, теперь ваша крепость пала.
— О Кармелита, Кармелита! — пролепетал Коломбан. — Простите ли вы меня когда-нибудь?
— Что я должна вам простить, если я вас люблю, если я всегда вас любила?
— Молчите, Кармелита! — перебил ее Коломбан. — Вы однажды уже сказали это, и мне достало сил не слышать этого.
— В таком случае, — выходя из себя, закричала Кармелита, — повторяю вам: я вас люблю, Коломбан! Я вас люблю! Люблю!
— Кармелита! Кармелита! Я вас слышу! И ваше дыхание меня обжигает, а ваши слова приводят меня в трепет.
Неимоверным усилием воли он стряхнул с себя очарование и, шатаясь, двинулся прочь со словами:
— Сестра моя, сестра моя! Мы оба виноваты; попросим Господа послать нам силу и смирение, чтобы искупить вину.
— Что вы разумеете под смирением, мой друг?
— Вы отлично меня понимаете, Кармелита.
— Нет, клянусь вам, я не понимаю! Уж не хотите ли вы сказать, что я выйду замуж за Камилла?
— Придется!
— Чтобы я вышла за Камилла, любя вас и зная, что вы любите меня?
— Так нужно! Так нужно! — с отчаянием в голосе вскричал Коломбан.
— Почему так нужно? Скажите же, Коломбан! — продолжала настаивать девушка. — Перед кем я отвечаю в этом мире за свою любовь? Я одинока, слава Богу! Следовательно, я единственный судья себе и только сама могу оценивать свое поведение.
— Заблуждаетесь, Кармелита, его будут оценивать общество и Господь — ваш высший судья.
— Объясните, Коломбан, каким образом общество может меня принудить сделать несчастными двух человек, а также и меня самое, если я выйду замуж за нелюбимого во вред возлюбленному? Как Господь может вменить мне в обязанность то, что противно не только моей душе, но и моей совести? Разве я поступала по законам общества, когда пала? Скатываясь в пропасть, где меня ожидали Камилл и страдание, я протягивала руки к Господу и звала на помощь. Отчего же Господь меня не удержал?
— Вы кощунствуете, Кармелита!
— Я не кощунствую, Коломбан, я вас люблю!
— Кармелита! Не будем принимать наши желания и инстинкты за наши права и обязанности... Сами посудите, куда нас это завело!
— Это упрек, Коломбан?
— О! — падая к ее ногам, вскрикнул молодой человек. — Накажи меня Господь, если я этого хотел! Для меня, Кармелита, вы самая желанная женщина и чисты, как Ева в день своего сотворения.
— Коломбан! Коломбан! — воскликнула Кармелита, снова опускаясь на диван; она положила руки бретонцу на голову, и он уткнулся лицом ей в колени. — Я сейчас не говорю ни о своих правах, ни об обязанностях, я прислушиваюсь к тому, что подсказывает мне сердце... Я не боюсь кары Господней и человеческой и знаю, что ответить людям и Богу, лишь бы меня не винили вы, мой друг.
— Неужели вы думаете, Кармелита, — прошептал готовый сдаться молодой человек, — что я забуду клятву, данную Камиллу? Но даже если бы я не давал клятву, разве я могу предать Камилла? Вот почему я сказал, что надо просить у Господа силы и смирения.
— Никогда! Никогда, Коломбан! — страстно вскричала девушка.
— Кармелита! Кармелита!..
— Вы хотите, чтобы я попросила Господа отнять у меня то единственное, ради чего я живу, лишив меня любви и наградив вместо нее сомнительной и бесплодной добродетелью — смирением? Разве вы не знаете, что без вас, без вашей любви я уже умерла бы или постриглась в монахини? Я так и хотела поступить в тот день, когда уехал Камилл; я тогда же развеяла по ветру и втоптала в грязь цветы с нашего розового куста. Но, благодаря вам, благодаря любви к жизни, которую вы мне вернули, я отказалась от этих планов... И вы хотите, чтобы я забыла, что вы меня спасли, Коломбан?
— А за это вы хотите погубить меня вместе с собой, Кармелита?
— Разве это гибель, страдание, смерть, когда умирают, страдают, гибнут вместе?
— Кармелита! Небом вас заклинаю!..
— Коломбан! Знайте, что я перестану о вас думать в этом мире, только когда перейду в мир иной, но и там я не забуду о вас ни на мгновение!
— Что же делать? Что делать?
— Ну, наконец, вы начинаете рассуждать здраво! — заметила Кармелита и усмехнулась так, что Коломбан затрепетал. — Что делать? Вот именно — что делать?.. Я уже давно над этим думаю.
— Говорите скорее! Говорите! — попросил Коломбан; он все еще стоял на коленях, обхватив руками голову, словно боялся, что сходит с ума.
— Одно из двух, Коломбан...
— Продолжайте, продолжайте!
— Оставить этот дом, убежать за границу, на край света, в Индию или на один из островов Океании, позабыв обо всех и всеми забытые...
— Или?.. — спросил Коломбан, и стало ясно, что это предложение он отвергает.
— ...или умереть, Коломбан! — твердо закончила Кармелита.
— О! — только и вымолвил бретонец, низко опуская голову.
— Раз мы не можем соединиться в этой жизни, — продолжала Кармелита, — давайте встретимся хотя бы после смерти!
— Вы богохульствуете, Кармелита!
— Не думаю... Во всяком случае, Коломбан, я предпочитаю обречь себя на вечные муки рядом с вами, нежели хоть на время связать свою судьбу с ним.
— Невозможно, Кармелита, невозможно!
— Отлично! Сильный позволяет себе слабость... Стало быть, слабой женщине придется стать сильной вдвойне.
Коломбан поднял голову.
— Я не могу принадлежать вам, потому что вы от меня отказываетесь, Коломбан, — продолжала Кармелита, величаво взмахнув рукой, — я не могу принадлежать ему, потому что отвергаю его. Тогда завтра я уйду в монастырь... Боже мой! Прими меня! Вручаю себя твоей воле!
— Кармелита! Кармелита! Рядом с вами я в самом деле чувствую себя слабым!
— Друг мой! Вы ангел самоотречения, воплощение доброты и долга!
— Нет, нет, я вас люблю безумно, страстно! Я сделаю все, что вы пожелаете, Кармелита, все, все!
Девушка грустно улыбнулась; она одержала верх: Коломбан был повержен, лежал у ее ног и говорил "Я вас люблю!".
— Решение серьезное и стоит того, чтобы вы поразмыслили, Коломбан, — ответила девушка. — Я с вами говорю как одинокое, всеми брошенное существо, вслед за родителями готовое сойти в могилу. Вы же последний отпрыск знатного рода, вы носите громкое имя, у вас есть любящий отец... Подумайте об отце! Завтра вы дадите мне ответ.
— До завтра, Кармелита.
— До завтра, Коломбан.
И молодые люди расстались, обменявшись сердечным и дружеским рукопожатием.
LV РЕШЕНИЕ
Описанная нами сцена происходила накануне последнего дня масленицы 1827 года.
Следующий день наступил с неизбежностью, свойственной часам (будь то часы печальные или радостные), когда стрелки дважды обегают циферблат.
Утро было туманное и мрачное — более подходящее для дня Усопших, нежели для последнего дня масленицы. В самом начале этой книги мы видели, как он закончился; помните, мы повстречали Жана Робера, Людовика и Петруса, когда они брели по ночному Парижу? Давайте посмотрим, как тот день начинался.
Сыпал мелкий дождик, дул ледяной ветер, небо было серо, мостовая почернела от сырости. Стоял один из тех пасмурных зимних дней, когда человеку не по себе, где бы он ни находился: за фортепьяно, за книгой; поэту неуютно перед чистым листом бумаги, а художнику — перед незаконченным полотном. В такой день быть одному — скучно, вдвоем — еще тоскливее; кажется, душа цепенеет подобно тому, как коченеет тело, и человек нигде не находит себе места, тщетно пытаясь укрыться в каком-нибудь уголке своего кабинета или любимой комнаты. В такой день чувствуешь себя мрачным и больным, словно ветер с кладбища забирается в дом сквозь щели запертых дверей и окон. В такой день дрожишь без всякой причины, сидя у камина и наглухо задернув тяжелые шторы. Сырость неведомо как проникает в дом и берет вас за горло, а вы, словно в кошмаре, не в силах ей противиться. Наконец, в такой день человек тщетно силится стряхнуть с себя чувство тревоги, не столь опасное, как болезнь, зато более утомительное; он опускает руки, ожидая, когда оно пройдет само собой, понимая, что любое лекарство бессильно.
Итак, утром последнего дня масленицы 1827 года юноша и девушка встретились в павильоне Коломбана.
В очаге пылала сухая виноградная лоза. Но как по вечерам бывает весело смотреть на огонь, так утром он навевает грусть, если вы успели увидеть солнце, хотя бы оно выглянуло из-за туч всего на мгновение. Тогда огонь воспринимается как неудачная копия, нелепая подделка солнца. Огонь уже не поет, не светит, он едва согревает.
Молодые люди сидели вдвоем у камина — печальные, молчаливые, задумчивые; время от времени они перебрасывались несколькими словами, будто осужденные на смерть в ожидании палача.
Наконец Кармелита не выдержала и первой заговорила о том, что занимало в эту минуту их обоих.
— Вот и завтра наступает!
— Вот и завтра!.. — повторил Коломбан.
— А мы еще ничего не решили наверное, друг мой, — продолжала Кармелита.
— Отчего же нет, — помолчав с минуту, возразил Коломбан. — Мое решение принято.
— В таком случае, мое — тоже, — протягивая руку бретонцу, подхватила девушка.
— Я умру! — сказал Коломбан.
— Я умру! — сказала Кармелита.
Коломбан изменился в лице.
— Вы твердо решили, Кармелита? — дрогнувшим голосом переспросил он.
— Да, Коломбан, — уверенно ответила она.
— Вы умрете без сожаления?
— С радостью, со счастьем, с восторгом!
— Да простит нам Господь! — промолвил Коломбан.
— Господь нас уже простил, — проговорила девушка, подняв к небу доверчивый взгляд.
— Хорошо, — продолжал Коломбан, — давайте разойдемся ненадолго, прежде чем соединиться навсегда. А перед смертью пусть каждый из нас побудет наедине со своими мыслями.
— Вам нужно кое с кем проститься, мой друг, — заметила Кармелита.
— Да, я напишу отцу и Доминику.
— А я — трем подругам по пансиону, трем моим сестрам из Сен-Дени.
Молодые люди крепко пожали друг другу руку и разошлись: Кармелита удалилась в свою комнату, Коломбан остался в павильоне.
Вот что написал Коломбан своему отцу, старому графу Эдмону де Пангоэлю:
"Дорогой и высокочтимый отец!
Простите мне боль, которую я собираюсь Вам причинить. Хотя мое решение твердо и ничто в мире не сможет меня заставить от него отказаться: ни Ваша любовь ко мне, ни моя признательность Вам — я сомневаюсь, я медлю, я собираюсь с духом, прежде чем вывести эти строки.
Любимый отец! Уважаемый, дорогой, высокочтимый мой отец! Простите, простите меня!
Я отказываюсь от жизни, которую Вы мне даровали. Вы с самого моего детства меня учили больше всего остерегаться людского презрения — в смерти я ищу спасения от этого презрения.
Когда Вы получите это письмо, дорогой отец, Ваш несчастный Коломбан уже будет мертв: прислушавшись к Вашим советам, он готов скорее отказаться от жизни, чем нарушить долг.
Не подумайте, что я сдался, о благородный отец! Не сомневайтесь во мне ни на мгновение! Если бы я сдался, то, вместо того чтобы бежать из этого мира, я публично покаялся бы в своем грехе, выставив его на всеобщее обозрение.
Я сопротивлялся, сражался, боролся, ведь у меня перед глазами все время стояло Ваше отчаяние.
Я был близок к поражению и предпочел смерть. Помните, любимый отец, наши прогулки по берегу моря? Однажды свирепой волной раскололо надвое огромную скалу, незыблемо возвышавшуюся со дня сотворения земли. Глядя на разбитую, поверженную скалу, Вы рассказывали мне о разрушительных катаклизмах и земных революциях и при этом указывали на обломки гранита, перекатывавшиеся в волнах, словно куски пробкового дерева. Вы объясняли мне, что означает великая битва между живыми существами и неживой материй. Вы рассказали о том, что титаны Господа, фурии и великаны теогонии были не что иное, как потухшие вулканы; Вы приказывали мне склониться перед этой непрекращающейся борьбой между силами природы.
Я склоняюсь, отец: ураган страстей исчерпал мои силы, волна человеческих скорбей накрыла меня с головой, и душа моя угасла.
Я склоняю голову, я умираю.
Помните, любимый отец, слова из ‘Подражания Иисусу Христу ", которое мы вместе читали зимними вечерами? О сладкие дни моей юности, невозвратное время, пролетевшее в нашей старой фамильной башне!
‘Ведите себя на земле как путешественник или чужеземец, не заинтересованный в том, что происходит в этом мире ", — вот что говорилось в святом "Подражании ".
Досточтимый отец! Я как путник тридцать лет бродил среди чужих и, вместо того чтобы принимать участие в делах этого мира, без сожаления расстаюсь с земной обителью и буду Вас ждать на небесах.
Я умираю со спокойной совестью, и я бы даже сказал, с радостью в сердце, отец, однако боюсь этим оскорбить Ваши чувства.
На коленях, с молитвенно сложенными руками и разбитым сердцем молю Вас, обожаемый отец: простите, что я причиняю Вам горе. Но Вы так меня любили и поймете своего сына. Для меня жизнь превратилась в великое страдание, а смерть представляется огромным счастьем.
Ваш неблагодарный сын
Коломбан де Пангоэль".
Следы от слез, крупные, словно капли грозового дождя, виднелись на последней странице этого письма, написанного неуверенной рукой. Почерк был крупный, характерный для дворянина.
Не запечатывая письма, Коломбан отодвинул его в сторону и принялся за другое — к Доминику Сарранти.
Оно было составлено в следующих выражениях:
"Брат мой!
Я умираю! К Вам я обращаюсь как к другу, к Вам я обращаюсь как к священнику.
Я нуждаюсь и в друге и в священнике.
Я обращаюсь к священнику.
Брат мой, не произносите над моим телом жестокой хулы: "Самоубийца никого не любит "; я, напротив, умираю потому, что любил слишком сильно!
У меня перед глазами книга, в которой самоубийство предается анафеме; в ней говорится о том, что в животном мире ни одна особь не рвет собственные внутренности, ни один зверь не лишает себя жизни.
Да, несомненно, животные слепо повинуются Создателю, только человек восстает против его воли. Однако Господь наделил животных лишь инстинктом, а человеку он дал страсть — в этом заключается секрет неповиновения человека и покорности животных.
И потом, скажите, брат мой, разве человек восстает против Бога, если добровольно отправляется к нему?Меня можно было бы считать восставшим против Бога в том случае, если бы я жил долее, проклиная жизнь и, может быть, того, кто эту жизнь мне даровал, не так ли ? Нет, отказываясь от жизни, я лишь предвосхищаю приговор природы: жизнь и смерть — два из ее законов. К жизни — один-единственный путь, к могиле — тысячи дорог, и все они ведут нас к вечности. Господи! Я не могу обвинять тебя в своих несчастьях, это я знаю. Виной тому — мои страсти, исходящие от тебя, ведь я получил их вместе с жизнью в тот день, когда моя душа покинула твою десницу и спустилась с небес на землю, дабы оживить новорожденного. Страсти никогда не одолели бы меня, если бы ты не наделил их силой; стало быть, уступая им, я покоряюсь тебе! И потом, ты не определил продолжительность человеческой жизни; всем суждено родиться, жить, умереть — вот и все твои законы. А когда и какой смертью я умру — какое это имеет значение?
О природа, вечная мать, убивающая и плодоносящая! Моя смерть не укроет от тебя ничего из того, чем ты меня наделила. Мое тело — ничтожная частица огромного целого — сольется с тобою и будет продолжать существовать в новом качестве; моя душа либо умрет вместе со мной и станет чем-то иным в огромной массе всего сущего, либо обретет бессмертие, и ее божественная сущность в этом случае останется нетронутой. Мой разум, долгое время подчинявшийся вере, более не поддается влиянию софизмов; я слышу глас Божий, он говорит мне: "Человек! Я тебя создал, чтобы ты своим счастьем мог соперничать со всеобщим благоденствием и чтобы ты мог его достичь с большей уверенностью, наделил тебя любовью к жизни и страхом смерти; но если горести в твоей душе возобладали над радостями, если пути, которые я перед тобой открыл, чтобы ты мог избежать несчастий, неуклонно приводят тебя ко все новым страданиям, то кто принуждает тебя к благодарности, раз жизнь, которую я дал тебе как благодеяние, стала для тебя источником несчастий?"
Безумец! Какая самонадеянность! Мне кажется, я нужен миру! Моя жизнь всего лишь неуловимый атом в бесконечном пространстве времени. Я не знаю, отчего и почему я появился на свет; я не знаю, что такое этот свет, что такое я сам, и когда я бреду наугад, тщетно пытаясь заглянуть за горизонт, я возвращаюсь в смущении оттого, что знаю меньше прежнего! Я не знаю, что такое мое тело, мои чувства, моя душа; я не знаю, какая часть меня думает о том, что я пишу в эти минуты, размышляет обо всем вообще и о себе самой, но так никогда и не познает истины; наконец, я пытаюсь измерить мыслью необъятные просторы окружающего меня мира — я будто привязан к одному уголку непостижимого пространства и не знаю, почему я нахожусь именно здесь, а не где-нибудь в другом месте; почему краткий миг моего существования, подобный вспышке во тьме, принадлежит именно этому, не другому часу вечности. С какой стороны ни взгляну, я вижу лишь бесконечность, поглощающую меня, словно мельчайшую частицу!
За восемь последних лет прошлого столетия, а также за пятнадцать первых лет этого века погибло четыре миллиона человек во имя нескольких столбов, именуемых государственной границей, а также во славу человека, которого называют завоевателем. Так неужели я побоюсь посвятить себе самому и женщине, ради которой и вместе с которой я умираю, те немногие дни, что мне остались на земле? Согласитесь, брат мой, что это было бы глупо, нелепо, нелогично с какой угодно точки зрения.
Вот что я хотел сказать священнику, мыслителю и философу. Зная, сколько я выстрадал, священник вознесет за меня ко Господу свою чистую и беспристрастную молитву. И хотя мы умрем не по-христиански, священник прочтет над нашими телами молитву или, по крайней мере, простится с ними, перед тем как их опустят в могилу.
Теперь я обращаюсь к другу.
Славный мой Доминик! Дорогой друг! Завтра утром, как только получишь это письмо, отправляйся в Ба-Мёдон. Ты знаешь, где я живу; когда войдешь в дом, увидишь на кровати трупы молодого человека и девушки, пожелавших умереть, чтобы не краснеть за свою слабость ни перед людьми, ни перед Господом.
Дорогой друг! Тебе, тебе одному я доверяю последнюю заботу о нашем погребении.
Мы не могли жить вместе в этом мире; мы не могли ни жить одной жизнью, ни спать на одном ложе. Мы хотели бы, по крайней мере, лежать в одном гробу, и лежать вечно.
Закажи же гроб побольше, дорогой Доминик, чтобы мы оба в нем поместились. Оборви последние цветы с розового куста, который стоит в нашей комнате, и возложи их на нас. Вот и все, что нам нужно; помолись за нас.
Я оставляю на земле человека, которому ты необходим; я имею в виду моего отца.
Как только ты исполнишь последний долг перед сыном, поспеши в Бретань, ведь тебя ничто не держит в Париже, не так ли? Ты застанешь моего отца в слезах; не пытайся его утешить, лучше поплачь вместе с ним.
Прощай, дорогой друг! Завтра в это время люди, мнению которых я приношу себя в жертву, окажутся бессильны что-либо изменить: мы с Кармелитой падем ниц пред Господом.
Твой друг, больше чем друг — твой брат Коломбан де Пангоэль".
Коломбан запечатал оба письма, надписал адреса. На письме, предназначавшемся отцу, он сделал пометку:
"Отправить почтой".
На конверте Доминика Сарранти он приписал: "Отнести завтра до семи часов утра".
LVI СОЛОВЬИНЫЙ ВЫВОДОК
Тем временем Кармелита писала письмо трем подругам по пансиону Сен-Дени:
"Регине, Лидии, Фраголе.
Прощайте, сестры!
В Сен-Дени мы поклялись, что, несмотря на разницу в нашем общественном положении, мы будем любить, защищать друг друга, помогать подругам всю нашу жизнь, как мы привыкли делать в пансионе; мы условились, что в случае опасности каждая из нас явится на зов, где бы она в это время ни находилась.
Сестры! Пришло время сдержать мою клятву: я зову вас на помощь; сдержите и вы свою — придите ко мне!
Придите в последний раз коснуться губами хладного лба той, что была вашей подругой на земле. Придите! Я умираю с мыслью о вас, я жду вас.
Покидая этот мир, я открою вам тайну своего внезапного ухода.
Сестры! Я была бы недостойна вашей дружбы, если бы считала, что моя беда поправима, и не обратилась бы к вам за помощью. Увы!Моя рана смертельна, и ваша любовь бессильна.
Не жалейте меня, сестры! Скорее можно мне позавидовать, ведь я умираю так, как иные живут: с радостью, с восторгом, с ощущением счастья!
Я люблю! Если вы сами любили когда-нибудь, вы поймете меня. Если же до нынешнего дня вам неведомо это чувство, вы поймете меня позднее. Я люблю своего избранника, мужчину моей мечты. В нем счастливо сочетаются душевная теплота, внешняя привлекательность, добродетель — иными словами, то, что каждая из нас мечтала бы видеть в герое своего сердца.
Я не могу быть с ним вместе в этом мире, и потому нынче вечером мы обручимся, а навеки соединимся уже в мире ином.
Этой ночью мы умрем, и если завтра вы приедете пораньше, до того как смерть наложит на наши лица свой неизгладимый отпечаток, вы увидите самых красивых жениха и невесту, каких когда-либо носила земля.
Не плачьте о нас, не смущайте наш покой своими слезами: никогда еще Господь не принимал души более ликующие и чистые, нежели наши.
Прощайте, сестры!
Я жалею лишь о том, что не поцеловала вас перед смертью; меня утешит только мысль, что я, может быть, не устояла бы перед вашими слезами, а ваша нежная и преданная любовь ко мне заставила бы меня снова почувствовать любовь к жизни, тогда как теперь я с блаженством думаю о смерти.
Так не жалейте меня; лучше вспомните обо мне как-нибудь в ясную ночь, когда при свете луны, печальной подруги умерших, вы будете гулять под руку с возлюбленным, шепча бессвязные нежные слова, а я буду любоваться вами из-за серебристой кромки облаков.
Вспомните тогда, что однажды ночью, весной, и мне довелось провести восхитительные часы, слушая любовные речи и вдыхая аромат роз.
Вспомните обо мне, когда в одиночестве будете ожидать возвращения возлюбленного, прислушиваясь к малейшему шуму: стуку колес, скрипу двери; когда, в надежде охладить свой пыл, вы пойдете в его комнату, станете целовать книги, бумаги, вещи, которых касалась его рука, — вспомните, что я так же целовала по вечерам листья на садовой дорожке, по которой он проходил утром.
Прощайте, сестры!
Слезы застилают мне глаза при мысли, что я с ним расстаюсь; но я улыбаюсь, когда думаю, что последую за ним.
Будьте счастливы!
Вы заслуживаете всех радостей, которые вам сулило ваше беззаботное детство. Яне знаю, за что вы меня так любили, — я не заслуживала вашей дружбы.
Вы были веселы и беззаботны, я — серьезна и задумчива; вы приходили за мной на безлюдную тропинку, где я гуляла в одиночестве, и увлекали меня с собой к шуму, к играм; но я была лишней в вашем очаровательном трио; помните, однажды госпожа директриса увидела, как вы, обнявшись, гуляете втроем, она назвала вас "три Грации", а аббат сурово заметил: "Следовало бы сказать, сударыня: три Добродетели".
И это была сущая правда.
Регина воплощала собой Веру, Лидия — Надежду, Фрагола — Милосердие.
Прощай, моя Вера, прощай, моя Надежда, прощай, мое Милосердие! Сестры мои, прощайте!
Пусть моя смерть еще больше вас сблизит. Любите друг друга еще крепче, если это возможно: любовь — единственная отрада в этом мире! Постарайтесь прожить в любви, которая меня заставляет умереть. Ничего лучше я пожелать вам не могу: любовь — вот высшее блаженство.
Завещаю вам единственное свое достояние на этой земле, единственное свое сокровище — розовый куст, если только он не погибнет вместе с нами. Ухаживайте за ним по очереди, собирайте и храните его цветы, а 15 мая, в день моего рождения, все вместе принесите их ко мне на могилу.
Так я однажды весенней ночью сорвала все радости этого мира.
Попросите за меня прощения у госпожи директрисы. Помните, она меня называла своей прекрасной розовой птичкой. Скажите ей, что прекрасная розовая птичка испугалась охотника и улетела в лазурные кущи.
Это письмо вы найдете рядом со мной; кроме того, каждой из вас будет доставлена на дом симфония моего сочинения.
Думаю, я могла бы стать признанным музыкантом.
Эту пьесу я посвящаю вам троим, ибо, сочиняя ее, я думала о вас. Она называется "Соловьиный выводок".
Этим летом на моих глазах с дерева упало соловьиное гнездо: его сорвало грозой. Оказывается, птицам, как и людям, тоже угрожают! Это происшествие стало темой моей симфонии. Разучите ее и сыграйте в память обо мне.
Бедные птенцы! Они воплощают собой иллюзии, которые я питала всю свою жизнь, а они умерли, едва успев родиться!
Прощайте же!Я чувствую, как на глаза невольно навертываются слезы, а если они упадут на бумагу, буквы расползутся и вы не прочтете обращенные к вам слова любви.
Прощайте, сестры!
Кармелита".
Закончив это письмо, она написала еще три, в которых назначала встречу подругам на следующее утро в семь часов. Потом она позвала садовницу:
— Сегодня еще будут забирать почту? — спросила Кармелита.
— Да, мадемуазель, — отвечала Наннета. — Если вы поторопитесь, ваши письма будут отправлены нынче в четыре часа.
— А в котором часу их доставят в Париж?
— В девять вечера, мадемуазель.
— Это то, что нужно!.. Возьмите вот эти три письма и отнесите на почту.
— Слушаюсь, мадемуазель... Не будет ли других приказаний?
— Нет. А почему ты спрашиваешь?..
— Сегодня последний день масленицы.
— Праздник... — с улыбкой молвила Кармелита.
— Да, мадемуазель. Я договорилась с товарками; мы впятером-вшестером хотим отправиться в Париж, а там повеселимся на большом маскараде — его устраивают ванврские прачки... Если, конечно, я не нужна мадемуазель...
— Нет, можете отправляться в Париж.
— Спасибо, мадемуазель.
— Когда вы вернетесь?
— В одиннадцать, а то и позже: может, будут танцы. Кармелита снова улыбнулась.
— Повеселитесь от души, — сказала она, — возвращайтесь когда вам заблагорассудится: вы нам не понадобитесь.
Кармелите не только не нужна была в этот вечер садовница, но отсутствие последней входило в ее планы.
Они с Коломбаном останутся в доме одни; эта мысль вызывала у Кармелиты улыбку.
Садовница ушла. В четыре часа молодые люди, зная, что никто им не помешает, занялись приготовлениями к смерти.
С этого времени они забыли обо всем на свете; они прошлись среди мрачных голых деревьев по садовым аллеям; теперь это были не Коломбан и Кармелита, а словно их тени.
Опавшие листья и сучья, на которые они наступали; деревья, тянувшие к ним голые ветви; хмурое небо, на которое тщетно пыталось пробиться солнце; сельский колокол, меланхолически отбивавший часы; далекий монотонный звук рожка с карнавала, время от времени нарушавший вечернее безмолвие, — словом, все: звуки и тишина, одиночество и воспоминания о покидаемом мире — готовило их к долгому сну, все звало к смерти.
Они поднялись в дом и, не заходя в спальню Камилла, запертую со дня его отъезда, обошли все комнаты и попрощались с гостеприимным жилищем.
Когда они вошли в комнату Кармелиты, девушка распахнула окно и взяла Коломбана за руку.
— Я стояла на этом самом месте, — сказала она ему, — в тот день, когда уехал Камилл. Только тогда я поняла, как ненавижу его и люблю вас. В тот день, Коломбан, я порвала с жизнью и заключила договор со смертью... Но в ту самую минуту — простите мне этот грех, Коломбан! — я испытала эгоистичное желание: умереть вместе с вами!
Коломбан прижал девушку к груди.
— Благодарю! — только и промолвил он.
Они взяли розовый куст, который должен был проводить их в последний путь.
Однако на пороге Кармелита остановилась.
— Вот здесь, — сказала она молодому человеку, — я впервые узнала о вашей любви... Как только я смогла найти в себе силы и не броситься в ваши объятия в те полчаса, что вы оставались здесь?
Потом она указала ему на окно в коридоре.
— Отсюда я следила за вашей лампой, — призналась она, — и оставалась здесь до тех пор, пока горел свет в вашем окне.
Они спустились по лестнице. Кармелита улыбалась; молодой человек тяжело вздыхал.
— Сколько раз, — сказала Кармелита, — я выходила в темноту, не слыша собственных шагов, зато слышала, как громко стучит мое сердце! Смотрите! Вот по этой аллее я, словно тень, обыкновенно проходила к павильону и — если это было летом, вы спали с затворенными ставнями, но распахнутыми окнами — прикладывала ухо к ставню, надеясь услышать ваше дыхание. Почти всегда вы спали неспокойно, наверное, видели дурные сны, а я протягивала руки и, задыхаясь, готова была сказать вам: "Отвори, Коломбан! Я — ангел из розовых сновидений!" Скажите, милый друг мой, что тогда вас тревожило, кто являлся вам во сне?
И она подставила ему лоб для братского поцелуя.
Потом оба вошли в павильон: Кармелита — первая, за ней — Коломбан.
Коломбан запер дверь на ключ и на задвижку.
LVII TO DIE, TO SLEEP[25]
Коломбан положил ключ на камин.
Спальня молодого человека превратилась в настоящую часовню.
Все цветы, какие только распустились в небольшой оранжерее, блестевшей стеклами в углу сада, когда солнечные лучи случайно пробивались сквозь облака, Кармелита перенесла в эту комнату.
Девушка задернула на окнах белые муслиновые занавески; камин она покрыла, словно алтарь, вышитой скатертью и расставила повсюду вазы с цветами.
Оставшиеся цветы она рассыпала по полу.
Комната стала похожа на усыпальницу.
Молодые люди сели на диван и проговорили целый час.
Наступил вечер. Они зажгли лампу.
Словно опасаясь, как бы не сорвался ее план, Кармелита то и дело порывалась встать и сходить за жаровней с углем в туалетную комнату рядом со спальней.
Коломбан останавливал ее: он никак не мог в последний раз на нее наглядеться и не хотел отпускать ни на минуту.
Было около девяти часов вечера. Кармелите захотелось сесть за фортепьяно и спеть что-нибудь. В стародавние времена существовала легенда, что лебеди перед смертью поют прощальную песнь.
Никогда еще никому не удавалось крик боли и гимн радости соединить в одной песне. Никогда еще пение Кармелиты, поражавшей слушателей богатейшим диапазоном, не завораживало до такой степени! Казалось, Господь наделил ее возможностью выразить всю боль и в то же время все блаженство, ведь она прощалась с этим миром, из которого уходила навсегда, и вступала в мир иной. Она напоминала изгнанного ангела, долго скитавшегося по земле; но вот всемилостивый Господь над ним сжалился и снова призвал его на небеса — в первый, единственный, истинный его дом.
Наконец голосу будто надоело блуждать по бескрайним просторам, где царит реальность, где теряется мечта, — он затих, будто мелодичный вздох, но еще долго звучал в сердце молодого человека.
Коломбан подошел к Кармелите; окончив предсмертную песнь, девушка уронила голову ему на плечо, и Коломбан взял Кармелиту за руки.
Фортепьяно снова было безмолвно, словно мертвец, чья душа уже отлетела.
В полумраке наступила глубокая тишина, нарушаемая лишь дыханием двоих.
Вдруг зазвонили часы.
Каждый из них отсчитывал про себя удары.
— Одиннадцать! — в один голос промолвили молодые люди.
Кармелита прибавила:
— Пора, мой друг!
Коломбан поднялся, зажег две свечи, одну оставил Кармелите, а с другой пошел в туалетную комнату, где был приготовлен уголь.
— Ты куда? — спросила Кармелита.
— Я хочу, чтобы ты умерла, — отозвался Коломбан, — но не хочу, чтобы ты страдала.
Кармелита поняла, что речь шла о каких-то подготовительных мерах, и не стала мешать Коломбану.
Но когда он уже был готов затворить за собой дверь, она его остановила:
— Нет, друг мой! Вы можете удалиться, но так, чтобы я не теряла вас из виду!
Коломбан оставил дверь открытой.
Он намеревался заранее растопить жаровню в соседней комнате, так чтобы удушливый и самый неприятный дым ушел, а угарный газ совсем незаметно поразил мозг, после чего наступит безболезненная смерть.
Итак, Кармелита тщательно заделала все щели, а Коломбан, наоборот, распахнул все окна и двери, чтобы рассеялся дым.
Кармелита наблюдала за ним с невыразимой улыбкой.
Ее руки сами собой вновь коснулись фортепьяно, как молодые птенцы возвращаются в родное гнездо.
Пальцы ее неуверенно, но гармонично прошлись по клавишам; инструмент, только что испустивший прощальный вздох, снова ожил и словно боролся со смертью; как умирающий в предсмертном бреду роняет бессвязные слова, так Кармелита извлекала из фортепьяно отрывочные, не сливающиеся в мелодию звуки.
Как Кармелита и обещала Коломбану, она не сводила с него глаз.
В то время как ее трепещущие пальцы рассеянно перебирали клавиши из слоновой кости и черного дерева, пока ее ножка инстинктивно нажимала на педаль, ее взгляд остановился на Коломбане: она внимательно смотрела, как красноватые отблески пляшут на лице у молодого человека, стоящего на коленях и раздувающего смертельный огонь.
Ни малейшего волнения нельзя было прочесть на их лицах.
И Коломбан и Кармелита обладали той силой, той невозмутимостью, что свойственны людям, чуждым этому миру. Итак, молодые люди больше не принадлежали земле; если бы в это мгновение грянул гром или обрушилась крыша у них над головой, они и тогда не двинулись бы с места.
Тела их словно бы уже не жили, только души переговаривались между собой.
Душа Коломбана, распускаясь, как цветок, под нежным дыханием девушки, говорила:
— О любовь моя! О моя жизнь! Я заслужил чистую радость, которую ты даруешь мне сейчас! В эту необыкновенную минуту сознаюсь в своей слабости, Кармелита! Любимая моя! Ни дня, ни минуты, ни мгновения я не забывал о тебе. О ангел розовых сновидений! Ты только что спрашивала меня, что тревожило мой сон: это твоя грациозная тень садилась у моего изголовья, склонялась надо мной, касаясь волосами моего лица; в другой раз вереница прекрасных девушек с лицами, которые я видел на полотнах старых мастеров, в старинных молитвенниках, в манускриптах былых веков вдруг оказывалась тобой, тобой одной: у одних девушек был твой взгляд, у других — твоя улыбка; все пели твоим голосом, и в песне говорилось так: "Идем с нами, брат! Ведь человек не создан жить в пустыне; а если ты, суровый сын безмолвных диких берегов, не любишь гул людского океана, найдем мы хижину иль восхитительный оазис, где бойкий ручеек без устали мне шепчет о любви, а птицы напролет всю ночь не умолкают". Сколько раз, любимая Кармелита, я внезапно просыпался, услышав этот голос, который я принимал за твой; я простирал руки, и мне казалось, что я вот-вот тебя поймаю! Но я не мог сдвинуться с того места, откуда тебя увидел: появлялись призраки, рожденные моей совестью, хватали меня за руки и снова и снова швыряли меня, раздавленного, задыхающегося, обессиленного, на липкую от пота постель... Мне нет нужды говорить тебе, что смущало меня по ночам, не так ли? Разве я не знаю, что не давало покоя тебе? Дорогая! Я люблю тебя всеми силами моего существа, я жил лишь с той минуты, как полюбил тебя! Что наука, что слава, что известность в сравнении с моей любовью к тебе? Разве наука пробудила меня к жизни? Разве слава или известность заставили бы мое сердце биться сильнее? Нет, настоящая жизнь началась для меня с того часа, как я узнал, что должен умереть... О любимая Кармелита! Как я хотел бы рассечь грудь кинжалом, чтобы показать тебе, как бьется мое сердце: слова плохо передают страсти или, вернее, ту страсть, что кипит в моей душе. До тебя я в этом мире любил одну-единственную женщину; она была, так же как ты, красива, грациозна, обладала такой же душевной силой; она обнимала меня, так же как ты сейчас; я обхватывал ее руками за шею, целовал в глаза, чтобы остановить слезы, готовые вот-вот пролиться, и говорил ей: "Не умирай! Не умирай!", потому что она, как мы сейчас, стояла на пороге смерти; а она нежно прижимала меня к груди со словами: "Ты найдешь другую женщину в этом мире, и она будет обнимать тебя еще нежнее; пусть будет благословенна эта женщина, которая первой поцелует моего невинного сына!" Это дорогое, любимое, обожаемое существо, эту первую женщину, которую я любил больше всех на свете, — мою мать! — я забыл ради тебя или, вернее, я люблю тебя такой же непорочной любовью, подруга моя, сестра моя! Кармелита! О Кармелита!..
— До чего ты прекрасен, любимый! — шептала она. — Ах, как ты хорош!
В самом деле, никогда, может быть, благородное и красивое лицо бретонца не казалось благороднее и красивее, чем в свете этого пламени, бросавшего отблеск на его лицо, выражавшее решимость и в то же время легкую печаль сожаления.
Уголь разгорался около четверти часа; когда дым рассеялся, Коломбан запер окно туалетной комнаты и, по-прежнему освещаемый красноватыми языками пламени, перенес жаровню в комнату.
Потом он запер дверь, соединявшую спальню и туалетную комнату.
Кармелита встала; инструмент, в последний раз вздохнув, затих; девушка пошла молодому человеку навстречу.
Коломбан был бледен и едва держался на ногах: он надышался едкого дыма, от которого хотел уберечь Кармелиту.
Они взялись за руки и сели на диване; там они решили и умереть.
Так они посидели несколько минут друг против друга, жадно вглядываясь в любимые черты при свете свечи, стоявшей на фортепьяно. Часы пробили полночь.
Молодые люди чуть приметно вздрогнули: по-видимому, напоминание о позднем часе не произвело на них особого впечатления.
Действительно, какое значение для них теперь могло иметь время, ведь одной ногой они уже ступили в вечность?
Если бы кто-нибудь вошел в комнату и увидел красивую пару (юноша и девушка сидели, целомудренно держась за руки, обменивались нежными взглядами и вполголоса переговаривались), он принял бы их за жениха и невесту, щебечущих о любви и обсуждающих счастливое будущее.
Пылающие губы Кармелиты чистым поцелуем прижались ко лбу Коломбана, в то время как душа девушки отвечала ему:
— Да снизойдет на тебя благословение твоей матери, о Коломбан! Никогда еще более невинный поцелуй не запечатлевался на более чистом лбу! Любовь моя, жизнь моя, смерть моя! Я тоже ни на минуту не переставала думать о тебе, ведь я полюбила тебя с того самого дня, как узнала тебя, и если бы не затмение, ослепившее меня на время, я бы осыпала тебя всеми возможными радостями, какие дано смертному испытать на земле! Впрочем, земного счастья было бы недостаточно, чтобы утолить нашу пылкую нежность. А божественная любовь требует заключения брака на небесах. Вот почему мы бросаем наши земные оболочки — наши души, освободившись от тяжести тел, соединятся в горних высотах... Пред Господом, к которому мы поднимемся, держась за руки, клянусь, Коломбан, любить тебя через времена и пространства, через неведомые миры! Если, переступая порог этого мира, мне суждено очутиться вместе с тобой в печи огненной, как обещает католическая религия своим грешникам, вечное страдание рядом с тобой для меня желаннее, чем высшее блаженство земной жизни... Клянусь любить тебя даже в адском пламени! Если мне суждено опуститься на дно самой глубокой пропасти, куда не проникнут ни твой взгляд, ни твой голос, ни твое дыхание, моя мысль осветит мрачную пропасть, и я тебя почувствую, увижу, услышу, потому что клянусь тебя любить во тьме бездны!.. С этой минуты мы с тобой накрепко связаны, нерасторжимыми узами прикованы друг к другу; сейчас никакая земная сила не в состоянии нас разлучить, как потом не заставит нас расстаться никакая божественная сила. Ты мне говорил, любимый мой Коломбан, что карающий Господь, кого страшатся люди, есть не что иное, как великая мировая душа, с которой наши души сливаются воедино, как по вечерам солнечные лучи спешат к своему родному очагу... Поцелуй меня, Коломбан, и пусть наши души соединятся, как наши губы, и поскорее вознесутся в сияющие чертоги!.. Я вижу все словно сквозь туман, у меня в глазах темнеет; но мне кажется, я вижу внутренним взором, как блещут звезды, расступаясь и пропуская нас... Прощай, любимый! Прощай всё, что я любила в этом мире, всё, что я буду любить в мире ином! Обними меня крепче, и мы вместе вознесемся на небеса... У меня в душе поют тысячи сладчайших голосов, они повторяют твое нежное имя... Коломбан! Коломбан! Никогда еще на небеса не возносилась более чистая душа, чем твоя, Коломбан! Прощай, любовь моя!.. Прощай, жизнь моя! Прощай, Коломбан!..
Их души умолкли, словно погрузившись в забытье.
Комната постепенно наполнялась угарным газом; пламя свечи заметно бледнело, свет мерк.
Пламя жаровни плясало подобно блуждающим огонькам и, преломляясь сквозь ресницы (отяжелевшие веки молодых людей были полуопущены), переливалось всеми цветами радуги.
Крупные капли пота падали, словно жемчужины, на тело девушки; синеватые тени опустились ей на лицо.
Коломбан сделал над собой усилие, взял девушку на руки и, шатаясь как пьяный, перенес ее с дивана на кровать; он рухнул на пол, снова поднялся и, хватаясь за постель, с трудом лег подле девушки.
Кармелита тем временем из последних сил стыдливо оправляла юбку: край ее приподнялся, оголив щиколотку.
Потом она ощупью поискала шнурок, служивший подхватом для полога, и с немалым трудом отвязала его.
Ей казалось, что голову сдавил железный обруч, в глазах рябило; однако она перехватила подол шнурком и стянула его вокруг ног, чтобы юбка не приподнялась, когда она будет биться в агонии.
Когда со шнурком было покончено, она почувствовала, что Коломбан притягивает ее к себе.
— Да, суженый мой, — прошептала она, — да, вот я!
И молодые люди впервые оказались тесно прижаты друг к другу; руки их сплелись, волосы смешались, губы слились в поцелуе.
Это был их первый поцелуй.
Их можно было принять за двух богинь-сестер — Скромность и Целомудрие, — обнимающихся под присмотром матери — Девственности.
Первым сил лишился Коломбан.
Он откинулся, прервав поцелуй; по всему его телу пробежал озноб; он попытался снова припасть губами к Кармелите, однако его горло словно сдавила железная десница, язык не слушался его, и он с трудом пролепетал:
— Приди!.. Приди!.. Приди.
Он уронил безжизненную голову девушке на грудь; в висках у нее шумело, в ушах звенело, но она расслышала последний зов возлюбленного; почувствовав на груди тяжесть головы любимого, девушка вздрогнула и едва слышно вскрикнула.
Этот общеизвестный факт признается и медициной; он подтверждается всеми статистиками, хотя наука никак его не объясняет: когда кончают самоубийством мужчина и женщина, первым обычно умирает мужчина.
Мы лишь констатируем перед читателями этот факт; кто может, пусть его объяснит.
Итак, первым умер Коломбан.
Кармелита поняла, что любимый испустил последний вздох; она открыла глаза, к ней на мгновение вернулись силы и голос, из самого сердца вырвался крик:
— Коломбан... Коломбан!..
Она притянула поближе его голову, прижалась губами к его лбу и из последних сил прошептала:
— Я здесь! Я здесь!
И уронила голову рядом с головой возлюбленного.
Часы пробили один раз.
LVIII СПЕШНОЕ ПИСЬМО
Если помнят читатели, именно в это время ссора в кабаке утихла; трое молодых людей, встреченные нами в самом начале этой истории, а также их таинственный спаситель приказали подать ужин.
Вы не забыли, дорогой читатель, что Сальватор и Жан Робер покинули улицу Мясника Обри, где оставили двух приятелей, Петруса и Людовика: те спали, уронив головы на стол, под присмотром лакея, отвечавшего по приказу Сальватора за их безопасность.
А комиссионер и поэт отправились на улицу Сен-Жак, где звуки виолончели привели их к Жюстену. Друзья выслушали рассказ учителя. Они оказались рядом в ту минуту, как тот получил тревожное письмо от Мины. Сальватор поспешил в полицию в надежде разузнать о похищенной девушке. Жан Робер отправился за лошадью, Жюстен пошел вслед за Баболеном к Броканте, где к нему присоединились Жан Робер и Сальватор.
От старой колдуньи Жюстен узнал новые подробности похищения, а от Сальватора получил указание: ни в коем случае не впускать никого ни в комнату Мины, ни в сад пансиона. С тем учитель и поскакал во весь опор в Версаль.
Сальватор и Жан Робер отправились на Новый мост, где договорились встретиться с г-ном Жакалем. Там полицейский пригласил их в свой экипаж и в общих чертах изложил историю, которую со всеми трагическими подробностями мы поведали нашим читателям.
Пусть Жюстен скачет в Версаль, а Жан Робер, Сальватор и г-н Жакаль едут в Ба-Мёдон; мы же возвратимся к Людовику и Петрусу, спящим в кабаке.
Первым проснулся Людовик. Его разбудила шумная компания, желавшая повеселиться в той самой комнате пятого этажа, которую с немалым трудом отвоевали трое друзей.
Лакей, добросовестно исполнявший предписания Сальватора, никого не пускал в комнату, где спали Людовик и Петрус.
Однако новоприбывшие продолжали настаивать и так при этом шумели, что разбудили молодого доктора.
Тот открыл глаза, прислушался.
Припомнив события этой ночи, он решил, что после взятия города приступом ему придется выдержать осаду; однако на сей раз наступавшие атаковали с такими радостными криками, что Людовик рассудил: пожалуй, будет приятно сдаться на милость молодых и веселых противников.
И он сам пошел отворить дверь.
В ту же минуту целая толпа пьеро и пьеретт, пройдох и торговок ворвалась в комнату с таким гомоном, с таким хохотом, что Петрус в испуге вскочил и завопил:
— Горим!
Ему снился пожар.
В суматохе этого вторжения Людовик вдруг почувствовал, что его обнимают сзади за шею две прелестные ручки. Лицо чаровницы скрывала бархатная маска. Соблазнительный ротик приоткрылся, показывая жемчужные зубки. Красавица проговорила:
— Это ты, душа моя? С каких это пор бедный студент-медик может позволить себе роскошь снять целый этаж?
— Если бы крошка дала себе труд оглядеться, она бы заметила, что я не один, — отвечал Людовик.
— A-а, да, да, да, — спохватилась пьеретта. — Вон метр Рафаэль собственной персоной! Эй, хочешь, я, вернее, моя ножка тебе попозирует для "Пожара в городе"? Ведь ты закричал: "Горим!", когда мы вошли!
Девушка приподняла юбку и показала обтянутую тонким шелковым чулком ножку — из тех, что повсюду ищут художники, а находят кардиналы.
— A-а, мне знакома эта ножка, принцесса! — воскликнул Петрус.
— Шант-Лила! — вскричал Людовик.
— Раз меня узнали, я снимаю маску, — заявила красавица-прачка, — и потом, маска мешает пить... Пить! Умираю от жажды!
И все общество, состоявшее из пяти или шести ванврских прачек и трех или четырех мёдонских садовниц в сопровождении их обожателей, подхватило хором:
— Пить! Пить!
— Тихо! — властно приказал Людовик. — Этот зал снял я, значит, мне и заказывать. Лакей! Шесть бутылок шампанского на мой счет!
— И шесть — на мой! — прибавил Петрус.
— Вот это дело! — похвалила принцесса. — За это каждому из вас — щечку!
— Чет или нечет! — крикнул Петрус, выгребая из кармана горсть монет.
— Что вы делаете, сеньор Рафаэль? — спросила Шант-Лила.
— Играю с Людовиком: ставлю его щечку против моей, — пояснил Петрус.
— Чет на чет! — отвечал Людовик на том же языке, на каком говорил его друг.
— Ну, опять пошли шуточки! Так мы, пожалуй, расстреляем все хлопушки! — возвращаясь к любимому слову, заметила принцесса. — Пиф! Паф! Не хватает только Камилла: он бы сейчас подпустил целый сноп!
В эту минуту лакей внес дюжину шампанского.
— А вот и сноп! — объявил он, откупоривая две бутылки: проволочки он сорвал с пробок еще в коридоре.
— Я выиграл! — крикнул Людовик и расцеловал Шант-Лила в обе щечки. — Я тебя похищаю, сабинянка!
Подхватив принцессу Ванврскую на руки, словно ребенка, он понес ее к столу, сел на стул и посадил ее к себе на колено.
Час спустя дюжина бутылок опустела, потом еще дюжина: не желая отставать, компания угощала двух друзей.
— А теперь, — объявила Шант-Лила, — нам пора возвращаться в Ванвр. Да и Нанетта обещала быть дома в одиннадцать, у нее для хозяйки письмо. А сейчас уже три часа ночи; хорошо, что письмо спешное!
— Четыре часа, принцесса, — поправил Петрус.
— А хозяйка встает в пять! — вскричала Шант-Лила.
В дорогу, все в дорогу!
— Ба! — возразила графиня дю Батуар. — Да хозяйка-то сама, должно быть, нынче празднует и встанет не раньше шести.
— Принцесса! А когда вы собираетесь в Париж? — спросил Людовик.
— О! — вскричала Шант-Лила. — И зачем вам об этом беспокоиться?
— Как же мне не беспокоиться? У меня чистое белье кончилось!
— Что за мелочный человек! — возмутилась Шант-Лила. — Сами заедете за своим бельем.
— Шант-Лила! Не надо глупостей! Неделя была тяжелая, и все сорочки вышли. Не в кружевных же рубашках мне ходить по больным!
— Так заезжайте за своим бельем!
— Если дело только за этим, а в вашей карете, принцесса, найдется для меня местечко, я готов!
— Вы не шутите?
— Даю честное благородное слово, ваше высочество!
— Браво! Браво! Едем пить молоко на Ванврскую мельницу. Вы с нами, сеньор Рафаэль?
— Ты едешь, Петрус? Решайся: чем дольше безумство, тем оно приятнее!
— Черт побери! Я бы со всей душой... К сожалению, у меня назначен первый сеанс.
— Да отложи ты его к черту!
— Не могу, — возразил Петрус. — Я дал слово.
— Это свято, — хмыкнула Шант-Лила, — не то Форнарина даст Рафаэлю отставку. Идем, король пройдох!
Она протянула руку Людовику. Молодой врач, по-видимому, решил весело проститься с карнавалом. Он расплатился за себя и за Петруса, вихрем скатился с лестницы и сел в огромный мебельный фургон, на котором вся компания прикатила из Ванвра в Париж.
Петрус жил на Западной улице. Он простился с другом, пожелал ему приятно провести время и долго еще кричал в темноту, отвечая на удалявшиеся прощальные возгласы шумной компании.
— А куда, черт возьми, мы едем? — спросил некоторое время спустя Людовик. — Кажется, это дорога на Версаль, а не на Ванвр?
— Если бы Рафаэль нас не бросил, — отвечала Шант-Лила, — он бы вам сказал, ваше величество, что все дороги ведут в Рим.
— Что-то я не пойму... — в замешательстве проговорил Людовик.
— Взгляни на Нанетту, прелестную садовницу.
— И что же?
— Как она тебе?
— Прелестна!.. Что дальше?
— Она с нами поехала при том условии, что мы ее отвезем назад.
— Это почему?
— Но вам же сказали, — вмешалась графиня дю Батуар, — что у нее очень спешное письмо.
— Почему же она его не отдала перед тем, как ехать в Париж?
— Она встретила почтальона в конце деревни. Мы ее ждали между Ванвром и Ба-Мёдоном: она опоздала бы на целых полчаса!
— Ладно! Объяснение принимается.
— И потом, — сказала Шант-Лила, — письмо в пути двадцать шесть дней, оно ведь из колоний... Подумаешь! Часом раньше, часом позже...
— Никто от этого не умрет! — закончила графиня дю Батуар.
— Да если кому и вздумается умереть, разве нет среди нас доктора?.. А доктор-то спит!
— А? Что? Клянусь честью, да! — спохватился Людовик. — Дай-ка я сяду у тебя в ногах, принцесса, а голову положу тебе на колени. Будешь меня охранять!
— Ну и ну! — возмутилась девушка. — Если бы я знала, что этого господина взяли с собой для того, чтобы он спал, я бы его уложила на телегу с овощами: не все ли равно, где дрыхнуть!
— Ах, принцесса! — сквозь сон пробормотал Людовик. — Ты несправедлива: какая капуста, какой салат могут сравниться с твоими ножками!
— Бог мой, — сказала Шант-Лила тоном глубокого сострадания, — до чего же глупым становится умный человек, когда ему хочется спать!
Они проехали Бельвю, когда часы пробили пять. Мало-помалу звонкий смех стих, радостные крики смолкли. Холодное зимнее утро утихомирило участников маскарада; каждый мечтал поскорее добраться до своей постели.
Повозка остановилась у дома Коломбана и Кармелиты. Нанетта спрыгнула на землю, вытащила из кармана ключ и вошла.
— Отлично! — проговорила она, видя через отворенную в коридоре дверь, что в туалетной комнате Коломбана горит свет. — Молодой человек еще не спит, сейчас получит свое письмо.
— Прощайте все!
И она захлопнула за собой дверь.
Кто-то в ответ глухо буркнул ей сквозь сон из повозки, и экипаж покатил по направлению к Ванвру.
Но не проехал он и пятидесяти шагов, как оттуда, где они оставили Нанетту, раздались крики:
— На помощь! Помогите!.. Господин Людовик! Господин Людовик!
Повозка остановилась.
— Что случилось? — подскочил Людовик.
— Не знаю я ничего! Кто-то вас зовет, — промолвила Шант-Лила. — Кажется, голос Нанетты.
— Уж не случилось ли несчастья...
Людовик выпрыгнул из повозки и в самом деле увидел Нанетту: на ней лица не было.
— На помощь! На помощь! — кричала она.
LIX УГОРЕВШИЕ
Он побежал ей навстречу.
— Скорее, господин Людовик! Идемте скорее! Все идите! Они мертвы!
— Кто мертв? — спросил Людовик.
— Мадемуазель Кармелита и господин Коломбан!
— Коломбан? — вскричал Людовик. — Коломбан де Пангоэль?
— Да, господин Коломбан де Пангоэль и мадемуазель Кармелита Жерве. Бог мой! Какое несчастье! Такие молодые, такие красивые, такие любезные!
Людовик бросился к дому. Ворота были распахнуты. Одним прыжком он проскочил коридор и очутился у павильона.
Перед смертью Коломбан неплотно притворил окно в туалетной комнате. Нанетта, не дозвавшись хозяев, на свой страх и риск влезла в это окно, чтобы постучать в дверь спальни.
Видя, что ей не отвечают, она отворила дверь, но сейчас же попятилась и едва не упала навзничь.
Удушливый запах угарного газа ударил ей в голову, ее словно обволокло смертоносное облако.
Она все поняла и бросилась вдогонку за повозкой.
Ее крики были услышаны, и экипаж остановился; Людовик влез в окно, попытался проникнуть в спальню, но его тоже остановил удушливый запах.
Он повернулся к окну и вдохнул полной грудью.
В эту минуту подоспели остальные.
— Вышибайте окна и двери! — крикнул Людовик. — Побольше воздуху! Они угорели.
Попытались отворить ставни: они были заперты изнутри.
Несколькими ударами ног высадили дверь.
Но те, кто был впереди, вынуждены были отступить.
— Приготовьте уксус и соленую воду, разбудите аптекаря, если таковой найдется в деревне; возьмите у него английской соли и нашатыря. Нанетта, разожгите где-нибудь огонь и согрейте салфетки!
Как шахтер спускается в шахту, а матрос — под воду, так Людовик нырнул в комнату.
Веселый участник маскарада уступил место человеку науки: врач был готов пустить в ход все свои знания, все свое умение.
Людовик ощупью пробрался к окну: свеча погасла, камин и жаровня остыли.
Занавески мешали нащупать задвижку; Людовик обернул руку носовым платком и двумя ударами кулака выбил оба стекла.
В комнату ворвался свежий воздух, и вовремя: Людовик зашатался и ухватился за фортепьяно.
Потом он обеими руками вцепился в занавески, сорвал их с карниза и распахнул наконец окно.
Угарный газ постепенно вытеснялся, через окно и двери теперь поступал свежий воздух.
— Входите! — пригласил Людовик. — Входите! Опасности нет. Входите и зажгите свет.
Зажгли другую свечу; темнота отступила.
Кармелита и Коломбан лежали на кровати обнявшись, словно только что уснули.
— Среди вас есть медик? — спросил Людовик. — Санитар, цирюльник, может быть, неважно! Одним словом, кто-нибудь мне в помощь?
— Здесь недалеко живет господин Пилуа, бывший военный хирург... ученый человек! — сказал кто-то.
— Бегите за господином Пилуа! — приказал Людовик. — Стучите, пока не откроет! Силой тащите, если сам не пойдет!
Он бросился к кровати.
— Эх! — сокрушенно вздохнул он. — Боюсь, мы опоздали.
В самом деле, губы у молодых людей посинели.
Людовик приподнял веко одному, потом другой.
У Коломбана глаз заплыл и остекленел, у Кармелиты — налился кровью и потускнел.
Оба тела были бездыханны.
— Слишком поздно! Слишком поздно! — в отчаянии повторял Людовик. — Впрочем, попробуем сделать все, что в наших силах. Девушки! Позаботьтесь о мадемуазель. Я займусь молодым человеком.
— Что нужно делать? — спросила Шант-Лила.
— В точности исполнять, что я прикажу, милая. Перенесите девушку к окну...
— Помогите мне, — обратилась Шант-Лила к подругам.
— А от нас что требуется? — спросили мужчины.
— Разожгите огонь... пожарче! Согрейте салфетки. Разуйте его.. Я попробую пустить ему кровь из ноги... Ах, слишком поздно, слишком поздно!
Людовик перенес Коломбана с кровати поближе к окну.
— Вот уксус и соленая вода, — доложила Нанетта.
— Вылей уксус в тарелку; мы будем обмакивать носовые платки и прикладывать их к вискам. Слышишь, Шант-Лила?
— Да, да, — кивнула девушка.
— Обрежьте перо... как я, смотрите! Разожмите ей зубы, насколько возможно, и вдувайте в легкие воздух.
Все повиновались Людовику, как генералу на поле боя.
Зубы Кармелиты были плотно сжаты, но Шант-Лила ножом слоновой кости раздвинула ей челюсти и вставила перо между зубами.
— Как там у тебя? — спросил Людовик.
— Все сделала, как вы приказали.
— Теперь дуй изо всех сил... У меня ничего не выходит: у него челюсти словно железные!.. Вы сняли с него сапоги и чулки?
— Да.
— Потрите ему виски уксусом, брызните в лицо водой; разожмите ему зубы во что бы то ни стало, хотя бы пришлось их выбить! Я попробую пустить кровь.
Людовик раскрыл саквояж, достал ланцет, дважды проколол вену на ноге Коломбана — тщетно.
Кровь не пошла.
— Снимите с него галстук, жилет... живо! Срывайте рубашку, все срывайте!
— Вот горячие салфетки! — проговорил кто-то.
— Передайте несколько штук Шант-Лила, растирайте салфетками грудь. Слышишь, Шант-Лила! Ты тоже растирай! A-а, вот нож!
Людовику удалось наконец просунуть нож между зубами Коломбана. Но щель была так мала, что вряд ли он смог бы вставить в нее трубочку от пера. Он приложился ртом к губам Коломбана и попытался вдохнуть в его легкие воздух.
Горло бретонца свело судорогой — воздух не проходил.
— Слишком поздно! Слишком поздно! — пробормотал Людовик. — Попробуем шейную вену!
Он снова взялся за ланцет и с удивительной ловкостью рассек вену на шее.
Но кровь снова не пошла.
— Вот соль и нашатырь, — подавая Людовику два флакона, доложил один из мужчин, вернувшийся из аптеки.
— Ну-ка, Шант-Лила, возьми флакон с солью, поднеси ей к носу... Нашатырь пока будет у меня.
— Давайте! — Шант-Лила протянула руку.
— А как воздух? — спросил Людовик.
— Что воздух?
— Как ты полагаешь, он дошел до легких?
— Думаю, да.
— В таком случае, еще не все потеряно, дитя мое! Смелее! Натри ей виски уксусом и дай понюхать соли.
Молодой доктор тем временем намочил салфетку нашатырем и повязал ею голову Коломбана.
Однако тот оставался недвижим. Ни малейшего дуновения не вырывалось из его груди, ни одна частичка воздуха не могла в нее проникнуть.
— О! Мне кажется, у нее побелели губы! — вскричала Шант-Лила.
— Смелее, смелее, Шант-Лила! Это добрый знак! Какое счастье, девочка, если ты когда-нибудь сможешь сказать, что спасла жизнь женщине!
— Похоже, она вздохнула! — заметила Шант-Лила.
— Приподними ей веко, посмотри глаз: он по-прежнему тусклый?
— Ой, господин Людовик! Кажется, ей лучше.
— Господина Пилуа нет дома, — доложил тот, кого посылали к военному хирургу.
— Где же он? — спросил Людовик.
— У господина Жерара — тот очень болен.
— Где живет господин Жерар?
— В Ванвре... Послать за хирургом?
— Не стоит: слишком далеко.
— О-о, бедному господину Жерару тоже так плохо? — проговорил кто-то.
— Господин Людовик! Господин Людовик! Она дышит! — воскликнула Шант-Лила.
— Ты уверена, девочка?
— Я растирала ей грудь горячей салфеткой и вдруг почувствовала, как грудь поднимается... Господин Людовик! Она поднесла руку к голове!
— Итак, из двоих мы спасли одну. Скорее унесите ее отсюда: когда придет в себя, она не должна увидеть, что ее возлюбленный мертв.
— Несите в дом, в ее комнату! — приказала Нанетта.
— Да, в ее комнату... Распахните там все окна и разведите огонь в камине. Ступайте, ступайте!
Женщины унесли Кармелиту.
Начало светать.
— Ты знаешь, что нужно делать, Шант-Лила? — крикнул Людовик вдогонку девушкам, уносившим Кармелиту.
— Нет. Приказывайте!
— Все то же, что до сих пор.
— А если она спросит, что с возлюбленным?
— Она вряд ли заговорит раньше чем через час, рассудок к ней вернется часа через два-три.
— И что тогда?..
— Тогда либо Коломбан, либо я будем рядом с ней.
Переведя взгляд на Коломбана, он чуть слышно пробормотал:
— Слишком поздно! Слишком поздно! Бедный Коломбан! Бедняжка Кармелита!
И он вернулся к молодому человеку с беззаветным упорством врача, пытающегося во что бы то ни стало вырвать жизнь из рук смерти.
LX У ПОСТЕЛИ КАРМЕЛИТЫ И У ИЗГОЛОВЬЯ КОЛОМБАНА
В девять часов утра карета, в которой сидели г-н Жакаль, Сальватор и Жан Робер, остановилась перед домом, где произошли только что описанные нами ужасные события.
Еще три экипажа уже стояли у ворот: фиакр, небольшая коляска и огромная карета с гербами.
— Все три подруги уже здесь, — пробормотал Сальватор.
Господин Жакаль обменялся несколькими словами с господином в черном, стоявшим в дверях.
Тот вскочил на лошадь, привязанную у входа в кабачок, в нескольких шагах от дома, и поскакал галопом.
— Я распорядился относительно вашего школьного учителя, — пояснил г-н Жакаль Сальватору и Жану Роберу.
Сальватор молча кивнул в знак признательности и направился в дом.
Не прошел он и несколько шагов, как пес, лежавший на площадке второго этажа, скатился по ступеням и положил передние лапы ему на плечи.
— Да, Ролан, да! Она здесь, я знаю... Ну, показывай нам дорогу, Ролан.
Пес пошел вперед и остановился перед дверью в спальню Кармелиты.
Господин Жакаль, как человек, имеющий право войти в любую дверь, отворил ее и вошел в сопровождении Сальватора и Жана Робера.
Перед полицейским и двумя молодыми людьми открылось зрелище, полное глубокой поэзии.
Вообразите: вокруг постели Кармелиты, еще очень слабой, но приходящей понемногу в себя, молятся, опустившись на колени, три девушки. Все они одного возраста, хороши собой, одеты, как и сама Кармелита, в платье, о котором мы, разумеется, расскажем особо.
Костюм воспитанницы пансиона Сен-Дени представлял собой платье из тонкой черной саржи с широкой юбкой, высоким корсажем, белым плиссированным воротником; рукава — широкие и ниспадающие, как у монашек; шерстяная лента в ладонь шириной обвивала плечи, перехватывала талию и завязывалась сзади; в эту ленту были вплетены нити шести цветов: зеленого, фиолетового, золотистого, голубого, белого и алого. Одним словом, это одеяние невозможно было назвать ни светским, ни монашеским. Для светской барышни оно было слишком строгим, монашка же не позволила бы себе такой пояс, переливавшийся всеми цветами радуги. Как мы уже сказали, так одевались девочки-старшеклассницы в пансионе Сен-Дени.
Жан Робер с первого взгляда узнал Фраголу и хотел было указать на нее Сальватору; но тот заметил ее еще раньше, да и она успела увидеть Сальватора; комиссионер прижал палец к губам, приказывая Жану Роберу молчать.
Вдруг оба друга в ужасе отпрянули: им показалось, что покойница шевельнулась (они еще не знали, что Людовик спас несчастную Кармелиту).
— А! — произнес г-н Жакаль с невозмутимостью человека, привыкшего к такого рода зрелищам. — Так она, стало быть, не умерла?
— Нет, сударь, — отвечала самая статная из девушек; похоже, она, пользуясь преимуществом в росте и красоте, взяла на себя роль старшей над двумя подругами.
Жан Робер повернул голову в ее сторону: ему почудилось, что он узнаёт голос.
Это была мадемуазель Регина де Ламот-Удан.
— А молодой человек?.. — спросил г-н Жакаль.
— Еще есть надежда, — отвечала Регина, — его пытается спасти один молодой доктор; пока он с ним занимается, еще не все потеряно.
В эту минуту дверь распахнулась и, к величайшему изумлению Жана Робера и Сальватора, в комнату вошел Людовик.
Он давно сбросил карнавальный костюм и переоделся: посланный им верховой привез ему из дому одежду.
— Ну что? — воскликнули все в один голос.
Людовик покачал головой.
— У него священник, — отозвался врач, — мне там делать нечего.
Ему указали на Кармелиту. Она по-прежнему не произносила ни звука, а когда открывала глаза, казалось, никого не узнавала.
— Бедная девочка! — вздохнул Людовик. — Не говорите ей ничего: она не скоро оправится.
— Господа! — обратился полицейский к Сальватору и Жану Роберу. — Мы оказались здесь лишь по воле случая. Полагаю, нам следует оставить больную на попечении подруг и доктора, как можно скорее составить протокол и поспешить в Версаль.
Жан Робер и Сальватор в знак согласия поклонились.
Фрагола поднялась, подошла к Сальватору и прошептала ему на ухо несколько слов. Тот в ответ кивнул.
После этого комиссионер и поэт вышли, как и вошли, вслед за г-ном Жакалем.
Внизу все уже было готово для составления протокола.
Дверь в коридор была отворена: видно было, что в окнах павильона горят свечи.
— Не угодно ли покропить святой водой и прочитать молитву над телом несчастного? — предложил Сальватор поэту.
Жан Робер согласился, и, пока г-н Жакаль, собираясь с мыслями, поднес к носу щепотку табаку, молодые люди зашагали к павильону.
Коломбан лежал на кровати. Под простыней, которой было накрыто лицо, смутно угадывались застывшие черты.
У изголовья покойного сидел красивый монах-доминиканец; на коленях у него лежал раскрытый молитвенник, однако он откинул голову назад, по щекам его катились тихие слезы: он молился об усопшем.
Завидев молодых людей, входивших с непокрытыми опущенными головами, монах поднялся им навстречу; он внимательно оглядел Жана Робера и Сальватора, но было ясно, что их лица ему незнакомы.
На Сальватора монах произвел необычайное впечатление: увидев Доминика, молодой человек замер, едва слышно вскрикнул от радости, но из почтительности сдержался.
Монах обернулся на этот вскрик, но не понял, чем он вызван; удивление Доминика, вполне объяснимое в подобных обстоятельствах, длилось не больше мгновения. Он снова стал невозмутим.
Однако Сальватор сам обратился к нему:
— Святой отец! Сами того не ведая, вы спасли жизнь стоящему перед вами человеку. И человек этот, который никогда вас прежде не видел, не был с вами знаком, питает к вам глубокую признательность... Вашу руку, святой отец!
Монах протянул молодому человеку руку, которую тот почтительно поцеловал, хотя Доминик пытался ее отдернуть.
— Теперь выслушайте меня, святой отец, — продолжал Сальватор. — Не знаю, смогу ли я когда-нибудь быть вам полезен. Клянусь всем святым, что есть на земле, клянусь телом порядочного человека, который только что отдал Богу душу: я обязан вам жизнью, и она всецело принадлежит вам!
— Я принимаю ваше предложение, сударь, — серьезно проговорил монах, — хотя не знаю, когда и как я мог оказать вам услугу, о которой вы говорите. Все люди — братья и посланы в этот мир, чтобы друг другу помогать; когда мне понадобится ваша помощь, я приду к вам. Как вас зовут и где вы живете?
Сальватор подошел к секретеру Коломбана, написал свои имя и адрес на листе бумаги и подал его монаху.
Доминиканец вложил сложенный листок в часослов, снова сел в изголовье у Коломбана и продолжал молиться.
Молодые люди поочередно взяли ветку букса, смоченную в святой воде, и покропили простыню, покрывавшую тело Коломбана; потом оба опустились на колени рядом с кроватью и горячо про себя помолились.
Пока они творили молитву, вошел слуга в ливрее, какие носят в домах богатых буржуа.
— Сударь, — обратился он к монаху, — кажется, именно вас я ищу.
— Что вам угодно, друг мой? — спросил Доминик.
— Мой хозяин умирает, сударь. А ванврского кюре дома нет, и хозяин просит вашу милость пожаловать к нему и принять его исповедь.
— Это не мой приход, — возразил монах. — Я молюсь у тела этого юноши, моего друга, а приехал я сюда потому, что получил его предсмертное письмо... К несчастью, оно пришло слишком поздно.
— Сударь! — продолжал настаивать слуга. — Мне кажется, хозяин приглашает вас именно потому, что вы не из нашего прихода... Он плох, очень плох! Он сам спросил об этом господина Пилуа, военного хирурга; тот сказал, что, если хозяин хочет отдать распоряжения, не стоит терять время.
Монах вздохнул и бросил взгляд на покрытое простыней неподвижное тело.
— Сударь, — не унимался слуга. — Хозяин велел умолять вас во имя Господа Бога нашего, представителем коего вы являетесь на земле, как можно скорее прийти к нему!
— Однако я бы не хотел оставлять тело моего бедного друга, — отвечал монах.
— Святой отец! — вмешался Сальватор. — Мне кажется, живые нуждаются в ваших утешениях еще больше, чем мертвые — в ваших молитвах.
— Не угодно ли вам, чтобы благочестивый и сочувствующий вашему горю человек остался здесь? — подхватил Жан Робер. — В таком случае, я к вашим услугам.
— Сударь, что я скажу хозяину? — продолжал настаивать слуга.
— Передайте, что я следую за вами, друг мой.
— О, благодарю вас!
— Кого мне спросить?
— Господина Жерара.
— Улица? Номер дома?
— Ах, сударь, дом вам покажет первый встречный — мой несчастный хозяин был добрым ангелом здешних мест.
— Ступайте, — отпустил его монах.
Слуга поспешил уйти.
— Вы обещаете, что побудете здесь до моего возвращения, сударь? — спросил Доминик у Жана Робера.
— Вы застанете меня на этом самом месте, святой отец, — подтвердил поэт. — Я посижу возле кровати.
— Нет ли у вас для меня каких-либо поручений? — спросил Сальватор. — Я сделаю все, что в моих силах.
— Принимаю ваше предложение, сударь. Ведь вы сказали, что, я могу вами располагать?
— Пожалуйста!
— Коломбан поручил мне позаботиться о том, чтобы его похоронили вместе с любимой. Провидению было угодно спасти девушку. Я, стало быть, не могу исполнить волю своего друга. Кроме того, его тело необходимо как можно скорее убрать с глаз бедняжки Кармелиты; я решил сегодня же, в четыре часа, отправиться в Бретань... Там ждет отец: он имеет право проститься с сыном и может рассчитывать на мои утешения.
— В четыре часа в конце деревни, святой отец, вас будет ждать почтовая карета, в ней — дубовый гроб с телом Коломбана; все формальности я берусь уладить сам. Вам останется сесть в карету и — в путь.
— Я беден, — признался монах, — моих денег едва хватит на дорогу мне одному; как же я смогу?..
— Не беспокойтесь, святой отец, — прервал его Сальватор, — все расходы будут оплачены по возвращении.
Монах подошел к кровати, приподнял простыню, поцеловал лоб Коломбана и вышел.
Спустя несколько минут появился г-н Жакаль.
Он приблизился к двум друзьям, остановился, расставил ноги, покачался, сунув руки в карманы, и обратился к Жану Роберу с вопросом:
— Вы поэт?
— Так, по крайней мере, утверждают.
— Вы, как поэт, верите в Провидение, не так ли? — продолжал полицейский.
— Да, сударь, имею смелость в этом признаться.
— Да, смелость не помешает! — крякнул г-н Жакаль, доставая из кармана табакерку и в ярости поднося к носу одну за другой несколько щепоток табаку.
— К чему вы это говорите?
— А вот взгляните на это письмо!
Он вынул из кармана письмо и показал его Жану Роберу, не давая, однако, в руки.
— Что за письмо? — спросил Жан Робер.
— Оно пришло вчера вечером, — сообщил г-н Жакаль, — на нем кое-кто заботливо написал два слова: "Очень спешно"; почтальон вручил его в конце деревни садовнице Нанетте, а та унесла в кармане с собой в Париж. Если бы письмо прочитали вчера вечером те, кому оно адресовано, здесь были бы не покойник и отчаявшаяся девушка, а двое счастливцев. Читайте!
И он протянул письмо Жану Роберу.
Тот развернул его и прочел:
"Дорогой Коломбан! Дорогая Кармелита!
Вы, верно, будете счастливы, когда увидите это письмо своего друга Камилла Розана, а не его самого?
Я так и слышу, как вы кричите: "О наш добрый, наш славный Камилл!"
Послушайте, дорогие мои! Вот что мне пишет один соотечественник, которому я в свое время рассказывал о своем намерении жениться на Вас, Кармелита:
"Дорогой Розан! Твои друзья живут как голубки, не разлучаясь ни на мгновение; они не просто любят друг друга, я бы сказал: они друг друга обожают!
Думаю, ты чрезвычайно их смутил бы своим появлением. Прояви величие Александра, уступившего Апеллесу свою любовницу Кампаспу.
Я не говорю тебе: "Уступи Коломбану свою любовницу Кармелиту"; я бы сказал так: "Не разлучай любящие сердца, созданные одно для другого!""
Вот, дорогой Коломбан, что мне пишет мой соотечественник.
Я давно знал, друг мой, что ты любишь Кармелиту. Теперь я узнал, что и Кармелита тебя любит. Есть и еще кое-что (ты мне об этом говорил, и я тебе верю): ты скорее умрешь, чем нарушишь данную клятву относиться к Кармелите как к сестре.
Я не хочу твоей смерти, милый Коломбан. Вот почему я возвращаю тебе твое слово, как и Кармелите.
Будь же счастлив, Коломбан! Если твоя жертва была тебе в тягость, ты вправе получить самое большое возмещение, какое я в силах тебе предложить: в минуту прощания с Кармелитой навсегда я чувствую, как сильна моя любовь к ней.
Так как мне необходимо задушить в сердце эту любовь и положить между нами непреодолимую преграду, я вчера вечером женился и сегодня утром пишу это письмо в своей комнате новобрачных.
Прощай, дорогой Коломбан! Прощай, дорогая Кармелита! Желаю вам счастья: вы его заслужили. Я готов признаться в своей слабости и даже трусости... Впрочем, я уверен, что эта новость обрадует вас обоих, особенно Кармелиту.
Ваш друг
Камилл Розан".
— Ну как? — спросил г-н Жакаль, забирая письмо. — Что вы на это скажете, господин Жан Робер?
— Очень это печально! — вздохнул молодой человек.
— Верите ли вы по-прежнему в Провидение?
— Да.
— Провидение, господин Жан Робер... — продолжал г-н Жакаль, набивая нос табаком, — хотите, я вам скажу, что это такое?
— Сделайте одолжение! Впрочем, я все равно в него верю.
— Так вот, дорогой господин Робер, Провидение — это хорошо отлаженная полицейская машина. Едемте в Версаль и попытаемся найти невесту школьного учителя...
А теперь, если бы читателю вздумалось вслух задать вопрос, который Жан Робер шепотом задал Сальватору, когда провожал комиссионера с Железной улицы и полицейского с Иерусалимской улицы в Версаль, а сам, верный данному обещанию, остался у тела Коломбана, — итак, если бы читателю вздумалось узнать, каким образом г-н Жакаль мог в половине восьмого утра знать, что происходило в Ба-Мёдоне с полуночи до пяти часов того же утра, мы сумели бы ответить на этот вопрос.
В те времена существовало остроумное учреждение под названием Черный кабинет. Там дюжина служак тайно распечатывала сдававшиеся на почту письма и читала их раньше тех, кому они были адресованы.
Сегодня Черного кабинета не существует и это проделывают, ни от кого не таясь.
Принимая во внимание слухи о тройственном заговоре: республиканцев, орлеанистов и бонапартистов, — г-н Жакаль вот уже два месяца в свободное время не брезгал работой рядового полицейского. Всю ночь накануне описываемых нами событий г-н Жакаль собственноручно распечатывал и читал чужие письма.
Ему в руки попало письмо Коломбана к Доминику. Было это около половины пятого.
Начальник полиции не мешкая отправил верхового в Ба-Мёдон, приказав гнать во весь опор. Господин Жакаль, утверждавший, что Провидение не что иное, как хорошо отлаженная полицейская машина, надеялся, что его человек подоспеет вовремя; увы, полицейский прибыл минутой позже Людовика и компании и, следовательно, опоздал.
В суматохе никто не обратил внимания на полицейского. А он обнаружил письмо, адресованное мадемуазель Регине де Ламот-Удан, г-же Лидии де Маранд и мадемуазель Фраголе Понруа: он взял письмо и отвез г-ну Жакалю. Тот, прочтя его (как до этого сделал с письмом, адресованным Доминику), приказал своему человеку взять свежую лошадь и отвезти письмо туда, где оно было взято.
Это и исполнил посланец г-на Жакаля, когда двое молодых людей увидели, как начальник полиции разговаривал с одетым в черное человеком, чья лошадь была привязана у входа в кабачок. Господин Жакаль шепнул своему агенту, что тот может отправляться спать, а он доложит префекту полиции, как добросовестно агент выполнил задание.
LXI ДЕРЕВЕНСКИЙ ФИЛАНТРОП
Мы видели, как брат Доминик, приглашенный к умирающему г-ну Жерару, отправился на поиски этого достойного человека, тяжелое состояние которого так обеспокоило жителей деревни и ее окрестностей.
Дело в том, что г-н Жерар был филантропом в полном смысле этого слова.
Мы расскажем о нем все, что было известно в деревне.
Господин Жерар был богаче всех в Ванвре, да и в округе; это факт бесспорный. Никто не знал в точности его дохода, знали только, что цифра эта была огромна. Когда какого-нибудь крестьянина об этом спрашивали, он неизменно отвечал:
— Господин Жерар?
— Ну да, господин Жерар.
— Вы спрашиваете, богат ли он?
— Да.
— У господина Жерара столько денег, что он сам не знает, сколько именно!
Поговаривали, что раньше он жил недалеко от Фонтенбло в великолепном особняке, но разорился, когда на него свалились несчастья. Он был опекуном двух очаровательных детишек. Однажды они исчезли, и с тех пор никто не знал, что с ними сталось. Вскоре после того с ним приключилась другая беда: возвратившись как-то домой, он увидел, что его возлюбленную загрыз ньюфаундленд: по всей вероятности, пес взбесился, а вовремя этого не заметили.
Любого другого на его месте подобные несчастья заставили бы возненавидеть весь род людской, но г-н Жерар обладал высокими христианскими добродетелями; благодаря своей самоотверженности и милосердию он стал образцовым филантропом и кумиром местных жителей.
Году в 1821-м или 1822-м он приехал в Ванвр с намерением там поселиться. Он осмотрел все дома, предназначавшиеся для продажи, но ни один ему не подошел. Наконец он набрел на тот, в котором и обосновался. Вначале хозяин не хотел его продавать, но г-н Жерар предложил огромные деньги, владелец уступил ему дом, хотя строил его для себя.
С тех пор г-н Жерар, как мы сказали, жил в этом доме, жил как святой и в то же время как вельможа: удивлял безупречным поведением и щедро оделял всех нуждающихся. С его появлением в Ванвре деревня в самом деле вступила на путь процветания и скоро стала одной из самых богатых в окрестностях Парижа: нищие и неимущие зажили в достатке, а кое-кто из жителей выбился в богачи; этим богатством — относительным, разумеется, достигавшим уровня "позлащенной скромности", как сказал латинский поэт, — они всецело были обязаны г-ну Жерару.
Не было дома, в котором не чтили и не благословляли бы этого достойнейшего господина; его имя непременно сопровождали восторженными эпитетами: он был и "превосходным", и "порядочным", и "добродетельным", и "милостивым" г-ном Жераром.
Случалось, что урожай был плох: холодное лето не дало созреть хлебам, либо засуха сгубила урожай на корню, либо под градом полегли рожь и овес, либо из-за весенних дождей сгнили семена. И крестьянин, уныло опершись на бесполезную косу или ненужную лопату, с отчаянием смотрел на свою землю — единственную кормилицу его жены и детей, — опустошенную одним из тех бедствий, против которых человек бессилен. Но вот мимо проезжал верхом или в кабриолете г-н Жерар. Благодетель сейчас же спешивался или выходил из экипажа, подходил к крестьянину, участливо его расспрашивал, утешал, ободрял и прибавлял к своим словам более или менее значительную сумму; он ссужал каждого нуждающегося, руководствуясь не тем соображением, сколько тот может ему вернуть, а учитывая понесенный ущерб и действительные потребности пострадавшего, не заботясь при этом о собственной выгоде. Рассказывали даже, что тем, кто пользовался хорошей репутацией, он давал взаймы, даже не требуя расписки.
О нем рассказывали много хорошего. Был, например, известен такой случай. Один плотник упал с крыши и сломал ногу. Вместо того чтобы отправить его в больницу — так за год до того при подобных обстоятельствах поступил мэр Ванвра, а его считали одним из самых отзывчивых людей, — г-н Жерар приказал не только перенести к себе в дом увечного плотника, но и пригласить его жену и детей. Потом он послал в Мёдон за хирургом, г-ном Пилуа, и поручил ему заботу о несчастном, пообещав щедрое вознаграждение. Лечение длилось три месяца; все это время г-н Жерар ходил за плотником как за родным братом; жена и дети пострадавшего жили в доме как члены семьи, а на прощание г-н Жерар осыпал их милостями и подарками.
Как-то деревенский кабатчик, отец пятерых детей, потеряв жену и старшую дочь, впал в страшное отчаяние. Вопреки советам и увещеваниям соседей, он забросил торговлю, отложил важнейшие дела, растерял кредит и клиентов. Кредитор, менее терпимый по отношению к ближним, чем г-н Жерар, приказал описать мебель разорившегося; после ее продажи все семейство должно было неизбежно оказаться на улице и четверо детей были бы обречены на нищенство. Тогда только кабатчик спохватился; завидев судебного исполнителя, явившегося за мебелью в день торгов, бедный вдовец бросился к детям, умоляя простить его слабость и обещая свою жизнь тому, кто поможет ему выкупить заведение и вернуть честное имя. В это время мимо проходил г-н Жерар. Подойдя к толпе покупателей и зевак, собравшихся поглазеть на чужое горе, он, подозвав распорядителя, спросил, во сколько оценивается вся мебель. Тот ответил: тысяча восемьсот франков. Господин Жерар вынул из кармана три тысячефранковых билета; из этой суммы тысяча восемьсот франков предназначались, как он объявил, в уплату долга, а остальные деньги — на подъем торговли. Несчастный отец семейства бросился благодетелю в ноги, обливая его руки слезами признательности при восторженных криках всех присутствовавших.
Был еще такой случай. Одна крестьянка собирала хворост в мёдонском лесу и нашла полугодовалого мальчика; тот, лежа в опавшей листве, надсадно кричал. Женщина взяла ребенка на руки, принесла в Ванвр и стала показывать возмущенным жителям (при виде брошенного младенца толпа всегда приходит в негодование). На голову неизвестной матери обрушился огненный дождь проклятий. Несчастного подкидыша понесли в мэрию. Мэрия была приютом, родным домом для любого сироты. Однако на этот раз мэр заявил, что у коммуны на попечении и так слишком много сирот, а если речь о нем лично, то он не отказывает себе в удовольствии производить на свет детей по образу и подобию своему, однако отнюдь не намерен воспитывать неизвестно чьего ребенка в своем доме. В ответ на это толпа дружно возопила: "К добрейшему господину Жерару! К честнейшему господину Жерару! К добродетельнейшему господину Жерару!" И все устремились к дому филантропа с криками: "Ребенок! Ребенок!" Господин Жерар гулял в саду, когда эти крики достигли его слуха. Шум все приближался, и г-н Жерар понял, что люди бегут к нему. Однако услышанное им слово "ребенок" оказало на него необычайное действие: когда толпа ворвалась в сад, все увидели, что г-н Жерар сидит на скамейке, сильно изменившись в лице и дрожа всем телом. Впрочем, когда он понял, что речь идет о шестимесячном младенце, он мгновенно успокоился и, со свойственной ему добротой, распорядился послать за кормилицей, сговорился с ней относительно платы и объявил, что о малыше беспокоиться нечего: все заботы о нем он берет на себя. Правда, он пожелал, чтобы ребенок воспитывался вдали от него: лишившись двух дорогих его сердцу малюток, он не может спокойно смотреть на детей. И кормилица забрала малыша, а г-н Жерар исполнил свое обещание.
Короче, простой пересказ жизни г-на Жерара день за днем мог бы стать продолжением книги под названием "Человеколюбие в действии".
Землякам следовало бы поставить ему памятник, потому что все были ему чем-нибудь обязаны: коммуна — фонтаном на городской площади, огородники — удобной дорогой, которую они безуспешно просили проложить лет двадцать; церковь — святыми сосудами и картиной хорошего мастера; деревенские жители — несколькими домами, которые г-н Жерар заново отстроил после пожара, а также главной улицей, вымощенной за его счет.
Мы не говорим уж о тех, кому он помогал так же, как плотнику, кабатчику и многим другим: дальнейшее перечисление добрых дел г-на Жерара, безусловно весьма поучительное, утомило бы наших читателей; сознавая это, мы от него воздерживаемся.
Словом, г-н Жерар был истинным христианином и честным гражданином: он исполнял заповеди Господа и Церкви с достойным восхищения постоянством; его обожали все жители Ванвра, и их признательность к своему благодетелю была сродни преданности пса своему хозяину; его окружали таким почетом, словно он был членом королевской семьи; впрочем, даже сам король вряд ли мог встретить у фанатичных крестьян такой прием, какой они оказывали своему покровителю.
Аббата Доминика вызвались проводить к дому умирающего сразу несколько человек. Они-то и рассказали по дороге аббату о добродетельном г-не Жераре. Встревоженные жители стояли на пороге своих домов, кое-кто вышел на улицу, как это случается в дни национальных бедствий, когда люди особенно жадны до новостей.
При виде всеобщего отчаяния брат Доминик спросил у одного из провожатых, что за болезнь привела г-н Жерара на край могилы.
— Воспаление легких, — отвечал тот, к кому он обратился.
— Да, — поддержал его другой, — и погибает-то он, несчастный, от собственной доброты!
Оба деревенских жителя наперебой стали рассказывать Доминику о том, как две недели назад г-н Жерар, проходя через парк, услышал крики со стороны большого водоема. Он бросился в ту сторону. Несколько малышей бегали по берегу и звали на помощь. Их товарищ упал в воду: он потянулся за бумажным корабликом, оступился и теперь барахтался в воде. Господин Жерар вспотел после быстрого бега, но, однако, ни секунды не колеблясь, бросился в ледяную воду и вытащил ребенка. Мальчика он спас, а сам, промокший, дрожавший всем телом, вернулся домой в таком состоянии, что жалко было на него смотреть. Он переоделся, приказал развести огонь пожарче и лег в согретую постель, однако в тот же день у него начался жар; с тех пор он так и не оправился.
Этим утром врач г-н Пилуа заявил, что за больного не отвечает, и со всяческими предосторожностями дал понять бедному г-ну Жерару, что если ему нужно сделать какие-либо распоряжения, то самое время этим заняться.
Господин Жерар, по-видимому, не подозревал, что его болезнь настолько серьезна; услышав приговор доктора, он лишился чувств, хотя такого святого человека, как он, эта новость должна была бы напугать гораздо меньше, чем любого другого. Придя в себя, он тут же потребовал священника.
Поспешили за мёдонским кюре; однако, как уже известно читателям, того дома не оказалось: он отправился в соседнюю деревню причащать умирающего.
Тогда г-ну Жерару предложили обратиться к другому священнику, который, как говорили, был нездешним и прибыл в Ба-Мёдон, чтобы проводить в последний путь своего покончившего самоубийством друга. Господин Жеpap сейчас же послал камердинера за аббатом Домиником с приказанием во что бы то ни стало привести святого отца.
Читатели видели, как доминиканец оставил умершего и отправился к г-ну Жерару.
Брата Доминика, человека сердечного, способного понять чужую душу, тронул рассказ о благих деяниях г-на Жерара. Он ускорил шаг и прибыл к умирающему, готовый утешить и благословить.
Его не обманули, когда сказали, что он без труда найдет нужный дом: едва завидев священника, жители Ванвра спешили показать ему дорогу.
— Ах, господин аббат, — бормотали старухи, — вы услышите исповедь святого, вы можете заранее отпустить грехи нашему славному господину Жерару!
Аббат Доминик здоровался со всеми, изумляясь тому, что видит столь редко встречающуюся в людях добродетель, именуемую признательностью. Дверь указанного дома, словно церковные врата, оставалась открытой днем; впрочем, ее можно было бы не запирать и на ночь. Аббат торопливо поднялся по лестнице, которая вела в покои г-на Жерара; на верхней ступени он увидел камердинера, того самого, что приходил за ним в Ба-Мёдон и, получив согласие монаха, бегом бросился назад, чтобы порадовать хозяина вестью о скором утешении.
Однако, вопреки ожиданию, эта новость не успокоила, а словно еще больше взволновала святого человека. Ожидая аббата Доминика, он так тяжело вздыхал, что напугал слугу, и тот не остался в комнате хозяина вместе с сиделкой, невозмутимо дремавшей в огромном мягком кресле, а вышел на лестницу и там поджидал доминиканца.
Священник вошел в комнату.
LXII ИСПОВЕДЬ
Умирающий содрогнулся, и из его груди вырвался стон.
— Пригласите его сюда, — глухо проговорил он.
Брат Доминик подошел ближе и с интересом, даже с почтением заглянул в альков.
После всего того, что аббат Доминик услышал о г-не Жераре, он заранее проникся к нему восхищением и признательностью. Хотя аббат был молод, он повидал на своем веку немало дурных людей и теперь испытывал признательность к тому, кто был добр.
Подушка на постели была смята: видимо, больной все время метался в беспокойстве. Аббат увидел исхудавшее, мертвенно-бледное лицо человека, которого все единодушно называли добрейшим г-ном Жераром.
Аббат вздрогнул: не таким он представлял себе его.
Господин Жерар, увидев Доминика в красивом строгом одеянии, не похожем на то, которое носили французские священники, и вызывавшем в памяти полотна Сурбарана или Лесюёра, кивнул ему.
— Марианна, — жалобно простонал он, обращаясь к сиделке.
Заспанная Марианна встала и неуверенным шагом сомнамбулы подошла поближе.
— Как себя чувствует наш дорогой господин Жерар? — спросила она.
— Плохо, очень плохо, Марианна.
— Что-нибудь подать, сударь?
— Пить, Марианна! И оставьте меня с этим господином наедине.
Сиделка подала г-ну Жерару теплое питье; чтобы оно не остывало, его все время держали над спиртовкой. Господин Жерар отпил немного, дрожащей рукой вернул чашку сиделке и, обессилев, уронил голову на подушку.
Женщина приняла чашку и, видя, что в ней осталось три четверти содержимого, обратилась к умирающему.
— Выпейте, дорогой господин Жерар, — сказала она, подавая ему остатки питья с настойчивостью, которая превращает всех наемных сиделок в палачей: им словно вменено в обязанность пытать своих больных теплой водой.
— Спасибо, Марианна, спасибо, — поблагодарил г-н Жерар, отталкивая ее руку. — Задвиньте, пожалуйста, шторы и можете идти... Меня беспокоит яркий свет!
Марианна задернула шторы, такие плотные, что, не будь ночника, комната погрузилась бы в полный мрак.
За короткое время между появлением аббата в комнате и моментом, когда наступившая темнота скрыла от него лицо больного, Доминик не сводил взгляда с г-на Жерара, чья внешность, как мы уже говорили, удивила молодого священника.
Брат Доминик обладал особым даром определять характер человека по его лицу, что вообще свойственно духовным лицам и врачам.
Судя по тому, что ему рассказали о г-не Жераре, брат Доминик заранее представил себе того, кто мог бы соответствовать хвалебным описаниям.
Итак, он ожидал увидеть человека с высоким лбом, что является признаком незаурядного ума; с большими, чуть навыкате, глазами, доброжелательно разглядывающими собеседника; с прямым носом, свидетельствующим о твердости характера; с немного полными губами — как тому и положено быть, если человек любит ближнего.
О возрасте больного он даже не думал, это его и не интересовало: ему казалось, что добрые люди всегда прекрасны, а любая пора жизни имеет свою прелесть, и, значит, г-н Жерар должен быть по-своему красив, независимо от того, сколько ему лет.
Но при виде г-на Жерара священника постигло разочарование; вот чем можно объяснить тот факт, что Доминик невольно вздрогнул, а потом стал пристально всматриваться в черты лица умирающего.
Перед ним лежал мужчина лет пятидесяти — пятидесяти пяти, с низким и узким лбом, хотя лысеющая спереди голова из-за отсутствия волос могла показаться — пусть впечатление и поверхностное! — принадлежащей мыслящему человеку; тусклые серые глаза, маленькие и глубоко посаженные, часто мигали; веки были воспалены то ли вследствие бессонных ночей, то ли из-за излишеств в былые годы; густые щетинистые брови с проседью, сходившиеся на переносице, образовывали аркаду над глазами; нос был тонкий, острый и крючковатый; рот — большой, губы — бледные и невыразительные. Все это в сочетании с убегающим лбом делало г-на Жерара похожим скорее на стервятника, чем на человека.
Разумеется, болезнь исказила черты больного, однако нетрудно было себе представить, как выглядело это лицо, когда г-н Жерар пребывал в добром здравии. От такого физиономиста, как аббат Доминик, не могли укрыться низменные наклонности и малодушие, угадывавшиеся во всем облике этого человека.
За внешней свирепостью, свойственной стервятнику, с которым мы сравнили г-на Жерара, скрывалась слепая покорность, готовность уступить чужой воле; он словно был создан для рабства, в какой бы форме оно ни проявлялось. И если только более сильный морально или физически человек не посягал явно на животные инстинкты и личные интересы г-на Жерара, ему довольно было простереть над г-ном Жераром руку, чтобы заставить его повиноваться, — так, во всяком случае, казалось.
Нельзя сказать, что г-н Жерар был урод, но в его внешности было что-то особенно отталкивающее и свойственное только ему, sui generis[26], если можно так выразиться. В эту минуту на его некрасивом лице был написан ужас, что тоже вызывало омерзение.
Вид умирающего обыкновенно трогает любую душу, ведь в такие мгновения золотая нить мысли устремляется к Богу. Однако этот человек, близкий уже к агонии и могиле, вызывал не сочувствие, а непреодолимое отвращение. Если перед Домиником лежал добрейший человек, как утверждала народная молва, то было от чего прийти в отчаяние. Если Господь надевает на порядочных людей подобные маски, как же распознать злодеев?
Вот почему священник замер в растерянности перед этим олицетворением низости, перед этим типичным прохвостом и подлецом.
Будучи порядочным человеком, Доминик верил, что все люди несут на своем челе печать свойственных им добродетелей или пороков. И потому при виде г-на Жерара он почувствовал упадок духа. Он нахмурился и, сев у изголовья умирающего, уронил голову на грудь.
Сидя в таком положении, он не походил на священника, готового протянуть руку беспорочной душе. Вернее всего, он испрашивал у всемогущего Бога силы выслушать исповедь злодея и побороться за заранее обреченную душу с самим Сатаной.
Умирающий только стонал и плакал, и брату Доминику пришлось заговорить первым.
— Вы меня звали? — спросил он.
— Да, — ответил г-н Жерар.
— В таком случае, я вас слушаю.
Господин Жерар бросил на священника беспокойный взгляд, и его глаза, казавшиеся потухшими, сверкнули в полумраке.
— Вы очень молоды! — заметил он.
Доминик встал, не имея сил справиться с охватившим его чувством гадливости.
— Я не просил приводить меня сюда, — проговорил он.
Однако больной поспешно вытащил из-под одеяла исхудавшую руку и схватил монаха за полу сутаны.
— Нет, останьтесь! — продолжил он. — Я хотел сказать, что в вашем возрасте вы, может быть, недостаточно размышляли о мрачной стороне жизни и не найдете ответа на вопросы, которые я хочу вам задать.
— Что мне на это сказать? — отвечал священник. — Если вы будете спрашивать, взывая к моей душе, я отвечу вам от всей души; если вы обратитесь к моему разуму, я постараюсь ответить, сообразуясь с разумом.
Наступило молчание. Монах продолжал стоять.
— Садитесь, святой отец, — умоляюще проговорил г-н Жерар.
Доминик снова опустился на стул.
— Теперь, святой отец, — промолвил больной, — Небом заклинаю: пусть вас не возмущают просьбы, с которыми я собираюсь к вам обратиться, и прежде всего обещайте мне, что не уйдете, пока не выслушаете мою исповедь до конца... Для такой тайны, как моя, довольно будет и одного свидетеля!
— Говорите, — сказал священник.
— Вы лучше меня знаете догматы Церкви, которую представляете, святой отец...
Господин Жерар замолчал.
— Святой отец, — продолжал он после некоторого колебания, — вы верите в загробную жизнь?
Священник взглянул на него, не скрывая презрения.
— Если бы я не верил в мир иной, — заметил он, — разве в этом мире я надел бы на себя сутану?
Господин Жерар тяжело вздохнул. Довод доминиканца вполне его убедил.
— Да, понимаю, — сказал он. — А вы верите, святой отец, что в загробной жизни человеку воздается по делам его?
— А иначе зачем же загробная жизнь?
— И вы полагаете, святой отец, — продолжал умирающий, — что исповедь совершенно необходима для отпущения наших грехов и что прощение Господне может снизойти на виновного лишь через посредство Божьего слуги?
— Так утверждает Церковь, сударь.
— Однако я считал, — начал было умирающий, — что в случае полного раскаяния...
— Да, разумеется, — согласился доминиканец, всем своим видом показывая, как ему неприятен этот теологический спор, — разумеется, в том случае если Божьего посланника рядом не оказалось, полное раскаяние может заменить отпущение грехов.
— Значит, человек, который полностью раскаивается...
Священник посмотрел на умирающего.
— ...который раскаивается или думает, что раскаивается?..
Господин Жерар умолк.
— Какой грешник может похвастать полным раскаянием? — спросил доминиканец. — Какой преступник возьмется утверждать, что его раскаяние не продиктовано страхом, а угрызения совести — ужасом? Какой умирающий может сказать: "Если завтра Господь вернет мне жизнь, я употреблю ее на искупление совершенного мною зла"?
— Я! Я! — вскричал г-н Жерар. — Я могу это сказать!
— В таком случае, — заметил священник, — я вам не нужен, сударь.
И он снова поднялся.
Но г-н Жерар быстрым как мысль движением вцепился в его сутану и прошептал:
— Нет, нет, останьтесь, святой отец!.. Я сам себя обманываю: не раскаяние, не угрызения совести заставляют меня говорить, а смертельный ужас! Мне нужно прощение людей, прежде чем я предстану перед Господом! Останьтесь, святой отец, умоляю вас!
Доминик снова сел и смиренно проговорил:
— Я здесь, чтобы исполнять вашу волю, а не свою. Если бы не это, Бог мне свидетель, я ушел бы прямо сейчас. Вы говорили об ужасе. Не знаю почему, но, слушая вас, я испытываю почти такой же ужас, как и тот, что удерживает вас от признаний.
— Святой отец, — продолжал г-н Жерар, — правда ли, что я близок к смерти, как говорят?
— Об этом надобно спросить у доктора, а не у меня, брат мой, — отвечал священник.
— Мне кажется, я еще полон сил и могу повременить, святой отец... — неуверенно продолжал больной. — Не могли бы вы прийти завтра... или сегодня вечером?
— Возможно, вы и подождали бы, да я не вернусь: мне надлежит исполнить священный, печальный долг, поэтому через два часа я уезжаю в Бретань.
— A-а, вы уезжаете... Покидаете Париж... через два часа?
— Да.
— Надолго?
— Как будет угодно Господу! Я еду утешить отца, потерявшего сына.
— Ну, — пробормотал больной, — значит, так тому и быть... Стало быть, вас послал сам Господь... Так вы уезжаете? Наверное?
— Да, если только Господу не будет угодно вернуть к жизни покойника, которого я собираюсь сопровождать.
— А вы уверены, что это чудо невозможно?
У Доминика сжалось сердце. Страхи и сомнения этого человека причиняли ему безотчетное отвращение.
— Увы, да! — сказал он. — В этом я уверен.
Добрый священник вытер платком слезу, чувствуя невольное облегчение оттого, что может за собственным горем хоть на минуту забыть о животном ужасе г-на Жерара, а тот, не замечая чужих слез, шептал:
— Да, да, так лучше... Через два часа он уезжает; возможно, он никогда не вернется... а мёдонский кюре остается!
Сделав над собой усилие, он проговорил:
— Выслушайте меня, святой отец. Я все вам расскажу...
Умирающий тяжело вздохнул и закрыл лицо руками, словно собираясь с мыслями.
Монах прислонился к спинке стула.
Мало-помалу его глаза привыкли к темноте, вернее, к полумраку комнаты, едва освещаемой мертвенным светом, исходившим от алебастрового ночника и сообщавшим ей таинственный и фантастический вид.
В потемках череп умирающего казался еще более костистым, облысевшим, неживым, а лицо — еще более осунувшимся, бледным, еще более гнусным и омерзительным.
Господин Жерар заговорил слабым голосом, не поднимая головы; при первых же словах необычной исповеди, которую монах стал слушать, еще не подозревая, какой его ждет рассказ, он отодвинулся вместе со стулом, словно избегая этого голоса и боясь запачкаться!
LXIII ЖЕРАР ТАРДЬЕ
Впрочем, в этих первых словах не было ничего необычного; нечто подобное мог бы произнести любой исповедующийся.
— В тридцать лет я остался вдовцом, — начал умирающий, — и мой первый брак доставил мне столько хлопот, что я поклялся ни за что на свете не жениться в другой раз. У меня не было на свете родственников, кроме старшего брата. Он уехал из родных мест в тысяча семьсот девяносто пятом году в Тулон, а там сел на корабль, направлявшийся в Бразилию. Военная карьера ему претила, земледелие его не привлекало, а при мысли быть лавочником он приходил в ужас. Он бредил поездками, путешествиями, приключениями, и дальние страны были для него землей обетованной.
Изо всех этих стран он отдал предпочтение Бразилии. И вот он отправился в Рио-де-Жанейро, взяв с собой небольшую партию товара, всего на тысячу экю. Я получил от него только три письма. Первое — в тысяча восемьсот первом году. В этом письме он сообщал, что разбогател, и приглашал меня к себе; я не выношу морской качки и потому отказался. В тысяча восемьсот шестом году пришло другое письмо; брат писал, что он разорился и что я правильно поступил, оставшись во Франции. Одиннадцать лет о нем не было никаких сведений, ни единой хотя бы косвенной весточки. Наконец в тысяча восемьсот семнадцатом он снова мне написал. Со времени его отъезда прошло двадцать пять лет, а это было только третье письмо! Он снова разбогател, его состояние теперь исчислялось многими миллионами; он женился, у него было двое детей; он писал, что собирается скоро вернуться на родину и что теперь, когда он стал миллионером, больше всего на свете ему хочется снова увидеть Францию и пожить со мной вместе!
И вот в июне тысяча восемьсот семнадцатого года он прибыл в Париж. Я получил от него записку. Он просил срочно к нему приехать. Во время путешествия он потерял жену; он пал духом, и только мое братское участие могло как-то его утешить. Я сам сгорал от нетерпения повидаться с ним: несмотря на годы разлуки, я любил его, как и в юности. Получив его письмо, я решил встретиться с ним и распрощался с друзьями в Викдесо.
Услышав это название, монах поднял голову.
— В Викдесо? — переспросил он. — Вы жили в Викдесо? В департаменте Арьеж?
— Там я и родился, — подтвердил больной. — Впервые я покинул родные места, чтобы отправиться в Париж. Но лучше бы я никогда не уезжал!
Доминик взглянул на умирающего с любопытством и в то же время с некоторым беспокойством. Однако г-н Жерар не заметил невольного — впрочем едва уловимого — движения монаха, и продолжал:
— Через неделю я был в Париже и с трудом узнал Жака: так он переменился. А брат узнал меня сразу и расцеловал с такой радостью, что я и сейчас, вспоминая об этом, не могу удержаться от слез... Какая страшная пытка — все время ощущать на своих щеках его нежные поцелуи!
Господин Жерар вытер платком взмокший лоб и на некоторое время ушел в себя, словно охваченный воспоминаниями.
Доминик разглядывал его со все возраставшим любопытством: было заметно, что ему не терпится заговорить с г-ном Жераром, задать какой-то вопрос, но внутренний голос подсказывал ему, что этого делать нельзя или, во всяком случае, еще не пришло время.
Господин Жерар попросил монаха передать ему с ночного столика флакон с солью; несколько раз глубоко вдохнув, он продолжал:
— Несчастный Жак был так же бледен, истощен, разбит, как я теперь. Казалось, одной ногой он уже стоит в могиле... Он поведал мне о смерти своей жены, рассказ прерывали рыдания, свидетельствовавшие о его скорби. Потом он приказал привести детей; в них угадывалось сходство с матерью, что было особенно дорого Жаку. Из привели. Дети были прелестные; старший, мальчик, — светловолосый, свеженький, розовощекий, весь в мать; девочка просто очаровательная: ее восхитительные темные волосы, брови, ресницы и черные глаза подчеркивали белизну кожи, а щечки, позолоченные бразильским солнцем, напоминали цветом виноград наших родных краев. Ей было четыре года; ее звали Леони, а ее шестилетнего брата — Виктор.
И вот что странно — я только сейчас об этом вспомнил, — оба, завидев меня, испугались и отказались меня поцеловать. Жак все повторял: "Это же мой брат! Это ваш дядя!", но девочка расплакалась, а мальчик убежал в сад. Отец стал извиняться. Бедный Жак! Он безумно любил детишек и не мог на них смотреть без слез, так они напоминали ему жену: мальчик — чертами лица, девочка — характером. Поэтому, несмотря на огромную любовь к ним, дети доставляли ему почти столько же скорби, сколько и радости. Когда он долго на них смотрел, он начинал задыхаться и приказывал гувернантке: "Уведи их, Гертруда!"
Я относился к брату с большой нежностью: его здоровье не на шутку меня беспокоило. Помимо подтачивавшей его тоски — от нее со временем его могли излечить любовь детей и мои заботы, — Жака изводила осенью болотная лихорадка; подхватив ее во время путешествия в Мексику, он так и не смог от нее избавиться; с тех пор как он вернулся во Францию, малярия его не отпускала. Мы обратились к лучшим парижским докторам; они оказались бессильны перед этим недугом и ограничились рекомендацией переехать за город — советом для тех, кому уже нечего предписать. Болезнь изо дня в день оставляла на лице Жака свой пагубный след; к вечеру он становился еще бледнее и слабее, чем утром, а утром бледнее и слабее, чем накануне... Я отправился на поиски загородного дома; и вот однажды, возвращаясь из Фонтенбло, я увидел возле Кур-де-Франс, примерно в пяти льё от Парижа, объявление о продаже большого загородного дома в Вири...
— В Вири-сюр-Орж? — вопросительно глядя на г-на Жерара, перебил монах тем же тоном, каким до этого спросил: "В Викдесо?"
— Да, в Вири-сюр-Орж, — повторил г-н Жерар. — Вам знакомы те места?
— Я о них слышал... но никогда не бывал там, — ответил священник слегка изменившимся голосом.
Однако больной был слишком занят собственными мыслями и не подумал о том, какое впечатление его рассказ мог произвести на собеседника.
Он продолжал:
— Вири-сюр-Орж расположен приблизительно в четверти льё от того места, где я тогда находился; я пошел в направлении, которое указал мне один крестьянин, и спустя четверть часа очутился перед домом или, вернее, перед замком, который впоследствии стал моим.
Священник тоже вытер лицо платком.
Казалось, при каждой услышанной фразе перед его мысленным взором вспыхивают неясные огоньки, какие мы видим во сне, безуспешно пытаясь с их помощью восстановить давно минувшее событие.
— К дому вела длинная липовая аллея, — продолжал г-н Жерар. — Потом, пройдя переднюю и столовую, вы оказывались с другой стороны, на просторном каменном крыльце, и взгляду открывалось удивительное зрелище. Парк в окружении вековых дубов отражался в красивом глубоком водоеме, который ночью был похож на огромное серебряное зеркало. Озерцо это поросло по краям камышом, тростником и ольшаником; на поверхности плавали крупные кувшинки, а десять или двенадцать арпанов земли, служившие рамой этому водному зеркалу, пестрели самыми разными цветами, свезенными со всех концов света. Их аромат чувствовался за пятьсот шагов от замка, подобно благоуханной атмосфере, ощущаемой за два льё от Граса. Очевидно, дом принадлежал большому любителю природы: там были собраны самые необычные растения... Ах, Боже мой! — прошептал больной, — теперь мне кажется, что в таком раю можно было бы жить счастливо!
Я осмотрел дом: внутреннее убранство было под стать тому, что я увидел с крыльца. Старинный замок сверху донизу был обставлен в современном стиле; убранство замка поражало богатством, изысканностью и удобством. Дом мне показала женщина, служившая еще прежнему владельцу. Многочисленные наследники продавали замок, чтобы соблюсти интересы каждого.
Водившая меня по дому служительница занимала при покойном владельце не вполне определенную должность: она называла себя доверенным лицом, а в деревне поговаривали, что она присвоила себе наличные деньги, оставшиеся в доме к тому времени, когда умер хозяин. Это была тридцатилетняя женщина, высокая, энергичная; по ее баскскому выговору в ней нетрудно было распознать уроженку наших краев. В ее взгляде, осанке, манерах было что-то мужское, и это меня поначалу оттолкнуло. По моему выговору она поняла, что мы почти земляки, и на этом основании предложила свои услуги: если я куплю замок на свое имя или на другое, она хотела бы остаться в доме в том же качестве, что и прежде, в крайнем случае — горничной или поварихой.
Я сказал, что ищу замок не для себя, а для брата, потому что сам я столь же беден, сколь мой брат богат. Боюсь только, прибавил я, что дорогому Жаку недолго осталось пользоваться своим состоянием. Она стала расхваливать чудесный воздух тех мест, удачное расположение замка, обратила мое внимание на соседство с Парижем, куда можно было добраться за час, и главное — продавалось это роскошное имение совсем недорого: его готовы уступить за сто двадцать, а то и за сто тысяч тому, кто заплатит наличными, потому что наследникам не терпится получить свою долю.
Мой брат рассчитывал именно на эту сумму. Я решил, что имение ему подходит, обещал Ореоле Путаэ — так звали доверенное лицо прежнего владельца замка — сделать все возможное, чтобы уговорить брата, во-первых, купить замок и, во-вторых, оставить ее при себе. Я так пространно рассказываю вам об этой женщине, потому что она ужасным образом повлияла на мою жизнь...
Едва расставшись с ней, я сам удивился, что обещал похлопотать за нее перед Жаком; она произвела на меня, повторяю, скорее отталкивающее впечатление. Этот замок мне понравился; я расхвалил его Жаку; тот поручил мне довести это дело до конца, и неделю спустя я купил на имя брата имение за сто тысяч франков.
Мы переехали в тот же день, как внесли за дом деньги корбейскому нотариусу. Наша прислуга состояла из садовника, выездного лакея, кухарки и горничной (она же должна была присматривать за детьми). Еще у нас был щенок — помесь сенбернара с ньюфаундлендом: его по просьбе детей нам уступил хозяин парижского особняка; малыши играли с собакой с утра до вечера и не хотели с ним расставаться; они прозвали его Брезиль в память о стране, где родились.
По моей рекомендации Ореолу оставили в доме. В тот же день она показала брату весь замок, определила каждому из нас комнату, объяснила слугам их обязанности и, коварная смиренница, сразу забрала в доме такую же власть, какой пользовалась при прежнем владельце.
Впрочем, никто не мог пожаловаться на то, как она распоряжалась: казалось, она угадывала любое наше желание и во всем старалась услужить. Даже у Брезиля появилась отличная конура, и он чувствовал бы себя счастливейшим из псов, если бы не вделанная в стену цепь, очень его беспокоившая и словно посягавшая на его будущую свободу.
В нашем новом жилище все было продумано до мелочей, и потому всем нам жилось легко и удобно с первого же дня. Мы провели там конец лета и осень. Хотели было вернуться на зиму в Париж, но Жак предпочел деревню со всеми ее неудобствами, которые, впрочем, почти всегда нетрудно устранить, если есть деньги. Итак, Жак предпочел деревню Парижу.
Так мы и жили до февраля тысяча восемьсот восемнадцатого года. Бедный брат таял с каждым днем. Однажды он позвал меня к себе в спальню, отослал детей и, когда мы остались одни, сказал: "Дорогой Жерар, мы мужчины и должны поговорить, а главное — поступить по-мужски".
Я сидел у его постели. Догадавшись, о чем пойдет речь, я попытался убедить Жака в том, что жизнь его вне опасности. Но он жестом остановил меня и стал говорить:
"Брат, я чувствую, как с каждым мгновением из меня уходит жизнь. И я ни о чем не жалел бы — ведь там я встречусь с дорогой супругой, — если бы меня не беспокоило будущее моих детей. Считаю, что, вверяя их судьбу в твои руки, могу быть спокоен — я знаю тебя как себя самого. К сожалению, ты не отец и никогда не сможешь полностью стать им, раз это не твои дети. Когда воспитываешь детей, важны две вещи: материальная сторона, то есть забота о теле, и интеллектуальная, то есть духовная жизнь. Ты мне ответишь, что мальчика можно отдать в хороший коллеж, а девочку — в превосходный монастырь. Я думал об этом, друг мой; но бедные дети привыкли к цветам, деревьям, вольному воздуху, солнцу. Я трепещу при мысли, что их заточат в эти темницы, именуемые пансионами, в эти клетки под названием дортуары! И потом, по моему мнению, большое дерево вырастает только на воле... Прошу тебя, дорогой Жерар, не надо коллежа, не надо монастыря!"
Я поклонился.
"Как тебе будет угодно, брат, — сказал я. — Приказывай: я готов повиноваться".
"Я уже давно подумывал о том, — продолжал Жак, — чтобы подыскать для них воспитателя, врачевателя душ, так сказать. Но я ни на ком не мог остановить свой выбор. И вот Господь, видно, снизошел до меня и хочет успокоить меня перед смертью: он послал одного из моих друзей, находившегося за полторы тысячи льё отсюда, и вчера мой друг прибыл, чтобы вывести меня из затруднения..."
Действительно, накануне какой-то человек спрашивал Жака, отказываясь назвать свое имя. Его провели к брату, и незнакомец пробыл у него около часу.
"Ты говоришь о человеке, который приходил к тебе вчера?" — спросил я.
"Да, — кивнул он. — Я знавал его раньше и изредка с ним виделся. Но я успел оценить смелость его суждений, откровенность, доброту. В двух или трех случаях, когда он смело рисковал жизнью, у меня была возможность убедиться в его мужестве. Не многие, как он, внушали мне симпатию с первого взгляда; со временем я убедился в том, что не ошибся в этом человеке. Он оказал мне услугу, за которую я буду ему признателен до последнего дня..."
Молодой монах слушал со все возраставшим вниманием. Казалось, рассказ умирающего имеет какое-то отношение к его собственной судьбе.
Господин Жерар заговорил снова.
— "Весьма важные дела, вопросы, касающиеся самых высоких интересов политики этой страны и известные мне, но о которых я не имею права говорить ни с кем, даже с тобой, — продолжал Жак, — вынуждали его дважды покидать Францию, а сегодня заставляют его вернуться, но он должен скрываться. Вчера он приходил просить у меня крова. Он подвергается гонениям, его оскорбляют подозрениями, но, к слову сказать, в его действиях не было и нет ничего предосудительного. Брат! Я хочу доверить этому человеку воспитание своих детей..."
Дыхание монаха стало сбивчивым; время от времени он отирал платком лицо. Казалось, в нем происходит внутренняя борьба, он был в смятении. Даже больной наконец заметил это.
— Вам плохо, святой отец? — спросил он, прервав свой рассказ. — Вам что-нибудь нужно? В таком случае, позовите Марианну.
Потом он шепотом прибавил:
— Увы, мне еще многое нужно вам рассказать; я, как могу, оттягиваю время — впереди ужасное признание... Наберитесь терпения, отец мой, умоляю!
— Продолжайте, — проговорил монах.
— На чем я остановился? Я уже не помню...
— На том, что ваш брат Жак расхваливал нравственные принципы и мужество своего друга, которому хотел поручить воспитание детей.
— Да, верно... "Это человек очень образованный, — прибавил Жак, — чего он только не знает: древние языки, современные языки, историю, науки и ремесла — одним словом, он знает все. Это ходячая энциклопедия. Если бы я был уверен, что он будет здесь жить до совершеннолетия детей, я бы умер почти без сожаления".
"Что же может ему помешать жить с нами?"
"Его обязанности! Может так статься, что он будет вынужден в одночасье покинуть Францию, не на год-два, навсегда... Если ему придется оставить наш дом, я тебе поручаю найти ему замену. У него есть сын, посвятивший себя Церкви..."
— Прошу прощения, — перебил больного Доминик и поднялся. — Я не могу, не имею права слушать вашу исповедь, сударь.
— Почему же, святой отец? — изменившимся голосом спросил г-н Жерар.
— Потому, — отвечал монах, и голос изменил ему точно так же, как г-ну Жерару, — потому что я вас знаю, а вы меня — нет; потому что я знаю, кто вы, а вы не знаете, кто я.
— Вы меня знаете? Вам известно, кто я такой? — в ужасе вскричал больной. — Это невозможно!
— Вас зовут Жерар Тардье, не правда ли, а не господин Жерар?
— Да... Но вы, кто же вы такой? Как зовут вас?
— Меня зовут Доминик Сарранти.
Больной испустил истошный вопль.
— Я сын Гаэтано Сарранти, — продолжал монах, — того самого Гаэтано Сарранти, которого вы обвинили в убийстве и краже, а он невиновен, в чем я могу присягнуть!
Умирающий приподнялся на постели, потом рухнул, уткнувшись лицом в подушку, и глухо застонал.
— Вы сами видите, — заметил монах, — что, если бы я стал слушать вашу исповедь дальше, я обманул бы вас, потому что не милости просил бы для вас у Господа, а наказания за то, что вы оболгали и обесчестили моего отца.
С силой оттолкнув стул, доминиканец двинулся к двери.
Но он снова почувствовал, что умирающий удерживает его за полу сутаны.
— Нет, нет, нет! Останьтесь! — крикнул г-н Жерар изо всех сил. — Останьтесь! Само Провидение привело вас сюда! Останьтесь! Господь позволил мне перед смертью искупить совершенное мною зло!
— Вы в самом деле этого хотите? — спросил монах. — Берегитесь! Я тоже хочу этого, и Бог знает, чего мне стоило признаться, кто я такой, и не злоупотребить случаем, который привел меня к вам.
— Скажите лучше: Провидение, брат мой! Скажите: Провидение! — повторил больной. — О, я бы пошел за вами хоть на край света, если бы знал, где вас искать! Я хочу, чтобы вы услышали мое признание, страшное признание, которое мне остается вам сделать.
— Вы этого хотите? — вновь спросил Доминик.
— Да, — подтвердил больной, — да, прошу вас, умоляю! Да, я так хочу!
Дрожа всем телом, монах снова упал на стул, возведя к небу глаза, и прошептал:
— Боже мой! Боже! Что я сейчас услышу?
LXIV ГЛАВА, В КОТОРОЙ СОБАКА ВОЕТ, А ЖЕНЩИНА ПОЕТ
После того, что вследствие столь необычного стечения обстоятельств узнал брат Доминик, ему потребовалось огромное усилие, чтобы не выдать своего смятения.
Мы уже представляли читателю нашего молодого героя, словно сошедшего с полотна Сурбарана; походка, выражение лица, манера говорить — все в нем носило отпечаток мрачной и глубокой печали, тщательно скрываемой от чужих глаз.
Причины этой печали, которых монах никогда никому не открывал, нам предстоит узнать в то время, как будет исповедоваться в своих грехах или, вернее, когда станет рассказывать о последних годах своей жизни Жерар Тардье — тот самый, которого в Ванвре и окрестных деревнях зовут добрейшим, честнейшим, добродетельнейшим г-ном Жераром.
Итак, больной заговорил снова; его слабый голос то и дело прерывался рыданиями, вздохами и стонами:
— "Состояние же мое поделить нетрудно, — продолжал брат. — Почувствовав приближение смерти, я все предусмотрел. Вот копия моего завещания, переданного господину Анри, корбейскому нотариусу. Передаю тебе эту бумагу; прочти и скажи мне, не забыл ли я кого-нибудь. Надеюсь, тебе нечего будет возразить, потому что дело это, как я уже сказал, несложное. Я оставляю детям по миллиону. Я хочу, чтобы за вычетом суммы, необходимой на их образование и содержание, весь доход с этих двух миллионов оставался неприкосновенным до их совершеннолетия. Тебе, брат, я поручаю за этим проследить. Что касается тебя, дорогой Жерар, я, зная твою неприхотливость, оставляю тебе на выбор: либо сто тысяч экю наличными, либо пожизненную ренту в двадцать четыре тысячи франков. Если ты вздумаешь снова жениться, возьмешь из доходов с наследства детей либо еще шесть тысяч ренты, либо еще сто тысяч франков. Если кто-нибудь из моих детей умрет, другой наследует всю его долю; если умрут оба..."
При одной только мысли об этом голос брата прервался; я с трудом разбирал его слова.
"Если умрут оба, то, поскольку у них нет других родных, кроме тебя, ты станешь их наследником. Я также подумал о том, чтобы наградить всех слуг, — можешь об этом не беспокоиться. Я счел ненужным оговаривать в завещании сумму на образование и воспитание моих детей; этими расходами ты распорядишься сам, не швыряясь деньгами, но и не скаредничая. Есть, однако, один вопрос, на который мне бы хотелось обратить твое внимание. Я прошу платить моему другу Сарранти не меньше шести тысяч франков в год. Мне всегда казалось, что люди слишком экономят на образовании своих детей; если бы я возглавлял министерство просвещения, я бы позаботился о том, чтобы учителя, отдающие всю свою жизнь формированию сердец и умов нового поколения, получали больше, чем лакеи, которые чистят платье господам!"
Монах зажимал платком рот, чтобы сдержать рыдания.
Такая предусмотрительность Жака Тардье, стремившегося защитить достоинство друга, тронула Доминика до глубины души.
— "Если один из детей умрет, — продолжал больной, пересказывая последнюю волю своего брата, — сто тысяч франков из доли умершего перейдут к Сарранти; если умрут оба, то двести тысяч..."
Доминик встал и перебрался в кресло, стоявшее в углу комнаты, чтобы хоть немного поплакать вволю.
Удаляясь от постели, он не сдержался и смерил больного презрительным взглядом.
Однако он справился с волнением: посидев несколько минут в углу комнаты, он встал и медленным, тяжелым шагом подошел к умирающему.
Из-под насупленных бровей монах смотрел вопросительно; было ясно, что он с нетерпением ждет продолжения исповеди и рад бы поторопить ее, но в то же время не хочет упустить ни малейшей подробности.
А больной был в изнеможении и от того, что долго говорил, и от пережитого волнения; смертельно побледнев, он уронил голову на подушку и, казалось, потерял сознание.
Доминиканец задрожал при мысли, что г-н Жерар не успеет закончить исповедь и оставит его в неведении о событиях, про которые ему необходимо узнать.
Он приблизился к больному, постаравшись скрыть омерзение к нему, и спросил, не нужно ли ему чего-нибудь.
— Брат мой, — выговорил тот, — дайте мне ложку сердечного лекарства с камина... Если даже я убиваю себя этим рассказом, я все равно хочу вам во всем признаться!
Монах подал г-ну Жерару ложку эликсира; тот проглотил лекарство, и к нему словно вернулись силы. Он знаком пригласил Доминика занять прежнее место и продолжал:
— Итак, брат передал мне копию завещания; я возражал против его щедрости по отношению ко мне; напрасно я говорил, что привык жить на тысячу пятьсот — тысячу восемьсот франков в год и не нуждаюсь ни в огромном капитале, ни в такой большой ренте; он ничего не желал слушать, заявив, что брат человека, оставляющего детям по миллиону, не должен ни в чем нуждаться; что опекун, который будет распоряжаться от имени этих детей состоянием в двести тысяч ливров ренты, способным увеличиться вдвое, не должен выглядеть хотя бы в глазах своих племянников нахлебником, живущим за их счет. В конце концов я согласился — с грустью и в то же время с благодарностью. Ведь до тех пор, святой отец, я заслуживал звание честного человека и лишь потом узурпировал его; я с радостью согласился бы не только лишиться состояния, которое оставил брат, но и моего собственного, если бы что-нибудь имел, — лишь бы спасти брата или хоть на несколько лет продлить ему жизнь. К несчастью, болезнь оказалась смертельной; на следующий день после этого разговора Жак едва смог пожать руку... вашему отцу... — с трудом выговорил больной, — вашему отцу... — повторил он, собираясь с силами, — который прибыл в замок после полудня... Не стану описывать вам внешность господина Сарранти, брат мой; позвольте мне сказать лишь несколько слов о своем первом впечатлении. Никогда, клянусь перед Богом и перед вами, ни один человек не внушал мне с первого взгляда такой симпатии, такого уважения. Видно было, что порядочность составляет главную черту его личности; это невольно располагало к нему окружающих: они охотно предлагали ему свою дружбу и любовь. В тот же вечер он остался в доме по просьбе Жака; тот желал умереть непременно на руках лучших друзей — господина Сарранти и меня. Ваш отец поднялся ко мне и сказал:
"Господин Жерар! Не сочтите за дерзость, что, едва поселившись в доме, я обращаюсь к вам с важной просьбой".
"Говорите, сударь, — отвечал я. — Уважение и дружба, которые питает к вам мой брат, дают мне право сказать то, что сказал бы вам он сам: "Мое сердце, как и мой кошелек, — к вашим услугам"".
"Благодарю вас, сударь, — проговорил ваш отец. — Я буду по-настоящему счастлив в тот день, когда вам доведется испытать мою признательность. Теперь же я прошу вас лишь оказать мне доверие. К нашему общему прискорбию, дни бедного Жака сочтены. Это обстоятельство вынуждает меня обратиться не к нему, а к вам".
"Я буду рад оправдать ваше доверие и заменить моего брата. Чем могу быть вам полезен?" — спросил я.
"Вот чем, сударь".
Я внимательно слушал.
"Лицо, чье имя я пока вынужден сохранять в тайне, — продолжал господин Сарранти, — поручило мне передать нотариусу сто тысяч экю; эти деньги у меня с собой, в чемодане. Я хочу просто сдать их на хранение. Помещение капитала и, следовательно, проценты меня не интересуют, понимаете? Главное условие: по первому требованию лица, которое я представляю, мне должны вернуть эти деньги".
"Нет ничего проще, сударь; на таких условиях многие сдают нотариусу довольно значительные суммы".
"Спасибо, сударь. Вы меня отчасти успокоили. Теперь вот еще что (и это главная услуга, о которой я вас прошу!): помогите мне сдать эти деньги. Я не могу это сделать от своего имени, так как известно, что у меня нет никакого состояния. На имя вашего брата также не поместить эту сумму: с минуты на минуту Господь призовет его к себе. И я бы желал, чтобы деньги были положены на..."
"На мое имя?" — только и спросил я.
"Да, сударь. Вот о какой услуге я вас прошу".
"Я готов сделать для вас больше, сударь. Ведь то, о чем вы просите, не услуга даже, а простая любезность. Скажите, когда вам будет угодно сдать деньги на хранение; я исполню ваше желание и передам вам доверенность, чтобы в случае моего отъезда или внезапной смерти вы могли получить у нотариуса деньги как их истинный владелец".
"Если бы деньги принадлежали мне, — сказал господин Сарранти, — я бы отказался от доверенности, полагая эту меру предосторожности излишней. Но, как я вам уже сказал, они не мои и должны послужить высокой цели. Итак, я принимаю не только услугу, но все предлагаемые вами меры, которые позволят мне в нужную минуту получить всю сумму или ее часть".
"Давайте деньги, сударь, и через час они будут у господина Анри".
В чемодане у господина Сарранти в самом деле лежали триста тысяч франков золотом. Мы их пересчитали, а потом я запер их в шкатулку. Я составил расписку по всей форме, приказал заложить карету и отправился в Корбей.
Через полтора часа я вернулся домой. Господин Сарранти сидел у постели моего брата; Жаку становилось все хуже. Он несколько раз меня спрашивал, был очень плох, и доктор сказал, что он вряд ли доживет до утра. Около двух часов ночи Жак пожелал проститься с детьми. Гертруда, дежурившая вместе с нами у его постели, разбудила их и привела к отцу. Несчастные малыши заливались слезами, хотя до конца не понимали, какое горе на них свалилось. Они инстинктивно чувствовали, что над ними нависло что-то таинственное, мрачное, неизбывное: это была смерть!
Жак благословил детей, стоявших у кровати на коленях, и, поцеловав обоих, сделал Гертруде знак увести их. Малютки не хотели уходить; когда их силой уводили из комнаты, их плач перешел в рыдания, а рыдания — в крики. То была душераздирающая сцена: эти крики будут вечно звучать у меня в ушах... впрочем, — прибавил умирающий, — это еще не самое страшное для меня наказание!..
Больной вновь лишился чувств. Священник боялся, что повторная доза спасительного эликсира ослабит его действие; на сей раз он ограничился тем, что дал г-ну Жерару понюхать соли, и этого оказалось довольно.
Умирающий снова открыл глаза, тяжело вздохнул, вытер катившийся по лицу пот и продолжал:
— Спустя час после ухода детей мой брат скончался. Смерть была тихая; умер он, как и хотел, у нас на руках... на руках у двух порядочных людей, сударь! Ведь пока был жив брат, я не только не совершил ни одного дурного поступка, но у меня и в мыслях не было ничего такого, в чем я мог бы себя упрекнуть. На следующий, точнее, в тот же день, с утра пораньше, детей удалили; Гертруда вместе с Жаном (так звали нашего лакея) увезли их в Фонтенбло на пару дней; отдав последний долг другу, господин Сарранти должен был отправиться к ним. Дети спрашивали, почему им не разрешают проститься с папочкой; им сказали, что он еще спит. Тогда старший, Виктор, — не знаю, святой отец, как у меня язык повернулся произнести его имя! — старший, начинавший понимать, что такое смерть, заметил:
"Нам точно так же однажды сказали, что мама спит, так же рано утром куда-то нас увезли, и с тех пор мы мамочку так и не видели! Должно быть, папа ушел к ней, мы его больше не увидим!"
Девочка, которой не было еще пяти, возразила:
"Зачем папе и маме нас бросать? Ведь мы послушные, мы их любим, мы никого не обижаем!"
Ах, бедные детки! И зачем, в самом деле, покинул вас отец, да еще передал в такие руки?!
И больной стал разглядывать свои иссохшие руки, как леди Макбет смотрит на свою окровавленную руку и говорит: "О! Целого океана не хватит, чтобы смыть эту кровь!"
— Наконец, — продолжал г-н Жерар, — дети выехали из дома. Гертруда никак не могла их унять. Они тянули ручки из коляски с криками: "Мы хотим поцеловать папочку!"
Пришлось закрыть окна.
Мы занялись приготовлениями к похоронам моего несчастного брата. Относительно погребения он не оставил никакого особенного распоряжения. Мы перевезли тело на кладбище Вири. Это были обычные деревенские похороны, и у могилы, еще открытой, я передал кюре, читавшему молитвы, тысячу экю для бедных, чтобы молитвы тех, кому мой брат даже после своей смерти облегчает страдания, присоединились к молитвам священника.
Как господин Сарранти и обещал, прямо с кладбища он отправился в Фонтенбло. Через день-два он должен был вернуться вместе с детьми. Но перед тем как расстаться, мы, рыдая, бросились друг другу в объятия... Простите, что я обвинил, оболгал, опорочил человека, которого прижимал тогда к своей груди! — вскричал больной, обращаясь к брату Доминику. — Вы сами увидите: я был не в себе, когда совершил это преступление, но, слава Богу, зло поправимо!
Как мы уже сказали, монаху не терпелось услышать финал этой исповеди, страшной, как утверждал сам умирающий, такой страшной, что, несмотря на слабость, он как только мог оттягивал конец своего покаяния.
Монах попросил г-на Жерара продолжать.
— Да, да, — пробормотал тот, — но если бы вы знали, до чего это тяжело! Позвольте же путнику, преодолевшему две трети пути и оставившему за спиной цветущие долы и равнины, на минуту передохнуть, прежде чем ступить в зловонную трясину, в смертельную и неизмеримую бездну!
Как ни трепетал доминиканец от нетерпения, он промолчал.
Ждать ему пришлось недолго. То ли к больному вернулись силы, то ли, напротив, он опасался, что не успеет все рассказать, но он заговорил снова:
— Я вернулся в замок в полном одиночестве; Гертруда и Жан уехали с детьми, господин Сарранти только что отправился им вслед. У меня на душе было тоскливо и мрачно: траур я носил не только в одежде, но и в сердце. Я оплакивал умершего брата, а вместе с ним — сорок пять лет безупречной репутации, ведь ей приходил конец! Если бы я вдруг забыл дорогу в замок, я мог бы выйти на вой Брезиля. Говорят, собаки обладают особым даром: они видят незримую богиню, что зовется Смертью, и, когда все живое цепенеет при ее приближении, встречают ее заунывным пророческим воем. Поведение Брезиля словно подтверждало правоту мрачного поверья. Я был рад любому живому существу, даже псу, лишь бы он понимал мою боль. И я пошел ему навстречу как к равному, как к другу!
Но, едва меня завидев, Брезиль бросился не ко мне, а на меня, насколько позволяла ему цепь; глаза его горели, язык был кроваво-красен, зубы готовы были вцепиться в мою плоть. Я испытал безотчетный страх: обычно я не был ласков с собакой, но и не бил ее. Пес любил моего брата и малышей. Почему же он так ненавидел меня? Неужели инстинкт иногда бывает сильнее разума?
Я все ближе подходил к замку. Тут мое внимание привлекли другие звуки. В доме, откуда только что вынесли покойника, где выла собака, где еще плакал мужчина, распевала какая-то женщина! Голос принадлежал Ореоле.
Я возмутился и двинулся к столовой, откуда доносилось пение, с намерением положить этому святотатству конец. Через приоткрытую дверь я увидел Ореолу. Она накрывала на стол, распевая на баскском наречии кощунственную, циничную песню, звучавшую вызывающе в минуту скорби:
Решили боги: счастье — им,
А людям — наслажденье;
Умерших мы благословим И к тем, кто рядом, поспешим С веселым утешеньем!.
Не могу вам выразить, святой отец, какое глубокое отвращение я испытал к этой женщине, весело поющей в доме умершего. Я хотел, чтобы Ореола знала: я ее слышал.
"Ореола! — сказал я ей. — Можете убирать со стола. Я не голоден".
Я поднялся в свою комнату и заперся. Ореола перестала петь. Однако пес не унимался весь день и всю следующую ночь. Он перестал выть только в ту минуту, когда во двор замка въехала карета с детьми.
LXV ОРСОЛА
— После смерти брата, — продолжал г-н Жерар, — я стал главой семьи. Мне надлежало распорядиться состоянием племянников. Поначалу я чувствовал себя неловко: мой доход с небольшого отцовского имения не превышал тысячи двухсот — полутора тысяч франков; когда мне пришлось распоряжаться значительными суммами в банковских билетах, я испытал неведомую дотоле дрожь; когда я увидел, как на стол сыплется из мешков золото, у меня закружилась голова! Правда, это были чисто физические ощущения, не таившие в себе ничего преступного. У меня не появлялось никаких желаний, что выходили бы за рамки того круга, в котором я жил.
Господин Сарранти приступил к обучению детей; он дал мне несколько советов относительно того, как употребить или поместить доходы, и первые дни прошли совершенно спокойно.
Из женщин в доме жили только Гертруда и Ореола.
Когда Гертруде было двадцать лет, ее пригласили кормилицей к моей невестке, жене Жака. Та умерла у нее на руках. И вот в сорок пять лет Гертруда стала гувернанткой ее детей. Ореола же, как вы знаете, утвердилась в доме и присвоила себе звание доверенного лица.
Как я вам уже сказал, святой отец, эта женщина стала вызывать у меня отвращение. Отчего? Помимо того, что я слышал, как она пела в день похорон моего брата, мне не в чем было ее упрекнуть. Не могу сказать, что она была некрасива, скорее наоборот. Просто ее красота не бросалась в глаза; но стоило приглядеться внимательнее — и человек, относившийся к ней до того с полным равнодушием, больше не мог оторвать от нее глаз! Когда я увидел ее впервые, она выглядела какой-то невзрачной в своем скромном платьице и вдовьем чепце; весь ее нелепый наряд выдавал в ней не то чтобы простолюдинку, но женщину небогатую, отказавшуюся от какого-либо кокетства. Я тогда отметил про себя лишь ее черные глаза, белоснежные зубы и особенно поразившие меня губы какого-то кровавого оттенка. Но после смерти моего брата она мало-помалу, неделя за неделей начала выставлять, если можно так выразиться, свою красоту напоказ. Сначала она, словно полководец, пускающий в дело резервный отряд, высвободила из-под чепца великолепные иссиня-черные волосы, заплетенные в тяжелые косы. Потом из-под опущенного воротника выглянула шейка, золотистая, будто июльский колосок; затем показался гибкий и стройный, как молодая березка наших лесов, стан, который она прятала под траурным платьем из черной тафты. Она высвободила из домашних туфель испанские, вернее сказать, баскские ножки и сейчас же снова их обрекла на неволю, но теперь на ней была обувь с развевающимися лентами. Она то и дело показывала два ряда зубов, и не только в улыбке, как будто ее губки, ставшие вдруг слишком короткими и округлыми, не могли сомкнуться. Обращаясь ко мне, она то и дело роняла словечки на нашем родном наречии, особенно радовавшем мой слух своей мелодичностью, и я будто переносился в родные горы.
Менее чем за три месяца она совершенно преобразилась, к общему удивлению всех обитателей замка, не подозревавших, что из скромной куколки, коей она до тех пор представлялась, может родиться столь изумительная бабочка. Для кого Ореола так старалась? Это было невозможно определить: она никогда ни с кем не разговаривала, если только ее не вынуждали к тому домашние обязанности; когда у нее не было дел в апартаментах замка, она все свободное время проводила в своей комнате. Очевидно, она старалась для себя: прежнему хозяину было не по душе ее невинное кокетство, и теперь она хотела знать, как к этому относится ее новый господин. А новым ее господином был я!
Позвольте вам рассказать во всех подробностях об этой обольстительнице; когда я впервые ее увидел, я дал бы ей сорок лет; но, по мере того как менялся ее облик, она молодела на глазах, так что через три месяца она стала выглядеть лет на тридцать, не больше. Только это обстоятельство может служить мне оправданием: отвратительное существо в конце концов возымело на меня постыдное влияние.
Как я уже сказал, я лишился жены еще в молодости; брак наш нельзя было назвать удачным. Бог наделил меня крепким здоровьем и пылким, характерным для южанина темпераментом; после смерти жены я словно впал в оцепенение, но рано или поздно природа должна была взять свое. Я не раз с удивлением ловил себя на том, что провожаю эту женщину глазами, а когда ее нет поблизости, мыслями возвращаюсь к ней... Ореола будто и не замечала меня или, вернее, относилась ко мне так, как положено себя вести почтительной служанке со своим господином. Она сама убирала мою комнату, а также комнату господина Сарранти во время обеда или ужина, и ее присутствие чувствовалось во всем, к чему прикасались ее руки, — все так и сияло чистотой. В девять часов мы расходились по комнатам, а в десять дом засыпал.
Однажды вечером мне нужно было просмотреть банковские счета и другие бумаги — дело происходило в декабре тысяча восемьсот восемнадцатого года, — я предупредил Ореолу: возможно, мне придется работать допоздна, и попросил распорядиться, чтобы ко мне в спальню принесли дров. Она пришла сама, чтобы приготовить постель, и принесла дрова. Когда все было исполнено, Ореола, уходя, спросила на своем наречии:
"Вам ничего больше не нужно?"
"Нет", — ответил я и отвел взгляд: я боялся, что по моим глазам она догадается, какая буря бушует в моей душе.
Она вышла, бесшумно притворив за собой дверь; я слышал, как она поднялась по лестнице и вернулась в свою комнату, расположенную как раз у меня над головой. Я задумался и не заметил, как потух огонь. Но постепенно в комнате стало так холодно, что я продрог до костей.
Работать в этот вечер я уже не мог — мыслями я был так далек от счетов! Я надеялся сном заглушить одолевавшие меня желания. Бросив в камин охапку дров, я лег в постель, потушил свечу и попытался заснуть. Скоро я в самом деле уснул.
Прошло около часу, как я закрыл глаза. Вдруг я проснулся, задыхаясь от дыма. Очевидно, я бросил в камин слишком много дров; огонь разгорелся, а ветром надуло весь дым в комнату, оттого мне нечем было дышать. Я спрыгнул с кровати и закричал: "На помощь! Пожар!"
Но никто не появлялся. Я хотел было выбежать на черную лестницу, но увидел в конце коридора Ореолу с распущенными волосами, в длинной ночной сорочке, босую, со свечой в руке. Она была необыкновенно хороша и казалась привидением, какие, по слухам, можно встретить в старом замке или заброшенном монастыре. Эта женщина в самом деле чем-то походила на владелицу замка или настоятельницу монастыря, но в особенности — на демона! Потом, словно не замечая, в каком соблазнительном беспорядке ее костюм, она спросила:
"Я услышала ваши крики и прибежала. Что случилось?"
Я смотрел на нее как зачарованный.
"Пожар, — только и смог я выговорить. — Пожар!"
"Где?"
"В моей комнате".
Не обращая внимания на дым, она ринулась в мою комнату.
"О, это ничего!" — заметила она.
"То есть как это ничего?"
"Дым валит из камина, а камины, как известно, кирпичные. Помогите мне, сударь! Сейчас мы погасим огонь".
"Давайте позовем кого-нибудь!"
"Это ни к чему, — возразила она. — Зачем будить людей: мы его потушим сами! Да я и одна справлюсь, если вы не хотите в этом участвовать".
Ее хладнокровие меня поразило: я, мужчина, считающий себя сильным существом, испугался, а она женщина, то есть существо слабое, меня успокаивает!
Я никого на стал звать. За час до этого я лег спать с мыслью о ней, и теперь ее появление словно отвечало моим мечтаниям. Как я уже сказал, она бесстрашно вошла в мою комнату, распахнула окно, чтобы вышел дым, сорвала с моей постели простыни, намочила их в тазу и завесила ими камин, полностью прекратив доступ воздуха. Потом она через равные промежутки времени стала оттягивать простыню на себя, выкачивая воздух, и из трубы стала падать кусками воспламенившаяся сажа.
Вся операция заняла полчаса. Я помогал ей, это верно, но ее черные волосы, ее белые ноги, ее округлые плечи, просвечивавшие сквозь сорочку, занимали меня куда больше, -чем пожар, который, к тому же, был полностью укрощен. Еще через полчаса пол был вымыт, комната приведена в порядок, постель готова, а эта необыкновенная женщина, похожая на всесильного демона, исчезла.
Я провел ужасную ночь — одну из самых тяжких в моей жизни!
В конце концов я решил наградить Ореолу за хладнокровие и преданность. На следующий день после обеда, когда, как мне было известно, она убирала мою комнату, я поднялся и подошел к ней. Она держалась так, будто ничего не произошло. Я ее поблагодарил и протянул кошелек с двадцатью луидорами. Она смиренно приняла мою благодарность, но гордо отвергла кошелек. Я продолжал настаивать. Тогда она сказала просто: "Я только исполнила свой долг, сударь".
Я подумал, что, может быть, сумма слишком мала, и, желая иметь последнее слово в этом споре, выгреб из кармана все золото, какое у меня при себе было. Ссыпав монеты в кошелек, я снова протянул его Ореоле. В ответ — то же. Я спросил, почему она отказывается.
"Первую, и главную, причину я вам уже назвала, — отвечала она, — я лишь исполнила свой долг, а кто исполняет долг, на вознаграждение не имеет права. Кроме того, — прибавила она с улыбкой, — есть еще другая причина..."
"Какая?" — спросил я.
"Дело в том, сударь, что я так же богата, как и вы".
"Как это?"
"Мой прежний хозяин оставил мне тридцать тысяч франков капитала — иными словами, полторы тысячи ливров ренты. Стоит мне вернуться в Савенскую долину, и я со своими деньгами заживу как королева".
"Почему же вы попросили такое скромное жалованье, когда я спросил вашу цену?"
"По двум причинам, — отозвалась она. — Я прожила в этом доме десять лет и не хотела отсюда уезжать".
"Это первая причина; а вторая?"
"А вторая причина заключается в том, — слегка покраснев, проговорила она, — что вы с первого взгляда мне понравились и я хотела вам служить".
Я убрал кошелек в карман, устыдившись того, что смотрел на Ореолу как на служанку, в то время как он питала ко мне возвышенные чувства.
"Ореола! — сказал я. — Завтра же подыщите женщину, которая будет здесь убирать вместо вас. На вас останется только обязанность смотреть за прислугой".
"Почему вы лишаете меня удовольствия вам прислуживать, сударь? Так-то вы награждаете за верность?"
Она проговорила это самым естественным тоном.
"Ну хорошо, будь по-вашему, — отвечал я. — Продолжайте мне прислуживать, дорогая Ореола, если это, как вы утверждаете, доставляет вам удовольствие. Но вы будете убирать только у меня. О господине Сарранти позаботится Жан".
"Вот это дело! — обрадовалась она. — Я смогу еще больше времени посвящать вам".
Закончив уборку моей комнаты, она вышла, не подозревая — или не подавая виду, что заметила это, — насколько я очарован ее деликатностью, как в прошлый раз — ее красотой.
С этого дня решилась моя судьба: я целиком принадлежал этой женщине. Она же, видя, что я уже не приказываю ей как служанке, а окружаю ее вниманием как женщину, становилась все более сдержанной, по мере того как я относился к ней все почтительнее. С самого начала она говорила открыто, смело, свободно, при всяком удобном случае обращаясь ко мне на родном наречии. Теперь она со мной почти не разговаривала, а если и обращалась, то в третьем лице; она стала робкой, пугливой; она трепетала от любого слова, любой жест вгонял ее в краску. Догадывалась ли она, какие желания мне внушала? Может быть, она только притворялась, что ничего не понимает? В то время я не мог ответить на этот вопрос; только потом я узнал, как ловко она умела притворяться, с каким искусством шла к своей цели!
Борьба длилась около трех месяцев.
Настал день моих именин; Гертруде пришло на ум устроить праздник. Вечером дети вышли к десерту с великолепными букетами в руках; позади детей стоял господин Сарранти; он протянул мне руку. Потом подошли меня поздравить Жан с садовником. Я расцеловал всех: детей и взрослых, учителя и слуг, а все потому, что надеялся: Ореола тоже вот-вот появится, и я ее тоже поцелую. Она вышла последней, и я вскрикнул.
Она была в костюме горянки: на голове — красная косынка, корсаж из черного бархата с золотом. До чего она была восхитительна: нечто среднее между арлезианкой и римской крестьянкой! Она сказала мне несколько слов на родном наречии, пожелав долгих лет и исполнения всех моих желаний. Я не мог вымолвить ни слова; я не знал, что отвечать, как протянуть руки и поцеловать ее. Она же, залившись краской, словно юная девушка, подставила мне для поцелуя не щеки, а лоб, и ее рука задрожала в моей.
Никто в доме не любил Ореолу, кроме меня, да и я не любил, а скорее желал ее. Но, несмотря на то что она никому не внушала большой симпатии, все в один голос стали расхваливать ее яркую красоту, которую очаровательно подчеркивал национальный костюм. Я почувствовал сильное смущение и поспешил подняться к себе, чтобы никто не заметил моего волнения.
Прошло несколько минут. Я не зажигал света. Только отблески пламени из камина смутно освещали комнату. Вдруг мне послышались шаги Ореолы. Она приближалась к моей комнате. Дверь распахнулась, и Ореола предстала в своем восхитительном костюме, освещаемая свечой (она держала в руке подсвечник).
Я задыхался. Я сидел в кресле, напружинившись, словно готовый к прыжку зверь.
Она меня заметила и сделала такое движение, будто не ожидала меня увидеть. Но потом она подошла к моей постели и, как обычно, стала снимать одеяло... Я встал, готовый на все, пошел к ней, раскинув руки в стороны, шатаясь точно пьяный и приговаривая в страстном исступлении: "Ореола! Ореола! До чего ты хороша!.."
Ждала ли она этой минуты? Было ли это для нее в самом деле неожиданностью? Я до сих пор этого не знаю. Знаю только, что она чуть слышно вскрикнула, уронила подсвечник, и мы очутились в темноте.
— О святой отец, святой отец! — прошептал больной. — С этой минуты я стал преступником! В это мгновение Господь от меня отвернулся и я оказался во власти демона!..
Господин Жерар почти без чувств уронил голову на подушку, и доминиканец, боясь, что так и не услышит исповедь до конца, на сей раз, не колеблясь, дал умирающему вторую ложку эликсира, чтобы поддержать его силы.
LXVI ВО ВЛАСТИ ДЕМОНА
Лекарство подействовало не так скоро, как в первый раз, однако больной пришел в себя.
После минутного оцепенения он почувствовал, как к нему возвращаются силы, сделал над собой усилие и продолжал:
— С этого дня Ореола словно околдовала меня и я постепенно потерял власть над самим собой. Через несколько недель я принадлежал ей душой и телом. Я подпал под это невероятное влияние, осуществляемое с невероятной ловкостью, и вскоре стал ей подчиняться, ведь с некоторых пор я перестал отдавать ей распоряжения. Если бы я хоть сознавал, какую мерзость совершаю! Если бы хоть раз мне пришло в голову разорвать опутавшие меня сети! Но нет! Прутья моей клетки представлялись мне золотыми. Я был совершенно уверен, что ничто не сковывает моей свободы, вот почему мне даже не хотелось вырваться на волю.
Так я прожил около двух лет в тюрьме, которую принимал за дворец, в этом аду, казавшемся мне Эдемом. Любовь к этой женщине кружила мне голову, и мало-помалу я терял все то, что Господь дает человеку порядочному и добродетельному. Если бы я мог видеть, куда она хочет меня завести, я, может быть, попытался бы воспротивиться. Но я брел с закрытыми глазами, не сознавая, куда и зачем я иду.
Время от времени я будто инстинктивно шарахался назад, крича от отчаяния и стыдясь самого себя. Но Ореола умела находить неотразимые слова утешения для этой минутной тревоги, таинственным образом усыпляя пробуждавшуюся было во мне совесть. Одним словом, я находился во власти могущественного, непобедимого, тайного очарования, какое, по словам древних, испытывали несчастные, попавшие в сети обворожительной Цирцеи.
Ореола была настоящей колдуньей в искусстве любви. Она умела так приласкать, что в ее объятиях я обретал все новые силы. Из каких трав варила она свое приворотное зелье? Какие заклинания над ним произносила? В какой день месяца, в какой час ночи, во славу какого сладострастного божества она его готовила? Этого я не знаю. Знаю только, что я пил его с наслаждением. Но самая большая опасность заключалась в том, что моему рабству она придавала вид могущества, моей слабости — вид силы. Она мною управляла, а я сам себе представлялся сильным человеком, действующим по собственной воле. В этом и заключалось ее искусство; она заставляла меня желать того, чего хотелось ей самой. Повелевая, она по виду лишь повиновалась.
Когда я пришел к такой жизни, она решила сделать так, чтобы я поначалу не почувствовал, как попал в кабалу, ведь то, что оставалось во мне от человеческого достоинства, могло, вероятно, воспротивиться и попытаться освободиться от ее ига. С этой целью она стала испытывать свою власть на мелочах; она проявляла чрезмерное упрямство, когда дело касалось удовлетворения мелких капризов. Она просила с улыбкой сомнения, представляя свою просьбу как неприемлемую и чудовищную, да еще с таким видом, будто не понимает, как я могу пойти навстречу ее фантазиям, снизойти до удовлетворения ее желаний. Но, видя ее сомнения, я, вместо того чтобы возмутиться этими ее фантазиями и желаниями, принимал их как нечто вполне естественное. Такова была тактика Ореолы (и это еще не самый ловкий из ее приемов) — отвлечь внимание на форму, чтобы скрыть сущность. За эти два года она утвердилась в своей власти надо мной и почувствовала себя полной хозяйкой моей воли.
Однако я видел, как эта сладострастная змея опутывает меня своими кольцами, и не раз спрашивал себя, какова ее цель. Мне казалось, что она хочет рано или поздно стать моей женой. Но, должен признаться, эта мысль ничуть меня не пугала. Чем я был лучше ее? Такой же крестьянин из наших горных краев, как и она. Я был богаче, но своим богатством был обязан случаю, несчастному случаю. Однако она была красивее меня, а красотой была обязана Богу. И если я положу к ее ногам богатство, она одарит меня счастьем, удовольствием, сладострастием. Ее любовь стала для меня единственным смыслом жизни, единственным земным благом! Выходило так, что она меня облагодетельствует, а не я ее.
Как только я решил, что разгадал ее замысел, эта цель стала представляться мне вполне естественной. Ореола могла считать себя хозяйкой не только моего тела, но и всех моих помыслов. Я рассказал ей о том, какие огорчения причинил мне мой первый брак. Она притворилась, что принимает во мне живейшее участие, впрочем, не упустив случая сказать, что, если мне повезет и второй брак окажется удачнее, он поможет мне забыть огорчения. Такое самоотречение с ее стороны обнадежило меня: значит, она любит меня, только меня, а не деньги, которые я могу ей предложить, не положение, какое я могу ей дать? С этой минуты у меня не было от нее секретов; я посвятил ее во все свои дела, поверил ей самые сокровенные свои мечты. Я видел, думал, говорил, дышал — словом, жил только ею. Я сам дал ей понять, что она может у меня просить все, что ей заблагорассудится. Однако Ореола сделала вид, что не понимает меня и не хочет того, чего, как мне казалось, добивается.
Но должен был настать день, когда она решит испытать свою власть, настойчиво заявит о своей воле.
В замке служил старик, у которого было двенадцать детей и внуков. Он ухаживал за садом лет тридцать, а то и все сорок. Вначале я не знал, что Ореола его невзлюбила; я понял это позднее. Она начала с того, что стала говорить мне гадости про этого несчастного, которого у нас любили все, кроме нее. Дня не проходило, чтобы он, по ее словам, не сделал ей какое-нибудь неприятное замечание, не бросил в ответ какую-нибудь дерзость. После недели нескончаемых жалоб она потребовала его рассчитать. Это показалось мне до такой степени несправедливым, что я попытался возражать, заметив, что никто никогда не жаловался на этого человека и я не могу его уволить без всякого предлога. Да это было бы бесчеловечно — прогнать старика, верой и правдой прослужившего сорок лет. Она продолжала настаивать с необычайным упорством, что очень меня удивило. Я наотрез отказал. Тогда она заперлась в своей комнате и не выходила два дня. Несмотря на мои мольбы, она не отпирала дверь. Я безуспешно пытался побороть свою слабость, но не мог обходиться без той, что стала необходимой частью моей жизни. Тогда я трусливо решил пойти к ней ночью и пообещать исполнить ее просьбу.
"A-а, очень мило", — только и сказала она, не поблагодарив за мою жертву и даже виду не подав, что одержала надо мной победу.
На следующий день я приказал передать садовнику, что он может получить расчет и покинуть замок. Бедняга никак этого не ожидал. Услышав это известие, он тяжело опустился на садовую скамейку и пробормотал: "Ах, Боже мой! А я-то надеялся здесь умереть!"
И он разрыдался.
В это время Виктор и Леони ловили бабочек.
Они увидели рыдавшего старика, стали его расспрашивать и все узнали. Дети очень любили папашу Венсана: славный старик припасал им красивых гусениц для уроков с господином Сарранти, объяснявшим метаморфозы в природе; наживлял им червяка на крючок, когда они ловили рыбу в большом пруду; угощал их первой клубникой со своих грядок и первыми плодами со своих шпалерных яблонь. Дети побежали к господину Сарранти и рассказали ему, что я прогнал их любимого Венсана. Господин Сарранти отправился к старику и застал его в глубоком отчаянии.
"Только воров и негодяев сгоняют с места, — приговаривал несчастный папаша Венсан, — а я никогда ничего не украл и никому не сделал ничего плохого!"
Потом он вполголоса прибавил: "О-о, я умру со стыда!"
Господин Сарранти счел, что случай этот довольно серьезный, и явился ко мне, хотя обычно он не вмешивался в дела дома. К его величайшему изумлению, я отнесся слишком серьезно к делу, которое этого не заслуживало.
"Если у вас есть основания, чтобы так поступать, вы правильно делаете, дорогой господин Жерар, — сказал он, — но в таком случае объявите причину во всеуслышание. Вы человек мыслящий; вам не следует вести себя так, словно вы поддались чувству. Вы человек справедливый и не должны производить впечатление деспота".
Полагая, что все сказано, господин Сарранти вышел. Он был вправе так думать: совесть моя была неспокойна, меня мучило раскаяние, я чувствовал, что совершаю вопиющую несправедливость. Я поднялся к Ореоле, передал свой разговор с господином Сарранти и признался, что мне нестерпимо стыдно.
"Ну что же, — вздохнула она. — Я думала, что вы человек слова; я ошиблась, забудем об этом!"
"Дорогая моя! — возразил я. — Все осудят меня за то, что из-за твоего каприза я совершил дурной поступок!"
"Кто осудит? Господин Сарранти? Какое вам дело до того, что о вас думает человек, который неведомо откуда явился и неизвестно что замышляет?.. Я вам сто раз говорила: вы слабый, безвольный человек. Вы только со мной мужчина!"
Такова была тактика Ореолы. Она постоянно повторяла, что я готов всем пойти навстречу, только ее желания не исполняю. Четверть часа спустя, будучи совершенно убежден, что я действую по собственной воле, я сам отнес садовнику причитающиеся ему деньги, сверх того — месячное жалованье и приказал немедленно покинуть замок. Несчастный старик поднялся, посмотрел на меня с минуту, словно не веря, что такое приказание исходит действительно от меня; не проронив на сей раз ни слезинки, он отсчитал, сколько ему было положено, остальные деньги вернул мне и сказал:
"Либо я допустил оплошность, сударь, либо я невиновен. Если я виноват, вы можете меня прогнать, и я не имею права требовать возмещения убытков. Но если я ни в чем не виноват, вы не должны меня прогонять, и никакие деньги не окупят страдание, которое вы мне причиняете".
Он повернулся ко мне спиной.
"Прощайте, сударь! — проговорил он. — Вы раскаетесь в том, что делаете!"
Я пошел в замок, а за моей спиной несчастный старик приговаривал: "О бедные мои дети!.."
"Ну вот, я сделал, как вы хотели", — сказал я Ореоле.
"Я? А разве я что-нибудь приказывала?" — удивилась она.
"Вы приказали прогнать садовника".
"Да разве здесь я распоряжаюсь?" — рассмеялась она.
Я пожал плечами: я не понимал, что значит этот каприз.
"А что он сказал?" — спросила она.
"Он сказал, — ответил я дрогнувшим голосом, — он сказал: "О бедные мои дети!""
"Значит..."
"...значит, первый раз в жизни я испытываю нечто похожее на угрызения совести".
"Если вам так кажется, а вы, как известно, человек справедливый и добрый, стало быть, вы совершили дурной поступок по моему наущению".
Я сидел в кресле, обхватив голову руками. Услышав ее ответ, я вскинул голову и увидел, что она подходит ко мне, опускается на колени и нежнейшим голосом говорит на родном наречии, всегда оказывавшем на меня необычайное воздействие.
"Друг мой! Прости мне мою злобу!.. Я готова была тебя окликнуть, когда ты пошел к садовнику, но ты был уже слишком далеко".
Меня переполняла гордость.
"Нет, Ореола, — возразил я, — вы не злая!"
Она продолжала настаивать: "Если бы я знала, что вам в самом деле грустно расставаться с садовником, я никогда не попросила бы вас выгонять его".
"Значит, вы не будете возражать, если я его верну?" — обрадовался я.
"Ну, конечно, ведь я вам говорю, что не меньше вас огорчена его уходом".
"О Ореола! Как ты добра!" — вскричал я.
Я поднялся и хотел было бежать за стариком.
"Нет, — возразила она, — раз я была причиной отчаяния этого славного человека, мне и исправить эту ошибку!"
Она силой оставила меня в комнате, а сама побежала объявить папаше Венсану, что он снова в милости. Только этого ей и было надо. Разумеется, старик так потом и считал, что прогнать его хотел я, а Ореола вымолила ему прощение.
Несколько месяцев все оставалось in statu quo[27]. Лишь позднее я понял, какая чудовищная работа была проделана за это время у меня под боком.
Как все южане, я был с рождения неприхотлив в еде. Еда и питье были для меня до сорока лет лишь потребностью, а не наслаждением. Но мало-помалу я стал уставать от чрезмерных любовных утех, однако не мог отказывать Ореоле и, подстрекаемый ею, стал искать возбуждения в вине. Как дикие звери, которых показывают в цирке и которых дрессировщики лишают сил особыми тайными, только им известными способами, так и Ореола, желая окончательно меня приручить, прибегла к самым что ни на есть вредным средствам — дурманящим напиткам. Абсент и вишневая водка, эти страшные яды, принимаемые в определенных дозах, стали моими любимыми напитками. Теперь по утрам мой бессмысленный, блуждающий взор выдавал меня с головой: сразу становилось ясно, в какой постыдной оргии я провел часть ночи. По утрам я лишь смутно помнил события ночи; мне казалось, что чувственность принимала какие-то болезненные формы. Потом мне чудилось, что в пьяной полудреме я слышал голос, нашептывавший мне о тайных и чудовищных желаниях! Особенно ясно я помнил, что Ореола постоянно жаловалась на гувернантку детей, как прежде она была недовольна садовником. Утром я с трудом припоминал, что в минуты, когда я совершенно терял волю, я обещал уволить несчастную женщину; но, когда я просыпался, ночное обещание развеивалось как дым вместе с винным парами.
Однажды утром Ореола обратилась ко мне с необычным вопросом:
"Вы давно обещаете мне прогнать Гертруду, но она до сих пор здесь. Что вас так привлекает в этой женщине?"
У меня голова шла кругом. Я смутно припоминал свое обещание. У меня не было никаких причин увольнять Гертруду, женщину безобидную; она была кормилицей моей невестки, обожала ее детей, да и они ее обожали. На сей раз я наотрез отказал Ореоле. Мне было стыдно отнимать у несчастных сирот нежную, заботливую няньку, в которой они так нуждались; я сам совсем ими не занимался, оставив их на попечении этой славной женщины.
Как раньше в случае с садовником, она стала донимать меня бесконечными и невыносимыми просьбами прогнать гувернантку. Каждую ночь я, подпадая под роковое влияние поработившего меня демона, обещал завтра же уволить Гертруду, а утром отказывался от обещания.
Ореола опять заперлась в своей комнате, как четыре месяца назад, когда произошел тот случай с садовником. Но я выдержал испытание. Признаюсь, что я еще не пропил весь свой стыд: я боялся и упреков господина Сарранти, и детских слез. На этот раз первой уступила Ореола. Она раскаялась в своем новом капризе и пришла просить у меня прощения. Можете себе представить, с какой радостью я ее простил.
Раскаяние Ореолы совпало с двумя обстоятельствами, которые показались мне тогда незначительными; но потом я убедился, что они сыграли роковую роль. Накануне Жан отпросился на два дня: ему нужно было отправиться в Жуаньи, чтобы уладить там дело о небольшом наследстве. А утром господин Сарранти нас предупредил, что ему совершенно необходимо уехать на два-три дня в Париж. Итак, в замке остались только дети, Гертруда, я и Ореола. Я сказал об этом Ореоле.
"Разве я не ваша служанка как в постели, так и за столом?" — отозвалась она.
При это она так на меня взглянула, что от предвкушаемых наслаждений у меня закружилась голова.
Наступил вечер. Ужин был подан, как обычно, в комнату Ореолы. Около десяти часов мы заперлись... Она соблазняла меня, как настоящая вакханка: мне чудилось, что вместо вина я пью огонь, зажженный ее пламенным взором. Около одиннадцати часов мне послышалось, что кто-то стонет.
"Что такое?! — спросил я Ореолу.
"Не знаю... Ступайте поглядите!"
Я попытался подняться со стула, ступил три шага и упал в кресло.
"Ладно, допивайте вино, а я пока схожу посмотрю".
Бывали такие минуты, когда я безропотно подчинялся Ореоле. Я осушил стакан до последней капли. Она встала и вышла.
Не знаю, сколько времени она отсутствовала: в пьяной дремоте я не слышал, что происходит вокруг, и проснулся оттого, что кто-то поднес к моим губам стакан. Я открыл глаза и узнал Ореолу.
"Ну что?" — спросил я, смутно припоминая, что кто-то стонал.
"Гертруда занемогла", — ответила она.
"Гертруда... больна?!" — переспросил я.
"Да, — подтвердила Ореола. — Она жалуется на спазмы в желудке и не хочет ничего принимать из моих рук. Вам бы следовало спуститься вниз и дать ей чего-нибудь выпить, ну хоть воды с сахаром".
"Проводи меня", — приказал я Ореоле.
Помню, как я спустился по лестнице, Ореола провела меня в переднюю, подала сахар, чтобы я всыпал его в стакан с водой, и, подтолкнув к двери в комнату больной, напутствовала такими словами:
"Отнесите ей это и постарайтесь держаться прямо, чтобы она не заметила, как вы пьяны".
Устыдившись своего состояния, я собрался с силами и подошел к постели Гертруды довольно твердым шагом.
"Выпейте воды, дорогая Гертруда, и вам станет лучше!" — проговорил я.
Гертруда сделала над собой усилие, протянула руку и опорожнила стакан.
"Ах, сударь, опять тот же привкус!.. — простонала она. — Сударь! Сударь! Доктора!.. Сударь, я уверена, что меня отравили!"
"Отравили?" — переспросил я, в ужасе озираясь по сторонам.
"Ох, сударь! Небом заклинаю вас! Именем вашего несчастного брата! Доктора! Доктора!"
Я испугался и поскорее вышел.
"Слышала? — обратился я к Ореоле. — Она думает, что ее отравили, и просит позвать доктора".
"Бегите в Морсан и приведите господина Ронсена".
Так звали старого доктора, который заходил к нам ужинать, когда во время своих разъездов оказывался поблизости.
Я взялся за шляпу и трость.
"Выпейте на дорогу вина: на улице холодно, путь неблизкий — два льё!"
Она подала мне стакан. Как ни был я привычен к крепким напиткам, вино обожгло мне желудок, словно я хлебнул купоросу! Я вышел, пересек сад, спотыкаясь, добрел до садовой калитки. Но не прошел я и двухсот шагов по дороге на Морсан, как деревья закружились у меня над головой, небо словно вспыхнуло огнем, земля ушла из-под ног, и я свалился на обочину...
На следующий день я очнулся в своей постели и подумал, что все это мне приснилось.
Я позвонил; прибежала Ореола.
"Правда, что Гертруда умерла, или мне привиделось это в кошмаре?" — спросил я.
"Правда", — отвечала она.
"Ее... отравили?"
"Возможно".
"Как возможно?" — вскричал я.
"Да, возможно, — сказала Ореола, — только никому об этом не рассказывайте. Она ведь принимала питье лишь из моих и из ваших рук. Могут подумать, что ее отравили мы с вами".
"Почему?"
"Люди такие злые!" — невозмутимо заметила Ореола.
"Но ведь это надо как-то доказать!" — замирая от страха, выговорил я.
"Найдут причину!"
"Какую же?"
"Скажут, что вы сначала отделались от гувернантки, чтобы потом без помех покончить с детьми и завладеть наследством".
Я закричал и натянул на голову одеяло...
— О несчастная! — пробормотал монах.
— Погодите, погодите, это еще не все... Только не перебивайте меня: я чувствую, как силы меня оставляют!..
Брат Доминик стал слушать дальше. Он задыхался. Его сердце сжалось от отчаяния.
LXVII ПАУК РАСКИДЫВАЕТ СЕТЬ
Смерть Гертруды ни у кого не вызвала подозрений. Все тяжело переживали потерю, особенно дети. Ореола хотела было занять место Гертруды, но они ее ненавидели, особенно маленькая Леони.
Я впал в тоску и дней пять не выходил из своей комнаты.
Вернулся господин Сарранти. Он попытался меня утешить. Он понимал, что мне тяжело лишиться хорошей и верной служанки, но не мог себе объяснить, чем вызваны мои душевные страдания, похожие на угрызения совести. Он предложил найти другую женщину, чтобы она присматривала за детьми. Однако дети об этом не просили, а я, предвидя возражения Ореолы, отговорился тем, что никто не сможет заменить им бедняжку Гертруду.
Ореола продолжала управлять домом, будто ничего не произошло. Она по-прежнему держалась почтительно, как подобало женщине ее положения, и словно не замечала меня, несомненно уверенная в том, что я никуда от нее не денусь.
Однажды я столкнулся с ней в коридоре.
"Что бы вы делали, — спросила она на ходу, — если бы умерла не Гертруда, а я?"
"Если бы умерла ты, Ореола, я тоже расстался бы с жизнью!" — с жаром вскричал я: одного ее взгляда было довольно, чтобы в моем сердце снова вспыхнула страсть.
"Раз я не умерла, будем жить!" — сказала она и с демонической усмешкой прибавила на родном наречии: — Жду тебя нынче ночью, Жерар".
"Нет, ни за что! — сказал я про себя. — Не пойду!"
Святой отец, — продолжал умирающий, — натуралисты говорят, что в природе встречаются животные, например змеи, способные завораживать взглядом: птичка сама, перелетая все ближе с ветки на ветку, прыгает им в зияющую пасть. Святой отец, говорю вам: злой дух наделил эту женщину такой же способностью. Я сопротивлялся до самой ночи, но в одиннадцать часов неведомая сила повлекла меня помимо моей воли к ее комнате; я прошел по коридору, ступенька за ступенькой поднялся по роковой лестнице... Ореола ждала меня наверху... Я вам уже рассказывал, что на следующее утро после ночных оргий я очень смутно помнил, что делал и говорил, что делали со мной, что говорили мне. И вот после той ночи мне казалось, что мы с Ореол ой обсуждали, какие нас ждут удовольствия, имей мы два-три миллиона. С трудом припоминая наш разговор, я затрепетал: такое огромное состояние могло мне достаться только в том случае, если умрут дети моего брата. Но с какой стати Господу прибирать этих двух прелестных детишек, благоуханных и свежих, под стать цветам и плодам, среди которых они играют?.. Правда, мысль о внезапной кончине Гертруды приводила меня в ужас! Тогда я с сжимавшимся от отчаяния сердцем спешил к господину Сарранти. Я заговаривал о каких-нибудь пустяках, потом переводил беседу на детей и, прощаясь, наказывал ему не спускать с них глаз. Он любил их всем сердцем и говорил:
"Не беспокойтесь, я никогда их не оставлю, если только более важные обстоятельства..."
Он хмурился, будто догадываясь, что смертельная угроза, исходившая не от меня, но от кого-то еще, заставляла меня напоминать ему об обязанности следить за детьми, которые были ему доверены.
Теперь, святой отец, я вам расскажу, как Ореоле удалось путем постыдных соблазнов и внушения чудовищных желаний приучить меня к мысли, что может произойти несчастный случай, который сделает меня обладателем всего состояния. И ведь я поверил, что оно совершенно необходимо для моего счастья, потому что каждую ночь Ореола повторяла, что в этом заключается ее счастье... И вот что удивительно: хотя вопрос о браке между мной и этой женщиной никогда не обсуждался, все знали о наших отношениях, и если кто-то из прислуги хотел польстить Ореоле, ее называли "госпожа Жерар". Даже дети взяли это в привычку: они повторяли то, что слышали. Я уверен, что в ее намерения входило стать однажды госпожой Жерар. Однако она несомненно выжидала, когда моя жизнь будет накрепко связана с ее жизнью: нас должно было соединить страшное сообщничество!
Порой средь белого дня меня вдруг охватывала дрожь и я был готов кричать от ужаса; кровавые мысли, подобно привидениям, обступали меня со всех сторон! Я срывался с места и бежал, пока мне не попадался кто-нибудь навстречу. Если я натыкался на детей, я бежал от них прочь. Если мне встречался господин Сарранти, я снова и снова приказывал ему следить за детьми и прибавлял: "Я так их люблю, бедных детей моего дорогого Жака!"
Я успокаивался; эти слова, произнесенные вслух, помогали мне обрести силы.
Но наступала ночь, и гнусная Пенелопа уничтожала своими поцелуями, своими желаниями, своей неслыханной жаждой к любовным ласкам все то святое и милосердное, что моя совесть накопила за день! Должен признаться, что, по мере того как шло время, ночному труду становилось все легче разрушать дневную работу. Наконец, хотя я видел осуществление ужасных замыслов лишь в далекой перспективе, я постепенно привык относиться к состоянию племянников как к своему собственному, и однажды в присутствии Ореолы у меня вырвались такие слова: "Когда я стану богат, куплю соседнее имение".
Но кто мог сделать меня богатым? "Случай!" — так это называла Ореола. Случай должен был сделать меня наследником моих племянников... Однако, святой отец, кто в подобных обстоятельствах рассчитывает на случай, — покачав головой, заметил умирающий, — тот готов прийти ему на помощь!..
Дойдя до этого места, г-н Жерар так изменился в лице, что монах счел своим долгом прервать его мрачную исповедь, как ни жаждал он услышать продолжение ее, становившейся, чем дальше, тем страшнее.
Умирающий на мгновение замолчал, чтобы собраться с силами. Если вначале ему страшно было говорить, то теперь он хотел поскорее закончить свой рассказ.
Доминиканец расширенными от ужаса глазами следил за мертвенно-бледным лицом г-на Жерара, в душе которого происходила страшная борьба. Тот снова заговорил, но так тихо, что монах был вынужден почти припасть ухом к его губам.
— В это время, — продолжал г-н Жерар, — произошел случай, о котором нельзя умолчать. Леони, по натуре необыкновенно добрая, была в то же время горда не по годам. В Бразилии, откуда ее вывезли в четырехлетием возрасте, она привыкла к многочисленной прислуге, безукоризненно вымуштрованной и исполнявшей любое ее желание, достаточно было ей сказать слово, подать знак. После смерти Гертруды девочка нередко жаловалась на Ореолу; та не скрывала своей ненависти, относилась к ней невнимательно и даже позволяла себе грубость. Девочка раза два-три жаловалась мне на нее, но, видя, что ухватки Ореолы остались прежними, обратилась к господину Сарранти. Тот со всей возможной деликатностью дал мне понять, что моя личная снисходительность к Ореоле не дает ей права забывать, что Виктор и Леони — истинные хозяева в этом доме.
Однажды утром дети развлекались тем, что бросали в пруд камни, а Брезиль нырял за ними. Ореола пожаловалась, что от собачьего лая у нее болит голова. Она крикнула детям из окна, чтобы они прекратили игры или выбрали такую, чтобы Брезиль не лаял. Дети посмотрели, от кого исходит приказание, и, видя, что к ним обращается Ореола, продолжали игру.
"Ну, берегись, Леони!" — пригрозила она девочке, которую особенно ненавидела.
"А что будет?" — спросила Леони.
"Берегись, как бы я не спустилась вниз. Если ты заставишь меня выйти, я тебя высеку!"
"Вот как! Ну-ну, выходите!" — отвечала девочка.
"Так ты вздумала меня дразнить?! — вышла из себя Ореола. — Ну, погоди! Я тебе покажу!"
Она бросилась в сад, подбежала к пруду и уже протянула руку, чтобы схватить девочку. Та ее поджидала, не шевельнувшись. Но в ту минуту, как Ореола собиралась схватить Леони, пес набросился на нее и вцепился ей в руку. Женщина взвыла не столько от боли, сколько от ярости. На крик прибежал господин Сарранти и садовник. Учитель увел детей, старик заставил пса выпустить добычу.
Ореола возвратилась в дом и показала мне окровавленную руку.
"Надеюсь, вы накажете свою племянницу и прикажете пристрелить пса", — сказала она.
Возможно, я сделал бы, как она хотела, но господин Сарранти вмешался и воспрепятствовал этому: он все видел и слышал. По его мнению, Леони не была виновата. А Брезиль, подчиняясь врожденному инстинкту преданности, защищал свою маленькую хозяйку и ничем не заслуживал смерти. Я ограничился тем, что запретил детям играть на берегу пруда, а Брезиля велел посадить на цепь. Впрочем, Ореола отказалась от мщения с легкостью, которая меня удивила и страшно испугала. Я уже немного ее знал и понимал, что она не из тех, кто прощает обиды.
К этому времени в доме произошло событие, роковым образом способствовавшее осуществлению давно замышлявшегося Орсолой страшного плана.
Была середина августа тысяча восемьсот двадцатого года. Господин Сарранти внезапно и резко изменил все свои привычки: к моему величайшему изумлению, его жизнь, до тех пор весьма однообразная, стала непрерывным рядом странностей, которые начали привлекать внимание мирных деревенских жителей, а в особенности — обитателей замка.
За ним являлись среди ночи; он немедленно уходил со своими гостями и пропадал целыми днями, оставляя выездному лакею Жану, которого сделал своим доверенным лицом, для меня записку; он просто объявлял о своем отсутствии, не объясняя причину и не предупреждая, на какое время отлучается.
Бывало, что он на рассвете встречался со своими парижскими друзьями, запираясь с ними то в своей комнате, то в парковом павильоне, и не выходил к завтраку, а иногда и к обеду.
Иногда его встречали под вечер на улице: он разговаривал с господами в орденах, в длинных синих рединготах, застегнутых на все пуговицы; по всему было видно, что это переодетые военные.
Ореола не раз подслушивала под дверью его комнаты, кабинета или павильона, пытаясь перехватить тайну его долгих, частых и таинственных разговоров. Долетавшие до нее отдельные слова могли бы навести ее на след. Но связать эти слова между собой ей никак не удавалось. Однако чаще других слов Ореола слышала такие как "король Людовик Восемнадцатый", "император Наполеон", и скоро сообразила, что речь идет о военном заговоре, имевшем целью свергнуть существующее правительство и возродить Империю. Я помню дьявольскую радость Ореолы, когда она поделилась со мной своим открытием. Она ненавидела вашего отца, который при любых обстоятельствах принимал сторону детей, и я не сомневаюсь, что она заявила бы на него в полицию, если бы ее не захватил другой план. Она с пугающей прозорливостью увидела, что планы вашего отца кое в чем совпадают с ее собственными намерениями.
День за днем она выжидала удобной минуты, как ягуар, притаившись на дереве, поджидает приближающегося путника. В этой терпеливой и беспощадной женщине было много общего со змеей и с тигром!
Восемнадцатого августа господин Сарранти, исчезнувший из замка ночью, оставил для меня записку: он просил взять у корбейского нотариуса сто тысяч экю, которые я сдал на хранение по его просьбе. Чтобы легче было перевозить эти деньги, мне следовало попросить выплатить хотя бы часть суммы банковскими билетами.
Я приказал заложить коляску и отправился в Корбей. У господина Анри почти не было банковских билетов, и я привез домой сто тысяч экю золотом, как и сдавал на хранение.
Днем господин Сарранти вернулся и прислал спросить, может ли он переговорить со мной наедине.
Я был с Орсолой.
"Передайте, что я сейчас спущусь", — сказал я Жану.
"Почему бы господину Сарранти самому не подняться, — вмешалась Ореола. — Здесь вам удобнее будет разговаривать".
"Скажите господину Сарранти, что он может подняться", — приказал я Жану.
Когда Жан вышел, я попросил:
"Выйди, Ореола".
"У вас от меня есть секреты?" — удивилась она.
"Нет, но тайна господина Сарранти принадлежит ему, а не мне".
"С вашего позволения, сударь, тайны господина Сарранти будут нашими, или пусть он оставит их при себе".
С этими словами она, вместо того чтобы уйти, скрылась в туалетной комнате, откуда было отлично слышно все, что происходит в спальне, и заперлась на ключ.
В эту минуту дверь, что вела из коридора, распахнулась и вошел ваш отец. Я мог, я был обязан увести его в другую комнату, на безлюдную аллею парка, на открытую лужайку... Но я испугался, что Ореола устроит мне сцену, как только мы останемся с ней вдвоем. И когда господин Сарранти меня спросил: "Мы одни? Я могу говорить с вами откровенно?" — я, не колеблясь, ответил: "Мы одни, друг мой, я вас слушаю..."
Прежде чем продолжать, г-н Жерар повернулся к монаху и спросил:
— Вы знаете, о чем говорил ваш отец, или мне повторить его слова?
— Я ничего не знаю об этом, сударь, — отвечал Доминик. — Когда мой отец уехал из Франции, я находился в семинарии. У него не было времени со мной проститься. С тех пор я получил от него всего одно письмо с пометкой "Лахор". Но в нем отец лишь сообщал, что жив и здоров, и высылал сумму, которая, как он считал, была мне необходима.
— Тогда я расскажу, — продолжал умирающий, — о планах вашего отца и о том, в каком заговоре он участвовал.
LXVIII ТАЙНА ГОСПОДИНА САРРАНТИ
— "Прежде всего разрешите вас заверить, дорогой господин Жерар, — сказал мне ваш отец, — что все, о чем я вам сейчас расскажу, было известно вашему брату Жаку с первого дня, как мы встретились. Он отлично знал, что открывает свои двери заговорщику, когда поручил мне воспитание своих детей.
Вы знаете, как меня зовут и откуда я родом. Я корсиканец, родился в Аяччо в один год с императором, ему я посвятил свою жизнь: последовал за ним на остров Эльба после отречения в Фонтенбло, на Святую Елену — после битвы при Мон-Сен-Жан.
Придет день, и люди узнают, на какие муки обречен королями человек, державший их всех в своих руках: а когда история станет достоянием газет, это послужит наказанием для его тюремщиков и палачей!
С начала тысяча восемьсот семнадцатого года я занялся подготовкой освобождения прославленного пленника, не посвящая его в свои планы. Я наладил связь с американским кораблем, на котором нам доставили письма бывшего короля Жозефа, удалившегося в Бостон; однако император категорически осудил то, что я сделал, и сам выдал меня губернатору, напутствовав словами: "Отошлите поскорее во Францию этого молодца, который хочет заставить меня сбежать из этого прелестного уголка, именуемого островом Святой Елены!"
Он во всех подробностях изложил губернатору план бегства, в который я только что его посвятил.
Милость, о какой он просил, то есть высылка во Францию одного из его верных слуг, была из тех, что ему всегда готовы были оказать. Мой отъезд был назначен через день, корабль отправлялся в Портсмут с рейда Джеймстауна.
Я был в отчаянии, полагая, что впал в немилость, как вдруг получил через генерала Монтолона приказ явиться к императору. Генерал проводил меня в спальню, и император знаком приказал оставить нас одних.
Едва оставшись с августейшим пленником наедине, я бросился ему в ноги, умоляя меня простить и не отсылать во Францию. Он дал мне выговориться, слушая с ласковой улыбкой, потом взял меня за ухо.
"Глупец! — сказал он. — Ну-ка, поднимайся!"
Эти слова были так далеки от упреков, какие я ожидал услышать, что я совершенно растерялся.
"Я тебя не прощу, — сказал он мне, — потому что мне нечего тебе прощать, кроме слишком большой верности и слишком большой преданности, а такие вещи не прощают, негодный корсиканец, их запоминают!"
"В таком случае, сир, Небом вас заклинаю: не удаляйте меня от себя".
"Сарранти! — пристально на меня взглянув, сказал император. — Ты мне нужен во Франции".
"В таком случае, сир, — вскричал я, — это другое дело! Как бы мне ни хотелось остаться при вас, я готов отправиться сию же минуту".
"Выслушай, — приказал император, — так как то, что я собираюсь тебе доверить, очень важно. У меня есть сторонники во Франции..."
"Ну еще бы, сир: за вас весь народ!"
"Кое-кто из моих бывших генералов готовит мое возвращение".
"Действительно, сир, почему вы до сих пор не на троне? Ведь вернулись же вы с Эльбы!"
"Судьбу не переделать заново, в особенности такую, как моя! — покачал головой император. — Кстати, по моему убеждению, для будущего человечества лучше, если я умру здесь: пусть император народов познает страдания и Голгофу подобно Иисусу Христу... Моя смерть будет прекрасна, Сарранти, и я не хочу избегать такой смерти!"
Он мне говорил это с тем же торжествующим взглядом, с каким диктовал условия мира после Маренго, Аустерлица и Ваграма. На острове Святой Елены он вновь ощутил свой гений, на время ему изменивший, как Иисус Христос на мгновение вспомнил, что он человек, когда увидел кровавый пот, но потом снова ощутил себя Сыном Божьим.
"Что я должен делать, сир? — продолжал я. — Почему вы не хотите, чтобы я, как Симон Киринеянин, остался здесь и помог вам нести крест?"
"Повторяю, Сарранти, — отвечал император, — мне нужен во Франции человек надежный, который скажет таким людям, как Клозель, Башелю, Жерар, Фуа, Ламарк, — моим храбрым генералам, которые не продались ни Бурбонам, ни иноземцам, — чтобы они забыли обо мне".
"Почему, сир?"
"Потому что я, подобно древним римским императорам, превратился в бога и взираю на них с высоты пылающих небес. Ты найдешь их и передашь от моего имени: забудьте об императоре; знайте, что он вас любит и душой с вами, но у него есть сын, которого воспитывают, возможно, в ненависти к отцу или, во всяком случае, уже научили не признавать его. Помните об этом сыне!"
"Да, сир, я им скажу об этом".
"Но не компрометируйте его понапрасну, — прибавишь ты, — вы можете вовлечь мальчика лишь в такой заговор, в успехе которого сами будете совершенно уверены; не забывайте, что случалось с Астианаксами и Британиками в тот день, когда кому-нибудь начинало казаться, что они представляют собой опасность!"
"Хорошо, сир, я все передам".
"Объясни им, что это мое самое большое желание, Сарранти, мое политическое завещание. Скажи, что я окончательно отрекся от власти, но отрекся в пользу сына".
"Скажу, сир".
"Слушай, Сарранти, вот подробность, которая будет полезна тем, кто попытается вырвать мальчика из рук Австрии".
"Слушаю, сир".
"Мой сын живет в одном льё от Вены, в том же замке, где я останавливался дважды: в тысяча восемьсот пятом году — после Аустерлица, в тысяча восемьсот девятом — после Ваграма; во второй раз я пробыл там почти три месяца. Он живет в правом крыле, где когда-то были мои личные апартаменты... Кто знает? Может, он спит в моей спальне... Надо бы об этом справиться".
"Да, сир".
"Я говорю об этом вот почему. Однажды мне надоело проходить из спальни через апартаменты и передние, где было полным-полно придворных и просителей... А я любил спускаться в чудесные сады и гулять там с утра или, наоборот, довольно поздно ночью. Я приказал — но не дворцовому архитектору, а своим офицерам инженерных войск — прорубить потайную дверь, выходящую на внутреннюю лестницу. Потайной ход вел из моей туалетной комнаты в оранжерею. Достаточно было нажать на кнопку, скрытую в раме зеркала, как оно возвращалось на место и проход становился невидимым. Ну, понимаешь, Сарранти? Если за моим сыном следят, он, может быть, сумеет убежать через эту потайную дверь к тем, кто будет ждать его в парке, и вместе с ним доберется до границы!"
"Да, сир, понимаю".
"Вот план Шёнбруннского дворца, я сам составил его сегодня ночью. То крыло, где находились мои покои, я постарался вспомнить во всех подробностях: спальня, туалетная комната — вот здесь. Это чертеж резной рамы; в нее вделана кнопка. На плане моя подпись. Хорошенько спрячь его от английских шпионов: этот план может тебя выдать".
"Будьте покойны, сир, только после моей смерти они его получат!"
"Постарайся оставаться в живых и не отдавай им этот план — так будет лучше. Погоди, это не все".
Император подошел к шкатулке, стоявшей под одной из ножек его кровати; в ней было около миллиона золотом. Он отсчитал триста тысяч франков и подал мне.
"Зачем мне эти деньги?" — спросил я.
"О, я не даю их вам, господин корсиканец. Я вам, метр Цинциннат, их доверяю на нужды нашего общего дела, слышите? Вы употребите их по своему усмотрению. В руках глупца сто тысяч экю — сущий пустяк, а в руках умного человека — это целое сокровище. Я провел свою первую — Итальянскую — кампанию, имея всего две тысячи луидоров в сундуке моей кареты. Прибыв в штаб, я раздал генералам по четыре луидора".
"Сир, этими деньгами распорядится пусть не гениальный, зато честный человек".
"Если тебе придется бежать... слушай внимательно, Сарранти!"
Я обратился в слух.
"Мне было бы приятно, если бы ты нашел убежище в Индии. Там ты найдешь при Ранджит-Синг-Бахадуре, махарадже Лахора и Кашмира, одного из самых преданных моих слуг: генерала Лебатара де Премона..."
"Да, сир".
"Я послал его туда в тысяча восемьсот двенадцатом году, чтобы выяснить: в то время как я воюю с Англией, покоряя Восток с Севера, — как в тысяча семьсот девяносто восьмом я воевал с ней же, пытаясь захватить Восток через Египет, — не удастся ли ему вызвать еще одно восстание в Чандернагоре и превратить Ранджит-Синга в нового Типпу Сахиба, на этот раз удачливого. На нас обрушились несчастья, и я отвернулся от Индии; но, с тех пор как я здесь, я получил известия от моего верного посланца: он поступил на службу к индийскому князю, но по-прежнему мне предан. Итак, если тебе придется скрываться, Сарранти, беги к этой старой кормилице человеческого рода, именуемой Индией; раздели с Лебатаром деньги, сколько бы у тебя ни осталось; мой верный слуга небогат, во Франции он оставил девочку, о воспитании которой мне следовало бы позаботиться, если бы я все еще был императором. Вот, дорогой Сарранти, почему я на тебя донес, почему прогоняю тебя, почему прошу отослать тебя в Европу, и как можно скорее, слышишь, предатель? Пусть между нами не будет ничего общего, пока ты не прибудешь туда!"
Император протянул мне руку; я почтительно коснулся ее губами.
Через день я уехал.
Когда я прибыл во Францию, мне стало известно, что, как и за всеми прибывавшими с острова Святой Елены, полиция установила за мной строгую слежку.
Все знали, что у меня нет денег; сто тысяч экю, которые я привез с собой, могли вызвать подозрения. Я разыскал вашего брата и во всем ему признался. Он предложил мне стать учителем его детей и поручил обратиться к вам с просьбой поместить у нотариуса сто тысяч экю. Вы помните наш разговор.
Прошло четыре года с тех пор, как я приехал с острова Святой Елены. Все это время я ждал случая исполнить волю императора. Был организован заговор; завтра все должно решиться. Я не могу назвать инициаторов этого заговора — их тайна принадлежит не мне. Могу только заверить, что самые громкие имена Империи попытаются завтра свергнуть власть Бурбонов!
Победим мы? Или проиграем?.. Если мы одержим победу, нам нечего опасаться, мы станем хозяевами положения. Если потерпим поражение, нас ждет эшафот Дидье! Поэтому я и попросил вас забрать у нотариуса сто тысяч экю, обменяв, если удастся, золото на банковские билеты.
Вам нечего беспокоиться: вы не можете быть замешаны в этом деле. Впрочем, если у вас есть на этот счет опасения, я сегодня же готов вам написать, что важные дела вынуждают меня с вами расстаться, и, если заговор провалится, я скроюсь.
Но, может быть, вы хотите помогать мне до конца? Дайте в мое распоряжение верного Жана; пусть он держит завтра наготове пару оседланных лошадей с пятьюдесятью тысячами экю в седельной сумке у каждой из них. У меня вдоль всей дороги отсюда до Бреста есть друзья, они нас спрячут. В Бресте я сяду на пароход, отправлюсь в Индию и присоединюсь в Лахоре, согласно приказаниям моего повелителя, к генералу Лебатару де Премону.
Вот что я должен был вам сообщить, дорогой господин Жерар. Теперь моя жизнь в ваших руках. Не торопитесь с ответом. Я сейчас приведу в порядок свои дела, сожгу бумаги, которые могут меня скомпрометировать, и через четверть часа вернусь к вам за ответом".
С этими словами он поднялся и вышел.
Не успела за ним затвориться дверь, как Ореола появилась на пороге туалетной комнаты. Естественно, она все слышала.
Я боялся, что она, женщина, причем враждебно настроенная к господину Сарранти, откажется помогать в его бегстве. И, решив ее опередить, спросил: "Ты все слышала, Ореола? Что делать?" Она, к моему удивлению, ответила: "Делай, что он просит".
Я в изумлении посмотрел на нее и переспросил:
"Как?"
"Дай ему Жана, пусть приготовит двух лошадей, и вместе попросим..."
Она хотела сказать "Господа", но спохватилась и с улыбкой продолжала:
"...и вместе попросим дьявола, чтобы заговор провалился, потому что никогда еще мы не были так близки к тому, чтобы стать миллионерами!"
Я вздрогнул; она заметила, как я побледнел.
"А я думала, что мы обо всем договорились и нам не придется возвращаться к этому вопросу".
Властным тоном, который с некоторых пор она себе позволяла в иные минуты, она продолжала:
"Ваше дело — забрать у него свою доверенность! Сейчас я его к вам пришлю, чтобы не терять времени. Остальное я беру на себя".
И она вышла.
Спустя некоторое время вошел господин Сарранти.
"Вы меня звали?" — спросил он.
"Да".
"Вы все обдумали?"
"Жан в вашем распоряжении. Завтра с самого утра вас будут ждать оседланные лошади. Деньги я прикажу положить в седельные сумки".
Господин Сарранти раскрыл бумажник и достал оттуда бумагу.
"Возьмите, сударь, — сказал он. — Вот ваша доверенность. Будем считать, что сегодня я получил назад свои сто тысяч экю, раз вы забрали их у нотариуса. Если обстоятельства помешают мне заехать в Вири и я не буду ни убит, ни схвачен, я сообщу вам запиской, куда отправить деньги".
Я взял доверенность дрожащей рукой; бледность заливала мое лицо с той минуты, как Ореола дала понять, что рассчитывает на бегство господина Сарранти для исполнения ее ужасных замыслов. Заметив мое волнение, ваш отец, вполне понятно, счел, что мной овладела нерешительность.
"Дорогой господин Жерар, — сказал он, — у вас еще есть время переменить свое решение. Я могу сию минуту навсегда покинуть замок, а перед отъездом оставить вам обещанное письмо, из которого будет ясно, что вы непричастны к моим планам. Одно ваше слово — и вы свободны от обещания".
Я колебался. Но эта женщина забрала надо мной такую власть, что я не смел ее ослушаться.
"Нет, — возразил я, — мы обо всем договорились и ничего не будем менять в наших планах".
Господин Сарранти подумал, что я упорствую только из преданности, и с чувством пожал мне руку.
"Меня ждут в Париже, — сказал он. — Возможно, мы никогда больше не увидимся, и я в последний раз жму вашу руку. В любом случае, дорогой господин Жерар, можете рассчитывать на мою вечную признательность!"
И он вышел.
Вечером я, как обычно, ужинал вместе с Орсолой. Не смею вам сказать, что я ей обещал в пьяном угаре, какое гнусное преступление мы вместе замыслили! Меня может извинить только то, что я был не в своем уме и действовал не по своей воле.
Итак, утром девятнадцатого августа мы, по выражению Ореолы, решили во что бы то ни стало к вечеру стать миллионерами.
LXIX ДЕНЬ 19 АВГУСТА 1820 ГОДА
— Следующий день, — продолжал г-н Жерар, — прошел для меня в кошмарах. Как ни был я далек от политики, я горячо молил Бога, чтобы заговор удался; мне казалось, что Ореола мне говорила так: преступление возможно лишь в том случае, если этот заговор провалится и господину Сарранти придется бежать. До четырех часов пополудни я прислушивался к бою часов, и каждый их удар отдавался у меня в сердце. Я то и дело смотрел на часы. Время шло, и ничто не нарушало привычного спокойствия нашей уединенной жизни.
Пробило четыре часа. Мы намеревались сесть за стол. Я еще раньше заметил, что отсутствуют приборы детей. Ореола решила, что они будут обедать отдельно. Вдруг я услышал стук копыт; я выбежал из гостиной. Ваш отец на взмыленной лошади въезжал на двор. У крыльца лошадь пала.
"Предали! Нас предали! Мне остается только одно: бежать! — воскликнул господин Сарранти. — Все готово?"
"Все", — отозвалась Ореола.
Я не мог отвечать: на мои глаза словно пала кровавая пелена.
Господин Сарранти высвободил ногу из стремени, подошел ко мне, пожал руку.
"Предали! Нас предали! — повторял он. — О ничтожества! Все было так хорошо задумано, так хорошо подготовлено!"
В эту минуту на зов Ореолы появился Жан с парой свежих лошадей. Я собрался с духом и, указав на них господину Сарранти, сказал:
"Уезжайте немедленно! Не мешкайте! Надо спасаться!"
Он еще раз пожал мне руку, вскочил на одну из лошадей, Жан сел верхом на другую, и они поехали проселочной дорогой в сторону Орлеана.
"Отлично! — шепнула мне Ореола. — Садовник в восемь вечера уходит ночевать к зятю в Морсан, мы будем одни!"
"Одни, — машинально повторил я. — Одни..."
"Да, — подтвердила Ореола, — одни, потому что мы будто все предвидели и вовремя отделались от Гертруды".
Слово "мы" напомнило мне о преступлении, в котором я был соучастником. Мой лоб покрылся испариной! Я понял, что пора призвать на помощь всю мою силу, что необходимо бороться. Но я уже давно не имел сил. Давно уже я подчинялся чужой воле и не мог более сопротивляться.
"Ну-ну, за стол! — пригласила Ореола. — Не станем же мы упускать такой случай! Давай подкрепимся и воспользуемся подходящей минутой!"
Я знал, что имела в виду Ореола, когда хотела или, вернее, предлагала мне "подкрепиться": это значило опоить меня до такой степени, чтобы я во хмелю, когда мною будто овладевал демон насилия и безумия, перестал отвечать за свои поступки. Если того требовали обстоятельства, Ореола подмешивала в вино порошок, возбуждавший чувственность, и я почти терял голову. Уж не у Светония ли вычитала Ореола, что, когда сестра Калигулы — убийца родственников и повинная в кровосмешении любовница — толкала его на преступление, она действовала именно так? Или Ореола сама была носительницей зла и потому угадала, что шпанская муха может заменить гиппомане?
В ту ночь, когда умерла Гертруда, я уже испытал то же хмельное озлобление, что охватило меня вечером девятнадцатого августа после ужина. Я встал из-за стола около восьми часов. Начинались сумерки. Все, что я помню, — это безостановочно нашептывающий мне на ухо голос:
"Займись мальчишкой, я возьму на себя девчонку".
Я, отупевший, бесчувственный, разбитый, отвечал:
"Да... да..."
"Но сначала, — продолжал тот же голос, — примем необходимые меры, чтобы подозрение пало на господина Сарранти".
"Да, — повторил я, — пусть подозревают господина Сарранти".
"Иди сюда!" — послышался приказ.
Я почувствовал, что меня ведут в кабинет, где я обыкновенно занимался бумагами. Там в бюро я держал триста тысяч франков, привезенные из Корбея, перед тем как передал их господину Сарранти. Ореола заперла ящик на ключ, потом взломала щипцами замок.
"Понимаешь?" — спросила она.
Я озадаченно смотрел на нее и молчал.
"Он взломал замок, украл у тебя деньги, которые ты привез от нотариуса, и был таков. А дети вошли в ту минуту, как он забрался в ящик с деньгами. Он испугался, что они на него покажут, и отделался от них".
"Да, — повторил я, — да, отделался..."
"Теперь понимаешь?" — в нетерпении спросила Ореола; она едва скрывала радость, увидев, до какого беспомощного состояния ей удалось меня довести.
"Да, понимаю... Но он будет отрицать!"
"А разве он вернется, чтобы отрицать? И кто будет его искать в Индии? Осмелится ли он вернуться во Францию, будучи осужден как заговорщик, вор и убийца?"
"Нет, не посмеет".
"К тому же мы будем миллионерами, а когда есть миллионы, многое можно сделать!"
"Как же мы станем миллионерами?" — спросил я заплетающимся языком, тупо смотря на нее.
"Ты займешься мальчишкой, я возьму на себя девчонку", — повторила Ореола.
"Верно".
"Идем вниз".
Помню, что я инстинктивно сопротивлялся. Она увлекла меня за собой и заставила спуститься. Дети сидели на крыльце и любовались закатом.
"Как странно! — сказал я. — Мне кажется, что все небо в крови".
Завидев меня, дети встали и, держась за руки, подошли ко мне.
"Пора домой, дядя Жерар?" — спросили они.
Их голоса произвели на меня странное действие: я не мог отвечать, я задыхался.
"Нет пока, — вмешалась Ореола. — Можете поиграть, мои дорогие!"
— Этого мне не забыть никогда!.. — продолжал умирающий. — Хоть я и был пьян, но видел их, как вижу сейчас перед собой, ангелочков Господних: мальчик — белокурый, свеженький, розовощекий; девочка — серьезная, черноволосая, она пристально смотрит на меня и словно спрашивает, почему у меня дрожат руки, что означают мутный взгляд, неровная походка... Пробило восемь. Я услышал, как захлопнулись ворота парка: это ушел садовник. Я огляделся и не увидел Ореолы. Где она была?.. Я вздохнул с облегчением, хотел было взять детей и убежать подальше. Может, я так бы и сделал, но почувствовал, что сам с трудом держусь на ногах. Я прошептал: "Дети! Бедные мои дети!"
В это мгновение снова появилась Ореола.
В руке она держала мое ружье.
"Возьмите, господин Жерар", — сказала она и протянула его мне.
Но моя рука отказывалась его держать.
"Дядюшка! — вскричал юный Виктор. — Ты собираешься в засаду?"
"Да, — подтвердила Ореола, — завтра у нас будут гости, и ваш дядюшка должен мне принести несколько кроликов".
"Возьми меня с собой, дядюшка!" — попросил мальчик.
Я вздрогнул.
"Да бери же ружье, трус!" — прошипела мне на ухо Ореола.
Я повиновался.
"Дядюшка, дядя! — не унимался Виктор. — Я буду стоять позади тебя, я не стану шуметь, не беспокойся!"
"Слышите, о чем вас ребенок просит?" — громко проговорила Ореола.
Я взглянул на мальчика.
"Ты хочешь пойти со мной?" — переспросил я.
"Да, дядя, пожалуйста, ведь ты мне обещал, что возьмешь меня с собой, если я буду хорошо себя вести!"
"Верно... А ты был послушен, Виктор?!" — спросила Ореола.
"Да, сударыня, — чистосердечно ответил мальчик. — Если бы господин Сарранти был здесь, он бы вам сказал, что доволен мной!"
Детям не сказали, что их воспитатель уехал навсегда.
"Ну, раз он хорошо себя вел, можете взять его с собой, господин Жерар".
"Если берут Виктора, я тоже хочу пойти с ним", — сказала Леони.
"Нет, нет! — торопливо возразил я. — И так довольно! С меня и одного будет много!"
"Слышите, мадемуазель? — спросила Ореола. — Мы уложим вас спать".
"Почему спать? — возразила девочка. — Я хочу дождаться возвращения брата, и мы ляжем в одно время с ним".
"Прикажите раз и навсегда этой девочке, что вы желаете, чтобы она слушалась и больше не говорила: "Я хочу!""
"Ступайте с Орсолой, Леони", — приказал я.
"А я — с тобой, правда, дядя?!" — подхватил счастливый Виктор.
"Да, идем!" — сказал я.
Он подал мне руку. Я был не в силах держать доверчивую детскую ручонку в своей руке и оттолкнул ее.
"Иди рядом!" — приказал я ему.
"Впереди! Впереди!" — крикнула Ореола, уводя Леони.
Девочка обернулась и попросила (я и сейчас слышу ее голос): "Возвращайтесь поскорее, дядя!.. Возвращайся поскорее, Виктор!"
Я тоже обернулся: девочка исчезла за дверью. Шагая вдоль пруда, я уходил все глубже в парк. Виктор шел впереди меня шагах в десяти, как и приказала Ореола.
Сумерки сгустились, а под большими деревьями было еще темнее. Я обливался потом, а сердце стучало так, что время от времени я вынужден был останавливаться.
Оба ствола в моем ружье были заряжены. Последние две недели стояла жара. Поговаривали, что в округе появились бешеные собаки. Опасаясь, как бы чужой пес не забежал днем через открытые ворота, а ночью — через пролом в парковой стене, я на всякий случай зарядил ружье. Ореола знала об этом, когда подавала мне его. Мальчик, как я вам сказал, шагал впереди. Мне достаточно было приложить ружье к плечу, нажать на курок, выстрелить — и все готово!
Господи! Ты пытался меня удержать от этого гнусного поступка! Я несколько раз вскидывал ружье, подносил палец к курку и снова опускал оружие.
"Не могу! Не могу!" — бормотал я.
В одну из таких минут Виктор обернулся, и, хотя я поспешил опустить ружье, он догадался, что я целился в него.
"Дядя! — заметил он. — Ты, если не ошибаюсь, сам мне говорил, что целиться в людей нельзя даже в шутку и что один мальчик застрелил так свою сестричку".
"Да, да, ты прав, Виктор! — вскричал я. — Это шутка, я был не прав!"
"Я знаю, что ты пошутил, — сказал мальчик. — Зачем тебе меня убивать? Ты ведь так любил нашего бедного отца!"
Я вскрикнул. В мозгу у меня будто вспыхнула молния; казалось, я схожу с ума.
"Да, Виктор, — сказал я, перекинув ружье за спину. — Да, я любил твоего отца!.. Ступай домой, Виктор! Ступай! Мы не пойдем сегодня на охоту".
"Как хочешь, дядя", — испугавшись моего голоса, проговорил мальчик.
Я подошел к нему, взял его за руку и повел через лес к замку. Я надеялся, что успею помешать убийству девочки. К несчастью, впереди был пруд. Чтобы попасть в дом, надо было его обогнуть. Это отняло бы у нас больше десяти минут. Можно было переплыть пруд на лодке.
"Дядя! Давай сядем в лодку! — попросил мальчик. — Я бы так хотел покататься!"
Он первым прыгнул в небольшую лодку. Едва держась на ногах, я последовал за ним.
Пруд был глубокий. Его гладкая зеркальная поверхность освещалась только что показавшейся луной. Я схватил весла и стал быстро грести. У меня в это время была только одна мысль: вовремя вернуться, чтобы помешать преступлению и, что бы там потом ни случилось, сказать: "Нет, нет! Не хочу!"
Мы были примерно на середине пруда, как вдруг я услышал душераздирающий крик. Я узнал голос Леони. Громко залаял Брезиль: он, верно, тоже услышал крик из своей будки, где был накрепко привязан, и тоже узнал голос юной хозяйки.
Крик, еще более страшный, повторился снова, а потом опять.
Я взглянул на Виктора: он сильно побледнел.
"Дядя! Дядя! — прошептал он. — Мою сестру убивают!"
Он позвал:
"Леони! Леони!"
"Замолчи, несчастный!" — прикрикнул я на него.
"Леони! Леони!" — не успокаивался мальчик.
Я шагнул к нему, протянул руку. Мои глаза горели. Его так испугало выражение моего лица, что он был готов прыгнуть в воду. Он не умел плавать. Мальчик упал на колени и взмолился:
"Дядя! Милый! Не убивай меня! Я тебя люблю! Я очень тебя люблю, дядя! Я никому не сделал плохого!"
Я схватил его за воротник куртки.
"Дядя! Дядя! Сжальтесь над вашим Виктором!.. Ко мне! На помощь! Помогите!.."
Голос его осекся: моя рука словно железным обручем сдавила его горло. У меня закружилась голова, я не понимал, что делаю.
"Нет! Нет! — твердил я. — Ты обречен. Ты должен умереть!"
Он слышал мои слова. Собрав последние силы, он попытался вырваться.
В это мгновение луна скрылась в облаках и я очутился в полной темноте. Впрочем, я зажмурился, чтобы ничего не видеть.
Я поднял мальчика над головой и со всей силой бросил его в пруд, словно боялся, что он слишком легкий и не утонет.
Вода вспенилась, расступилась, будто раскрыв бездну, и снова сомкнулась...
Я схватился за весла, чтобы поскорее выбраться на берег, но в эту минуту мальчик появился над водой, он барахтался... Что вам сказать, святой отец?! — рыдая, вскричал г-н Жерар. — Я был пьян! Я был взбешен! Я обезумел!.. Я занес весло...
— О негодяй! — гневно воскликнул брат Доминик и вскочил, не имея сил слушать дальше.
— Да, да, негодяй! Подлец! А мальчик ушел под воду и больше не появился. Когда луна снова вышла из-за облака, она осветила мертвенно-бледное лицо убийцы!
Монах упал на колени и, припав лбом к мрамору камина, стал горячо молиться.
Наступило гробовое молчание.
Тишину нарушил предсмертный хрип, вырвавшийся у больного.
— Я умираю, святой отец! Умираю! — стонал он. — Ради спасения чести вашего отца в этом мире, ради моего спасения в мире ином, выслушайте же меня до конца!
LXX НОЧЬ 19 АВГУСТА 1820 ГОДА
При этом крике отчаяния монах торопливо поднялся, подошел к постели, просунул правую руку под голову больного и дал ему понюхать соли.
Нелегко было сказать, кто из них бледнее: священник или умирающий.
Господин Жерар ослабел и почти лишился чувств. Наконец он знаком дал понять, что может продолжать, и доминиканец занял прежнее место у его изголовья.
— Я выскочил из лодки на лужайку, — рассказывал дальше убийца, — и побежал к дому. Детские крики, собачий лай — все смолкло!
Мне почудилось, что крики прежде доносились из нижнего этажа. Я окликнул Ореолу сначала тихо, потом громче, затем изо всех сил: никто не отвечал. Тогда я решил позвать Леони, но не посмел: боялся потревожить мертвую!
Света не было. Я ощупью спустился вниз. На кухне даже в неясном свете догоравшего очага было видно, что все в полном порядке, ничего необычного не произошло. Из кухни я прошел в кладовую, продолжая звать Ореолу, — тишина. Но мне казалось, что именно оттуда доносились крики.
Я вспомнил, что за кладовой находится чулан. Туда-то мне и оставалось заглянуть. Я толкнул дверь; она отворилась с трудом. Я снова позвал Ореолу — нет ответа.
Вдруг меня поразила вот какая мысль: когда я возвращался из сада, я заметил в свете луны, что стекло в окне чулана выбито. Не успел я об этом подумать, как обо что-то споткнулся. Наклонился: на земле лежало тело. Теплые сырые плиты навели меня на мысль о крови... Я провел рукой: на тело ребенка не похоже. Кто же это?.. Я попятился, наскочил на дверь, прошел через кладовую обратно в кухню. Зажег свечу и, заранее ужаснувшись тому, что мне сейчас предстоит увидеть, вернулся к трупу.
Что же все-таки здесь произошло? То был труп Ореолы! Кровь, в которой он лежал, была ее кровью; она текла из страшной раны на шее. Сонная артерия была разорвана, и смерть наступила почти мгновенно. Рядом с мертвой лежал длинный кухонный нож, выпавший из ее руки.
Сначала я решил, что сошел с ума, что меня преследует какое-то жуткое видение!.. Но нет, все было правдой: труп, кровь... Это были кровь и труп Ореолы!
Я вспомнил, что слышал крики девочки, собачий лай, и меня озарило. Я подошел к разбитому окну, и мои сомнения рассеялись. Мне стало ясно, что произошло.
Вернувшись в дом, Ореола взяла нож и по доброй воле девочки или силой привела ее в чулан. Там она хотела ее зарезать. Девочка в ужасе закричала, стала звать на помощь — эти крики я и услышал, — а в ответ им донеслись завывания Брезиля. Как я уже говорил, пес любил девочку. Он почуял, что ей угрожает смертельная опасность, и страшным усилием разорвал цепь. Одним прыжком он перелетел расстояние, отделявшее его конуру от окна чулана, выбил стекло грудью, и его железные челюсти вцепились Ореоле в горло — та выпустила из рук и нож и девочку.
Что же сталось с псом и девочкой? Куда они подевались? Необходимо было найти их любой ценой.
Увидев мертвую Ореолу, я почувствовал, как мое сердце переполняется ужасом и злобой. Я вышел из чулана через наружную дверь, распахнутую настежь. Очевидно, через нее и убежала Леони. Я отправился на поиски. Если бы я ее нашел, то убил бы ее ради собственной безопасности, как недавно убил ее брата...
Монах содрогнулся.
— А вы как думали, святой отец! — проговорил умирающий. — Таков роковой закон: одно преступление неизбежно влечет за собой другое! И убийца в тисках: он должен убивать только потому, что уже однажды убил...
Сначала я побежал по главной аллее парка с ружьем в руках, вглядываясь в темноту, бросаясь на малейший шум, принимая едва заметный отблеск луны в листве за белое платьице Леони. В те минуты я был взбешен, опьянев от злобы, от вида крови! Я останавливался на каждый шорох, вскидывал ружье, звал Брезиля, кричал: "Это ты, Леони?"
Никто не отвечал. Стояла мрачная тишина, кругом была безжизненная пустота, парк был похож на могилу!
Вдруг я очутился на берегу пруда и в ужасе замер; волосы у меня встали дыбом. Издав нечеловеческий вопль, я бросился бежать в другую сторону, словно в лихорадке, не понимая, куда бегу; будь у меня на пути какое-нибудь препятствие, я неизбежно смёл бы его!
Ничего!.. Около часу я блуждал по парку, шарахаясь из аллеи в аллею, от куста к кусту, от дерева к дереву. Ни следа, ни единого намека — все тихо, пустынно. В какое-то мгновение мне даже подумалось, не разрядить ли ружье просто так, чтобы услышать хоть какой-нибудь шум — так эта мертвая тишина меня угнетала!
Итак, изнемогая от смертельной усталости, обливаясь потом, я потерял всякую надежду напасть на след собаки и девочки. Я снова очутился перед замком, остановился у крыльца, всего в сотне шагов от пруда... Темная, холодная, недвижная вода меня пугала — я отвел взгляд. Но против моей воли глаза сами смотрели в ту сторону: на берегу, в камышах, лодка, похожая на огромную вытащенную из воды рыбу, а рядом на траве — весло... Этого нельзя было вынести, и я вошел в дом.
Не посмев войти в чулан, где лежала Ореола, я поднялся в свою комнату. Окна были распахнуты настежь. Они выходили на пруд... Куда ни глянь — повсюду этот проклятый пруд! Я подошел к окнам, чтобы закрыть ставни. Но в ту минуту, как наклонился, чтобы потянуть их на себя, я окаменел: вокруг пруда бродила собака, уткнув морду в землю, словно шла по следу. Это был Брезиль! Что он искал?
Он обежал по кругу весь пруд, остановился в том месте, где мы с Виктором садились в лодку, поднял морду, втянул воздух, огляделся, жалобно завыл и бросился в воду... Мне стало жутко! Он поплыл тем же путем, что и наша лодка. Можно было подумать, что собака видит след и идет по нему! Доплыв до того места, где я бросил мальчика в воду, пес завертелся на месте и нырнул. Я пристально следил за каждым движением собаки, затаив дыхание и не смея шевельнуться.
Над тем местом, где Брезиль нырнул, вода образовала воронку. Дважды его морда показывалась на поверхности. Я слышал, как он тяжело дышит. В третий раз он вынырнул, держа в зубах бесформенный предмет, поплыл с ним к берегу и выбрался на траву, не выпуская добычу. О ужас! То, что он вытащил на берег ценой невероятных усилий, оказалось телом мальчика!..
— Какой ужас! — пробормотал монах.
— Да, да! — вскричал умирающий. — Понимаете теперь, что я пережил, когда это увидел? Как в день Страшного суда, бездна возвращала своих мертвецов!.. Я взревел от ярости, схватил ружье, сбежал по лестнице, перепрыгивая через ступени... Как я не споткнулся? Как не свернул себе шею, не разбился о плиты в передней? Не знаю! Я выбежал на крыльцо. Деревья скрывали от меня собаку и мальчика. Я пошел в их сторону, надеясь как можно ближе подобраться к псу, оставаясь незамеченным. Подойдя к деревьям, я очутился всего в тридцати шагах от собаки: пес тащил труп мальчика подальше от замка...
Я вспомнил о проломе в стене. Да! Должно быть, туда убежала Леони. Туда собака хотела оттащить мертвого Виктора! Если бы я случайно не увидел пса из окна, подлое животное выдало бы меня с головой!
В ту минуту как я вышел из-за деревьев, пес меня учуял. Он выпустил мальчика, повернул ко мне оскаленную пасть и горящие глаза, пылавшие в ночи, словно угли. Я услышал, как лязгнули его зубы.
Я сообразил, что он колеблется: тащить ему тело мальчишки к пролому или броситься на меня. Я прицелился, понимая, что от этого выстрела зависит моя жизнь, и спустил курок... Пес осел на все четыре лапы, потом с протяжным и жалобным воем бросился в чащу. Я побежал за ним, надеясь догнать и прикончить вторым выстрелом. Пес был тяжело ранен: при свете луны я различал на траве кровавый след. Я шел по следу, пока не потерял его в чаще.
Тогда я побежал к пролому. Через этот пролом пес, должно быть, ушел; Леони-то уж точно здесь проходила: на кусте шиповника я увидел клочок ее кружевного воротничка. Что с нею сталось? Прошло уже больше часу, как она выбралась за пределы парка. Всего в четверти льё от того места находилась дорога, которая вела из Фонтенбло в Париж. Кто мог сказать, в какую сторону направилась девчонка, если она встретила кого-нибудь на дороге, если кто-нибудь увел ее с собой? А вдруг, пока я буду ее искать на дороге, кто-нибудь войдет в замок и обнаружит на лужайке труп Виктора? Самое главное — спрятать мертвого мальчишку!
Именно тогда я впервые задумался о собственной безопасности. Как я мог до такой степени забыться, что чуть было не оставил труп в пруду? Я же знал, что спустя несколько дней утопленники всплывают! В конце концов, это удача, что Брезиль вытащил его из пруда на траву: я закопаю его в отдаленном уголке сада и все следы преступления будут скрыты.
Я вернулся в парк, по пути сорвав с колючки кусочек кружева, и бегом бросился к пруду. У меня от страха голова пошла кругом, когда я представил себе, что тело Виктора исчезло. Где его искать? К счастью, оно лежало на прежнем месте... К счастью! Понимаете? Какие страшные вещи я вам говорю!
— Да, да, очень страшные! — пробормотал священник, чувствуя, как у него волосы встают дыбом от этого рассказа.
Умирающий продолжал:
— Чтобы закопать мальчишку, мне нужна была лопата. Но за то время, пока я находился вдали от трупа, я так настрадался, что не мог снова его оставить. Я закинул ружье за спину, подхватил тело Виктора одной рукой и пошел к сараю, где папаша Венсан держал садовый инвентарь. Там я отыскал лопату. Сарай находился на огороде.
Как можно дальше от огорода, в самом глухом уголке парка, я и собирался закопать труп. Я снова пошел через лужайку и в лунном свете увидел на земле безобразную тень: мужчина несет ребенка, зажав его под мышкой, впереди болтаются ноги, голова свисает сзади...
Я ускорил шаг и стал пробираться через чащу. Нескончаемый путь, который мне надлежит проделать со дня моей смерти до Страшного суда, пугает меня меньше, чем воспоминание о том ночном кошмаре, когда я пробирался меж темных мрачных деревьев. Ноги у меня подгибались, я задыхался и был вынужден иногда останавливаться, чтобы передохнуть.
Вдруг я почувствовал, что кто-то тянет меня назад. Я хочу бежать дальше — меня что-то держит... Я задрожал, ноги подкосились, голова закружилась, перед глазами замелькали видения; я был близок к смерти!
Сделав над собой усилие, я набрался храбрости и оглянулся: голова мальчика зацепилась золотистыми кудряшками за сломанную ветку и не пускала меня дальше. Все это длилось не больше секунды, но за это мгновение я успел увидеть, как надо мной сверкнул нож гильотины. С жутким хохотом я тряхнул безжизненное тело: часть волос осталась на ветке, и я продолжал путь.
Наконец я нашел то, что искал: выбрал место в густой тени, в нескольких шагах от садовой скамейки, на которой за все время моего пребывания в замке я сидел, может быть, раза два. В зарослях сирени нашлось свободное местечко диаметром в три фута. Часа за полтора я собирался управиться и взялся за дело.
Что я пережил, святой отец, пока рыл могилу!.. Когда я начал копать, было около двух часов ночи. В августе в это время суток все в природе пробуждается — птицы на деревьях, дикие звери в кустарнике. Я вздрагивал от малейшего шороха и озирался, мне чудились шаги. Пот катил с меня градом, дыхание со свистом рвалось из моей груди: я чувствовал приближение рассвета.
И вот все кончено. Я уложил тело мальчика в яму глубиной не более четырех футов, забросал ее землей, насыпанной по краям могилы, притоптал, чтобы не было холма. Но тело заняло в яме место, пришлось разбросать лишнюю землю по сторонам. Потом я сходил за большим куском мха и прикрыл им свежевырытую землю. Скоро не осталось никаких следов моей страшной работы.
Было самое время! Едва я закончил, как сквозь облака пробились первые солнечные лучи, а на вершине дуба, простиравшего ветви над моей головой, запел соловей...
LXXI КОНЕЦ ИСПОВЕДИ
— Солнце, свет привели с собой два страшных призрака: воспоминание и размышление! Я следил за восходом солнца, испытывая такой же ужас, как осужденный на смерть, который видит, как к нему в темницу входит тюремщик, чтобы объявить о казни.
Надо было на что-то решиться. Но я совершенно потерялся от страха, нерешительности, и если бы Ореола почти все не предусмотрела заранее, мне бы не хватило духу продумать все подробности защиты. Но даже смерть Ореолы была мне выгодна: она еще больше запутывала это дело и прежде всего снимала с меня подозрения. Все знали, что я обожал эту женщину; никому не могло прийти в голову, чтобы я был причастен к ее смерти. Кстати, когда найдут мертвую собаку, это послужит доказательством того, что я не успел вовремя прийти на помощь, зато отомстил за Ореолу.
На мне не было следов этого страшного, неумолимого свидетеля — крови! Итак, ценой немалых усилий мне удалось немного успокоиться.
Только бегство Леони меня страшило; но даже если Леони заговорит, она сможет обвинить лишь Ореолу, а та мертва.
Я поднялся к себе, уничтожил следы вчерашней оргии, залпом выпил то, что оставалось в бутылке, немного привел себя в порядок и побежал к мэру. Это был славный человек, простой крестьянин, труженик, каким был когда-то я сам, поэтому он и относился ко мне с большой симпатией и глубоким доверием. Я пересказал ему басню, заготовленную мной и Орсолой: дети исчезли, это совпадало с бегством господина Сарранти и исчезновением ста тысяч экю, взятых накануне у нотариуса; мой секретер взломан, и я не сомневаюсь, что кража и убийство — дело рук господина Сарранти.
— Бедный отец! — прошептал Доминик, простирая к небу руки.
— Да! — вскричал умирающий. — Но раз Господь меня наказывает, раз я сам возвращаю вашему отцу чистое имя, которое когда-то запятнал, вы должны меня простить, святой отец! Ведь если вы не простите, как меня простит Бог?
— Продолжайте, — произнес монах.
— Мне надо было объяснить, почему я не сразу донес в мэрию о случившемся. Я объяснил это так. Накануне я вернулся очень поздно и решил, что все уже спят. Я поднялся прямо к себе и тоже лег. Утром, на рассвете, я проснулся оттого, что в доме все было тихо; я поднялся с постели и, проходя через кабинет, заметил, что замок секретера взломан. Я поспешил в комнату Ореолы — там никого не было; в детской — тоже ни души; стал звать — никто не отвечал! Спустился вниз, стал обходить нижний этаж и наконец в чулане обнаружил тело Ореолы в луже крови. Характер раны не оставлял сомнения: бедняжку загрызла собака. На лужайке я увидел пса, сорвавшегося с цепи; поддавшись первому движению, продиктованному нестерпимой болью, от которой человек теряет над собой власть, я схватил ружье, выстрелил в Брезиля, и раненый пес исчез в чаще.
Мэр поверил этой сказке. Он отнес мою неуверенность, сбивчивость речи, бледность на счет моих душевных переживаний. Он постарался, как мог, утешить меня, приказал своему помощнику дать знать обо всем случившемся куда следует и отправился со мной в замок.
Разумеется, я умолчал о том, к какой границе бежал господин Сарранти. Как вы понимаете, я хотел только одного — чтобы он успел покинуть Францию.
Я заперся в своей комнате, предоставив полицейским возможность обшарить весь замок, и попросил моего друга мэра Вири только об одном: чтобы никто, насколько возможно, не мешал мне предаваться горю. Славный малый обо всем позаботился и сдержал слово. А днем стало известно, что раскрыт заговор; как я и рассчитывал, эта новость пришлась кстати. Когда все узнали, что господин Сарранти был одним из самых фанатичных агентов бонапартистской партии, газетчики подхватили обвинение в краже и убийстве, чтобы швырнуть его в лицо тому, кто возглавлял эту партию. Да полиция, пожалуй, пришла бы в отчаяние — если предположить, что она смогла бы что-то заподозрить, — когда обнаружила бы настоящих виновных: в тысяча восемьсот двадцатом году было принято клеймить бонапартистов позором, именуя их убийцами и ворами, как в тысяча восемьсот пятнадцатом их называли разбойниками. И правительство радо было приписать обвинение человеку, прибывшему с острова Святой Елены и находившемуся в близкой дружбе с императором.
Мне нечего было опасаться: все подозрения отступили от истинного преступника и обрушились на голову невиновного. Если бы вашего отца тогда арестовали, сомневаюсь, что он сумел бы избежать эшафота...
Священник встал; он был бледен как полотно. При мысли о том, что его отец стал жертвой ложного обвинения и что его вина была бы доказана, Доминик пришел в ужас. Он был близок к помешательству.
— О-о, я-то знал, что он ни в чем не виноват! — воскликнул монах. — А его могли казнить, и я ничем не помог бы ему!.. Ах, сударь, сударь, до чего вы...
Он хотел было сказать: "До чего вы омерзительны!" — и осекся.
Умирающий склонил голову. Он ждал, когда страдания сына выльются в горьких словах и в душе его останется лишь милосердие исповедника.
— Но, несмотря на ваше признание, сударь, — продолжал монах, — обвинение в ужасном преступлении по-прежнему будет лежать на моем отце!
— Разве я не умираю, сударь? — пролепетал г-н Жерар.
— Значит, после вашей смерти мне можно будет рассказать всю правду?! — вскричал Доминик.
— Конечно, сударь! Ведь я потому и возблагодарил Провидение за то, что оно привело вас ко мне!
— Отец! — облегченно вздохнул монах. — Бедный отец!.. Понимаете ли вы, сударь, что, если бы он знал, какое на нем лежит обвинение, он, рискуя головой, еще тогда вернулся бы защищать свое доброе имя?
— Да, святой отец... Ну, ничего; когда я умру, вы ему напишете, он сможет вернуться. Но Небом вас заклинаю: не ввергайте меня в пучину ужаса и отчаяния, пока я жив, ведь мне так мало осталось!..
Священник жестом успокоил умирающего.
— Позвольте сделать вам одно признание, — продолжал г-н Жерар. — Семь лет прошло с тех пор, как я совершил преступление, но, должно быть, такая уж мерзкая у меня душа: ни одной минуты я не страдал от угрызений совести. Нет, нет, и я мог бы спать спокойно, жить безмятежно и, может быть, даже счастливо, если бы не страх перед правосудием, боязнь наказания, — вот что ни днем ни ночью не давало мне покоя!.. О, сколько раз в ночных кошмарах я представал перед судом! Сколько раз, несмотря на мои мольбы, слезы, запирательства, я слышал в ответ слово "убийца"! Сколько раз я чувствовал на своей шее холодное прикосновение ножниц, обрезающих мои волосы, и вздрагивал от грохота роковой повозки для осужденных! Сколько раз я видел вдали над толпой либо кровавые объятия виселицы, либо отливающий сталью нож отвратительной гильотины!
— Несчастный! — вымолвил священник, с состраданием взирая на г-на Жерара — живое воплощение ужаса, способного превратить человека в свирепого убийцу.
— Вот почему я сбежал из Вири и поселился в Ванвре. Вот почему я совершаю добрые дела...
При этих словах священник вопросительно взглянул на умирающего.
— Да, да, святой отец, — подтвердил тот. — Милостыня — покров, под которым я прячу свои окровавленные одежды! Кто осмелится потребовать меня к ответу теперь, когда за мной тянутся добрые дела, когда меня охраняют мои благодеяния?
— Тот, кто уже близко! — проговорил Доминик, подняв палец вверх. — Господь Бог!
— Да, знаю, — согласился умирающий. — Это тот, о ком вспоминаешь, когда уже близка смерть. Это тот, кто видит кровь через покрывало, а лицо — сквозь маску! Но перед ним, святой отец, у меня есть два могущественных заступника: мой страх и ваша чистота!
Умирающий не смел говорить о своем раскаянии.
— Хорошо, продолжайте, — предложил священник.
— Мне осталось совсем немного, святой отец... Как я уже сказал, больше всего меня беспокоило исчезновение Леони. Я заявил в префектуру полиции, предпринимал все возможное и невозможное, но так ничего о ней и не узнал!
Хотел было я вернуться в Викдесо, однако там жил когда-то господин Сарранти, там родился его сын, там все меня знали бедным и из зависти могли проявить излишнее любопытство к моему прошлому; пришлось отказаться от этой мысли.
Я отправился путешествовать; провел год в Италии, другой — во Фландрии. Но каждое утро напоминало мне страшную зарю двадцатого августа, и я невольно задавался вопросом, не открылось ли во Франции какое-нибудь обстоятельство моего преступления? Не застанет ли оно меня врасплох здесь, на чужбине? Я вернулся во Францию, съездил в Бургундию, потом в Овернь.
Однажды вечером, в бедной хижине, куда я попросился на ночлег, я услышал подробнейший рассказ хозяев об одном добром человеке. Речь шла о дворянине, жившем в окрестностях Исуара; повздорив со своим лучшим другом из-за какого-то пустяка, он вызвал его на дуэль и убил. Тогда дворянин продал свой замок, фермы, земли, скот, раздал деньги бедным и посвятил себя полезным и добрым делам, надеясь искупить это невольное преступление и заглушить угрызения совести. Я сказал себе: "Если человек совершил тяжкое преступление, жестокое убийство, он может избежать подозрений, создав себе такую же репутацию, как у этого дворянина! То, что он совершает из раскаяния, я буду делать из осмотрительности, из эгоизма, из страха!"
Я вернулся в Париж, подыскал подходящий дом в окрестностях, купил его и занялся благотворительностью, давшей мне, как и тому дворянину, репутацию порядочного человека, с которой сойду в могилу. Но сразу после моей смерти, святой отец, вы вольны открыть правду. Принесите мою репутацию в жертву господину Сарранти. Добейтесь его помилования как заговорщика, я обязан доказать его непричастность к убийству.
— Кто же поверит показаниям сына в пользу своего отца?!
— Я предусмотрел такое возражение, сударь. Встаньте, возьмите этот ключ...
Господин Жерар достал из-под подушки ключ и протянул его монаху.
— Отоприте второй ящик секретера, — приказал он. — Там вы найдете свиток, скрепленный тремя печатями.
Доминик поднялся, взял ключ, открыл ящик и вынул свиток.
— Вот он, — проговорил монах.
— Там что-нибудь написано сверху?
— Да, сударь.
И Доминик прочел:
"Это моя полная исповедь перед Богом и людьми; при необходимости она может быть предана гласности после моей смерти.
Подписано: Жерар Тардье".
— Это она, святой отец. Эта бумага написана моей рукой и слово в слово повторяет мой рассказ. Когда меня не будет, располагайте ею по собственному усмотрению. Я позволяю вам нарушить тайну исповеди.
Монах с невольной радостью и торжеством прижал свиток к груди.
— Теперь, святой отец, — прошептал умирающий, — найдите для меня слова утешения и надежды.
Монах медленно и торжественно приблизился к постели, возведя глаза к небу; его лицо словно озарилось божественным светом.
Он казался воплощением человеческого милосердия.
Видя, что прощение близко, г-н Жерар приподнялся, подавшись ему навстречу.
— Брат мой, может быть, для того, чтобы вас простил всемогущий Господь, нужен более высокий и могучий заступник; но я как человек, как сын, как священник прощаю вас!.. Молю Господа, чтобы он услышал меня и отпустил вам грехи. Во имя милосердного Бога Отца! Во имя пожертвовавшего собой за нас Бога Сына! Во имя вездесущего Бога Святого Духа! Аминь!
Он опустил бескровные белые руки на облысевшую и иссохшую голову умирающего.
— Что я теперь должен делать, святой отец? — спросил г-н Жерар.
— Молитесь! — отвечал монах.
Он не торопясь вышел, сложив руки на груди и умоляя Господа, чтобы тот позволил ему унести с собою все дурное, подлое, низкое, что было в этом умирающем человеке.
Господин Жерар снова упал, уткнувшись лицом в подушку, и замер; так он и лежал не шелохнувшись, будто душа его уже отлетела.
LXXII ГЛАВА, В КОТОРОЙ МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ЖЮСТЕНУ
Отныне брат Доминик спокоен за жизнь и честь своего отца. С исполненным радостью и надеждой сердцем он торопливо шагает из Ванвра в Ба-Мёдон. Там его уже ждет запряженный, готовый отправиться в траурный путь экипаж с телом Коломбана.
А мы вернемся к Жюстену, которого оставили в тот момент, как он во весь опор поскакал в Версаль с полученными от Сальватора указаниями г-на Жакаля относительно г-жи Демаре.
Некоторым из наших читателей могло показаться, что безвольный учитель не заслуживает того интереса, что он внушает Сальватору, Жану Роберу и вашему покорному слуге. Поспешим заметить, что смирение, которое вы могли поначалу принять за недостаток воли, нам, напротив, представляется одним из прекрасных проявлений силы.
В самом деле, не следует путать физическую активность с силой духа.
Иной считает себя очень активным, ежедневно двигается, ходит, бегает, проделывает по два льё пешком или в экипаже, а успевает гораздо меньше того, кто в тиши кабинета, в кажущемся бездействии лет десять вынашивает мысль, которой суждено перевернуть мир.
Поставьте учителя Жюстена, по виду такого апатичного, 15*перед лицом необходимости, и вы увидите, как он выйдет из привычного состояния, вооруженный до зубов, готовый к сражению и к смерти. В глазах тех, кто видит лишь его внешнюю оболочку, — об этом мы не будем распространяться, так как намерены показать это в нашей книге, — он проигрывает потому, что сгибается под тяжестью семейных обязанностей, сыновнего долга, который порой проявляется великими делами, порой — великим и безвестным самоотречением. Отмените для Жюстена святое и тяжкое бремя, тяготеющее над ним и именуемое "семья", — и вы увидите, как он внесет свою лепту в общественный памятник, антипод Вавилонской башни; мы все рождены принять участие в его возведении. Имя ему — всеобщая гармония... Представьте, что Жюстен один в целом свете, обуреваемый страстями, за которые отвечает лишь перед самим собой, тогда, подобно евангельскому свету, скрытому под спудом, он озарит все вокруг, едва вырвавшись на волю.
Если бы вы видели, как Жюстен, вспомнив юность, ловко вскочил на подведенного Жаном Робером коня, помчался во весь опор, преодолел путь до Версаля, вы могли бы с уверенностью утверждать, что только сильный, только решительный человек может твердой рукой направлять горячего коня, более похожего на хищную птицу, уносящую свою жертву, чем на арабского скакуна, мчащегося с седоком на спине.
Бешеная скачка продолжалась около часа, и мысли Жюстена, под стать его быстроногому коню, стремительно проносились в его голове. Проделав за это время пять льё, ровно в половине девятого он остановился, запыхавшись, у ворот пансиона, спрыгнул с лошади и позвонил.
В пансионе давно не спали. Госпожа Демаре была в своей комнате одна; она еще не закончила туалет.
Жюстен просил ей передать, что желает немедленно с ней переговорить.
Удивившись столь раннему визиту, г-жа Демаре попросила г-на Жюстена подождать, передав, что через четверть часа она будет готова его принять.
Однако Жюстен отвечал, что причина его визита слишком серьезна, а промедление невозможно, и стал умолять хозяйку пансиона безотлагательно принять его.
Придя в смущение от такой настойчивости, она накинула халат и отворила дверь, чтобы спуститься в гостиную; Жюстен стоял перед дверью.
Он взял г-жу Демаре за руку, заставил ее вернуться в комнату и притворил за собой дверь.
Хозяйка пансиона подняла на Жюстена удивленный взгляд и вскрикнула. Его лицо поразило ее смертельной бледностью и выражением мрачной решимости, хотя обычно молодой человек смотрел ласково и приветливо.
— Боже мой! Что случилось? — спросила она.
— Огромное несчастье, сударыня! — отвечал Жюстен.
— С вами или с Миной?
— С нами, сударыня.
— Ах, Господи!.. Вы хотите, чтобы я вызвала Мину сюда или поговорите с ней в приемной?
— Мины здесь нет, сударыня.
— Как нет? Где же она?
— Не знаю.
Госпожа Демаре смотрела на Жюстена Корби как на безумного.
— Ее здесь нет?! Вы не знаете, где она! Что все это значит?
— Это значит, сударыня, что сегодня ночью ее похитили!
— Вчера вечером я сама проводила Мину в ее комнату и оставила ее с мадемуазель Сюзанной де Вальженез.
— А сегодня утром, сударыня, ее уже нет.
— Ах, Боже мой! — подняв глаза к небу, вскричала г-жа Демаре. — Вы уверены в том, что говорите, сударь?
Жюстен вынул из кармана письмо, написанное карандашом, то самое, что ему принес Баболен.
— Сначала прочтите, — предложил Жюстен.
Госпожа Демаре пробежала глазами письмо.
Она узнала почерк Мины, вскрикнула и, почувствовав, что вот-вот упадет, протянула руку в поисках опоры.
Жюстен бросился ей на помощь, подхватил ее и усадил в кресло.
— О, если это правда, — сказала она, — я на коленях должна просить у вас прощения за страдание, которое вы испытываете!
— Да, правда, — произнес Жюстен. — Однако мы не сдадимся, сударыня, пока этому страданию можно будет помочь. Но даже когда не останется надежды на людей, я буду уповать на Бога!
— Что же нужно делать, сударь? — спросила хозяйка пансиона.
— Ждать. А пока проследить за тем, чтобы никто не входил в комнату Мины и не выходил в сад.
— А кто должен приехать, сударь?
— Через час здесь будет представитель властей.
— Что?! — вскричала г-жа Демаре: ее волнение сменилось испугом. — Полиция? Здесь?!
— Разумеется, — подтвердил Жюстен.
— Если это произойдет, мой пансион пропал! — упавшим голосом проговорила г-жа Демаре.
Это замечание больно ранило Жюстена.
— А что я, по-вашему, должен делать, сударыня? — холодно проговорил он.
— Сударь! Если есть средство избежать скандала, умоляю вас помочь!
— Не знаю, что вы называете скандалом, — насупив брови, заметил Жюстен.
— Не знаете, что называется скандалом? — всплеснув руками, переспросила хозяйка пансиона.
— По-моему, сударыня, скандал — это когда женщина, которой моя мать доверила свою дочь, а я — свою невесту, смеет приказывать мне молчать, когда я прошу вернуть доверенную ей девушку!
Замечание было до такой степени справедливо, что г-жа Демаре растерялась.
— Ах, сударь! — заговорил она прерывающимся от слез голосом. — Все матери заберут у меня своих дочерей!
Жюстен возмутился эгоизмом этой женщины: перед лицом постигшего его горя она, не смущаясь, говорила лишь об ущербе, который ее заведению могло нанести похищение Мины.
— А я, сударыня, — заявил он, — если бы был вашим судьей, приказал бы повесить на фронтоне вашего пансиона какую-нибудь позорную вывеску, чтобы она отпугивала всех матерей!
— Ах, сударь, вашему горю ведь не поможет то, что вы принесете мне убытки.
— Мне нет; однако, сударыня, это поможет другим уберечься от такого несчастья, что постигло меня.
— Во имя любви, которую я питала к Мине, не губите меня, сударь!
— Во имя доверия, которое я вам оказывал, ничего у меня не просите, сударыня!
На лице Жюстена была написана отчаянная решимость. Госпожа Демаре поняла, что ей нечего ждать от него.
Похоже, она на что-то решилась и смиренно проговорила:
— Все будет исполнено, как вы пожелаете, сударь: я молча снесу свое горе.
Жюстен кивнул, как бы говоря: "По моему мнению, это лучшее, что вы можете сделать".
Наступило тягостное молчание.
— Сударь! — заговорила наконец хозяйка пансиона. — Позвольте и мне задать вам несколько вопросов.
— Прошу вас, сударыня.
— Почему исчезла Мина, как вы полагаете?
— Этого я еще не знаю, но надеюсь, что полиции удастся это установить.
— Вы уверены, что она не уехала по доброй воле?
У Жюстена стало горько на душе, когда он услышал, как оскорбляют подозрением его непорочную Мину.
— Она полгода находилась у вас перед глазами, — заметил Жюстен. — Как же вы после этого можете задавать мне подобный вопрос?
— Я хотела лишь спросить, уверены ли вы в ее любви.
— Вы прочли ее письмо: кого она зовет на помощь?
— Так ее, значит, увезли силой?
— Вне всякого сомнения.
— Но это невозможно, сударь: стены высоки, окна надежно заперты, и к тому же Мина могла бы закричать!
— Сударыня, существуют лестницы для самых высоких стен, отмычки — для самых крепких запоров, а кляп — на любой рот.
— Вы были в комнате Мины?
— Нет, сударыня.
— Да это нужно было сделать прежде всего! Идемте сейчас, если не возражаете.
— Напротив, сударыня, умоляю вас не входить в ее комнату!
— Но это единственный способ убедиться в том, что ее там нет.
— А письмо?
— А что, если вам подбросили это письмо, не знаю, правда, с каким тайным умыслом, а Мина вовсе не похищена и находится у себя?..
У Жюстена помутилось в глазах.
Не в силах объяснить себе случившееся, он с радостью ухватился за эту мысль, как ни была она нелепа. Вот почему, вопреки указаниям Сальватора, он решился сойти вниз вместе с г-жой Демаре и направился к комнате Мины.
Пока Жюстен, схватившись за грудь, пытался унять сердцебиение, г-жа Демаре постучала в дверь сначала тихонько, потом громче; все было напрасно — никто не отвечал.
Она подергала за ручку — опять ничего: комната была заперта изнутри.
Госпожа Демаре предложила послать за слесарем. Но гробовая тишина в комнате Мины снова ввергла Жюстена в угрюмое отчаяние; он вспомнил о наставлениях Сальватора и наотрез отказался вызывать слесаря.
— Давайте хотя бы заглянем в окно из сада, — предложила хозяйка пансиона.
— Прошу прощения, сударыня, но выходить в сад временно запрещено.
— Даже мне?
— И вам тоже, сударыня.
— Но в конце концов, сударь, здесь я хозяйка!
— Ошибаетесь, сударыня: куда входит правосудие, там царит его величество Закон. Именем закона запрещаю вам выходить в сад!
Он на всякий случай запер калитку на два оборота, вынул ключ и положил его в карман.
Госпожа Демаре испытывала большое искушение позвать на помощь, крикнуть, даже послать в случае необходимости за полицейским комиссаром, чтобы выставить Жюстена вон. Но она поняла, что молодой человек, всегда тихий и почтительный, не стал бы так себя вести, если бы за ним кто-то не стоял.
А Жюстен с невозмутимым видом прислонился к садовой калитке.
— И долго вы собираетесь караулить эту калитку, сударь? — спросила хозяйка пансиона.
— Пока не придут те, кого я жду.
— Когда же они явятся?
— В любом случае позже, чем я желал бы, сударыня.
— Откуда они прибудут?
— Из Парижа.
— Значит, вы позволите ненадолго вас оставить?
— Пожалуйста, сударыня.
Жюстен поклонился, словно разрешая г-же Демаре уйти.
Она поднялась к себе, торопливо переоделась, потом отворила окно и сквозь решетчатый ставень стала напряженно смотреть на парижскую дорогу.
Спустя примерно полчаса показалась карета. Она стремительно приближалась и вскоре остановилась у ворот.
Из кареты вышли двое: это были г-н Жакаль и Сальватор.
Господин Жакаль собирался позвонить, как вдруг дверь пансиона распахнулась сама или, точнее, ее распахнул Жюстен: заслышав шум подъезжающего экипажа и поняв, кто приехал, он, теряя терпение, бросился им навстречу.
Заметив, как молодой человек взволнован и бледен, Сальватор взял Жюстена за руку, сердечно пожал ее и проговорил:
— Ну-ну, мужайтесь, дорогой господин Корби! Поверьте мне, в жизни еще не такое случается!
И Сальватор подумал о горе Кармелиты, когда она придет в себя и узнает, что Коломбан мертв.
LXXIII ОСМОТР ДОМА
Сальватор представил Жюстена как жениха Мины. Господин Жакаль почтительно поклонился и спросил, не входил ли кто-нибудь в комнату девушки, не выходил ли в сад.
— Никто, сударь, — отвечал Жюстен.
— Вы уверены?
— Вот ключ от садовой калитки.
— А от комнаты мадемуазель Мины?
— Дверь заперта изнутри.
— А! — воскликнул г-н Жакаль.
Поднеся к носу большую понюшку табаку, он прибавил:
— Посмотрим, посмотрим.
Жюстен пошел вперед. Они вошли в приемную, соединявшую двор с садом; из приемной в комнату Мины вел коридор.
Оглядевшись, г-н Жакаль спросил:
— А где хозяйка заведения?
В эту минуту появилась г-жа Демаре.
— Вот и я, господа, — сказала она.
— Это те, кого я ждал из Парижа, сударыня, — пояснил Жюстен.
— Вы что-нибудь знали об исчезновении мадемуазель Мины до того, как сюда явился этот господин? — спросил полицейский, указывая на Жюстена.
— Нет, сударь. Я и сейчас не совсем уверена в ее исчезновении, — с волнением и заметной дрожью в голосе отвечала г-жа Демаре. — Мы ведь не входили в комнату Мины.
— Войдем в свое время, будьте покойны, — пообещал г-н Жакаль.
Спустив очки на кончик носа, он по привычке уставился на г-жу Демаре поверх стекол, которые, как мы уже говорили, служили ему не столько для остроты зрения, сколько для того чтобы скрывать глаза. Затем он снова поправил очки и покачал головой.
Стоявшие рядом Сальватор и Жюстен с нетерпением ожидали продолжения допроса.
— Не угодно ли господам перейти в гостиную? — предложила г-жа Демаре. — Там будет удобнее, чем в приемной.
— Спасибо, — поблагодарил г-н Жакаль, снова оглядевшись и убедившись в том, что он, как опытный генерал, выбрал для своих войск отличную диспозицию. — А теперь, сударыня, — продолжал он, — я бы хотел, чтобы вы осознали свою ответственность как хозяйки пансиона, откуда пропала одна из воспитанниц, и хорошенько поразмыслили, прежде чем будете отвечать на мои вопросы.
— Ах, сударь, я как нельзя более огорчена случившимся, — вытирая слезы, проговорила г-жа Демаре. — Что же до вашего совета хорошенько подумать, перед тем как вам
. отвечать, то это ни к чему, ведь я буду говорить только правду.
Господин Жакаль едва заметно кивнул и продолжал:
— В котором часу воспитанницы ложатся спать?
— Зимой — в восемь, сударь.
— А помощницы воспитательниц?
— В девять.
— Есть ли среди них такие, что ложатся позднее других?
— Только одна.
— В котором же часу она укладывается?
— От половины двенадцатого до полуночи.
— Где она ночует?
— Во втором этаже.
— Над комнатой мадемуазель Мины?
— Нет, она живет в комнате, которая выходит окнами на дортуар и на улицу, а окно бедняжки Миночки выходит в сад.
— А где находится ваша спальня, сударыня?
— На втором этаже рядом с гостиной; она выходит на улицу.
— И ни одно из ваших окон не выходит в сад?
— Только туалетная комната.
— В котором часу вы вчера заснули?
— Около одиннадцати.
— Так! — проговорил г-н Жакаль. — Давайте сначала осмотрим дом. Идемте со мной, господин Сальватор. А вы, господин Жюстен, побудьте здесь с госпожой Демаре.
Все повиновались г-ну Жакалю, будто генералу на поле боя.
Сальватор последовал за полицейским. Жюстен остался с г-жой Демаре; она рухнула на стул и разрыдалась.
— Эта женщина к делу не причастна, — сказал г-н Жакаль, спускаясь с крыльца, и пошел через двор к воротам.
— Почему вы так думаете? — спросил Сальватор.
— Доказательством тому ее слезы, — пояснил г-н Жакаль. — Виновные дрожат, но не плачут.
Господин Жакаль осмотрел дом снаружи.
Пансион был расположен на углу улицы и переулка, пустынного, но мощенного булыжником.
Господин Жакаль нырнул в переулок, будто ищейка в погоне за дичью.
Слева шагов на пятьдесят тянулась каменная стена, ограждавшая сад пансиона; над ней виднелись ветви деревьев.
Господин Жакаль шел вдоль стены, пристально вглядываясь в ее основание.
Сальватор не отставал.
Полицейский огляделся и покачал головой.
— Сомнительный переулок, особенно ночью! Такие переулки словно нарочно созданы для похищений и краж!
Пройдя двадцать пять шагов, г-н Жакаль наклонился и подобрал кусок штукатурки, отвалившийся сверху, потом еще один, потом еще.
Он осмотрел их и тщательно завернул в платок.
Затем он поднял с земли обломок черепицы и перебросил его через стену.
— Перелезали здесь? — спросил Сальватор.
— Скоро узнаем, — сказал г-н Жакаль. — Идемте назад!
Сальватор и г-н Жакаль застали Жюстена и г-жу Демаре на том же месте, где они их оставили.
— Ну что, сударь? — спросил Жюстен.
— Кое-что есть, — отвечал г-н Жакаль.
— Ради Бога, сударь! Вы что-нибудь нашли? Видели какие-то следы?
— Вы, сударь, музыкант и, стало быть, знаете пословицу: "Когда играет скрипка, остальные подпевают". Я скрипка. Следуйте за мной и не вылезайте вперед!.. Господин Жюстен, пожалуйте ключ от сада.
Молодой человек передал ключ г-ну Жакалю и, выйдя в коридор, сказал:
— Вот дверь в комнату Мины.
— Хорошо, хорошо, всему свое время: комнатой займемся позже.
Господин Жакаль отпер садовую калитку, постоял, обводя взглядом весь сад и готовясь к более тщательному обследованию.
— Здесь надо быть особенно осмотрительными и идти гуськом, — предупредил он. — Следуйте за мной, если пожелаете, но в таком порядке: впереди — я, за мной — господин Сальватор, потом — господин Жюстен, а госпожа Демаре — последней... Вот так! Не отставайте ни на шаг!
Было очевидно, что г-н Жакаль направляется к тому месту в стене, которое он уже осмотрел снаружи. Однако вместо того, чтобы пройти кратчайшим путем, он двинулся по аллее, проходившей вдоль стены, и проделал тот же путь, что со стороны улицы.
Прежде чем отправиться, он взглянул поверх очков на окно Мины: ставни были закрыты.
— Хм! — обронил он и пошел вперед.
Посыпанная желтым песком дорожка не представляла собой ничего необычного. Но, отсчитав двадцать пять шагов,, г-н Жакаль остановился, улыбнулся, поднял осколок черепицы, который недавно перебросил через стену, чтобы заметить место, и показал Сальватору свежий след на клумбе.
— Вот так! — сказал он.
Присутствовавшие посмотрели туда, куда указывал г-н Жакаль.
— Вы полагаете, несчастную девочку похитили отсюда? — спросил Сальватор.
— Несомненно, — отозвался полицейский.
— Боже мой! Боже! — прошептала г-жа Демаре. — Похищение в моем пансионе!
— Сударь! Небом заклинаю, хоть какое-нибудь доказательство... — взмолился Жюстен.
— Взгляните сами, дорогой друг, — проговорил г-н Жакаль, — и у вас будут доказательства.
Пока Жюстен разглядывал отпечатки ног, г-н Жакаль, взявший наконец верный след, вынул из кармана табакерку и поднес к носу щепотку табаку, рассматривая дорожку из-под очков, а г-жу Демаре — поверх стекол.
— Скажите же, сударь, что вы видите? — теряя терпение, вскричал Жюстен.
— Вот эти два углубления в земле, соединенные прямой линией.
— Это след от лестницы, узнаете? — пояснил Жюстену Сальватор.
— Браво! Вы совершенно правы.
— А это поперечная линия? — не унимался Жюстен.
— Ну-ну, продолжайте, — поддержал г-н Жакаль Сальватора.
— Это отпечаток нижней перекладины: она вошла на целый дюйм, потому что земля была сырая, — объяснил Сальватор.
— Теперь, — продолжал г-н Жакаль, — надобно узнать, сколько человек должны встать на лестницу, чтобы жерди вошли в землю на полфута, а нижняя перекладина — на дюйм.
— Давайте рассмотрим следы! — предложил Сальватор.
— О, по следам трудно что-либо определить! Кстати, два человека могут идти след в след: мы знаем преступников, которые именно так и делают, чтобы запутать следствие.
— Как же вы узнаете?
— Нет ничего проще!
Он повернулся к хозяйке пансиона, которая понимала не больше, чем если бы они говорили по-арабски или на санскрите.
— Сударыня! — обратился к ней г-н Жакаль. — В доме есть приставная лестница?
— Да, у садовника.
— Где она?
— Под сараем, вероятно.
— А где находится сарай?
— Вот там... видите: небольшой домик, крытый соломой.
— Не двигайтесь! Я схожу сам.
Господин Жакаль с легкостью сделал скачок чуть не в полтора метра, перепрыгнув то место, где было особенно много следов, на которые он, придерживаясь своей методы, не хотел до времени обращать внимание.
Через минуту г-н Жакаль вернулся с лестницей и, сказав: "Сначала кое-что проверим", установил ее так, чтобы жерди вошли в обнаруженные на клумбе ямки.
— Отлично! — удовлетворенно произнес он. — Вот и вещественное доказательство; несомненно, пользовались этой лестницей: все точнейшим образом совпало.
— А разве не все лестницы почти одних размеров? — спросил Сальватор.
— Эта лестница шире обычной. У садовника есть помощник, ученик или сын, не так ли, госпожа Демаре?
— Да, мальчик двенадцати лет, сударь.
— Вот! Садовнику помогает мальчик, которому он, вероятно, передает секреты своего дела. И он купил лестницу пошире, чтобы ребенок мог подниматься вместе с ним.
— Сударь! — воскликнул Жюстен. — Давайте вернемся к Мине!
— Вернемся, сударь, вернемся, но не напрямик, а в обход.
— Этот маневр отнимает у нас слишком много времени, — заметил Жюстен.
— Дорогой мой господин Жюстен! В делах такого рода время не имеет значения, — возразил полицейский. — Одно из двух: либо тот, кто похитил вашу невесту, увозит ее за пределы Франции, а тогда он уже слишком далеко и мы его не догоним; либо он рассчитывает спрятать ее в окрестностях Парижа, и в таком случае мы за три дня его найдем.
— Да услышит вас Господь, господин Жакаль!.. Однако вы сказали, что можете определить, сколько человек участвовало в похищении.
— Я это как раз и выясняю, сударь.
Господин Жакаль приставил лестницу к стене примерно в метре от первых следов. Потом он поднялся на пять-шесть перекладин вверх, останавливаясь на каждой из них и проверяя, насколько стойки лестницы уходят в землю.
Стойки опустились не более чем на три дюйма.
С высоты лестницы г-ну Жакалю был виден весь сад; у входа в дом он заметил человека в куртке.
— Эй, дружище! Кто вы такой?
— Я садовник госпожи Демаре, сударь, — отвечал тот.
— Сударыня! — обратился г-н Жакаль к хозяйке пансиона. — Взгляните, тот ли это человек, за кого он себя выдает, и приведите его сюда тем же путем, каким пришли мы.
Госпожа Демаре повиновалась.
— Говорю вам, господин Жюстен, а вам повторяю, господин Сальватор: эта женщина не причастна к похищению девушки.
Госпожа Демаре вернулась в сопровождении садовника; тот был очень удивлен, что незнакомец, неведомо как очутившийся в его саду, вскарабкался на его лестницу.
— Друг мой, вы работали вчера в саду? — спросил у него г-н Жакаль.
— Нет, сударь. Вчера был последний день масленицы, а в таком хорошем доме, как пансион госпожи Демаре, по праздникам не работают.
— Ладно! А третьего дня?
— Это был предпоследний день масленицы, тоже праздник: я не работал.
— А перед этим?
— Перед этим было воскресенье, выпавшее на масленицу: это еще больший праздник.
— Таким образом, вы три дня не работали, верно?
— Сударь! — с серьезным видом отвечал садовник. — Я не хочу, чтоб меня признали виновным на Страшном суде!
— Ну что же, это все, что я хотел узнать. Итак, ваша лестница три дня лежит в сарае без дела?
— Нет, потому что вы на ней стоите, — заметил садовник.
— Малый неглуп, — проговорил г-н Жакаль, — но я готов поручиться, что он не занимается похищением девиц.
Садовник, оторопев, смотрел на полицейского широко раскрытыми глазами.
— А теперь, друг мой, — обратился к нему г-н Жакаль, — доставьте мне, пожалуйста, удовольствие: поднимитесь ко мне!
Садовник взглянул на г-жу Демаре, словно спрашивая, должен ли он подчиняться приказаниям постороннего.
— Делайте то, что вам приказывает этот господин, — сказала г-жа Демаре.
Садовник поднялся на несколько перекладин.
— Ну как? — спросил г-н Жакаль у Сальватора.
— Ушла в землю, но не до перекладины, — отвечал тот.
— Спускайтесь, дружище, — разрешил г-н Жакаль садовнику.
Тот подчинился.
— Готово! — доложил он.
— Заметьте, как мало этот человек говорит, — восхитился г-н Жакаль, — но как все, что он говорит, верно!
Садовник рассмеялся: похвала ему пришлась по душе.
— А теперь, друг мой, — продолжал г-н Жакаль, — возьмите госпожу Демаре на руки.
— О!.. — только и произнес садовник.
— Что вы такое говорите, сударь?! — изумилась хозяйка пансиона.
— Возьмите госпожу Демаре на руки, — повторил г-н Жакаль.
— Никогда не посмею! — произнес садовник.
— А я... запрещаю вам это, Пьер! — вскричала хозяйка.
Господин Жакаль спрыгнул вниз.
— Поднимитесь туда же, где стоял я! — приказал он садовнику.
Садовник проворно вскарабкался вверх и встал на то же место, где только что стоял г-н Жакаль.
Полицейский подошел к г-же Демаре, одной рукой обнял ее за плечи, другой подхватил под ноги и, прежде чем она успела догадаться о его намерениях, оторвал ее от земли.
— Сударь! Сударь! Что вы делаете? — запричитала г-жа Демаре.
— Представьте, сударыня, что я в вас влюблен и похищаю свою возлюбленную.
— Надо же такое предположить! — хмыкнул садовник, взгромоздившийся на лестницу.
— Сударь!.. Сударь!.. — растерянно повторяла г-жа Демаре.
— Успокойтесь, сударыня: это всего-навсего предположение, как справедливо заметил наш друг Пьер, — сказал г-н Жакаль.
Он поднялся на несколько перекладин с г-жой Демаре на руках.
— Ушли в землю! — доложил Сальватор, следя за стойками лестницы.
— До перекладины? — уточнил г-н Жакаль.
— Не совсем.
— Поставьте ногу на вторую перекладину, — сказал г-н Жакаль.
Сальватор исполнил, что было приказано.
— Вот теперь перекладина в таком же положении, как в тот раз, — сказал он.
— Хорошо, — отозвался полицейский. — Спускаемся.
Он спустился первым, поставил г-жу Демаре на землю, приказал Пьеру стоять в аллее и не двигаться, а сам вытащил лестницу из земли, где она оставила точно такой же след, какой был по соседству.
— Дорогой господин Жюстен! — сказал он. — Госпожа Демаре будет, я полагаю, немного потяжелее, чем мадемуазель Мина; я же несколько легче человека, укравшего вашу невесту. Таким образом, все уравновешивается.
— И вы хотите сказать...
— ... что мадемуазель Мину похитили три человека — двое из них несли ее по лестнице, а третий поддерживал эту лестницу, поставив ногу на нижнюю перекладину.
— О! — воскликнул Жюстен.
— Теперь, сударь мой, попытаемся узнать, кто эти трое.
— А, понимаю, — пробормотал садовник, — похитили одну из наших воспитанниц!
Господин Жакаль стал разглядывать Пьера поверх очков, а когда вдоволь насмотрелся, обратился к г-же Демаре с такими словами:
— Берегите этого малого — он кладезь премудрости!
Потом, взглянув на садовника, прибавил:
— Можете отнести лестницу в сарай, друг мой! Она нам больше не понадобится.
LXXIV СЛЕДЫ
Садовник направился к сараю, а г-н Жакаль снова поднял очки на лоб, набил нос табаком и стал изучать следы.
Он вынул из кармана изящный ножичек, нечто среднее между перочинным и садовым, вытащил одно из многочисленных лезвий, срезал небольшую ветку и стал измерять ею шаги.
— Вот следы, которые ведут от стены к окну, а эти — от окна к стене, туда и обратно, — сказал он. — Похоже, похитители были хорошо осведомлены о распорядке в пансионе и не считали нужным соблюдать меры предосторожности. Однако...
Господин Жакаль, казалось, был чем-то озадачен.
— Странно... — проговорил он. — Все следы одного размера. Может быть, когда похитители проникли в сад, один из них проделал все сам, а двое других его ждали?
— Размер ноги один, но следы принадлежат разным людям, — возразил Сальватор.
— А! А откуда это видно?
— Гвозди на подошве набиты по-разному.
— Верно, клянусь честью! — вскричал г-н Жакаль. — На одном из двух левых ботинков гвозди расположены в виде треугольника. Итак, один из похитителей — масон.
На щеках Сальватора выступил легкий румянец.
Господин Жакаль не заметил или не хотел этого замечать.
— Кроме того, — продолжал Сальватор, — один из двоих хромает на правую ногу; вы сами можете убедиться: один ботинок больше стоптан, чем другой.
— И это верно, — одобрил этот довод г-н Жакаль. — Вы что, были сыщиком?
— Нет, — возразил Сальватор. — Правильнее было бы сказать, что раньше я был охотником.
— Смотрите! — сказал г-н Жакаль.
— Что такое? — спросил Сальватор.
— Вот следы третьего... Следы совсем особенные, не имеющие ничего общего с плоскими подошвами, отпечатки которых мы только что разглядывали. Это следы светского человека, аристократа, богатого сеньора или аббата.
— Богатого сеньора, господин Жакаль!
— Почему вы думаете, что это именно сеньор? Я бы предпочел, чтобы в этом деле был замешан аббат! — признался вольтерьянец Жакаль.
— Как мне ни прискорбно вас огорчить, но от этой мысли вам придется отказаться.
— Почему же?
— Потому что прошли времена аббата де Гонди, когда священники скакали верхом. А господин, оставивший эти следы, — всадник: видите отпечатки шпор на земле?
— Вы правы! — вскричал г-н Жакаль. — Ей-Богу, дорогой мой господин Сальватор, вы не уступаете профессиональному сыщику!
— Я действительно провожу много времени в наблюдениях, — признался Сальватор.
— Теперь помогите мне проследить за этими следами до самого окна.
— О, это отнюдь не сложно.
Отпечатки ботинок и сапог привели Сальватора и г-на Жакаля прямо к окну.
Жюстен шел за ними, перехватывая их взгляды, и с жадностью ловил каждое слово.
Несчастный молодой человек был похож на скупца, лишившегося своего сокровища, с которого он десять лет не сводил глаз, и вот, почти потеряв надежду его отыскать, он видит, что более смышленые друзья напали на след похитителей.
Госпожа Демаре была совершенно сражена; ее неподвижный взгляд ничего не выражал, она безвольно уронила руки.
Под окном следы были более четкие, чем на дорожке и клумбе.
— Кто-то из вас мне сказал, что то ли вы, госпожа Демаре, то ли вы, господин Жюстен, пытались отворить дверь мадемуазель Мины, верно? — спросил полицейский.
Оба в один голос ответили:
— Мы, сударь.
— И дверь оказалась заперта на задвижку?
— Мина имела обыкновение запираться по вечерам, — пояснила г-жа Демаре.
— Значит, к ней проникли через окно? — сказал г-н Жакаль.
— Хм! — недоверчиво откликнулся Сальватор. — Мне кажется, ставень заперт.
— Ну, ставень нетрудно снова прикрыть, — сказал г-н Жакаль.
Он попытался его отворить.
— Так! — промолвил он. — Его не только прикрыли, но и заперли изнутри на крючок.
— Пожалуй, с улицы это было не так просто сделать, а? — спросил Сальватор.
— Вы уверены, что дверь заперта на задвижку? — спросил Жюстена полицейский.
— О, сударь, я дергал ее изо всех сил.
— Может, ее заперли только на ключ?
— Дверь плотно прилегала к косяку не только посредине, но и выше.
— Та-та-та-та-та! — озадаченно пропел г-н Жакаль. — Если ставень заперт на крючок, а дверь — на задвижку, стало быть, здесь побывали очень ловкие мошенники.
Он снова подергал ставень.
— Я знаю только двух людей, способных выйти сквозь закрытые двери и окна, но один из них — в брестской тюрьме, а другой — на тулонской каторге. Иначе я сказал бы: "Это работа Робишона или Жибасье".
— А разве можно выйти через закрытую дверь? — спросил Сальватор.
— Ах, сударь мой, выйти можно даже из такого места, где двери нет вовсе, как доказал одному из моих предшественников покойный господин Латюд. К счастью, это доступно не всем.
Понюхав табаку, он предложил:
— Давайте вернемся в дом, сударыня.
И сам пошел вперед, не задумываясь о том, что вежливость требовала пропустить сначала остальных. Дойдя до комнаты Мины, он остановился и обратился к хозяйке пансиона:
— Должно быть, у вас есть запасные ключи от всех комнат, сударыня?
— Да. Но это бесполезно, если дверь заперта на задвижку.
— Неважно, дорогая госпожа Демаре, вы все-таки принесите ключ!
Хозяйка исчезла и спустя несколько минут вернулась с ключом.
— Пожалуйста! — сказала она, протягивая ключ сыщику.
Господин Жакаль вставил его в замочную скважину и попробовал повернуть.
— Изнутри вставлен другой ключ, — сообщил он, — но замок не заперт на два оборота.
Потом, словно разговаривая сам с собой, прибавил:
— Вот и доказательство, что дверь была заперта снаружи.
— Однако если дверь закрыта и на задвижку, — заметил Сальватор, — как, в таком случае, похитители, будучи снаружи, ее задвинули?
— Сейчас вы это увидите, молодой человек. — Это изобретение Жибасье, — изобретение, которому его автор обязан пятью годами галер вместо десяти: его уличили в повторной краже, но взлома не было. Пошлите за слесарем.
Пришел слесарь с ломом, приподнял дверь.
Дверь поддалась.
Все хотели было войти в комнату.
Господин Жакаль раскинул руки в стороны и никого не пустил.
— Тише! Тише! — сказал он. — Все зависит от первого осмотра. Наше расследование висит на ниточке, — прибавил он с улыбкой, как будто в его последних словах было что-то смешное.
Он вошел в комнату один, осмотрел замок и задвижку.
Кажется, первоначальный осмотр его не удовлетворил.
Он совсем снял очки: очевидно, они только мешали его проницательному взору — остротой зрения г-н Жакаль мог соперничать с рысью. На его губах сейчас же заиграла торжествующая улыбка; большим и указательным пальцами он схватил одному ему заметный предмет, потянул на себя и с победоносным видом поднял вверх.
— А! — радостно воскликнул он. — Я же вам говорил, что наше расследование держится на ниточке. Итак, вот эта ниточка!
Присутствующие увидели обрывок шелковой нитки длиной около пятнадцати сантиметров; она была натянута между засовом и дверной коробкой.
— Дверь была заперта этой ниткой? — спросил Сальватор.
— Да, — отвечал г-н Жакаль, — только нитка была длиной сантиметров в пятьдесят; то, что мы видим, лишь обрывок, о нем забыли.
Слесарь в изумлении следил за г-ном Жакалем.
— Вот это да! — сказал он. — Я-то думал, что знаю все способы, как открыть и закрыть дверь, а, похоже, я в этом деле еще ребенок.
— Я счастлив, что вы узнали нечто новое, друг мой, — отозвался г-н Жакаль. — Сейчас вы увидите, как это делается. Нитку складывают пополам, а петлю накидывают на ручку задвижки. Лучше брать шелковую нить, она прочнее. Нитка должна быть достаточно длинной, чтобы оба ее конца выходили наружу, когда дверь закроется. Вы закрываете дверь, дергаете за нитку, нитка подтягивает засов, и дело сделано! Правда, бывает, что нитка рвется, цепляется, остается на засове... Тогда приходит господин Жакаль и говорит: "Если этот чертов Жибасье не был бы сейчас на каторге, я бы поспорил, что это его рук дело".
— Господин Жакаль! — обратился к полицейскому Жюстен, которого не трогали эти объяснения, сколь бы ни были они ценны с точки зрения успехов науки. — Нельзя ли нам войти?
— Пожалуйста, дорогой господин Жюстен, — пригласил полицейский.
Все вошли в комнату.
— A-а, следы ведут от двери к кровати, от кровати — к окну! — воскликнул г-н Жакаль.
Взглянув на кровать и стоявший рядом столик, он прибавил:
— Ну вот! Девушка легла; она читала письма.
— О! Мои письма! — вскричал Жюстен. — Дорогая Мина!
— Потом она задула свечу, — продолжал г-н Жакаль. — До этой минуты все было спокойно.
— Откуда вы знаете, что она сама задула свечу? — спросил Сальватор.
— Взгляните: фитиль еще немного согнут. Судя по тому, в какую сторону он согнулся, на него подули со стороны кровати. Однако вернемся к следам, прошу вас. Господин Сальватор! Посмотрите-ка на них глазом охотника!
Сальватор наклонился.
— О! — произнес он, — кое-что новенькое: следы женщины!
— Что я говорил, дорогой господин Сальватор? "Ищите женщину!" Разве я был не прав? Итак, вот следы женщины... Да, и могу поклясться, это женщина решительная: она не порхает, едва касаясь земли; видите, как хорошо отпечатались и каблучок и носок.
— Прибавьте к тому, — сказал Сальватор, — что она кокетлива: она прошла аллеей сада, чтобы не испачкать туфельки; видите, рядом с отпечатками ее башмачков желтый песок, а грязи нет.
— Господин Сальватор, господин Сальватор! — воскликнул полицейский. — Как жаль, что вы избрали именно тот род деятельности, которым занимаетесь! Я готов взять вас в помощники, когда вы только пожелаете!.. Не двигайтесь!
Господин Жакаль поспешил в сад, проследовал к сараю, осмотрел лестницу и вернулся.
— Так и есть! — сообщил он. — Женщина вышла из комнат в сад, прошлась по аллее, постояла возле лестницы и возвратилась тем же путем. Теперь я вам расскажу, как все произошло: я будто все видел своими глазами.
Присутствовавшие замерли.
— Мадемуазель Мина вернулась к себе как обычно, она была печальна, но спокойна. Она легла, — постель немного смята, видите? — прочла письма... читая их, она плакала — взгляните на ее платок: она его комкала, как это делает тот, кто плачет...
— Дайте, дайте его мне! — вскричал Жюстен.
Не дожидаясь, пока г-н Жакаль подаст ему платок, Жюстен схватил его и прижал к губам.
— Итак, она легла, почитала, поплакала, — продолжал г-н Жакаль, — но, так как нельзя бесконечно ни читать, ни плакать, она захотела спать и задула свечу. Спала ли она? Нет ли? Это не имеет никакого значения. Когда свеча погасла, произошло следующее: в дверь постучали...
— Кто, сударь? — спросила г-жа Демаре.
— Вы хотите знать больше, чем знаю я сам, дорогая госпожа Демаре. Кто? Возможно, скоро я отвечу на ваш вопрос. Во всяком случае, это была женщина...
— Женщина? — прошептала хозяйка пансиона.
— Женщина, девушка, старуха... Под словом " женщина" я подразумеваю особь женского пола. Итак, в дверь постучала женщина. Мина встала и отперла дверь.
— Как же Мина могла отпереть, не зная, кто стучит? — спросила г-жа Демаре.
— А кто вам сказал, что она не знала?
— Она не открыла бы незнакомке.
— А подруге?.. Ах, госпожа Демаре! Не мне вам объяснять, что подруги по пансиону нередко оказываются злейшими врагами. Итак, Мина открыла подруге. За спиной у подруги стоял молодой человек в изящных сапогах со шпорами, а позади него — другой человек в ботинках, подбитых гвоздями в виде треугольника. Как малышка Мина ложилась спать?
— Я не совсем понимаю, — растерялась г-жа Демаре, к которой был обращен этот вопрос.
— Я спрашиваю, во что она бывала одета, когда ложилась в постель?
— Зимой — в рубашку и длинный пеньюар.
— Так-так... Ей зажали рот платком, накинули на плечи шаль или одеяло. Видите: возле кровати — ее чулки и туфли, на стуле — платье и юбки. А вынесли ее через окно, в чем она была.
— Через окно? — переспросил Жюстен. — А почему не через дверь?
— Потому что надо было пройти коридором. Кто-нибудь мог услышать шум. И кроме того, так было легче: двое мужчин передали малышку из окна третьему, ожидавшему в саду. И хотя ставень был плотно прикрыт, окно заперто, — продолжал г-н Жакаль, — вот доказательство того, что Мина вышла здесь, и видно даже, что не по своей воле.
Господин Жакаль показал на прореху в муслиновой занавеске: похоже, Мина цеплялась за нее рукой и вырвала клочок.
— Таким образом, девушку вынесли через окно и перетащили через стену. После этого женщина, оставшаяся в доме, отнесла лестницу под сарай, потом вернулась, заперла изнутри ставень и окно, зацепила шелковой ниткой запор, потянула на себя дверь, потом нитку, и преспокойно отправилась наверх спать.
— Но она не могла возвратиться в дортуар или выйти оттуда незамеченной!
— А разве у вас нет других воспитанниц, живущих в отдельных комнатах, как мадемуазель Мина?
— Только одна.
— Значит, это ее рук дело! Дорогой господин Сальватор, женщина найдена!
— Как?! Неужели вы предполагаете, что виновница похищения Мины — ее лучшая подруга?
— Я не сказал "виновница", я говорю "соучастница". И не предполагаю, а утверждаю это.
— Сюзанна?! — вскрикнула г-жа Демаре.
— Сударыня, поверьте мне, это похоже на правду, — вмешался Жюстен.
— Как могла такая мысль прийти вам в голову, сударь?
— Мне с первого взгляда не понравилась эта девушка. Знаете, я словно предчувствовал, что она принесет мне большое горе! Как только господин Жакаль заговорил о женщине, я сразу подумал о мадемуазель Сюзанне. Я не смел ее обвинять, но не переставал подозревать. Умоляю вас, сударь, прикажите ее привести и допросите!
— Нет, — возразил г-н Жакаль. — Давайте-ка лучше отправимся к ней сами. Сударыня, соблаговолите проводить нас в комнату этой девицы.
Госпожа Демаре, утратившая в присутствии г-на Жакаля всякую способность к сопротивлению, не позволила себе ни единого замечания: она пошла вперед, указывая дорогу.
Комната мадемуазель Сюзанны находилась во втором этаже, в самом конце коридора.
— Постучите, сударыня! — вполголоса приказал г-н Жакаль.
Хозяйка постучала, но никто не ответил.
— В одиннадцать у нас рекреация. Может быть, она вышла, — предположила г-жа Демаре. — Позвать ее?
— Нет, — отозвался г-н Жакаль. — Давайте сначала заглянем в комнату.
— В двери нет ключа.
— Но вы мне говорили, что у вас есть запасные ключи от всех комнат, не так ли?
— Да, сударь.
— Ну так, сударыня, сходите за ключом от комнаты мадемуазель Сюзанны, и если вы встретите эту юную особу — ни слова о том, что мы от нее хотим.
Госпожа Демаре кивнула в знак того, что полицейский может рассчитывать на ее молчание, и спустилась вниз.
Через несколько минут она поднялась с ключом в руке и подала его г-ну Жакалю.
Дверь отворилась.
— Господа! Подождите меня в коридоре, — сказал г-н Жакаль. — Со мной войдет госпожа Демаре.
Полицейский и хозяйка пансиона вошли в комнату.
— Где мадемуазель Сюзанна оставляет туфли? — спросил г-н Жакаль.
— Вот здесь, — ответила хозяйка, указав на туалетную комнату.
Господин Жакаль вошел туда, снял с подставки пару высоких ластиковых башмачков сапфирного цвета и осмотрел подошвы.
На них остался желтый песок, которым была посыпана аллея.
— Скажите, воспитанницы гуляют в той части сада, где растут фруктовые деревья? — спросил г-н Жакаль.
— Нет, сударь, — отвечала хозяйка пансиона. — Им строго запрещено туда заходить, потому что с той стороны за забором проходит глухой переулок.
— Хорошо! — проговорил г-н Жакаль, ставя башмаки на место. — Я узнал то, что хотел. Как вы думаете, где сейчас мадемуазель Сюзанна?
— По всей вероятности, во дворе.
— Какая комната в вашем заведении выходит окнами во двор?
— Гостиная.
— Идемте туда, сударыня.
Он вышел из комнаты мадемуазель Сюзанны, предоставив г-же Демаре закрыть дверь.
— Ну что? — в один голос спросили Сальватор и Жюстен.
Поднеся к носу огромную понюшку, г-н Жакаль ответил:
— По-моему, женщина у нас в руках!
LXXV СЕМЕЙСТВО ВАЛЬЖЕНЕЗ
Они спустились в гостиную.
Комната выходила окнами во двор для рекреаций, как сказала г-жа Демаре, и стайка хорошеньких воспитанниц не упускала случая погреться в бледных лучах зимнего солнца.
В стороне от всех гуляла высокая девушка.
Сквозь застекленную дверь, выходившую на крыльцо, г-н Жакаль окинул взглядом всю картину: его внимание привлекла воспитанница, прогуливавшаяся в одиночестве.
— Скажите, это мадемуазель Сюзанна ходит вон там, в липовой аллее? — спросил он.
— Она самая, — кивнула г-жа Демаре.
— Будьте добры позвать ее сюда, сударыня.
— Не знаю, захочет ли она прийти.
— Почему же она не захочет?
— Сюзанна гордячка.
— Махните ей рукой, сударыня, — попросил г-н Жакаль. — А если она не придет, я сам ее приведу.
Госпожа Демаре спустилась с крыльца и помахала Сюзанне, приглашая ее подойти.
Сюзанна сделала вид, что не замечает ее.
— Если она слепая, то, может быть, слух ей не откажет, — заметил г-н Жакаль. — Окликните ее.
— Сюзанна! — крикнула г-жа Демаре.
Девушка обернулась.
— Будьте добры, подойдите, дитя мое, — попросила хозяйка пансиона. — Вас здесь спрашивают.
Мадемуазель Сюзанна, не торопясь, с весьма высокомерным видом пошла к дому.
Господин Жакаль и Сальватор успели хорошенько ее рассмотреть сквозь щель между занавесками.
А Жюстен и так ее знал.
— Как странно! — заметил Сальватор. — Не могу сказать, что мне совсем не знакомо это лицо.
— Что вы о нем скажете? — спросил г-н Жакаль, с не меньшим любопытством, чем Сальватор, разглядывавший девушку поверх очков.
— Готов отдать руку на отсечение, что эта девица — злейшее создание.
— Я руку на отсечение давать не буду, это неосторожно, — сказал г-н Жакаль. — Но с вашим мнением я согласен: ее рот плотно сжат; глаза красивые, но взгляд неподвижен и жесток. Обратите внимание, какое злобное выражение приняло ее лицо сейчас, когда она обеспокоена!
Тем временем Сюзанна взошла на крыльцо и приблизилась к г-же Демаре.
— Вы оказали мне честь вызвать меня, сударыня? — выговорила девушка с таким видом, что ее слова приобретали совсем другой смысл; она словно спрашивала: "Мне кажется, сударыня, вы себе позволили вызвать меня?"
— Да, дитя мое, вас ожидает лицо, которое желает с вами переговорить, — отвечала г-жа Демаре.
Сюзанна прошла мимо хозяйки и вошла в гостиную.
При виде Жюстена в сопровождении двух незнакомых людей она не смогла сдержаться и едва заметно вздрогнула, однако ее лицо оставалось невозмутимым.
— Дитя мое! — проговорила г-жа Демаре, заметно смутившись, когда увидела, что в черных глазах воспитанницы сверкнул гнев. — Этот господин задаст вам несколько вопросов.
И она указала на г-на Жакаля.
— Вопросы? Мне?! — высокомерно бросила девица. — Но я незнакома с этим господином.
— Этот господин — из полиции, — поторопилась вставить г-жа Демаре.
— Из полиции? А какое отношение может ко мне иметь полиция?
— Успокойтесь, дорогая Сюзанна, — сказала г-жа Демаре. — Речь идет о Мине.
— Ну и что?
Господин Жакаль счел, что самое время вмешаться.
— А то, мадемуазель, что мы желали бы получить некоторые сведения о мадемуазель Мине.
— О мадемуазель Мине? Я могу, сударь, дать вам лишь те сведения, которыми располагает этот господин...
Она указала на Жюстена.
— Иными словами, он нашел ее однажды ночью в поле, привел к себе, вознамерился жениться на ней, но из Руана были получены какие-то новости от неизвестного отца, и свадьба расстроилась.
Господин Жакаль смотрел и слушал с любопытством, граничившим с восхищением; ему одного взгляда оказалось довольно, чтобы понять: это существо способно на любую подлость.
— Нет, мадемуазель, — возразил он, — мы ждем от вас подробностей другого рода.
— Если вас интересует что-то еще, сударь, спросите мадемуазель Мину, потому что я сказала вам все, что мне известно.
— К сожалению, мы не можем последовать вашему совету, мадемуазель, как бы ни был он хорош.
— Почему же, сударь? — спросила Сюзанна.
— Потому что нынче ночью мадемуазель Мина была похищена.
— Неужели? Бедняжка Мина! — проговорила Сюзанна с насмешливым видом; у Жюстена вырвался гневный возглас, а Сальватор нахмурился.
Господина Жакаля ее ответы тоже выводили из себя, однако он знаком приказал молодым людям держать себя в руках.
— И я подумал, мадемуазель, — продолжал он, — что вы, ее задушевная подруга, могли бы дать некоторые разъяснения по поводу ее исчезновения.
— Ошибаетесь, сударь, — возразила девушка, — мне нечего сообщить об исчезновении моей "задушевной подруги", если учесть, что я понятия не имею ни о причине, ни о подробностях этого исчезновения, как до недавнего времени не знала и о нем самом.
— Подумайте, мадемуазель, — вмешался Сальватор, — в какое отчаяние это похищение повергло прежде всего жениха, а также его мать и сестру, привыкших относиться к мадемуазель Мине как к родной.
— Я понимаю чувства этого господина и от всей души сочувствую ему и всему его семейству. Однако что вам от меня нужно? Я рассталась вчера с мадемуазель Миной в половине девятого, она ушла к себе, и с тех пор я ее не видела. А теперь, господа, будьте добры сказать: это все, о чем вы хотели меня спросить?
— В столь высокомерном тоне не подобает разговаривать девице ваших лет, мадемуазель, — строго проговорил г-н Жакаль, распахивая редингот и показывая край своего шарфа, — особенно когда эта девица разговаривает с представителем закона.
— Отчего же сразу было не сказать, что вы полицейский комиссар? — с редкостным нахальством вымолвила Сюзанна. — Я бы отвечала вам со всей почтительностью, как и положено вести себя с полицейским комиссаром.
— Перейдем к делу, мадемуазель, — отрезал г-н Жакаль. — Ваше имя, звание, положение?
— Итак, это допрос? — спросила девушка.
— Да, мадемуазель.
— Мое имя? — переспросила она. — Меня зовут Сюзанна де Вальженез. Звание? Я дочь господина маркиза Дени Рене де Вальженеза, пэра Франции, а также племянница господина Луи Клемана де Вальженеза, кардинала при папском дворе, и сестра графа Лоредана де Вальженеза, лейтенанта гвардии. Мое положение? Я наследница полумиллионной ренты. Таковы, сударь, мое имя, звание и положение.
Этот ответ, данный с поистине королевским высокомерием, произвел на троих мужчин разное впечатление; г-жа Демаре была настолько подавлена происходящим в ее пансионе, что не обратила на это внимания.
Жюстен задрожал, понимая, что он, безвестный школьный учитель, влачащий жалкое существование в бедном квартале Сен-Жак, бессилен против знатного аристократического семейства, с которым его столкнула судьба.
— Сюзанна де Вальженез! — произнес Сальватор, делая шаг вперед; взгляд его, устремленный на девушку, выражал одновременно любопытство и угрозу.
— Мадемуазель Сюзанна де Вальженез! — повторил г-н Жакаль, отпрянув назад, будто при виде змеи.
Он стал не спеша застегивать редингот, о чем-то размышляя.
Потом он почтительно снял шляпу и со всей возможной вежливостью проговорил:
— Прошу меня извинить, мадемуазель, я не знал...
— Да, понимаю, сударь, вы не знали, что я дочь своего отца, племянница своего дяди, сестра своего брата. Ну что ж, теперь вы это знаете, так не забудьте!
— Мадемуазель, — продолжал г-н Жакаль, — я горячо сожалею, что вызвал ваше неудовольствие. Прошу поверить, что только печальные обязанности, продиктованные долгом службы, вынудили меня проявить настойчивость.
— Хорошо, сударь, — сухо ответила Сюзанна. — Это все, о чем вы меня просите?
— Да, мадемуазель. Позвольте мне еще раз повторить: я в отчаянии от того, что оскорбил вас; смею надеяться, что вы меня простите за исполнение нелепой формальности, к которой обязывает меня закон.
— Я постараюсь о вас забыть, сударь, — сказала, удаляясь, Сюзанна.
Ни с кем не прощаясь, она вышла из гостиной, но отправилась не в сад, а в свою комнату.
Господин Жакаль, оказавшийся на ее пути, отступил и низко поклонился.
Жюстен сгорал от желания задушить Сюзанну: более чем когда-либо ему стало очевидно, что мадемуазель де Вальженез причастна к похищению его невесты.
Сальватор подошел к нему и взял его за руки.
— Молчите! — приказал он. — Ни звука! Ни жеста!
— Все пропало! — прошептал Жюстен.
— Еще ничто не потеряно, если я вам говорю: "Не теряйте надежды, Жюстен!" Я знаю этих Вальженезов и повторяю: ничто не потеряно. И запомните имя — Жибасье.
Обернувшись к г-ну Жакалю, он продолжал:
— Я полагаю, нам здесь больше нечего делать, не так ли, сударь?
— Да, действительно, — в крайнем замешательстве ответил г-н Жакаль, пряча глаза за темными стеклами очков, — я думаю, мы не узнаем больше того, что нам уже известно.
— Да, — согласился Сальватор, — знаем мы и так предостаточно.
Господин Жакаль притворился, что он не расслышал, и подошел к хозяйке пансиона, оглушенной тем, какой оборот приняло дело.
— Сударыня, — сказал он, — имею честь почтительнейше откланяться.
Потом прибавил совсем тихо:
— Еще раз передайте мадемуазель де Вальженез, что я исполнял свой долг и умоляю ее забыть о моем визите, слышите?
— Забыть о вашем визите... Понимаю, сударь.
Еще раз поклонившись г-же Демаре, полицейский вышел, знаком пригласив Жюстена и Сальватора следовать за ним.
Сальватор, как видели читатели, не терял надежды соединить Жюстена и Мину без помощи г-на Жакаля и потому, казалось, примирился с метаморфозой в поведении полицейского. Но этого нельзя было сказать о Жюстене: ведь сам г-н Жакаль заставил его поверить в то, что напал на след похищенной Мины!
Как только они оказались за воротами, он остановил полицейского.
— Прошу прощения, господин Жакаль!
— Чем могу служить, господин Жюстен? — спросил тот.
— Мне показалось, что сначала вы сказали: "Ищите женщину!", потом — "Женщина у нас в руках!", а затем прибавили: "И эта женщина — мадемуазель Сюзанна!"
— Я так сказал, сударь? — удивился полицейский.
— Да, сударь, я лишь повторил ваши собственные слова.
— Господин Жюстен, вы, должно быть, ошибаетесь.
— Господин Сальватор — свидетель тому.
Полицейский бросил на Сальватора взгляд, который означал: "Вы-то меня понимаете: помогите мне выйти из этого затруднительного положения!"
Сальватор в самом деле отлично понимал г-на Жакаля, но не собирался спускать ему малодушие и потому был беспощаден:
— Могу поклясться, дорогой господин Жакаль, что, если мне не изменяет память, вы нам сказали слово в слово то, что сейчас повторил вам господин Жюстен: мадемуазель Сюзанна была соучастницей похищения.
— Эка невидаль! — вытянув губы трубочкой, произнес г-н Жакаль. — Люди всегда ошибаются, когда говорят подобные вещи, не имея доказательств. Соучастница! Если я сказал, что девушка была соучастницей, то ошибся.
— Как, сударь?! Да вы же первый выдвинули против нее обвинение! — вскричал Жюстен. — Только вспомните, что вы о ней говорили в комнате несчастной Мины!
— "Обвинение" — неудачное слово. Я, может быть, ее подозревал, да и то...
— Значит, теперь вы ее уже не подозреваете?
— Я далек от того, чтобы подозревать невинную девочку! Что вы! Храни меня Господь!
— А как же плотно сжатый рот, — сказал Сальватор, — жесткий взгляд, злобное выражение лица?
— Такой она мне показалась издали. Но когда я увидел ее вблизи, все изменилось: изящный ротик, гордый взгляд, благородное лицо...
Однако Жюстен, кажется, не удовлетворился таким ответом; после первого впечатления, высказанного г-ном Жакалем о мадемуазель де Вальженез, такая похвала выглядела, по меньшей мере, странно.
— Заходите ко мне, господин Жюстен, — пригласил полицейский, торопливо садясь в карету, — заходите сегодня в восемь в префектуру: возможно, у меня будут для вас приятные известия. Я, как только вернусь, привлеку всех своих людей к участию в этом расследовании.
— Возвращайтесь домой, Жюстен, — сказал Сальватор, сердечно пожимая бедному учителю руку, — обещаю менее чем через сутки сообщить, чего вам следует опасаться и на что надеяться.
Видя, что г-н Жакаль захлопывает дверцу кареты, он воскликнул:
— Что же это вы делаете, господин Жакаль? Вы меня сюда привезли, вы должны и назад отвезти! Кстати, — прибавил он, усаживаясь рядом с полицейским и закрывая дверцу за собой, — мне надобно побеседовать с вами о Вальженезах!
— В Париж! — приказал кучеру г-н Жакаль, который предпочел бы, очевидно, ехать в одиночестве.
Лошади поскакали крупной рысью.
Жюстен возвратился пешком, печальный, мрачный, не очень рассчитывая на обещание Сальватора.
LXXVI ГЛАВА, В КОТОРОЙ АВТОР ПРОСИТ ЧИТАТЕЛЯ НЕ ПРОПУСТИТЬ НИ ЕДИНОЙ СТРОЧКИ
Господин Жакаль забился в угол кареты; Сальватор устроился в другом.
Карета стремительно приближалась к Парижу.
Вопреки тому, что Сальватор сказал, садясь в нее, он, казалось, решил не прерывать размышлений г-на Жакаля. Но он не сводил с него насмешливого, почти презрительного взгляда. Господин Жакаль встречался с ним всякий раз, как поднимал глаза.
Однако настала минута, когда объяснение, которого, по-видимому, ждал от него Сальватор, стало казаться полицейскому менее неловким, чем такое молчание.
Он поднял, снова опустил очки, потом с возрастающей энергией втянул в нос две-три понюшки табаку, наконец решился и окликнул комиссионера.
— Вы, кажется, собирались поговорить со мной о Вальженезах, господин Сальватор?
— Я хотел спросить, дорогой господин Жакаль, что заставило вас так резко изменить мнение об этой девочке... Надо ли говорить, как это называется, господин Жакаль?
— Тише!.. Мы не одни: вы человек благоразумный, не чета влюбленному...
— Кто вам сказал?
— Ну, во всяком случае, вы не влюблены в похищенную девицу. Стало быть, головы не теряли и можете понять...
— Я и так отлично все понял.
— Что именно?
— Что вы испугались, дорогой господин Жакаль.
— Клянусь, вы угадали! — вздохнул полицейский, имевший, по крайней мере, смелость признаться в малодушии. — Когда эта девица себя назвала, меня бросило в дрожь!
— Господин Жакаль! Я полагал, что первая статья Кодекса гласит: "Все люди равны перед законом".
— Дорогой господин Сальватор! Этими статьями открываются все кодексы, так же как все королевские ордонансы начинаются словами: "Карл, Божьей милостью король Франции и Наварры". Людовик Шестнадцатый тоже любил такие обороты, а голову ему все-таки отрубили! Где вы усматриваете "милость Божью", дорогой господин Сальватор, в том, что произошло на площади Революции двадцать первого января тысяча семьсот девяносто третьего года в четыре часа пополудни?
— Стало быть, за то, что вы обвинили в похищении девушку, — она, как вы отлично знаете, действительно замешана в этом деле и способна, по вашему убеждению, когда-нибудь совершить еще более тяжкое преступление, — вы уже представляете, как вас сместили, заключили в тюрьму и — кто знает? — удавили в вашем каземате, как Туссен-Лувертюра или Пишегрю?
— Не шутите, господин Сальватор, клянусь честью, я действительно подумал обо всем этом.
— Так, значит, Вальженезы очень могущественны?
— Ах, дорогой мой! Маркиз пользуется доверием самого короля, кардинал — папы, а лейтенант...
— ... самого дьявола! — закончил Сальватор. — Понимаю! И все они, к тому же, являются членами какого-нибудь общества, не так ли?
Господин Жакаль посмотрел на Сальватора.
— Думаю, что так... — продолжал тот. — Во всяком случае, именно маркиз, если не ошибаюсь, покровительствует коллежу Сент-Ашёль, а во время последнего крестного хода нес одну из кистей балдахина.
— Как странно! — заметил Сальватор. — А я-то думал, что иезуиты — выдумка "Конституционалиста"!
— Да, как же! — бросил г-н Жакаль с таким видом, словно хотел сказать: "Бедный юноша, до чего вы наивны!"
— Значит, вы полагаете, дорогой господин Жакаль, — продолжал Сальватор, — что с Вальженезами лучше не связываться?
— Вы знаете басню о том, как столкнулись два горшка, глиняный и чугунный и что из этого вышло?
— Да.
— Ну, вот и делайте вывод.
— Скажите, разве у главы семейства, скончавшегося пять или шесть лет тому назад, не было детей? — спросил Сальватор. — Почему все его состояние перешло к брату?
— Точнее сказать, он никогда не был женат, — заметил г-н Жакаль.
— Ах да, припоминаю... Там, кажется, была какая-то история с внебрачным сыном, которого собирались усыновить или признать, но это так и не было сделано.
Господин Жакаль искоса взглянул на Сальватора.
— Откуда вам это известно? — спросил он.
— В нашей профессии, — продолжал комиссионер, — как бы малонаблюдателен ни был человек, он знает много любопытного! Мне доводилось носить письма от одной красивой дамы некоему господину Конраду де Вальженезу, который жил на Паромной улице... если не ошибаюсь, в том же доме, где теперь проживает маркиз.
— Верно! — подтвердил г-н Жакаль.
— Это темная история, не правда ли?
— Не для всех, — сказал г-н Жакаль с самодовольным видом.
— Понимаю, — улыбнулся Сальватор, — не для тех, кто "нашел женщину"!
— Нет, тут случай исключительный: женщины в этом деле не было, — возразил полицейский.
— Кто же был? Видите ли, дорогой господин Жакаль, когда ваш знакомый молодой человек, красивый, богатый, довольный жизнью, вдруг исчезает, недурно бы узнать, что с ним сталось.
— Это вполне справедливо, тем более что я могу вам сказать все или почти все.
— Ваше "почти" очень похоже на мысленную оговорку! Уж не довелось ли вам, случайно, тоже нести кисть балдахина в этой знаменитой процессии Сент-Ашёля?
— Нет, черт возьми! — вскричал г-н Жакаль, — я боюсь иезуитов. Я их защищаю — услуга за услугу; я им даже иногда повинуюсь, но не люблю их. Я сказал "почти", потому что в нашей профессии не всегда можно говорить все что знаешь.
— Ну и потом, иногда случается, что человек знает не все, — со свойственной ему лукавой усмешкой заметил Сальватор.
— Ну так слушайте: я скажу вам то, что знаю, — сказал г-н Жакаль, глядя поверх очков на Сальватора, — а потом вы скажете мне то, чего я не знаю.
— Договорились!
— Так вот: глава семьи маркиз Шарль Эмманюэль де Вальженез, пэр Франции и владелец огромного состояния, унаследованного им от дяди по материнской линии, никогда не хотел жениться, а приверженность господина Эмманюэля де Вальженеза к холостой жизни объяснялась существованием красивого молодого человека по имени господин Конрад, которого завсегдатаи дома, друзья маркиза, а потом и малознакомые стали постепенно называть господином Конрадом де Вальженезом.
— Разве это не его имя?
— Не совсем: красивый молодой человек был плодом любви, грехом молодости; маркиз так любил господина Конрада, что во всем полагался на его мнение.
— Как же могло произойти, дорогой господин Жакаль, что при такой любви к нему маркиз оставил все состояние брату, племяннику, племянницам, а красивый молодой человек умер, как я слышал, в нищете?
— О, это как раз объясняется тем, что отец слишком сильно его любил! Знаете пословицу: "Во всем нужна мера"?
— Да, мне в самом деле казалось, что бедный маркиз — а он умер внезапно, не так ли? — заметил Сальватор, — очень любил молодого человека.
На сей раз г-н Жакаль взглянул на Сальватора из-под очков.
— Он до такой степени его любил, сударь мой, — продолжал полицейский, — что эта чрезмерная, как я уже сказал, любовь и явилась причиной того, что молодой человек разорился.
— Расскажите об этом поподробнее.
— Есть два способа усыновить или удочерить незаконнорожденного ребенка. Способ первый очень прост — официально объявить себя отцом во время регистрации ребенка в мэрии; если по какой-либо причине эта формальность не была исполнена, она может быть заменена актом о признании, подписанным в присутствии нотариуса; правда, в этом случае отец хотя и дает ребенку свое имя, но может оставить ему только пятую часть состояния. Способ второй: в день своего пятидесятилетия человек приглашает нотариуса и усыновляет ребенка, потому что закон разрешает усыновление людям не моложе пятидесяти лет; тогда отец может дать приемному сыну не только имя, но и все состояние. Этому второму способу и отдал предпочтение господин де Вальженез. И вот в день своего пятидесятилетия он пригласил нотариуса, заперся с ним в кабинете и составил акт об усыновлении. Но в ту минуту, как он взялся за перо, чтобы его подписать, маркиза де Вальженеза по воле рока хватил апоплексический удар!
— В ту минуту как он взялся за перо, чтобы подписать, или когда он положил перо, подписав бумагу? — уточнил Сальватор.
На сей раз г-н Жакаль совсем снял очки и пристально взглянул на Сальватора.
— Клянусь честью, господин Сальватор, — отвечал он, — если вы это знаете, значит, вам известно больше, чем мне и всему свету. Был уже подписан акт или маркиз должен был его подписать? "That is the question!"[28], как сказал Гамлет. А маркиз так ничего и не сказал, по той весьма основательной причине, что хотя он и прожил еще три дня после этого несчастного случая, но так и не приходил в себя.
— Господин Жакаль! Вот так, с глазу на глаз, скажите положа руку на сердце, что вы об этом думаете?
— Я думаю, — отвечал полицейский, ловко уклоняясь от ответа, — что семейство, пожалуй, слишком сурово обошлось с бедным господином Конрадом.
— Сурово? Ба! Если акт не был подписан — во всяком случае, так утверждал нотариус, — то как, по-вашему, следовало относиться к незаконнорожденному? — спросил Сальватор.
— Было общеизвестно, что этот незаконнорожденный — сын маркиза Эмманюэля, — осмелился ввернуть г-н Жакаль.
— Да, но если бы семейство признало этот факт, пришлось бы отдать молодому человеку самое малое пятую часть того состояния, которое досталось бы ему по праву, будь он усыновлен; а эта пятая часть составляла что-то около двух миллионов!.. Выгоднее было все отрицать, самим наследовать и место в Палате пэров, и титул, и состояние, а незаконнорожденного — гнать! Ведь так они и сделали, не правда ли, господин Жакаль? И выгнали незаконнорожденного сына маркиза, верно?
— Который в конечном счете ушел очень достойно, оставив и своих лошадей в конюшнях, и экипажи в каретных сараях, и банковские билеты в секретере, — подхватил полицейский. — Даже его недруги признали, что он взял только две тысячи франков, принадлежавшие лично ему: он выиграл их накануне в экарте.
— Дьявольщина! — вскричал Сальватор. — Молодой человек, привыкший жить на широкую ногу так, как господин Конрад, недалеко уйдет с двумя тысячами франков!
— Вот тут вы ошибаетесь, сударь мой, — заметил полицейский. — Полиция, заботящаяся об обществе, приглядывает за такими вот разорившимися отпрысками знатных фамилий; на две тысячи франков он жил больше года, испробовав все возможности честно зарабатывать на жизнь, давая уроки музыки, рисования, английского и немецкого языков, — он был очень образован, бедняга! — но ему не повезло: он нигде не нашел работы; нужда толкнула его на крайность, и однажды, видя, что не может сам заработать на пропитание и ему остается лишь пойти на содержание к богатой женщине, стать сутенером или мошенником, он решил покончить с жизнью, купил у Лепажа пистолет — продавец потом признал этот пистолет — и отправился в последний раз пройтись по Тюильрийскому саду, Елисейским полям и в Булонский лес, чтобы проститься с бывшими приятелями и любовницами. Потом он пошел по улице Сент-Оноре, зашел в церковь святого Рока, помолился и оттуда вернулся в свою скромную комнатушку на улице Бюффон.
— Что же он сделал, когда вернулся к себе?
— Бог мой! Да то же, что только что сделали Коломбан и Кармелита. Написал длинное письмо, но не друзьям — их у него не было или, вернее, не осталось с тех пор, как дядя и его дети выгнали молодого человека из особняка на Паромной улице, — а полицейскому комиссару своего квартала. В этом письме он рассказал обо всем, что пережил за последние пятнадцать месяцев, о том, какую борьбу ему пришлось выдержать, о том, что не может больше так жить, о том, что принял решение пустить себе пулю в лоб, чтобы остаться честным человеком. После чего он лег, зажег свечу, прочел несколько страниц из "Новой Элоизы" о самоубийстве и застрелился.
— Ну, господин Жакаль, вы ходячая газета! — сказал Сальватор.
— О, в том, что я рассказываю вам обо всех этих подробностях, — отвечал полицейский, — особой заслуги нет: расследование самоубийств входит в мою специальность, и я составлял протокол о гибели господина Конрада.
— Неужели?
— Да.
— Значит, именно вам, дорогой господин Жакаль, этот молодой человек обязан последними услугами, оказанными ему после самоубийства, а также констатацией смерти?
— Установить факт смерти оказалось делом несложным: из пистолета был произведен выстрел в упор, половину черепа снесло, а то, что осталось — обгорело. Таким образом, смерть пришлось констатировать, основываясь скорее на письме, чем на опознании трупа, изуродованного до неузнаваемости.
— Я полагаю, Вальженезов оповестили о том, что произошло?
— Я лично отправился к ним с этим известием и копией протокола.
— Очевидно, и известие и протокол произвели на них сильное впечатление?
— Да, сударь мой, сильное: они очень обрадовались.
— Понимаю, само существование этого молодого человека их беспокоило!
— Они попросили меня позаботиться о похоронах, вручили пятьсот франков, чтобы все было сделано в лучшем виде...
— Ах, какие благородные родственники!
— ... и сказали, чтобы я принес им копию протокола о захоронении, как до этого вручил им копию протокола о самоубийстве.
— Что вы, надеюсь, и исполнили, господин Жакаль?
— Могу сказать, что все сделал по совести: проводил катафалк на кладбище Пер-Лашез, приказал на моих глазах опустить гроб в землю, купленную навечно, и положить на могиле камень, на котором написано только одно слово: "Конрад". Потом я сходил к господину маркизу де Вальженезу и сказал, что он может быть спокоен до второго пришествия: вероятно, с племянником он теперь увидится только в Иосафатовой долине.
— И в этой уверенности все семейство пребывает по сию пору, считая себя в полной безопасности? — уточнил Сальватор.
— А чего им бояться?
— Э-э, на свете случаются удивительные вещи!
— Да что может случиться?
— Дорогой господин Жакаль, мы уже в Ба-Мёдоне; будьте добры остановить карету.
Господин Жакаль подергал за шнур, подавая кучеру знак остановиться.
Кучер натянул вожжи.
Сальватор распахнул дверцу и вышел.
— Прошу прощения, — заметил г-н Жакаль, — вы не ответили...
— Что вы хотите узнать?
— Я спросил: "Что может случиться?"
— По поводу Конрада?
— Да.
— Что ж, господин Жакаль, может так случиться, что Конрад не умер и, следовательно, ему незачем ждать второго пришествия — господин маркиз де Вальженез может встретить его не только в Иосафатовой долине... Прощайте, дорогой господин Жакаль!
Сальватор захлопнул дверцу, оставив полицейского в таком замешательстве, что должен был сам приказать кучеру:
— На Иерусалимскую улицу!
LXXVII СОБРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ
В то время как г-н Жакаль собирался с мыслями, нюхая табак, и пытался разгадать загадку, которую задал ему на прощание Сальватор, а лошади снова скакали крупной рысью к Парижу, Сальватор отправился за Жаном Робером в дом умершего.
Как раз в эту минуту Кармелита начала понемногу приходить в себя, и три подруги, не отходившие от нее ни на шаг, исполнили печальную необходимость: сообщили ей роковое известие.
Доминик четверть часа назад уехал в Пангоэль, увозя с собой тело Коломбана.
Людовик оставил точное предписание, как ухаживать за Кармелитой, и отправился домой на улицу Нотр-Дам-де Шан, пообещав навестить больную на следующий день.
Жан Робер поджидал Сальватора, чтобы вместе с ним поехать в Париж.
Последуем за тем из персонажей, которому в этот день еще предстоят приключения, то есть за Людовиком, а к остальным вернемся позднее.
Чувствуя некоторую тяжесть в голове после бессонной ночи, Людовик решил пройтись до Парижа пешком.
Путь от Ба-Мёдона до улицы Нотр-Дам-де-Шан лежал через Ванвр.
И вот Людовик не спеша шел по деревне, как вдруг перед домом, куда несколько раньше мы сопровождали одного из наших героев, он увидел толпу: человек пятьдесят мужчин, женщин, детей; стоя на коленях, они молились со слезами на глазах и просили у Господа чуда: вернуть жизнь добрейшему, честнейшему, добродетельнейшему г-ну Жерару, которого по возвращении из Бельвю пришел причастить кюре из Ба-Мёдона.
Такое увидишь не часто; Людовик остановился и обратился к безутешным крестьянам с вопросом:
— Кого вы оплакиваете, друзья мои?
— Увы, мы оплакиваем нашего благодетеля, — отвечал один из них.
Людовик вспомнил, что из Ванвра действительно приходили за аббатом Домиником, чтобы он принял исповедь умирающего.
— А, вы, верно, плачете по господину Жерару?
— Да! Он друг всех несчастных, благодетель всех бедняков!
— Он умер? — спросил Людовик.
— Нет еще. Но после разговора с монахом этот достойный человек почувствовал такую слабость, что послал за святыми дарами, и сейчас господин мёдонский кюре его причащает.
— Увы, это так! — хором подхватили крестьяне, еще громче рыдая и охая.
Людовик под маской скептика скрывал почти женскую чувствительность. Слезы его тронули, и он сам был готов расплакаться.
— Сколько лет больному? — спросил он.
— Не больше пятидесяти, — ответил один из крестьян.
— Зачем милосердный Господь забирает его у нас так рано, а стольких злодеев оставляет на земле! — подхватил другой.
— Да, пятьдесят лет, в самом деле, не тот возраст, когда умирают, особенно если человека так оплакивают, как господина Жерара.
Немного подумав, он продолжал:
— Можно увидеть больного?
— Уж вы, случаем, не врач ли? — хором спросили все присутствующие.
— Да, — просто ответил Людовик.
— Врач из Парижа?
Людовик улыбнулся:
— Врач из Парижа.
— Ступайте скорее, сударь! — поторопил его какой-то старик.
— Вас само Небо посылает! — воскликнула одна из женщин.
Жители деревни окружили его плотной толпой: одни —
уговаривая, другие — подталкивая к двери; они почти внесли его в дом.
Люди стояли не только на улице; много народу набилось в коридор, на лестницу, в переднюю и даже в спальню г-на Жерара.
Но при словах: "Врач из Парижа! Это врач из Парижа!" — все расступились, пропуская Людовика.
Умирающий только что причастился; зазвенел колокольчик — это означало, что святое таинство завершено.
Как ни мало Людовик верил в Бога, он вместе со всеми поклонился выходившему от больного святому отцу. Впереди священника шли церковный сторож и мальчики из хора, за ними толпой двигались те, что в благочестивом порыве пришли помолиться вместе с кюре за умирающего.
Когда Людовик снова поднял голову, он увидел, что в комнате остались только г-н Жерар и старый доктор.
Больной лежал без чувств; казалось, он. уже не дышит. Деревенский врач — господин пятидесяти лет с седыми волосами и усами, с орденом Почетного легиона в петлице — склонился над пациентом и, казалось, с интересом следил за тем, как смерть все явственнее накладывает отпечаток на лицо умирающего.
Врач перевел взгляд на Людовика; они некоторое время разглядывали друг друга, соображая, с кем имеют дело, но это не дало результатов. Тогда Людовик выступил вперед и вежливо, как и положено молодому человеку, обращающемуся к господину вдвое старше его самого, спросил:
— Сударь, вы брат больного?
— Нет, сударь, — возразил седоусый господин, продолжая разглядывать Людовика, — я его врач. А вы?
— Я, сударь, имею честь быть вашим собратом, — с поклоном отвечал Людовик.
Деревенский доктор слегка нахмурился и подхватил:
— Насколько двадцатипятилетний юноша может быть собратом человека, который десять лет жизни провел на поле боя и пятнадцать лет у постели больных.
— Прошу прощения, сударь! Я имею честь говорить с господином Пилуа, не так ли? — спросил Людовик.
Врач выпрямился.
— Кто вам сказал, как меня зовут? — спросил он.
— Я узнал ваше имя случайно, — сказал Людовик, — и притом вас очень хвалили, сударь! Так уж вышло, что я оказался в Ба-Мёдоне в доме двух несчастных молодых людей, пытавшихся отравиться. Я сейчас же потребовал пригласить другого доктора; мне назвали вас, я послал за вами, но у вас дома сказали, что вы отправились к господину Жерару.
— А что с вашими больными? — несколько мягче спросил военный хирург, покоренный вежливостью молодого человека.
— Девушку мне удалось спасти, сударь, — ответил Людовик, — если бы вы оказались рядом, мы, возможно, спасли бы обоих.
— Вы, стало быть, случайно оказались в этих местах и, узнав, что в этом доме находится больной, вошли? — продолжал г-н Пилуа.
— Зная, что вы у больного, сударь, я ни за что не позволил бы себе подобную бестактность. Но славные люди, что рыдают возле дома, почти силой заставили меня войти. В страдании человек теряет голову, как вам известно, сударь. Простите их, а вместе с ними и меня.
— Но мне не за что прощать ни их, ни вас, сударь. Добро пожаловать. Одна голова хорошо, а две лучше. К несчастью, здесь все головы на свете будут бессильны. — И еще тише прибавил: — Больной обречен!
Но, несмотря на то что он говорил едва слышно, умирающий разобрал слова добрейшего г-на Пилуа и застонал.
— Тише! — сказал Людовик.
— Почему тише? — спросил хирург.
— Потому что слух угасает в последнюю очередь: больной нас слышал.
Господин Пилуа с сомнением покачал головой.
— Так вы полагаете, надежды нет? — спросил Людовик, наклонившись к самому уху г-на Пилуа.
— Ему осталось не более двух часов, — отозвался хирург.
Людовик коснулся рукава г-на Пилуа и обратил его внимание на то, что больной стал метаться в постели.
Господин Пилуа кивнул, и это означало: "Напрасно он шевелится, все равно ему конец!"
Потом хирург решил продолжить эту пантомиму словами и заговорил:
— Сегодня утром у меня еще была надежда, что он протянет дня два. Но какой-то дурак вбил ему в голову, что необходимо исповедаться, а это было совершенно ни к чему, ведь я его знаю с тех пор, как он живет в Ванвре, — этот человек безупречно добродетельный! Три часа он проговорил с каким-то монахом, и вот, пожалуйста, полюбуйтесь, в каком состоянии я получил этого святого человека после их разговора! Ох, уж эти священники, монахи, скуфейники, иезуиты! — пробормотал старый солдат. — И подумать только, что всем этим удовольствием мы обязаны императору!
— Чем болен господин Жерар? — перебил его Людовик.
— Да обычная болезнь, черт подери! — отвечал г-н Пилуа, пожав плечами, как будто люди на свете болели и умирали от одной-единственной напасти.
Слова "обычная болезнь" заставили Людовика улыбнуться: он понял, что перед ним ученик доктора Бруссе, без раздумий применяющий ко всем подряд теорию великого учителя.
Однако улыбка сошла с его лица, когда он подумал, что человек, которому Бог дает жизнь на такой короткий срок, а отнимает навечно, попадает порой в руки невежды или, что еще хуже, фанатика. Людовик едва заметно пожал плечами и бросил на старого хирурга подозрительный взгляд.
— Под "обычной болезнью" вы, очевидно, подразумеваете гастрит? — спросил он.
— Ну, конечно! — отвечал хирург. — Ошибиться невозможно, черт побери! Да вы сами посмотрите!
Получив разрешение собрата, Людовик подошел к постели.
Казалось, больной пребывал в состоянии прострации. Дыхание его было шумным, прерывистым, как при удушье. Когда он с трудом втягивал воздух, его грудь высоко вздымалась, словно в предсмертном хрипе.
Людовик внимательно разглядывал его лицо, изучая каждую черту в отдельности.
Больной был бледен, его кожа приобрела желтоватый оттенок; руки и ноги были влажны и похолодели; липкий пот покрывал все лицо, выступая капельками у корней волос.
По этим внешним признакам Людовик понял: г-н Жерар болен не на шутку, однако его состояние не безнадежно, как утверждал старый хирург.
— Вы сильно страдаете, сударь? — спросил Людовик.
Этот вопрос, произнесенный незнакомым голосом, казалось, вернул умирающему утраченную надежду; г-н Жерар открыл глаза и повернул голову к говорящему.
Молодого врача поразило, что у тяжелобольного человека такое живое выражение глаз; хотя он выглядел совершенно обессилевшим, белки его пожелтели, черты исказились, лицо казалось мертвым, но глаза, вернее, зрачки, жили на застывшем, словно маска, лице. В этом взгляде была еще сила и жизнь.
— Покажите, пожалуйста, язык, — попросил Людовик.
Господин Жерар высунул язык, обложенный, распухший, покрытый желтоватым, в иных местах с прозеленью налетом. Но он не был заострен, как у змеи, его кончик не был кроваво-красным, а края — красными, как это бывает при гастритах.
До этого времени Людовик сомневался; теперь его сомнения окончательно рассеялись.
Он невольно, почти автоматически перевел взгляд с больного на хирурга, и в выражении этого взгляда невозможно было ошибиться.
Он словно спрашивал: "Ну, и где же здесь гастрит?"
Старый хирург был до такой степени самонадеян, что не хотел замечать взгляда Людовика; он и бровью не повел.
Хладнокровие коллеги, который был старше и, следовательно, опытнее его самого, заставило Людовика усомниться в своей правоте.
Ему оставалось лишь осмотреть больного.
Он приподнял одеяло, оголил исхудавшую грудь больного, прижал к ней руку и надавил сначала легко, потом все сильнее и сильнее.
Видя, что г-н Жерар не выказывает признаков неудовольствия, он спросил:
— Так не беспокоит?
— Нет, — слабым голосом ответил г-н Жерар.
— Как?! Неужели не больно, когда я нажимаю вот так? — продолжал настаивать Людовик.
— Дышать трудно, но боли я не чувствую.
Людовик снова посмотрел на коллегу, будто опять спрашивая: "Вы видите, что это не гастрит?"
Старый хирург, как и в первый раз, казалось, не понял, что хочет сказать Людовик.
Молодой доктор улыбнулся.
Теперь он был убежден, что г-на Жерара лечили от того, чем он не болел.
Что же за болезнь была у г-на Жерара?
Людовик скрестил руки на груди и пристально посмотрел на больного, опустил голову и в задумчивости перевел взгляд на подушку; под ней он увидел не только платок, которым больной отирал пот с лица, но и другой, куда он отхаркивался.
Этот платок был весь в пятнах ржавого цвета из-за кровянистой мокроты.
Теперь Людовик знал, какая болезнь у г-на Жерара.
Он снова приподнял одеяло, но теперь не стал нажимать рукой на желудок, а приложился ухом к груди больного, к величайшему недоумению старого хирурга, еще незнакомого с этим новым методом обследования; на его лице было написано удивление и любопытство, он будто спрашивал: "Какого черта вы там услышали, дорогой коллега?"
Теперь уже Людовик не замечал пантомимы хирурга. Похоже, его удовлетворили хрипы, которые он услышал в груди больного: он поднял голову с торжествующим видом.
С этой минуты он, несомненно, знал, как относиться к состоянию больного и с какой болезнью он имеет дело. Оставалось пощупать пульс. Он попросил г-на Жерара дать ему свою руку; больной автоматически повиновался.
Пульс был хорошего наполнения, прекрасно прощупывался, но был учащенный — иными словами, больше ста ударов в минуту и немного неровный.
Так Людовик и предполагал, вернее сказать, на это он и надеялся.
Осмотр был окончен. Итак, молодой доктор закончил тем, с чего следовало бы начать. Но, подобно человеку, который прибегает на берег реки, откуда кричали: "На помощь!" — он прежде всего прыгнул в воду.
Он обернулся к г-ну Пилуа и спросил, как давно занемог г-н Жерар, как развивалась болезнь, чем она была вызвана.
Старый доктор рассказал о том, как г-н Жерар бросился в пруд, спасая тонувшего ребенка, и о роковых последствиях этого поступка для самого спасителя; он ответил на все вопросы коллеги, а когда кончил, насмешливо спросил:
— Ну, и что скажете?
— Честь имею поблагодарить вас, сударь, за то, что вы любезно ответили на мои вопросы: теперь я знаю то, что хотел узнать.
— Что же вы знаете?
— Знаю, чем болен господин Жерар, — отвечал Людовик.
— Тут много мудрости не надо, я же с самого начала сказал, что у него гастрит.
— Да, но в этом-то вопросе наши с вами мнения и расходятся!
— Что вы хотите сказать?
— Не угодно ли вам будет перейти в соседнюю комнату, уважаемый коллега? Мне кажется, мы утомляем больного.
— О! Не уходите, сударь, Небом заклинаю вас! — собрав все свои силы, проговорил г-н Жерар.
— Не волнуйтесь, дружище, — сказал г-н Пилуа, полагая, что просьба относится к нему. — Я обещал вас не оставить и сдержу слово.
И оба доктора приготовились выйти.
На пороге они встретили сиделку.
— Вот что, голубушка, — обратился к ней Людовик, — мы вернемся через пять минут; пока нас не будет, больному ничего не давать, что бы он ни попросил.
Марианна обернулась к г-ну Пилуа, спрашивая взглядом, должна ли она исполнять предписание незнакомца.
— Ну, раз господин утверждает, что вылечит больного... — заметил тот.
Он ожидал, что Людовик запротестует, но, к величайшему его изумлению, тот не произнес ни слова, он лишь отступил в сторону, пропуская г-на Пилуа вперед с почтительностью, какую младший по возрасту обязан проявлять к старшему.
LXXVIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ЛЮДОВИК БЕРЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ
Врачи остановились в передней.
Один словно олицетворял собой косность, другой — все новое в медицине того времени.
— Не угодно ли вам теперь сказать, мой юный друг, зачем вы меня сюда привели? — спросил г-н Пилуа.
— Прежде всего, чтобы не утомлять больного научным спором, — отвечал Людовик.
— Ну и что! Это уже мертвец!
— Если вы так полагаете, это еще одна причина, чтобы он нас не слышал.
— Уж не думаете ли вы, что мужчины нашего поколения — такие же нервные барышни, как нынешняя молодежь?! — воскликнул бывший военный врач. — Я был на войне, ассистировал Ларрею, когда он ампутировал ноги храброму Монтебелло; мы несколько минут обсуждали, проводить операцию или не мучить его перед смертью. Думаете, мы совещались тайком от раненого? Нет, сударь. Он принял участие в обсуждении, словно это касалось не его; я и сейчас слышу его слова: "Режьте, черт подери, режьте!", произнесенные так же твердо, как на поле боя он приказывал солдатам: "Вперед!"
— Возможно, сударь, — возразил Людовик, — когда оперируешь во время боя, когда вокруг десятки тысяч раненых, бывает не до тонкостей, из-за которых вы наградили наше поколение прозвищем "нервные барышни"; но сейчас мы с вами не на войне; господин Жерар не маршал Франции, как "храбрый Монтебелло", господин Жерар подавлен, очень, как мне показалось, боится смерти, и в его случае воспаленное воображение может сыграть роковую роль скорее, чем сам недуг.
— Вот, кстати, о недуге: вы говорили, сударь, что не согласны со мной?
— Нет.
— Каково же ваше мнение?
— Я считаю, сударь, что вы ошибаетесь, пытаясь вылечить больного от гастрита.
— Как ошибаюсь?!
— Повторяю, вы не правы, полагая, что у господина Жерара гастрит.
— Я не полагаю, сударь, я утверждаю!
— А я считаю, что он болен не гастритом.
— Так вы предполагаете, сударь?..
— Я, как и вы, сударь, не предполагаю, а утверждаю!
— Вы утверждаете, что господин Жерар...
— Имею честь в третий раз заметить вам, что это не гастрит.
— Что же у него такое, если не этот чертов гастрит?! — вскричал ошеломленный хирург.
— Всего-навсего воспаление легких, сударь, — холодно промолвил Людовик.
— Воспаление легких? И вы называете это воспалением легких?
— И ничем иным!
— Может, вы станете утверждать, что его вылечите?
— Этого, сударь, я утверждать не берусь, но попробую ему помочь.
— Могу я полюбопытствовать, какое всесильное средство вы намерены употребить?
— Об этом я подумаю, дорогой коллега, если только вы мне позволите.
— Как?! И вы еще спрашиваете, позволю ли я спасти моего лучшего друга?
— Я прошу у вас разрешения лечить вашего больного.
— Я согласен, сто раз, тысячу раз согласен! Дай Бог, чтобы это помогло! Но, если вам угодно знать мое мнение, я сомневаюсь, что бедняга увидит рассвет.
— Значит, я попытаюсь проделать невозможное, — отвечал Людовик по-прежнему вежливо и почтительно человеку, превосходившему его если не знаниями, то летами.
— Невозможное! Это вы верно сказали! — сказал старший хирург, принимая вежливость Людовика за сомнение.
— Теперь расскажите, что вы до сих пор делали, досточтимый коллега! — попросил Людовик скорее для виду.
— Я дважды пускал кровь, ставил пиявки на живот и прописал больному строгую диету.
На губах Людовика мелькнула улыбка, выражавшая скорее сочувствие больному, чем насмешку, которую, должно быть, вызывала в Людовике эта панацея тех лет: пиявки и диета (ее можно назвать пиявкой для желудка).
Два доктора еще продолжали обсуждения, когда в переднюю ванврского филантропа ворвались несколько крестьян: им не терпелось увидеть чудо, которое должно было произойти благодаря появлению молодого врача.
— Ну что, ему лучше? — закричали они наперебой. — Вы его спасли?
Старый хирург, которого каждый вечер встречали подобными вопросами, когда он выходил от честнейшего господина Жерара, решил, что спрашивают его.
И он пообещал: "Мы сделаем все возможное, не беспокойтесь, друзья!"
Но увы! Изменчива морская волна, еще изменчивее женщина, однако в тысячу раз изменчивее толпа.
И тот самый человек, что громче всех уговаривал Людовика зайти к деревенскому благодетелю, довольно грубо возразил:
— Мы не вас спрашиваем!
Тогда, вероятно, достойному г-ну Пилуа, который помогал нашему знаменитому другу Ларрею ампутировать ноги храброму Монтебелло, пришла в голову та же мысль о неблагодарной толпе, что и нам, только минутой позже. Он насупил брови и вознаградил свое самолюбие: про себя кощунственно пожелал юному бахвалу потерпеть сокрушительную неудачу, чтобы разделить с ним впоследствии все то презрение, которое собравшиеся выплеснули на старого хирурга.
Другой крестьянин обратился прямо к Людовику:
— Ну что, как вы его нашли? Правда, что он очень плох?
— Правда, что нет никакой надежды, сударь? — спросил третий.
— Правда, что ему не выздороветь, сударь? — прибавил четвертый.
— Друзья мои! — отозвался Людовик. — Пока больной жив, надо верить, и не только в искусство доктора, но и в природу. А господин Жерар, слава Богу, еще жив!
Толпа дружно крикнула "ура!".
— Стало быть, вы его спасете? — спросили сразу несколько человек.
— Я приложу все силы, — пообещал Людовик.
— О, спасите его, спасите, сударь! — послышалось со всех сторон.
На шум из-за двери выглянула Марианна.
— Что там происходит? — спросил у нее больной, которого вся эта суматоха до крайности утомляла. — Я бы хотел умереть в тишине.
— Ах, сударь, кажется, о смерти можно позабыть, — заметила славная женщина.
— Как позабыть?
И его глаза, совсем было потухшие, вдруг сверкнули.
— Да, сударь, молодой доктор сказал крестьянам, что, может быть, спасет вас.
— А, "может быть"... — разочарованно протянул г-н Жерар, роняя голову на подушку. — В любом случае, Марианна, не отпускайте его! Во имя Неба, пусть останется!
Это напряжение отняло у него последние силы; он замер в неподвижности, только дыхание со свистом рвалось из его груди.
— Господа! Господа! — позвала сиделка. — Господину Жерару плохо. Кажется, отходит!
Людовик торопливо вернулся в комнату, взял больного за руку, пощупал пульс.
— Ничего, это обморок: больной переволновался! — сказал Людовик. — Сударь, возьмите себя в руки.
Больной вздохнул.
Марианна из последних сил сдерживала натиск толпы, рвущейся в комнату.
— Надеюсь, сударь, вы не ограничитесь тем, что пожелаете больному взять себя в руки, — ядовито заметил старый доктор, обращаясь к молодому коллеге, — а назначите ему какое-нибудь лечение?
— Подайте бумагу, перо и чернила, — обратился Людовик к сиделке, — я напишу рецепт.
Все наперегонки бросились искать то, о чем просил молодой врач.
Слова "может быть" вновь лишили больного возродившейся было надежды; он метался на кровати, умоляюще сложив руки и этим красноречивым жестом выражая только одну просьбу: "Именем Господа Бога заклинаю — дайте мне умереть спокойно!"
Но никто не обращал внимания на его мольбу, все хотели во что бы то ни стало его спасти.
Людовик поискал взглядом, где бы ему присесть, чтобы выписать рецепт. Но вся мебель была уставлена разного рода склянками, кувшинами, стаканами, тарелками, блюдцами.
Видя замешательство доктора, крестьяне предлагали подставить кто спину, кто колено.
Людовик выбрал чью-то спину и пристроился к ней с бумагой и пером.
— Пошлите за этим поскорее! — приказал он сиделке.
Не успел он договорить, как несколько человек потянулись к нему за рецептом, споря, кому достанется радость быть полезным г-ну Жерару.
Наконец какой-то хромой завладел драгоценной бумагой и поспешно заковылял к выходу.
— Сударыня! — обратился Людовик к сиделке. — Каждые полчаса будете давать господину Жерару по пол-ложки микстуры, которую сейчас принесут, слышите? Не больше, не реже и не чаще, чем по пол-ложки в полчаса, — только в этом его спасение.
— Каждые полчаса по пол-ложки, — повторила сиделка.
— Да, да, очень хорошо!.. Мне же немедленно нужно отправляться в Париж.
Больной тяжело вздохнул: ему казалось, что его жизнь уходит вместе с доктором.
Людовик услышал этот вздох, заменяющий отчаявшемуся человеку самую горячую молитву.
— Я должен возвратиться в Париж, — повторил доктор. — Но через три часа я снова здесь буду, чтобы понаблюдать за действием микстуры.
— И вы уверены, — проворчал старый хирург, — что ваша микстура его спасет?
— "Уверен" — не совсем то слово, дорогой коллега. Вы знаете лучше, чем кто бы то ни было, что человек не может быть уверен ни в чем, однако...
Людовик еще раз посмотрел на умирающего.
— ... однако я надеюсь, — закончил он.
Эти слова снова вызвали в толпе всеобщее ликование.
Больной собрался с силами и, приподнявшись на постели, выговорил:
— Три часа... Постарайтесь, сударь, не опаздывать!
— Обещаю, сударь!
— Я буду считать минуты, — сказал больной, отирая со лба испарину, казавшуюся предсмертной.
Выходя, Людовик с поклоном пропустил старого хирурга вперед, давая понять толпе, что относится к нему с почтением как к старому и более заслуженному доктору.
Как Людовик и сказал, он пошел по парижской дороге; но теперь он готов был сесть в кабриолет, в фиакр, в любую повозку — лишь бы успеть поскорее вернуться.
Хирург потащился вслед за ним, затаив злобу и стиснув зубы.
Людовик счел, что не станет нарушать молчания первым, даже ради того, чтобы еще раз проститься.
Они несомненно так молча и разошлись бы, но в этот момент хромой, возвращавшийся из аптеки, предстал перед соперниками словно нарочно для того, чтобы развязать им языки.
Хромой показал Людовику микстуру.
— Это та, сударь? — спросил он.
— Да, друг мой, — взглянув на склянку, отвечал Людовик, — и передай сиделке, чтобы она в точности исполняла мое предписание.
Эта встреча послужила г-ну Пилуа поводом для возобновления разговора.
— Вы, может быть, думаете, дорогой коллега, я не знаю, что в этом пузырьке? — спросил он.
— Зачем я стал бы вас обижать, сударь? — удивился Людовик.
— Вы ему прописали рвотное.
— Да, это действительно рвотное.
— Черт побери! — с издевкой вскричал г-н Пилуа. — Естественно, вы должны были дать ему рвотное, раз полагаете, что у него воспаление легких!
— Сударь! — холодно проговорил Людовик. — Я с таким почтением отношусь к вашим познаниям и вашему опыту, что желал бы ошибиться, если бы это не значило желать смерти больного.
С этими словами Людовик, не видя вдали ни фиакра, ни кабриолета, зашагал через поле по тропинке, которая должна была привести его в Париж скорее, чем если бы он продолжал путь по большой дороге.
А старый хирург, которому не терпелось узнать, какое действие окажет микстура на его умирающего друга, вернулся в Ванвр. Два с половиной часа спустя после ухода Людовика он был у постели больного, который на этот раз с неприязнью следил за тем, как врач усаживается в кресло.
Такое усердие старого доктора удивило крестьян. Еще больше удивилась сиделка: она привыкла подолгу ждать г-на Пилуа, когда его приглашали к больным, и теперь не могла не изумиться, увидев, что он пришел без вызова. Однако отставной военный хирург даже не потрудился объяснить причину своего неожиданного прихода.
Он стал приставать к г-ну Жерару с расспросами, но тот от недоверия или от слабости отказался ему отвечать.
Тогда хирург обернулся к сиделке и спросил:
— Что нового, дорогая Марианна?
— Ах, сударь, — отвечала славная женщина, — понемногу все идет на лад!
— Вы ему давали эту пресловутую микстуру?
— Да, сударь.
— Какое она оказала действие?
— Плохое, плохое действие, дорогой господин Пилуа.
— Что же произошло? — спросил старый хирург, мысленно потирая руки.
— Его стошнило, сударь.
— Я так и думал! К счастью, не я отвечаю за последствия, и если он умрет, я ни при чем!
— Это верно, — подтвердила сиделка. — Но ведь вы от него отказались: вы предсказывали ему смерть!
— Черт подери! — воскликнул военный хирург Великой армии. — Так всегда делается. Ведь если больной умрет, что иногда случается, врачу скажут: "Он умер, вы этого не предвидели!" А так честь медицины спасена!
— Ну, конечно, — поддакнула Марианна, — а если больной выживет, слава доктора только возрастет.
Так, в сетованиях старого хирурга и медико-философских замечаниях сиделки прошло полчаса.
Тут вернулся Людовик.
Он вошел в ту самую минуту, как больной принял лекарство, от которого его почти тотчас стошнило, и г-н Пилуа, не жалея своего лучшего друга (наука — что Сатурн: готова пожрать собственных детей!), при виде страдальческого лица г-на Жерара заметил:
— Он точно умрет!
Людовик слышал его слова. Но, оставив их без внимания, он подошел прямо к больному, осмотрел его, пощупал пульс.
Прошла минута. За это недолгое время славный молодой человек пережил огромное волнение, не имевшее ничего общего с беспокойством старого хирурга. Людовик поднял голову.
Господин Пилуа, сиделка, умирающий с жадностью наблюдали за выражением его лица: на лице Людовика выразилось полное удовлетворение.
— Все хорошо! — сказал он.
— То есть как хорошо? — растерялся г-н Пилуа.
— Пульс ровный.
— И вы поэтому решили, что все хорошо?
— Разумеется.
— Так знайте, несчастный: его стошнило!
— Это правда? — спросил Людовик, глядя на Марианну.
— Вы сами видите, что он обречен! — не унимался г-н Пилуа.
— Напротив, если его стошнило, можно считать, что он спасен! — спокойно проговорил Людовик.
— Вы отвечаете за жизнь моего лучшего друга? — сердитым тоном продолжал г-н Пилуа.
— Да, сударь, отвечаю головой! — ответил Людовик.
Старый хирург взялся за шляпу и вышел с видом алгебраиста, которому доказывают, что дважды два — пять.
Людовик выписал другой рецепт и вручил его сиделке.
— Сударыня! — сказал он. — Я взял ответственность на себя! Вы знаете, что это означает на языке медицины? Мои предписания должны выполняться буквально; если никто не будет вмешиваться, можно считать, что господин Жерар спасен!
Больной радостно вскрикнул, схватил молодого человека за руку и, прежде чем доктор успел ему помешать, припал к его руке губами.
Но почти тотчас его черты исказились, на лице был написан смертельный ужас.
— Монах! Монах! — прохрипел он и повалился на подушки.
LXXIX ЧЕЛОВЕК С НАКЛАДНЫМ НОСОМ
Мы досказали все истории, составляющие пролог этой книги, и, за исключением Петруса, Лидии и Регины, читатель теперь знаком почти со всеми персонажами, призванными сыграть главные роли в нашей драме.
Различные истории, только что нами рассказанные, могли поначалу показаться разрозненными, однако они наконец собраны в единое целое. Нити, на первый взгляд расходившиеся в разные стороны и не связанные между собой, мало-помалу, следуя за развитием сюжета, сплелись под нашей рукой в полотно, напитанное слезами, а порой и обагренное кровью; это полотно — канва, то светлая, то мрачная, которой мы постарались придать значительные размеры: того требует та серьезная задача, что мы перед собой поставили, взявшись описать все слои французского общества в период Реставрации — от сияющих высот до мрачных глубин.
Пусть читатель наберется мужества и отважно следует за нами в неведомую страну, куда мы отваживаемся вступить; пусть никого не пугают невидимые дали — несмотря на крутые повороты или неровности пути, мы придем к цели.
Мы надеемся, что, когда станет ясной мораль этого произведения, читатели перестанут замечать трудности дороги: цель будет оправдывать средства.
Каждый из наших персонажей — и в этом читатели могут быть совершенно уверены — не просто плод воображения, условное лицо, созданное по нашей прихоти лишь для того, чтобы каким-нибудь более или менее ловким способом заставить публику смеяться или плакать. Нет! Каждый герой, написанный с натуры, представляет собой идею, является воплощением добродетели или порока, слабости или страсти. И эти пороки, эти добродетели, эти страсти и слабости будут воспроизводить общество в целом, точно так же как каждый из наших героев в отдельности представляет собой одного из членов этого общества.
В театральной пьесе, как, впрочем, и в романе, существуют два способа изображения людей и событий, два противоположных метода, ведущие к одной цели: один называется синтезом, другой — анализом. С помощью синтеза автор подводит зрителя или читателя к выводу, двигаясь от частностей к общему; при анализе автор отталкивается от общего и постепенно подходит к частностям.
Повторяем, цель при этом одна, но при синтезе движение происходит по восходящей, а при анализе — сверху вниз. Анализ расчленяет понятие или событие — синтез его восстанавливает; анализ низводит целое до отдельных частей — синтез собирает отдельные части в единое целое.
Да позволено нам будет по необходимости или даже по собственной прихоти — раз уж у нас есть выбор — прибегать то к одному, то к другому способу изображения.
После того как Корнель написал тридцать трагедий, он в предисловии к "Никомеду" попросил позволения ввести в тридцать первую хотя бы немного комического. Написав для наших читателей то ли семьсот, то ли восемьсот томов, мы решили поступить как автор "Сида": просим у читателей позволения написать несколько книг для нашего собственного удовольствия.
После этой оговорки давайте вновь вернемся к нашему повествованию.
Мы оставили Людовика и Петруса в ту минуту, как они расстались на пороге кабачка: Людовик поехал провожать Шант-Лила (и мы с вами видели последствия появления молодого врача в Ба-Мёдоне), а Петрус поспешил на условленный сеанс.
Давайте теперь займемся Петрусом, ведь мы сказали о нем всего несколько слов, на мгновение представив его читателям в начале нашей драмы.
Хорошо бы читателю, прежде чем мы перейдем к новой части этой книги, которая будет иметь к Петрусу самое непосредственное отношение, познакомиться с ним поближе.
Это был очень красивый молодой человек, обладавший врожденным изяществом и утонченностью, которым могли бы позавидовать самые изящные и утонченные из модных молодых людей. Но он, так сказать, стыдился собственных аристократических манер, доставшихся ему по воле случая. Он испытывал отвращение к пустому самомнению представителей "золотой молодежи", так непохожих на молодых людей, умевших обходиться без посторонней помощи и всем в жизни обязанных себе. Петрус глубоко презирал этих молодых бездельников, испытывал к ним непреодолимое отвращение, не хотел иметь с ними ничего общего и потому изо всех сил старался скрыть собственное изящество и утонченность.
Под маской напускной небрежности он прятал истинное свое лицо, приписывал себе недостатки, которых у него не было, лишь бы никто не разглядел достоинств, которыми он обладал. Как сказал ему Жан Робер в последний день масленицы, Петрус хотел казаться скептиком, повесой, пресыщенным человеком, лишь бы никто не заметил, как он добр и простодушен.
На самом деле этот двадцатипятилетний молодой человек был честен, скромен, впечатлителен, восторжен — короче говоря, истинный художник.
Однако именно ему пришла мысль устроить все это представление с переодеванием и поужинать в сомнительном заведении.
Как ему могла явиться такая идея?
Если вам угодно поближе познакомиться с характером Петруса, позвольте нам о нем рассказать.
Утром все того же последнего дня масленицы, после прогулки по городу, Петрус вернулся домой очень озабоченным.
В чем была причина?
Это станет ясно чуть позже; пока мы можем только сказать, что Петрус возвратился с озабоченным видом. Увы, всем случается переживать подобное состояние, даже лучшим из лучших; бывают дни, которые ни на что не годятся. Для Петруса как раз начался один из несчастливых дней.
Жан Робер предложил молодому художнику прочитать акт из свой новой трагедии, но Петрус послал Жана Робера ко всем чертям. Людовик хотел было дать ему слабительное, однако художник послал Людовика еще дальше.
Это беззаботное сердце было очень взволновано, этот прелестный ум что-то тяготило; двое друзей не могли понять, в чем дело.
В ответ на все их расспросы о том, что его опечалило, Петрус пристально на них посмотрел и сказал:
— Опечалило? Да вы с ума сошли!
Такой ответ обеспокоил Людовика и Жана Робера.
Они продолжали настаивать, но тщетно.
Всякий раз как они возвращались к этому разговору, Петрус замыкался, уходил в самые дальние уголки своей мастерской, словно стараясь избежать всякого общения с ними.
В одну из таких минут, доведенный до крайности, он объявил друзьям, что, если они не перестанут его донимать, он распахнет окно, выпрыгнет с третьего этажа и посмотрит, станут ли они и тогда его преследовать.
Людовик протянул было руку, на сей раз не для того, чтобы дать ему слабительное, а собираясь пустить кровь — ему показалось, что у друга началось воспаление мозга; в ответ на это Петрус распахнул окно и поклялся, что, если друзья сделают еще хоть один шаг, он приведет свою угрозу в исполнение.
Потом, как истинный бретонец из Сен-Мало, с детства привыкший бегать по корабельным реям, карабкаться по стеньгам, он подался всем корпусом вперед, незаметно ухватившись за балконную перекладину.
Друзьям почудилось, что он в самом деле бросился вниз, и они закричали от ужаса.
Но в ответ раздался гомерический хохот; зная, в каком расположении духа находится Петрус, друзья отреагировали на этот смех по-разному: Жан Робер встревожился, Людовик оторопел.
— Да что такое? — в один голос воскликнули молодые люди.
— А то, — отозвался Петрус, — что я вижу перед собой прекрасную модель для карикатуры Шарле или лучший персонаж для Поля де Кока, какие когда-либо доводилось наблюдать человеку в течение счастливых и безумных суток, называемых последним днем масленицы!
— Ну-ка, посмотрим! — проговорили двое друзей, подходя к окну.
— Посмотрите, посмотрите, я не жадный! — пошутил Петрус.
Людовик и Жан Робер высунулись из окна.
Хотя мастерская Петруса находилась, как мы уже сказали, на Западной улице, окнами она выходила на площадь Обсерватории. Эта самая площадь и служила сценой для героя, достойного, по выражению Петруса, карандаша Шарле или пера Поля де Кока. Один вид этого человека неожиданно развеселил молодого художника.
Героем такого романа или моделью для такой карикатуры был человек во всем черном, скорее маленький, чем высокий, скорее толстый, нежели худой. Незнакомец в печальном одиночестве прогуливался с тростью в руке по аллее Обсерватории.
Со спины толстый коротышка не представлял собой ничего особенно комичного.
— Что, черт возьми, смешного ты нашел в этом господине? — спросил Жан Робер у Петруса.
— Мне кажется, он такой же как все, — прибавил Людовик, — пожалуй, у него чуть подергивается правая нога — и только.
— Этот человек отнюдь не такой как все! Тут вы ошибаетесь! — возразил Петрус. — И вот вам доказательство: я бы хотел быть таким, как он.
— В чем же ты ему завидуешь? — спросил Жан Робер. — Если мы можем тебе предложить то, что у него есть, и если это продается, я сейчас же побегу к нему и куплю это для тебя!
— Что у него есть особенного, спрашиваешь? Скажу... Прежде всего, он один, у него нет двух друзей, которые ему докучали бы, как вы надоедаете мне. А это уже кое-что! Кроме того, я скучаю, а он развлекается.
— Как развлекается? — спросил Людовик. — Он весел как утопленник!
— Этот человек развлекается? — переспросил в свою очередь Жан Робер.
— До колик!
— Честное слово, что-то я, во всяком случае, этого не замечаю, — возразил Людовик.
— А я вам говорю, что про себя этот человек хохочет во все горло, и я вам сейчас докажу, что я прав... Хотите?
— Да! — выпалили оба друга.
— Хорошо. Приготовьтесь ко всему, — предупредил Петрус.
Сложив ладони рупором, он крикнул:
— Эй, сударь! Вы, вы... тот, что гуляет внизу!.. Сударь!
Господин был на улице один, он понял, что обращение может относиться только к нему, и обернулся.
Все три наших героя не могли удержаться от такого же хохота, который сотрясал Петруса за несколько минут до этого.
Гуляющий посмотрел на них с важным видом; ему можно было дать от сорока до пятидесяти лет; на лице у него было что-то вроде маски: накладной картонный нос в три-четыре дюйма длиной.
— Чем могу служить, сударь? — спросил незнакомец замогильным голосом.
— Ничем, сударь, — отвечал Петрус, — абсолютно ничем! Мы уже увидели то, что хотели увидеть.
Он обернулся к друзьям и спросил:
— Что вы на это скажете?
— Готов признать, — ответил Жан Робер, — что этот господин со спины выглядит вполне степенным, а спереди на него невозможно смотреть без смеха.
— Я предложу Академии наук, — подхватил Людовик, — учредить премию за самый точный диагноз заболевания, которым страдает человек, гуляющий в черных панталонах, черном рединготе, круглой шляпе и с накладным носом.
— И тебе будет причитаться приз, премия, поощрение за это открытие? — презрительно бросил Петрус.
— Слушай внимательно! — воскликнул Жан Робер, обращаясь к Людовику. — Петрус сегодня не прочь поиграть в отгадки: он сам тебе сейчас скажет, что это такое.
— Ручаюсь, что он этого не сделает! — воскликнул Людовик.
— Возможно, Петрус видит в этом человеке нечто большее, чем накладной нос.
— А если бы у него были накладные волосы, куда бы это привело нашего Петруса?
— Туда же, куда Христофора Колумба привело увлечение парусниками, а Ньютона — упавшее яблоко. Или, например, куда привела Франклина молния, угодившая в воздушного змея! К открытию истины! — проговорил Петрус с напускным воодушевлением (эта манера речи, придававшая комический оттенок любому разговору, была характерна для того времени).
— Послушай, — сказал Жан Робер, — какой-то философ сказал, что любой человек, который открыл что-то новое и хранит это в тайне от всех, — плохой гражданин. Так о какой истине ты собирался нам поведать, Пет-рус?
Художник находился в состоянии нервного возбуждения, а в такие минуты выговориться — значит почувствовать облегчение; Петрус не заставил себя упрашивать и взял слово.
— Несчастные вы слепцы! — воскликнул он. — Под накладным носом этого человека — вся его жизнь.
— Давай, давай, Петрус! — ободрил его Людовик.
— Ладно! Я расскажу вам историю этого человека.
— Тише! — сказал Жан Робер.
— У этого господина есть жена, которую он не выносит, и его образ жизни так же для него нестерпим, как жена. Он слышал от соседей, что его дети — не от него; привратник провожает его издевательской ухмылкой, а встречает печальной улыбкой; у него один-единственный друг, и это именно тот, в ком все видят его врага! Эта клевета имеет под собой основание, или, если хотите, это не клевета. Он это знает, у него есть тому бесспорные доказательства. Но он продолжает дружески пожимать руку своему другу — или недругу, как вам будет угодно. Каждый вечер он играет с ним в домино; раз в неделю он приглашает его на ужин; он доверяет ему сопровождать жену на премьеры. Он называет его "дружище", "дорогой мой", "старик"! Наконец, он употребляет самые нежные эпитеты, чтобы доказать ему свою дружбу, но в душе он его ненавидит, презирает, проклинает! Он бы с удовольствием съел его сердце, как Габриель де Вержи съела сердце своего любовника Рауля! Почему же он притворяется, почему так ласков с женой и любовником? Потому что этот господин — мудрец, Сократ и мирный буржуа, который хочет одного: спокойствия в своем доме. И он понимает, что не достиг бы желаемого, если бы раскрывал рот или не закрывал глаза.
— Ах, дорогой Петрус! Несомненно у этого человека есть свои радости, — заметил Жан Робер, еще больше разжигая лихорадочное красноречие друга, — среди этой Сахары, зовущейся браком, он уж наверное отыскал какой-нибудь оазис, какой-нибудь прохладный источник, куда приходит в условленные часы, где освежается тайком, и это придает ему сил перед тем, как он снова пускается в путь по обжигающему песку семейной пустыни.
— Ну да, разумеется! — подхватил Петрус. — Человек не бывает совершенно счастлив или совершенно несчастлив: и в беспросветные будни нет-нет да и просочится веселый лучик, как в порывах ветра у Рейсдала или в бурях у Жозефа Верне. Да, подобно другим людям, этот смертный знает и тихое внутреннее блаженство, и тайные, тщательно скрываемые радости. Вы знаете, что это за радости, догадываетесь, что это за блаженство? Нет. Я открою вам этот секрет. Невыразимая радость, торжество, блаженство, которых он ждет триста шестьдесят четыре дня в году — нацепить накладной нос в последний день масленицы! Пользуясь попустительством полиции в этот день, он с вызовом проходит по улицам своего квартала и, уверенный в том, что соседи его не узнают, безнаказанно их оскорбляет. Он имеет тем большее основание так думать, с тех пор как год назад в это же время увидел в фиакре своего друга и жену, а они, увидев его, не опустили занавески. Человек, которого вы там видите, — продолжал Петрус, все больше увлекаясь своей причудливой импровизацией, — не променяет последний день масленицы и на двадцать тысяч мараведи: в этот день он король Парижа; он инкогнито гуляет по улицам своего города, и сегодня вечером, когда вернется домой, жена безуспешно будет его расспрашивать, как он провел время, — он останется глух и нем, только с состраданием посмотрит на нее, вспоминая об удовольствиях, которые пережил за несколько часов, проведенных на улице. Отнеситесь же к этому человеку с почтением! — закончил Петрус, — уважайте его и завидуйте ему: он развлекается, тогда как вы в дни всеобщего веселья выглядите... ты, Людовик как врач, только что убивший богиню Радости, а ты, Жан Робер — как факельщик, только что проводивший ее на Пер-Лашез!
— Раз ты завидуешь судьбе этого господина, — обратился Людовик к Петрусу, — почему бы тебе не нацепить такой же нос, вызывая любопытство прохожих? Расскажи обывателям своего квартала, что их обманывают жены!
— Не подстрекай меня! — вскричал Петрус.
— Напротив, буду, и изо всех сил!
— Не вызывай глупца на безумства, — вмешался Жан Робер.
— Безумие считается матерью Мудрости, — наставительно произнес Петрус, — и, следовательно, если в молодости ты был дураком, то к старости поумнеешь, а юные мудрецы в старости сходят с ума. Это и грозит вам обоим, — продолжал он. — Можете не сомневаться, что вы, сами того не зная, прямой дорогой идете к разврату; ваша ранняя мудрость приведет вас прямехонько к распутству. Наши отцы такими не были: в молодости они были молодыми, в зрелом возрасте — мужали; они не относились к праздникам с пренебрежением и особо чтили последний день масленицы, который был для них днем всеобщего веселья; вы же состарились в двадцать пять лет, изображая из себя Манфредов и Вертеров, презираете простые радости наших предков и не рискнете пройтись по парижским улицам во время карнавала, наоборот: вы убежите прочь! Вы запираетесь от всех и, что хуже всего, запираетесь в моем доме, а я ведь, черт побери, еще глупее, еще скучнее, еще угрюмее вас!
— Браво, Петрус! — воскликнул Людовик. — Могу поклясться, ты обратил меня в свою веру, и в доказательство я бросаю тебе еще один вызов.
— Пожалуйста!
— Давайте все втроем переоденемся в пройдох и в этих элегантных костюмах пройдемся по злачным местам Парижа.
— Принято! — отвечал Петрус. — Мне нужно развлечься. Ты идешь, Жан Робер?
— Не могу! — сказал тот. — Я обедаю на улице Сент-Аполлин и остаюсь на семейный вечер. Не посягайте на мою свободу!
— Хорошо, но при одном условии.
— Каком? — спросил Жан Робер.
— Имей в виду, когда я назову его, выбирать или отнекиваться будет поздно, — предупредил Людовик.
— Даю слово, это будет как в фантах: что мне прикажут, то я и сделаю.
— Так вот, мне ужасно любопытно, ошибся ли Петрус, когда говорил о человеке с накладным носом, — сказал Людовик. — Ты пойдешь к этому человеку и спросишь: "Как вас зовут? Кто вы и что ищете?" Мы будем ждать тебя здесь.
— Договорились! — сказал Жан Робер.
Молодой человек взял шляпу и вышел.
Спустя десять минут он вернулся.
— Клянусь, господа, я просчитался!
— Он тебе не ответил, лицемер ты этакий?
— Напротив.
— Что он сказал?
— Что его зовут Жибасье, он сбежал с тулонской каторги и ищет господина, который должен передать ему в задаток тысячу экю "за одно дельце", намеченное на завтрашнюю ночь.
Трое друзей расхохотались.
— Сам видишь, — сказал Людовик Петрусу, — что это далеко не твой буржуа.
— Почему же?
— У буржуа ума не хватило бы такое придумать.
И трое молодых людей спустились вниз, расхваливая остроумие человека с накладным носом.
Читатели уже видели в первой главе этой истории, чем закончился вызов, брошенный Людовиком Петрусу.
LXXX ВАН ДЕЙК С ЗАПАДНОЙ УЛИЦЫ
Теперь, после того как мы дали читателям представление о характере Петруса, описали его пребывание в кабаке, а также показали его в раздраженном состоянии, давайте посмотрим, что он собой представляет вне сего злачного места и каким он может быть, когда у него хорошее настроение.
Мы сказали, что это был красивый молодой человек. Очевидно, необходимо пояснить, что мы подразумеваем под словом "красивый", ибо мнения на сей счет обычно расходятся.
Мы, мужчины, плохие судьи в этом вопросе. Доверимся мнению женщин.
Для одних красота мужчины заключается единственно в физическом здоровье и свежести, то есть в ширине плеч, а черты и выражение лица значения не имеют; таким женщинам все равно, кого любить: кирасира, лошадиного барышника или охотника — лишь бы он был воплощением физической силы.
Для других женщин красота мужчины определяется матовой кожей, нежностью лица, правильностью черт, томностью взгляда, худобой — короче говоря, чем женственней и слабей, тем лучше.
Для нас красота — если вообще понятие красоты применимо к мужчине — заключается в его глазах, волосах и губах.
Любой мужчина хорош собой, если у него сияющие глаза, красивые волосы, твердо очерченные улыбающиеся губы и прекрасные зубы.
Нам кажется, что красота мужчины заключена прежде всего в выражении лица.
Мы полагаем, что только эти характеристики, по нашему мнению, абсолютные для мужчины, позволили нам назвать Петруса красивым молодым человеком.
Если же читатель хочет иметь самое полное представление о том, кого мы хотим ему показать, пусть вспомнит прекрасный автопортрет Ван Дейка, а если кто-нибудь его забыл, можно обратиться за гравюрой с этой картины к любому торговцу на набережных Сены или на бульварах.
Однажды Жан Робер проходил по набережной Малаке, увидел в витрине эту гравюру и был так поражен сходством ученика Рубенса с Петрусом, что тут же вошел в лавку, дабы купить не гравюру Ван Дейка, но портрет своего друга.
Он повесил его в мастерской Петруса, и сходство автора "Карла I" с молодым человеком так стало всем бросаться в глаза, что из десяти буржуа, заходивших заказать свой портрет маслом, а портрет жены или дочери — пастелью, девять не хотели верить Петрусу, когда он говорил, что гравюра выполнена не с него, а с автопортрета художника, умершего сто восемьдесят лет назад.
Тот же овал лица, тот же цвет кожи (как на портрете, разумеется), та же шапка кудрявых волос надо лбом! Такие же глубоко запавшие глаза, те же подкрученные кверху усы и эспаньолка гордо оттеняли тот же рот и тот же подбородок. В общем, Петрус был живым воплощением Ван Дейка — мужественным и гордым, умным и добрым.
Если бы в его мастерскую вошел кто-нибудь, побывавший в Генуе, он невольно вспомнил бы о великолепных полотнах Палаццо Россо и стал бы искать глазами восхитительную маркизу Бриньоле, которую на каждом шагу встречаешь в этом роскошном дворце; ее портреты выполнены и подписаны фламандским мастером.
Глядя, как Петрус в рубашке с отложным воротником, в бархатном камзоле, подхваченном в талии шелковым витым поясом, сидит в глубине мастерской, в задумчивости подкручивая рыжеватый ус изящной, белой, как у священника или женщины, рукой, невольно станешь искать глазами идеальную подругу этого красивого молодого человека. Его сходство с антверпенским художником было столь велико, что рядом с ним представлялась подруга под стать прекрасной маркизе де Бриньоле, которую обессмертила нежная кисть Ван Дейка.
Да, по правде сказать, никакая другая женщина и не подошла бы ему; было очевидно, что душа его не могла, расправив крылья, полететь ни к гризетке, ни к мещанке; с первого взгляда становилось ясно, что лишь девушка из семьи потомственных рыцарей могла сказать этому гордому красавцу: "Склонись предо мной — я твоя королева!"
Оказывается, так оно и было — именно девушка из семьи потомственных рыцарей смутила покой Петруса.
Расскажем в нескольких словах, как это случилось.
Однажды на пустынной улице, носящей название Западной, где была расположена мастерская Петруса, молодой художник, возвращаясь домой, увидел, что у его дверей останавливается карета с гербами. Экипаж обогнал Петруса, но он успел разглядеть огромный серебряный герб: голова святого Мавра в натуральную величину, увенчанная княжеской короной с девизом: "Adsit fortiori" ("Пусть явится тот, кто доблестнее!").
Карета, как мы сказали, остановилась у дома Петруса. Лакей в расшитой серебром голубой ливрее спрыгнул с козел и распахнул дверцу. Из кареты вышла очаровательная молодая женщина, по осанке и манере держаться — аристократка.
За молодой женщиной, или, вернее, девушкой девятнадцати-двадцати лет, показалась дама лет шестидесяти. Она вышла, опираясь на руку лакея.
Девушка поискала глазами номер дома, у которого остановился экипаж, но так его и не увидела. Она обернулась к кучеру и спросила:
— Вы уверены, что это дом номер девяносто два?
— Да, принцесса, — отвечал тот.
В доме номер девяносто два жил Петрус.
Молодой человек увидел, как дамы вошли в дом. Он перешел улицу и уже собирался последовать за ними, как услышал голос девушки.
— Здесь живет господин Петрус Эрбель, не так ли? — спрашивала она у консьержки.
Эрбель — это была фамилия Петруса.
Консьержка смотрела как зачарованная на двух дам, закутанных в дорогие меха. Наконец она почтительно проговорила:
— Да, сударыня, но его нет дома.
— В котором часу его можно застать? — продолжала расспрашивать девушка.
— Утром до двенадцати или до часу, — отозвалась консьержка, — а впрочем, вот он! — прибавила она, заметив молодого человека: он подошел к дамам сзади и его голова показалась из-за их голов.
Они разом обернулись, Петрус поспешно обнажил голову и почтительно поклонился.
— Вы господин Петрус Эрбель, художник? — довольно бесцеремонным тоном спросила старая дама.
— Да, сударыня, — холодно молвил Петрус.
— Мы хотим заказать портрет, сударь, — продолжала она в том же тоне. — Вы возьметесь его написать?
— Это моя профессия, сударыня, — ответил Петрус очень вежливо, но еще более холодно, чем в первый раз.
— Когда вы хотели бы начать?.. Долго вы будете работать? Вам нужно много сеансов? Отвечайте поскорее: мы замерзли!
Девушка, не вымолвившая до тех пор ни слова, отметила про себя и бесцеремонность своей спутницы, и то, с какой уважительностью и терпением разговаривал Петрус. Она подошла к нему и заговорила:
— Это вы, сударь, написали портрет, значившийся на последней выставке под номером триста девять?
— Да, мадемуазель, — отвечал Петрус, взволнованный красотой девушки и нежностью ее голоса.
— Простите за назойливость, сударь, но это ваш автопортрет, не так ли? — продолжала девушка.
— Да, мадемуазель, — подтвердил Петрус и покраснел.
— Я хотела бы заказать вам свой портрет в той же манере: ваша работа выполнена в восхитительных тонах. У меня уже есть восемь или десять моих портретов, заказанных матушкой или тетей, но ни один мне не нравится. Не хотите ли и вы, — прибавила она с улыбкой, — попытаться удовлетворить вкусы капризной особы с тяжелым характером?
— Я постараюсь, мадемуазель, и это будет для меня большой честью.
— Честью? — перебила его старая дама. — А почему, собственно говоря?
— Потому что только знаменитому художнику, — с поклоном отвечал Петрус, — может быть заказан портрет юной особы такой красоты и такого знатного происхождения, как мадемуазель де Ламот-Удан.
— О, вы нас знаете, сударь? — проворчала старая дама.
— Я, во всяком случае, знаю, как зовут мадемуазель, — отвечал Петрус.
— Я вам уже сказала, сударь, что я капризна, что у меня тяжелый характер. Я забыла еще сказать, что любопытна.
Петрус поклонился, готовый удовлетворить любопытство прекрасной посетительницы.
— Откуда вам известно мое имя? — продолжала девушка.
— Я прочел его на стенках вашей кареты, — улыбнулся Петрус.
— А, фамильный герб! Так вы разбираетесь в гербах?
— Разве я не имею с ними дело каждый день? Исторический живописец не может не знать, что со времени взятия Константинополя до взятия Бергеноп-Зома герб Ламот-Уданов побывал на всех полях битвы, так и не встретив равного в доблести!
Петрус, словно король, выдал свидетельство о храбрости и знатности. Он говорил подчеркнуто почтительно, но это прозвучало так неожиданно, что лицо наследницы Ламот-Уданов залилось краской.
Тщеславию старой дамы тоже польстили слова Петруса, и она бросила на художника благосклонный взгляд.
— Ну что ж, сударь, — проговорила она милостиво, чего никак нельзя было ожидать от чванливой старухи, — раз вы знаете, как зовут мою племянницу, остается условиться о времени и оставить наш адрес.
— Я в любое время к вашим услугам, сударыня, — отвечал молодой человек с почтительностью, продиктованной тем, что старая дама сменила тон, — что же касается адреса принцессы де Ламот-Удан, кто же не знает, что ее особняк находится на улице Плюме против особняка Монморенов, рядом с домом графа Абриаля?
— Хорошо, сударь, завтра в полдень, если угодно, — опять заливаясь краской, предложила девушка.
— Завтра в полдень я к вашим услугам, — отвесив низкий поклон обеим дамам, сказал Петрус.
Дамы сели в карету, а художник поднялся к себе в мастерскую.
Мы уже говорили, что Петрус был честен. Однако в разговоре с мадемуазель де Ламот-Удан он позволил себе солгать, да еще как!
Петрус уверял, что все знают адрес Ламот-Уданов, но двумя месяцами раньше он и сам его не знал: ему помог случай.
Если не считать жителей предместий Сен-Жак и Сен-Жермен, немногие парижане знают ту часть Внешних бульваров, что проходят от заставы Гренель до заставы Гар, охватывая с юга весь левый берег так же, как от заставы Гар до заставы Гренель, то есть с севера, эту часть Парижа опоясывает Сена. Эти бульвары протяженностью в четырнадцать-пятнадцать километров обсажены четырьмя рядами деревьев, образующими две боковые аллеи. Зеленая трава устилает бульвар от края до края, и для того, кто пожелал бы погулять в одиночестве или помечтать вдвоем в тенистых аллеях парка, лучшего места, чем Южный бульвар, не найти.
Есть женщины, которые никогда не показываются в общественных местах во время спектаклей, концертов, прогулок и доходят в своем стремлении к уединению до затворничества, выходя лишь в церковь; некоторые из таких дам, совершенно успокоенные безгодностью этой тенистой Фиваиды, в те годы приезжали сюда летними вечерами покататься в коляске и какой-нибудь прилежный юноша, зубривший учебник под высокими кронами, провожал зачарованным взглядом улыбающихся красавиц Сен-Жерменского предместья, проносившихся по дорожкам, словно призраки знатных дам былых веков.
Самая красивая, веселая, счастливая среди этих молодых женщин проезжала здесь летом в открытой коляске, зимой — в закрытой; мы уже встречали ее в этой книге дважды: сначала у изголовья Кармелиты, в другой раз — совсем недавно, в доме Петруса; очаровательную женщину звали мадемуазель Регина де Ламот-Удан. Это была дочь маршала Бернара де Ламот-Удана.
Впервые Петрус увидел ее примерно за полгода до описываемых нами событий; произошло это чудесным летним вечером.
Молодой художник был один на главной аллее бульвара, обсаженной четырьмя рядами деревьев, и смотрел вдаль, в сторону Дома инвалидов, любуясь закатом. Вдруг в конце аллеи он увидел в облаке золотой пыли двух всадников. Лошади скакали наперегонки и напоминали двух коней, вырвавшихся из солнечной колесницы.
Петрус отошел в сторону, давая всадникам дорогу. Как ни стремительно они пронеслись мимо, он успел разглядеть их лица. Мы сказали "два всадника"; нам следовало бы написать: "всадник и амазонка".
Амазонкой оказалась высокая девушка; она была сложена, как Диана-охотница; на ней был серый фуляровый костюм для верховой езды и серая шляпа с зеленой вуалью; в ее посадке, манерах, лице было нечто от очаровательной Дианы Вернон, лишь недавно созданной фантазией Вальтера Скотта и представленной на суд восхищенных читателей. В то же время она напоминала прелестную Эдме, чей призрак г-жа Санд, быть может, уже видела проплывающим в туманной дымке над Корлейской долиной.
Девушка гордо сидела на взмыленном вороном коне; она твердо и умело управляла им, обуздывая все его капризы, что свидетельствовало о большом опыте такого рода;
несмотря на быстрый бег коня, она поддерживала с сопровождавшим ее всадником разговор: ловкая наездница к тому же еще обладала хладнокровием.
Ее сопровождал старик лет шестидесяти — шестидесяти пяти, красивый и осанистый, одетый в зеленый жакет, белые панталоны и французские сапожки; на нем была большая черная фетровая шляпа, из-под которой виднелись белые, словно напудренные, волосы, подстриженные как это было принято во времена Директории. Можно было не смотреть на розетку из разноцветных орденских ленточек в петлице всадника: было и так ясно, к какому классу общества он принадлежит. Густые брови, жесткие усы, кончики которых свисали ниже подбородка, немного резкое выражение лица — все выдавало в этом человеке привычку повелевать, и с первого же взгляда было видно, что это один из прославленных военных той эпохи.
Петрусу промелькнувшие старик и девушка показались видением; если бы полчаса спустя они не вернулись и не проскакали снова мимо него, Петрус решил бы, что ему привиделась средневековая красавица в сопровождении отца или старого паладина.
Петрус возвратился домой и хотел было приняться за работу; но работа — ревнивая любовница: она немедленно убегает, если вы подходите к ней с лицом, пылающим от поцелуев соперницы.
На сей раз соперницей была встреча, видение, сон.
Он взялся было за палитру, встал перед мольбертом и попытался провести кистью по полотну, однако тень амазонки парила над ним, отводила его руку, ласково касалась лица.
После часовой борьбы с прекрасным призраком он все-таки начал работать.
Не думайте, что он вышел победителем: он оказался побежденным!
На полотне был набросок: смертельно раненный крестоносец лежит на песке, его перевязывает юная аравитянка; чернокожие рабы, удивленные тем, что она не прикончила собаку-неверного, а помогает ему, поддерживают голову умирающего; юная девушка на заднем плане собирается зачерпнуть рыцарским шлемом воды из источника, осененного тремя пальмами.
Когда Петрус вернулся с прогулки, этот набросок показался ему точной аллегорией его собственной жизни. В самом деле, разве не был он рыцарем, раненным в неравном бою с жизнью, в которой всякий художник — крестоносец, предпринимающий долгое и опасное паломничество к Иерусалиму искусства? И разве не была встреченная им амазонка доброй феей по имени Надежда — той, что всякий раз, как начатый труд оказывается человеку не по силам, выходит из своего водяного грота и, подобно Венере-Афродите, по капле роняет с мокрых волос росу, освежающую путника?
Прекрасный символ, родившийся в воображении Петруса, так его поразил, что художник решил воплотить его в материальную эмблему своей жизни. Взяв в руки скребок, он в одну минуту убрал головы аравитянки и рыцаря, потом придал крестоносцу собственные черты, а девушку сделал похожей на амазонку.
Вот в каком душевном состоянии он принялся за работу, и это сейчас дало нам основание утверждать, что он оказался не победителем, а побежденным.
С тех пор он четыре месяца не видел девушку, вернее было бы сказать — не пытался увидеть. Но случай, столкнувший их в первый раз, снова свел их однажды в январе 1827 года; это произошло на пустынном бульваре солнечным ослепительно снежным утром, когда благородная красавица выехала на прогулку в крытой коляске.
Теперь она была в черном, ее сопровождала пожилая дама, дремавшая на заднем сидении.
Дамы катались по бульвару Инвалидов, потом экипаж выезжал на аллею Обсерватории и поворачивал обратно.
Но вот коляска в последний раз проехала по бульвару и исчезла, свернув на улицу Плюме.
Петрус понял, что именно там живет его красавица.
Однажды утром он закутался до глаз в широкий плащ, отправился на улицу Плюме и притаился возле одного из домов, поджидая возвращения знакомой кареты.
Около часу пополудни экипаж подъехал к особняку, расположение которого Петрус с такой точностью описал в предыдущей главе.
Итак, наш Ван Дейк, как видят читатели, солгал, когда сказал, что любой знает адрес Ламот-Уданов, потому что еще недавно сам его не знал.
Не нужно говорить, как обрадовал молодого человека визит его феи, которая до того времени представала перед ним исключительно в воображении. Вполне вероятно, что, если бы сопровождавшая девушку пожилая дама была глухой и слепой, Петрус поднялся бы к себе и принес юной принцессе не только портрет, который она ему заказывала, но двадцать других портретов: вот уже полгода молодой человек, вопреки воле, придавал всем женщинам на своих картинах прелестные, хотя и несколько надменные черты Регины.
LXXXI СТАРАЯ, НО ВЕЧНО НОВАЯ ИСТОРИЯ
Вернувшись в мастерскую, Петрус сначала с радостью, потом с разочарованием стал рассматривать картины, на которых по памяти изображал дочь маршала Ламот-Удана.
Через десять минут все портреты стали казаться ему настолько хуже оригинала, что он уже готов был устроить аутодафе. К счастью, приход Жана Робера отвлек его от этой мысли.
Жан Робер был наблюдателен и сразу заметил, что в жизнь его друга вошло нечто новое и необыкновенное. Но Жан Робер был чрезвычайно скромен. Он попробовал было начать расспросы, однако, увидев, что друг не расположен говорить, сразу отступил.
Молодые люди (по крайней мере, порядочные) редко обсуждают своих возлюбленных, увлечения, даже мимолетные связи с женщинами; любое благородное сердце предпочтет хранить все это в тайне и нехотя пускает в свое святилище даже лучшего друга.
Жан Робер, побыв в мастерской ровно столько, сколько требовали правила хорошего тона, под благовидным предлогом удалился, чтобы не мешать Петрусу в одиночестве наслаждаться охватывающими его чувствами.
О чем думал молодой художник? Этого Жан Робер не знал. Да ему и не нужно было знать: улыбка, затуманенный взор, рассеянное молчание — все говорило Жану Роберу о том, что друг влюбился.
Оставшись один, Петрус провел один из тех восхитительных дней, о которых на закате жизни человек вспоминает с животворной радостью, снова ощущая себя молодым.
С этого дня мечта, взлелеянная всяким художником или молодым человеком, мало-мальски выделяющимся из серой массы, мечта в образе женщины, чело которой венчает тройная корона — красоты, величия и молодости, — для Петруса осуществилась.
Все гордые принцессы, являвшиеся к нему во сне, обрели плоть и соединились в одной женщине! Он закрывал глаза и видел, как она выходит из кареты в облаке кружев, бархата и мехов.
Вечером он сел за фортепьяно: как все художники, Петрус обожал музыку. Он не смог бы выразить на полотне обманчивую игру настроений, и только чарующие звуки музыки, рождающиеся на небесах, могли ответить на страстные призывы молодого человека.
Лишь поздно ночью он решился лечь и уснул. Нет, мы ошибаемся, говоря "уснул"; он бодрствовал с закрытыми глазами до самого рассвета, именно бодрствовал, ибо в его ушах и сердце неотступно звучал неведомый голос, шепчущий: "Регина".
Петрус вышел из дому около девяти часов; хотя сеанс был назначен на двенадцать, он не мог усидеть на месте и три часа, отделявшие его от долгожданной встречи, гулял неподалеку от особняка маршала.
Особняк Ламот-Уданов, расположенный, как мы уже говорили, на улице Плюме (ныне улица Удино), представлял собой огромное здание, возвышавшееся между двором и садом. В глубине сада, словно в оазисе за тысячу льё от Парижа, был еще изящный павильон, состоявший из столовой, гостиной и будуара. Павильон был заключен в огромную оранжерею, отделявшую это изящное дополнительное помещение от дома целой стеной цветов.
Стены оранжереи — за исключением основания конструкции — были стеклянными; сквозь стекла глядели, как в ботанических садах Парижа или Брюсселя, как в оранжереях знаменитого садовода Ван Гутта, тысячи экзотических растений; их листья, широкие или продолговатые и узкие, но все незнакомые Северу или Западу, сообщали этому уголку самый живописный тропический вид.
Павильон, со всех сторон окруженный деревьями, был виден только с южной стороны; в просвете между высокими каштанами и густыми липами можно было разглядеть решетку изгороди.
В будуаре павильона, этого сада под стеклянным небом, который напоминал и оранжерею, и картинную галерею (ведь там были собраны не только редчайшие растения, но и прекраснейшие произведения искусства), Регина ожидала Петруса, но не с нетерпением, какое испытывал влюбленный художник, а с некоторым любопытством.
Как истинная аристократка, она умела с первого взгляда оценить превосходство человека, в чем бы оно ни проявлялось. Сама наделенная превосходством над сверстницами, она с первых слов увидела в Петрусе необыкновенную личность.
Молодой человек пришел в назначенный час минута в минуту; он на все встречи приходил с безукоризненной точностью, которую Людовик XIV называл "вежливостью королей".
Вступая на этот цветущий островок Индийского архипелага, Петрус затрепетал от удовольствия и восхищения.
С порога в самом деле взгляду открывалось восхитительное зрелище, особенно для художника; даже во сне человеку с богатейшим воображением не могло привидеться то, что в этом райском уголке предстало перед Петрусом.
Ему казалось, что искусство и природа, слившись воедино, достигли вершины совершенства.
Здесь были собраны все жемчужины искусства, все богатства земли. Под огромными южноамериканскими папоротниками пара возлюбленных из розового мрамора обменивалась целомудренным поцелуем, как Амур и Психея Кановы; в равеналовых и пальмовых рощицах прятались наяды с развевающимися волосами, изваянные Клодионом.
Там были двадцать терракотовых фигурок, выполненные мастерами XVII и XVIII веков, Бушардоном, Куазево, а рядом — флорентийская средневековая бронза; под розоцветными растениями из Европы, под североамериканскими магнолиями — грации Жермена Пилона, нимфы Жана Гужона, амуры Жана де Булоня (этого великого мастера переманила у нас Италия и не хочет возвращать, хотя вот уже триста лет его тень требует считать его французом!) — короче говоря, сотни шедевров из глины, камня, дерева, мрамора, бронзы, со вкусом расположенные в этом подобии девственного цветущего леса. Каждый край присылал сюда свою, местную растительную достопримечательность, от кальцеолярий и пассифлор Южной Америки, от камелий, гортензий, канн, чайных деревьев до голубых, белых, розовых лотосов, банановых и финиковых пальм из Африки; от мимоз, смоковниц, гигантских папоротников с Мадагаскара до эвкалиптов, эпакридий, мимоз из Океании — одним словом, земной шар из цветов!
Регина казалась богиней-покровительницей, всемогущей феей этого сказочного мира.
Петрус не решался войти в гостиную даже после того, как лакей о нем доложил, и Регина была вынуждена повторить приглашение.
— Входите же, сударь! — с улыбкой пригласила она.
— Прошу прощения, мадемуазель, — отозвался Петрус, — но на пороге рая простому смертному позволено постоять в нерешительности.
Регина встала и повела Петруса в комнату, превращенную на время в мастерскую. Посреди нее стоял мольберт с холстом, достаточно высоким, чтобы можно было набросать портрет во весь рост.
На складном стуле лежали краски и палитра.
Об освещении позаботилась чья-то опытная рука — Петрусу почти не пришлось поправлять шторы.
— Соблаговолите сесть где вам удобно, мадемуазель, и примите позу, которая вам самой кажется наиболее простой и подходящей, — попросил Петрус.
Регина села и приняла естественную, полную изящества позу.
Петрус выбрал угольный карандаш и с удивительной уверенностью сделал первый набросок.
Приступив к деталям и увидев, что в лице Регины нет той подвижности губ и глаз, которая оживляет любой портрет, Петрус остановился.
— Вы не станете возражать, мадемуазель, если во время сегодняшнего сеанса мы немного поговорим о чем вам будет угодно: о ботанике, географии, истории или музыке? Признаюсь, что я очень люблю цвет, но отношу себя к школе художников-идеалистов. Все, о чем я мечтаю, на что надеюсь, — это соединить выразительность Шеффера и цвет Декана. И потому нельзя, как мне представляется, написать хороший портрет с неподвижного лица. Под неподвижным я разумею лицо, не оживленное беседой. Люди, заказывающие свой портрет, почти всегда выглядят неестественно, напряженно из-за того, что они хранят молчание по собственной воле или по просьбе неопытного, неуверенного в себе художника, и потом друзья заказчика, глядя на портрет, говорят: "О, у вас здесь слишком важный вид!" или "Вы выглядите на портрете старше!". И виноват всегда бедняга-художник, тогда как следовало бы понять, что он, не зная своей модели, вместо того чтобы придать ей естественный вид, передает лишь минутное выражение ее лица.
— Вы правы, — отвечала Регина, выслушав это долгое теоретическое объяснение, которое Петрус произнес без всякой манерности, набрасывая на холсте детали будущего изображения. — Если для того, чтобы написать хороший портрет, вам достаточно видеть мое лицо, оживленное самой привычной и самой приятной для меня беседой, прошу вас, протяните руку и позвоните.
Петрус позвонил.
Лакей, который о нем докладывал, оставался невидим, но держался неподалеку, готовый явиться по первому зову. Он остановился в дверях.
— Пригласите Пчелку! — приказала Регина.
Спустя несколько минут девочка лет десяти-одиннадцати вошла или, вернее, скакнула с порога к ногам Регины.
Как всякий художник, Петрус был впечатлителен и подвержен влиянию красоты; он не удержался и воскликнул:
— Какая прелесть!
Вошедшая в комнату девочка, которой старшая сестра дала столь меткое прозвище, была прелестна: личико —
нежнее розового лепестка, вокруг головы — колечки рыжеватых волос, словно грозди золотых бутонов, а талия — тоненькая, как у пчелки, вот-вот переломится.
На лбу у нее выступали капельки пота, хотя на дворе стоял конец января.
— Ты меня звала, сестра? — спросила девочка.
— Да, где же ты была? — спросила Регина.
— В оружейной брала папу штурмом!
Петрус улыбнулся: слова "брала штурмом", сорвавшиеся с губ девочки, показались ему забавными.
— Прекрасно! Итак, отец опять фехтовал с тобой?! По правде говоря, он такой же ребенок, как и ты, Пчелка! И я не буду вас обоих любить, раз вы меня не слушаетесь.
— А папа уверяет, Регина, что ты выросла такая большая и красивая только потому, что фехтовала; я тоже хочу стать большой и красивой, как ты, поэтому и прошу его всегда: "Папа, пофектуй со мной!"
— Ну да, а ему этого и надо! Только посмотри: ты вся вспотела, запыхалась!.. Я рассержусь, Пчелка! Взгляните, сударь, взрослая одиннадцатилетняя девица проводит все время в фехтовании, словно школяр Саламанки или гейдельбергский студент!
— Это еще что! Весной я сяду на лошадь!
— Ну, тогда — совсем другое дело!
— Папа мне сказал, что в этом году он купит тебе другую лошадь, а мне отдаст Эмира.
— Еще такого недоставало! Если господин маршал так сделает, я всем расскажу, что он лишился рассудка! Вообразите, сударь, Эмир — такой норовистый конь, его все боятся!
— Кроме тебя, Регина, ведь ты заставляешь его перепрыгивать десятифутовые канавы и брать барьеры в три фута высотой.
— Это потому, что он меня знает.
— Ну и меня узнает, а если не захочет, я столько раз скажу ему, стегнув хлыстом: "Я сестра Регины, дочь маршала де Ламот-Удана", что ему придется это понять.
— Эмир, мадемуазель? — подхватил Петрус, торопясь воспользоваться оживлением Регины, чтобы набросать ее лицо. — Это горячий вороной жеребец, помесь арабского скакуна и английской лошади?
— Да, сударь, — улыбнулась Регина. — Неужели мой конь столь благороден, что тоже заслуживает герба?
— Он прибыл из такой страны, где собаки и соколы имеют свою генеалогию; почему бы ее не иметь Эмиру?
— А, это господин, которому заказан твой портрет? — вполголоса спросила Пчелка.
— Да, — так же тихо ответила Регина.
— Может быть, он и меня нарисует?
— С удовольствием, мадемуазель, — улыбнулся Пет-рус, — особенно если вы будете позировать, как сейчас!
Девочка полулежала, облокотившись на колени сестры и подперев оживленное умное личико ладошками; Регина поглаживала ее веточкой резеды по лицу.
— Слышишь, сестра? Этот господин с удовольствием напишет мой портрет.
— Да, только он поставит некоторые условия, — предупредила Регина.
— Какие условия? — спросила Пчелка.
— Вы будете вести себя хорошо и слушаться сестру, мадемуазель.
— Я на зубок знаю заповеди Божьи, а там говорится: "Почитай отца твоего и мать твою", однако там не сказано: "Почитай брата твоего и сестру твою". Я от всего сердца люблю Регину, но слушаться буду только отца.
— Ну еще бы! — заметила Регина. — Он готов исполнить любое твое желание.
— Да если бы не это, я не стала бы его слушаться, — рассмеялась девочка.
— Знаешь, Пчелка, ты хочешь выглядеть хуже, чем есть на самом деле. Садись-ка рядом со мной и расскажи нам что-нибудь.
Она повернулась к Петрусу и прибавила:
— Вообразите, сударь, когда мне грустно — а это со мной нередко случается, — Пчелка подходит ко мне и говорит: "Грустишь, Регина? Хорошо, я тебе что-нибудь расскажу". И она в самом деле развлекает меня историями, которые берет неведомо где, должно быть, в своей сумасбродной головке, но эти рассказы иногда заставляют меня смеяться до слез. Ну, Пчелка, начинай свою сказку!
— С удовольствием, сестра, — согласилась девочка, взглянув на Петруса и словно приглашая его тоже послушать.
Петрус стал слушать и в то же время не переставал работать. Он быстро заканчивал набросок, успев схватить естественное выражение лица Регины во всем его очаровании. И теперь она словно оживала на портрете.
Девочка начала свой рассказ.
Комментарии
"Парижские могикане" ("Les Mohicans de Paris") сочетают в себе жанры детектива и любовно-сентиментального романа.
Время действия романа — с февраля 1827 г. до весны 1828 г., то есть последние годы Реставрации и канун Июльской революции 1830 года.
Его заголовок перекликается с названием знаменитого романа американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789—1851) "Последний из могикан" (1826 г.), в котором с глубоким сочувствием и уважением изображены отважные, скромные и великодушные индейцы из некогда великого, а затем вымершего племени.
Продолжением "Парижских могикан" служит роман "Сальватор".
"Парижские могикане" были впервые опубликованы в виде фельетонов (отдельными частями с продолжением) с 25.05.1854 по 26.03.1856 в парижской газете "Мушкетер" ("Le Mousquetaire"), которую Дюма издавал в 1853—1857 гг. В те же годы в Брюсселе, Лейпциге и Париже были выпущены три книжных издания романа.
Перевод, выполненный для настоящего Собрания сочинений, сверен Г.Адлером по изданию Calmann-Levy, 1874.
5 Реставрация — период правления монархии Бурбонов, восстановленной с помощью иностранных армий после падения (двукратного) империи Наполеона I в 1814—1815 гг. (первая Реставрация) и в 1815-1830 гг. (вторая Реставрация). Политика режима Реставрации, стремившегося ликвидировать результаты Великой французской революции, вызывала сильное недовольство в стране. В 1830 г. этот режим был свергнут в результате новой революции — Июльской.
Вавилон — в древности крупнейший город Месопотамии, к юго-западу от нынешнего Багдада, столица Вавилонского царства, находившегося на месте современных Ирака, Сирии и Израиля в начале второго тысячелетия — в VI в. до н.э.
В переносном смысле — огромный город, в котором богатство, роскошь и утонченность жизни неизбежно связаны с испорченностью нравов.
Монруж — в XIX в. селение у южной окраины Парижа; ныне вошло в черту города.
Монмартр — район Парижа, расположенный на крутом холме в северной части города; во времена Дюма там жили главным образом рабочие и ремесленники; впоследствии получил широкую известность как квартал поэтов и художников.
... площадь и фонтан Кювье ... — Площадь названа по имени французского зоолога Жоржа Кювье (1769—1832), положившего начало сравнительной анатомии, палеонтологии и систематике животных. Фонтан в честь Кювье, украшенный фигурой льва, был установлен в 1840 г.
Улица Ги-Лабросс (точнее: улица Ги-де-Ла-Бросс) — находится на левом берегу Сены у Ботанического сада, район которого во время действия романа был юго-восточной окраиной Парижа; названа в честь естествоиспытателя и врача Ги де Ла Бросса (ум. в 1641 г.), основателя сада и медика короля Людовика XIII.
Улица Жюсьё — находится у Ботанического сада и пересекает улицу
Ги-Лабросс; названа в честь французского ботаника Бернара де Жюсьё (1699-1777), создателя одной из систем классификации растений, и в честь его племянника, тоже знаменитого ботаника, Антуана Лорана де Жюсьё (1748—1836).
Улица Политехнической школы — находится на левом берегу Сены в районе Парижского университета; проложена в 40-х гг. XIX в.; название получила от расположенной поблизости Политехнической школы — военизированного высшего учебного заведения, основанного во время Французской революции для подготовки артиллерийских офицеров, а также военных и гражданских инженеров. Западная улица — расположена на левом берегу Сены, в предместье Сен-Жак.
Улица Бонапарта — здесь, вероятно, имеется в виду та из нескольких парижских улиц, названных в честь Наполеона Бонапарта, что ведет от Сены в южном направлении мимо упоминаемого ниже дворца Государственного совета.
...Орлеанский вокзал, он же вокзал у заставы Мен ... — Имеется в виду железнодорожная станция Западной железной дороги, открытая в 1840 г. на месте заставы Мен у южной окраины Парижа; современное ее название — Монпарнасский вокзал.
Церковь святой Клотильды — расположена на левом берегу Сены в Сен-Жерменском предместье на улице Гренель; строительство ее, начатое в 1827—1829 гг., было завершено в 1857 г.
Площадь Бельшасс (современное название — сквер Святой Клотильды) — находится на углу улиц Гренель и Бурбон перед упомянутой выше церковью.
... дворец Государственного совета на набережной дЮрсе и здание министерства иностранных дел на набережной Инвалидов. — Государственный совет — одно из наиболее старинных правительственных учреждений Франции, официально конституировавшееся в начале XIV в. при короле Филиппе IV Красивом (1216-1314; царствовал с 1285 г.) и, сильно изменяясь на протяжении веков, сохранившееся до наших дней. Первоначально состоял из ряда видных государственных чиновников, членов высшего суда — Парижского парламента, а также некоторых крупных сеньоров, которые должны были совместно обсуждать важнейшие вопросы, связанные с государственным управлением, и "давать советы" королю. Набережная д’Орсе — одна из старейших в Париже; начала прокладываться в начале XVIII в. по левому берегу Сены от моста напротив королевского дворца Тюильри; продолжалась на большое расстояние вниз по реке сначала в западном, а далее — в юго-западном направлении; название получила по имени инициатора ее строительства купеческого старшины Парижа в 1700—1708 гг. Шарля Буше д’Орсе. В дальнейшем протяженность набережной значительно сократилась, и теперь она занимает часть берега Сены в центре города.
Здание министерства иностранных дел помещается у нынешнего восточного конца набережной. В начале XIX в. этот ее отрезок назывался набережной Инвалидов, так как на нее выходила эспланада Дома инвалидов — общежития-убежища для увечных солдат, построенного Людовиком XIV во второй половине XVII в.
... территория, расположенная между Аустерлицким и Йенским мостами и тянущаяся к подножью Монмартра. — То есть почти вся правобережная часть Парижа.
Аустерлицкий мост (построен в 1802—1807 гг.), названный в честь победы Наполеона над армиями Австрии и России в декабре 1805 г. у селения Аустерлиц (ныне Славков в Чехии), расположен по течению Сены выше этого района.
Йенский мост построен в 1806— 1813 гг. и назван в честь победы над прусской армией при Йене в октябре 1806 г. Во время Реставрации оба моста были переименованы, но после окончательного падения Бурбонов старые названия были им возвращены.
Бастилия — крепость у восточной окраины Парижа, известная с XIV в. и со временем вошедшая в черту города; служила тюрьмой для государственных преступников; 14 июля 1789 г., в начале Великой французской революции, была взята восставшим народом и затем разрушена.
Здесь речь, собственно, идет не о самой Бастилии, а об образованной на ее месте одноименной площади, примыкавшей к восточной части кольцевой магистрали Парижа, Большим бульварам, проложенным в конце XVII-XVIII вв. на месте снесенных крепостных стен города.
Бульвар Бомарше — отрезок Больших бульваров в их восточной части, выходящий на площадь Бастилии; спланирован в 1670 г. как прогулочная аллея; свое современное название получил в 1831 г. в честь драматурга Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732—1799). Улица Ла Тур д *Овернь, улица Тур-де-Дам — находятся у подножия возвышенностей в северной части Парижа; в первой половине и середине XIX в. были далекой окраиной города.
Рулъская бойня — была построена в начале XIX в.; находилась на окраине северо-западного предместья Парижа Руль.
Аллея Вдов — пересекала одну из основных магистралей Парижа — Елисейские поля (идущую от королевских дворцов в центре города в северо-западном направлении и проложенную в 1770 г.); ее посещали искатели галантных приключений; ныне по частям входит в улицы Матиньон и Монтень.
Сент-Антуанское предместье — в XVIII-XIX вв. рабочий район Парижа, известный своими революционными традициями; расположен в восточной части города и примыкает к площади Бастилии. Застава Трона — находилась на восточной окраине Парижа в Сент-Антуанском предместье; современное название этого места — площадь Нации.
6 Улица Менильмонтан — главная в одноименном предместье восточной части Парижа; бывшая дорога.
Тампль — предместье в северо-восточной части Парижа XVII-XIX вв., ныне находится в черте города; название получило от одноименного укрепленного монастыря (фр. Temple — "Храм"), в конце XIII — начале XIV в. резиденции военно-монашеского ордена тамплиеров (храмовников).
Сен-Мартен, Пуассоньер — предместья в северной части Парижа.
... железными дорогами, ведущими на Лион, Страсбур, Брюссель и
Гавр. — Вокзалы, с которых отправлялись поезда на указанные города, были построены в середине XIX в. в северной и восточной частях Парижа за пределами магистрали Бульваров; перечисленные в этом абзаце улицы, кварталы и т.п. были во время написания романа окраинами города.
... пространство между пригородами и городскими укреплениями ... — Имеется в виду мощная крепость, построенная в начале 40-х гг. XIX в. в связи с обострением международной обстановки, угрозой войны Франции с коалицией европейских держав; проектировалась с учетом стратегических уроков вторжения иностранных войск в 1814 и 1815 гг.; состояла из стены, охватывавшей весь Париж с его предместьями и ближайшими за ними пригородами и пустошами, и линии внешних фортов, удаленных от стен на несколько километров. Укрепления просуществовали до начала XX в.; ныне на их месте проложено кольцо бульваров, территория внутри и вне их застроена, однако некоторые их форты сохранились.
Карл Х( 1757-1836) — французский король в 1824—1830 гг., последний из династии Бурбонов; младший брат Людовика XVI и Людовика XVIII; до вступления на престол носил титул графа д’Артуа; летом 1830 г. предпринял попытку ликвидировать конституционные гарантии, установленные Хартией 1814 года, что вызвало восстание в Париже, вынудившее его отречься от престола и эмигрировать. Власть перешла к младшей ветви Бурбонов — Орлеанам, единственным представителем которых на французском троне стал король Луи Филипп (1773-1850; правил в 1830-1848 гг.).
Виллелъ, Жан Батист, граф де (1773-1854) — французский государственный деятель, один из вождей ультрароялистов (сторонников неограниченной королевской власти); председатель совета министров (1821-1828); осуществил ряд мер, вызвавших недовольство в общественном мнении своим крайне реакционным характером.
Делаво, Ги (1788-1874) — префект (начальник) парижской полиции (1821-1828); был известен своей близостью к ультрароялистам; отличался ненавистью к либеральной оппозиции; уделял преимущественное внимание политическому сыску в ущерб всем прочим функциям полиции; широко использовал агентов-провокаторов.
Англес, Жюль Жак Батист, граф (1778—1828) — французский государственный деятель, роялист; министр полиции в 1814 г; скомпрометированный разразившимся вокруг дела Мобрёя скандалом, получил отставку; в 1815-1821 гг. префект парижской полиции; был крайне непопулярен и в конечном счете вынужден был подать в отставку.
Мобрёй, Мари Арман, маркиз дЮрво, граф Герри де (1783—1868) — французский аристократ, авантюрист, замешанный в нескольких громких скандалах. Весной 1814 г., в первые дни после падения Наполеона, он оказался одним из главных действующих лиц темного и до сих пор до конца не выясненного дела о насильственном задержании и конфискации драгоценностей и казны у покидавшей Францию жены младшего брата Наполеона Жерома Бонапарта (1784—1860), урожденной принцессы Вюртембергской Екатерины (1783-1835). (Ж.Бонапарт был государем образованного в Германии в 1807—1813 гг. Вестфальского королевства, вассального по
отношению к Франции.) В результате вмешательства ее коронованных родственников ценности и деньги были ей возвращены, однако значительная часть их при этом пропала. Над Мобрёем, возглавлявшим отряд, который задержал королеву, долгие годы тяготело обвинение в краже. Это дело тянулось на протяжении всего периода Реставрации, время от времени заново всплывая и каждый раз привлекая внимание общества, поскольку Мобрёй утверждал, что действовал по поручению весьма высокопоставленных лиц, и действительно получил от Англеса документ, облекавший его чрезвычайными полномочиями.
... партия крайних и партия священников. — Имеются в виду не реальные политические партии, а активные сторонники идей ультрароялизма и клерикализма; влияние их в царствование Карла X чрезвычайно возросло.
7 Герцогиня Беррийская, Мария Каролина (1798—1870) — дочь неаполитанского короля Франциска (Франческо) I, с 1816 г. жена племянника французского короля Людовика XVIII, сына графа д’Артуа, герцога Беррийского Шарля Фердинанда (1778—1820); широкую известность получила ее попытка в 1832 г. поднять во Франции восстание в пользу своего сына, наследника Бурбонов; после ареста и огласки факта ее второго, тайного брака и рождения в нем ребенка отошла от политической деятельности. Герцогиня Беррийская — героиня романа Дюма "Волчицы Машкуля" (1858 г.).
Людовик XVIII (1755-1824) — французский король в 1814-1815 и 1815—1824 гг.; до восшествия на престол носил титул графа Прованского; в начале Великой французской революции эмигрант; после казни в 1793 г. старшего брата, Людовика XVI, провозгласил себя регентом при малолетнем племяннике, считавшемся роялистами законным королем Людовиком XVII, а после сообщения о его смерти в тюрьме (1795 г.) — французским королем; взойдя на престол, сумел понять невозможность полного возвращения к дореволюционным порядкам и старался несколько уравновесить влияние ультрароялистов.
Палата пэров, Палата депутатов — имеется в виду верховный законодательный орган страны, перед которым были ответственны министры; согласно действовавшей тогда во Франции конституционной хартии, состоял из двух палат — Палаты пэров и Палаты депутатов (первую их них иногда называли Верхней палатой, а вторую — Нижней). Пэры назначались королем пожизненно с правом наследования или только пожизненно; Палата пэров, кроме решения дел управления, обладала правом суда по делам о государственных и должностных преступлениях депутатов и министров. Депутаты избирались путем двухстепенных выборов, при высоком возрастном и имущественном цензе; первоначально их избирали на пять лет с ежегодным переизбранием одной пятой состава Палаты, а с 1824 г. был установлен семилетний срок депутатских полномочий с полным переизбранием состава Палаты каждые семь лет. Законы считались принятыми, если их одобрили обе Палаты.
... отрицали Революцию, отрицали Бонапарта, отрицали Наполеона...— Революция — имеется в виду Великая французская революция конца XVIII в., уничтожившая во Франции так называемый старый порядок с его феодальными привилегиями, неравенством сословий и королевским абсолютизмом, и положившая начало созданию нового, буржуазного общества.
Бонапарт, Наполеон (1769-1821) — французский государственный деятель и полководец, реформатор военного искусства; во время Революции — генерал Республики; в ноябре 1799 г. совершил государственный переворот и, при формальном сохранении республики, получил полноту личной власти, установив так называемый режим Консульства; в 1804 г. стал императором; в апреле 1814 г., потерпев поражение в войне против коалиции европейских держав, отрекся от престола и был сослан на остров Эльбу в Средиземном море; весной 1815 г. ненадолго вернул себе власть (в истории этот эпизод называется "Сто дней"), но, потерпев окончательное поражение, был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане, где и умер. Говоря о людях, которые "отрицали Бонапарта и Наполеона" (как если бы это были два разных человека), Дюма имеет в виду, что они были одинаково враждебны по отношению и к периоду Консульства, когда Наполеон еще по-республикански именовался "гражданин Бонапарт", и к периоду Империи, когда он уже "император Наполеон".
Людовик IX(1214-1270) — король Франции с 1226 г.; после смерти был причислен к лику святых; много сделал для упорядочения администрации и укрепления королевской власти.
Людовик XIV(1638—1715) — король Франции с 1643 г.; с временем его правления связан расцвет королевского абсолютизма. Божественное право — идея происхождения верховной власти монарха непосредственно от Бога, а следовательно, и ответственности его за свое правление только перед Провидением; была широко распространена в средние века и стала одной из важнейших составных частей официальной идеологии абсолютных монархий.
... Буржуазия ... выступала ... против докучной необходимости нести службу, но пришла в ярость, когда в 1828 году национальная гвардия была распущена. — Национальная гвардия — часть вооруженных сил Франции, гражданская добровольческая милиция, возникшая в первые месяцы Великой французской революции (летом 1789 г.) в противовес королевской армии и просуществовавшая до 1872 г. Национальные гвардейцы, обладая оружием, продолжали жить дома, заниматься своей профессией и время от времени призывались для несения службы (обычно в порядке очередности, а в чрезвычайных ситуациях — поголовно).
Формировавшаяся поначалу на весьма демократических принципах (некоторые из них, например выборность практически всего офицерского состава, сохранились до конца), национальная гвардия очень быстро стала подвергаться преобразованиям, придававшим ей все более буржуазный характер и закрывавшим доступ в нее малосостоятельным людям (так, специально установленная форма и оружие должны были приобретаться гвардейцами за свой счет).
Во время Революции национальная гвардия участвовала в обороне страны от внешнего врага, в подавлении контрреволюционных мятежей, а также использовалась против выступлений народных масс. К описываемому периоду парижская национальная гвардия
состояла в значительной мере из представителей средней городской буржуазии и была проникнута умеренно-либеральными настроениями. 29 апреля 1827 г. (а не в 1828 г., как пишет Дюма) во время смотра, устроенного Карлом X вскоре после очередной серии непопулярных правительственных мероприятий, король был встречен криками: "Да здравствует Хартия!", "Долой министров!", "Долой иезуитов!" На следующий день национальная гвардия была распущена и восстановлена только после Июльской революции 1830 года.
... следовала за траурным кортежем на похоронах генерала Фу а ... — Фуа, Максимилиан Себастьен (1775-1825) — французский генерал, участник наполеоновских войн; в период Реставрации дважды (в 1819 и 1824 гг.) избирался в Палату депутатов, в которой был одним из видных деятелей либеральной оппозиции и пользовался большой популярностью. Его похороны 30 ноября 1825 г. вылились в огромную манифестацию, имевшую явный антиправительственный оттенок.
В 1823 г., когда молодой Дюма приехал в Париж искать место службы, генерал Фуа оказал ему покровительство как сыну бывшего товарища по оружию и помог устроиться в канцелярию герцога Орлеанского.
Грегуар, Анри Батист (1750—1831) — французский священник и политический деятель, участник Революции; принял новое, гражданское устройство духовенства, присягнув Конституции 1791 года, и стал так называемым конституционным епископом; много занимался вопросами образования и национальной культуры. В 1819 г. Грегуар был избран в Палату депутатов. Это вызвало ярость ультрароялистов, и в конечном счете им удалось добиться того, что его избрание было аннулировано. Все это стало поводом для острой общественной борьбы и шумной газетной полемики.
Манюэль, Жак Антуан (1775—1827) — член Палаты депутатов, либерал; в феврале 1823 г. выступил (как и некоторые другие депутаты от оппозиции) против намерения правительства послать французские войска на подавление революции в Испании, напомнив, в частности, что в свое время вмешательство иностранцев оказало роковое влияние на судьбу королевского семейства во Франции. Правые депутаты обвинили его в "апологии цареубийства" и 1 марта проголосовали за его исключение из Палаты. Манюэль не признал законности этого решения и не покинул зала заседаний, а вызванный наряд национальных гвардейцев во главе с сержантом Мерсье отказался вывести его силой. В конце концов его удалили из зала жандармы, после чего 62 депутата оппозиционной части Палаты покинули ее и не возвращались до конца сессии. Вся эта история получила широчайшую огласку, бурно обсуждалась в обществе, а Манюэля и Мерсье чествовали как героев.
Туке (ум. в 1830 г.) — офицер армии Наполеона, полковник; после падения Империи — издатель в Париже; специализировался на издании сочинений Вольтера и Руссо, а также публицистических произведений, направленных против правительства Реставрации.
Хартия — имеется в виду "Конституционная хартия Франции", принятая 4 июня 1814 г. королем Людовиком XVIII под давлением руководителей антинаполеоновской коалиции. Хартия превращала Францию в конституционную монархию и закрепляла ряд основных завоеваний Революции, а также гарантировала неприкосновенность прав новых собственников на приобретенные ими в годы Революции церковные и эмигрантские земли. Провозглашение Хартии было призвано успокоить население страны, опасавшееся, что реставрация Бурбонов будет означать и возвращение к дореволюционным порядкам. Однако было известно, что сохранение Хартии в полном объеме находится под угрозой, ибо ультрароялисты и сам король Карл X были ее убежденными противниками; поэтому во время Реставрации Хартия была знаменем либеральной оппозиции.
... Бурбоны вернулись во Францию вслед за англичанами, австрийцами и казаками. — Бурбоны — королевская династия во Франции, царствовавшая в 1584-1792, 1814—1815 и 1815—1830 гг. Восстановление Бурбонов на престоле в 1814 и 1815 гг. было непосредственно связано с поражением Наполеона и интервенцией во Францию армий его противников.
Дидье, Жан Поль (1758-1816) — адвокат; в начале второй Реставрации — один из организаторов тайного Общества национальной независимости, имевшего ответвления в нескольких районах Франции и ставившего целью свержение Бурбонов как ставленников иностранных держав; 5 мая 1816 г. попытался поднять восстание и захватить город Гренобль, но был разбит, а 24 участника восстания расстреляны. Дидье удалось бежать в Италию, но он был выдан французскому правительству и казнен.
Бертон, Жан Батист (настоящая фамилия — Бретон; 1767— 1822) — генерал, барон Империи, участник наполеоновских войн; при Реставрации — активный член тайной революционной организации карбонариев; 24 февраля 1822 г. поднял в Западной Франции восстание против Бурбонов и во главе отряда повстанцев двинулся на город Сомюр, но был разбит правительственными войсками. На первых порах Бертон сумел скрываться, но вскоре был схвачен и казнен.
Карре — вероятно, имеется в виду Пьер Луи Александр Карре (1768-1820), член Палаты депутатов в 1815-1820 гг.; находился в оппозиции к правительству.
Возможно, впрочем, в тексте допущена опечатка и Дюма имеет в виду не Карре, а известного либерального журналиста Армана Карреля (1800—1836), бывшего военного, который в 1823 г. вышел в отставку и уехал в Испанию, чтобы сражаться на стороне революционеров, попал там в плен к своим соотечественникам, прошел через несколько военных судов, но в конечном счете был оправдан. Впоследствии был смертельно ранен на дуэли.
... четверо сержантов из Ла-Рошели ... — Бори, Губен, Помье и Рауль (или Рау), сержанты полка, расквартированного в крепости Ла-Рошель в Западной Франции, возглавляли местное отделение ("венту") карбонариев и были участниками антиправительственного заговора с целью поднять общенациональное восстание против Бурбонов. Полиции удалось раскрыть заговор; четыре сержанта были арестованы и казнены в 1822 г.
Иерусалимская улица — небольшая улочка на острове Сите на Сене, историческом центре Парижа; ныне не существует; название получила, видимо, потому, что на ней селились паломники, побывавшие в Иерусалиме, а по другим сведениям, потому, что в средние века она была местом поселения евреев, чьей древней столицей был этот город.
8 Пиза — город в Центральной Италии; в описываемое в романе время входил в состав Великого герцогства Тосканского; ныне — административный центр одноименной провинции.
... от грудной болезни ... — Грудными болезнями в медицине XIX в. называли все болезни органов дыхания.
Сеймур, Генри (1805—1860) — знатный англичанин, долгие годы живший в Париже и славившийся своей эксцентричностью. Парижане звали его "лорд Арсуй", что можно перевести примерно как "беспутный гуляка".
Кабаре — во Франции XIX в. артистический кабачок, в котором устраивались импровизированные представления; ныне — кафе или ресторан с эстрадной программой.
Куртий — одно из первоначальных названий улицы Эгу-Сен-Жермен (ныне часть улицы Рен) в левобережной части Парижа, южнее бывших крепостных стен.
"Денуайе" (точнее: "Фоли-Денуайе") — таверна в рабочем пригороде Парижа Бельвиль на северо-восточной окраине столицы; около 1830 г. была известна общественными балами, хотя по классу считалась ниже "Ла Куртий"; называлась по имени своего хозяина.
"Ла Куртий" — известное кабаре, основанное еще в XVIII в. и принадлежавшее семейству Денуайе; находилось, однако, не на улице Куртий, а довольно далеко оттуда — в предместье Тампль у северо-восточной окраины старого города.
"Тоннелье" — увеселительное заведение, находившееся с 1800 г. у заставы Мен; соединяло в себе большое кафе, зал для танцев и сад, где играл оркестр.
"Шомьер" (или "Гранд Шомьер" — "Хижина", "Большая хижина") — название построенного в так называемом "сельском стиле" здания в левобережной части Парижа, где проходили самые известные общественные балы. Заведение просуществовало с 1787 до 1853 гг.; особой популярностью оно пользовалось в конце периода Реставрации и во время Июльской монархии (1830-1848), когда его возглавлял упомянутый Дюма папаша Лагир (Лаир) — зять первого владельца. Унаследовав заведение, он усовершенствовал его, добавил некоторые аттракционы и отказался от услуг полиции, но при этом сам строго следил за порядком, не допуская, чтобы веселье переходило в распущенность. Балы в "Шомьере" носили демократический характер, а особенно охотно его посещали студенты и гризетки.
Гризетка — молодая девушка-работница (швея, шляпница, продавщица и т.п.). Прозвище произошло от названия легкой и недорогой ткани гризет — в платья, сшитые из нее, чаще всего одевались такие девушки. Во французской литературе XIX в. возник тип гризетки как девушки веселой, кокетливой и доступной.
Лоретки — изящные и элегантные молодые женщины, обычно жившие на содержании у богатых людей. Прозвище возникло от названия церкви Нотр-Дам-де-Лорет (Лоретской Божьей Матери) в аристократическом квартале восточной части старого Парижа, где часто селились эти женщины.
Артуры — состоятельные молодые люди, которые вели рассеянный образ жизни и обычно были возлюбленными лореток, а чаще всего их и содержали. Авторы модных салонных романов с конца 30-х годов нередко давали это имя своим героям, в результате оно стало нарицательным и насмешливым прозвищем.
Гаварни, Сюлъпис Гийом (настоящая фамилия — Шевалье; 1804— 1866) — французский художник; автор рисунков костюмов и книжных иллюстраций; с конца 30-х гг. особенно прославился сериями жанровых зарисовок и литографий, а также карикатурами.
"Прадо" (назывался также "Прадо д’Ивер" —"Зимний Прадо") — зал для общественных балов, функционировавший в 1830—1857 гг. на улице Обсерватории в левобережной части Парижа.
Дворец правосудия — здание судебных учреждений, перестроенный средневековый дворец французских королей; занимает западную часть острова Сите. До Революции там помещался Парижский парламент.
Шато д ’О ("Водяной дворец") — название нескольких водоразборных бассейнов, существовавших в Париже в разное время. Здесь, вероятно, речь идет о резервуаре, построенном в 1811 г. за бульваром Сен-Мартен на северной окраине города.
Порт-Сен-Мартен — имеется в виду драматический театр в Париже на Больших бульварах у ворот (по-французски — porte) Сен-Мартен, триумфальной арки, построенной в конце XVII в. в честь Людовика XIV; открылся в 1814 г.; принадлежал (вместе с упоминаемыми в настоящем романе театрами Амбипо-Комик и >1бшназ) к группе так называемых "театров бульваров", которые в первой половине XIX в. конкурировали с государственными привилегированными театрами, живо откликаясь на художественные вкусы и политические настроения общества.
Опера — парижский государственный музыкальный театр Грандопера, основанный в конце XVII в.; был известен также устраивавшимися в нем аристократическими балами-маскарадами.
Домино — маскарадный костюм, длинный плащ с капюшоном. Капральский табак (фр. tabac de caporal) — дешевый крепкий табак с неприятным вкусом и запахом; до сих пор употребляется для изготовления сигарет того же названия.
Жимназ (полное название: Жимназ-Драматик) — французский драматический театр, открывшийся в Париже в 1820 г.; в описываемое в романе время носил название "Театр мадам" ("Театр ее высочества"), так как находился под покровительством герцогини Беррийской (см. примеч. к с. 7).
Мадам — в феодальной Франции титул дочерей короля и жен его братьев.
Улица Старой Сукноделъни — располагалась на острове Сите; ныне вошла в состав улицы Сите.
Улица Бонди — небольшая улица в северной части старого Парижа сразу же за Большими бульварами; в описываемое время находилась на окраине города; проложена на месте старых крепостных рвов; название, полученное в 1771 г., было связано с тем, что на ней был двор экипажей, отправлявшихся в селение Бонди (современное ее название — улица Рене Буланже).
Улица Сент-Оноре — одна из центральных в Париже; ведет от дворцов Лувр и Пале-Рояль к западным предместьям города.
Сиветт — название знаменитой табачной лавочки, торговавшей ароматизированным табаком, очень модной в конце XVIII — начале XIX в. Само слово "сиветт" — это французское название циветты (или виверры), небольшого зверька, водящегося в Южной Америке и обладающего особыми железами, пахучие выделения которых используются в парфюмерной промышленности.
Железная улица — ныне не существует: при перестройке в 50-х гг. XIX в. вошла в улицу Бержер; находилась в центре старого Парижа около Центрального рынка.
Улица Мясника Обри — небольшая улица в центре старого Парижа; одна из старейших в городе: известна с 1225 г., а под этим названием — с 1273 г.
Улица Сен-Дени — одна из радиальных магистралей старого Парижа; ведет от правого берега Сены на север к Бульварам; существует с VIII в.; с развитием города Сен-Дени и одноименного монастыря у северных окраин столицы приобрела большое значение как путь в этом направлении.
9 Бисетр — деревня близ южной окраины Парижа, получившая название по расположенному рядом с ней замку Бисетр, построенному в XIII в. и с тех пор подвергавшемуся многочисленным перестройкам. С XVII в. в Бисетре находился известный дом для умалишенных, а также больница, богадельня для неимущих стариков и тюремные заведения (исправительный дом, помещения, в которых собирали приговоренных перед отправкой на каторжные работы, и т.п.). Тюремная часть Бисетра была упразднена в 1836 г. Консъержери — часть Дворца правосудия в Париже; бывший замок-резиденция консьержа, главного исполнительного чиновника Парижского парламента, отсюда ее название; затем стала тюрьмой; ныне — музей.
Беллем, Луи Мари де (1787—1862) — французский юрист и политический деятель; в 1828—1829 гг. префект парижской полиции; провел ряд реформ полицейской службы, в том числе и ту, которую упоминает Дюма.
Су — мелкая французская монета, двадцатая часть франка.
Ла Форс — тюрьма в Париже, открытая в 1780 г. в перестроенном дворце одного из членов королевской семьи; название получила по фамилии последнего владельца дома; состояла из большого отделения (собственно тюрьмы Ла Форс) и малого (Малой Ла Форс), помещавшегося в соседнем доме, также бывшем дворянском особняке; находилась в квартале Маре восточной части старого города; в 1850 г. была разрушена.
Мадлонетки — монахини, содержавшие исправительные дома для кающихся проституток; их название (madelonettes), ставшее нарицательным для заведений подобного рода, возникло от имени святой Марии Магдалины (т.е. из города Магдала), христианской святой (одержимая бесами, она вела распутную жизнь, а затем покаялась и стала преданнейшей последовательницей Христа). Здесь имеется в виду исправительный дом близ Маре, открытый в начале
XVII в.; в 1790 г. был закрыт, а в 1793 г. превращен в тюрьму; с 1795 г. — специальная тюрьма для женщин.
Сен-Лазар — известное с XII в. убежище для прокаженных; с конца
XVIII в. — женская тюрьма; разрушена в 1935 г.
Улица Фонтен (точнее: Фонтено-Руа) — находилась в предместье Тампль; известна с 1652 г.
Сен-Дени — одно из северных предместий Парижа; его территория находится сразу же за линией Бульваров.
Улица Предместья Сен-Дени — продолжение улицы Сен-Дени к северу от Бульваров; дорога к городу и монастырю Сен-Дени.
Гревская площадь — находится на правом берегу Сены, перед ратушей, напротив собора Парижской Богоматери; в течение многих веков — место казней; ныне называется площадью Ратуши.
Улица Маре — здесь, по-видимому, улица, образованная при перестройке улиц Маре-Сен-Мартен и Маре-дю-Тампль. "Маре" по-французски — "болото"; в начале XIX в. в Париже было несколько улиц с таким названием, к которому, во избежание путаницы, добавляли название какого-нибудь ориентира.
10 ... исчезли при реконструкции парижских улиц ... — В 50-х — 60-х гг.
XIX в. в Париже в больших масштабах проводились работы по перепланировке и перестройке города; помимо благоустройства (прокладки новых бульваров, создания общественных парков и т.д.), эти работы имели целью расширение существовавших улиц и создание новых прямых магистралей для облегчения действий войск и применения артиллерии в случае революционных выступлений. Эта реконструкция привела к исчезновению многих старых улиц и домов и сопровождалась беззастенчивым расхищением государственных средств, спекуляциями земельными участками и громкими скандалами.
Фронтиспис — рисунок, гравюра или надпись (обычно с виньеткой), расположенные слева от титульного листа книги; на фронтисписе часто помещался портрет автора книги или лица, которому она посвящена.
Шатобриан, Франсуа Рене, виконт де (1768—1848) — французский писатель-романтик, публицист, политический деятель и дипломат; с 1791 г. — эмигрант; боролся с оружием в руках против Революции; министр иностранных дел (1822—1824); апологет католицизма. Байрон, Джордж Гордон, лорд (1788—1824) — великий английский поэт-романтик, оказавший огромное влияние на современников и потомков как своими произведениями, так и чертами своей личности и стилем жизни; в своих произведениях и особенно поэмах создал образ непонятого, отверженного и разочарованного романтического героя-бунтаря, породившего множество подражателей в жизни и в литературе ("байронизм", "байронический стиль").
11 Улица Сент-Аполлин — находится к северу от Больших бульваров в районе "злачных" мест, о которых Дюма упоминает выше. Название получила в честь причисленной к лику святых монахини-девственницы Аполлинарии (скончалась в Египте в 470 г.).
Пике — плотная хлопчатобумажная ткань в рубчик.
Шапокляк — складная шляпа-цилиндр на пружинах.
Гентский бульвар — находится на северо-западном отрезке Больших бульваров; на нем расположены банки, театры и рестораны; современное название — Итальянский бульвар (или Бульвар итальянцев).
Денди (англ, dandy) — изысканно одетый светский человек из высшего общества; в значении "щёголь", "франт" это слово вошло в другие европейские языки.
Кашемир — легкая шерстяная, полушерстяная или хлопчатобумажная ткань; название получила от области Кашмир в Индии.
12 Экю — здесь: французская серебряная монета, чеканившаяся с середины XVII в. и стоившая три ливра; с начала XVIII в. в обращении находились также экю в шесть ливров, что в описываемое в романе время равнялось приблизительно шести франкам.
... грязных парижских улочек, ведущих от бульвара Сен-Дени к набережной Жевр... — То есть торговый и населенный простолюдинами район Парижа между северным участком Больших бульваров и парижской ратушей, помещающейся и доныне на правом берегу Сены на набережной Жевр (известна с XVII в.; названа по фамилии владельца прилегавших к ней земельных участков).
Бишоф — напиток из подслащенного вина с добавлением сока апельсина или лимона; употреблялся как в холодном, так и в горячем виде.
Рынок — имеется в виду Центральный рынок Парижа, размещавшийся с конца XII в. в середине старого города неподалеку от северного берега Сены рядом с улицей Сен-Дени; много раз реконструировался и в XIX в. превратился в целый комплекс зданий. Корпорации торговок Рынка играли большую роль в политической жизни столицы. На Рынке находились многочисленные кабачки, посещавшиеся даже людьми из высшего общества и постепенно превратившиеся в увеселительные заведения. В конце XIX в. Рынок стал оптовым; во второй половине XX в. был снесен и его территорию заняли другие общественные здания; неоднократно описан в мемуарной и художественной литературе.
Оршад — прохладительный напиток, имеющий множество рецептов приготовления; наиболее распространенный в XIX в. оршад готовился из горького и сладкого миндаля, сахара, апельсиновой эссенции и воды.
Университетская улица — расположена на левом берегу Сены неподалеку от реки, то есть довольно далеко от места, упоминаемою здесь; одна из старейших в Париже: известна с середины XIV в.; свое название получила в XVII в., так как территория, по которой она проходила, одно время принадлежала Парижскому университету. Батавский двор — проход между двумя зданиями на улице Сен-Дени, построенными в 90-х гг. XVIII в. голландцами.
Батавы — германское племя, обитавшее в древности в низовьях Рейна, на территории современных Нидерландов.
13 Вери — хозяин известного парижского ресторана, открывшегося в начале XIX в. в одном из флигелей, построенных в конце предыдущего столетия вокруг сада дворца Пале-Рояль для размещения магазинов, кафе и т.д. Ресторан Вери упоминается в романе "Евгений Онегин" А. С. Пушкина (глава VI, 5 строфа).
"Филипп" — знаменитый парижский ресторан, открытый, однако, только в 1840 г. (то есть после времени действия в настоящем романе) известным поваром Паскалем.
"Провансальские братья" — известный парижский ресторан, открытый в 1786 г. тремя молодыми людьми родом из Прованса (друзьями, а не родствениками); находился сначала по соседству с Пале-Роялем, но вскоре переместился в одну из его галерей; быстро завоевал известность благодаря прекрасным винам и отличной кухне (особенно он славился, разумеется, провансальскими блюдами); в 1836 г. он перешел в другие руки и несколько раз менял владельцев, но сохранил репутацию одного из лучших ресторанов Парижа.
... настойку на кампешевой древесине... — Иронический образ: кампешевое дерево, разновидность сандала, произрастающее в тропиках, использовалось для изготовления красных чернил.
Бордо — название группы высокосортных вин, получаемых из винограда, который произрастает в юго-западных районах Франции, главным образом близ Бордо — крупного французского города и порта.
Французский театр — официальное название Театра французской комедии ("Комеди франсез"), старейшего драматического театра Франции, основанного в 1680 г. и известного исполнением пьес классического репертуара.
... этот чувствительный поэт ... этот продолжатель Гёте... — Гёте, Иоганн Вольфганг (1749—1832) — великий немецкий поэт, писатель и мыслитель, основоположник немецкой литературы нового времени. В данном случае, по всей вероятности, имеется в виду пользовавшийся огромной популярностью роман "Страдания молодого Вертера" (1774 г.), в котором Гёте создал образ чувствительного и мечтательного юноши, кончающего жизнь самоубийством из-за неразделенной любви.
14 ... креольским акцентом ... — Креолы — потомки первых европейских колонизаторов Латинской Америки, преимущественно испанского происхождения.
Милъвуа, Шарль Ибер (1782—1816) — французский поэт; известность получил главным образом своей лирикой, особенно элегиями.
Шенье, Ацдре Мари (1762-1794) — французский поэт и публицист, автор многочисленных лирических стихов, большая часть которых была опубликована после его смерти; приветствовал Революцию, однако придерживался умеренных взглядов и резко отрицательно относился к якобинцам; был казнен; воспет А.С. Пушкиным в стихотворении "Андрей Шенье". Стихотворение "Молодая узница" (известное в России в переводе поэта А. Козлова) было написано в
1794 г. в тюрьме; его содержание: страхи и надежды юной девушки, оказавшейся на заре своей жизни в темнице.
Vade retro (лат. "Изыди") — латинское выражение, широкое употребление которого, возможно, связано с евангельскими рассказами о том, как Христос дважды (Матфей, 4: 10; Марк, 8: 33) употреблял выражение "Отойди от меня, сатана!": в первом случае — обращаясь к искушавшему его дьяволу, во втором — к прекословившему ему апостолу Петру.
Диатриба — гневная обличительная речь.
... Если в Сен-Ло есть гасконцы, значит, в Тарбе живут нормандцы. — Сен-Ло, город на севере Франции, в исторической провинции Нормандия.
Тарб — город на юго-западе Франции, в исторической провинции Гасконь.
Андреа делъ Сарто (1486—1530) — итальянский художник, представитель флорентийской школы эпохи Высокого Возрождения. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — выдающийся голландский художник; особенно прославился мастерством светотени и замечательным психологизмом своих портретов.
Данте Алигьери (1265—1321) — великий итальянский поэт, обессмертивший себя поэмой "Божественная комедия"; один из создателей итальянского литературного языка. Играл видную роль в политической борьбе в своей родной Флоренции; в 1302 г. был изгнан и умер в эмиграции.
Макиавелли (Макьявелли), Никколо (1469—1527) — итальянский писатель и политический мыслитель, сторонник сильной государственной власти. Трактовка политической деятельности в его работах была воспринята (по мнению ряда современных нам исследователей, без достаточных на то оснований) как уроки аморализма и беспринципности. Отсюда возникло понятие "макиавеллизм" как синоним политики, пренебрегающей нормами морали.
... преданному всеми, как Байрон. — По-видимому, намек на выступления против Байрона литературной английской критики и на разрыв поэта из-за его вызывающего поведения и радикальных настроений со светским обществом Англии, к которому он принадлежал по рождению (все это послужило причиной его отъезда с родины).
15 Сократ (470/469 — 399 гг. до н.э.) — древнегреческий философ, один из основателей диалектики; в древности почитался как идеал мудреца; в своем родном городе Афины был обвинен в неуважении к богам, в развращении молодежи и приговорен к смерти (он должен был выпить чашу с ядом). Смерть Сократа — один из модных в XVIII—XIX вв. сюжетов картин на античную тему.
Федон из Элиды (кон. V — нач. IV вв. до н.э.) — древнегреческий философ; проданный в рабство в Афины и выкупленный при содействии Сократа, стал его ближайшим другом и учеником и присутствовал при его последних минутах; позднее стал родоначальником и главой элидской философской школы.
Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н.э.) — политический и военный деятель Древних Афин, известный аморальным образом жизни и по-
литической беспринципностью; некоторое время был учеником Сократа, но умер ранее его и, следовательно, при кончине учителя присутствовать не мог.
... полувакхическую ... песнь ... — То есть песню, вольную по содержанию. Название происходит от имени Вакха (Бахуса, древнегреческого Диониса), бога вина и виноделия в античной мифологии. Отправление культа Вакха в древности сопровождалось, кроме театральных представлений, пирами, безудержным весельем и разгулом.
Церковь святого Евстафия (Сент-Эсташ) — одна из старейших в Париже; известна с XIII в.; современное здание, о котором пишет Дюма, построено в XVI — середине XVII в.; является шедевром архитектуры; помещается в центре старого Парижа напротив места, которое занимал Центральный рынок.
16 Мушка — кружочек из черной тафты; в XVIII — начале XIX в. женщины приклеивали их к лицу, открытой части груди или шеи; в зависимости от местоположения служили знаком определенных эмоций.
Пьеро ("петрушка")— персонаж французского народного театра, заимствованный в XVII в. из итальянской народной комедии; первоначально был образом хитреца, выдающего себя за простака; позже в пантомиме XIX в. стал воплощением грусти и меланхолии; был неизменно одет в белый балахон и покрывал лицо густым слоем муки.
Пьеретта — женская пара или женский аналог пьеро, одетая в такой же костюм.
Полишинель — популярный персонаж французского ярмарочного, а потом и кукольного театра, также перешедший из Италии; горбатый человечек с крючковатым носом, веселый задира и насмешник.
17 Мазюрье — известный французский клоун.
Компьенский лес — прилегает к старинному владению французских королей замку Компьень в 85 км к северо-востоку от Парижа.
Эгрет — перо или пучок перьев, украшающий головной убор или прическу (чаще женскую).
Магомет бен (ибн) Абдаллах (т.е. сын Абдаллаха) — устаревшая форма написания имени пророка Мухаммеда (570/571—632) — основателя религии ислама.
Абу Талиб (VI в.) — дядя Мухаммеда (у него воспитывался Мухаммед, поскольку его отец, Абдаллах, умер еще до рождения сына).
... Если гора не идет ко мне — я иду к горе! — Здесь перефразируется известное восточное изречение "Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе", о происхождении которого существует много версий. В данном варианте оно содержится в сочинении английского философа Френсиса Бэкона (1561—1626) "Нравственные и политические опыты (1597 г.). Магомет обещал народу сдвинуть гору, а когда это не удалось, сказал: "Что ж! Так как гора не хочет идти к Магомету, Магомет пойдет к ней".
18 Репье, Матюрен (1573—1613) — французский поэт; известен
главным образом своими сатирами, хотя ему принадлежит также множество стихов фривольного содержания.
"Вертеп" — одна из "Сатир" Ренье (в современных изданиях — двенадцатая), вышедших в свет в 1609 г.
... занавески с желто-зеленым греческим орнаментом... — Греческим называли орнамент из непрерывных "возвращающихся" линий, неизменно идущих под прямым углом.
Кенкет — масляная лампа особой конструкции (в частности, резервуар для масла расположен в ней выше фитиля); название получила по фамилии владельца фабрики, где изготавливались такие лампы.
... полная противоположность аду Данте ... — Первая часть "Божественной комедии" Данте ("Ад"), посвящена аллегорическому изображению мук подвергаемых наказанию грешников.
21 Шабли — высококлассный сорт столовых белых бургундских вин. Льё — французская мера длины; сухопутное льё равно 4,444 км.
Видок, Эжен Франсуа (1775-1857) — французский сыщик, жизнь которого окружена множеством легенд; первоначально преступник, затем один из руководителей парижской уголовной полиции; выйдя в отставку, организовал частное сыскное бюро. В 1826 г. в Париже вышли "Мемуары Видока", пользовавшиеся большой популярностью; позднее вышло несколько других книг под его именем. Однако до сих пор точно не установлено, действительно ли он был автором всех этих сочинений или хотя бы участвовал в их написании. В литературе XIX в. имя Видока использовалось как синоним доносчика и полицейской ищейки.
22 Дюйм — мера длины, равная 2,54 см; ее название произошло от голландского слова duim, означающего "большой палец".
23 ... Это окно было из тех, что называются гильотинными. — То есть окно с рамой, не распахивающейся в сторону, а поднимающейся вверх. Такое окно несколько похоже на гильотину, орудие для отсечения головы во время казни, в котором тяжелый нож падает сверху на шею жертвы. Эта машина получила название по имени предложившего ее конструкцию французского врача, профессора анатомии Жозефа Игнаца Гильотена (Гийотен; 1738-1814).
24 Метр (мэтр) — учитель, наставник; обращение во Франции к адвокатам, деятелям искусства и вообще выдающимся лицам; может, как в данном случае, иметь иронический оттенок.
25 Пактол — небольшая река в Малой Азии (современное название Сарт-Чайи); в древности, по преданию, была золотоносной. Во французском языке слово Пактол имеет переносный смысл: источник богатства.
... в моих "Мемуарах" рассказано ... — Эта история со счастливым концом изложена в главе CXXXV "Мемуаров" Дюма, опубликованных в 1853—1855 гг.
Мадемуазель Жорж — Жорж, Маргерит Жозефина (настоящая фамилия — Веймер; 1787—1867) — французская актриса; прославилась исполнением ролей в классических трагедиях и первых пьесах романтического репертуара; в 1808—1812 гг. выступала в России.
26 ... о геркулесовой силе ... — Геркулес (Геракл) — величайший герой древнегреческой мифологии, прославившийся своей атлетической мощью и богатырскими подвигами.
27 Отелъ-Дъё ("Божий дом") — старейшая больница в Париже; по преданию, основана в VII в.; помещается на острове Сите.
... о талантливом негре, едва не совершившем революцию в Сан-Доминго ... — Сан-Доминго — испанское название острова Гаити в Центральной Америке, до начала XIX в. колониального владения Франции (западная часть острова) и Испании (восточная часть). Эти бывшие колонии в настоящее время являются самостоятельными государствами (соответственно: Гаити и Доминиканская республика).
Здесь речь идет о восстании негров-рабов во французском Гаити, начавшемся в 1791 г. под влиянием Французской революции. В 1804 г. восставшие провозгласили свою независимость.
Одним из его руководителей был Туссен-Л увертюр (1743-1803). После нескольких лет бурной, сложной и кровопролитной борьбы Туссен-Лувертюру удалось занять главенствующее политическое положение и объединить весь остров, завоевав его испанскую часть. Он установил на острове республиканскую конституцию и стал главой государства. Однако в результате действий посланного в 1802 г. на Гаити французского экспедиционного корпуса созданное Туссеном государство было ликвидировано, а сам он арестован, отправлен во Францию, где и умер в заточении.
Каскетка — особого фасона гражданская фуражка, похожая на кепку.
... он откликался на имя папаши Фрикасе. — Фрикасе — жареное или вареное мясо с приправой, нарезанное мелкими кусочками.
Карем, Марк Антуан (1784—1833) — знаменитый французский кулинар, автор ряда книг, посвященных поварскому искусству. Брийа-Саварен, Ансельм (1755—1826) — французский юрист и писатель; во время Революции депутат Учредительного собрания, затем до 1796 г. эмигрант; известен своей книгой по гастрономии "Физиология вкуса".
... "Первые да будут последними". — Имеется в виду евангельская цитата: "Многие же будут первые последними, и последние первыми" (Матфей, 19: 30).
28 Геркулес Фарнезский — огромная (5,3 м) статуя отдыхающего героя, ныне находящаяся в Неаполитанском музее — мраморная копия бронзового изваяния, созданного древнегреческим скульптором Лисиппом (IV в. до н.э.). Копия была выполнена в I в. н.э. работавшим в Риме афинским скульптором Гликоном. Раскопки, в ходе которых была обнаружена статуя, производились по приказу папы Павла III (правил в 1534-1549 гг.), принадлежавшего к итальянскому княжескому роду Фарнезе; вплоть до XVIII в. статуя украшала дворец Фарнезе в Риме (отсюда ее название).
... у сына Юпитера и Семелы ... — то есть Диониса (Вакха).
Юпитер (древнегреческий Зевс) — верховный бог в античной мифологии, повелитель грома и молний, владыка богов и людей. Семела — в древнегреческой мифологии царевна города Фивы, возлюбленная Зевса, мать Диониса. Согласно легенде, Семела попросила Зевса явиться ей в своем обличии громовержца и погибла от его молний, родив недоношенного ребенка. Зевс зашил младенца в свое бедро, откуда Дионис в положенный срок родился вторично.
Одиссея — здесь: долгое и полное приключений странствие. Происхождение слова связано с названием древнегреческой эпической поэмы, приписываемой легендарному слепому поэту и певцу Гомеру (время жизни которого исследователи относят к периоду от XII по VII в. до н.э.) и посвященной приключениям Одиссея, царя легендарной Итаки, во время его возвращения с Троянской войны — похода греков на город Трою в Малой Азии.
29 ... теорию маршала Саксонского ... — Граф Мориц Саксонский
(1696-1750), незаконный сын курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного; французский полководец и военный теоретик, маршал Франции; придавал большое значение моральному фактору в войне.
Французский бокс (или так называемый "сават", от фр. savate — "туфля", "башмак") — вид рукопашного боя, в котором основными приемами были удары ногами. Создателем его был некий Шарль Лекур. В первой половине XIX в. этот жестокий вид спорта был обязательным предметом обучения молодых людей из высшего общества.
31 Катапульта — метательная военная машина древности: бросала камни, зажигательные сосуды и другие снаряды, используя силу натяжения канатов, скрученных из жил животных.
33 ... ответил кличем: "На баррикады!", ни разу не звучавшим на улицах
Парижа с того памятного дня, которому это оборонительное сооружение дало историческое имя. — Имеется в виду восстание воинствующих католиков 12 мая 1588 г. в Париже против короля Генриха III, получившего в истории названия "день баррикад".
... позднее парижане вознаградили себя за молчание, продолжавшееся двести пятьдесят лет. — Имеется в виду Июльская революция 1830 г. во Франции (точнее, восстание и уличные бои в Париже 27—29 числа этого месяца). В результате в стране окончательно была свергнута монархия Бурбонов (режим Реставрации) и до 1848 г. установилась буржуазная Июльская монархия.
Однако, говоря, что в Париже 250 лет не было баррикадных боев, Дюма не вполне точен. В истории столицы Франции известен еще один "день баррикад": 27 августа 1648 г. — восстание буржуазии и народа во время Фронды, общественного движения против королевского абсолютизма в 1648—1653 гг. "День баррикад" 1648 г. описан Дюма в романе "Двадцать лет спустя".
Бастион — долговременное многоугольное оборонительное сооружение, возводившееся в XV—XIX вв. на углах крепости и предназначавшееся для обстрела местности перед ним и вдоль крепостных стен.
37 ...человек, чье имя — добрый вестник... — Сальватор (salvator) пола-тыни означает "спаситель".
... Персонаж, столь чудодейственным образом вышедший на сцену подобно античному богу из машины ... — В античной трагедии развязка нередко наступала благодаря внезапному появлению
божества: актер, игравший бога, появлялся на сцене при помощи специального механического приспособления. Отсюда возникло выражение "бог из машины" (deux ex machina), означающее неожиданное, как правило удачное, решение сложной ситуации благодаря непредвиденному событию или чьему-то внезапному вмешательству.
38 Рафаэль Санти (1483-1520) — выдающийся итальянский художник и архитектор, представитель Высокого Возрождения.
39 Ток — круглая и плоская шапка с очень узкими полями или совсем без них.
Форнарина (настоящее имя — Маргарита) — возлюбленная Рафаэля, о которой почти ничего не известно; согласно легенде, дочь римского булочника, отсюда ее прозвище, возникшее в XVIII в. ("Форнарина" по-итальянски "булочница"). Предположение, что Форнарина служила моделью для некоторых картин Рафаэля, как это имеет в виду Дюма, в настоящее время подвергается исследователями сомнению.
... прием, напомнивший ему quos ego Нептуна ... — Имеется в виду эпизод из эпической поэмы древнегреческого поэта Вергилия (Публия Вергилия Марона; 70—19 до н.э.) "Энеида", посвященной подвигам и странствиям Энея, одного из героев Троянской войны (I, 135). Со словами "Quos ego!" ("Я вас!"; это выражение в XIX в. вошло во французский язык) бог моря в античной мифологии Нептун (древнегреческий Посейдон) грозит ветрам, поднявшим бурю на море между островом Сицилия в Средиземном море и берегами Африки.
44 Улица Регар — расположена на левом берегу Сены в предместье Сен-Жак.
45 Сантим — мелкая французская монета, сотая часть франка. Бокаж, Пьер Франсуа (настоящая фамилия — Тузе; 1799—1862) — французский актер, особенно популярный в ролях романтического репертуара в конце 20-х и в 30-е гг. XIX в.
Дорваль, Мари ТомазАмели (1798—1849) — французская драматическая актриса, пользовавшаяся в 20-х — 30-х гг. XIX в. большой известностью в ролях романтического репертуара. Дюма был знаком с Дорваль и даже некоторое время близок с ней, высоко ценил ее талант и после ее смерти выпустил книгу "Последний год Мари Дорваль" (1855 г.).
46 ... от могильщика до Гамлета, принца Датского! — Имеется в виду сцена первая пятого акта трагедии великого английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564—1616) "Гамлет, принц Датский" — философский разговор главного ее героя с могильщиком на кладбище.
... Ане в таверне ... Йогена ... — Перед упомянутым выше разговором с Гамлетом могильщик посылает своего товарища за водкой к кабатчику Йогену. Здесь имеется в виду питейное заведение некого Йогена, помещавшееся в конце XVI — начале XVII в. в Лондоне неподалеку от театра "Глобус", где ставились пьесы Шекспира. Эта таверна упоминается и в других произведениях того времени. Мольер (настоящее имя — Жан Батист Поклен; 1622—1673) —
французский драматург, актер и театральный деятель, реформатор сценического искусства, создатель жанра социально-бытовой комедии.
Лесаж, Ален Рене (1668—1747) — французский писатель, один из создателей жанра бытового романа. Наиболее известные его романы: "Хромой бес", "История Жиль Блаза из Сантильяны".
Скотт, Вальтер (1771—1832) — английский писатель, один из создателей жанра исторического романа, сочетавшего элементы романтизма и реализма; романы В.Скотта пользовались в XIX в. в Европе огромной пропулярностью.
"Lasciate ogni speranza" ("Входящие, оставьте упованья"; варианты перевода: "Оставь надежду, всяк сюда входящий!" или "Оставь надежду навсегда") — надпись на вратах преисподней в поэме Данте "Божественная комедия" ("Ад", III, 9).
47 Мансарда — помещение на чердаке под крутым скатом крыши; получило свое название по фамилии французского архитектора Франсуа Мансара (1598—1666), охотно прибегавшего к этой архитектурной находке для достижения декоративного эффекта.
Тюилъри — королевский дворец с парком в центре Парижа, резиденция французских монархов в конце XVIII—XIX в.; построен во второй половине XVI в.; название получил от небольших кирпичных (или черепичных) заводов (tuilleries), находившихся на его месте; в 1871 г. был частично уничтожен пожаром и позднее снесен.
Собор Парижской Богоматери — одна из национальных святынь Франции, главный храм Парижа, шедевр французской готической архитектуры; расположен на острове Сите; сооружался с 1163 по 1230 гг.
Дьявол Асмодей, дон Клеофас — персонажи романа Лесажа "Хромой бес".
48 Экспозиция — здесь: вводная часть литературного произведения, содержащая сведения об основных действующих лицах и обстоятельствах, непосредственно предваряющих развитие сюжета или же завязку действия.
49 Комиссионер (от фр. comission — "поручение") — человек, который выполняет различные поручения других лиц, в том числе совершает сделки, главным образом связанные с покупкой или продажей товаров, а также занимается их транспортировкой.
50 Суконный рынок — торговое здание в центре старого Парижа, построенное в конце XVI в.; в 60-х гг. XIX в. снесено при реконструкции города.
Фонтан Избиенных младенцев — старинный фонтан напротив парижского Центрального рынка, ныне не существующего; получил свое название от находившейся здесь же одноименной церкви; воздвигнут архитектором Пьером Леско (1515-1578) и украшен скульптурами Жана Гужона.
Гужон, Жан (1510—1566) — французский скульптор и архитектор, представитель позднего Возрождения.
Полуштабный — архитектурный термин, применяемый к колоннам или пилястрам, каннелюры (желобки) которых имеют особые
украшения (прямые или витые, часто резные), доходящие примерно до трети их высоты.
Пилястры — плоские вертикальные выступы на поверхности стены, предназначенные для ее членения; имеют те же составные части и пропорции, что и колонны.
Коринфская архитектура — имеется в виду один из трех классических архитектурных ордеров (дорический, ионический, коринфский), возникших в Древней Греции; получил название от города Коринф на полуострове Пелопоннес, где он зародился; характеризуется высокими колоннами, стволы которых прорезаны каннелюрами и увенчаны пышной, узорной главой (капителью).
Наяды — в античной мифологии нимфы рек, ручьев и озер.
Бернини, Лоренцо (1598-1680) — итальянский архитектор и скульптор, представитель барокко (художественного стиля конца XVI — начала XVIII в.); архитектурный стиль Бернини отличался размахом и пышностью. Во Франции, где Бернини недолгое время работал по личному приглашению Людовика XIV и где он пользовался огромной славой, его называли "кавалер Бернен", тем самым не только "офранцуживая" его, но и "одворянивая".
Площадь Шатле — площадь и сад на правом берегу Сены против острова Сите; получила свое название от находившегося здесь и разрушенного в 1802 г. старинного замка Большой Шатле, в котором помещался парижский уголовный суд.
Сент-Шапель (Святая Капелла) — церковь, возведенная в XIII в. по приказу короля Людовика IX Святого главным образом для хранения приобретенных им священных реликвий; часть старинного королевского дворца на острове Сите (ныне — Дворец правосудия); замечательный памятник средневековой архитектуры; особенно славится своими редкостными по красоте витражами (помещенными в оконные проемы мозаичными картинами из цветного стекла) на темы Священного писания.
Левиафан — в библейских преданиях громадное морское чудовище; в переносном смысле что-то непомерно огромное.
Карл VI (1368—1422) — французский король с 1380 г.; большая часть его царствования отмечена неудачами в Столетней войне (1337-1453) с Англией и гражданскими раздорами, прежде всего враждой "бургиньонов" ("бургундцев") и "арманьяков", т.е. сторонников двух соперничающих за власть и влияние родственников короля — герцога Бургундского и герцога Орлеанского (последнего поддерживал граф д’Арманьяк). Эти потрясения в значительной мере были связаны с тяжелым психическим заболеванием Карла VI.
... Два часа четырнадцать минут!Все спокойно! Спите, парижане! — Веселящаяся толпа пародирует возгласы ночных стражников, регулярно обходивших дозором средневековые города.
... это были те же самые Гу а, Тиберы, Люилъе, Мелотты во главе с Кабошем... — Кабош, Симон (настоящее имя — Симон Лекутелье) — живодер, член влиятельной корпорации мясников; один из руководителей народных волнений в Париже в 1413 г., так называемого восстания "кабошьенов", примыкавших к партии "
бургундцев". Восставшие требовали умиротворения страны, уменьшения налогов и упорядочения их сбора. В результате давления, оказанного "кабошьенами", правительство сумело провести некоторые финансовые и экономические реформы, однако с самими восставшими вскоре свирепо расправились захватившие Париж "арманьяки". Самому Кабошу удалось бежать, и дальнейшая его судьба неизвестна.
Гуа (Ле Гуа), Тибер, Люилье, Мелотт — "кабошьены", сподвижники Симона Кабоша.
Мост Менял — первый мост, построенный в Париже; ведет от площади Шатле на остров Сите через северный рукав Сены.
Мост Сен-Мишель — один из самых старых мостов Парижа; расположен на другом берегу острова Сите прямо против моста Менял и ведет через южный рукав Сены на небольшую площадь того же названия.
Улица Лагарп — одна из самых старых в левобережной части Парижа, известна с середины XIII в.; название носит по имени одного из владельцев домов на ней.
Перрине Леклер (или Леклерк) — реальное историческое лицо: молодой человек, действительно открывший в мае (а не в июне) 1418 г. похищенными у отца ключами ворота Парижа сторонникам герцога Бургундского и убитый через несколько дней, видимо, приверженцами "арманьяков". Однако у Дюма спутаны обстоятельства, связанные с захватом города "бургундцами" ночью 29 мая 1418 г. и произошедшими двумя неделями позже событиями 12 июня 1418 г., когда парижане ворвались в тюрьмы и учинили расправу над заключенными туда видными "арманьяками" (в том числе и коннетаблем — см. ниже).
Герцог Бургундский — имеется в виду Жан Бесстрашный (1371— 1419) — французский военачальник, унаследовавший престол герцогства Бургундского в 1404 г.; принимал активное участие в феодальных усобицах, стремясь захватить правление Францией; был убит своими противниками.
Вилье де л’Илъ-Адан, Жан (1384—1437) — французский военачальник, маршал Франции; участник феодальных междоусобных войн, в которых выступал на стороне герцогов Бургундских; войдя в 1418 г. со своими войсками в Париж, способствовал резне их противников.
... епископы Кутанский, Сентский, Байёский, Санлисский, Эврёский были убиты прямо в кроватях ... — Кутанс — небольшой город в Северо-Западной Франции в провинции Нормандия, неподалеку от берегов пролива Ла-Манш.
Сент — город в Западной Франции, в современном департаменте Нижняя Шаранта, неподалеку от побережья Бискайского залива. Байё — небольшой город в Нормандии, в современном департаменте Кальвадос.
Санлис — небольшой город к северу от Парижа, в современном департаменте Уаза.
Эврё — город в Нормандии, в современном департаменте Эр. Коннетабль — одна из высших должностей при французском дворе, главнокомандующий армией; упразднена в 1627 г. Здесь речь идет о графе Бернаре VII д’Арманьяке (убит в 1418 г.; владел графством Арманьяк с 1391 г.), главе партии "арманьяков" после убийства герцога Орлеанского в 1407 г.
Канцлер — глава судебного ведомства в средневековой Франции. В описываемое время канцлером был Робер Ле Масон (ок. 1365— 1443). Вопреки тому, что пишет Дюма, он не был убит в 1418 г., а занимал этот пост еще долгие годы при короле Карле VII (1403— 1461; правил с 1422 г.) и был одним из тех, кто горячо поддержал Жанну д’Арк.
Иуда (Иуда Искариот) — согласно евангелиям, один из двенадцати апостолов Христа, предавший его. Его имя стало синонимом предательства.
Улица Сент-Андре-дез-Ар — одна из улиц, веером расходящихся (как и улица Лагарп) от моста Сен-Мишель; известна не позже чем с XII в.; в средние века была одной из главных в этом районе Парижа.
Площадь Сент-Андре-дез-Ар — находится на южном берегу Сены у моста Сен-Мишель; образована в начале XIX в. на месте снесенной церкви святого Андрея (Сент-Андре).
52 Аргус — в древнегреческой мифологии стоглазый великан, олицетворение звездного неба; пятьдесят своих глаз неизменно держал открытыми, никогда полностью не засыпая. В переносном смысле — бдительный страж, которого трудно обмануть.
Бриарей — в древнегреческой мифологии сын Урана и Геи (Неба и Земли); чудовищный великан с пятьюдесятью головами и ста руками.
Вольтер (настоящее имя — Франсуа Мари Аруэ; 1694—1778) — французский писатель, поэт, философ; выдающийся деятель эпохи Просвещения; сыграл большую роль в идейной подготовке Великой французской революции.
Улица Макон — находится на правом берегу Сены между рекой и предместьем Сент-Антуан на юго-восточной окраине Парижа; носит имя главного города департамента Сена-и-Луара.
53 Талейран-Перигор, Шарль Морис, князь (1754—1838) — выдающийся французский дипломат; происходил из старинной аристократической семьи; до Революции — священник, в 1788-1791 гг. — епископ, позднее сложил с себя сан; принимал участие в Революции; министр иностранных дел Директории в 1797-1799 гг., Наполеона (от которого получил титул князя Беневентского) в 1799—1807 гг. и Бурбонов в 1814—1815 гг.; посол Июльской монархии в Лондоне в 1830—1834 гг.; был известен крайней политической беспринципностью и корыстолюбием.
... в mom день, когда дипломат скажет правду, он обманет весь мир. — Имеется в виду известное выражение "Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли", приписываемое Талейрану. Однако подобная мысль в самых различных редакциях встречается уже у авторов древности, а также в произведениях писателей XVII— XIX вв.
... Достав из кармана фосфорную зажигалку, он хотел погрузить в нее спичку ... — До конца XVIII в. огонь в Европе добывали путем
высекания, используя кресало, огниво и трут. С начала XIX в. во многих европейских странах делались попытки, иногда достаточно успешные, добывать огонь химическим путем. Ряд изобретений сделал возможным появление в 30-х гг. XIX в. в Австрии первой фабрики, производившей химические спички, напоминающие современные. До этого использовались более сложные приспособления; одно из них и имеет в виду Дюма: в плотно закрытой свинцовой бутылочке держали флакон с особо подготовленным разведенным фосфором; серной спичкой доставали немного фосфора и тотчас же добывали огонь трением о кусочек пробки, плотной материи или о другой подходящий материал.
Кинг-чарлз — порода небольших декоративных собак; названа по имени их большого любителя английского короля Карла (Чарлза) II (правил в 1660—1685 гг.).
54 Сенбернар — очень крупная порода служебных собак; названа по имени монастыря святого Бернара в Альпах, где она была выведена; использовалась для розысков заблудившихся в метель путников. Ньюфаундленд (или водолаз) — очень крупная порода служебных собак, использовавшаяся как упряжная (их впрягали в тележки), а также для спасания на воде и на пожаре, а также для вытягивания рыбачьих сетей; названа по имени своей родины, острова Ньюфаундленд у берегов Северной Америки.
... ее поэтичное имя Фрагола ... — По-итальянски fragola — "земляника".
56 Помпеи — древнеримский город в Южной Италии, недалеко от современного Неаполя, погибший вместе с соседним городом Геркуланумом при извержении Везувия в 79 г. н.э. Начавшиеся там с 1748 г. раскопки показали, что благодаря застывшему слою вулканического пепла, который покрыл город, в нем хорошо сохранилось множество общественных и частных зданий. Обнаруженные в Помпеях образцы римского искусства оказали большое влияние на художественную жизнь в Европе.
57 Кармин — красная краска, добываемая из насекомого кошениль; употребляется также в пищевой промышленности и парфюмерии. ... Имя Регины ... навеяло на поэта воспоминание об одной девушке из высшего общества ... — На латыни regina — "королева".
Кессон — здесь: углубление квадратной или многоугольной формы на потолке или внутренней поверхности свода помещения. Перистиль — прямоугольный двор, сад или площадка, с четырех сторон окруженные крытой колоннадой.
Колорист (от лат. color — "цвет") — здесь: художник, хорошо использующий и сочетающий различные краски.
58 Брахман — член высшей жреческой касты в Индии.
Цирцея (Кирка) — в древнегреческой мифологии волшебница, владычица острова Эя на Крайнем Западе земли; колдовством обратила спутников Одиссея (см. примеч. к с. 28) в свиней, а его самого удерживала у себя целый год.
Мишле, Жюль (1798-1874) — французский историк романтического направления, придерживавшийся демократических взглядов; автор многотомных трудов по истории Франции и всеобщей истории.
"Происхождение права" — имеется в виду "Происхождение французского права", одна из первых крупных работ Мишле (1837 г.).
59 Полис (гр. polis) — город-государство в древнем мире, состоящее из городского поселения и прилегающей территории; преобладающая политическая структура в Древней Греции.
Акведук (от лат. aqua — "вода", duco — "веду") — мост или эстакада с водоводом для переброски воды; характерное приспособление для водоснабжения городов древности; в местах пересечения водовода с естественным препятствием (оврагом, дорогой и т.п.) сооружаются по сей день.
Сфинкс — в данном случае имеются в виду древнеегипетские статуи, изображающие существо с человеческой головой, но с телом льва, обычно лежащего на животе с подобранными задними и выставленными передними лапами ("поза сфинкса"). Лицо такой статуи чаще всего было портретным изображением одного из фараонов, а сама статуя считалась воплощением и охранителем царской власти.
60 Линия — единица измерения малых длин, применявшаяся во многих странах до введения в них метрической системы. Ее значение в разных странах колебалось от 2 до 2,8 мм (во Франции около 2,25 мм).
Капилляры — мельчайшие сосуды в органах и тканях человека и многих животных.
61 ... дорогой Ролан, похоже, ты, подобно своему великому тезке, был на войне? — Под "великим тезкой" подразумевается франкский маркграф Роланд (во французском произношении Ролан), герой средневекового французского эпоса XI в. "Песнь о Роланде" и ряда более поздних произведений средневековой литературы, в том числе прославленной поэмы Ариосто "Неистовый Роланд": родственник и приближенный императора Карла Великого, героически погибший во время похода в Испанию.
Ариосто Лудовико (1474—1533) — итальянский поэт и драматург.
62 Вальде-Грас — военный госпиталь в Париже, открытый в 1795 г. в здании одноименного женского монастыря, перестроенном, частично сооруженном заново архитекторами Ф.Мансаром и ЖЛе-мерсье в 1645—1655 гг. и дополненном великолепной церковью, в росписи которой участвовали лучшие художники того времени. Строительство осуществлялось по заказу королевы Анны Австрийской (1601—1666), жены Людовика XIII и матери Людовика XIV.
64 Улица Пупе — находилась в левобережной части Парижа, близ моста Сен-Мишель; ныне не существует: при перестройке города в 1857 г. вошла в бульвар Сен-Мишель, радиальную магистраль, идущую от одноименного моста в южном направлении.
Улица Сен-Жак — одна из радиальных магистралей левобережной части Парижа; ведет от Сены к югу параллельно бульвару Сен-Мишель, на небольшом расстоянии к востоку от него, и вливается за бывшими городскими укреплениями, ныне южным отрезком Бульваров, в предместье Сен-Жак, в котором в основном и происходит действие романа.
65 Больница Кошен — благотворительная больница в Париже в
предместье Сен-Жак; открыта в XVIII в.; название получила в честь одного из ее основателей — Кошена (1726-1783), священника церкви святого Иакова-Высокий порог (см. примеч. к с. 83).
... обменялся ... масонским знаком. — То есть знаком масонов (точнее, франкмасонов, от французского franc-mason — "вольные каменщики"), участников религиозно-этического движения, возникшего в начале XVIII в. и распространившегося во многих странах Европы преимущественно в дворянско-буржуазных кругах. Масоны стремились создать всемирное тайное общество, целью которого было объединение всего человечества в религиозный братский союз. Свое название и форму своих организаций — лож — они заимствовали у средневековых цехов (братств) ремесленников-ка-менщиков. Среди масонских ритуалов был и обычай обмениваться при встречах специальными жестами, по которым "братья" узнавали друг друга.
68 "Бобино" — театр-балаган, открывшийся в конце 1816 г. неподалеку от Люксембургского сада. Его основателем и владельцем был некий Сэ, чье театральное прозвище Бобино и дало название его увеселительному заведению. До конца Реставрации "Бобино" оставался балаганным театром, где представлялись пантомимы, фарсы, танцы на проволоке и т.п. После Июльской революции театр несколько раз сменил владельцев, первоначальное здание-барак было перестроено; в театре стали ставить водевили, драмы, и он получил название Люксембургского театра, хотя по традиции его еще долго называли и прежним именем "Бобино".
Святой Жан летний — имеется в виду 24 июня (в России — Иван Купала). С незапамятных времен у многих народов в ночь с 23 на 24 июня отмечался языческий праздник летнего солнцестояния. Он был узаконен христианской церковью и отождествлен с днем рождества Иоанна Крестителя.
70 ... Уж не сама ли святая Цецилия спустилась с небес ... — Святая Цецилия считается у католиков покровительницей музыкантов.
... Так могла Рахиль оплакивать сыновей в Раме... — Рама (др.-евр. — "высота", "возвышенность", "возвышенное место") — название нескольких городов в древней Палестине. В данном случае речь идет о городе, расположенном к северу от Иерусалима, и имеется в виду следующее место из Библии: "... Голос слышен в Раме, вопль и горькое рыдание; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих, ибо их нет" (Иеремия, 31:15).
71 Бах, Иоганн Себастьян (1685—1750) — великий немецкий композитор; был превосходным органистом и много писал для органа; многие его произведения написаны на религиозные сюжеты и предназначены для церковной службы.
Палестрина, Джованни Пьерлуиджи да (ок. 1525—1594) — итальянский композитор, реформатор церковной музыки.
74 Бакалавр — во многих европейских странах низшая университетская степень, возникшая еще в средние века. Во Франции присваивается выпускникам средних учебных заведений и дает право поступления в университет или иное высшее учебное заведение.
77 Муслин — тонкая мягкая ткань, шелковая или хлопчатобумажная;
ее название происходит от имени города Мосул (в современном Ираке) в его французском произношении.
Офорт — оттиск с медной или цинковой доски, многократно протравленной азотной кислотой после нанесения на ней штрихами рисунка.
Дюрер, Альбрехт (1471-1528) — выдающийся немецкий художник и гравер; один из основоположников немецкого Возрождения. "Меланхолия" — одна из трех так называемых "мастерских" гравюр Дюрера, созданных в 1513—1514 гг. и считающихся одной из вершин его творчества.
Саржа — хлопчатобумажная ткань в мелкий рубчик на лицевой стороне.
Гендель, Георг Фридрих (1685-1759) — немецкий композитор; большую часть жизни работал в Англии; оставил огромное и очень разнообразное музыкальное наследие; особым признанием пользовались его монументальные оратории на библейские сюжеты.
Псалмы — произведения древнеиудейской религиозной лирики, приписываемые второму царю Израильско-Иудейского царства Давиду (XI—X вв. до н.э.) и составляющие библейскую книгу Псалтерион (русское название — Псалтирь или Псалтырь); вошли в виде вокально-музыкальных пьес в религиозную христианскую культуру и богослужение.
Марчелло, Бенедетто (1686—1739) — итальянский композитор; прославился музыкой, написанной к текстам псалмов.
78 Коллеж Людовика Великого (с 1805 г. — лицей) — закрытое среднее учебное заведение, созданное в конце XVI в. на базе нескольких коллежей (некоторые из них были известны с начала XIV в.); действовал под руководством монахов-иезуитов. Патроном коллежа традиционно считался французский король. В 1595 г. коллеж был закрыт, но в 1674 г. восстановлен Людовиком XIV и назван в его честь; во время Революции продолжал работать под названием коллежа Равенства. В нем учились многие выдающиеся люди Франции.
Рекреация (от лат. recreatio — "восстановление", "отдых") — здесь: отдых, перемена в школе.
79 ... стихи Вергилия ... — Здесь, вероятно, имеются в виду так называемые "сельские поэмы" Вергилия: "Георгики", поэма о земледелии, и "Буколики", воспевающие любовь пастухов на лоне природы. Туника — нижняя одежда из льна или шерсти у древних римлян; род длинной рубашки.
... в лесах Версаля, Мёдона ... — Версаль — небольшой городок в окрестности Парижа в юго-западном направлении; известен главным образом грандиозным дворцово-парковым ансамблем, построенным Людовиком XIV во второй половине XVII в. и служившим главной резиденцией французских королей вплоть до Революции. Мёдон — селение к югу от Парижа, неподалеку от Версаля.
Оба эти городка еще в начале XIX в. были окружены лесами, ранее служившими местами королевской охоты.
Монморанси — небольшой городок к северу от Парижа; находится на окраине одноименного лесного массива.
80 Порпора, Никколо (1686—1766) — итальянский композитор; писал главным образом церковную музыку.
Вебер, Карл Мариа фон (1786—1826) — немецкий композитор; один из родоначальников романтического стиля в немецкой музыке.
Моцарт, Вольфганг Амадей (1756-1791) — великий австрийский композитор; обладал многосторонним дарованием: писал почти во всех современных ему музыкальных жанрах.
Гайдн, Франц Йозеф (1732-1809) — австрийский композитор, основатель венской классической школы; реформатор музыкального искусства.
Чимароза, Доменико (1749—1801) — итальянский композитор и музыкант-исполнитель, автор множества опер; в 1787—1791 гг. работал в России.
Грегорианские напевы (или грегорианские хоралы) — средневековые песнопения католической церкви, отбор текстов и музыки для которых был начат в конце VI в., при папе Григории I (в латинской транскрипции — Грегоре; ок. 540—604; папа с 590 г.), что объясняет их название; исполнялись мужским хором; строились на средневековых ладах с преобладанием звуков равной длительности, что создавало впечатление особой стройности, строгости и некоторой суровости.
Гвидо д Ареццо (Гвидо Аретинский; 990-е гг. — ок. 1050) — итальянский теоретик музыки; его реформа нотного письма стала основой современной нотной записи; изобрел один из важнейших приемов обучения пению (так называемую сольмизацию), применяемый до настоящего времени.
81 ... Казаки сгубили урожай... — В начале 1814 г., после разгрома армии Наполеона в России в 1812 г. и ряда тяжелых военных поражений французов в Германии в 1813 г., армии антинаполеоновской коалиции европейских держав, в том числе и русские войска, в состав которых входили казачьи части, вступили на территорию Франции. Перенесение военных действий на территорию этой страны было связано, как это обычно бывает в ходе любых войн, с тяжелыми моральными и материальными потерями для мирного населения.
... старый солдат Республики ... — Имеется в виду так называемая Первая республика во Франции, провозглашенная в разгар Революции, осенью 1792 г., и формально прекратившая свое существование с провозглашением Империи в 1804 г.
82 Церковь святого Иакова-Высокий порог (St. Jacques du Haut-Pas) — одна из старейших в Париже; помещается в предместье Сен-Жак на одноименной улице. В XVI—XVII вв. ее здание стало предметом спора между притязавшими на него жителями квартала и монахами соседнего монастыря, поэтому во второй половине XVII в. для местных прихожан с помощью некоторых принцев крови была построена с большой пышностью новая церковь, получившая такое причудливое название.
83 Бульвар Монпарнас — один из так называемых Южных бульваров, магистрали на левом берегу Сены, охватывающей предместья старого Парижа по линии городских застав; проходит с внешней стороны предместья Сен-Жак; проложен в середине XVIII в.; свое
название получил от находящейся поблизости возвышенности (фр. mont) Парнас.
Элегия — жанр лирической поэзии, возникший в VII в. до н.э. в Древней Греции; был популярен у французских поэтов-романти-ков в начале XIX в.
... почуял приближение 1830года... — то есть окончательное падение монархии Бурбонов в результате Июльской революции.
... земля обетованная. — То есть место, куда кто-то очень сильно стремится; здесь — спасение, выход из положения. Это выражение восходит к Священному писанию: в "Послании к Евреям" (11: 9) апостол Павел назвал обетованной (обещанной) землей Палестину, куда, согласно библейской легенде, Бог обещал привести древних иудеев после их бегства из египетского пленения (Исход, 3: 8, 17).
84 " Трудиться — значит молиться" — возможно, здесь перефразированы известные слова святого Бенедикта (см. примеч. к с. 237) "трудиться и молиться", имеющие несколько иной оттенок и относящиеся к принципам организации жизни монахов. Мысль же об искупительном — и в этом смысле святом — значении труда (пришедшая на смену прежнему представлению о труде как тяжкой повинности человечества, каре за первородный грех) была широко распространена в средние века среди верующих, особенно в монастырях, и в той или иной форме могла быть высказана многими. "Бесподобная палата" — ироническое название, которое получила первая палата депутатов, избранная после вторичной реставрации Бурбонов и начавшая свои заседания в октябре 1815 г.; состояла в громадном большинстве из роялистов и голосовала за самые реакционные и репрессивные законы. Деятельность Палаты вызвала такое возмущение в стране, что менее чем через год, в сентябре
1816 г., король по настоянию министра полиции вынужден был распустить ее.
85 "Вольный стрелок" — романтическая опера Вебера, написанная в 1820 г.; в России известна под названием "Волшебный стрелок".
"Оберон" — опера Вебера, написанная и поставленная в 1826 г.
86 ... он в Дрездене, пишет оперу для саксонского короля. — В начале
1817 г. Вебер получил пост капельмейстера саксонского короля, и с тех пор основным его местопребыванием стал Дрезден. Тем не менее, он много разъезжал по Германии и другим странам и премьеры основных его опер состоялись не в Саксонии ("Вольный стрелок" — 18 июня 1821 г. в Берлине; "Эврианта" — 25 октября 1823 г. в Вене, "Оберон" — 12 апреля 1826 г. в Лондоне, где Вебер и скончался 4 июня того же года).
88 Матрона — в Древнем Риме почтенная замужняя женщина, мать семейства.
Спарта — город-государство в Древней Греции; славилась строгими нравами и суровой гражданской добродетелью.
... как Иаков в битве с ангелом ... — Имеется в виду библейское предание о том, как праотцу Иакову, одному из родоначальников израильского народа, явился ночью некто и боролся с ним до утра. Иаков изнемогал в непосильной борьбе, но напряг все силы, чтобы не уступить (Бытие, 32: 24—29).
Аневризма (аневризм) — расширение кровеносного сосуда или полости сердца в результате выбухания их стенки.
89 Школа искусств и ремесел — вероятно, имеется в виду Национальная школа искусств и ремесел — высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, открытое в Париже во время Революции; готовила специалистов по физике, математике, химии, экономике и праву для работы в промышленности. В ее лабораториях разрабатывались проблемы мер и весов.
Прометей — в древнегреческой мифологии титан (бог старшего поколения), благородный герой и мученик; похитил для людей огонь, научил их чтению и письму, ремеслам, за что был сурово наказан верховным богом Зевсом (Юпитером).
"Sinite parvulos ad те venire" ("Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне") — слова Иисуса, обращенные им к апостолам, когда те хотели воспрепятствовать общению с ним детей.
Ветхий Завет — дохристианская часть Библии, являющаяся Священным писанием и для иудеев и для христиан.
90 Вуа — старинная французская мера объема дров, равная примерно двум кубометрам.
Госпожа Скаррон (в девичестве Франсуаза д’Обинье; 1635-1719) — с 1652 г. жена поэта и писателя Пьера Скаррона (1610-1660). Несмотря на тяжелую болезнь, приковавшую его к инвалидному креслу, Скаррон славился остроумием и веселым нравом, и их небогатый дом был центром притяжения для многих известных людей того времени. Гости Скаррона ценили красоту, ум, любезность его молодой жены и особенно свойственное ей искусство живой, занимательной беседы, заставлявшее забывать о порой скромном приеме. Через несколько лет после смерти Скаррона его вдова стала воспитательницей детей Людовика XIV и его фаворитки маркизы Монтеспан, а позднее — возлюбленной и тайной женой короля, давшего ей титул маркизы Ментенон.
92 ... явилось гомеопатическим средством ... — Гомеопатия (отгр. homoios — "подобный" и pathos — "болезнь") — система лечения путем применения в малых дозах средств, которые в больших количествах вызывают у человека явления, подобные признакам данной болезни.
93 Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н.э. — ок. 18 г. н.э.) — древнеримский поэт, автор многочисленных элегий, посланий, а также поэм, из которых наиболее известная — "Метаморфозы"; в 9 г. н.э. был выслан из Рима и до самой смерти оставался в изгнании. "Скорбные элегии", из которых взята процитированная в тексте строка, написаны в последние годы его жизни.
Застава Мен — находилась недалеко от современного бульвара Вожирар; при старом порядке на парижских заставах взимались ненавистные народу окгруа (см. примеч. к с. 187), и в начале Революции большинство их было разгромлено; два красивых павильона, составлявшие помещение заставы Мен, на какое-то время уцелели, но позднее были снесены, и к описываемому периоду место заставы стало частью департаментской дороги.
94 ... размахивая смычком, словно пылающим мечом. — В этих словах содержится намек на архангела Михаила, архистратига (предводителя) небесного воинства, чьим атрибутом был пылающий меч. Дюма шутливо сравнивает с ним своего скромного, но мужественного героя.
95 Силен — в древнегреческой мифологии воспитатель бога виноделия Диониса (Вакха); изображался в образе веселого, толстого и вечно пьяного старика с мехом вина.
... мне доводилось содержать мать и сына на сто франков в месяц... — Мать — Мари Луиза Элизабет, урожденная Лабуре (1769—1838); была замужем за отцом Дюма, генералом Республики, с 1792 г.; овдовела в 1802 г. и осталась без средств к существованию; вслед за горячо любимым и любящим сыном переехала из родного городка Виллер-Котре в Париж; с 1829 г. была парализована.
Сын — имеется в виду Александр (1824—1895), сын Дюма и его любовницы Лауры Лабе (1794—1868); усыновлен Дюма в 1831 г.; впоследствии знаменитый французский писатель и драматург Александр Дюма-сын, член Академии (с 1874 г.); в его доме (в местечке Пюи близ приморского города Дьеп на севере Франции) и на его руках Дюма-отец умер 5 декабря 1870 г.
С 1823 г. Дюма служил несколько лет в канцелярии герцога Орлеанского (сначала сверхштатным писцом, а затем делопроизводителем); жалованье его в первый год службы составляло 100 франков в месяц, затем было на треть повышено.
... в 1821 году еще говорили "Перу", как в наши дни говорят "Калифорния" ... — Завоевание и ограбление в начале XVI в. испанскими колонизаторами территории современного Перу в Южной Америке, а затем организация добычи там золота и серебра обусловили прилив в Европу огромного количества драгоценных металлов. Само слово "Перу" стало в некоторых европейских языках синонимом богатства и внезапной материальной удачи. Во Франции даже появилось выражение "найти для себя Перу", равнозначное русскому "напасть на золотую жилу". С погоней за сокровищами Перу Дюма сравнивает здесь знаменитую "золотую лихорадку", — массовое движение европейцев и американцев в Калифорнию на разработки открытых там в середине XIX в. месторождений золота. Панглос — один из героев философской повести Вольтера (см. примеч. к с. 52) "Кандид, или Оптимизм"; философ-оптимист, при любых неприятностях неизменно повторявший, что в конечном счете "все к лучшему в этом лучшем из миров". В этом его выражении содержится насмешка над формулой философского оптимизма немецкого философа, математика и физика Готфрида Вильгельма Лейбница (1646—1716), утверждавшего, что бог создал существующий мир как "наилучший из всех возможных миров".
96 Лист, Ференц (1811-1886) — венгерский композитор, пианист, дирижер и педагог; пользовался огромной славой благодаря всей своей многогранной музыкальной деятельности, особенно как редкостный пианист-виртуоз, реформатор фортепианной игры.
99 Лиценциат — степень, присваивающаяся лицам, окончившим полный курс университета; дает право преподавать в средних учебных заведениях и некоторые другие права и преимущества. Адъюнкт-профессор — преподаватель, занимающий младшую
ученую должность в научном или учебном заведении, помощник профессора.
100 ... Где же ее найти ... эту обожаемую Рахиль? — Рахиль, согласно
Библии (Бытие, 29), вторая, любимая жена праотца древних евреев Иакова. Ее отец Лаван, дядя Иакова, согласился отдать племяннику дочь за семь лет службы. Однако по истечении этого срока Лаван обманом дал ему в жены свою старшую дочь Лию, оставив его служить за младшую Рахиль еще семь лет. Таким образом, Иаков служил за любимую жену не десять, как пишет Дюма, а четырнадцать лет.
102 Доезжачий — старший псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте.
104 Ла-Буй — небольшое селение в Северо-Западной Франции в исторической провинции Нормандия, в современном департаменте Приморская Сена.
Руан — город и крупный морской порт на реке Сена в 100 км от ее устья, главный город Нормандии.
Кюре — католический приходский священник.
106 Паланкин — крытые носилки; средство передвижения в некоторых странах Востока.
107 "О сгр/гХхуС,!" — восклицание, в древнегреческом языке имеющее значение "О, вестник!", но после распространения христианства получившее и значение "О, ангел!" ("ангел" в прямом греческом значении этого слова и есть "вестник"). Такое словосочетание неоднократно встречается в Новом Завете, и в данной главе Дюма явно обыгрывает это двойное значение.
... Ее можно было принять за младшую сестру кельтской жрицы, которую с триумфом несут в священный лес. — Кельты — племена, обитавшие в первом тысячелетии до н.э. в Западной Европе, в том числе на территории современной Франции. Жрецами древних кельтов могли быть как мужчины, так и женщины. Среди характерных черт религии кельтов было почитание некоторых растений и поклонение священным деревьям: у них не было храмов, и для отправления обрядов они встречались в лесу.
109 Старая гвардия — отборные части наполеоновской армии; состояли из наиболее заслуженных воинов разных родов войск. Гвардия была создана в период Консульства и называлась сначала консульской, потом императорской. Название "старая гвардия" существовавшие к тому времени гвардейские части получили в 1807 г. после сформирования дополнительных гвардейских соединений, названных "молодой гвардией".
... отступал из России ... — Имеется в виду бегство и гибель французской армии во время Отечественной войны 1812 года.
110 ... в небезызвестном заговоре Нантеса и Берара ... — По всей вероятности, здесь опечатка и речь идет о капитане Нантиле, одном из руководителей так называемого "заговора 19 августа 1820 года". В этот день заговорщики, среди которых была большая группа военных, собирались, захватив арсенал в городке Венсен под Парижем, снабдить своих сторонников имеющимися там оружием и боеприпасами, занять дворец Тюильри и арестовать королевскую семью.
В провале заговора особую роль сыграло предательство одного из его участников, капитана Берара, который, усомнившись в успехе и испугавшись наказания, сообщил обо всем начальству, назвав имена ряда заговорщиков. Последовали многочисленные аресты. Трое руководителей заговора, в том числе Нантиль, успели скрыться и были впоследствии заочно приговорены к смертной казни. Арестованные же участники заговора были наказаны довольно мягко. Такая умеренность частично объяснялась тем, что следствие и судебный процесс тянулись около года и приговор был вынесен вскоре после того, как во Франции было получено успокоительное для правительства Бурбонов известие о смерти Наполеона.
111 Семинария Сен-Сюлъпис — учебное заведение для подготовки католических священников; открыто в середине XVII в.; одним из основателей и строителей здания семинарии был монах ордена доминиканцев аббат Жак Олье (ум. в 1657 г.), настоятель церкви святого Сульпиция, в честь которого семинария получила свое имя; пользовалась во Франции большой известностью и называлась Великой семинарией; располагалась на левом берегу Сены неподалеку от предместья Сен-Жак.
115 ... кофе не растет на Монмартре ... — В XIX в. на Монмартре (см.
примеч. к с. 5) располагались огороды и виноградники.
Мокка (Моха) — порт в Красном море на территории современного Йемена; в XVII—XVIII вв. был известен экспортом кофе; дал свое имя одному из лучших его сортов.
Мартиника — остров в Центральной Америке, один из группы Малых Антильских островов; с начала XVII в. — колония Франции (ныне заморский департамент Франции); с начала XVIII в. известен разведением кофе.
Остров Бурбон — название в XVII — начале XVIII в. французской колонии острова Реюньон в Индийском океане (ныне заморский департамент Франции); был известен производством кофе, постепенно вытесненного культивированием сахарного тростника.
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н.э.) — древнеримский поэт; автор сатир, од и письма о поэтическом искусстве, получившем еще в древности название "Наука поэзии".
117 ... со времен первой грешницы, которую ангел-хранитель Рая застиг с поличным на воровстве в райском саду ... — Имеется в виду библейский рассказ о грехопадении первых людей Адама и Евы, когда они съели плод с заповедного дерева в раю и за это были оттуда изгнаны (Бытие, 3: 1—19). Однако в данном случае у Дюма неточность: о проступке Евы, которая соблазнила мужа съесть плод, Бог узнал не от ангела, а от самого Адама.
120 Зефир — поэтическое название легкого теплого ветерка, произведенное от имени красивого юноши с крыльями бабочки — олицетворения теплого западного ветра в древнегреческой мифологии.
122 "Гюлистат — комическая опера французского композитора Нико-. ла Далейрака (настоящее имя — Никола д’Алейрак; 1753—1809), либретто популярного в начале XIX в. журналиста и литератора Шарля Гийома Этьенна (1777—1845). Либретто написано по мотивам сборника персидских сказок "Тысяча и один день",
составленного и обработанного Франсуа Пети де Ла Круа (1653-1713), французским литературоведом, историком и путешественником по Востоку. Сборник вышел в свет в 1710 г., пользовался большим успехом и многократно переиздавался. Опера впервые была поставлена в Париже в 1805 г. Серьезная критика отнеслась к ней с некоторым пренебрежением, однако она имела большой успех, и отдельные ее арии исполнялись еще много лет спустя.
124 Фортуна — богиня счастья, случая и удачи в древнеримской мифологии; в переносном смысле — успех, счастье, богатство.
... они хотели перескочить ...из четвертого класса не в третий, а сразу во второй. — В описываемое в романе время французские средние учебные заведения имели шесть классов; ученики поступали в шестой класс, переходили в пятый и т.д., а первый класс был выпускным.
125 Бетховен, Людвиг ван (1770— 1827) — великий немецкий композитор. Опера — см. примеч. к с. 8.
Итальянский театр (или Театр итальянцев; другое название — театр Итальянской комедии) — знаменитый драматический театр, существовавший в Париже с конца XVI в.; кроме итальянских пьес, ставил также пьесы классического французского репертуара; в 1762 г. слился с театром Комической оперы.
126 Герольд — в средние века вестник и глашатай, а также распорядитель празднеств, рыцарских турниров и всякого рода торжеств при дворах монархов и крупных феодалов.
127 ... подобно пастуху Вергилия, Титиру или Домету ... — Пастухи Титир и Дамет — действующие лица поэмы Вергилия "Буколики".
... и, невинная Медея, заставила нашего героя помолодеть. — Здесь ирония Дюма: в древнегреческой мифологии Медея — злая волшебница, совершившая при помощи колдовства множество преступлений. По преданию, она умела также возвращать людям молодость.
128 Таунус — самый высокий массив Рейнских Сланцевых гор в Западной Германии.
129 Праздник Тела Господня — католический церковный праздник в честь таинства пресуществления (превращения) вина и хлеба в кровь и тело Христа ("святые дары"); установлен в 1264 г.; отмечается в девятое воскресенье после Пасхи, то есть во второе воскресенье после Троицы.
Гобелен — вытканный вручную ковер-картина; такое название связано с тем, что подобные изделия производились в Париже на ковровом предприятии, основанном семьей красильщиков Гобленов (Гобеленов), переселившихся в XV в. из Реймса. По имени первых владельцев предприятия и названию производившихся на нем изделий квартал, в котором оно было расположено, получил название квартала Гобеленов (он находился неподалеку от квартала Сен-Жак). В XVII в. предприятие было куплено Людовиком XIV, превращено в королевскую мануфактуру и значительно расширено. Его изделия пользовались громкой известностью. Во времена Революции оно было заброшено, но при Империи возобновило свою деятельность и вскоре стало процветать.
Ладан — ароматическая смола некоторых видов деревьев, применяющаяся в виде благовонных курений во время религиозных служб и процессий.
Клир — совокупность священнослужителей в христианской церкви. Это понятие употребляется иногда в более узком смысле: священнослужители конкретного церковного учреждения (т.е. причт). Феория — в Древней Греции священное посольство, представлявшее какое-либо из городов-государств во время общегреческих спортивных игр, при торжественном принесении жертв, посещении оракула и т.п. В переносном смысле — группа лиц, двигающихся в торжественной процессии.
130 ... ужалила ...в самое сердце сердца, как сказал Гамлет. — Здесь цитируются слова главного героя трагедии Шекспира "Гамлет, принц Датский" (III, 2; перевод М. Лозинского).
131 Калхас — жрец и прорицатель, неоднократно упоминающийся у многих древнегреческих авторов. Согласно античной традиции, именно он потребовал от микенского царя Агамемнона, чтобы тот принес в жертву богине Артемиде (см. примеч. к с. 514) свою дочь Ифигению; жертва должна была смягчить гнев богини и обеспечить греческим кораблям на их пути к Трое (Илиону) попутный ветер. Когда после долгих колебаний Агамемнон решился на ужасную жертву, богиня смягчилась и прямо от жертвенника перенесла девушку в свой храм в Тавриде, где та стала жрицей. История Ифигении — один из известнейших сюжетов в европейской культуре (начиная с трагедий Еврипида); во Франции XVII-XVIII вв. был особенно популярен благодаря прославленной трагедии Расина "Ифигения" (1674 г.), а также пользовавшейся огромным успехом опере Глюка "Ифигения в Авлиде" (1774 г.), где Калхас прямо введен в число действующих лиц и его партия — одна из красивейших. Имя Калхаса вошло во Франции в поговорку как синоним человека, на чьи советы и предсказания можно полностью положиться.
Ментор — персонаж поэмы Гомера "Одиссея"; воспитатель сына Одиссея Телемаха (Телемака). В нарицательном смысле — наставник юношества. Имя Ментора стало популярно во Франции после выхода в 1699 г. романа "Приключения Телемака" Фенелона (Франсуа де Салиньяк де ла Мот Фенелон; 1651—1715), французского писателя и педагога, епископа города Камбре.
132 Версальский парк — см. примеч. к с. 79.
136 ... великий поэт 1830 года Барбье. — Барбье, Анри Огюст (1805—
1882) — французский поэт, впервые выступивший со стихами после Июльской революции 1830 г., которая произвела на него огромное впечатление; в них он подверг едкой критике многие из модных политических и идеологических увлечений того времени. Эти стихи, публиковавшиеся в газетах, пользовались неслыханным успехом. В 1831 г. Барбье собрал эти стихи и издал их в виде сборника "Ямбы", при его жизни выдержавшего около тридцати переизданий.
Улица Трипре — небольшая улица в левобережной части Парижа в предместье Сен-Виктор, неподалеку от Ботанического сада; ныне не существует.
137 Лиар — старинная французская медная монета стоимостью в четверть су.
Патока — сиропообразная сладкая жидкость, отходы производства сахара из свеклы или тростника.
Коррах (английское название — Куррах) — крепость в Пенджабе в Северо-Западной Индии.
. 138 ... раз в месяц несут караул... — То есть исполняют свои обязанности по охране общественного порядка в качестве солдат национальной гвардии.
140 ... пятого февраля будущего года Мине... исполнится шестнадцать. — Встречающаяся иногда в романах Дюма путаница с указанием возраста героев: на с. 109 днем рождения Мины называется 28 октября.
141 Риволи — улица в центре Парижа; проходит у королевских дворцов Пале-Рояль, Лувр и Тюильри и выходит на площадь Людовика XV; названа в честь победы Наполеона Бонапарта над австрийской армией у селения Риволи в северной Италии в 1797 г. во время войн Французской революции.
"Гондолы" — название общественных экипажей, обслуживавших в начале XIX в. окрестности Парижа. По своему устройству гондола была разновидностью берлины — крупной четырехколесной дорожной кареты. Она вмещала 12 пассажиров, сидевших на скамейках, которые были расположены по всем четырем сторонам внутреннего помещения экипажа (что несколько затрудняло вход и выход). В целом гондолы считались тяжелыми, громоздкими и довольно неудобными (в частности, из-за маленьких окон в них обычно было душно).
"Кукушки" — общественные кареты, поддерживавшие в конце XVIII — начале XIX в. сообщение между Парижем и его окрестностями; представляли собой двухколесные экипажи с одной лошадью и вмещали шесть пассажиров. Иногда дополнительные седоки, называвшиеся "обезьянами", помещались на крышу экипажа.
Площадь Людовика XV — расположена на берегу Сены между садом дворца Тюильри и проспектом Елисейские поля; одна из красивейших в городе и один из центров его планировки; спроектирована в 1757 г. вокруг статуи короля Людовика XV (1710-1774; правил с 1715 г.); в 1792—1795 гг. называлась площадью Революции и служила местом казней; много раз переименовывалась; современное название — площадь Согласия.
143 ... Госпожа де Сталь, сидя на берегу Женевского озера ... — Сталь-Гольштейн, Анна Луиза Жермена (1766—1817) — французская писательница и публицистка, теоретик литературы; противница политического деспотизма; родом из Швейцарии; в годы наполеоновского господства подверглась изгнанию. Госпожа де Сталь тяжело переживала это изгнание, что и имеет в виду Дюма, сравнивая с ней свою героиню, вынужденную покинуть любимый дом.
Женевское озеро — одно из крупнейших в Швейцарии; лежит на границе этой страны с Францией.
144 ... представляли Поля, переводящего через поток Виргинию... — Имеются в виду герои сентиментального романа французского
писателя Жака Анри Бернардена де Сен-Пьера (1737-1814) "Поль и Виргиния" (1787 г.), в котором изображается идиллическая любовь неиспорченных юноши и девушки, выросших на лоне природы и свободных от сословных предрассудков.
... муки святой Юлии... — Юлия (Иулия) — христианская святая, непорочная дева, мученица; жила, по преданию, в III в. в Малой Азии; была утоплена по приказанию местного римского правителя в 303 г. за отказ участвовать в языческой религиозной церемонии. Известна и другая святая Юлия, христианка, жившая в V в. в Карфагене; после захвата города варварским племенем вандалов она была продана в рабство и, находясь на острове Корсика, отказалась принять участие в празднествах в честь языческого божества, за что была распята; считается покровительницей Корсики.
146 ... как козел отпущения, уносящий на себе грехи всего племени. —
Имеется в виду обычай древних евреев раз в году прогонять в пустыню козла после того, как первосвященник путем специальных ритуалов возложит на него грехи, совершенные всем народом израильским за целый год. В переносном смысле козлом отпущения называют человека, на которого сваливают ответственность за чужие трудности и неудачи.
148 Каторжное ядро — в буквальном смысле: тяжелый шар, который приковывали к цепям каторжника в виде наказания за какие-либо проступки (во Франции этот вид наказания был отменен в 1857 г.). В переносном смысле — тяжкое бремя, ноша, что приходится нести человеку.
Флёрдоранж (фр. fleur d’orange) — цветок померанцевого дерева (то же, что горький апельсин); венок из этих белых цветов, считавшихся символом невинности, в старину был непременной частью свадебного наряда невесты.
151 ... воистину достойная своего имени, Селеста ... — По-французски имя Селеста (Celeste) означает "небесная".
... не дожидаясь ее канонизации после смерти. — То есть официального причисления церковью к лику святых.
152 ... кентавров, именуемых испанцами. — Кентавр — в древнегреческой мифологии получеловек-полуконь, имевший человеческую голову и торс, но круп и ноги лошади.
До вторжения испанских колонизаторов в Центральную и Южную Америку в начале XVI в. индейцы не знали лошадей и не представляли себе, что такое верховая езда. Сохранились свидетельства, что некоторые из них, впервые увидев людей, едущих верхом, принимали лошадь и всадника за одно чудесное существо (это сыграло определенную роль в быстрых успехах испанских завоевателей).
153 ... комод без ящиков ...не может предоставить то, что обещает его название. — По-французски "комод" (commode) означает "удобный".
154 Овернь — историческая провинция в Центральной Франции, в которой распространено несколько местных наречий.
156 Фиакр — наемный экипаж; название получил от особняка Сен-Фиакр в Париже, в котором в 1640 г. была открыта первая контора по найму карет.
... там можно было держать четыре пары животных... — Намек на библейскую легенду о всемирном потопе, который Бог послал на землю в наказание за грехи людей. От потопа спасся только праведник Ной с семьей в ковчеге — судне, построенном по божественному откровению. Бог повелел также взять в ковчег по семи пар всех животных и птиц чистых и по паре нечистых (Бытие, 7: 23). В устной речи и в литературе это повеление трансформировалось в образ "семь пар чистых и семь пар нечистых".
158 Некрополь (гр. necropolis от necros —"мертвый" и polis — "город") — буквально "город мертвых", то есть кладбище, могильник. Сиамские близнецы — братья Ханг и Энг (1811—1874), родившиеся в Сиаме (современный Таиланд). Эта пара близнецов срослась связкой соединительной ткани выше пупка и так прожила всю жизнь. Неоднократно показывались за деньги в Европе и Америке. В переносном смысле — нечто неразделимое.
162 "Л Matrimonio segreto"("Тайный брак") — опера Д.Чимарозы (1792 г.).
... украсив его замысловатыми триолями и ферматами. — Триоль — особая ритмическая фигура из трех нот, равная по длительности двум обычным нотам того же написания; триоли создают при звучании ощущение переливчатости.
Фермата — в нотной записи знак, увеличивающий продолжительность звучания или паузы; в обиходе так называют задержку или музыкальную паузу по усмотрению исполнителя, придающую игре особую выразительность.
166 Грум — слуга, верхом сопровождающий всадника или едущий на козлах либо на запятках эипажа; также мальчик-лакей.
Редингот — длинный сюртук особого покроя, одежда для верховой езды.
167 Аббат — в средние века почетный титул настоятеля католического монастыря; во Франции с XVII в. в обиходной речи аббатами называли также молодых людей духовного звания.
169 ... А диалог (если угодно — три ало г) продолжался. — Диалог — бе седа двух или нескольких людей. Распространенное мнение, что диалогом можно называть лишь беседу между двумя людьми, ошибочно. Оно возникло из-за того, что многозначную греческую приставку "диа" путают с приставкой "ди", означающей "надвое". Именно поэтому разговор между тремя героями Дюма шутливо предлагает называть "триалогом".
... басом, интонации которого позаимствовал впоследствии г-н Прюдом. — Господин Прюдом — созданный французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877) типический образ самодовольной посредственности, человека, любящего громогласно и самоуверенно изрекать банальности или нелепости. Имя господина Прюдома стало во Франции нарицательным; считалось, что особенно часто "господа Прюдомы" встречаются в кругах французской мелкой и средней буржуазии.
Ботанический сад — научно-исследовательское и учебное заведение в Париже; включает в себя Музей естественной истории, коллекции животных и растений; создано в конце XVIII в. на базе собственно ботанического сада, основанного в 1626 г.; помещается на левом берегу Сены неподалеку от предместья Сен-Жак.
174 ... удалялся от нового Вавилона ... — См. примеч. к с. 5.
178 Гамен — уличный мальчишка; изображенный во французской литературе тип энергичного, проказливого, очень самостоятельного и деятельного подростка, а иногда и малыша. Классическим образом парижского гамена считается Гаврош — один из героев романа Виктора Гюго "Отверженные" (1862 г.).
180 Луидор (луи, "золотой Людовика") — французская золотая монета крупного достоинства, чеканившаяся с XVII в.; в описываемое в романе время стоила 20 франков.
181 Улица Урсулинок — небольшой проезд в предместье Сен-Жак; назван так потому, что вел к монастырю женского монашеского ордена урсулинок, основанного в XVI в. и имевшего очень большое распространение во Франции до Революции.
Грязная улица — бывшая проезжая дорога; название получила от покрывавших ее нечистот; ныне не существует.
182 Улица Копо, улица Грасьёз — находятся в окрестностях Ботанического сада и принадлежат к числу старейших в Париже.
Филипп IIАвгуст (1165—1223) — король Франции с 1180 г.; успешно проводил политику централизации государства и расширил его пределы.
Сент-Пелажи — тюрьма в Париже; здание ее построено в 1665 г. как убежище для кающихся молодых женщин, сбившихся с честного пути; существовало до Революции на правах полумонастырского заведения, в 1790 г. было закрыто, а с 1792 г. преобразовано в тюрьму, куда заключали и мужчин и женщин как по политическим, так и по уголовным обвинениям. С 1797 г. по 1834 г. в Сент-Пелажи содержали главным образом неисправных должников, впоследствии туда помещали также мелких правонарушителей и несовершеннолетних преступников.
Броканта (в оригинале Brocante) — по-видимому, это имя должно означать "тряпичница", "старьевщица" и произведено Дюма от существительного brocante ("плохой товар", "барахло") или от глагола brocanter ("торговать подержанными вещами, старьем"), что соответствует изображению в романе старухи и ее жилища .
183 Фут — одна из мер длины; употреблявшийся во Франции старинный парижский фут составлял приблизительно 33,5 см.
Геркуланум — см. примеч. к с. 56.
184 ... рубашка из сурового полотна ...в какую Шеффер одевает Миньону... — Шеффер, Ари (1795—1858), французский художник голландского происхождения; оставил много картин на литературные сюжеты. Три из них посвящены изображению Миньоны, одной из героинь романа Гёте "Годы учения Вильгельма Мейстера".
.... Медея-девочка или юная Цирцея. — См. примеч. к с. 127 и 58. Фессалия — область на востоке Греции.
Абруццкие горы — возвышенный район в Центральной Италии, близ Адриатического моря.
Эльфы — божества германской мифологии; первоначально души умерших, затем — олицетворение творческих сил природы.
186 Эсон — небольшой городок неподалеку от Парижа, известный своими бумагоделательными предприятиями.
...между Жювизи и Фроманто. — Жювизи-сюр-Орж — городок в окрестностях Эсона.
187 Застава Фонтенбло — располагалась у юго-восточной окраины города; название получила от старинного замка-дворца близ Парижа, резиденции французских монархов.
Октруа — в дореволюционной Франции пошлина, взимавшаяся при ввозе в город ряда продовольственных товаров и вина.
... Они проехали по улицам Муфтар и Кле ... — Улица Муфтар находилась в населенном беднотой предместье Сен-Марсель, расположенном рядом с предместьем Сен-Жак; одна из старейших в Париже: известна с XIII в.; свое название получила от имени находящегося в этом районе холма Сефар, название которого постепенно трансформировалось в Муфтар.
Поблизости от предместья Сен-Жак расположены две улицы Кле. Здесь, по-видимому, речь идет об улице в предместье Сен-Марсель, получившей свое название от имени королевского офицера де ла Кле, который владел на ней в конце XVI в. одним из домов.
188 Улица Нёв-Сен-Медар — небольшая улица в левобережной части Парижа в предместье Сен-Жак; проложена в XVI в.; неоднократно меняла свое название; с 1877 г. называется Сен-Медар.
190 Пулярдка (пулярда, пулярка; от фр. poule — "курица") — стерилизованная и специально юткормленная курица крупной мясной породы.
Трюфели — съедобные грибы, растущие под землей.
191 Богемский хрусталь —производился в Богемии (так на ряде европейских языков называют Чехию), которая издавна была крупным центром стеклянного производства. В 1609 г. Гаспар Леман, работавший в Праге, изобрел гравировку по стеклу, и изделия, украшенные такой гравировкой, долгое время называли "богемскими", даже если они были произведены в другом месте. Позднее выражение "богемский хрусталь" приобрело и другое значение: так называли стекло, в производстве которого для получения большего блеска употребляли калиевую щелочь вместо более дешевой натриевой. Мадаполам — хлопчатобумажная бельевая ткань.
193 Антильская креолка — уроженка Антильских островов, крупного архипелага в Центральной Америке, отделяющего Карибское море от Атлантического океана.
Креолы — см. примеч. к с. 14.
Галльская жрица — то есть жрица галлов, кельтских племен, населявших в древности территорию современной Франции, Северной Италии, Бельгии, части Швейцарии и Нидерландов; галлы, которые к I в. до н.э. были покорены Римом и восприняли его цивилизацию, считаются предками современных французов.
Sinistra comix (лат.) — зловещая ворона (в буквальном переводе "ворона слева". Двойное значение слова sinistra ("левая" и "зловещая") связано с убеждением древних греков и римлян, что левая сторона является неблагоприятной, поэтому увидеть ворону слева считалось плохой приметой.
194 ... где-то между улицами Дофины и Муфтар. — Броканта избегает точного ответа и указывает место очень неопределенно: улица Дофины расположена у западной стороны предместья Сен-Жак, а улица Муфтар — у восточной.
195 Застава Сен-Жак — находилась в южной части одноименного предместья на выходе из города, замыкая улицу Предместья Сен-Жак; в 1780 г. на ее месте сформирована площадь Сен-Жак. Площадь Мобер — находится в левобережье на пересечении нескольких улиц на месте бывшей крепостной стены; примыкает к предместью Сен-Жак.
196 Калиостро, Алессандро (он же Джузеппе Бальзамо, он же граф де Феникс; 1743-1795) — один из лидеров европейского масонства, международный авантюрист и чародей-шарлатан; долгое время жил во Франции, где пользовался большой популярностью. Калиостро — герой серии романов "Записки врача", в которой Дюма весьма идеализировал его, приписав ему стремление к всеобщему равенству и братству, роль тайного организатора Великой французской революции.
Кабалистические опыты — здесь: таинственные, непонятные; название происходит от кабалы (или каббалы) — средневекового мистического течения в иудейской религии, проповедовавшего поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского алфавита.
197 ... одно из трех кабалистических слов, начертанных во время Валтасарова пира. — Имеется в виду библейское отражение реального исторического события: падения в 539 г. до н.э. Вавилонского царства, присоединенного к Персидской державе, и гибели, при взятии Вавилона, Валтасара — сына последнего вавилонского царя. Согласно Библии (Даниил, 5), во время пира Валтасара и его вельмож были осквернены священные сосуды иудеев, и тогда, к ужасу присутствующих, таинственным образом появившаяся рука начертала на стене слова "мене, текел, фарес" (в православной традиции транскрипция этой надписи: "мене, текел, упарсин"). Пророк Даниил истолковал их как предсказание скорой гибели Валтасара и падения Вавилона. В ту же ночь Валтасар был убит, а Вавилон пал. Выражение "валтасаров пир" стало нарицательным: означает "пир во время чумы", празднество накануне неизбежной гибели.
198 ... в отличие от ворона, вцепившегося в белую шерсть барашка ... — Имеется в виду басня "Ворон, вздумавший подражать орлу" французского поэта Жана де Лафонтена (1621—1695). Ее герой по примеру орла хотел унести барана, но не смог поднять его, запутался лапами в шерсти и попался в руки пастуху, а тот посадил его в клетку на забаву детям.
... старая сивилла перемешала колоду ... — Сивиллы (сибиллы) — легендарные прорицательницы древности.
200 Брелан — здесь: комбинация из трех карт одного достоинства.
204 Улица Галанд — небольшая улица около площади Мобер, внутри линии бывших крепостных стен Парижа.
206 ... прислонившись к решетке, окружавшей статую Генриха IV. —
Имеется в виду конная статуя короля Генриха IV (1553-1610; правил с 1589 г.), установленная в 1614 г. на западной оконечности острова Сите против Дворца правосудия между двумя участками Нового моста, перекинутыми через рукава Сены. Здесь речь идет об изваянии, отлитом в 1818 г. при Реставрации, после того как первая фигура была уничтожена во время Революции.
Набережная Орфевр — расположена на южной стороне острова Сите; на нее выходит часть комплекса зданий Дворца правосудия, где и поныне помещается парижская уголовная полиция.
Школьная набережная — находится в центре Парижа, идет от Нового моста к площади Лувра. Известна с 1290 г. (под другим названием); нынешнее название получила в 1300 г.
Префектура — здесь: полицейское управление Парижа.
207 "Ищите женщину!" ("Cherchez la femme!") — это крылатое выражение, перешедшее и в другие европейские языки, приобрело популярность именно благодаря роману "Парижские могикане", хотя аналогичное по смыслу выражение встречается у античных авторов. Дюма прямо заимствовал эту формулу (по-видимому, узнав из каких-то мемуаров) у начальника (генерал-лейтенанта) французской полиции де Сартина (1729-1801), персонажа своего романа "Джузеппе Бальзамо".
Пальцеходящие — устаревшее определение хищных животных, опирающихся при ходьбе только на пальцы, а не на стопы ног; современной наукой это определение признано несостоятельным, так как большинство хищников занимает положение промежуточное между пальцеи стопоходящими видами.
208 Ба-Мёдон (Нижний Мёдон) — селение вблизи Парижа к югу от города; примыкает к Мёдону.
209 Пандемониум — в мифологии центр ада; в переносном смысле — место, где либо царят всякого рода пороки, либо стоит адский шум, либо все в полном беспорядке.
Лютеция — название древнего поселения галльского племени паризиев, на месте которого стоит современный Париж; часто употребляется (особенно в литературе) как другое название этого города.
Филидор (настоящее имя — Франсуа Андре Даникан; 1726-1795) — французский композитор, один из создателей французской комической оперы; был одним из сильнейших шахматистов своего времени и автором книги "Анализ шахматной игры".
210 Рантье — человек, живущий на ренту, то есть на доход с капитала или имущества, не требующий предпринимательской деятельности.
Маре — в XVII—XVIII вв. аристократический квартал Парижа в восточной части старого города.
"Каво" (от фр. caveau — "погребок") — возникшее в 1729 г. "вакхически-поэтическое" сообщество известных литераторов, участники которого собирались в парижских кабачках или задней комнате облюбованного ресторанчика (отсюда и название). Собравшиеся пили вино, отдавали должное еде и застольной беседе, читали друг другу свои стихи, но особенно много пели (часто песни собственного сочинения). В 1739 г. общество распалось, однако через пару десятков лет было воссоздано в новом составе, но под тем же
названием. В 1806 г. в Париже было создано общество "Новый погребок" ("Le Caveau modeme"), объединившее нескольких известных поэтов-песенников, авторов водевилей и других представителей литературного, театрального, интеллектуально-художественного мира. Именно это общество и имеется здесь в виду. В 1817 г. оно распалось, однако позднее дважды воссоздавалось — сначала под другим именем, а с 1834 г. снова под первоначальным названием "Погребок" (это последнее существовало довольно долго).
Протей — в греческой мифологии морское божество, вещий и бессмертный старец, неуловимый благодаря способности принимать разные образы. В переносном смысле — человек, многократно меняющий обличье.
Тиволи — здесь: сад (небольшой парк) с симметричными рядами деревьев и четырьмя аллеями для прогулок, устроенный в Париже незадолго до революции 1789 г.; его владелец, Бутен, четыре раза в неделю пускал туда за плату публику; позднее стал парижской достопримечательностью и местом увеселений.
Бульвар Тампль — один из парижских бульваров, проложенный и благоустроенный в конце XVII — начале XVIII в. Был засажен стоящими в пять рядов крупными деревьями. Позднее там было множество кафе и мелких театров.
Иезуиты — члены Общества Иисуса, важнейшего католического монашеского ордена, основанного в XVI в. Орден ставил своей целью борьбу любыми средствами за укрепление церкви против еретиков и протестантов. Имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели.
"Философский словарь" — имеется в виду "Карманный философский словарь" ("Dictionnaire philosophique portatif") Вольтера, помеченный как лондонское издание, но выпущенный в 1764 г. в Женеве.
"Девственница" — героико-комическая фривольная поэма Вольтера "Орлеанская девственница" ("La Pucelle d’Orleans"; 1757 г.), пародия на эпопею французского поэта Жана Шаплена (1595—1674) "Девственница, или Спасенная Франция" (первые 12 песен были опубликованы в 1656 г., следующие 12 — только в начале XIX в.), посвященную героине французского народа Жанне д’Арк (ок. 1412-1431), которая возглавила борьбу с англичанами на одном из последних этапов Столетней войны (1337—1453). Целью Вольтера было осмеяние официальной легенды и религиозного культа Жанны как "святой спасительницы".
"Кандид" — см. примеч. к с. 95.
... как карающий ангел — пылающим мечом. — См. примеч. к с. 94.
211 Набережная Тюильри — идет по северному берегу Сены у королевских дворцов Лувр и Тюильри; лежит на пути от острова Сите к западным пригородам Парижа.
212 Помпадур, маркиза де (урожденная Жанна Антуанетта Пуасон, в замужестве Ленорман; 1721—1764) — фаворитка французского короля Людовика XV; оказывала большое влияние на дела управления государством.
Дюбарри, графиня (урожденная Жанна Беюо; 1743—1793) —
фаворитка Людовика XV; до встречи с королем вела чрезвычайно вольный образ жизни и пользовалась рядом псевдонимов, последний из которых — Мари Жанна Вобернье; казнена во время Революции.
... У каждого человека есть свое слабое место, своя уязвимая пята, не омытая водами Стикса. — Стикс — в древнегреческой мифологии река в подземном царстве мертвых. Богиня Фетида, мать Ахиллеса (Ахилла), храбрейшего из греческих героев, осаждавших Трою, согласно одной из легенд о нем, погружала младенца-сына в воды Стикса, чтобы сделать его неуязвимым (по другому варианту мифа — бессмертным), держа его за пятку. Эта пятка осталась единственным уязвимым местом на его теле. Отсюда возникло выражение "ахиллесова пята" в значении "уязвимое место".
213 Лозен, Арман Луи де Гонто, герцог де (1747—1793) — вероятно, имеется в виду французский аристократ, военный, участник экспедиции против англичан в Африке, Войны за независимость североамериканских колоний Англии (1775—1783) и революционных войн; в молодости вел весьма легкомысленную жизнь и прославился многочисленными любовными похождениями, иногда довольно рискованными; в 1788 г. унаследовал после дяди титул герцога Бирона; под этим именем во время Революции был казнен.
Ришелье, Луи Франсуа Арман дю Плесси, герцог де (1696—1788) — французский полководец и дипломат, маршал Франции, внучатый племянник кардинала Ришелье (1585—1642), первого министра Людовика XIII; был известен своими скандальными любовными похождениями, приводившими его несколько раз в Бастилию. Ришелье — герой романов Дюма "Шевалье д’Арманталь", "Джузеппе Бальзамо" и "Ожерелье королевы".
214 Саламандры — здесь: в древних европейских поверьях живущие в пламени духи огня.
Театр Амбигю-Комик — парижский театр комедии; возник в 1767 г. на основе детского театра марионеток (то есть кукол; назван по имени их изобретателя — итальянца Мариони).
Тэте — один из крупнейших драматических театров Парижа; возник в 60-х гг. XVIII в. как комедийный; ставил пьесы вольного содержания, неоднократно менял свое имя и направление; данное название, означающее по-французски "Веселье", принял в 90-х гг. XVIII в.; с 1800 г., вопреки своему названию, перешел на постановку мелодрам, что принесло ему большую известность.
Колдун Можи — популярный герой многочисленных произведений французской средневековой литературы; кузен мятежных вассалов Карла Великого — Рено де Монтобана и трех его братьев, которым он помог избежать разгрома в их борьбе с этим императором.
215 Великая китайская стена — колоссальное крепостное сооружение в Северном Китае, памятник древнего зодчества; тянулась, по одним сведениям, на четыре тысячи, по другим — более чем на пять тысяч километров; высота разных участков колебалась от 6,6 до Юм. Значительная часть стены сохранилась до сих пор. Была построена в основном в III в. до н.э. для защиты от набегов кочевых племен.
216 ... была воспитанницей Сен-Дени... — Имеется в виду женский
пансион (закрытое учебное заведение), основанный в небольшом городке Сен-Дени под Парижем в 1809 г. О составе воспитанниц пансиона см. примеч. к с. 219 (о Почетном легионе).
Вольтерьянец — это прозвище в XVIII — начале XIX вв. было синонимом понятия "вольнодумец".
Набережная Конферанс — расположенная на правом берегу Сены на западной окраине тогдашнего Парижа по пути в Версаль, получила имя от учрежденной неподалеку в 1633 г. заставы, в свою очередь названной так потому, что здесь в 1593 г. во время осады Парижа Генрихом IV проходили его переговоры (на дипломатическом языке того времени "конференция" — фр. conference) с властями города.
Севрский мост — пересекает Сену у селения Севр на юго-западной окраине Парижа по пути из столицы в Версаль.
217 ... Двенадцатый округ был в 1827году, да и теперь остается, самым бедным в столице ... — Округ (фр. arrondissement) — официальное название административно-территориальных районов Парижа.
В начале XIX в. двенадцатый округ включал в себя рабочие предместья южной части города: Сен-Жак, Сен-Марсель и Сен-Викгор.
Первый округ — находился в начале XIX в. на правом берегу Сены в западной части Парижа; включал в себя дворец Тюильри, предместья Сент-Оноре и Руль, а также район, прилегающий к Елисейским полям.
Обсерватория — здание для астрономических наблюдений, построенное в предместье Сен-Жак в 1667—1672 гг. архитектором Клодом Перро (ок. 1613—1688).
Улица Валъде-Грас — небольшая улица в южной части Парижа, ведущая к госпиталю Вальде-Грас (см. примеч. к с. 62) и от него получившая свое название; проложена в последние годы XVIII в.
Улица Пор-Рояль — была названа в честь монастыря в Париже, в котором в XVII—XVIII вв. существовала община видных богословов и философов, последователей голландского католического теолога Янсения (Корнелия Янсена; 1585—1638), воспринявшего некоторые идеи протестантизма.
218 Эдем — в библейском предании цветущий край, где обитали первые люди Адам и Ева до грехопадения и изгнания (синоним рая, райского сада).
Ломонос — растение с вьющимися стеблями из семейства лютиковых.
Кемпер (старое название — Кемпер-Коронтан) — город в исторической провинции Бретань, на северо-западе Франции.
Гэльская раса — имеются в виду потомки древних кельтов. (К гэльской ветви кельтских языков относятся ирландский и шотландский, из сохранившихся, а также исчезающий менский.)
... все, что уцелело от феодального замка XIII века, разрушенного во время войн в Вандее ... — Войны в Вандее (вандейские войны) — ожесточенная многолетняя борьба между республиканским правительством и восставшими против Революции и Республики крестьянами ряда департаментов Западной и Северо-Западной Франции.
Центром крестьянского движения был департамент Вандея, по имени которого оно и получило свое название ("вандейское восстание", иногда просто "Вандея"). Начавшись весной 1793 г. как выступление против массового набора в армию, движение быстро переросло в подлинную крестьянскую войну, в которой активно участвовали дворяне (частично возглавившие его), а также священники, не принявшие нового, гражданского устройства духовенства (недовольство политикой правительства относительно религии и церкви сыграло в движении существенную роль). Восставшие получали помощь из-за границы от эмигрантов и Англии. В начале этой войны мятежникам удалось добиться ряда серьезных успехов. Борьба потребовала огромного напряжения сил и сопровождалась чрезвычайными жестокостями с обеих сторон; в критический период военных действий (1793—1794) террористические мероприятия правительства приняли здесь небывалый размах. В самом конце 1794 — начале 1795 г. произошло официальное замирение на довольно выгодных для повстанцев условиях (амнистия участникам восстания, свобода отправления культа и др.), однако оно оказалось непрочным. Выступления 1795—1796 гг. были подавлены, и это положило конец вандейским войнам. Однако спокойствие в этих районах было достаточно хрупким, и еще долгое время здесь сохранялась почва для антиреспубликанских и антинаполеоновских выступлений (1799, 1813, 1815 гг.), а также заговоров.
219 Тьерри, Огюстен (1795—1856) — французский историк, один из основателей романтического направления во французской историографии; уделял большое внимание изучению средневековых хроник, работе с подлинными документами; автор серьезных исторических трудов.
Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis) — свод римского уголовного и гражданского права, составленный в 528—534 гг. по повелению византийского императора Юстиниана (482/483-565; царствовал с 527 г.).
... убитого при Шампобере во время кампании 1814 года. — В сражении у селения Шампобер к востоку от Парижа 10 февраля 1814 г. Наполеон разгромил корпус русских войск. Однако этот частный успех не мог переломить ход этой неудачной для Наполеона кампании (см. примеч. кс. 81), закончившейся вступлением союзников в Париж и отречением императора.
Школа права — так часто в просторечии назывался юридический факультет Парижского университета.
... как дочь офицера Почетного легиона... — Национальный орден Почетного легиона был учрежден первым консулом Бонапартом в 1802 г. По первоначальному замыслу Почетный легион должен был состоять из 16 когорт, в каждую из которых входили 350 легионеров, 30 офицеров, 20 командоров и 7 старших офицеров. Из числа последних составлялся также Большой совет. Впоследствии эта организация значительно изменилась, однако иерархия наград в принципе осталась той же. Награждение орденом Почетного легиона было связано с определенными правами и преимуществами (возрастающими вместе со степенью награды). В частности, в упоминавшемся выше (см. примеч. к с. 216) пансионе Сен-Дени
учились, главным образом за счет средств Почетного легиона, дочери и близкие родственницы награжденных.
222 Маска Гиппократа ("Гиппократово лицо") — описанное выдающимся древнегреческим врачом Гиппократом (ок. 460 — ок. 370 до н.э.) внешнее проявление тяжелых заболеваний органов брюшной полости. Это выражение употребляется иногда и для обозначения внешнего вида, который человек, изнуренный тяжелой болезнью, обретает в предсмертном состоянии.
223 Фра (ит. fra — "брат") — обращение к католическому монаху в Италии.
224 Улица Железной Кружки — находится в предместье Сен-Марсель, начинаясь от улицы Муфтар. Название получила в 1625 г. от имени популярного у местного населения источника, находившегося на пересечении этих двух улиц, а источник получил название, видимо, от железной кружки на вывеске известной местной кузницы.
226 Часослов — сборник молитв и песнопений для ежедневных церковных служб, совершаемых в определенное время суток и называемых "часами".
... следовать за Готье Нищим в Иерусалим со словами: "Так хочет Бог!" — Готье Нищий (в русской традиции — Вальтер Голяк), французский рыцарь, прозванный так за свою бедность, наряду со знаменитым проповедником Петром Пустынником (ум. ок. 1115 г.) — один из предводителей "народной" волны первого крестового похода (1096—1099), начальной из военно-колонизационных экспедиций, предпринятых европейскими феодалами на Ближний Восток в XI—XIII вв. с целью освобождения от мусульман Гроба Господня в Иерусалиме и установления на Святой земле христианского государства. В октябре 1096 г. пестрые отряды, приведенные Готье Нищим и Петром Пустынником в Малую Азию, были разбиты мусульманским войском, большая часть крестоносцев, в том числе и сам Готье, погибла.
"Так хочет Бог!" — восклицание, порожденное волной религиозного энтузиазма, который был вызван решением Клермонского собора (1095 г.) о начале первого крестового похода. С этими словами на устах люди оставляли свои семьи, продавали или закладывали имущество, вооружались, нашивали на одежду крест и шли в отряды крестоносцев. Позднее стало обычным восклицанием, с которым крестоносцы снаряжались в поход.
227 ... у него было немало общего с мрачным святым, которого случай сделал покровителем... юноши. — Имеется в виду святой Доминик (см. примеч. к с. 229).
Арьеж — департамент на юге Франции у границы с Испанией; название получил от реки, протекающей по его территории.
Фуа — город в Южной Франции в предгорьях Пиренеев; административный центр департамента Арьеж; в средние века — столица одноименного графства, ставшего в 1614 г. французской провинцией.
228 Аяччо — город на острове Корсика, родина Наполеона.
... в один год с Бонапартом... — То есть в 1769 г.
... он сопровождал поверженного императора на остров Эльбу, он же последовал за покинутым Наполеоном на остров Святой Елены. — См. примеч. к с. 7.
... защитить интересы его сына. — В 1815 г. Наполеон отрекся от престола в пользу своего сына — Наполеона Франсуа Жозефа Шарля (1811—1832), получившего при рождении титул Римского короля и провозглашенного бонапартистами законным императором Наполеоном Вторым. Однако этот акт державами признан не был, тем более что сам претендент еще в 1814 г. был отвезен в Вену к своему деду австрийскому императору Францу, где жил фактически в почетном плену, получив позднее титул герцога Рейхштадтского.
... во время заговора Нантеса и Берара ... — См. примеч. к с. 110.
... дабы присоединиться там к бывшему генералу Наполеона, поступившему в 1813 году на службу к князю Лахора. — Имеется в виду Ранджит-Сингх (Ранджит-Синг; 1780—1839) — правитель государства сикхов в Пенджабе (Северо-Западная Индия) с начала XIX в. по 1839 г.; первоначально правитель одного из сикхских княжеств, которые он сумел объединить перед лицом угрозы со стороны афганских ханов и английской Ост-Индской компании; провел ряд успешных реформ, сформировал регулярное войско, использовав для этого французских офицеров, участников наполеоновских войн, и долгое время вел успешные оборонительные и наступательные войны. Однако после смерти Раджит-Сингха его государство распалось и Пенджаб был завоеван в 1849 г. английской Ост-Индской компанией.
Сикхи — члены религиозной общины, сформировавшейся главным образом в Пенджабе в начале XVI в.; провозглашали равенство людей перед единым богом; выступали против кастовых, социальных и иных различий; отрицали внешние формы почитания божества и обрядность. Сикхская община отличалась крепкой организацией, строгой дисциплиной и воинственностью. В 1765 г. сикхам удалось создать в Пенджабе свое государство.
Лахор — город в Западной Индии; в 1763—1846 гг. столица независимого сикхского государства; ныне — главный город провинции Пенджаб в Пакистане.
229 ... орден доминиканцев, который во Франции существовал под именем ордена якобинцев ... — То есть монашеский орден, основанный в начале XIII в. испанским монахом Домиником (1170—1221), причисленным к лику святых; был особенно известен беспощадной борьбой с ересями (ведал инквизицией, учрежденной в 1232 г.); принадлежал к числу так называемых нищенствующих орденов: вступавшие в него давали обет бедности. Во Франции орден доминиканцев называли орденом якобинцев, поскольку на первых порах их главным центром была парижская церковь Сен-Жак (святого Якова). Впоследствии основным помещением французских доминиканцев (якобинцев) в Париже стал монастырь на улице Сент-Оноре, где в начале Революции у них стало снимать помещение "Общество друзей Конституции", получившее позднее название Якобинского клуба (по месту своих заседаний).
Сурбаран (Зурбаран), Франсиско (1598—1664) — знаменитый испанский художник, автор множества картин на религиозные сюжеты.
... гулким шагом Каменного гостя направляется на встречу с Дон Жуаном. — Имеется в виду неоднократно использовавшаяся в литературе и искусстве испанская средневековая легенда о Дон Жуане (точнее: Хуане) — вольнодумце, дерзком нарушителе религиозных и моральных норм, совратителе женщин. Согласно распространенному варианту этой легенды, Дон Жуан был низвергнут в ад Каменным гостем — дерзостно приглашенной им в гости надгробной статуей человека, которого он убил и чью дочь (по другой версии — жену) намеревался соблазнить.
231 ... для последнего, пятого акта жизни. — Здесь метафора — конец жизни (согласно художественным канонам классицизма, в пьесе обязательно должно быть пять актов).
232 ... изгородь из кустов — это даже не стена, разделявшая когда-то влюбленных Пирама и Тисбу. — Имеется в виду легенда восточного происхождения, изложенная в четвертой книге мифологического эпоса "Метаморфозы" Овидия (см. примеч. к с. 93). Влюбленные молодые люди Пирам и Тисба, которым отцы запретили вступить в брак, разговаривали друг с другом через узкую щель в стене, разделявшей их дома. Судьба их была трагичной, оба покончили с собой: Пирам — потому что по ошибке решил, будто Тисба растерзана львом, а Тисба — при виде мертвого Пирама.
233 Люксембургский сад — общественный сад при королевском дворце Люксембург, построенном в 1615 г. французским архитектором Саломоном де Броссом (1571—1626); с начала XVIII в. стал одним из любимых мест свиданий и прогулок парижан; примыкает к предместью Сен-Жак.
Арпан — старинная французская поземельная мера; в разных районах страны варьировался от 0,2 до 0,5 га; был заменен гектаром в ходе реформы мер и весов, осуществленной во время Революции.
Пер-Лашез — одно из самых больших и известных кладбищ Парижа; открыто в 1804 г.; названо по имени духовника Людовика XIV отца Лашеза (рёге La Chaise), который подолгу жил в расположенном на этом месте в XVII—XVIII в. доме призрения иезуитов. По другим сведениям, Лашез владел находившимся здесь виноградником.
... в окрестностях Персеполя, где, как говорят, родилась королева цветов. — Персеполь ("Город персов") — греческое название древнеиранской Парсы, одной из столиц Персидской державы Ахеменидов; сооруженная в VI—V вв. до н.э., в 330 г. до н.э. она была взята, разгромлена и сожжена Александром Македонским. После этого город пришел в упадок и в III в. до н.э. был покинут жителями. Парса находилась недалеко от современного города Шираза на юге Ирана. Считается, что именно район Шираза — родина розы.
Линдли, Джон (1799—1865) — английский ботаник, профессор ботаники Лондонского университета, секретарь Садоводческого общества и автор множества работ, как научных, так и популярных, посвященных разным проблемам ботаники, в том числе и прикладной (особенно садоводства).
Каролина — имеется в виду или Северная, или Южная Каролина — штаты, расположенные на юге США.
Левант — устаревшее название некоторых стран Восточного Средиземноморья, в первую очередь территории Сирии и Ливана. Нанкин (кит. Наньцзин) — один из крупнейших городов Восточного Китая.
Прованс — историческая провинция на юге Франции у берегов Средиземного моря; в IX—X вв. самостоятельное королевство, затем — графство.
Шампань — историческая провинция Франции; расположена к востоку от Парижа.
Сен-Клу — владение герцогов Орлеанских у западных окраин Парижа: замок-дворец (ныне не существует), построенный во второй половине XVII в.; был окружен большим парком.
Провен — город в Северной Франции к востоку от Парижа; известен замком XII—XIV вв. и другими памятниками средневековой архитектуры.
234 ... их привез в Провен из Сирии граф Бри ... — Бри — равнинная местность к востоку от Парижа; согласно распространенной средневековой легенде, знаменитый французский поэт, граф Шампани и Бри (а с 1234 г. и король Наварры) Тибо IV Песнопевец (1201— 1253) привез в Провен из крестового похода пленивший его восточный цветок. Этот цветок был культивирован в местных садах и затем распространился по Франции под названием провенской розы.
235 Камедь (или гумми) — густой сок, выделяющийся из надрезов коры некоторых деревьев и кустарников, главным образом южных. Эпидерма — кожица растений, тонкая покровная ткань листьев, молодых стеблей, частей цветка и плода.
Пассифлора (или страстоцвет) — род травянистых или древесных лиан с крупными пятилепестковыми цветами; произрастает в тропиках и субтропиках Америки, Азии и Австралии; красивые цветы ее используются как декоративные; некоторые виды пассифлор дают съедобные плоды, по вкусу несколько напоминающие крыжовник.
236 Лавальер, Луиза Франсуаза де Ла Бом Ле Блан де (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV, от которого получила титул герцогини; после разрыва с королем в 1674 г. удалилась в монастырь на улице Сен-Жак; оставила трактат "Размышления о милосердии Божьем"; героиня романов "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон".
... подобно душистому облаку, в котором Вергилий скрывает своих богинь ... — Дюма, по-видимому, здесь смешивает несколько эпизодов поэмы Вергилия "Энеида". В книге I поэмы (стихи 402—403) Энею является, источая от своих волос божественное благоухание, его мать — богиня любви и красоты Венера (древнегреческая Афродита). В ряде других эпизодов Венера появляется перед Энеем окруженная облаком.
... играли в прятки, как Аполлон и Дафна ... — Аполлон — в древнегреческой мифологии бог солнечного света, покровитель искусств. Согласно одному из мифов, он полюбил прекрасную нимфу Дафну, дочь Геи, богини Земли, и Пенея, бога одноименной реки. Убегая от преследований Аполлона, Дафна взывала к матери о помощи (по другому варианту мифа, она призвала на помощь отца) и была по ее просьбе превращена в лавровое дерево.
237 ... принадлежавшим католическому ордену, чье поэтическое имя вы носите. — Имеется в виду возникшее во Франции в 1451 г. женское ответвление нищенствующего католического монашеского ордена кармелитов, получившего свое название от горы Кармель (в Палестине), где в XII в. была основана первая мужская община этого ордена. Горный кряж Кармель (в русской традиции — Кармил) является местом многих описанных в Библии событий.
Церера — в древнеримской мифологии богиня полей, земледелия и хлебных злаков, одно из древнейших и наиболее чтимых италийских божеств; отождествлялась с древнегреческой Деметрой — богиней плодородия, покровительницей земледелия.
Роберт II Благочестивый (970—1031) — король Франции с 987 г.; был коронован при жизни отца — Гуго Капета (первого короля из династии Капетингов) и до смерти последнего в 996 г. был его соправителем.
Бенедиктинцы — старейший из католических монашеских орденов; основан около 530 г. в Италии святым Бенедиктом Нурсийским (480—543), реформатором западноевропейского монашества, давшим ордену устав; не требуя от монахов особо суровой аскезы, этот устав предписывал им, помимо молитв и участия в богослужениях, постоянные духовные упражнения, чтение духовных книг, обязательный физический труд, предпочтительно земледельческий, а также обучение юношества. Орден был широко распространен по всей Европе; бенедиктинцы славились тем, что они собирали, хранили, изучали, а впоследствии и издавали древние рукописи.
Аббатство Мармутье — старинный монастырь в Центральной Франции на берегу Луары неподалеку от Тура; один из наиболее богатых и известных во Франции; по преданию, основан епископом Турским святым Мартином (316 — ок. 397); во время Революции был закрыт и часть его зданий занял военный госпиталь.
Приорат — небольшой католический монастырь, часто находившийся в определенной зависимости от более крупного монастыря — аббатства. В раннем средневековье приором назывался заместитель аббата (настоятеля монастыря). При основании новых монастырей (особенно если это была "дочерняя" община самого аббатства) приоров посылали туда в качестве настоятелей. Постепенно прежнее значение слова "приор" забылось и так стали называть настоятелей небольших монастырей, а и сами эти монастыри — приоратами.
Медичи, Мария (1573—1642) — королева Франции с 1600 г., жена Генриха IV; после его смерти (в 1610 г.) — регентша при малолетнем Людовике XIII.
Климент VIII (в миру Ипполито Альдобрандини; 1536—1605) — римский папа с 1592 г.
Тереза Сепеда (или Тереза из Авилы; 1515—1582) — испанская монахиня и писательница, прославившаяся мистицизмом и своими видениями; в 1533 г. вступила в монастырь кармелиток; позднее реформировала устав этого ордена, сделав его более суровым;
оставила широко известную автобиографию, много интересных писем и два мистико-религиозных трактата; при жизни преследовалась инквизицией, но в 1614 г. была объявлена "блаженной", а в 1622 г. провозглашена святой. Католическая церковь, подчеркивая святость Терезы, называет ее "серафической девой" (серафим — высший из чинов ангельских в Священном писании; отсюда прилагательное "серафический").
238 Бергамаск (или бергамаска) — итальянский народный танец, сопровождаемый веселой мелодией; название получил от горной области Бергамаска, в провинции Бергамо.
"Те Deum laudamus" ("Тебе, Бога, хвалим") — христианский гимн, авторство которого приписывается святому Амвросию (IV в.). В католических церквах поется чаще всего в конце утренней службы, а также при благодарственных молебствиях по случаю торжественных событий.
239 ...В тысяча семьсот девяностом году декретом Национального собрания монастырь был закрыт. — Речь идет о декрете от 13 февраля 1790 г., принятом Национальным Учредительным собранием — высшим законодательным органом страны на первом этапе Французской революции (1789—1791). В соответствии с этим декретом впредь государство не признавало монашеских обетов, все религиозные ордена объявлялись упраздненными, монахи и монахини, которые пожелали бы покинуть монастыри, имели право это сделать и, после соответствующего заявления в муниципалитет, получали определенные средства к существованию в виде пенсии, а те, кто хотел бы продолжить монашескую жизнь, получали такую возможность: мужчины в специально отведенных для этого домах, а женщины в своих прежних монастырях. После свержения монархии в 1792 г. оставшиеся монастыри были закрыты.
... изображенной Лебреном в образе Магдалины ... — Лебрен (Ле Брен), Шарль (1619—1690) — французский художник; основатель Королевской академии живописи и скульптуры; создатель официального придворного художественного стиля Людовика XIV. Распространенное мнение, будто принадлежащее его кисти изображение Марии Магдалины (см. примеч. к с. 9) в церкви монастыря Вальде-Грас написано им с мадемуазель де Лавальер, — легенда.
240 Луиза Милосердная (правильнее — Луиза от Милосердия) — имя, принятое мадемуазель де Лавальер в монашестве.
241 Улица Анфер — в XIX в. одна из главных в предместье Сен-Жак; проходила через него с севера на юг; с конца столетия разделена на несколько улиц, носящих другие названия.
242 Бюлъбюлъ (или коротконогий дрозд) — певчая птица, два вида которой (бюльбюль темный и серый) живут в Индии, Передней Азии и Африке (в районе Нила).
... подобно тростнику царя Мидаса ... — Имеется в виду древнегреческий миф о музыкальном состязании между Аполлоном (см. примеч. к с. 236) и богом стад, лесов и полей Паном (по другой версии сатиром Марсием). Царь Лидии (государства в Малой Азии) Мидас, один из судей, отдал предпочтение Пану. Оскорбленный Аполлон в наказание наделил его ослиными ушами. Мидас тщательно прятал их под головным убором, и о том, что у царя ослиные уши,
знал только его цирюльник. Невозможность ни с кем поделиться царской тайной так тяготила этого человека, что он рассказал о ней вырытой им яме. Из ямы вырос тростник, который под ветром прошелестел эту тайну прохожим, и уродство Мидаса перестало быть секретом.
Феба — в античных мифах дочь Неба и Земли, отождествляемая с Селеной, богиней Луны, и с самой Луной.
Эндимион — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини луны Селены (или Фебы). По одному варианту мифа, Селена усыпила Эндимиона, чтобы беспрепятственно навещать и целовать его в уединенной пещере; по другому — Эндимион сам выбрал вечный сон, чтобы сохранить красоту и юность. Образ спящего Эндимиона — распространенный сюжет изобразительного искусства.
244 Турецкая собачка — порода маленьких охотничьих собак южноамериканского происхождения, похожих на шпицев; долгое время считалось, что эти собаки родом из Турции, отчего они и получили свое название.
Луизиана — ныне штат на юго-востоке США в нижнем течении реки Миссисипи. Первоначально под этим именем подразумевали огромную зону французской колонизации, охватывавшую почти весь бассейн реки Миссисипи. В конце XVIII в. Франция вынуждена была уступить эти территории Испании и Англии, но в 1800 г. дипломатическим путем вернула себе часть владений; в 1803 г. Наполеон продал США возвращенные земли. Однако среди жителей Луизианы было много выходцев из Франции или их потомков, и французский язык, французская культура долго сохраняли там свое влияние.
245 ... оторвал от земли, сдавил изо всех сил, как Геракл Антея ... — Имеется в виду древнегреческий миф о единоборстве великана Антея, сына бога морей Посейдона и богини Земли Геи, и величайшего из героев Геракла. Победить Антея было невозможно, ибо, поверженный, он черпал новые силы от прикосновения к матери Земле. Но Геракл поднял великана на воздух и задушил его.
Дюгеклен, Бертран (1320—1380) — знаменитый французский воин и полководец, коннетабль Франции; участник Столетней войны с Англией; прославился в многочисленных сражениях и на рыцарских турнирах, в которых участвовал с юных лет. Уже при его жизни о нем стали складывать песни и баллады, а впоследствии его имя окружило множество легенд, в которых он неизменно выступает как образец не только доблести, но и всех рыцарских добродетелей (что не всегда согласуется с истиной). Дюгеклен был родом из Бретани, поэтому Дюма и называет его земляком Коломбана. Дюгеклен — герой романа Дюма "Бастард де Молеон".
247 Гуайява — тропическое дерево (или крупный кустарник) с кисло-сладким, сочным и ароматным плодом; родина его — тропическая зона Америки.
... незадолго до окончания класса философии. — Так назывался выпускной класс во французских средних учебных заведениях.
248 ... ни один выпускник Саламанки ... — Имеется в виду один из ста-
19-493 рейших европейских университетов в испанском городе Саламанка; был основан в 1239 г. и особенно славился своим богословским факультетом.
Сольфеджио — вокальные упражнения для развития музыкального слуха и голоса, а также для приобретения навыков пения нот. Контральто — низкий женский голос.
250 ... расшатал бы, как Самсон, колонны храма ... — Библейский судия народа израильского богатырь Самсон врагами был хитростью лишен силы, заключавшейся в его волосах, ослеплен и прикован к колоннам в их храме. Когда его волосы отросли и сила вернулась к нему, Самсон расшатал колонны, обрушил храм и погиб вместе с неприятелями (Судей, 16: 19-30).
251 Исида (Изида) — важнейшая из богинь древнего Египта, покровительница плодородия, материнства, жизни и здоровья, олицетворение супружеской верности.
... Помнишь латинскую поговорку: "Если споткнешься, выходя из дома, или увидишь слева ворона, ступай назад!" — Такой поговорки обнаружить не удалось; однако обе упомянутые здесь плохие приметы действительно существовали в древности (см. также примеч. к с. 193).
253 ... как настоящий Робинзон ... — То есть как Робинзон Крузо — герой знаменитого романа английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660-1731), моряк, вынужденный после кораблекрушения много лет прожить в одиночестве на необитаемом острове.
Гавр — крупный город и порт на севере Франции.
Пакетбот — в XIX в. парусное или паровое судно, совершавшее между отдельными портами регулярные рейсы для перевозки грузов, почты и пассажиров.
Площадь Сорбонны — площадь в университетском квартале Парижа перед церковью Университета.
Сорбонна — распространенное с XVII в. неофициальное название богословского факультета, а затем и всего Парижского университета; происходит от фамилии французского теолога Пьера де Сорбона (1201—1274), основателя теологического коллежа, ставшего затем университетским факультетом.
Пурос — сорт сигар; воспет во французской поэзии первой половины XIX в.
254 ... Ротшильд и Лаффит в подметки мне не годятся! — Ротшильд — имеется в виду барон Джеймс Ротшильд (1792—1868), глава крупнейшего парижского банка, один из пяти сыновей основателя банкирской династии Ротшильдов — Меира Ансельма Ротшильда (1743—1812) из Франкфурта-на-Майне. Пять братьев Ротшильдов возглавляли крупные банкирские дома во Франкфурте, Париже, Лондоне, Неаполе и Вене.
Лаффит, Жак (1767—1844) — французский банкир и политический деятель; сыграл видную роль во время Июльской революции, поддержав кандидатуру Луи Филиппа Орлеанского на престол; в 1830— 1831 гг. глава правительства и министр финансов; в эпоху Реставрации был одним из богатейших людей Франции, но к концу жизни почти разорился.
В период, описываемый в романе, имена Ротшильда и Лаффита звучали как синоним богатства.
Ливр — французская серебряная монета, основная денежная единица страны до конца XVIII в., когда была заменена почти равным ей по стоимости франком.
Тюилъри — см. примеч. к с.47.
Сен-Клу — см. примеч. к с. 233.
Рамбуйе — феодальный замок XIV—XV вв. в окрестности Парижа, перестроенный в XVI—XVIII вв. в загородный дворец с большим парком и лесом — места королевских охот.
255 Делавинъ, Казимир Жан Франсуа (1793— 1843) — французский поэт и драматург; автор популярных трагедий на историко-романтические сюжеты.
256 Кастор — в древнегреческой мифологии воин-герой, прославившийся своими подвигами и дружбой с братом-близнецом Полидевком (Поллуксом). В мифах братья обычно фигурируют вместе под прозвищем Диоскуры.
Антиной (ум. в 130 г.) — греческий юноша, любимец римского императора Адриана (Публий Элий Адриан; 76—138; правил с 117 г.); считался идеалом красоты и был обожествлен после смерти.
Гермафродит — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, сын бога Гермеса (древнеримского Меркурия), покровителя путешественников и купцов, вестника верховного бога Зевса и богини любви и красоты Афродиты (Венеры). По просьбе влюбленной в него нимфы боги объединили ее с юношей в одном двуполом существе.
... пересек оба рукава Сены и вышел на улицу Клери. — То есть пересек всю правобережную часть старого Парижа. Улица эта расположена около северного отрезка Больших бульваров и ведет к бывшим крепостным воротам города; название получила от находившегося на ней в начале XVII в. одноименного особняка.
259 Огайо — река в США, левый приток Миссисипи; дала свое название одному из американских штатов на северо-востоке страны.
Делос (современное название — Дилос) — остров в Эгейском море; важный религиозный центр Древней Греции.
Кея (Ция, современный Кеос) — один из греческих островов в Эгейском море.
Пафос — древний город на острове Кипр, известный храмом Афродиты; острова Пафос, как то пишет Дюма, не существует.
Кифера (современное название — Китира) — остров в Средиземном море у южной оконечности Греции.
Парос — греческий остров в Эгейском море.
Итака — один из Ионических островов; часто отождествляется с царством Одиссея — легендарной Итакой, прославленной в древнегреческой мифологии и эпосе; однако не все ученые с этим согласны.
Лесбос (Митилини) — греческий остров в Средиземном море у побережья Малой Азии; важный экономический центр Древней Греции.
19*
579
Амафонт — древний город на острове Кипр, к востоку от современного Лимассола; был известен как один из центров культа Афродиты.
Ионический архипелаг (точнее: Ионические острова) — островная группа у западного побережья Балканского полуострова.
... под абидосскими олеандрами ... — Абидос — древний греческий город в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы.
Олеандр — вид декоративных вечнозеленых кустарников, произрастающих в странах Средиземноморья.
260 Монмартр — см. примеч. к с. 5.
Пирей — город в Греции на побережье одного из заливов Эгейского моря; с V в. до н.э. приморская крепость, военный и торговый порт Афин, расположенных неподалеку.
... актер, исполнявший в комедии жизни Камилла роль резонера, как Арист, Филинт, Клеант при Дамисе или Валере... — Резонер (от фр. raison — "разум") — в пьесах классического репертуара традиционная фигура друга или родственника главного героя (героя-любов-ника); подавал ему советы и учил благоразумию. Перечисленные здесь имена являются традиционными для французских комедий XVII в.; конкретно же имеются в виду герои нескольких комедий Мольера (см. примеч. к с. 46).
261 ... закажу для него шагреневый переплет, и пусть это будет трогательным напоминанием о том, что когда-то я причинял тебе огорчения. — То есть переплет из так называемой шагрени — кожи, выделанной с помощью продуктов переработки каменного угля и приобретшей после этого некоторые особые свойства.
Здесь игра слов: chagrin по-французски означает не только "шагрень", но и "печаль", "огорчение".
Святой Иероним (340/346—420) — виднейший святой католической церкви; переводчик Библии на латинский язык (так называемой "Вульгаты"); был особенно известен как пламенный проповедник, сторонник аскетизма и обличитель пороков.
... королевой Средокрестья! — То есть четверга третьей недели Великого поста; этот день во Франции традиционно является днем развлечений.
262 ... По-вашему, господин де Беранже, увлекавшийся своей Лизеттой, — хам, простолюдин ... — Беранже, Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт-песенник, убежденный демократ; сумел преобразить избранный им жанр песни, поднявшись до лучших образцов лирической и политической поэзии. Был исключительно популярен в XIX в. во Франции, а также в некоторых других странах, особенно в России.
Лизетта — муза Беранже, героиня многих его стихов; простая девушка-работница, бедная, но веселая, добрая и отзывчивая; по существу — собирательный образ дочери народа.
... песенка, в которой поэт говорит, что он не благородного, а, наоборот, низкого ... происхождения ... — Это стихотворение Беранже "Простолюдин" (1815 г.).
Фретийон ("Резвушка") — прозвище героини одноименного стихотворения Беранже.
... Верховное Существо всячески старается раскрыть тебе глаза... — В данном случае выражение "Верховное Существо" употребляется просто как синоним слова "Бог". Понятие "Верховное Существо" стало распространенным во Франции со времен Великой французской революции, когда якобинцы-робеспьеристы на последнем этапе своего правления (май 1794 г.) попытались ввести, в противовес как прежним официальным религиям, прежде всего католической, так и усиливающемуся атеизму, гражданский культ Верховного Существа, основанный на вере в Бога и бессмертие души, но одновременно на патриотических ценностях и общественных добродетелях.
"Сидящая мадонна" — по всей вероятности, имеется в виду картина Рафаэля "Мадонна в кресле" (1514—1515). Однако ее никогда не связывали с именем Форнарины. Следует упомянуть, что эта картина была особенно широко известна во Франции, ибо по приказу Наполеона была отправлена в Париж и вернулась в Италию только после падения Империи.
Тибр — река в Италии, на которой стоит Рим.
Рипетта — один из двух портов на Тибре, через которые проходили товары, поступавшие в Рим морем; через них же прибывали в Рим морским путем пассажиры. Близ порта Рипетта проходит и римская улица Рипетта, имеющая выход к Тибру.
263 ... белой голубкой влетела в твой ковчег ... — Намек на один из эпизодов библейской легенды о всемирном потопе (см. примеч. к с. 156): когда прекратился дождь, посланный Богом на землю, Ной выпустил из ковчега голубя, и тот вернулся с масличным листом в клюве — знаком, что потоп кончился (Бытие, 8: 10—11).
... "покрылись все высокие горы", как сказано в Библии ... — Бытие, 7: 19.
264 Метр Амьо — вероятно, имеется в виду французский церковный деятель Жак Амьо (1513—1593), знаток древних языков и переводчик латинских авторов; особенно славились его переводы произведений Плутарха.
Ипполит — в древнегреческой мифологии сын великого героя, царя Афин Тесея (Тезея). Согласно преданию, жена Тесея Федра, мачеха Ипполита, влюбилась в пасынка и, отвергнутая им, обвинила его перед отцом в покушении на ее честь. Разгневанный Тесей изгнал сына, призвав на его голову гнев бога морей Посейдона. Навстречу уезжавшему Ипполиту вышло из моря посланное Посейдоном чудовище с бычьей головой; испуганные кони понесли, и Ипполит погиб. Федра, узнав о его гибели, наложила на себя руки. История Федры и Ипполита неоднократно использовалась в литературе. В данном случае цитируются слова Ипполита из трагедии французского поэта и драматурга Жана Расина (1639—1699) "Федра" (1677 г.).
Тартюф — главное действующее лицо прославленной комедии Мольера "Тартюф, или Обманщик" (1664 г.); это тип человека, прикрывающего маской добродетели и благочестия низменные помыслы и поступки. Его имя стало синонимом лицемерия и ханжества.
Утрехтский бархат — ткань, произведенная в городе Утрехт в Нидерландах, известном своими текстильными фабриками, бархат высокого качества.
Тик — плотная льняная или хлопчатобумажная ткань с рисунком в виде продольных полос. Обычно употребляется как обивочный материал.
Сократ — см. примеч. к с. 15.
265 Дуб и тростник. — Название главы заимствовано у Лафонтена: так называется одна из его басен; в ней могучий дуб жалеет слабый тростник, которого каждый порыв ветра гнет долу. Но тростник отвечает, что вполне доволен своей участью: сгибаясь, он не ломается. Налетевшая буря подтверждает его правоту — гнувшийся к земле камыш уцелел, а гордо противостоявший стихии дуб оказался вырванным с корнем. (Дюма намекает тут на разницу во внешности и характерах Коломбана и Камилла.)
266 Максима — краткое, четко сформулированное изречение, содержащее нравственное правило или принцип, поучение, а иногда и житейское наблюдение.
Улица Турнон — находится на левом берегу Сены, выходит прямо к Люксембургскому дворцу; свое название получила в XVI в. от имени государственного деятеля Франции кардинала Франсуа де Турнона (1490—1562), аббата расположенного неподалеку монастыря Сен-Жермен-де-Пре.
Паромная улица — расположена на левом берегу Сены; названа так потому, что в XVI в. вела к переправе, по которой доставлялся камень для строительства дворца Тюильри.
269 ... платить за стул в церкви? — В католических церквах, где во время службы можно сидеть, стулья иногда предоставлялись за деньги. Такая "хозяйка" церковных мест, тетушка Анжелика, выведена Дюма в романах "Анж Питу" и "Графиня де Шарни".
270 ... стал бы ты прерывать Терамена на десятом стихе? — Терамен — воспитатель Ипполита (см. примеч. к с. 264). В данном случае речь идет о сцене из "Федры" Расина, когда Терамен приносит Тесею весть о гибели Ипполита (V, 6).
272 Пастораль — здесь: опера, балет или небольшая сценка театрального представления в Европе XVI—XVII вв., изображающие безмятежную жизнь пастухов и пастушек на лоне природы.
273 ... как супруга Цезаря: ее не должно коснуться даже подозрение! — Здесь обыгрывается ставшая крылатой фраза древнеримского политического деятеля, полководца и писателя Гая Юлия Цезаря (102/100—44 до н.э.) "Жена Цезаря должна быть выше подозрений". Слова эти были сказаны на судебном процессе по поводу обвинения одного современника в совершении кощунства — он проник на религиозный праздник, на котором могли присутствовать только женщины и который в своем доме справляла Помпея, жена Цезаря. На суде Цезарь ни в чем не обвинял супругу, а на вопрос, почему же он в таком случае потребовал развода, пояснил, что его жену не должно касаться даже подозрение.
274 Роберт Сильный, граф Анжуйский (ум. в 866 г.) — родоначальник дома Капетингов, будущих королей Франции. Называя Коломбана потомком Роберта Сильного, Камилл подчеркивает, что по древности род его друга не уступает королевскому.
278 Кадриль — популярный в XVIII—XIX вв. салонный танец с четным количеством пар, располагавшихся одна против другой и исполнявших танцевальные фигуры поочередно.
Каприччо (каприччио) — инструментальная пьеса виртуозного характера.
Гавот — старинный французский танец; произошел от народного хороводного танца, а в XVII-XVIII вв. приобрел несколько иной характер и стал придворным. Композиторы с XVIII в. начали вводить его в оперы и балеты, и он приобрел популярность как самостоятельный музыкальный номер.
279 Россини, Джоаккино Антонио (1792— 1868) — итальянский композитор, прославившийся главным образом своими операми.
Беллини, Винченцо (1801-1835) — итальянский композитор, автор опер, большая часть которых пользовалась исключительным успехом; в его творчестве отразились патриотические настроения итальянского народа в то время, когда большая часть страны находилась под австрийским владычеством.
Меюлъ (Мегюль), Этьенн (1763—1817) — французский композитор и музыкальный деятель, один из основателей Парижской консерватории; автор комических опер и популярной революционной "Походной песни", организатор массовых празднеств во время Революции.
Гретри, Андре Эрнест Модест (1741—1813) — французский композитор, по происхождению бельгиец; автор комических, а в годы Французской революции — народно-патриотических опер.
"Иосиф" — опера Меюля на библейский сюжет об Иосифе, сыне праотца Иакова, первенце его любимой жены Рахили (см. примеч. к с. 100). Иосиф был продан в рабство ревнивыми братьями, завидовавшими отцовскому любимцу, и увезен в Египет, где он сумел возвыситься и, не помня зла, переселил к себе весь свой род, осыпав его благодеяниями.
Хеврон — один из древнейших городов Палестины; место действия многих событий, упоминаемых в Библии; находится несколько южнее Иерусалима.
"Дон Жуан" — опера Моцарта (1787 г.).
283 Улица Сайте — расположена в предместье Сен-Жак южнее Люксембургского сада; окончательно сформировалась в середине XIX в. и получила свое название в честь больницы "Дом Сайте" ("Дом здоровья"), иначе называемой больницей святой Анны; в начале XIX в. это имя носила только часть улицы.
Хиромант — человек, занимающийся хиромантией, гаданием по линиям и бугоркам ладони человека.
Марсов бугор — лежит у основания ладони человека (у запястья); в хиромантии отмечен знаком планеты Марс; по нему судят о способностях человека.
285 ... скала его родных берегов, о которую шесть тысячелетий разбива ются волны — То есть от сотворения мира.
289 ... Подобно юному спартанцу, он с улыбкой наблюдал за тем, как рвут его тело. — Имеется в виду рассказ древнегреческого писателя и историка Плутарха (ок. 45 — ок. 127 н.э.), автора "Сравнительных жизнеописаний" знаменитых греков и римлян, о воспитании, которое жители Спарты давали своим детям, чтобы вырастить их настоящими воинами (выражение "спартанское воспитание" потом вошло в поговорку). Однажды, повествует Плутарх, некий мальчик украл лисенка и спрятал его под плащом; отчаянно пытаясь освободиться, зверек когтями и зубами разорвал ему живот, но мальчик ничем не выдал страданий и скрывал лисенка, пока не умер. Впоследствии этот поступок стал легендарным примером подлинно спартанской доблести в юном возрасте ("Ликург", XVIII).
293 ... Возвращаться одной в Ванвр было слишком поздно!— Скорее всего,
имеется в виду Ванв (Vanves, а не Vanvres — Ванвр) — в XIX в. селение у южной окраины города; ныне входит в черту Большого Парижа.
Малерб, Франсуа де (ок. 1555—1628) — французский поэт, теоретик классицизма.
296 Летаргическое оцепенение — то есть летаргия, летаргический сон, болезненное состояние, которое может продолжаться долгое время, сон с почти полной потерей дыхания и пульса.
Магнетический сон — здесь имеется в виду сон под влиянием гипноза, иногда в быту называвшийся магнетическим. Однако в то же время магнетическим называли сон, в который погружались некоторые пациенты австрийского врача Франца Антона Месмера (1733—1815), выдвинувшего во второй половине XVIII в. теорию о магнетическом влиянии планет на организм и о способности человека, овладевшего этой силой, применять ее для лечения больных. Магнетический сеанс Месмера описал Дюма в первой части романа "Ожерелье королевы". Сторонники и практики магнетического лечения резко возражали против переноса названия магнетизма на гипноз, указывая на принципиальную противоположность этих явлений.
299 Шоссе д ’Антен — аристократическая улица в северной части Парижа вне пределов старых крепостных стен; прежде была дорогой, которая вела к северным пригородам; свое название получила в начале XVIII в. по имени владельца одного из особняков; во время Революции была переименована, но при Реставрации старое имя было восстановлено.
301 ... домик был построен ...на манер тех сельских хижин, какие сорока годами раньше королева Мария Антуанетта завела в Малом Трианоне. — Имеется в виду так называемый Каприз — игрушечная ферма, построенная по приказу Марии Антуанетты в садах Версаля. Там королева и ее придворные "играли" в деревенскую жизнь. Мария Антуанетта (1755—1793) — французская королева в 1774— 1792 гг., жена короля Людовика XVI; во время Революции была казнена.
Малый Трианон — небольшой дворец в дворцово-парковом ансамбле Версаля; был построен архитектором Ж.А. Габриелем (1698— 1782) в 1773 г.; любимое место Марии Антуанетты.
Кирказон — род растений (травы или древесные лианы) с сердце-
видными листьями и некрупными, своеобразного строения цветками. Скорее всего в данном случае речь идет о кирказоне широколистном — вьющемся декоративном растении.
302 Шале — небольшой сельский или загородный дом, обычно используемый для отдыха; название было заимствовано из Швейцарии, где так называют сельские домики в горах, чаще всего деревянные.
304 Вольеки — одно из племен Центральной Италии, которое в V— ГУ вв. до н.э. вело упорную борьбу с Римом; однако во второй половине ГУ в. до н.э. вольеки были окончательно покорены и впоследствии ассимилированы римлянами. Последующее рассуждение Дюма о судьбе мельниц поясняет, почему визит на мельницу Камилла и двух девушек он сравнивает с посещением исчезнувшего племени.
Бюлоз, Франсуа (1803—1877) — французский журналист и редактор; в течение более 40 лет (с 1831 г.) редактировал журнал "Revue des deux mondes" ("Обозрение Старого и Нового света") и сумел сделать его одним из наиболее интересных и влиятельных печатных изданий своего времени.
Вольтов столб — источник длительного постоянного тока, изобретенный на рубеже XVIII и XIX вв. итальянским физиком и физиологом Алессандро Вольта (1745—1827), одним из первых ученых, открывших и исследовавших электрический ток. Прибор состоял из 20 пар медных и цинковых кружков, разделенных кружками из сукна, смоченными соленой водой.
Амазонки — в древнегреческой мифологии народ женщин-воитель-ниц, живших в Малой Азии или на берегах Азовского моря. В переносном смысле амазонка — женщина-всадница.
305 ... мадемуазель Пакеретту, графиню дю Батуар. — Намек на профессию девушки: французское слово battoir означает "валёк прачки". ... никогда еще любовное воркование не вылетало из такого розового и свежего гнездышка! — Здесь игра слов и одновременно намек на фамилию Пакеретты: colombier по-французски значит "голубятня".
306 Руджери — по всей вероятности, имеется в виду Козимо Руджери (ум. в 1615 г.), астролог французской королевы Екатерины Медичи (1519-1589), умный и ловкий придворный, замешанный во множестве дворцовых интриг; персонаж пьесы Дюма "Двор Генриха III" (1829 г.).
307 Пиротехник — человек, занимающийся пиротехникой, то есть изготовлением и применением сигнальных, зажигательных и дымовых составов, ракет, потешных огней и т.д. В данном случае иносказание — человек, пытающийся пустить дым в глаза, обмануть, очаровать.
... возвращалась, если можно так выразиться, к своим баранам. — "Вернемся к нашим баранам" — вошедшая в поговорку фраза из знаменитого средневекового французского фарса "Адвокат Пьер Патлен"; употребляется в значении "вернемся к теме или к делу, от которых мы отвлеклись".
309 ... У Вефура, черт возьми! — Вероятно, имеется в виду знаменитый своей кухней ресторан "Большой Вефур", который посещали многие выдающиеся люди конца XVIII — начала XIX в. Открытый в
1740 г. в другом месте, ресторан в описываемое в романе время помещался в одном из флигелей Пале-Рояля. В галерее другого флигеля в то же время помещался ресторан "Малый Вефур".
... За монету в тридцать су — в те времена еще были в ходу такие монеты ... — Серебряные монеты стоимостью в 30 су (полтора франка) чеканились во время Великой французской революции.
312 Лаиса (Лайда) — имя нескольких известных греческих гетер (женщин, ведущих свободный образ жизни), из которых особенно славились Лаиса Старшая и Лаиса Младшая, жившие в V в. до н.э. Жизнь их окружена множеством легенд, в которых обеих Лаис трудно отличить одну от другой. Возможно, говоря об убежище Лаисы, Дюма имеет в виду печальную историю гибели Лаисы Младшей, убитой женщинами, завидовавшими ее красоте, в храме богини любви и красоты Афродиты, где она как раз и искала убежища. Этому сюжету была посвящена скульптура Матье-Менье (1824—1896) "Смерть Лаисы", изображающая ее припавшей к алтарю Афродиты; скульптура была установлена в Тюильрийском саду, а копия с нее с большим успехом выставлялась в ежегодном парижском художественном салоне в 1849 и в 1850 гг., т.е. незадолго до того, как был написан данный роман Дюма.
314 ... спешил на Марсово поле... — Марсово поле — плац для учений и парадов на левом берегу Сены перед военной школой, созданный в 1770 г.; название получил от имени Марса, бога войны в античной мифологии; во время Революции служил для проведения массовых торжеств; в начале XIX в. — место первых в Париже скачек.
315 Карнак — местность в Бретани, известная скоплением дольменов (или менгиров), погребальных сооружений эпохи бронзы и раннего железного века, состоящих из огромных каменных глыб, покрытых каменной же плитой.
Армориканские скалы — то есть скалы Арморики, как в древности называлась приморская часть Западной Франции, впоследствии получившая наименование Бретани.
319 ... была бы похожа на бога Пана... — Пан — в греческой мифологии бог природы^первоначально бог-покровитель стад). Его изображают могучим, но некрасивым (с козлиными рогами и копытами).
323 ... Мне двадцать четыре года. Дождусь полного совершеннолетия и женюсь на Кармелите без согласия отца! — В соответствии с действовавшим во Франции гражданским законодательством, до 25 лет молодые люди не могли вступить в брак без согласия родителей. По достижении ими этого возраста они имели право "почтительно потребовать" от родителей согласия на брак, то есть фактически не считаться с их возражениями.
336 Розенкрейцеры — члены тайного международного братства розенкрейцеров, возникшего в Германии в конце XIV — начале XV в. (сами они возводили свою историю к египетским фараонам XVI в. до н.э.). Получили свое название либо от имени своего полулегендарного основателя немецкого дворянина Христиана Розенкрейца (Rosenkreutz), либо от своей эмблемы: косого (андреевского) креста с розами на концах (по-немецки Rosenkreuz — "розовый крест", или "крест с розами"). Розенкрейцеры изучали восточную мистику, занимались магией, алхимией и другими оккультными науками,
лечением больных. Членство в нем приписывалось многим выдающимся ученым и политикам средневековья. Обширная литература содержит о розенкрейцерах самые противоречивые сведения. По "мнению одних исследователей, представление о мистическом характере братства — следствие неверно понятых сочинений возродившего его в начале XVII в. свободомыслящего немецкого лютеранского священника Иоганна Валентина Андреэ (1586—1654), который осмеивал в своих сочинениях суеверие, средневековую науку и богословие, а также папство и выпускал некоторые из них от имени Розенкрейца. По другому мнению, розенкрейцеры — члены религиозно-мистического масонского общества, возникшего в начале XVII в. на основе принятых всерьез мистификаторских сочинений Андреэ. Это общество имело свои ответвления во многих европейских странах, а в Пруссии его члены группировались вокруг короля Фридриха Вильгельма II, выступившего с оружием в руках против Французской революции.
... метаморфоза со старым Эсоном .... — В древнегреческой мифологии Эсон — сын Кретея, основателя города Иолка (в Фессалии, на северо-востоке Греции); сводный брат Эсона Пелий лишил его права на власть. Чтобы сын Эсона, Ясон, не смог помочь отцу вернуть утраченные права, Пелий заставил Ясона отправиться в Колхиду за золотым руном (руно — тонкая шерсть овцы), надеясь, что тот погибнет в опасной экспедиции. Однако Ясон вернулся с руном и с колхидской царевной, волшебницей Медеей (см. примеч. кс. 127), и упросил Медею продлить его отцу жизнь. Волшебница, разрезав Эсону шею, выпустила его старую кровь, влила в разрез приготовленный ею чудесный эликсир, и к Эсону вернулась утраченная молодость.
337 Гюго, Виктор Мари (1802—1885) — знаменитый французский писатель-романтик, поэт и драматург.
Ламартин, Альфонс Мари Луи де Прат де (1790—1869) — французский поэт-романтик, писатель, историк и политический деятель.
"Pria che spunti Гаигога" — партия из оперы Д.Чимарозы "Тайный брак".
"Жар в крови" — ария из оперы Гретри "Ричард Львиное Сердце" (1784 г.).
338 Ундина — в средневековых немецких поверьях сказочное существо, дух в образе прекрасной девушки, живущей в воде и подобной наядам древнегреческой мифологии и русалкам славянских сказаний.
345 Океания — общее название островов в центральной и юго-зададной части Тихого океана, расположенных в тропических и субтропических широтах.
346 День Усопших — второй день ноября, посвященный у католиков молитвам об умерших.
348 ... о разрушительных катаклизмах и земных революциях ... — Ката клизм (от гр. "катаклисмос" — "наводнение", "потоп") — разрушительный переворот, катастрофическое потрясение.
Слово "революция" (от лат. revolutio — "поворот", "переворот") вплоть до конца XVIII в. употреблялось главным образом в астрономии, означая или движение светил, или любые серьезные
изменения в природе и обществе. Только после Великой французской революции это слово стало употребляться главным образом в привычном нам сегодня значении — глубокого и резкого изменения политической и общественной жизни. Однако первоначальное значение полностью не исчезло и именно в этом смысле употребляется в данном случае: под "земными революциями" подразумеваются потрясения в природе.
349 ... титаны Гесиода, фурии и великаны теогонии ... — Гесиод (VIII— VII вв. до н.э.) — древнегреческий поэт, автор дидактической (наставительной) поэмы "Труды и дни", где славится сельский труд, и поэмы "Теогония", где изложены и приведены в систему мифы древних греков о рождении богов и создании мира.
Фурии (древнегреческие эринии) — богини мести и угрызений совести в античной мифологии, наказывающие людей за совершенные ими преступления.
Теогония (от гр. theos — "бог" и goneia — "рождение") — мифы о происхождении богов, олицетворяющих стихийные силы природы.
"Подражание Иисусу Христу" — средневековый анонимный религиозный трактат, появившийся в свет около 1419 г. и приписываемый голландскому христианскому мыслителю Фоме Кемпийскому (Томасу Хемеркену; 1380—1471). В книге приводится доказательство бытия Бога, которого автор считает первопричиной и конечной целью сущего. Все сочинение проникнуто духом аскетизма: лежащий во зле мир может спастись только через подражание жизни Христа; значение имеет лишь праведная жизнь, а не выполнение обрядов; целью жизни должна быть забота о ближних. Трактат был очень рано переведен с латыни на европейские языки (на французский — уже в XV в.) и пользовался исключительным авторитетом среди верующих.
350 ... У меня перед глазами книга, в которой самоубийство предается анафеме... — Имеется в виду роман в письмах выдающегося деятеля французского Просвещения XVIII века, философа, писателя и композитора Жан Жака Руссо (1712—1778) — "Юлия, или Новая Элоиза" (1761 г.). В основе сюжета — любовь девушки-дворянки и юноши-разночинца, чьи чувства идут вразрез с устоями консервативного общества и сословными предрассудками. В "Новой Элоизе", устами одного из действующих лиц, Эдуарда Бомстона, Руссо осуждает самоубийство: "Знай же, что смерть, к которой ты стремишься, постыдна и малодушна. Ты ограбишь весь род человеческий".
Софизм — формально правильное, но по существу ложное умозаключение, основанное на сознательном искажении правил логики.
351 ... За восемь последних лет прошлого столетия, а также за пятнадцать первых лет этого века погибло четыре миллиона человек во имя нескольких столбов, именуемых государственной границей... — Имеются в виду войны Первой французской республики (1792—1804) и Первой империи (1804-1815), которые велись с небольшими перерывами и которые некоторые исследователи считают единой общеевропейской войной. Среди провозглашаемых целей этих войн было завоевание естественных границ Франции — оборонительных географических рубежей (гор, рек и т.д.).
... во славу человека, которого называют завоевателем. — То есть императора Наполеона I.
354 Грации (древнегреческие хариты) — в античной мифологии первоначально божества плодородия, а затем — богини красоты и радости, олицетворения женской прелести.
357 То die, to sleep ("Умереть, уснуть") — слова из знаменитого монолога Гамлета "Быть или не быть" (III, 1).
366 ...Я тебя похищаю, сабинянка! — Намек на предание времен легендарного основания Рима. Его воинственное население быстро ощутило нехватку женщин. Однако соседние племена, главным образом сабины (или сабиняне), отказывались отдавать римлянам своих дочерей. Тогда в Риме был устроен пышный праздник, на который были приглашены соседи с семьями. В разгар празднества вооруженные римляне похитили сабинских девушек. Это послужило причиной войны. Позже, во время битвы, сабинянки, ставшие уже женами и матерями римлян, бросились между сражающимися и принудили их заключить мир. После этого оба народа примирились и объединились. Похищение сабинянок — одна из популярных тем в литературе и изобразительном искусстве.
368 Бельвю — небольшая деревня близ Парижа, над Сеной, славившаяся открывающимся из нее замечательным видом ("бель вю" по-французски "прекрасный вид"). В 1748 г. госпожа Помпадур (см. примеч. кс. 212) построила там великолепный замок, ныне не существующий.
369 Английская соль — медицинское название сернокислого магния, применяемого в качестве слабительного.
378 ... Прояви величие Александра, уступившего Апеллесу свою любовницу Кампаспу. — Апеллес (вторая половина ГУ в. до н.э.) — древнегреческий художник, придворный живописец и друг великого полководца и завоевателя Александра Македонского (356-323 до н.э.). Дружеские отношения Александра и Апеллеса породили множество легенд и историй, далеко не всегда достоверных. Согласно одной из них, Апеллес, получив заказ изобразить любовницу Александра Кампаспу (по другой версии, Панкасту) обнаженной, рисуя красавицу, влюбился в нее, и Александр, узнав об этом, великодушно уступил ее художнику.
379 Черный кабинет — учрежденное при Людовике XIV особое, секретное отделение почтового ведомства, где тайно вскрывали и читали частные письма в целях политического надзора и получения разного рода информации. Впоследствии так стали называть любые учреждения и службы, нарушающие тайну переписки.
... слухи о тройственном заговоре:республиканцев, орлеанистов и бонапартистов ... — В заговорах против режима Реставрации нередко принимали участие представители самых разных политических течений. Общая цель низвержения Бурбонов объединяла убежденных республиканцев с бонапартистами, то есть сторонниками восстановления на престоле Наполеона Бонапарта (позднее — его сына), и орлеанистами, то есть людьми, желавшими воцарения младшей ветви Бурбонского дома — Орлеанов, глава которой, герцог Орлеанский Луи Филипп, принимал участие в событиях Французской революции и пользовался репутацией либерала. После Июльской революции 1830 года, когда Бурбоны пали, а к власти пришел "король-буржуа" Луи Филипп, пути представителей этих направлений довольно быстро разошлись.
381 Фонтенбло — замок-дворец неподалеку от Парижа, в юго-восточ ном направлении; одна из летних резиденций французских монархов.
... достигавшим уровня "позлащенной скромности", как сказал латинский поэт ... — Имеется в виду известное выражение Горация (см. примеч. кс. 115) "Аигеа mediocritas" ("Золотая середина" — лат.) из второй книги од (10, 5), отражающее его эпические и эстетические принципы (со временем эта формула приобрела ироническое значение, обозначая заурядность, посредственность). Однако в данном случае подразумевается не столько философия Горация, сколько скромность его жизненных потребностей.
383 Коммуна — здесь: поселение, являющееся низшей административно-территориальной единицей во Франции.
386 Сурбаран — см. примеч. к с. 229.
Лесюёр, Эсташ (1616-1655) — французский художник; автор картин на религиозные темы.
Сомнамбула — человек, страдающий сомнамбулизмом (или лунатизмом), видом расстройства сознания, при котором во сне автоматически совершаются привычные действия.
392 Тулон — город и порт на Средиземном море; главная военно-морская база Франции в этом районе.
394 Вири-сюр-Орж — имеется в виду городок Вири-Шатильон на реке Орж, притоке Сены, к юго-востоку от Парижа, в департаменте Эсон.
395 Грас — небольшой город на юге Франции, с XIII в. славящийся как центр парфюмерного производства.
... по ее баскскому выговору ... — Баскония (на баскском языке — Эускади) — область на северо-западе Испании, населенная народом басков, потомков древнейшего коренного населения Пиренейского полуострова.
396 ... корбейскому нотариусу ... — Корбей — городок под Парижем, недалеко от Версаля.
... они прозвали его Брезиль в память о стране, где родились. — Брезиль — французское название Бразилии.
397 ... девочку — в превосходный монастырь. — Имеется в виду обычай отдавать девочек на воспитание монахиням, широко распространенный среди состоятельных семей католических стран Европы.
Дортуар — общая спальня в монастырях, учебных заведениях и т.д. 404 Леди Макбет — героиня трагедии Шекспира "Макбет" (1606 г.), вдохновлявшая мужа на злодеяния ради власти.
... "Целого океана не хватит, чтобы смыть эту кровь!" — У Шекспира ("Макбет", V, 1) иначе: "Все благовония Аравии не надушат эту маленькую ручку" ("АН the parfumes of Aravia will not sweeten this little hand").
410 Савенская долина — возможно, имеется в виду местность в
окрестности селения Сен-Савен в департаменте Верхние Пиренеи Юго-Западной Франции на границе с Испанией, неподалеку от Страны басков.
411 Арлезианка — жительница округа города Арль на юге Франции в Провансе, вблизи средиземноморского побережья. Наряды крестьянок этой местности известны своей красочностью и живописностью.
414 Цирцея — см. примеч. к с. 58.
416 Шпалера — здесь: специальная решетка для подвязывания к ней куста или дерева с целью придать им определенную форму.
418 Абсент — водка зеленоватого цвета, настоенная на анисе, полыни или некоторых других травах; широко распространена во Франции, но употребляется по преимуществу в смеси с водой. Неразбавленный абсент пьют почти исключительно пьяницы.
419 Жуаньи — небольшой город в Центральной Франции в департаменте Йонна к юго-востоку от Парижа.
421 Морсан (точнее: Морсан-сюр-Орж) — небольшой городок в департаменте Эсон к югу от Парижа.
423 ... гнусная Пенелопа уничтожала ... все то святое и милосердное, что моя совесть накопила за день! — Здесь намек на рассказ в "Одиссее" о том, как жена героя поэмы Пенелопа пыталась избавиться от преследовавших ее в отсутствие мужа женихов: она обещала сделать свой выбор, когда закончит ткать погребальный покров своему свекру. Однако за ночь Пенелопа распускала то, что соткала за день.
427 ... после отречения в Фонтенбло ... — 6 апреля 1814 г. в Фонтенбло Наполеон подписал составленный им акт отречения от престола. Однако, говоря об отречении в Фонтенбло, часто имеют в виду не только оглашение и подписание самого этого акта, но и трогательное прощание Наполеона со своей гвардией, которое произошло перед самым его отъездом на остров Эльбу 20 апреля 1814 г.
Битва при Мон-Сен-Жан — так называют иногда по одному из ее главных пунктов битву при Ватерлоо 18 июня 1815 г., в которой Наполеон потерпел окончательное поражение от англо-прусско-голландских войск. На возвышенности Мон-Сен-Жан находились укрепленные позиции англичан.
428 ... письма бывшего короля Жозефа, удалившегося в Бостон ... — Имеется в виду Жозеф Бонапарт (1768—1844), старший брат и сподвижник Наполеона, получивший титул короля Неаполитанского (1806-1808) и Испанского (1808-1814); после падения Империи жил в эмиграции в США (1814—1832).
Портсмут — город и порт в Англии у пролива Ла-Манш.
Джеймстаун — небольшой город и порт, административный центр острова Святой Елены.
Монтолон, Шарль Жан Тристан (1783—1853) — французский генерал, участник войн Империи; был горячо предан Наполеону и сопровождал его на остров Святой Елены. После смерти Наполеона, вернувшись во Францию, опубликовал вместе с генералом Гурго (он тоже был на Святой Елене) мемуары, продиктованные им Наполеоном.
429 Голгофа — холм в окрестности Иерусалима, на котором, согласно евангельскому преданию, был распят Иисус Христос.
Маренго — небольшая деревня в Северной Италии; возле нее 14 июня 1800 г. произошло большое сражение между французскими войсками Наполеона Бонапарта и австрийцами, закончившееся полной победой французов.
Аустерлиц — см. примеч. к с. 5.
Ваграм — селение около Вены, вблизи которого 5—6 июля 1809 г. произошло сражение между французскими и австрийскими войсками; Наполеон одержал в нем победу, решившую исход кампании.
... как Иисус Христос на мгновение вспомнил, что он человек, когда увидел кровавый пот, но потом снова ощутил себя Сыном Божьим. — Имеется в виду евангельский рассказ о том, как Иисус накануне своего ареста впал в тоску и скорбь и молил Бога о спасении, но затем, укрепившись молитвой, твердо пошел навстречу предопределенной ему участи. В данном случае речь идет о тексте Евангелия от Луки, где говорится: "И находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю" (22: 44). Симон Киринеянин (то есть из города Кирены в Палестине) — человек, которого, согласно евангельским повествованиям (Матфей, 27: 32; Марк, 15: 21; Лука, 23: 26), римские воины заставили нести крест падавшего под его тяжестью Иисуса Христа на пути к Голгофе.
Клозелъ, Бертран, граф (1772—1842) — французский военачальник, маршал Франции (1831 г.), политический деятель; участник революционных и наполеоновских войн. Во время "Ста дней" поддержал Наполеона и после Ватерлоо отказался признать законность правительства Бурбонов; позднее был заочно приговорен к смертной казни, эмигрировал в Америку; вернувшись после отмены приговора во Францию, примкнул к либеральной партии; после Июльской революции был поставлен во главе французских войск, отправленных на завоевание Алжира.
Башелю, Жильбер Дезире Жозеф (1777—1849) — французский генерал, участник республиканских и наполеоновских войн; после битвы при Ватерлоо до 1817 г. находился в изгнании.
Жерар, Этьенн Морис, граф (1773—1852) — французский военный и политический деятель, участник революционных и наполеоновских войн; поддержал Наполеона во время "Ста дней", потом покинул Францию; вернулся в 1817 г.; в 1822 и в 1827 гг. избирался в Палату депутатов, где представлял либеральную оппозицию; принял участие в Июльской революции, вскоре после этого стал маршалом Франции и позднее пэром.
Фуа — см. примеч. к с. 7.
Ламарк, Жан Максимен (1770-1832) — французский генерал и политический деятель, участник революционных и наполеоновских войн; во время "Ста дней" присоединился к Наполеону; после его падения вынужден был покинуть Францию и смог вернуться лишь в 1818 г. В 1828 г. был избран в Палату депутатов, где присоединился к самой решительной оппозиции; приветствовал революцию
1830 г., но продолжал критиковать новое правительство с демократических позиций; пользовался большой популярностью. Похороны Ламарка послужили толчком к республиканскому восстанию в Париже в июле 1832 г.
... я, подобно древним римским императорам, превратился в бога ... — Обычай посмертного обожествления императоров был характерен для Римской империи до принятия христианства. Наполеон намекает на свою славу великого полководца и на начавшую уже складываться так называемую "наполеоновскую легенду" — безудержное его прославление и возвеличение, со временем превратившееся во Франции в настоящий культ.
Астианакс — в античной традиции прозвище (подлинное имя его Скамандрий) младенца — сына предводителя и героя троянцев Гектора; после взятия Трои был убит греками: сброшен со стены, так как, по предсказаниям прорицателя Калхаса (см. примеч. к с. 131), со временем должен был отомстить за своих родителей и за город.
Британик, Клавдий Тиберий (ок. 41—55) — сын римского императора Клавдия; получил это имя в честь римских побед в Британии; был отстранен от наследования престола и затем отравлен.
... Мой сын живет в одном лъё от Вены ... — Сын Наполеона и его второй жены, австрийской эрцгерцогини Марии Луизы (1791— 1847), герцог Рейхштадтский жил в загородном дворце австрийских императоров Шёнбрунне.
430 Цинциннат, Луций Квинкций (V в. до н.э.) — древнеримский военачальник и политический деятель, известный своей доблестью, верностью гражданскому долгу, скромностью и приверженностью к простой сельской жизни (после каждого совершенного подвига возвращался обрабатывать свое небольшое поле).
Итальянская кампания — первая война, самостоятельно проведенная Наполеоном Бонапартом в 1796—1797 гг. и показавшая его выдающиеся военные дарования. В ходе ее он нанес сокрушительные поражения войскам Австрии и Сардинского королевства (Пьемонта), что привело к выходу этих государств из первой коалиции против революционной Франции и подчинило последней значительную часть Италии. Успехи Бонапарта весьма укрепили внешнее и внутреннее положение Французской республики, а ему самому создали в стране исключительный авторитет.
431 Махараджа (буквально — "великий правитель") — титул князей в феодальной Индии.
Кашмир — княжество на северо-западе Индии; в первой половине XIX в. было подчинено сикхам; в 1845—1846 гг. завоевано англичанами; в настоящее время составляет часть штата Джамму и Кашмир.
... воюю с Англией, покоряя Восток с Севера, — как в тысяча семьсот девяносто восьмом я воевал с ней же, пытаясь захватить Восток через Египет ... — Начиная в 1812 г. поход в Россию, Наполеон имел в виду цель, правда отдаленную и очень туманную, — достигнуть Индии через территорию Российской империи. Он надеялся, что завоевание Францией этой главнейшей английской колонии сокрушит экономическую мощь Великобритании.
Речь здесь идет также о Египетской экспедиции 1798-1801 гг. Наполеон рассчитывал, превратив эту страну во французскую колонию, создать там плацдарм для дальнейшего продвижения на Восток. Во всяком случае, французы пытались завязать тогда отношения с противниками Англии в Индии.
Чандернагор — небольшой город на северо-востоке Индии, недалеко от Калькутты; до 1950 г. (с перерывами) был владением Франции.
Tunny Сахиб (или Типу-султан; ок. 1749—1799) — правитель княжества Майсур в Южной Индии с 1782 г.; провел в своем государстве ряд реформ, создал армию; непримиримый противник английских колониальных завоеваний; героически погиб при штурме англичанами его столицы Серингапатама. В 1799 г. Типпу завязал сношения с находившемся в Египте Бонапартом, который обещал прибыть к нему на помощь с большой армией. Возлагая свои надежды на помощь республиканской Франции, султан, по некоторым сведениям, даже разрешил находившимся у него на службе французам открыть в Серингапатаме Якобинский клуб.
Сахиб (саиб, сагиб) — в средневековой Индии — обращение к крупным феодалам в значении "господин"; позднее также обращались к европейцам.
432 Дидье — см. примечание к с. 7.
435 ... Уж не у Светония ли вычитала Ореола, что, когда сестра Калигу лы — убийца родственников и повинная в кровосмешении любовница — толкала его на преступления, она действовала именно так? — Имеется в виду сочинение римского писателя Гая Светония Транквилла (ок. 70 — ок. 140) "Жизнь двенадцати цезарей" — жизнеописание первых императоров Древнего Рима. В очерке о Гае Цезаре (12—41; правил с 37 г.), прозванном Калигулой ("Сапожком") за то, что в детстве он носил обувь военного образца, известном развратом, жестокостью и убитом за безудержный произвол, Светоний пишет, что тот находился в кровосмесительной связи с тремя своими сестрами, особенно выделяя любимую сестру Друзиллу, с которой жил почти открыто. Однако историю о любовном зелье Светоний связывает не с Друзиллой, а с женой Калигулы Цезонией. Целью ее было не толкнуть императора на преступления, а возбудить в нем любовь, однако результат был иной: зелье, по словам Светония, разрушительно подействовало на его мозг. У Светония нет обвинения Друзиллы в убийстве кого-либо из родственников. Шпанская муха — жук из семейства нарывников; средства из сушеных телец этого жука (пластырь, настойки, мази и т.д.) употребляются в медицине в качестве наружных рефлекторно действующих средств; в старину употреблялись внутрь как мочегонное и возбуждающее лекарство.
Гиппомане (или манцинелла, маншинелла) — небольшое дерево, произрастающее в тропической части Америки; его листья и кора содержат весьма ядовитый млечный сок.
443 ... Как в день Страшного суда, бездна возвращала своих мертвецов! —
Имеется в виду следующее место из книги Нового Завета "Откровение святого Иоанна Богослова" ("Апокалипсис"), повествующей о Страшном суде Божьем над миром в конце времен: "Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим" (20: 13).
448 Гильотина — см. примеч. к с. 23.
449 Бургундия — историческая провинция в восточной Франции; в IX— XV вв. самостоятельное герцогство, вошедшее в 1477 г. в состав Французского королевства.
Исуар — город в Оверни (см. примеч. к с. 154), административный центр департамента Пюи-де-Дом.
452 ... антипод Вавилонской башни... — Имеется в виду библейское пре дание о том, как люди задумали возвести гигантскую башню, достигающую небес; чтобы пресечь дерзновенное начинание, Бог смешал язык людей, строители перестали понимать друг друга и рассеялись по земле (Бытие, 11: 1—9). Называя здание общественной гармонии антиподом Вавилонской башни, Дюма хочет подчеркнуть, что это сооружение должно объединять человечество, а не разделять и рассеивать его.
461 Санскрит — литературно обработанная разновидность древнеиндийского языка, со строго нормализованной грамматикой. На санскрите написаны многие замечательные памятники индийской культуры (художественные, религиозные, научные). В Индии санскрит долгое время играл, а отчасти и продолжает играть примерно ту же роль, что латынь в Европе, будучи общим для всех языком гуманитарных наук и культовым языком.
465 ...На одном из двух левых ботинков гвозди расположены в виде тре угольника. Итак, один из похитителей — масон. — Одним из символических знаков масонов (см. примеч. к с. 65) был наугольник, старинный строительный инструмент. Он представлял собой треугольник из металла или дерева и служил для выведения прямых углов здания.
Аббат де Гонди — Жан Франсуа Поль де Гонди, называемый также кардиналом де Ретц (1613-1679) — французский политический деятель, коадъютор (заместитель) архиепископа Парижского с 1643 г., один из вождей Фронды, во время которой не раз переходил из одного лагеря в другой; был больше воином, чем священником, что и имеет в виду Дюма; оставил интересные мемуары. Гонди — персонаж романа Дюма "Двадцать лет спустя".
467 ... выйти можно даже из такого места, где двери нет вовсе, как доказал одному из моих предшественников покойный господин Латюд. — Латюд, Жак Анри, по прозвищу Мазер де Латюд (1725— 1805) — авантюрист; послал по почте фаворитке Людовика XV маркизе Помпадур нечто вроде самодельной адской машины (коробку с изобретенной в ту пору "забавой" — стеклянными шариками, взрывавшимися, когда их брали в руки; шарики были соединены железной проволокой с крышкой) с целью сыграть роль спасителя маркизы и войти в милость; был разоблачен, арестован и просидел около тридцати пяти лет в различных тюрьмах Франции. Известен тем, что трижды бежал из тюрем, считавшихся особо надежными: два раза из Венсена и один раз из Бастилии. Из камеры в Бастилии он выбрался через каминную трубу (для этого ему пришлось изготовить веревочную лестницу длиной в 360 футов).
... обязан пятью годами галер ... — Галера — деревянное военное гребное судно VII—XVIII вв., гребная команда которого в значительной степени комплектовалась из осужденных преступников. Во Франции в начале XVIII в. ссылка на галеры была заменена каторжными работами на суше, однако традиция называть каторжные работы галерами осталась.
471 ... пару ... ластиковых башмачков ... — Ластик (от англ, lasting —
"прочный") — легкая хлопчатобумажная ткань для подкладки, рубашек, платьев и т.д.
475 ... показывая край своего шарфа ... — Со времен Революции шарф цветов национального флага, носимый в виде пояса или завязанный через плечо, был атрибутом и символом полномочий некоторых должностных лиц и непременно надевался ими при официальном исполнении своих обязанностей, а также по случаю торжественных церемоний.
480 ... первая статья Кодекса ... — Имеется в виду Гражданский кодекс французов, разработанный и принятый во время правления Наполеона, отчасти по его инициативе и при его личном участии, и получивший наименование "Кодекс Наполеона". В нем впервые было выработано и систематизировано общефранцузское право. Кодекс законодательно закреплял ряд основных завоеваний Французской революции, в первую очередь декларированный ею принцип равенства всех перед законом; оказал огромное влияние на законотворчество ряда европейских стран и в значительной степени лег в основу законодательных систем нового времени.
Ордонансы — крупные, государственного значения законодательные акты, исходившие от короля.
... Божьей милостью король Франции и Наварры ... — официальный титул французских королей до Революции, восстановленный во время Реставрации.
Наварра — королевство в Пиренеях на границе Франции и Испании; наследственное владение Генриха IV; после его вступления на престол вошло в состав Французского королевства.
... что произошло на площади Революции двадцать первого января тысяча семьсот девяносто третьего года в четыре часа пополудни... — Имеется в виду публичная казнь Людовика XVI.
Туссен-Лувертюр — см. примеч. к с. 27.
Пишегрю, Жан Шарль (1761—1804) — французский генерал, один из талантливейших полководцев Революции, к началу ее был сержантом; в 1793—1795 гг. победоносно командовал несколькими армиями Республики в войне против первой антифранцузской коалиции; в 1795 г. вступил в тайные контакты с роялистами; в 1797 г. был сослан в Гвиану; в 1799 г. сумел бежать и добраться до Лондона; в 1804 г. тайно вернулся в Париж, принял участие в роялистском заговоре, был арестован и, по официальной версии, покончил с собой в тюрьме; герой романа Дюма "Белые и синие".
481 Сент-Ашёлъ — в описываемое в романе время деревня, расположенная близ главного города северо-восточной французской провинции Пикардия Амьена (ныне его пригород). При Реставрации там открылся крупный и чрезвычайно влиятельный иезуитский коллеж.
"Конституционалист" ("Le Constitutionnel") — ежедневная газета; выходила в Париже в 1815-1870 гг.
... басню о том, как столкнулись два горшка, глиняный и чугунный... — Имеется в виду известная басня Лафонтена "Глиняный и чугунный горшок", в которой рассказывается, как чугунный горшок предложил глиняному совместно отправиться в дорогу, обещая всячески его оберегать; но в пути им довелось несколько раз случайно столкнуться боками, и в результате глиняный горшок разбился.
484 Экарте — очень распространенная в XIX в. карточная игра, рассчитанная на двоих игроков (хотя иногда играется втроем или вчетвером); в ходе ее игроки часто сбрасывают карты, чтобы взять новые. По-французски "сбросить", "отбросить" — ecarter, отсюда название игры.
Лепаж — известная бельгийская оружейная фирма, продававшая свои изделия во многих странах Европы. Особенно славившиеся дуэльные пистолеты Лепажа многократно упоминались в литературе. Оружейная лавка Лепажа была и в Париже.
Елисейские поля — см. примеч. к с. 5.
Булонский лес — лесной массив у западных окраин Парижа; ныне общественный лесопарк в черте города.
Улица Сент-Оноре — см. примеч. к с. 8.
Церковь святого Рока — одна из интереснейших в архитектурном отношении церквей Парижа; строилась в середине XVII — середине XVIII в.; расположена на улице Сент-Оноре в непосредственной близости от монарших резиденций.
Святой Рок (Рох; 1295-1327) — французский священник, посвятил себя уходу за больными чумой в Италии, за что был причислен к лику святых; католиками почитается защитником от этой болезни. Улица Бюффон — расположена в бедном предместье Сен-Марсель на левом берегу Сены; названа в честь знаменитого натуралиста Жоржа Луи Леклерка де Бюффона (1707—1788).
"Новая Элоиза" — см. примеч. к с. 350.
485 ... опустить гроб в землю, купленную навечно ... — В странах Западной Европы существует возможность покупки участка на кладбище в частную собственность, что обеспечивает семье умершего вечное владение местом и сохранность могилы.
... он может быть спокоен до второго пришествия ... с племянником он теперь увидится только в Иосафатовой долине. — Второе пришествие — вторичное пришествие Иисуса Христа на землю, на этот раз не как Сына человеческого, а во всем величии Сына Божьего. Оно будет славным, но страшным и грозным, ибо будет днем Страшного суда (см. примеч. к с. 443).
Иосафатова долина — согласно Библии, долина вблизи древнего Иерусалима, названная в память погребенного там иудейского царя Иосафата. Среди богословов преобладает мнение, что Священное писание имеет в виду не конкретное место, а пророческий символ. В христианском вероучении Иосафатова долина — место, где будет происходить Страшный суд, куда соберутся все жившие ранее на земле и где с неба раздастся "громкий голос как бы многочисленного народа" (Апокалипсис, 19: 1).
486 Улица Нотр-Дам-де-Шан — одна из улиц предместья Сен-Жак; в XIV—XV вв. была проезжей дорогой, по которой перевозился строительный камень (добывался поблизости в каменоломнях); свое название получила в 1700 г. от расположенной рядом церкви Notre-Dame des Champs ("Богородицы-на-Полях").
489 Скуфейники — прозвище церковнослужителей; скуфья — остроконечная бархатная шапочка, обычный головной убор православного духовенства. Слово "скуфейники" использовалось в русской речи для несколько насмешливого обозначения всех церковников. В оригинале употребляется соответствующее ему французское слово "calotins", также образованное от названия головного убора, которое носит духовенство, но, разумеется, католическое (calotte — круглая шапочка, прикрывающая темя).
... всем этим удовольствием мы обязаны императору! — Речь идет о так называемом конкордате — соглашении, подписанном 15 июля 1801 г. между Бонапартом, тогда первым консулом Республики, и папой Пием VII (Грегорио Луиджи Барнабе Кьярамонти; 1742— 1823; папа с 1800 г.); конкордат означал частичное восстановление позиций католической церкви во Франции, и, хотя папа пошел на довольно значительные уступки, провозглашенное 21 февраля 1795 г. отделение церкви от государства было аннулировано.
490 Бруссе, Франсуа Жозеф Виктор (1772—1838) — знаменитый французский врач, автор нескольких теоретических трудов, в свое время пользовавшихся большим признанием во Франции, хотя довольно быстро устаревших; был сторонником энергичных методов лечения, широко применял кровопускание. Здесь имеется в виду, что особое внимание он уделял лихорадке, источником которой считал раздражение желудка и прилежащей части кишечника.
491 ... еще незнакомого с этим методом обследования ... — Хотя выслушивание больного ухом было введено в медицину еще во II в. до н.э., начало научной аускультации (так называется этот метод) было положено в 1819 г., когда французский врач Рене Лаеннек (Леннек; 1781-1826) разработал современный метод выслушивания, применив для этого специальную трубку-стетоскоп.
493 Ларрей (Ларре), Доминик Жан (1766—1842) — выдающийся французский врач, один из основоположников военно-полевой хирургии; участник революционных и наполеоновских войн.
... ампутировал ноги храброму Монтебелло... — Имеется в виду маршал Франции Жан Ланн (1769/1771—1809), участник войн Революции и Империи, один из талантливейших сподвижников Наполеона, от которого получил титул герцога Монтебелло; сын конюха, начавший службу рядовым; в сражении при Асперне близ Вены (в исторической литературе называется также сражением при Эслинге) был смертельно ранен ядром, перебившим ему ноги.
494 Панацея — в средневековой медицине название универсального лекарства, якобы исцеляющего от всех болезней; в переносном (чаще всего ироническом) смысле — спасение от всех зол.
498 Великая армия — название находившегося под командованием самого императора главного соединения армии Наполеона I.
500 ... наука — что Сатурн: готова пожрать собственных детей! —
Сатурн — один из богов Древнего Рима, позднее отождествленный с древнегреческим Кроном (Кроносом) — символом неумолимого времени. Согласно греческой мифологии, Кронос, свергнувший своего отца Урана и опасавшийся, что так же поступят и с ним собственные дети, пожирал их сразу после рождения.
В данном случае Дюма перефразирует слова деятеля Французской революции Пьера Виктюрьена Верньо (1753—1793): "Революция подобна Сатурну: она пожирает своих детей".
502 Корнель, Пьер (1606—1684) — прославленный французский драматург, представитель классицизма.
"Никомед" — трагедия Корнеля, поставленная в 1650 г.; посвящена борьбе царя Вифинии (небольшого государства в Малой Азии) Никомеда II Эпифана (правил в 149 — ок. 127 до н.э.) за престол; прославляет верность долгу и добродетель, побеждающие хитрость, клевету и корыстный расчет.
"Сид" — одна из наиболее известных трагедий Корнеля, впервые поставленная в 1637 г. Ее главный герой — Родриго Диас де Бивар (1026/1043-1099), по прозвищу Сид Кампеадор (Сид — испорч. араб, "господин", Кампеадор — исп. "воитель"), знатный кастильский рыцарь, прославившийся своей доблестью и воинскими подвигами в ходе так называемой Реконкисты, т.е. борьбы испанцев в VIII-XV вв. с завоевавшими почти весь Пиренейский полуостров арабами ("маврами", "сарацинами"). Он был воспет в испанском эпосе XII в. "Песнь о моем Сиде", а также во многих позднейших произведениях, и сильно идеализирован в литературной традиции. Тема трагедии Корнеля — конфликт между любовью и долгом; при этом неукоснительное следование требованиям чести и долга оказывается единственным путем к обретению подлинного счастья в любви.
503 Сен-Мало — город и порт в Бретани.
504 Реи, стеньги — деревянные части мачт; служат для крепления парусов, тросов и т.д.
Гомерический хохот — неудержимый громкий смех. Выражение возникло на основе описания смеха богов в поэмах "Илиада" и "Одиссея" Гомера.
Шарле, Никола Туссен (1792—1845) — французский художник и график, баталист, жанрист и карикатурист. Будучи поклонником Наполеона, в период Реставрации посвящал свои работы в основном истории наполеоновских войн, что придавало им оттенок некоторой оппозиционности правительству Реставрации и приносило рисункам успех не только по художественным качествам, но отчасти и по политическим соображениям. Позднее Шарле, не отказываясь от прежней тематики, в значительной степени перешел на изображение парижских жанровых сценок, а также на карикатуры.
Кок, Шарль Поль де (1793—1871) — французский писатель, автор многочисленных романов, где с юмором и некоторой фривольностью воссоздавал жизнь и нравы парижской мелкой буржуазии своего времени.
505 Академия наук — точнее: французская Академия естественных наук; основана в 1666 г.; в XVIII в. и позже часто называлась Парижской академией наук.
506 Колумб, Христофор (1451—1506) — испанский мореплаватель, по рождению генуэзец; в 1492—1504 гг. совершил несколько плаваний через Атлантический океан, пытаясь найти кратчайший морской путь в Индию с Запада; открыл часть островов и побережья Южной и Центральной Америки.
Ньютон, Исаак (1642—1727) — великий английский физик, механик, астроном и математик, один из основателей классической физики. Здесь имеется в виду легенда, согласно которой толчком к открытию Ньютоном закона всемирного тяготения послужило падение яблока с дерева в саду.
Франклин, Бенджамен (Вениамин, 1706—1790) — американский просветитель, государственный деятель, один из авторов Декларации Независимости и Конституции США, ученый. Как естествоиспытатель известен главным образом трудами по электричеству. В данном случае речь идет об изобретении им громоотвода.
... Он бы с удовольствием съел его сердце, как Габриель де Вержи съела сердце своего любовника Рауля!— Рауль (по другим данным Рено) де Куси (ум. в 1192 г.) — рыцарь и поэт, погибший во время третьего крестового похода. Легенда гласит, что он был влюблен в даму по имени Габриель де Вержи и, будучи смертельно раненным в битве и чувствуя приближение смерти, велел своему оруженосцу отвезти его сердце возлюбленной. Оруженосец был перехвачен мужем Габриели, и тот, желая отомстить жене за неверность, обманом заставил ее съесть сердце любимого. Узнав о страшном содержимом своей трапезы, Габриель уморила себя голодом. Это предание уже в средние века, а потом и в новое время послужило сюжетом для множества романсов, баллад и драматических произведений.
507 Рейсдал — имеется в виду один из двух голландских художников-пейзажистов: Соломон ван Рейсдал (1600/1603-1670) или Якоб ван Рейсдал (1628—1682).
Верне, Клод Жозеф (1714-1789) — французский художник, основатель "династии" живописцев (известными художниками были также его сын и внук); автор морских пейзажей, среди которых много изображений бурного моря.
Мараведи — старинная испанская монета; сначала чеканилась из золота и серебра, а с конца XV в. — также и из меди; в 1848 г. была заменена реалом.
508 ... изображая из себя Манфредов и Вертеров ... — Манфред — герой одноименной драматической поэмы Байрона (написана в 1816— 1817 гг.), страдающий по утраченной возлюбленной, одинокий, непонятый, мятежный герой, бегущий от людского общества.
Вертер — см. примеч. к с. 13.
509 Ван Дейк, Антонис (1599—1641) — фламандский художник, мастер портрета; работал также в Италии и Англии. Первые шаги в живописи сделал в мастерской прославленного фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577—1640). Существует несколько автопортретов Ван Дейка; по всей вероятности, Дюма имеет в виду тот из них, который хранится в Лувре.
Кирасиры — род тяжелой кавалерии в европейских армиях в XVI — начале XX в.; комплектовались из людей крупного сложения,
сидевших на рослых конях; имели на вооружении металлические шлемы и латы; в сражении предназначались для нанесения решающих ударов.
510 Набережная Малаке — находится на левом берегу Сены против дворцов Лувр и Тюильри; известна торговцами-букинистами, располагающими на ней свои открытые лотки и навесы.
Палаццо Россо ("Красный дворец") — один из дворцов старинного генуэзского рода Бриньоле (Бриньоле-Сале). Во время пребывания в Генуе (1623 г.) Ван Дейк нарисовал ряд портретов членов этой семьи; среди них особенно известен портрет маркизы Бриньоле с сыном.
511 Святой Мавр (III в.) — мученик; римлянин, зарубленный мечом за принятие христианства.
513 ... со времени взятия Константинополя до взятия Берген-оп-Зома... — Дюма здесь имеет в виду не взятие Константинополя турками 29 мая 1453 г., а захват этого города участниками четвертого крестового похода в апреле 1204 г.
Крепость Берген-оп-Зом в Нидерландах была взята французскими войсками в 1747 г. в ходе так называемой войны за Австрийское наследство (1740-1748). Французы чрезвычайно гордились взятием крепости, поскольку до того она считалась неприступной и даже получила прозвание "девственницы", ибо неоднократно с успехом выдерживала осады и штурмы.
Улица Плюме — одна из улиц Сен-Жерменского предместья; позднее называлась улицей Удино в честь одного из сподвижников Наполеона — маршала Франции Никола Шарля Удино (1767-1847).
Монморены — французский графский род, в XVIII в. близкий ко двору; несколько его представителей погибли во время Революции.
Абриаль, Андре Жозеф (1750—1828) — крупный французский судейский чиновник, успешно служивший при всех режимах, последовательно сменявшихся во Франции в конце XVIII — начале XIX в.; граф Империи, пэр — при Реставрации.
Сен-Жерменское предместье — в XVII—XIX вв. аристократический район Парижа на левом берегу Сены; граничит с предместьем Сен-Жак.
Внешние бульвары — вторая от центра кольцевая магистраль Парижа, охватывающая предместья города; проходит по линии, соединяющей старые городские заставы; в левобережной части носит название Южных бульваров (см. примеч. к с. 83); начала прокладываться в середине XVIII в.
Застава Гренелъ — находилась на левом берегу Сены у западной оконечности современных Внешних бульваров.
Застава Гар — расположена у предместья Сен-Марсель на восточном отрезке Южных бульваров.
514 Фиваида — область в Древнем Египте, куда уединялись первые христианские отшельники.
... напоминали двух коней, вырвавшихся из солнечной колесницы. — Этот образ навеян древнегреческими мифами, согласно которым бог солнца Гелиос, одетый в сверкающие одежды и с лучезарным венцом на голове, ежедневно объезжает небо с востока на запад в золотой колеснице, запряженной четверкой крылатых коней.
Диана (древнегреческая Артемида) — покровительница живой природы в античной мифологии, богиня-охотница, девственница.
Фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань; использовалась в XIX в. для изготовления носовых и шейных платков, а также для декоративных изделий и женских платьев.
Диана Вернон — героиня романа Вальтера Скотта "Роб Рой" (1817 г.), благородная девушка и отважная наездница.
Санд (Занд; точнее: Жорж Санд) — псевдоним французской писательницы Амантины Люсиль Авроры Дюдеван, урожденной Дюпен (1804—1876), автора многочисленных романов, в которых она создала много образов возвышенных героинь и выступала как сторонница передовых идей своего времени.
Эдме — героиня романа Жорж Санд "Мопра" (1837 г.).
515 Директория — руководящий орган власти во Франции в 1795— 1799 гг. согласно Конституции III года Республики (1795 г.). Состояла из пяти директоров, избираемых высшими представительными учреждениями страны. Ежегодно один из ее членов по жребию подлежал переизбранию. Политика Директории соответствовала интересам крупной буржуазии Франции.
Паладин — доблестный рыцарь, преданный королю или дамам.
517 Аутодафе (исп. и порт, autoda-fe — "акт веры") — публичное сожжение еретиков (людей, отступающих от господствующей религии) и еретических сочинений по приговору инквизиции (особого суда, учрежденного католической церковью в XIII в. для борьбы с еретиками).
Иногда, как в данном случае, это название употребляется иронически, в смысле уничтожения, сожжения чего-либо.
518 ... с безукоризненной точностью, которую Людовик XIV называл "вежливостью королей". — Выражение "Точность — вежливость королей" чаще приписывается Людовику XVIII.
Индийский архипелаг — другое название Малайского архипелага, самого большого в мире скопления островов; находится между материковой частью Юго-Восточной Азии и Австралией; включает в себя несколько крупных островных групп, входящих ныне главным образом в состав Индонезии, Малайзии и Филиппин.
519 Канова, Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма; статуя "Амур и Психея" — одна из известнейших его работ.
Равенала — древовидное растение семейства банановых.
Клодион (настоящее имя — Клод Мишель; 1738—1814) — французский скульптор; особенно известен изящными терракотовыми статуэтками и моделями для изделий из фарфора на темы античной мифологии, которые получали у него свободную трактовку. Терракотовые фигурки (от ит. terra cotta — "обожженная земля") — изделия из неглазурованной глины, покрытой глянцевитым стеклообразным сплавом); техника терракоты известна с глубокой древности.
Бушардон, Эдм (1698—1762) — французский скульптор и рисовальщик.
Куазево (Куазевокс), Антуан (1640—1720) — французский скульптор, мастер монументальной скульптуры; много работал для украшения королевских дворцов и парков.
... грации Жермена Пилона... — Грации — см. примеч. к с. 354. Здесь имеется в виду носящая название "Три грации" мраморная группа из трех женских фигур, несущих бронзовую урну с сердцем короля Генриха II, изваянная французским скульптором и медальером Жерменом Пилоном (1536/1537—1590).
Жан Гужон — см. примеч. к с. 50.
Жан де Булонь (1529-1608) — скульптор из города Дуэ во Франции, по происхождению фламандец; всю жизнь проработал в Италии и получил там прозвище Джованни да Болонья (Джамболонья); известен многими прекрасными статуями и скульптурными группами, а также рядом малых статуэток.
Кальцеолярия — травянистое или кустарниковое растение родом из Южной и Центральной Америки; используется в качестве декоративного.
Пассифлора — см. примеч. к с. 235.
Камелии — вечнозеленые декоративные деревья или кустарники с крупными красивыми цветами белого или красного цвета. Смоковница (инжир, фиговое дерево) — субтропическое дерево родом из Малой Азии; дает вкусные плоды, издревле используемые человеком в пищу.
Эпакридия (эпакрис) — декоративное растение из рода эпакридовых, кустарники с цветами; произрастают в Австралии и Океании; в XIX в. некоторые виды эпакридий культивировались в оранжереях Европы.
520 Шеффер — см. примеч. к с. 184.
Декан, Александр Габриель (1803-1860) — французский художник; автор литографий и направленных против режима Реставрации карикатур; пейзажист и анималист, писал также картины на сюжеты из жизни Востока, на библейские и исторические темы.
521 ... проводит все время в фехтовании, словно школяр Саламанки или гейдельбергский студент! — В XVIII—XIX вв. дуэли на шпагах, подчинявшиеся тщательно разработанным правилам, были неотьемле-
• мой частью жизни многих европейских студенческих корпораций. Принимать в них участие считалось доблестью, а шрамы, остававшиеся на лице в результате таких поединков, считались украшением мужчины и нередко служили предметом гордости даже в зрелом возрасте.
Саламанка — см. примеч. к с. 248.
Гейдельберг — город в юго-западной Германии, где с 1386 г. существует старейший в Германии университет.
522 "Почитай отца твоего и мать твою" — согласно Библии, одна из заповедей, данных Богом пророку Моисею (Исход, 20: 12).
Примечания
1
Прозвище палача. (Примеч. автора.)
(обратно)2
Изыди (лат.).
(обратно)3
Аминь! (лат.).
(обратно)4
Здесь и далее стихи в переводе Г.Аддера.
(обратно)5
Я вас! (лат.)
(обратно)6
"Входящие, оставьте упованья" (ит.). "Ад", III, 9. Перевод МЛозинского.
(обратно)7
Разрешите! (ит.)
(обратно)8
Да, только вы увидите собаку, а не синьору (ит.).
(обратно)9
Вы можете прочитать в "Происхождении права" прекрасные строки, написанные нашим великим историком Мишле на эту же тему. (Примеч. автора.)
(обратно)10
"Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне" (лат.). — Матфей, 19:14.
(обратно)11
Не сосчитаешь друзей, пока благоденствие длится (лат.). — Овидий, "Скорбные элегии", IX, 5. Перевод Н.Вольпина.
(обратно)12
О вестник! (гр.)
(обратно)13
"Спеши к конечной цели" (лат.). — "Наука поэзии", 148.
(обратно)14
По обету (лат.).
(обратно)15
"Тайный брак" (ит.).
(обратно)16
Зловещая птица (лат.).
(обратно)17
"Тебе, Бога, хвалим" (лат.).
(обратно)18
Изнеженность (ит.).
(обратно)19
Ж. Расин, "Федра", IV, 2. — Перевод М.Донского.
(обратно)20
П.Ж. Беранже. "Измены Лизетты".
(обратно)21
К конечной цели (лат.).
(обратно)22
Спешить к конечной цели (лат.).
(обратно)23
Жемчужина Парижа (шп.).
(обратно)24
"Перед восходом солнца" (ит.).
(обратно)25
Умереть, уснуть (англ.).
(обратно)26
В своем роде (лат.).
(обратно)27
В том же положении (лат.).
(обратно)28
"Вот в чем вопрос!" — У.Шекспир, "Гамлет", III, 1.
(обратно)
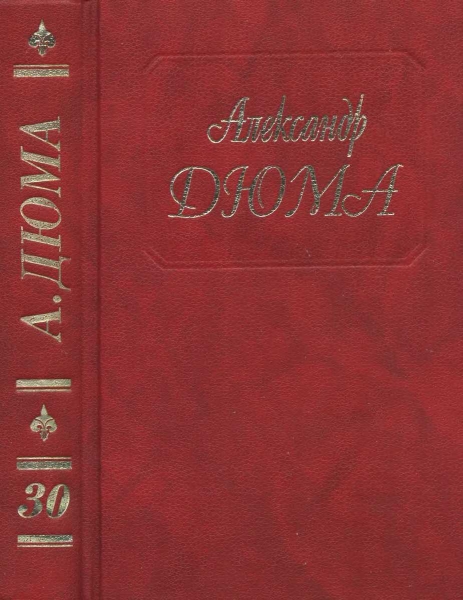

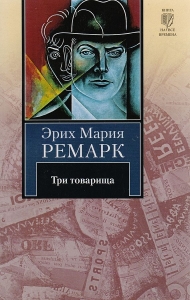

Комментарии к книге «Парижские могикане. Части 1, 2», Александр Дюма
Всего 0 комментариев