Александр Дюма Предводитель волков
Вступление
КТО ТАКОЙ МОКЕ И КАКИМ ОБРАЗОМ САМ РАССКАЗЧИК УЗНАЛ ЭТУ ИСТОРИЮ
1
Почему в течение первых двадцати лет моей литературной жизни, то есть с 1827 по 1847 год, я так редко оглядывался назад и вспоминал городок, где родился, окрестные леса, соседние деревушки? Почему весь этот мир моей юности, как мне казалось, исчез, скрылся в тумане, тогда как будущее, к которому я стремился, представлялось ясным и сияющим, словно те волшебные острова, что Колумб и его спутники приняли за плывущие по морю корзины с цветами?
Увы! Это оттого, что в первые двадцать лет жизни нас ведет за собой надежда, а в последние двадцать — действительность.
С того дня как усталый путник впервые, выронив посох и распустив пояс, сядет на обочине, будущее понемногу начинает заволакиваться мглой и взгляд проникает в глубины прошлого.
Тогда, оказавшись у входа в пустыню, он с удивлением замечает, мимо каких чудесных зеленых и тенистых оазисов прошел не только не остановившись, но и едва взглянув на них.
Он шел так быстро! Он так спешил туда, куда никто никогда не приходит, — к блаженству.
Только теперь он понимает, каким слепым и неблагодарным был в то время, и говорит себе, что, встретив на пути зеленую рощу, он разобьет в ее тени свой шатер и останется там до конца своих дней.
Но тело не может вернуться в прошлое, и лишь память совершает благоговейное паломничество к истокам жизни, подобно легкой лодке с белым парусом, поднимающейся вверх по реке.
Тело продолжает свой путь, но, лишенное памяти, оно подобно ночи без звезд или же погасшему светильнику.
Теперь тело и память расходятся в противоположные стороны.
Тело бредет наугад к неведомому будущему.
Память, яркий блуждающий огонек, несется по следу: лишь она одна не боится заблудиться.
Затем, посетив все оазисы, подобрав все воспоминания, она стремительно возвращается к усталому телу и рассказывает о виденном ею.
Слушая этот рассказ, подобный жужжанию пчелы, пению птицы, лепету ручья, путник начинает улыбаться, его лицо светлеет, взгляд загорается.
Тогда, по милости Провидения, молодость, в которую он не может вернуться, сама возвращается к нему.
И он вслух повторяет то, что нашептывает ему память.
Может быть, жизнь круглая, как земля? Возможно, не замечая этого, мы совершаем полный оборот и, приближаясь к могиле, вновь оказываемся у колыбели?
2
Я знаю только то, что случилось со мной самим.
В первый раз остановившись на жизненном пути, в первый раз оглянувшись на прошлое, я рассказал историю Бернара и его дяди Бертелена, затем последовали другие истории: Анжа Питу, его невесты Катрин и тетушки Анжелики, Консьянса Простодушного и его невесты Мариэтты и, наконец, Катрин Блюм и папаши Ватрена.
Сегодня я хочу поговорить о Тибо, предводителе волков, и о сеньоре де Везе.
Теперь поведаю вам, каким образом я сам узнал о событиях, которые собираюсь описать.
Прочли ли вы мои «Мемуары» и помните ли друга моего отца по имени Моке?
Если прочли, то у вас должно было сохраниться смутное воспоминание об этом человеке.
Если вы их не читали, то у вас нет никакого представления о нем.
И в том и в другом случае я должен изобразить Моке.
С тех пор как помню себя, то есть с трех лет, мы — мой отец, моя мать и я — жили в небольшом замке Фоссе, на границе департаментов Эна и Уаза, между Арамоном и Лонпре. Без сомнения, этот маленький замок получил свое название от окружавших его огромных рвов, заполненных водой.
О сестре я не говорю: она воспитывалась в парижском пансионе и мы видели ее лишь раз в году, во время каникул.
Кроме моего отца, моей матери и меня самого, в замке жили:
1) большой черный пес, по кличке Трюфель, служивший мне верховым животным и имевший вследствие этого право входить куда ему захочется;
2) садовник Пьер, ловивший для меня в саду лягушек и ужей (этими тварями я очень интересовался);
3) негр, камердинер моего отца, по имени Ипполит, нечто вроде черного Жокрисса, невероятно простодушный (я думаю, отец держал его только для того, чтобы пополнять свою коллекцию забавных историй, которую мог с успехом противопоставить глупостям Брюне[1]);
4) сторож Моке, которым я восхищался, потому что каждый вечер он рассказывал мне удивительные легенды о привидениях и оборотнях; эти рассказы прерывались всякий раз с появлением «генерала» (так называли моего отца);
5) наконец, кухарка, откликавшаяся на имя Мари.
Эта последняя совершенно теряется в смутном тумане моей памяти: ее имя вызывает в сознании нечто неопределенное и, насколько я помню, в ней не было ничего, о чем стоило бы рассказывать.
Впрочем, сегодня мы займемся Моке.
Попытаюсь дать вам его физический и нравственный портрет.
3
В физическом отношении Моке представлял собой человека лет сорока, невысокого, коренастого, широкоплечего, твердо стоявшего на ногах.
У него была загорелая кожа, маленькие глаза с острым взглядом, седеющие волосы, сходившиеся на шее черные бакенбарды.
Он встает из глубин моей памяти одетым в треуголку, зеленую куртку с посеребренными пуговицами, плисовые штаны и высокие кожаные гетры, с ягдташем на плече, ружьем в руке, коротенькой трубкой в зубах.
Поговорим немного об этой трубке.
Она не просто принадлежала Моке — она сделалась его неотъемлемой частью.
Никто никогда не видел Моке без нее.
Если Моке случайно вынимал трубку изо рта, он держал ее в руке.
Трубка, сопровождавшая Моке в самых густых чащах, должна была как можно меньше соприкасаться с твердыми телами, способными вызвать ее разрушение.
Гибель хорошо обкуренной трубки была для Моке почти невосполнимой потерей.
Поэтому чубук трубки Моке был не длиннее пяти или шести линий, к тому же, из этих пяти-шести линий, могу вас уверить, три приходились на стержень птичьего пера.
Привычка не выпускать изо рта трубку привела к образованию щели между четвертым резцом и первым коренным зубом слева, почти уничтожив при этом оба клыка, и породила другую привычку — говорить не разжимая зубов, отчего все, что произносил Моке, звучало очень решительно.
Впрочем, это становилось еще более заметным, когда Моке на минуту вынимал изо рта трубку и уже ничто не мешало челюстям соединиться, а зубам сжаться так плотно, что вместо слов выходило невнятное шипение.
Вот вам внешность Моке.
Следующие строки дадут описание его характера.
4
Однажды утром Моке вошел в спальню к моему отцу, еще лежавшему в постели, и встал перед ним, прямой, как придорожный столб.
— Ну что, Моке, — спросил его мой отец, — в чем дело, чему я обязан честью видеть тебя так рано?
— Дело в том, мой генерал, — серьезно ответил Моке, — что я окошмарен.
Сам того не подозревая, Моке обогатил французский язык новым выражением.
— Ты окошмарен? — повторил отец, приподнявшись на локте. — Ох, парень, это опасно!
— Вот так-то, мой генерал.
И Моке вынул изо рта свою трубку, что проделывал крайне редко и лишь в исключительных случаях.
— А давно ли ты окошмарен, бедный мой Моке? — поинтересовался мой отец.
— Уже неделю, мой генерал.
— И кем же, Моке?
— О, это я точно знаю, — отвечал Моке, сжав зубы донельзя, так как трубка была у него в руке, а рука за спиной.
— Ну, так могу я, наконец, тоже это узнать?
— Это сделала мамаша Дюран из Арамона. Вам же известно, генерал, что она ведьма.
— Да нет, Моке, клянусь, я этого не знал.
— Но я-то знаю, я видел, как она летела на шабаш верхом на помеле.
— Ты сам видел, Моке?
— Вот как вас вижу, мой генерал; к тому же у нее есть старый черный козел, которому она поклоняется.
— А за что она тебя окошмарила?
— Она мне отомстила за то, что я застал ее в полночь отплясывающей свой дьявольский танец в вересковых зарослях у Гондревиля.
— Моке, это серьезное обвинение, и я бы советовал тебе прежде чем повторять публично то, что ты мне сказал, собрать кое-какие доказательства.
— Доказательства? Еще чего! Вся деревня и так знает, что в молодости она была любовницей оборотня Тибо.
— Черт возьми, Моке, этого нельзя так оставить!
— Я и не оставлю, а расквитаюсь со старой кротихой!
Выражение «старая кротиха» Моке позаимствовал у своего друга, садовника Пьера, всей душой ненавидевшего кротов и называвшего этим именем любого своего врага.
5
«Этого нельзя так оставить!», — сказал мой отец.
Не то чтобы он поверил в кошмар Моке — даже и поверив, он все равно не мог считать, что мамаша Дюран «окошмарила» его сторожа, конечно же нет; но моему отцу известны были предрассудки наших крестьян, он знал, что в деревнях многие все еще верят в порчу. Он слышал рассказы о нескольких случаях страшной мести околдованных, считавших, что разрушат чары, убив колдуна или ведьму, а Моке говорил о мамаше Дюран с такой угрозой в голосе, так сжимал при этом ружье, что мой отец счел необходимым поддакнуть сторожу, чтобы убедить его ничего не предпринимать, не посоветовавшись прежде с ним.
Решив, что он приобрел достаточное влияние на Моке, мой отец рискнул предложить:
— Но, перед тем как с ней расквитаться, милый мой Моке, ты должен убедиться в том, что не можешь избавиться от своего кошмара.
— Это невозможно, мой генерал, — уверенно ответил Моке.
— Как невозможно?
— Я все перепробовал.
— И что же ты делал?
— Для начала я выпил на ночь большую чашку горячего вина.
— Кто тебе это посоветовал? Господин Лекосс?
Господин Лекосс был известным в Виллер-Котре врачом.
— Господин Лекосс? — повторил Моке. — Ну нет! Он не умеет снимать порчу. Нет, черт возьми, это не господин Лекосс!
— Тогда кто же?
— Пастух из Лонпре.
— Выпил чашку горячего вина, скотина! Ты, наверное, был после этого мертвецки пьян?
— Половину выпил пастух.
— Тогда понятно, почему он тебе его прописал. И чашка горячего вина не помогла?
— Нет, мой генерал. Ведьма всю ночь топтала мою грудь ногами, как будто я ничего не принимал.
— Что же ты еще делал? Я думаю, ты не ограничился чашкой горячего вина?
— Я поступил так, как поступаю, когда хочу поймать хитрого зверя.
Моке выражался очень своеобразно; нельзя было заставить его произнести «хищный зверь»; каждый раз как мой отец говорил «хищный зверь», Моке отвечал: «Да, генерал, хитрый зверь».
— Ты все-таки хочешь говорить «хитрые звери»? — спросил как-то мой отец.
— Да, мой генерал, и совсем не из упрямства.
— Тогда почему же?
— Потому что, при всем моем уважении к вам, должен сказать: вы ошибаетесь, мой генерал.
— Как это ошибаюсь?
— Да; надо говорить «хитрый зверь», а не «хищный».
— А что означает «хитрый зверь», Моке?
— Это зверь, который выходит только по ночам; это тварь, которая пробирается в голубятни, чтобы душить голубей, как куница; в курятники, чтобы давить кур, как лиса; в овчарни, чтобы резать баранов, как волк; это лживое животное — одним словом, это хитрый зверь.
В этом истолковании была своя логика, и мой отец ничего не смог возразить, а торжествующий Моке продолжал называть хищников хитрыми зверями, не понимая, отчего мой отец упрямится и продолжает называть хитрых зверей хищными.
Вот почему, когда мой отец спросил Моке, что тот намерен делать дальше, Моке ответил: «Я поступил так, как поступаю, когда хочу поймать хитрого зверя».
Нам пришлось прервать этот диалог, чтобы дать вам только что прочитанные вами разъяснения, но моему отцу Моке ничего не должен был объяснять, и они продолжали разговор.
6
— Так что же ты делаешь, Моке, когда хочешь поймать хитрого зверя? — спросил мой отец.
— Генерал, я делаю западню.
— Как! Ты устраиваешь западню для мамаши Дюран?
Моке не любил, чтобы кто-нибудь произносил слова иначе, чем он сам.
Он повторил:
— Я сделаю западню для мамаши Дюран, да, мой генерал.
— А где же ты устроил свою западню? В дверях?
Как видите, мой отец уступил.
— Как бы не так — в дверях! — сказал Моке. — Можно подумать, старая ведьма входит в двери! Не знаю, каким образом она пробирается в мою комнату.
— Может быть, через дымоход?
— В моей комнате нет камина. И вообще я вижу ведьму только тогда, когда почувствую ее на себе.
— Ты ее видишь?
— Как вас сейчас, мой генерал.
— И что она делает?
— Ничего хорошего — ходит по мне ногами: топ! топ! топ!
— Где же ты устроил западню?
— Западню! У себя на животе, конечно!
— И какая же у тебя западня?
— О, превосходная западня!
— Ну, какая?
— Такая, какую ставил на серого волка, который резал баранов у господина Детурнеля.
— Не так уж хороша эта твоя западня, Моке: серый волк съел приманку и ушел.
— Вы прекрасно знаете, почему он смог уйти, мой генерал.
— Не знаю.
— Он не попался, потому что это был черный волк башмачника Тибо.
. — Моке, это не мог быть черный волк башмачника Тибо: ты же сам сказал, что волк, который резал баранов у господина Детурнеля, был серый.
— Теперь он серый, мой генерал, но во времена башмачника Тибо, тридцать лет назад, он был черным. Я и сам, мой генерал, тридцать лет назад был черным, словно ворон, а теперь серый, как Доктор.
Доктором звали нашего кота, которого я попытался более или менее прославить в своих «Мемуарах»; имя это он получил за роскошный мех, коим его наделила природа.
— Да, — сказал мой отец, — я знаю твою историю про башмачника Тибо. Но если черный волк — это дьявол, как ты говоришь, Моке, то он не должен меняться.
— Должен, мой генерал; за сто лет он становится совсем белым, а в полночь каждого сотого года снова делается черным как уголь.
— Ты прав, Моке; только, пожалуйста, не рассказывай эту увлекательную историю моему сыну, пока ему не исполнится, по крайней мере, пятнадцати лет.
— Это почему, мой генерал?
— Потому что незачем забивать ему голову такой чушью, пока он не будет в том возрасте, когда не боятся ни белых, ни серых, ни черных волков.
— Хорошо, мой генерал, я не стану ему об этом рассказывать.
— Продолжай…
— О чем мы говорили, мой генерал?
— О западне, которую ты устроил у себя на животе. Ты говорил, что это превосходная западня.
— Ах да! В самом деле, генерал, — западня была превосходная. Она весила не меньше десяти фунтов, — да что я говорю! — в ней было верных пятнадцать вместе с цепью! Цепь я намотал себе на руку.
— И что было в ту ночь?
— Ох, в ту ночь было еще хуже. Раньше она приходила топтать меня в кожаных башмаках, а в ту ночь явилась в сабо.
— И теперь она приходит…
— Каждую ночь, мой генерал. Вы же видите, какой я стал тощий и хилый. Но сегодня утром я принял решение.
— Какое же решение ты принял, Моке?
— Я ее застрелю из ружья — вот что я сделаю!
— Мудрое решение. И когда ты собираешься привести приговор в исполнение?
— Сегодня вечером или завтра, мой генерал.
— Черт возьми, я как раз хотел послать тебя в Виллер-Эллон.
— Ничего, мой генерал. Это срочное дело?
— Очень срочное.
— Ну, так я схожу в Виллер-Эллон — до него четыре льё, если идти лесом, — и к вечеру вернусь; это всего-то восемь льё, генерал, мы во время охоты и дальше забирались.
— Договорились, Моке. Я дам тебе письмо к господину Коллару, и ты его отнесешь.
— Отнесу, мой генерал.
Отец поднялся с постели и написал г-ну Коллару следующее письмо:
«Мой дорогой Коллар!
Посылаю к Вам моего дурака-сторожа — Вы его знаете, — который вообразил, что одна старуха приходит терзать его по ночам и, чтобы избавиться от мучений, решил попросту убить ее. Но, поскольку суд может не одобрить этот способ борьбы с кошмаром, я изобрел предлог, чтобы отправить Моке к Вам. Пожалуйста, в свою очередь придумайте для него поручение к Данре, в Вути; тот пошлет Моке к Дюлолуа, а последний, если ему будет угодно, может послать его к черту под любым предлогом.
В общем, главное — заставить его гулять по меньшей мере две недели. За это время мы переберемся в Антийи, и тогда, раз мы уедем из Арамона, а кошмар, вероятно, по пути отстанет, мамаша Дюран сможет спать спокойно, чего я не могу ей обещать, пока Моке останется поблизости.
Он принесет Вам дюжину куликов и зайца, которого мы подстрелили вчера, когда охотились в болотах Валлю.
Самый нежный привет прекрасной Эрмини и тысячу поцелуев милой малютке Каролине.
Ваш друг Алекс. Дюма».
Моке отправился в путь через час после того, как письмо было закончено, и появился в Антийи через три недели.
— Ну что? — спросил мой отец, видя Моке в добром здравии и прекрасном настроении. — Что с мамашей Дюран?
— Что ж, мой генерал, — весело ответил Моке, — она меня оставила в покое, старая кротиха; похоже, за пределами округа она бессильна.
Со времени кошмара Моке прошло двенадцать лет. Мне исполнилось пятнадцать.
Была зима 1817–1818 года.
Увы! Моего отца уже десять лет не было в живых.
Нам пришлось расстаться с садовником Пьером, с камердинером Ипполитом, со сторожем Моке.
У нас больше не было ни замка Ле Фоссе, ни виллы в Антийи; мы жили в Виллер-Котре, в маленьком домике на площади напротив фонтана, и моя мать держала табачную лавочку.
Там продавался еще охотничий порох, дробь и пули.
Как я писал в своих «Мемуарах», я уже тогда был хоть и юным, но завзятым охотником.
Вот только охотился в полном смысле слова я лишь в том случае, если мой родственник, г-н Девиолен, инспектор лесов в Виллер-Котре, с разрешения моей матери брал меня с собой.
Все остальное время я занимался браконьерством.
Для охоты и браконьерства у меня было чудесное одноствольное ружье с выгравированной монограммой княгини Боргезе (прежде оно принадлежало ей).
Мой отец подарил мне это ружье, когда я был еще ребенком; после смерти отца наше имущество распродавали, но я так настойчиво просил отдать мне мое ружье, что его не продали вместе с другим оружием, лошадьми и экипажами.
Больше всего я любил зиму.
Зимой земля покрыта снегом, птицы не могут найти себе пропитание и прилетают туда, где д ля них рассыпано зерно.
У некоторых из друзей моего отца были прекрасные большие сады, и мне позволяли охотиться там на птиц.
Расчистив в снегу площадку, я бросал горсть зерна, прятался неподалеку и ждал. Одним выстрелом мне удавалось убить шесть, восемь, иногда десять птиц.
Если снег задерживался, можно было надеяться, что затравят волка.
Загнанный волк принадлежит всем.
Это общий враг, преступник, объявленный вне закона. Каждый имеет право выстрелить в него. Так что можете не сомневаться, что, несмотря на протесты моей матери, видевшей в охоте двойную опасность для меня, я хватал свое ружье и первым оказывался на условленном месте.
7
Зима 1817–1818 года была суровой.
Снега выпало на фут, сверху подморозило, и уже две недели держался наст.
И тем не менее ничего не происходило.
Однажды около четырех часов пополудни к нам в лавочку зашел Моке, чтобы купить пороху.
Сделав покупку, он подмигнул мне. Я вышел вслед за ним.
— Ну что, Моке? — спросил я у него. — В чем дело?
— Не догадываетесь, господин Александр?
— Нет, Моке.
— Не догадываетесь, что, раз я пришел за порохом к госпоже генеральше, вместо того чтобы купить его в Арамоне, то есть вместо четверти льё прошел целое льё, значит, я хочу пригласить вас на охоту?
— Мой славный Моке! На кого же мы будем охотиться?
— На волка, господин Александр.
— Вот оно что! В самом деле?
— Сегодня ночью он унес барашка у господина Детурнеля, и я преследовал его до самого леса Тиле.
— И что же?
— Этой ночью я наверняка увижу его, спугну, и завтра утром мы займемся им.
— Какое счастье!
— Только вот надо получить разрешение…
— У кого, Моке?
— У генеральши.
— Ну, так пойдем к ней, Моке!
Моя мать смотрела на нас из окна.
Она подозревала, что готовится заговор. Мы вернулись в дом.
— Моке, ты поступаешь неразумно, — сказала моя мать.
— А что я такого делаю, госпожа генеральша? — спросил Моке.
— Ты его сбиваешь с толку, он и так думает только об этой проклятой охоте!
— Но, госпожа генеральша, это как у породистой собаки: его отец был охотником, сам он охотник, его сын будет охотиться — вы должны примириться с этим.
— А если с ним случится беда?
— Когда рядом Моке? Помилуйте, я отвечаю за господина Александра как за себя самого! Чтобы с сыном моего генерала что-нибудь случилось? Да никогда этого не будет, никогда в жизни!
Моя бедная матушка покачала головой.
Я повис у нее на шее.
— Мамочка, — сказал я ей, — ну, прошу тебя!
— Но ты сам зарядишь его ружье, Моке?
— Будьте уверены! Шестьдесят зернышек пороху, ни одним больше, ни одним меньше, и пуля из тех, что по двадцать на фунт.
— Ты от него не отойдешь?
— Не дальше, чем его собственная тень.
— Он будет рядом с тобой?
— Я его поставлю между колен.
— Моке! Я его доверяю тебе одному.
— Вы получите его целым и невредимым. Ну, господин Александр, собирайте свои пожитки, и пойдем: генеральша разрешает.
— Как! Ты его уведешь прямо сейчас, Моке?
— Конечно! Завтра будет слишком поздно: на волка охотятся рано утром.
— Ты что, хочешь с ним охотиться на волка?
— Вы боитесь, что волк его съест?
— Моке! Моке!
— Да я же сказал вам, что присмотрю за ним.
— А где будет ночевать мой бедный мальчик?
— У папаши Моке, разумеется! Я положу на пол мягкий тюфяк, постелю простыни — такие же белые, какими Господь укрыл землю, — и дам ему два теплых одеяла; не бойтесь, он не простудится.
— Ну, мама, не беспокойся. Пойдем, Моке, я готов.
— И ты даже не поцелуешь меня, негодник?
— Конечно, да, мамочка, и не один раз!
И я изо всех сил сжал ее в объятиях, едва не задушив.
— Когда ты вернешься?
— Не волнуйтесь, если его не будет дома до завтрашнего вечера.
— Почему? Ты же сказал, что охота будет утром!
— Утром — это на волка; но, если нам не повезет, должен же мальчик подстрелить одну или пару диких уток в болотах Валлю.
— Ну вот, ты его утопишь!
— Черт возьми! — воскликнул Моке. — Если бы я не имел чести разговаривать с женой моего генерала, я бы сказал вам…
— Что, Моке? Что бы ты сказал?
— Что вы хотите сделать из вашего сына мокрую курицу. Но, если бы матушка генерала ходила за ним по пятам, как вы за этим мальчиком, он никогда не переплыл бы море и не оказался бы во Франции.
— Ты прав, Моке, бери его с собой: я совсем потеряла разум.
И матушка отвернулась, чтобы стереть слезу.
Слеза матери — алмаз сердца, более драгоценный, чем жемчуг Офира.
Я видел, как она скатилась.
Я подошел к бедняжке и шепнул ей на ухо:
— Если хочешь, мама, я останусь.
— Нет, иди, иди, мой мальчик, — сказала она. — Моке прав: должен же ты когда-нибудь стать мужчиной.
Я снова поцеловал ее и пошел догонять Моке.
Пройдя сотню шагов, я обернулся.
Матушка вышла на середину улицы, чтобы дольше видеть меня.
Теперь я смахнул слезу.
— Что это, вы тоже плачете, господин Александр? — спросил Моке.
— Ничего, Моке, это от холода.
Господь, подаривший мне эту слезу, не правда ли, ты прекрасно знаешь, что я плакал не от холода?
8
Уже совсем стемнело, когда мы добрались до дома Моке.
Мы поужинали яичницей с салом и рагу из кролика.
Затем Моке постелил мне. Он сдержал слово, данное моей матери: у меня был мягкий тюфяк, две белые простыни и два очень теплых одеяла.
— Ну вот, — сказал мне Моке, — забирайтесь в постель и спите; может быть, завтра придется выходить в четыре часа утра.
— Когда скажешь, Моке.
— Да, да, вечером вы ранняя пташка, а завтра утром мне придется облить вас холодной водой, чтобы поднять с постели.
— Согласен, Моке, если не встану с первого раза.
— Что ж, посмотрим.
— Тебе очень хочется спать, Моке?
— А что, по-вашему, я должен делать в это время?
— По-моему, ты мог бы рассказать одну из тех историй, какими развлекал меня, когда я был маленьким.
— А кто меня разбудит в два часа ночи, если я до полуночи стану вам сказки рассказывать? Господин кюре?
— Ты прав, Моке.
— Вот и хорошо!
Я разделся и лег.
Моке бросился на свою постель не раздеваясь.
Через пять минут он уже громко храпел.
Я же больше двух часов ворочался с боку на бок и никак не мог уснуть.
Сколько бессонных ночей провел я в своей жизни перед началом охоты!
Наконец к полуночи усталость взяла свое.
В четыре часа я проснулся от резкого холода и открыл глаза.
Моке стащил с меня одеяло и стоял надо мной, обеими руками опираясь на ружье, с трубкой в зубах.
При каждой затяжке огонек трубки освещал его довольное лицо.
— Ну что, Моке? — спросил я.
— Что ж, мы его спугнули.
— Волка? А кто это сделал?
— Бедняга Моке.
— Вот молодец!
— Но угадайте, где зверь залег? Что за славный малый этот волк!
— Где же, Моке?
— Сто против одного, что не угадаете! В охотничьем угодье Трех Дубов.
— Значит он попался?
— Да, черт возьми!
Три Дуба были небольшой зарослью деревьев и кустарника арпана в два посередине равнины Ларньи, примерно в пятистах шагах от леса.
— А охотники? — продолжал я.
— Всех предупредили; на опушке леса самые лучшие стрелки: Мойна, Мильде, Ватрен, Лафёй — в общем, все. С нашей стороны встанет господин Шарпантье, со стороны Валлю — господин Ошде, со стороны Ларньи — господин Детурнель, со стороны Ле Фоссе — вы и я; спустят собак, полевой сторож подбодрит их зычным голосом — и все кончено, волк у нас в кармане.
— Моке, поставь меня на хорошее место.
— Я же сказал, что вы будете рядом со мной, только вам придется для этого подняться с постели.
— Ты прав, Моке. Брр!
— Ладно, пожалею вашу молодость, подброшу хвороста в камин.
— Моке, я не решался просить тебя об этом, но, право же, это было бы очень любезно с твоей стороны.
Моке принес со двора охапку веток, положил их в камин, подправил ногой и бросил в середину зажженную спичку.
Огонь занялся сразу и вскоре весело пылал в камине.
Сев на скамейку, я стал одеваться.
Уверяю вас, я справился с этим очень быстро. Моке был поражен моим проворством.
— Ну вот, — сказал он, — теперь выпьем по капельке — и в путь!
И Моке наполнил два стаканчика желтоватой жидкостью, которую я узнал, не пробуя.
— Ты же знаешь, Моке, я не пью водки.
— Вы впрямь сын своего отца. Но что же вы будете пить?
— Ничего, Моке, ничего не надо.
— Вы знаете поговорку: «В пустом доме черт селится». Послушайте меня, проглотите хоть что-нибудь, пока я буду заряжать ваше ружье, надо же выполнить обещание, данное вашей бедной матушке.
— Ладно, Моке, тогда кусок хлеба и стакан пиньоле.
Пиньоле — это слабое вино невинодельческих районов.
Говорят, его надо пить втроем: один пьет, двое держат пьющего.
Я привык пить пиньоле и мог справиться один.
Пока я пил, Моке заряжал мое ружье.
— Что это ты делаешь, Моке? — спросил я.
— Помечаю крестиком вашу пулю. Мы будем стоять рядом, можем выстрелить одновременно, и — не из-за денег, я знаю, вы мне их отдадите, но из тщеславия, — если волк будет убит, я хочу видеть, чья пуля его убила. Так что цельтесь как можно лучше.
— Я постараюсь, Моке.
— Вот ваше ружье, оно заряжено: держите его стволом вверх. Идемте!
Мы вышли. Я послушался совета старого сторожа.
9
Место встречи было выбрано на дороге в Шавиньи.
Там уже были сторожа и несколько охотников.
Через десять минут подошли остальные.
К пяти часам без нескольких минут все были в сборе. Посовещавшись, решили окружить Три Дуба на большом расстоянии и, постепенно сходясь, сжимать кольцо.
Надо было передвигаться как можно тише: хорошо известно, что господа волки уходят при малейшем шуме.
Каждый должен был внимательно изучить дорогу, по которой предстояло идти: надо было убедиться в том, что волк еще в кустарнике. Полевой сторож держал собак Моке, связанных сворою.
Все заняли свои места.
Мы с Моке оказались на северной стороне, обращенной к лесу. Как и говорил Моке, это было лучшее место.
Возможно, волк попытается уйти в лес и тогда выбежит прямо на нас.
Мы прислонились к стволам дубов, стоявших на расстоянии пятидесяти шагов один от другого.
Оставалось только ждать не двигаясь и затаив дыхание.
На противоположной от нас стороне спустили собак. Раза два пролаяв, собаки замолчали.
Полевой сторож вслед за ними вошел в рощу и, крича «Ату его!», стал бить палкой по деревьям.
Но собаки, оскалясь, выпучив глаза, со вставшей дыбом шерстью, казалось, приросли к земле.
Нельзя было заставить их сдвинуться с места.
— Эй, Моке! — крикнул полевой сторож. — Похоже, волк лихой: Рокадор и Томбель не хотят с ним дела иметь.
Моке не стал отвечать, потому что звук его голоса мог указать волку место, где находится враг.
Полевой сторож продолжал идти вперед и стучать по деревьям. Обе собаки шли за ним, но двигались медленно, осторожно и не лаяли, а ворчали.
— Разрази меня гром! — закричал вдруг полевой сторож. — Я чуть было не наступил ему на хвост. Ату его! Ату! Моке, на тебя, на тебя!
В самом деле, что-то пулей неслось на нас. Зверь вылетел из кустарника и с быстротой молнии пробежал между мной и Моке.
Это был огромный волк, почти белый от старости.
Моке выстрелил в него из своей двустволки.
Я увидел, как обе его пули отскочили в снег.
— Да стреляйте же, стреляйте! — закричал он.
Только тогда я вскинул ружье, прицелился и выстрелил.
Волк сделал движение, как будто хотел укусить себя за плечо.
— Попал! Попал! — воскликнул Моке. — Мальчику удалось! Воистину дуракам счастье!
Но волк продолжал бежать вперед, прямо на Мойна и Мильде, двух лучших стрелков. Оба выпустили по одной пуле в сторону равнины и по одной — в кусты. Две первые пули, скрестившись, упали в снег, взметнув фонтаны. Они не задели волка, но две другие пули, без сомнения, попали в цель.
Невозможно, чтобы два таких охотника промахнулись.
Мойна при мне как-то убил семнадцать куликов.
Мильде рассек надвое белку, перелетавшую с одного дерева на другое.
Охотники преследовали волка в лесу. Мы, затаив дыхание, смотрели на то место, где они скрылись из виду.
Через некоторое время они вышли смущенные, качая головой.
— Ну что? — крикнул им Моке.
— Ну что, — ответил Мильде, махнув рукой, — он уже в Тай-Фонтене.
— В Тай-Фонтене! — повторил изумленный Моке, — Что ж вы, промазали?
— Почему бы и нет? Ты же в него не попал!
Моке тряхнул головой.
— Значит, здесь есть какая-то чертовщина, — сказал он. — То, что я промахнулся, — странно, но все-таки возможно. Но чтобы Мойна два раза подряд выстрелил мимо цели — нет, такого быть не может.
— Но это так, бедный мой Моке.
— Впрочем, вы его задели, — обратился он ко мне.
— Я!.. Ты уверен в этом?
— К нашему стыду; но это так же верно, как то, что меня зовут Моке, — вы в него попали.
— Хорошо; но, если я его задел, это легко проверить: мы увидим следы крови. Давай, Моке, сбегаем, посмотрим.
И я первый кинулся вперед.
— Нет, черт возьми! — воскликнул Моке, скрипнув зубами и топнув ногой, — напротив, пойдем помедленнее, мы не знаем, с кем имеем дело.
— Пусть медленно, только пойдем.
И он двинулся по следам волка.
— Да ведь след ясно виден, — сказал я ему, — его не потеряешь.
— Я не след ищу.
— Так что же тогда?
— Сейчас узнаете.
Охотники, окружавшие рощу, присоединились к нам; по пути полевой сторож объяснил им, что произошло. Мы с Моке шли по волчьим следам, глубоко отпечатавшимся на снегу.
На том месте, где волка застал мой выстрел, я сказал:
— Видишь, Моке, я промахнулся.
— Почему вы так думаете?
— Да потому что крови нет.
— Тогда поищите в снегу вашу пулю.
Я направился туда, где, по моим расчетам, должна была лежать пуля, если она не задела волка.
Пройдя напрасно с полкилометра, я решил вернуться к Моке.
Он знаком подозвал охотников.
— Ну что, — спросил он у меня, — где пуля?
— Я ее не нашел.
— Значит, мне повезло больше, чем вам: я нашел ее.
— Как! Ты ее отыскал?
— Идите за мной.
Я послушался. Охотники подошли ближе. Но Моке указал им черту, которую нельзя переступать.
Мойна с Мильде тоже приблизились к нам.
— Ну как? — спросил у них Моке.
— Мимо, — ответили оба лесника.
— Я видел, что вы промахнулись на равнине, ну а в лесу?
— То же самое.
— Вы уверены в этом?
— Мы нашли обе пули, они застряли в стволах деревьев.
— Не может быть, — сказал Ватрен.
— Да, это невероятно, — согласился Моке, — и тем не менее, я покажу вам кое-что еще более удивительное.
— Покажи.
— Смотрите, что это здесь на снегу?
— Волчий след, черт возьми!
— А вот здесь, около правой передней лапы, что это?
— Маленькая ямка.
— До сих пор не поняли?
Охотники удивленно переглянулись.
— Что, теперь догадались? — продолжал Моке.
— Это невозможно! — ответили они ему.
— Но это так, и сейчас я вам это докажу.
Моке сунул руку в снег, немного поискал и с победным криком извлек сплющенную пулю.
— Смотрите-ка! — сказал я. — Моя пуля.
— Вы ее узнаете?
— По-моему, ты ее пометил.
— Каким знаком?
— Крестом.
— Вот видите, господа, — сказал Моке.
— Теперь объясни нам, в чем дело.
— Так вот: он отвел от себя обычные пули, но у него нет власти над пулей этого мальчика, помеченной крестом. Она ударила его в плечо, я видел, как он укусил себя.
— Но, если пуля попала ему в плечо, — спросил я, удивленный молчанием и испугом охотников, — почему она его не убила?
— Потому что она не из золота и не из серебра, малыш, а только золотые и серебряные пули могут пробить шкуру дьявола и убить того, кто продал ему душу.
— Что же, Моке, — вздрогнув, спросили охотники, — ты думаешь…
— Да, черт возьми! Готов поклясться, что это был волк башмачника Тибо.
Охотники переглянулись.
Двое или трое перекрестились.
Казалось, все разделяли мнение Моке и знали, кто такой. волк башмачника Тибо.
Один я ничего не понимал.
— Но, в конце концов, — потребовал я, — объясните мне, что это за волк башмачника Тибо!
Моке не решался ответить.
— Ах да! — воскликнул он наконец. — Генерал сказал, что вам можно будет узнать это, когда вам исполнится пятнадцать лет. Вам ведь уже больше, не так ли?
— Мне шестнадцать, — гордо ответил я.
— Так вот, мой дорогой господин Александр, волк башмачника Тибо — это дьявол. Вы ведь просили меня вчера рассказать вам какую-нибудь историю?
— Да.
— Пойдемте сейчас ко мне, и я вам ее расскажу — да какую!
Лесники и охотники расходились, молча обмениваясь рукопожатиями; каждый двинулся в свою сторону; мы вернулись к Моке, и тогда он рассказал мне ту историю, которую вы сейчас прочтете.
Может быть, вы спросите, отчего я так долго не рассказывал вам ее. Она была скрыта в одной из ячеек моей памяти. Я мог бы сообщить вам, по какому случаю извлек ее оттуда три дня назад, но боюсь, что это не слишком интересно и лучше немедленно начать мой рассказ.
Я говорю «мой рассказ», хотя, наверное, следовало сказать «историю Моке». Но, право же, когда высиживаешь яйцо тридцать восемь лет, начинаешь думать, что сам его снес.
I НАЧАЛЬНИК ВОЛЧЬЕЙ ОХОТЫ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА
Сеньор Жан, барон де Вез, был страстным охотником.
Когда вы идете прекрасной долиной из Берваля в Лонпре, слева от себя вы видите старую башню; она стоит уединенно и кажется от этого еще более высокой и грозной, чем она есть на самом деле.
Сегодня владелец этой башни — старый друг пишущего эти строки, а к ее виду все так привыкли, хотя он и страшен, что летом крестьяне садятся отдохнуть в ее тени так же беззаботно, как пронзительно кричащие стрижи, что носятся на своих больших черных крыльях, или нежно щебечущие ласточки, которые каждый год вьют там свои гнезда.
Но в те времена, о коих пойдет речь, около 1780 года, замок сеньора де Веза выглядел совсем не так, как сейчас, и приближаться к нему было не вполне безопасно. Время не смягчило облик этой мрачной и суровой постройки двенадцатого или тринадцатого века. Конечно, часовой в сверкающем шлеме уже не расхаживал взад и вперед по стене, во дворе не было звонко трубящего в рог лучника и у потерны не стояли два вооруженных стражника, готовые по первому сигналу тревоги опустить решетку и поднять мост. Но само уединенное положение замка, где жизнь, казалось, замерла, придавало, особенно по ночам, этому сумрачному гранитному великану устрашающее величие, присущее безмолвным и неподвижным предметам.
Впрочем, владелец старого замка не был злым человеком и, как говорили те, кто достаточно хорошо его знал и судил о нем не поверхностно, мог скорее испугать, чем причинить вред.
Разумеется, это касалось только людей. Для обитавших в лесах зверей это был смертельный враг, жестокий и беспощадный.
Сеньор Жан был начальником волчьей охоты у монсеньера Луи Филиппа, герцога Орлеанского, четвертого по счету из носивших это имя; эта должность давала ему возможность удовлетворить свою необузданную страсть к охоте.
Если речь шла о любом другом предмете, барона Жана, хоть и не без труда, все-таки можно было переубедить; но во всем, что касалось охоты — если только благородный сеньор забивал себе что-либо в голову, — он должен был высказаться до конца и добиться своего.
Как рассказывали, он был женат на незаконнорожденной дочери принца; это родство вместе со званием начальника волчьей охоты давало ему почти неограниченную власть во владениях его прославленного тестя — власть, которую никто не решался оспорить, особенно с тех пор, как его высочество герцог Орлеанский в 1773 году женился вторым браком на г-же де Монтессон и почти перестал появляться в своем замке в Виллер-Котре, а жил в прелестном доме в Баньолё, принимал там самых остроумных людей того времени и играл в комедиях.
Ни одного Божьего дня — радовалась ли земля солнцу, грустила ли под дождем, укрывала ли зима поля белым саваном, разворачивала ли весна на лугах свой зеленый ковер, — ни одного дня не проходило без того, чтобы от восьми до девяти часов утра ворота замка не распахивались настежь и в них не появился бы сеньор Жан. За ним шел главный доезжачий Маркотт, за Маркоттом — охотники, следом слуги вели на сворах собак под присмотром метра Ангулевана, помощника доезжачего, который, подобно палачу в Германии, шествующему после знати и впереди мещанства как последний из дворян и первый мещанин, шел позади охотников и впереди псарей.
Вся эта охота была богато снаряжена: английские лошади, французские собаки; лошадей было двенадцать, собак — сорок.
С этими двенадцатью лошадьми и сорока собаками барон Жан шел на любого зверя.
Чаще всего он охотился на волка, что соответствовало его званию. Настоящий охотник поймет, насколько барон был уверен в чутье и выносливости своих собак: после волка приходил черед кабана, за кабаном следовал олень, за оленем — лань, за ланью — косуля. Если же слуги, ведущие поиск, возвращались ни с чем, барон спускал собак и кидался на первого попавшегося зайца. Мы уже говорили, что достойный сеньор охотился каждый день: ему легче было сутки не есть и не пить — хотя он часто испытывал жажду, — чем двадцать четыре часа не видеть, как собаки травят зверя.
Но, как всем известно, охота не всегда бывает удачной даже с самыми лучшими собаками и самыми быстрыми лошадьми.
Однажды Маркотт явился на место встречи сильно сконфуженный.
— Ну, Маркотт, что случилось? — нахмурившись, спросил барон Жан. — По твоему лицу видно, что охота сегодня будет плохая.
Маркотт покачал головой.
— Говори же, — с нетерпеливым жестом приказал сеньор Жан.
— Дело в том, монсеньер, что я видел черного волка.
— А! — воскликнул барон, и глаза его загорелись.
В самом деле, достойный сеньор уже в пятый или в шестой раз поднимал этого зверя, которого так легко было узнать из-за необычного цвета шерсти, но ни разу ему не удалось ни приблизиться к нему на расстояние выстрела, ни загнать его.
— Да, — продолжал Маркотт, — но проклятый волк за ночь так запутал следы, что, обойдя половину леса, я вышел к своей первой метке.
— Так что же, Маркотт, ты считаешь, мы не сможем подойти к этому животному?
— Думаю, нам это не удастся.
— Клянусь всеми чертями! — воскликнул сеньор Жан, самый большой любитель божиться со времен Нимрода, — я сегодня неважно себя чувствую, и, для того чтобы поправиться, мне необходимо затравить зверя — все равно какого. Послушай, Маркотт, кем мы можем заменить этого проклятого черного волка?
— Да я так был занят им, — ответил Маркотт, — что других не трогал. Может быть, монсеньеру угодно спустить собак и погнаться за первым попавшимся зверем?
Барон Жан собрался предложить Маркотту поступить так, как тот сочтет нужным, но в это время к ним со шляпой в руке приблизился Ангулеван.
— Постой, — сказал барон Жан. — Кажется, метр Ангулеван хочет дать нам совет.
— Я не смею советовать такому благородному сеньору, как вы, — и Ангулеван постарался придать своей лукавой и насмешливой физиономии смиренное выражение, — но считаю своим долгом сообщить вам, что неподалеку видел великолепного оленя.
— Ну-ка, поглядим на твоего великолепного оленя, Ангулеван, — ответил начальник волчьей охоты, — и если ты не ошибся — получишь вот это новенькое экю.
— Где олень? — спросил Маркотт. — Берегись, если из-за тебя мы зря спустим собак!
— Дайте мне пока Матадора и Юпитера, а там будет видно.
Матадор и Юпитер были две лучшие гончие собаки сеньора де Веза.
Не успел Ангулеван пройти за ними и ста шагов по кустарникам, как по лаю собак и по дрожанию их хвостов понял, что они напали на след.
В самом деле, почти сразу показался великолепный семилетний олень. Вся стая псов присоединилась к двум ветеранам. «Берегись!» — закричал Маркотт; потом он затрубил в рог, и охота началась, к большому удовольствию сеньора де Веза, который, продолжая сожалеть о черном волке, все же за неимением лучшего соглашался на семилетнего оленя.
Охота продолжалась уже два часа, но олень держался. Сначала он увел за собой всю стаю из маленького леса Арамона к дороге Висельника, оттуда, не теряя гордого вида, — в Уаньи: олень был не из тех животных, что дают схватить себя за хвост любой паршивой таксе.
Все же у Бур-Фонтена олень стал уставать, ему уже трудно было уходить от преследования, и он начал петлять.
Сначала он вошел в ручей, вытекающий из Безмонского пруда и впадающий в Бурский пруд, поднялся по нему на одну восьмую льё — вода доходила ему до подколенок, — скакнул вправо, вернулся в ложе ручья, скакнул влево, а затем стал убегать так стремительно, как позволяли ему оставшиеся силы.
Но собак сеньора Жана не так легко было сбить со следа.
Умные и породистые псы сами разделили обязанности между собой. Одни побежали вверх по ручью, другие — вниз, одни искали справа, другие — слева, и вскоре им удалось разгадать хитрость зверя; стоило одной из собак залаять, и вся стая тут же оказалась рядом, продолжая преследовать оленя с тем же пылом и страстью, как будто он был в двадцати шагах перед ними.
Охотники, продолжая скакать и трубить, и собаки, не переставая лаять, приблизились к прудам Сент-Антуана, расположенным в нескольких сотнях шагов от опушки Уаньи.
Там, между Уаньи и Озере, стояла лачуга башмачника Тибо.
Расскажем немного о том, кто такой башмачник Тибо, подлинный герой нашей истории.
Может быть, вы спросите: как это я, выводивший на сцену королей, заставлявший принцев, герцогов и баронов играть второстепенные роли в моих романах, делаю главным героем моего повествования простого башмачника.
Я отвечу, что, во-первых, в моем милом Виллер-Котре башмачники встречаются куда чаще, чем бароны, герцоги и принцы, и что с тех пор, как я выбрал местом действия леса в окрестностях родного города, мне приходится, чтобы не выдумывать персонажей, подобных героям «Инков» г-на Мармонтеля или «Абенсераджей» г-на Флориана, сделать героем моего рассказа одного из настоящих жителей этих лесов.
Во-вторых, это не я выбираю героя, это он меня выбирает; хорош он или плох, но он распоряжается мной.
Теперь я постараюсь изобразить башмачника Тибо — простого башмачника — также верно, как художник писал бы портрет владетельного принца, если бы тот хотел послать его своей невесте.
Тибо двадцать пять — двадцать семь лет, это высокий, сильный, хорошо сложенный человек, но ум его и душа явно омрачены: это постоянное недовольство, порожденное крупинкой зависти, которую Тибо испытывал невольно и, быть может, сам того не ведая, к любому, кому больше повезло в жизни.
Его отец совершил ошибку, серьезную в любое время, но более опасную в ту эпоху абсолютизма, когда никто не мог подняться на более высокую ступень, чем сейчас, когда способный человек может добиться всего, чего пожелает.
Отец дал ему воспитание, не соответствующее его положению в обществе. Тибо ходил в школу городка Виллер-Котре к аббату Фортье и там научился читать, писать, считать, даже знал немного по-латыни, чем очень гордился.
Тибо много читал, чаще всего — книги конца прошлого века. Но он, неискусный химик, не сумел отделить хорошее от дурного, или, вернее, извлек из них все вредное и жадно проглотил, оставив все доброе на дне стакана в виде осадка.
Разумеется, в двадцать лет Тибо меньше всего хотел становиться башмачником.
Одно время он подумывал стать военным.
Но его товарищи, служившие королю и Франции, как начинали службу солдатами, так и выходили в отставку после пяти-шестилетней неволи, не получив даже звания капрала.
Тибо хотел бы стать и моряком.
Но в морской службе карьера была еще более недоступной для простолюдина, чем в армейской.
Через пятнадцать или двадцать лет, заполненных опасностями, штормами и сражениями, он, может быть, дослужится до боцмана — только и всего!
Тибо хотел носить не куртку и парусиновые штаны, а королевский синий мундир, красный жилет и золотые эполеты в виде кошачьей лапки.
Но никогда еще сын башмачника не становился ни капитаном фрегата, ни лейтенантом, ни даже младшим лейтенантом.
Значит, и моряком ему не быть.
Тибо согласился бы стать нотариусом. Некоторое время он думал поступить к метру Нике, королевскому нотариусу, мальчиком на побегушках и подниматься по служебной лестнице, пользуясь силой своих ног и острием своего пера.
Но, сделавшись старшим писарем и получая сто экю в год, где взять тридцать тысяч франков, чтобы купить самую скромную сельскую контору?
Значит, ему не быть нотариусом, как не быть офицером — сухопутным или морским.
Тем временем скончался отец Тибо.
Оставшихся после него денег хватило как раз на похороны.
Его похоронили, и у Тибо оказалось всего три или четыре пистоля.
Тибо хорошо знал свое дело: он был ловким башмачником.
Но ему не хотелось работать сверлом и ножом.
Тогда он, предусмотрительно оставив одному из друзей отцовские инструменты, продал все остальное и, выручив за свое имущество пятьсот сорок ливров, отправился путешествовать.
Тибо странствовал три года. За это время он не разбогател, но узнал многое, чего не знал прежде, и проявил способности, которыми раньше не мог похвастаться.
Он узнал, что в торговых делах между мужчинами принято держать слово, но любовную клятву, данную женщине, можно с легкостью нарушить.
Так обстояло дело с его нравственным развитием.
Что касается развития физического, то здесь все было иначе: он восхитительно плясал жигу, умело действовал палкой, мог обороняться против четверых и лучше любого охотника управлялся с рогатиной.
Все это лишь увеличивало природную гордыню Тибо. Видя себя более красивым, сильным и ловким, чем многие дворяне, он без устали вопрошал Провидение: «Почему я не родился знатным, а этот дворянин не родился простолюдином?»
Но Провидение не отвечало на вопросы Тибо; а поскольку этот последний, танцуя, размахивая палкой и орудуя рогатиной, лишь утомлял, но не подкреплял свое тело, он стал склоняться к тому, чтобы заняться своим ремеслом, говоря себе: каким бы скромным оно ни было, но кормило отца, прокормит и сына.
Тибо забрал свои инструменты и, держа их в руке, явился к управляющему поместьями ею высочества Луи Филиппа Орлеанского с просьбой разрешить ему построить в лесу хижину и заняться ремеслом; управляющий охотно позволил ему это, зная по опыту, что господин герцог Орлеанский, будучи чрезвычайно милосердным, раздавал бедным до двухсот сорока тысяч франков в год, и, в сравнении с такой суммой, тридцать-сорок квадратных футов земли, необходимых честному труженику, чтобы заработать себе на хлеб, — сущий пустяк.
Тибо, который волен был выбирать для своего жилища любой уголок леса, остановился на самом красивом месте — у перекрестка Озере, откуда было четверть льё до Уаньи и три четверти льё до Виллер-Котре.
Башмачник соорудил свою хижину наполовину из старых досок, подаренных соседним торговцем, г-ном Паризи, наполовину из веток, которые управляющий позволил ему нарубить в лесу.
Затем, построив хижину, состоявшую из закрытой комнаты, где он мог бы работать зимой, и навеса, под которым он будет сидеть летом, Тибо стал устраивать себе постель.
Первое время ее заменяла охапка папоротника.
Продав первую сотню сабо папаше Бело, державшему лавку в Виллер-Котре, Тибо из заработанных денег дал задаток и купил в рассрочку матрац, за который должен был расплатиться в течение трех месяцев.
Деревянную часть постели сделать было нетрудно.
Хороший башмачник, Тибо был и неплохим столяром.
Он сделал остов из дерева, сплел сетку из ивовых прутьев, положил сверху свой тюфяк, и у него получилась постель.
Постепенно появились простыни и одеяла.
Потом пришел черед жаровни, чтобы разжигать огонь, глиняной посуды, чтобы готовить пищу, и фаянсовой, чтобы есть из нее.
К концу года у Тибо был прекрасный дубовый ларь и красивый ореховый шкаф, как и кровать, сделанные им самим.
Вместе с тем и дело шло; Тибо не имел себе равных в изобретательности: он умел вырезать из куска бука пару сабо да еще наделать из обрезков ложек, солонок и чашечек.
С тех пор как Тибо устроил свою мастерскую, то есть после его возвращения из странствий, прошло три года, и все это время его не в чем было упрекнуть, кроме того, о чем мы уже говорили: он чуть сильнее, чем другие, желал имущества ближнего своего.
Но пока это чувство было довольно безобидным, и лишь духовник мог пристыдить башмачника не за преступление, нет, а пока еще лишь за греховные движения его души.
II СЕНЬОР И БАШМАЧНИК
Как мы уже говорили, олень добрался до опушки Уаньи и стал кружить близ хижины Тибо.
Была уже поздняя осень, но погода стояла теплая, и Тибо работал под навесом.
Вдруг в тридцати шагах от себя башмачник заметил дрожащего оленя: у него подгибались все четыре ноги, и он испуганно косился на Тибо умным глазом.
Давно уже звуки охоты слышались, то приближаясь к Уаньи, то вновь удаляясь, так что в появлении зверя не было ничего удивительного.
Нож замер в руке Тибо, уставившегося на гостя.
— Клянусь днем святого Сабо! — воскликнул он. (Здесь мы должны пояснить: этот день — праздник башмачников.) — Клянусь днем святого Сабо, вот неплохой кусочек, не хуже той серны, которую мы ели во Вьене на праздничном обеде подмастерьев из Дофине! Есть же счастливчики, которым каждый день в рот попадает такое мясо! Я всего один раз в жизни его попробовал, и хотя уже четыре года прошло, а как вспомню — до сих пор слюнки текут. О сеньоры, сеньоры! Они всегда едят свежее мясо и пьют старые вина, а я всю неделю запиваю водой картошку, и только в воскресенье мне иногда удается полакомиться жалким обрезком прогорклого сала, на четверть недозревшей капустой и стаканом кислого пиньоле.
Разумеется, олень убежал, едва Тибо произнес первые слова. Башмачник продолжал развивать свою мысль и дошел до того заключения, которое вы только что прочли, когда его грубо окрикнули:
— Эй ты, бездельник, отвечай!
Это был сеньор Жан. Его собаки остановились в нерешительности, и он хотел убедиться, что они не потеряли след.
— Эй, бездельник, — повторил начальник волчьей охоты, — ты не видел нашего зверя?
Без сомнения, обращение барона не слишком понравилось философствующему башмачнику, потому что, прекрасно понимая, о чем речь, он переспросил:
— Какого зверя?
— Черт возьми! Оленя, которого мы гоним! Он должен был пробежать не дальше чем в пятидесяти шагах отсюда, и ты не мог не увидеть его со своего места. Это семилеток, да? Куда он повернул? Говори же, негодяй, или я велю тебя выпороть!
— Чума тебя забери, волчье отродье! — пробормотал башмачник себе под нос.
Затем он сказал вслух, притворяясь дурачком:
— Ах да, конечно, я его видел.
— Самец, да? С роскошными рогами? Семилеток?
— Да самец, и с роскошными рогами. Я его видел, как вас вижу, монсеньер, а вот есть ли у него мозоли, не могу вам сказать: я не смотрел ему на ноги. Во всяком случае, бежать ему они не мешали, — с глупым видом добавил он.
В другое время барон Жан посмеялся бы над таким простодушием, в которое мог поверить, но сейчас из-за хитростей животного он был одержим лихорадкой святого Губерта.
— Ну, бездельник, довольно шуток! Тебе весело, а мне не слишком.
— Я буду в таком настроении, в каком прикажет быть монсеньер.
— Отвечай же мне!
— Монсеньер еще ни о чем не спросил.
— Олень выглядел усталым?
— Не очень.
— Откуда он выбежал?
— Ниоткуда; он стоял на месте.
— Но он появился с какой-то стороны?
— Да, но я не видел, как он бежал.
— А куда он ушел?
— Я бы сказал вам, но не знаю.
Сеньор де Вез исподлобья взглянул на Тибо.
— Олень давно был здесь, господин негодяй? — спросил он.
— Не так давно, монсеньер.
— Примерно сколько времени прошло с тех пор?
Тибо притворился, будто вспоминает.
— Я думаю, это было позавчера, — в конце концов ответил он.
Но, произнося последние слова, Тибо не смог скрыть улыбки.
Эта улыбка не ускользнула от внимания барона Жана. Он пришпорил коня и занес хлыст над головой башмачника.
Но Тибо был начеку. Одним прыжком он отскочил под навес, куда всадник не мог войти, пока не слезет с коня.
Тибо временно был в безопасности.
— Ты лжешь и смеешься надо мной! — закричал барон. — Маркассино, лучший из моих псов, свернул и залаял в двадцати шагах отсюда; раз олень был там, где сейчас Маркассино, значит, он должен был перескочить через изгородь и ты не мог его не заметить.
— Простите, монсеньер, но наш кюре говорит, что непогрешим лишь папа римский, так что господин Маркассино вполне мог ошибиться.
— Маркассино никогда не ошибается, слышишь, тупица, и доказательство этому то, что я вижу место, где олень скреб копытом.
— Все же, монсеньер, уверяю вас, клянусь вам… — продолжал Тибо, с беспокойством глядя на начинавшие хмуриться черные брови барона.
— Замолчи, бездельник, и иди сюда! — крикнул сеньор Жан.
Тибо с минуту поколебался, но, увидев, что выражение лица барона становится все более грозным и неповиновение только сильнее раздражает его, и надеясь, что барон хочет всего лишь потребовать от него какой-то услуги, решился покинуть свое убежище.
Не успел он выйти из-под навеса, как сеньор Жан, пришпорив коня, поскакал прямо на него, и Тибо получил сильный удар по голове рукояткой хлыста.
Башмачник, оглушенный ударом, пошатнулся, потерял равновесие и упал бы лицом вниз, если бы барон Жан, высвободив ногу из стремени, не ударил его в грудь изо всех сил, отчего бедняга не только выпрямился, но покачнулся назад и рухнул навзничь у двери своей хижины.
— Получай, — сказал барон, отвешивая ему удары, — это тебе за твою ложь, а вот это — за твои насмешки!
После этого, нимало не беспокоясь о валявшемся на земле Тибо, сеньор Жан весело протрубил собакам, сбежавшимся на лай Маркассино, и ускакал на своем коне.
Тибо с трудом поднялся и ощупал себя с ног до головы, проверяя, не сломал ли он какой-нибудь части тела.
— Так-так, — сказал он, погладив свои руки, а потом и ноги, — с удовлетворением вижу, что и сверху и снизу все цело. Вот как вы обращаетесь с людьми, господин барон, и это только потому, что женились на незаконной дочери принца! Что ж, господин начальник волчьей охоты, хоть вы и великий охотник, но не вам полакомиться мясом оленя, за которым гонитесь, — это сделает бездельник, тупица и негодяй Тибо. Да, клянусь, я съем его! — воскликнул башмачник, все более укрепляясь в своем смелом решении. — А мужчина, дав клятву, должен непременно выполнить ее!
Не мешкая, Тибо сунул за пояс нож, подхватил рогатину и, определив направление по лаю собак, со всех ног по прямой побежал туда, куда, описывая дугу, двигалась охота.
У Тибо были две возможности: устроить на пути оленя засаду и убить зверя рогатиной или завладеть им, когда собаки загонят его.
Как ни сильно Тибо был занят мыслью о мести барону Жану за его грубость, все же на бегу он не переставал мечтать о пирах, которые он станет задавать сам себе целый месяц, об оленьих лопатках и окороках, в меру замаринованных, зажаренных целиком на вертеле или ломтиками на сковороде.
В конце концов желание мести так соединилось с чревоугодием, что он разом представлял себе и жалкий вид барона, когда тот будет возвращаться в замок с пустыми руками, и себя самого, когда он закроет поплотнее дверь, поставит рядом бутылку вина и останется один на один с окороком; он уже видел красный душистый сок, вытекающий из окорока, в который раз за разом вонзается лезвие ножа. Продолжая бежать со всех ног, Тибо исподтишка посмеивался.
Насколько можно было об этом судить, олень направлялся к мосту, переброшенному через реку Урк между Норуа и Троеном.
В те времена мост, соединявший берега, состоял из двух балок и нескольких досок.
Вода в реке стояла высоко, течение было сильное, и Тибо подумал, что олень не решится перейти реку вброд.
Поэтому башмачник спрятался за камнем рядом с мостом и стал ждать.
Прошло немного времени, и вдруг неожиданно в десяти шагах от него высунулась грациозная голова оленя: насторожив уши, животное пыталось различить в шуме ветра звуки охоты.
Очень взволнованный этим внезапным появлением зверя, Тибо вскочил, покрепче перехватил рогатину и бросился на добычу.
Одним прыжком олень отскочил на середину моста, вторым прыжком — на другой берег, а сделав третий, скрылся с глаз.
Рогатина, пролетев не меньше чем в футе от него, воткнулась в землю в пятнадцати шагах от того места, где была брошена.
Никогда еще Тибо не был так неловок — Тибо, во время своих странствий самый меткий из участников состязаний!
Разозлившись на самого себя, он подобрал свое оружие и стремительно прыгнул на мост вслед за оленем.
Тибо не хуже оленя знал эти места, поэтому он сильно опередил зверя и спрятался за стволом стоявшего недалеко от тропинки бука.
На этот раз олень был так близко, что башмачник спросил себя, не лучше ли будет ударить его рогатиной, чем бросать ее.
Это колебание длилось одну секунду, но, животное, метнувшись быстрее молнии, оказалось в двадцати шагах от охотника; таким образом, вторая попытка Тибо настигнуть оленя удалась не лучше, чем первая.
Лай собак тем временем все приближался, и через несколько минут план Тибо мог стать неосуществимым.
Но надо отдать должное упрямству башмачника: его желание завладеть зверем росло по мере того, как возникали новые препятствия.
— Но он мне нужен! — воскликнул Тибо. — Да! И если есть для бедных людей Бог на небе, я одержу победу над этим бароном, который прибил меня как собаку; тем не менее, я человек, я мужчина и готов доказать это.
Тибо подобрал свою рогатину и побежал дальше.
Но Бог, к которому он взывал, казалось, не услышал его или решил испытать его терпение, потому что третья попытка оказалась не более удачной, чем две предыдущие.
— Разрази меня гром! — кричал Тибо. — Похоже, Господь совершенно оглох. Что ж, тогда пусть дьявол откроет уши и услышит меня! Проклятая тварь, с помощью Бога или черта, но я хочу тебя заполучить и добьюсь своего!
Не успел Тибо до конца произнести свое двойное богохульство, как зверь вернулся, в четвертый раз пробежал мимо и скрылся в кустах.
Это произошло так неожиданно и так мимолетно, что Тибо не успел даже поднять рогатину.
А лай собак раздавался уже близко, и охотник не решился продолжить преследование.
Он огляделся, увидел дуб с густой листвой, бросил рогатину в кусты; обхватив ствол, забрался на дерево и спрятался в кроне.
Он не без оснований предполагал, что в погоне за зверем охота проследует мимо.
Собаки не потеряли след. Никакие уловки оленю не помогут: они не отстанут от него.
Тибо не просидел на ветке и пяти минут, как появились собаки, а за ними барон Жан, который в свои пятьдесят пять лет возглавлял охоту, словно двадцатилетний.
Мы не беремся описать ярость сеньора Жана.
Потерять четыре часа из-за такой твари — и так и не догнать ее!
Никогда с ним такого не случалось.
Барон ругал своих людей, хлестал собак; толстый слой грязи, покрывавший его высокие гетры, принял красноватый оттенок — так он изодрал шпорами бока своего коня.
На мосту через Урк барон испытал недолгое облегчение: стая неслась по следу, сбившись так плотно, что он мог бы всю ее укрыть своим плащом.
Теперь сеньор Жан был так доволен, что не только напевал себе под нос, но отвязал охотничий рог и затрубил во всю мощь своих легких, что проделывал лишь в исключительных случаях.
Но, к несчастью, он радовался недолго.
Внезапно, как раз под тем деревом, на которое забрался Тибо, лай собак, сливавшийся в ласкавшую слух барона музыку, смолк словно по волшебству: вся стая потеряла след.
Маркотт, спешившись по приказу хозяина, попытался снова отыскать его. Другие охотники присоединились к нему.
Никто ничего не нашел.
Однако Ангулевану очень уж хотелось затравить обнаруженного им зверя, и он тоже стал искать.
Все кричали, подбадривая собак, но громовой голос барона перекрывал другие звуки.
— Тысяча чертей! — ревел он. — Маркотт, эти собаки, что, сквозь землю провалились?
— Нет, монсеньер, они здесь, но они потеряли след.
— Как потеряли след?! — заорал барон.
— Откуда мне знать, монсеньер? Я сам ничего не понимаю, но это так.
— Потеряли след? — продолжал барон. — Потеряли след в лесу, где нет ни ручья, в который зверь мог бы войти, ни скалы, на которую он мог бы запрыгнуть? Ты сошел с ума, Маркотт!
— Я, монсеньер?
— Да, ты сумасшедший, а твои собаки сущие клячи!
Маркотт обычно на удивление кротко сносил оскорбления, щедро расточаемые бароном в критические моменты охоты всем подряд. Но обиды, нанесенной его собакам, он снести не мог и, выпрямившись во весь рост, горячо вступился за них:
— Как, монсеньер, клячи? Мои собаки клячи? Они, свалившие волка после бешеной погони, в которой пал ваш лучший конь? Мои собаки клячи?
— Да, Маркотт, я повторяю — сущие клячи, если могут упустить зверя после нескольких часов погони.
— Монсеньер, — едва сдерживаясь, возразил Маркотт, — монсеньер, скажите, что это моя вина, называйте меня дураком, скотиной, бездельником, негодяем и тупицей, говорите обо мне, о моей жене, о моих детях все что угодно — все это мне безразлично, но не браните меня как главного доезжачего, не оскорбляйте своих собак — прошу вас об этом во имя всех моих прошлых заслуг.
— Но чем же ты объяснишь их молчание, скажи мне? Как ты это объяснишь? Ну же, я слушаю тебя, я жду твоего ответа!
— Так же как и вы, монсеньер, я не могу объяснить их промаха, должно быть, проклятый олень взлетел на небо или провалился сквозь землю.
— Ну вот, — сказал сеньор Жан. — Значит, наш олень забился в нору, как заяц, или взлетел, как тетерев.
— Это только так говорится, монсеньер. Но здесь и впрямь есть какая-то чертовщина. Собаки потеряли след ни с того ни с сего, они не сбились с пути, они никуда не сворачивали — все это так же верно, как то, что сейчас день. Спросите у всех слуг, кто был рядом со мной. Теперь собаки молчат, растянувшись на брюхе, словно олени на лежке. Это неестественно.
— Так отстегай их, сынок, отлупи их хорошенько! — закричал барон. — Так отделай, чтобы у них шерсть задымилась: это лучшее средство против злых духов!
Барон Жан подъехал, чтобы несколькими ударами хлыста помочь Маркотту изгнать нечистую силу из бедных тварей, когда Ангулеван, приблизившись со шляпой в руке, робко взялся за повод лошади барона.
— Монсеньер, — сказал он. — По-моему, я вижу на этом дереве одну кукушку, которая сможет объяснить нам, в чем дело.
— Что ты здесь болтаешь про кукушку, ублюдок! — прикрикнул на него барон Жан. — Погоди, негодяй, сейчас узнаешь, как насмехаться над своим господином!
И барон поднял хлыст.
Но Ангулеван со стоицизмом спартанца только прикрыл голову рукой и продолжал:
— Ударьте, если хотите, монсеньер, но взгляните на это дерево, и, когда ваша милость увидит, что за птичка сидит на ветке, сдается мне, я скорее получу пистоль, чем удар хлыста.
И он показал пальцем на дуб, где спрятался, услышав приближающуюся охоту, Тибо.
Перебираясь с ветки на ветку, он добрался до самой вершины.
Сеньор Жан глянул из-под руки и заметил башмачника.
— Какие удивительные вещи происходят в лесу Виллер-Котре, — сказал он. — Здесь олени, словно лисы, зарываются в норы, а люди сидят на ветвях вместо ворон. Но мы в этом все-таки разберемся, — продолжал благородный сеньор.
Затем он опустил руку от глаз ко рту и крикнул:
— Эй, дружище! Тебе не слишком неприятно будет уделить мне минут десять?
Но Тибо хранил глубокое молчание.
— Монсеньер, — предложил Ангулеван, — если вам угодно…
И он собрался лезть на дерево.
— Нет, не надо, — ответил барон, сопровождая эти слова запрещающим жестом.
Все еще не узнавая Тибо, он снова обратился к нему:
— Эй, приятель, ты собираешься отвечать, да или нет?
Он немного подождал.
— Похоже, что нет. Ты притворяешься глухим; подожди, я возьму свой рупор.
И он протянул руку в сторону Маркотта, который, угадав желание хозяина, подал ему свой карабин.
Тибо, желая обмануть охотников, притворился, будто срезает сухие ветки; он так увлекся этим выдуманным занятием, что не заметил угрожающего жеста сеньора Жана, а если и видел, то не придал значения.
Начальник волчьей охоты некоторое время ждал ответа, но, видя, что отвечать ему не собираются, нажал спусковой крючок; раздался выстрел, а вслед за ним — треск сломанной ветки.
Это была та ветка, на которой сидел Тибо.
Ловкий стрелок перебил ее между стволом дерева и ногой башмачника.
Потеряв точку опоры, Тибо стал падать.
К счастью, крона была густой, а ветви крепкими: эти препятствия замедлили скорость падения. Тибо, сваливаясь с ветки на ветку, долетел до земли, отделавшись сильным испугом и легкими ушибами той части тела, которая раньше других соприкоснулась с землей.
— Клянусь рогами монсеньера Вельзевула! — воскликнул барон Жан в восторге от своего меткого выстрела. — Это же утренний насмешник! Что, негодяй, беседа с моим хлыстом показалась тебе слишком короткой и ты решил возобновить ее с того момента, на каком мы ее прервали?
— О, клянусь вам, монсеньер, я вовсе этого не хочу, — очень искренне заверил его Тибо.
— Тем лучше для твоей шкуры, парень. А теперь расскажи-ка мне, что ты делал там, наверху, зачем влез на этот дуб?
— Монсеньер сам видит, что я рубил сухие ветки, чтобы топить ими печь, — и Тибо показал на разбросанные вокруг сучья.
— Прекрасно! А теперь ты без промедления сообщишь нам, куда подевался наш олень; не так ли, парень?
— Да, черт возьми! Он должен это знать, у него было отличное место там, наверху, — сказал Маркотт.
— Но я клянусь вам, монсеньер, — уверял Тибо, — что никак не возьму в толк, о каком это олене вы все время говорите.
— Ах так! — воскликнул Маркотт, довольный тем, что хозяин выместит дурное настроение на ком-то другом. — Он ничего не видел, он не знает, о каком олене идет речь! Вот, монсеньер, посмотрите: на этих листьях след от резцов животного; здесь собаки остановились, и, хотя на земле хорошо видны все отпечатки, мы не находим следов зверя ни в десяти, ни в двадцати, ни в ста шагах отсюда.
— Ты слышишь? — перебил своего доезжачего сеньор Жан. — Ты сидел наверху, олень был прямо под тобой. Какого черта! Он все-таки произвел больше шума, чем мышь, и ты не мог его не заметить!
— Он убил его' и спрятал где-нибудь в кустах, это ясно как Божий день, — заявил Маркотт.
— Ах, монсеньер! — воскликнул Тибо, лучше всех знавший необоснованность этого обвинения. — Монсеньер, клянусь всеми святыми, что не убивал вашего оленя, клянусь спасением моей души, и пусть я умру на месте, если хоть чуть оцарапал его! Впрочем, если я убил его, на нем должна быть рана, а из нее не может не течь кровь, — ищите, господин доезжачий, и — слава Богу! — вы не найдете следов крови. Чтобы я убил несчастное животное! И чем, Боже мой? Где мое оружие? Слава Богу, у меня есть только нож. Посмотрите сами, монсеньер.
К несчастью для Тибо, не успел он договорить, как появился Ангулеван, рыскавший до того в кустах. В руках у него была рогатина, которую Тибо выбросил перед тем, как лезть на дуб.
Ангулеван показал оружие сеньору Жану.
Ангулеван явно был злым гением Тибо.
III АНЬЕЛЕТТА
Сеньор Жан взял рогатину из рук Ангулевана и долго, не говоря ни слова, рассматривал ее.
Затем он указал башмачнику на маленькое изображение сабо, вырезанное на рукоятке — по нему Тибо узнавал свои вещи.
Со времен своего путешествия он помечал этим знаком все, что ему принадлежало.
— Ну, господин шутник, — произнес начальник волчьей охоты, — вот грозный свидетель против вас! Знаете ли вы, что это оружие сильно припахивает мясом крупного зверя! Остается сказать вам, почтеннейший, что вы браконьер, а это серьезное преступление, и вы дали ложную клятву, а это тяжкий грех. Для спасения вашей души, которым вы поклялись, мы дадим вам возможность искупить его.
— Маркотт, — продолжал он, обернувшись к доезжачему, — возьми два ремня и привяжи этого шутника к дереву, сняв с него куртку и рубашку; затем ты отвесишь ему тридцать шесть ударов по спине своей перевязью: дюжину за ложную клятву, две дюжины за браконьерство; нет, я ошибся, — наоборот, одну дюжину за браконьерство, две за ложную клятву — ведь Господу должна принадлежать большая часть.
Слуг обрадовал такой приказ: у них появилась возможность хоть на ком-то выместить все неудачи этого дня.
Не слушая возражений Тибо, который клялся всеми святыми, что не убивал ни оленя, ни лани, ни козы, ни козленка, с браконьера сорвали куртку и крепко привязали его к стволу дерева.
Затем приговор был приведен в исполнение.
Доезжачий стегал так жестоко, что Тибо, давший себе клятву, не издавать ни единого звука и закусивший губы, чтобы эту клятву сдержать, после третьего удара не выдержал и закричал.
Сеньор Жан, как мы могли заметить, был самым большим грубияном на десять льё в округе, но он не был жестоким человеком, и ему тяжело было слышать все усиливающиеся стоны преступника.
Все же он решил довести наказание до конца — очень уж дерзкими стали браконьеры во владениях его высочества.
Но сам он не хотел при этом присутствовать и, желая удалиться, повернул коня.
В это время из леса выбежала девушка, упала рядом с конем на колени и, подняв на сеньора Жана большие глаза, полные слез, попросила:
— Монсеньер, во имя милосердного Господа, пощадите этого человека!
Сеньор Жан взглянул на девушку.
Это было совершенно очаровательное дитя, едва достигшее шестнадцати лет: тоненькая стройная девочка, с белорозовым лицом, большими кроткими голубыми глазами и такими пышными светлыми волосами, что полотняный чепчик не мог их сдержать и они волнами выбивались из-под него со всех сторон.
Хотя прекрасная просительница была одета более чем скромно, сеньор Жан разглядел ее красоту и, так как был неравнодушен к хорошеньким личикам, ответил улыбкой на красноречивый взгляд прелестной крестьянки.
Но поскольку он смотрел, не отвечая ей, а удары тем временем продолжали сыпаться, она взмолилась еще жалобнее:
— Сжальтесь во имя Неба, монсеньер! Скажите вашим людям, чтобы они отпустили этого несчастного: его крики разрывают мне сердце!
— Тысяча возов зеленых чертей! — ответил начальник волчьей охоты. — Ты так беспокоишься об этом дураке, прелестное мое дитя! Это что, твой брат?
— Нет, монсеньер.
— Родственник?
— Нет, монсеньер.
— Твой дружок?
— Дружок! Монсеньер шутит!
— Почему же? Признаюсь, моя прелесть, в этом случае я позавидовал бы ему.
Девушка опустила глаза.
— Я его не знаю, монсеньер, и вижу его в первый раз.
— Не говоря уж о том, что она видит его вывернутым наизнанку, — вмешался Ангулеван, сочтя момент подходящим для дурной шутки.
— Эй там, молчать! — резко оборвал его барон.
Затем он снова с улыбкой обратился к девушке:
— Ну что ж! Если он не родственник тебе и не твой дружок, хотелось бы узнать, на что ты способна из любви к ближнему, прелестная малютка: предлагаю тебе сделку.
— Какую, монсеньер?
— Я помилую этого плута в обмен на поцелуй.
— О, от всего сердца, монсеньер! — воскликнула девушка. — Спасти человеку жизнь ценой поцелуя! Я уверена, что сам господин кюре не счел бы это грехом.
И, не дожидаясь, пока сеньор Жан наклонится к ней, чтобы получить то, чего добивался, она сбросила сабо, поставила свою маленькую ножку на сапог барона, ухватилась за гриву коня и, поднявшись до уровня лица сурового охотника, подставила ему круглые, свежие и бархатистые, как персик в августе, щечки.
Барон Жан условился об одном поцелуе, но сорвал два; затем, верный своему слову, дал Маркотту знак прекратить наказание.
Маркотт добросовестно считал удары. Он собирался нанести двенадцатый, когда получил приказ остановиться.
Он не счел нужным удержать руку, напротив, ударил с удвоенной силой, возможно желая довести число ударов до тринадцати; во всяком случае, он еще сильнее, чем раньше, хлестнул Тибо по спине.
Но сразу после этого башмачника отвязали.
Сеньор Жан тем временем разговаривал с девушкой.
— Как тебя зовут, моя прелесть?
— Жоржина Аньеле, монсеньер, по имени моей матушки, но в деревне меня называют просто Аньелеттой.
— Черт возьми! Неудачное имя, дитя мое, — сказал барон.
— Почему, монсеньер? — удивилась девушка.
— Потому, красавица, что с таким именем тебя волк непременно утащит. Из какой ты деревни, Аньелетта?
— Из Пресьямона, монсеньер.
— И ты совсем одна ходишь в лес, дитя мое? Для ягненка это очень смело.
— Мне приходится это делать. У нас с моей матушкой три козы, которые кормят нас.
— Так ты приходишь за травой для коз?
— Да, монсеньер.
— И ты не боишься ходить совсем одна, такая юная и хорошенькая?
— Иногда, монсеньер, я не могу унять дрожь.
— Почему же ты дрожишь?
— Еще бы, монсеньер! Зимними вечерами столько историй рассказывают о волках-оборотнях, что, когда я остаюсь одна в лесу и слышу, как западный ветер ломает ветки, у меня мороз по коже подирает и волосы дыбом встают. Но стоит мне услышать звук вашего рога или лай ваших собак, как я сразу успокаиваюсь.
Этот ответ очень понравился барону, и он продолжил, с довольным видом поглаживая бороду:
— Да, мы ведем с ними жестокую войну, с господами волками. Но есть, черт возьми, один способ избавить тебя от этих страхов, красавица.
— Какой же, монсеньер?
— Приходи в замок Вез; никогда ни один волк, оборотень он или нет, не переходил через его рвы и не входил в потерну, если только он не был подвешен на ореховом шесте.
Аньелетта покачала головой.
— Нет? Ты не хочешь? Почему же ты отказываешься?
— Потому что там я найду кое-что пострашнее волка.
Выслушав этот ответ, барон Жан весело расхохотался.
Видя хозяина смеющимся, охотники присоединились к нему.
В самом деле, Аньелетте удалось вернуть сеньору де Везу хорошее настроение, и, возможно, он еще долго простоял бы, смеясь и болтая с девушкой, если бы Маркотт, протрубив отбой и созвав собак, почтительно не напомнил монсеньеру о том, что путь до замка неблизкий. Барон ласково погрозил пальцем Аньелетте и удалился в сопровождении своей свиты.
Аньелетта и Тибо остались одни.
Вы уже знаете, чем башмачник ей обязан и какая она хорошенькая.
И все же Тибо, оставшись наедине с девушкой, прежде всего вспомнил о ненависти и о мести, забыв о своей спасительнице.
Как видим, человек этот быстро продвигался по пути зла.
— Ну, проклятый сеньор, если дьявол на этот раз исполнит мое желание, — он показал кулак уже скрывшейся из вида процессии, — если только дьявол услышит меня, то берегись: я с лихвой отплачу за то, что перенес сегодня!
— Ах, как нехорошо то, что вы говорите, — сказала Аньелетта, подойдя поближе к Тибо. — Барон Жан — добрый господин, милосердный к бедным людям и всегда такой учтивый с женщинами.
— Пусть так; но согласитесь — я должен отплатить ему за полученные удары.
— Ну, приятель, будем откровенны, — смеясь, возразила девушка. — Признайтесь, вы их заслужили.
— Ну-ну, прекрасная Аньелетта, похоже, от поцелуя барона Жана у вас голова закружилась.
— Вот уж не думала, господин Тибо, что вы станете попрекать меня этим поцелуем. А своего мнения я не изменю: сеньор Жан имел право так поступить.
— Нещадно отлупить меня?
— А зачем вы стали охотиться в его владениях?
— А разве дичь принадлежит не всем — и крестьянам и сеньорам?
— Нет; ведь зверь живет в его лесу, ест его траву, и вы не имеете права бросать рогатину в оленя, что принадлежит его высочеству герцогу Орлеанскому.
— А кто вам сказал, что я бросил рогатину в его оленя? — спросил Тибо, с угрожающим видом придвигаясь к Аньелетте.
— Кто мне сказал? Мои глаза, и уверяю вас, что они не лгут, господин Тибо. Да, я видела, как вы бросали рогатину, когда прятались вот за этим буком.
Уверенность, с которой девушка опровергла его ложь, мгновенно остудила гнев Тибо.
— Ну что ж такого, в конце концов, — сказал он, — если какой-нибудь бедняк один раз хорошо пообедает излишками знатного сеньора! Мадемуазель Аньелетта, неужели вы согласны с судьями, которые готовы повесить человека из-за несчастного кролика? Что же, вы считаете, дичь создана Господом для барона Жана, а не для меня?
— Господин Тибо, вам не повредит, если вы станете исполнять Божью заповедь и не будете желать чужого добра!
— Да вы никак знаете меня, прекрасная Аньелетта, раз называете по имени?
— Конечно. Я встретила вас однажды на празднике в Бурсонне; вас назвали лучшим танцором, и все столпились вокруг вас.
Эта похвала совершенно обезоружила Тибо.
— Да, да, — сказал он. — Теперь и я вспомнил, что видел вас. Да ведь на этом самом празднике в Бурсонне мы с вами танцевали, только вы с тех пор подросли — вот почему я не сразу узнал вас, но теперь узнаю. У вас было розовое платье и хорошенький белый корсаж, а танцы были на молочной ферме. Я хотел поцеловать вас, но вы мне не позволили, сказав, что в танцах целуют только свою визави, а не партнершу.
— У вас отличная память, господин Тибо!
— Знаете ли вы, Аньелетта, что за год — ведь с тех пор год прошел — вы не только выросли, но и похорошели? Здорово это вам удается — делать две вещи сразу!
Девушка покраснела и опустила глаза.
Румянец смущения сделал ее еще очаровательнее.
Тибо принялся внимательно разглядывать ее.
— Есть у вас дружок, Аньелетта? — спросил он не без волнения.
— Нет, господин Тибо. Я не могу, да и не хочу его иметь.
— Почему же? Скверный мальчишка Амур пугает вас?
— Нет; но мне не дружок нужен.
— А кто же?
— Муж.
Тибо сделал движение, которое Аньелетта не заметила или притворилась, что не замечает.
— Да, — повторила она, — муж. У меня старая и больная бабушка, и дружок отвлекал бы меня от забот о ней; напротив, муж — если я найду хорошего парня, который захочет жениться на мне, — поможет мне ухаживать за ней, разделит со мной обязанность, данную мне Господом, — облегчить ее последние дни.
— Но позволит ли вам муж, — спросил Тибо, — любить вашу бабушку больше, чем его, и не будет ли он ревновать, видя вашу нежность к старушке?
— О, нет ни малейшей опасности, — ответила Аньелетта с прелестной улыбкой, — ему достанется так много моей любви, что он не захочет жаловаться; чем ласковее и терпеливее он будет со старушкой, тем сильнее я привяжусь к нему и тем больше буду стараться вести наше маленькое хозяйство. Вы думаете, что я слабая, хрупкая, не верите в мои силы, но я не боюсь работы. Когда сердце велит, можно день и ночь трудиться без устали. Я так буду любить того, кто полюбит бабушку! О, я могу пообещать, что мы все трое — она, мой муж и я — будем очень счастливы.
— Ты хочешь сказать, что вы все трое будете очень бедны, Аньелетта!
— Ну и что? Разве любовь и дружба богатых стоят хоть на обол больше, чем любовь и дружба бедных? Когда я приласкаюсь хорошенько к бабушке, господин Тибо, она сажает меня к себе на колени, обнимает своими бедными дрожащими руками, прижимается к моей щеке своим добрым морщинистым лицом, я чувствую ее слезы умиления и тоже начинаю плакать, господин Тибо, и эти слезы текут так легко, и они так сладки, что ни одна знатная дама, ни одна королева или королевская дочь в самые счастливые свои дни — я уверена в этом — не испытывала подобной радости; а между тем в округе нет никого беднее нас с бабушкой.
Тибо молча слушал, погрузившись в свои честолюбивые мечты.
Но, как это порой с ним случалось, когда он предавался своим грезам, Тибо чувствовал себя подавленным и утратившим вкус к жизни.
Он, кто столько часов провел разглядывая прекрасных и знатных придворных дам его высочества герцога Орлеанского, когда они поднимались и спускались по ступеням; кто ночи напролет смотрел на стрельчатые окна донжона замка Вез, сиявшие в темноте огнями празднеств, — он спрашивал себя: стоит ли то, чего он так домогался — знатная дама и богатое жилище, — стоит ли все это жизни под соломенной кровлей с таким кротким и прекрасным созданием, как Аньелетта.
Правда, эта храбрая маленькая женщина была так мила, что любой граф или барон в округе позавидовал бы ему.
— Ну, к примеру, Аньелетта, — спросил Тибо, — если бы такой человек, как я, предложил бы вам свою руку, вы бы согласились?
Мы говорили, что Тибо был видным парнем: у него были красивые глаза и красивые черные волосы, и из своих странствий он вернулся не простым ремесленником. Впрочем, легко привязываешься к человеку, которому сделаешь добро, — а Аньелетта, вероятно, спасла жизнь Тибо: судя по ударам Маркотта, башмачник умер бы, не дождавшись тридцать шестого удара.
— Да, — ответила она, — если бы он хорошо относился к моей бабушке.
Тибо взял ее за руку.
— Ну, хорошо, Аньелетта, мы постараемся как можно скорее снова вернуться к этому разговору, дитя мое.
— Когда захотите, господин Тибо.
— И вы дадите клятву верно любить меня, если я женюсь на вас, Аньелетта?
— Разве можно любить другого человека, кроме мужа?
— Все равно, мне хотелось бы услышать совсем коротенькую клятву, что-нибудь в таком роде: «Господин Тибо, клянусь вам никогда никого не любить, кроме вас».
— К чему нужна клятва? Честному парню должно быть достаточно обещания честной девушки.
— А на какой день мы назначим свадьбу, Аньелетта? — спросил Тибо, пытаясь обнять девушку за талию.
Но Аньелетта мягко высвободилась.
— Поговорите с бабушкой: решать будет она. А пока помогите мне поднять эту вязанку вереска — уже поздно, а мне надо пройти почти целое льё до Пресьямона.
Тибо помог Аньелетте поднять вязанку, а потом проводил девушку до изгороди Биллемона, откуда видна была колокольня ее деревни.
Перед тем как расстаться, Тибо уговорил Аньелетту подарить ему один поцелуй в залог их будущего блаженства.
Взволнованная этим единственным поцелуем сильнее, чем двумя поцелуями барона, Аньелетта ускорила шаг и почти побежала, хотя вязанка, которую она несла на голове, была слишком тяжела для этого слабого и хрупкого создания.
Тибо некоторое время смотрел вслед Аньелетте, шедшей среди зарослей вереска.
Поддерживая груз, девушка подняла руки, от этого она казалась еще более стройной и гибкой.
Ее тонкая фигурка восхитительно вырисовывалась на фоне голубого неба.
Наконец девушка, почти дойдя до первых домов деревни, скрылась за пригорком и сделалась недоступной восторженному взгляду Тибо.
Молодой человек вздохнул и ненадолго погрузился в размышления.
Но это не был вздох удовлетворения при мысли о том, что прелестное и доброе создание может принадлежать ему.
Нет, он пожелал Аньелетту, потому что девушка была молода и хороша собой, а Тибо имел несчастное свойство желать всего, что принадлежало или могло бы принадлежать другому.
Он поддался очарованию простодушной девушки. Но образ Аньелетты запечатлелся лишь в его голове — не в сердце.
Тибо не способен был любить так, как бедняк должен любить бедную девушку, ничего не ожидая в награду за свою любовь, кроме ответной любви.
Нет, напротив: по мере того как он удалялся от Аньелетты — словно он удалялся от ангела-хранителя, — зависть и честолюбие все сильнее терзали его душу.
Уже совсем стемнело, когда он вернулся домой.
IV ЧЕРНЫЙ ВОЛК
Тибо очень устал и прежде всего решил поужинать.
Некоторые из происшествий, наполнивших этот день, обладали свойством вызывать аппетит.
Это был не тот вкусный ужин, что он обещал себе, если убьет оленя.
Но Тибо, как мы знаем, оленя не убил, и только жестокий голод служил приправой к черному хлебу, придавая ему вкус оленьего мяса.
Он едва успел приступить к этому скудному ужину, как услышал, что коза (кажется, мы уже говорили, что у него была коза) жалобно блеет.
Подумав, что ей тоже хочется поужинать, Тибо взял под навесом охапку свежей травы и отнес в хлев.
Как только он открыл дверцу, коза выскочила оттуда так стремительно, что едва не опрокинула хозяина.
Даже не взглянув на принесенный корм, она побежала к дому.
Тибо бросил свою ношу и пошел вслед за беглянкой, собираясь водворить ее на место. Но это оказалось невозможным. Пришлось тащить ее за рога, а она отчаянно сопротивлялась, пятилась назад, упиралась копытами.
Все же Тибо победил в этой борьбе и загнал козу в хлев.
Но та, не обращая внимания на оставленный ей обильный ужин, продолжала жалобно блеять.
Удивленный и недовольный, Тибо во второй раз оторвался от еды и осторожно, чтобы коза не выскочила, снова открыл дверцу хлева.
Там он принялся искать по всем углам и закоулкам причину испуга козы.
Внезапно он почувствовал под рукой густой жаркий мех незнакомого животного.
Тибо вовсе не был трусом.
И и все же он поспешно отступил.
Взяв в доме лампу, он опять пошел в хлев.
Лампа чуть было не выпала у него из рук, когда он узнал в животном, перепугавшем его козу, оленя барона Жана, — того самого, которого он преследовал и упустил, ради обладания которым, не дождавшись Божьей помощи, призвал на помощь дьявола; того оленя, что ушел от собак; наконец, того, из-за которого был так сильно избит.
Убедившись, что дверь плотно закрыта, Тибо осторожно приблизился к гостю.
Несчастное создание или было ручным, или до того устало, что не пыталось убежать и только смотрело на Тибо темными бархатными глазами, от страха сделавшимися необычайно выразительными.
— Наверное, я оставил дверь открытой, — пробормотал башмачник себе под нос, — и зверь, не зная, где спрятаться, забежал сюда.
Но, подумав немного, Тибо отчетливо вспомнил, что десять минут тому назад, когда он в первый раз открывал дверь хлева, деревянная задвижка была вставлена до того плотно, что ему пришлось камнем выбивать ее из гнезда.
К тому же и коза, как мы видели, не дорожившая обществом гостя, убежала бы через открытую дверь.
Приглядевшись, Тибо заметил, что олень привязан к решетке для сена.
Хотя, повторяем, башмачник был довольно храбрым, все же у корней его волос выступил холодный пот, зубы у него застучали и он весь задрожал.
Он вышел из хлева, закрыл дверь и отправился в дом вслед за козой; она выбежала, пока он ходил за лампой, и теперь лежала в углу у очага, на сей раз явно не собираясь сменить это место — во всяком случае, сегодня — на прежнее свое жилище.
Тибо прекрасно помнил свою нечестивую просьбу, обращенную к сатане; но, признавая, что его желание чудесным образом исполнилось, он все еще не мог поверить во вмешательство нечистой силы.
Покровительство духа тьмы внушало ему безотчетный страх; он попробовал было молиться, но рука его отказывалась сотворить крестное знамение, и он не смог ни слова припомнить из «Ave Maria», молитвы, которую произносил каждый день.
Пока бедный Тибо предпринимал эти бесплодные попытки спастись, в голове у него началась ужасная сумятица.
Столько дурных мыслей явилось к нему, что ему казалось, будто он слышит в ушах какое-то невнятное бормотание, подобное шуму волн во время прилива или шороху обнаженных веток, потревоженных зимним ветром.
«В конце концов, — шептал он, бледный и с застывшим взглядом, — Бог ли, дьявол ли послал мне этого оленя, но это в любом случае большая удача, и дурак я буду, если стану отряхиваться, когда на меня манна небесная сыплется. Если эта тварь послана адом, так никто не заставляет меня ее есть; к тому же мне одному это слишком много, а те, кого я приглашу, могут выдать. Но я могу живьем отвести эту находку в монастырь Сен-Реми, и аббатиса хорошо мне за нее заплатит, если захочет порадовать своих монашек; воздух святого места очистит животное от скверны, а пригоршня добрых экю, которые я получу в монастыре, никак не сможет погубить мою душу.
Сколько дней мне пришлось бы потеть за работой, крутя сверло, чтобы иметь четверть того, что я получу без всякого труда, стоит мне только отвести оленя в новое стойло! Решительно, дьявол, помогающий вам, стоит большего, чем отвернувшийся от вас ангел небесный. Если мессир сатана заведет меня слишком далеко, я всегда успею вырваться из его когтей, черт возьми! Я не ребенок и не овечка вроде Жоржины, я знаю, что делаю и на что иду».
Несчастный! Говоря это, он забыл, что пять минут назад не мог поднести ко лбу собственную руку.
Тибо нашел для себя столько превосходных и убедительных доводов, что решил сохранить добычу, откуда бы она ни взялась, и даже заранее предназначил деньги, которые выручит за нее, для покупки подвенечного платья своей невесте.
По странному капризу памяти, он вспомнил Аньелетту.
Он уже видел ее в длинном белом платье, с венком из белых лилий и с фатой на голове.
Ему казалось, что, будь у него такой милый ангел-хранитель, дьявол, каким бы сильным и изворотливым он ни был, не осмелится переступить порог его дома.
— Ну вот! — сказал он. — Еще одно средство: если мессир сатана будет уж очень донимать меня, я немедленно попрошу руки Аньелетты у ее бабушки, женюсь на ней, и, если я не смогу осенить себя крестным знамением и не вспомню слов молитвы, моя прелестная женушка, которая не продалась дьяволу, сделает это вместо меня.
Придя к такому компромиссу и немного успокоившись, Тибо подбросил оленю травы в кормушку, чтобы тот хорошо выглядел и был достоин святых женщин, которым предназначался; затем он убедился, что подстилка достаточно мягкая и животное сможет удобно устроиться.
Ночь прошла спокойно и даже без дурных сновидений.
На следующий день сеньор Жан снова охотился.
Но на этот раз собаки преследовали не пугливого оленя: они гнались за волком, которого Маркотт утром выследил и окружил.
Это был матерый волк.
Ему, вероятно, было немало лет, хотя, подняв его, охотники с удивлением заметили, что шерсть у него совершенно черная.
Но, черный или серый, он был смел и дерзок, и охота барона Жана обещала быть не из легких.
Волк, подвергшийся нападению около Вертфея, в глуши Даржана, пересек поле Метар, оставил слева Флёри и Дампле, перебежал через дорогу на Ферте-Милон и скрылся у Ивора.
Там он переменил направление, спутал следы, вернулся назад, и так точно повторил свой прежний путь, что конь барона Жана попадал копытами в оставленные утром отпечатки.
Вернувшись в окрестности Бур-Фонтена, волк стал бегать взад и вперед, а потом повел охотников на то самое место, где вчера начались все неприятности, а именно — к хижине башмачника.
Тибо, приняв решение, о котором мы уже говорили, собирался вечером навестить Аньелетту, а с утра пораньше взялся за работу.
Вы спросите, почему Тибо, вместо того чтобы заниматься трудом, приносившим, по собственному его признанию, так мало дохода, не поспешил отвести своего оленя к монахиням в Сен-Реми.
Он поостерегся это сделать!
Никак нельзя было среди бела дня идти через лес Виллер-Котре с оленем на привязи.
Что бы он сказал первому встречному сторожу?
Нет, Тибо собирался выйти из дома в сумерках, свернуть вправо, через просеку Саблоньер попасть на дорогу Висельника на равнине Сен-Реми, в двухстах шагах от монастыря.
Как только Тибо услышал звуки рога и лай собак, он поспешил завалить дверь, ведущую в хлев, где он спрятал зверя, огромной кучей сухого вереска, чтобы совершенно скрыть вход от глаз охотников и их сеньора, если они случайно, как вчера, остановятся у его хижины.
Затем он с необычайным пылом взялся за работу и глаз не поднимал от пары сабо, которую вырезал.
Вдруг ему показалось, будто кто-то скребется в дверь хижины.
Он собирался открыть дверь, однако она отворилась сама, и, к крайнему изумлению Тибо, на задних лапах вошел черный волк.
Оказавшись на середине комнаты, он по-волчьи уселся и уставился на башмачника.
Тибо схватил лежавший поблизости топор и приготовился достойно принять странного посетителя: желая испугать его, он занес топор у него над головой.
Но волчья физиономия приняла чрезвычайно насмешливое выражение.
Зверь расхохотался.
Тибо впервые в жизни слышал, чтобы волк смеялся. Часто говорят, что волки могут лаять по-собачьи. Но никто никогда не рассказывал, что волк может смеяться, как человек.
И что это был за смех!
Тибо до смерти испугался бы человека, у которого был бы такой смех; он опустил занесенную руку.
— Клянусь сеньором с раздвоенным копытом, — сказал волк густым и звучным голосом, — вот это шутник! Я по его просьбе присылаю ему лучшего оленя из лесов его королевского высочества, а он за это собирается раскроить мне череп топором; вот она, человеческая благодарность: ничем не лучше волчьей.
Услышав человеческий голос, исходивший от животного, Тибо выронил топор; колени у него задрожали.
— Ну, будем вести себя разумно, — продолжал волк, — и поговорим как добрые друзья. Вчера ты захотел получить оленя, принадлежащего барону Жану, и я сам привел его в твой хлев, а чтобы он не убежал, сам привязал его к кормушке; по-моему, я заслужил чего-нибудь получше удара топором.
— Да кто вы такой? — спросил Тибо.
— А, так ты не узнал меня, вот в чем дело!
— Вы сами понимаете: мог ли я узнать друга под этой гадкой шкурой?
— Гадкой! — повторил волк, кроваво-красным языком наводя глянец на свою шерсть. — Черт возьми! На тебя не угодишь. Но дело не в моей шкуре. Собираешься ли ты заплатить за оказанную тебе услугу?
— Конечно, — ответил растерянный башмачник. — Но хотелось бы знать ваши требования. О чем идет речь? Скажите, что вам угодно.
— Прежде всего я хочу стакан воды, проклятые собаки совсем загнали меня.
— Сию минуту, сеньор волк.
И Тибо поспешил к роднику, бившему в десяти шагах от его хижины.
Эта поспешность доказывала, насколько он был счастлив так легко отделаться.
Он с глубоким поклоном поставил перед волком миску с чистой, прозрачной водой.
Волк, с наслаждением вылакав содержимое миски, разлегся на полу, вытянув лапы на манер сфинкса.
— Теперь слушай меня, — сказал волк.
— Значит, это еще не все? — дрожа, спросил Тибо.
— Черт возьми! Есть еще одно дело, и очень срочное, — ответил черный волк. — Ты слышишь лай собак?
— Еще бы! Я слышу, что они приближаются и через пять минут будут здесь.
— Так вот, мне надо от них отделаться.
— Отделаться! Но как? — воскликнул Тибо, вспомнив, чего ему стоило вчерашнее вмешательство в охоту барона Жана.
— Ищи, соображай, придумай что-нибудь.
— У барона Жана злые собаки, сеньор волк, и то, о чем вы просите, означает спасти вам жизнь. Если они вас нагонят, то сразу разорвут в клочья; скорее всего так оно и будет. Впрочем, — прибавил Тибо, считая, что настал его черед требовать, — что я получу, если помогу вам избежать этой неприятности?
— Как что? А олень?
— А вода? — возразил Тибо. — Мы квиты, любезный волк. Теперь мы можем, если хотите, заключить новую сделку — я готов.
— Пусть так! Говори быстро, чего ты хочешь от меня.
— Другие на моем месте, — сказал Тибо, — конечно, воспользовались бы своим и вашим положением и потребовали бы всего сверх меры: сделать их богатыми, могущественными, знатными; откуда я знаю, чего они еще захотели бы! Я не таков: вчера я хотел оленя, и вы мне его дали, это правда; но завтра я могу еще чего-нибудь захотеть. С некоторых пор я охвачен каким-то безумием, у меня все время возникают желания, а у вас не всегда будет время выслушать меня. Сделайте так, чтобы все мои желания исполнялись, если вы сам дьявол или кто-то в этом роде.
Волк состроил насмешливую гримасу.
— Только и всего? — спросил он. — Заключительная часть не вяжется со вступлением.
— О, не беспокойтесь, — ответил Тибо, — у меня скромные и честные желания, как и подобает бедному крестьянину: несчастный клочок земли, несколько жалких веточек — вот и все, чего может пожелать такой человек, как я.
— С радостью я исполнил бы твое желание, — сказал волк, — но это не в моих силах.
— Тогда вас растерзают эти страшные псы.
— Ты так считаешь? Ты высказываешь требования, потому что уверен, что я в тебе нуждаюсь?
— Я знаю, что это так и есть.
— Что ж, смотри.
— Куда?
— Туда, где я был, — ответил волк.
Тибо отступил на два шага.
На том месте, где только что сидел волк, было пусто. Волк исчез неизвестно куда и как. Не было ни малейшего повреждения — ни дырочки на потолке, даже такой, какую оставила бы иголка, ни щели в полу, куда просочилась бы капля воды.
— Так ты считаешь, что мне без тебя не выпутаться? — послышался голос волка.
— Черт возьми, куда вы запропастились?
— Если ты обращаешься ко мне по имени, — голос волка звучал с издевкой, — я вынужден ответить. Я на прежнем месте.
— Но я вас не вижу!
— Просто-напросто я невидим.
— Но собаки, но охотники, но барон Жан станут искать вас здесь?
— Разумеется; только они меня здесь не найдут.
— Но если они не найдут вас, то набросятся на меня.
— Как вчера. Только вчера тебя приговорили к тридцати шести ударам перевязью, а сегодня за то, что ты спрятал волка, получишь семьдесят два и рядом не будет Аньелетты, чтобы за поцелуй выкупить тебя.
— Ой! Что же мне делать?
— Быстро выпусти своего пленника: собаки собьются со следа и будут наказаны вместо тебя.
— Но как гончие могут обмануться и спутать волчий запах с запахом оленя?
— Это мое дело, — последовал ответ. — А ты не теряй времени, не то собаки будут здесь прежде, чем ты дойдешь до хлева; это будет неприятно, но не для меня — меня они не найдут, а для тебя, которого они встретят.
Тибо не надо было повторять это дважды: он поспешил в хлев.
Как только он отвязал оленя, тот, словно подброшенный пружиной, выскочил из дома, обежал его кругом, пересек волчий след и скрылся в зарослях Безмона.
Собаки были уже в сотне шагов от хижины.
Тибо с тревогой прислушивался к их лаю.
Вся стая собралась у дверей. Вдруг два или три голоса, послышавшиеся у Безмона, сорвали с места всех собак.
Погнавшись за оленем, собаки потеряли волчий след.
Тибо наконец вздохнул полной грудью.
Охота уходила все дальше, и Тибо вернулся в свою комнату под веселые звуки рога, в который трубил во всю силу своих легких барон Жан.
Черный волк спокойно лежал на прежнем месте, войдя в хижину таким же непонятным образом, как раньше вышел.
V СДЕЛКА
Ошеломленный Тибо застыл на пороге.
— Так мы говорили, — как ни в чем не бывало продолжал волк, — о том, что я не могу сделать так, чтобы все твои желания исполнялись.
— Значит, мне нечего ждать от вас?
— Напротив, я могу исполнить все недобрые пожелания.
— Ну, и что мне это даст?
— Дурак! Один моралист сказал: «В несчастьях нашего лучшего друга всегда есть нечто приятное для нас».
— Это волк сказал? Я и не знал, что среди волков есть моралисты.
— Нет, это сказал человек.
— Его повесили?
— Нет, сделали губернатором провинции Пуату. Кстати, там немало волков. Впрочем, если в несчастье лучшего друга есть нечто приятное, то какое же наслаждение испытываешь от несчастий своего злейшего врага!
— Верно, — сказал Тибо.
— Не говоря уж о том, что несчастье ближнего — хоть друга, хоть врага — всегда можно использовать к своей выгоде.
— Вы правы, сеньор волк, — после недолгого размышления отозвался Тибо. — И что вы хотите в обмен на свои услуги? Даром ничего не дают, не так ли?
— Конечно. Каждый раз, как ты чего-нибудь пожелаешь и не получишь от этого никакой выгоды, я буду забирать маленькую частицу твоей особы.
Тибо в ужасе попятился.
— Да нет, не бойся, я не прошу в уплату фунт твоего мяса, как потребовал у своего должника один мой знакомый еврей.
— Так чего же вы хотите?
— Один волос за первое желание, два за второе, четыре за третье — и так далее, все время удваивая число.
Тибо рассмеялся.
— Если только это, мессир волк, — я согласен и постараюсь высказывать такие желания, чтобы мне не пришлось носить парик. Ударим по рукам!
И Тибо протянул руку.
Черный волк поднял лапу, но не двинулся с места.
— Ну, в чем дело? — спросил Тибо.
— Я подумал, — ответил волк, — что моими острыми когтями, сам того не желая, могу причинить тебе сильную боль. Но я нашел способ заключить сделку без малейшего неудобства. У тебя есть серебряное кольцо, у меня — золотое. Поменяемся. Как видишь, сделка для тебя выгодная.
И волк показал лапу, на безымянном пальце которой в самом деле блестело сквозь шерсть кольцо самого чистого золота.
— Согласен, — сказал Тибо.
Обмен кольцами состоялся.
— Ну вот, мы обвенчаны, — объявил волк.
— О, только обручены, мессир волк, — ответил башмачник. — Черт возьми, как вы торопитесь!
— Поживем — увидим, метр Тибо. А теперь возвращайся к своей работе, я вернусь к своей.
— Прощайте, сеньор волк.
— До свидания, господин Тибо.
Едва закончив разговор и особенно подчеркнув слова «до свидания», волк исчез, оставив за собой запах серы, словно подожженная щепотка пороха.
Тибо некоторое время стоял, не в силах прийти в себя. Он не мог привыкнуть к такому способу ухода со сцены (как говорят в театре) и огляделся: волка нигде не было.
Башмачник на минуту поверил, что все это ему померещилось.
Но, опустив глаза, увидел дьявольское кольцо на безымянном пальце своей правой руки.
Стащив с пальца кольцо, Тибо стал его рассматривать. Ему показалось, что внутри вырезан какой-то вензель; приглядевшись, различил буквы «Т» и «С».
— Ой, — сказал он, покрывшись холодным потом. — Тибо и Сатана, имена двух договаривающихся сторон. Что ж, ничего не поделаешь. Если предался дьяволу, надо идти до конца.
И Тибо, чтобы забыться, затянул песню.
Но звук собственного голоса показался ему таким странным, что он сам его испугался, замолчал и взялся за работу.
Однако он успел три или четыре раза ковырнуть башмак ножом, когда услышал, что у Безмона трубят в рог и раздается лай собак.
Тибо отложил работу и стал прислушиваться.
— Скачи, любезный сеньор, — позлорадствовал он, — гонись за своим волком! Могу поклясться, что лапу этого волка ты не прибьешь над входом в свой замок. Черт возьми, удачная сделка! Я почти волшебник, и, хоть ты этого и не подозреваешь, щедрый расточитель ударов, я могу околдовать тебя и с лихвой тебе отплатить.
При этой мысли Тибо внезапно остановился.
— В самом деле, — продолжил он спустя немного, — что, если я отомщу этому проклятому барону и метру Маркотту? Да что там! За один волосок я могу позволить себе эту прихоть.
Тибо провел рукой по своей густой шелковистой гриве, что была не хуже, чем у льва.
— Пусть! — сказал он. — Мне пока есть чем расплачиваться, одного волоска не жалко. К тому же я смогу проверить, не посмеялся ли надо мною мой кум черт. Значит, я желаю крупной неприятности сеньору Жану; что касается этого негодяя Маркотта, который так жестоко избил меня вчера, то думаю, будет справедливо, если с ним случится что-то похуже, чем с его хозяином.
Тибо очень волновался, произнося вслух эти два желания. Он сам видел, на что способен черный волк, но боялся, как бы тот не воспользовался его доверчивостью в своих интересах. Высказав свою просьбу, он уже не мог вернуться к работе. Он взял нож не той стороной и порезался, а потом, собираясь украсить резьбой пару сабо в двенадцать су, испортил их.
Пока Тибо переживал эту непоправимую случайность и тряс окровавленной рукой, в долине послышался сильный шум.
Выйдя на дорогу в Кретьенель, башмачник увидел вдали медленно двигавшуюся процессию.
Это шли охотники и слуги сеньора Жана.
Кретьенельская дорога тянется почти на три четверти льё.
Поэтому Тибо не сразу смог разглядеть, что делали эти люди, выступавшие медленно и торжественно, подобно похоронному шествию.
Когда до процессии оставалось несколько сотен шагов, Тибо увидел: слуги несут что-то на двух носилках.
Это оказались безжизненные тела сеньора Жана и его доезжачего Маркотта.
У Тибо лоб покрылся холодным потом.
— Ох, — воскликнул он, — что все это значит?
Вот что произошло.
Пока олень прятался в лесу, примененный Тибо способ сбить собак со следа благополучно действовал.
Но, повернув в сторону Мароля, зверь выскочил на открытое место и появился из вересковых зарослей в десяти шагах от сеньора Жана.
Вначале барон подумал, что олень убегает, испугавшись собак.
Но, увидев, что за ним менее чем в ста шагах гонится вся стая — сорок лающих, визжащих, воющих гончих: одни гудят басом, словно церковный колокол, другие оглушают, как барабан, третьи пронзительно тявкают, как фальшивый кларнет, и все это с таким видом, как будто они никогда и не чуяли запаха другого животного, — увидев это, барон впал в ярость, перед которой бледнеет ярость Полишинеля.
Он уже не кричал, а испускал рев. Он уже не ругался, а проклинал.
Ему мало было стегать своих собак хлыстом, он топтал их подковами своего коня, и метался в седле как черт перед кропильницей.
Сеньор Жан осыпал доезжачего Маркотта проклятиями и называл его ослом.
На этот раз возразить было нечего, оправданий не находилось — бедняга Маркотт страшно был сконфужен ошибкой своих собак и очень боялся гнева монсеньера.
Поэтому он решил сделать все возможное и невозможное, чтобы свою ошибку исправить, а гнев господина успокоить.
Он пустил коня галопом, не разбирая дороги и крича во все горло:
— Назад! Собаки, назад!
И раздавал удары хлыста направо и налево, оставляя на шкурах бедных тварей кровавые следы.
Но как он ни старался, ни кричал и ни лупил собак, они упорно бежали по следу.
Казалось, они узнали вчерашнего оленя и их уязвленное самолюбие требовало отыграться за неудачу накануне.
Маркотт принял отчаянное решение: успеть первым перебраться через реку Урк, берега которой охота как раз достигла к этому времени.
Он надеялся, оказавшись по ту сторону, ударами остановить собак, взбирающихся на берег.
Одним прыжком конь вынес его на середину реки.
Сначала все шло достаточно удачно, но, к несчастью, как мы уже сказали, вода сильно прибыла от дождей; конь не мог бороться с течением: он завертелся на месте и скрылся под водой.
Увидев, что коня не спасти, Маркотт хотел бросить его и перебраться вплавь.
Но его ноги застряли в стременах, он не смог высвободиться и исчез вместе с конем.
Тем временем барон со своими охотниками тоже оказался на берегу, и, когда он увидел критическое положение Маркотта, гнев его сменился отчаянием.
Сеньор де Вез искренне любил всех, кто служил ему во время охоты, — и людей и животных.
Он закричал изо всех сил:
— Спасите Маркотта! Тысяча чертей! Даю двадцать пять, пятьдесят, сто луидоров тому, кто его вытащит!
Люди и кони наперегонки бросились в воду, точно испуганные лягушки.
Барон и сам погнал коня в воду, но его удержали; все так усердно мешали ему осуществить его героическое намерение, что в конце концов преданность хозяину, проявленная слугами, для бедного доезжачего стала роковой.
На какую-то минуту все о нем забыли.
Эта минута и погубила Маркотта.
Он еще раз вынырнул у поворота реки, забил руками по воде и в последний раз прокричал:
— Назад! Собаки, назад!..
Но вода залила ему рот, он захлебнулся на последнем слоге последнего слова, и лишь через четверть часа тело несчастного вынесло течением на песчаную отмель.
Маркотт был мертв.
Это происшествие самым пагубным образом сказалось на сеньоре Жане.
Как положено дворянину, он никогда не отказывался от доброго вина, а потому имел некоторую предрасположенность к апоплексическому удару.
Потрясение, которое он испытал при виде трупа своего слуги, было таким сильным, что вызвало прилив крови к голове.
Тибо ужаснулся точности и добросовестности, с которыми черный волк исполнил свое обещание. Он не мог без дрожи подумать о том, что метр Изенгрин вправе требовать от него той же пунктуальности. Он с беспокойством спрашивал себя, окажется ли волк достаточно славным малым, чтобы удовлетвориться несколькими волосками, тем более что ни в момент произнесения желания, ни в следующие несколько секунд — то есть во время его исполнения — не почувствовал даже слабой щекотки на коже головы.
Труп бедняги Маркотта произвел на башмачника довольно тягостное впечатление. Откровенно говоря, Тибо совсем не любил покойного и считал, что для этого есть достаточные основания; но его неприязнь никогда не была так велика, чтобы желать ему смерти, и волк явно зашел слишком далеко в исполнении договора с башмачником.
Правда, Тибо не указал конкретно, чего он хочет, и тем самым предоставил волку достаточную свободу действий.
Он пообещал себе в будущем более точно формулировать свои пожелания и уж, во всяком случае, быть более сдержанным в просьбах.
Вернемся к барону; он не умер, но мало отличался от мертвого.
С той минуты как его настигло, словно удар грома, пожелание Тибо, он так и не пришел в себя.
Его уложили на свежем воздухе на ту самую кучу вереска, которой Тибо завалил дверь хлева. Растерянные слуги вверх дном перевернули все в хижине, стараясь отыскать какое-нибудь средство, способное привести хозяина в чувство.
Один требовал уксуса — растереть виски, другой — ключ, чтобы засунуть его барону за шиворот, тот желал похлопать хозяина по ладоням дощечкой, этот — зажечь у него под носом серу.
Среди всех этих голосов, моловших явный вздор, выделялся пронзительный голос маленького Ангулевана:
— Черт вас возьми, это все не то! Нам нужна коза; если бы только у нас была коза!
— Коза? — воскликнул Тибо, который не прочь был исцелить сеньора Жана, таким образом освободив свою совесть от половины лежавшего на ней груза, и вместе с тем спасти свою бедную хижину от разграбления. — Коза? У меня есть одна!
— В самом деле? У вас есть коза? — воскликнул Ангулеван. — Эй, друзья мои, наш дорогой сеньор спасен!
И Ангулеван в восторге бросился на шею Тибо, повторяя:
— Ведите сюда козу, приятель, ведите вашу козу!
Башмачник вытащил из хлева блеющую козу.
— Держите ее покрепче за рога, — приказал ему Ангулеван. — И поднимите ей переднюю ногу.
Продолжая говорить, охотник вытащил из висевших у него на поясе ножен маленький нож и принялся тщательно точить его о брусок, на котором башмачник правил свои инструменты.
— Что это вы собираетесь делать? — спросил встревоженный этими приготовлениями Тибо.
— Как! — удивился Ангулеван. — Вы что, не знаете, что в сердце козы есть маленькая косточка в виде креста? Измельченная в порошок, она становится лучшим лекарством при апоплексическом ударе!
— Вы хотите убить мою козу! — воскликнул Тибо, разом отпустив рог и ногу несчастного животного. — Но я не хочу, чтобы вы ее убили, не хочу!
— Ай-яй-яй! — сказал Ангулеван. — Какие некрасивые вещи вы говорите, господин Тибо! Разве можно сравнить жизнь нашего доброго сеньора с жизнью этой презренной козы? Право же, мне стыдно за вас.
— Вам легко говорить. Эта коза — все, что у меня есть, все мое богатство. Она дает мне молоко, и я дорожу ею.
— Ну, господин Тибо, я уверен, что вы так не думаете; к счастью, сеньор барон вас не слышит: он очень бы огорчился, что ради его драгоценного здоровья приходится так торговаться с мужланом.
— Впрочем, — с издевательским смехом заметил один из охотников, — если метр Тибо так дорого ценит свою козу, что лишь монсеньеру под силу за нее заплатить, ничто не мешает ему завтра прийти в замок Вез и получить должок, а заодно и то, что ему недодали вчера…
Сила была не на стороне Тибо, разве что он снова призвал бы на помощь дьявола.
Но он только что получил от монсеньера сатаны хороший урок и не хотел снова, по крайней мере сегодня, прибегать к его услугам.
Так что он был озабочен только одним — как бы не пожелать дурного никому из присутствующих.
Один умер, другой еле жив — этого вполне достаточно.
Поэтому Тибо старался не смотреть на окружавшие его угрожающие или насмешливые лица, чтобы не разозлиться.
Пока он смотрел в другую сторону, козочку зарезали; Тибо узнал об этой казни, услышав жалобный крик бедного животного.
Как только коза испустила дух, в ее трепещущем сердце отыскали указанную Ангулеваном косточку.
Ее измельчили в порошок, растворили в уксусе, добавили тринадцать капель желчи из козьего же пузыря, размешали все это в стакане воды висевшим на четках крестом, затем острием кинжала разжали сеньору Жану зубы и влили ему в глотку эту микстуру.
Средство подействовало мгновенно и чудесно.
Сеньор Жан чихнул, приподнялся на своем ложе и довольно внятно, хоть язык у него немного заплетался, потребовал:
— Пить!
Ангулеван поднес ему воду в деревянном кубке, который Тибо получил в наследство и которым очень гордился.
Но барон, едва пригубив и узнав омерзительную жидкость, неосторожно ему поднесенную, выразительно сплюнул и с силой запустил кубком в стену, отчего тот разлетелся на куски.
Затем он крикнул громким и ясным голосом (что указывало на полное его выздоровление):
— Вина!
Один из охотников, вскочив в седло, помчался в замок Уаньи за бутылкой старого бургундского.
Через десять минут он вернулся с двумя бутылками. Их откупорили, и барон, за неимением стакана, одним духом выпил содержимое обеих прямо из горлышка.
Затем он повернулся лицом к стене, пробормотав:
— Макон тысяча семьсот сорок пятого года.
И крепко уснул.
VI ДЬЯВОЛЬСКИЙ ВОЛОС
Слуги, перестав беспокоиться о здоровье хозяина, отправились на поиски собак, продолжавших преследовать оленя.
Они нашли их спящими на красной от крови земле.
Было ясно, что псы загнали, растерзали и съели оленя, а если и оставались какие-нибудь сомнения в этом, их развеял вид рогов и обломков челюсти — то, что осталось от несчастного зверя и чего собакам не удалось разгрызть и уничтожить.
Кажется, одни они в этот день получили хоть какое-то удовольствие.
Охотники заперли гончих у Тибо в хлеву и, поскольку барон все еще спал, решили поужинать.
Они забрали весь хлеб, лежавший в ларе у бедняги, зажарили козу и вежливо пригласили хозяина разделить с ними трапезу, которую он в какой-то мере оплатил.
Тибо отказался под благовидным предлогом, сославшись на то, что еще не оправился от глубокого потрясения, вызванного смертью Маркотта и болезнью барона.
Он собрал обломки своего прекрасного кубка и убедился, что склеить его невозможно; затем стал размышлять, каким образом поскорее покончить с убожеством своей жизни, в последние два дня ставшей совершенно невыносимой.
Прежде всего перед его внутренним взором встал образ Аньелетты.
Он увидел ее такой, какими являются детям во сне ангелы, — в длинном белом платье, парящей в голубом небе на больших белых крыльях.
Она казалась очень счастливой, знаками звала его следовать за ней и говорила:
«Тот, кто пойдет со мной, узнает блаженство».
Но Тибо в ответ только качал головой и пожимал плечами, словно хотел сказать прекрасному видению:
«Да, да, это ты Аньелетта, я узнаю тебя. Вчера еще я мог пойти за тобой; но сегодня, когда, подобно королю, я в состоянии распоряжаться чужой жизнью и смертью, я не могу неразумно подчиниться только что родившейся любви, едва лепечущей свои первые слова. Стать твоим мужем, бедная моя Аньелетта, не значит ли это вдвое и втрое увеличить тяжесть груза, под которым изнемогает каждый из нас, вместо того чтобы облегчить нашу жизнь? Нет, Аньелетта, нет! Вы были бы прелестной любовницей; но жена должна мне принести столько же денег, сколько у меня теперь власти».
Совесть подсказывала ему, что у него есть обязательства по отношению к Аньелетте.
Но он отвечал себе, что, разорвав помолвку, сделает доброе дело для кроткого создания.
— Я честный человек, — шептал он еле слышно, — и должен пожертвовать своим удовольствием ради счастья милого ребенка. Впрочем, она достаточно молода, достаточно хороша собой и достаточно рассудительна, чтобы выбрать себе лучшую участь, чем та, что ожидает ее, стань она женой простого башмачника.
Из всех этих прекрасных рассуждений Тибо сделал вывод: вчерашние смехотворные обещания брошены на ветер, а о помолвке, свидетелями которой были лишь дрожащие листья берез да розовые цветочки вереска, надо забыть.
К тому же на мельнице в Койоле была красивая мельничиха, и воспоминание о ней сыграло не последнюю роль в решении Тибо.
Это была молодая вдова лет двадцати шести — двадцати восьми, свежая, пухленькая, с лукавым, дразнящим взглядом.
Она считалась самой богатой невестой в округе, мельница ее работала не умолкая, — как видите, во всех отношениях она как нельзя лучше устраивала Тибо.
Прежде он никогда не осмелился бы заглядываться на красивую и богатую г-жу Поле (так звали мельничиху).
Под нашим пером имя это возникает впервые, ибо впервые обладательница его серьезно заняла мысли нашего героя.
Он и сам удивился, как это он раньше не вспомнил о мельничихе, но сказал себе, что и прежде часто думал о ней, однако без всякой надежды; теперь же, когда он пользуется покровительством волка и одарен сверхъестественной властью, которую имел уже случай испробовать, он уверен, что легко устранит со своего пути соперников и достигнет цели.
Злые языки поговаривали, что у мельничихи характер не из легких и она сварлива.
Но башмачник решил, что с помощью дьявола он легко одолеет жалкого бесенка, который может обитать в душе вдовы Поле. Итак, на рассвете он задумал отправиться в Койоль (а мысли эти, разумеется, пришли ему в голову ночью).
Сеньор Жан проснулся, едва запела славка. Он совершенно оправился от вчерашнего недомогания; ударами хлыста подняв слуг, он отправил тело Маркотта в замок, а сам решил, чтобы не возвращаться домой ни с чем, поохотиться на кабана, как будто вчера ничего особенного не случилось.
К шести часам утра он покинул жилище Тибо, заверив этого последнего в своей признательности за гостеприимство, оказанное в бедной хижине ему самому, а также его людям и собакам; за эти заслуги барон обещал совершенно забыть о мелких обидах, причиненных ему башмачником.
Легко догадаться, сожалел ли Тибо об уходе сеньора, охотников и собак.
Оставшись один, он некоторое время созерцал свое разоренное жилище: пустой ларь, разбитую мебель, ненужный хлев, покрытый отбросами пол.
Но он сказал себе, что все это — естественные последствия пребывания в его доме знатного сеньора, а будущее представлялось ему слишком лучезарным для того, чтобы долго предаваться печали.
Достав воскресную одежду, он принарядился как мог, позавтракал последним куском хлеба с последним обрезком козьего мяса, запив все стаканом ключевой воды, и отправился в Койоль.
Тибо решил в тот же день попытать счастья у г-жи Поле.
Он вышел около девяти часов утра.
Самая короткая дорога на Койоль идет через Уаньи и Пислё.
Как же получилось, что Тибо, знавший леса Виллер-Котре не хуже, чем портной знает карманы на сшитом им костюме, свернул на кретьенельскую дорогу, удлинив путь на целых пол-льё?
Это получилось оттого, что дорога через Кретьенель проходила вблизи того места, где Тибо впервые увидел Аньелетту; пока расчет вел его к койольской мельнице, сердце тянуло в сторону Пресьямона.
В самом деле, почти сразу за Ферте-Милоном он увидел на обочине прелестную Аньелетту, которая рвала траву для своих коз.
Он мог пройти мимо так, чтобы она его не заметила, это было совсем легко: девушка стояла к нему спиной.
Но бес толкал его прямо к ней.
Аньелетта, склонившаяся с серпом в руках, услышала шаги и подняла голову; узнав Тибо, она покраснела.
Но, залившись краской, она радостно улыбнулась и вся просияла; ее румянец был вызван не враждебными чувствами к башмачнику.
— Ах, — сказала она, — вот и вы. Я всю ночь думала о вас и молилась за вас.
И Тибо вспомнил, что в его собственных снах Аньелетта пролетала по небу, сложив руки для молитвы, в ангельском одеянии и с ангельскими крыльями.
— А по какому случаю вы обо мне думали и за меня молились, прелестное дитя? — развязно, как сделал бы какой-нибудь молодой дворянин из свиты принца, спросил Тибо.
Аньелетта посмотрела на него своими большими глазами цвета неба.
— Я думала о вас, потому что люблю вас, Тибо; я за вас молилась, потому что видела, как с сеньором Жаном и его доезжачим случилось несчастье и у вас из-за этого были неприятности… Ах, если бы я слушалась только своего сердца, я сразу же поспешила бы к вам на помощь.
— Надо было так и сделать, Аньелетта, вы нашли бы веселую компанию, уверяю вас!
— Но я совсем не этого хотела, господин Тибо; я помогла бы вам принять их. О, что за чудесное кольцо у вас на пальце, господин Тибо!
И девушка показала на кольцо, полученное им от волка.
У Тибо кровь застыла в жилах.
— Это кольцо? — переспросил он.
— Да, вот это.
Видя, что Тибо медлит с ответом, Аньелетта отвернулась и вздохнула.
— Конечно, это подарок какой-нибудь знатной дамы, — прошептала она.
— Да нет, — с уверенностью законченного лжеца возразил Тибо, — вы ошибаетесь, Аньелетта, это обручальное кольцо: я купил его, чтобы надеть вам на палец в день нашей свадьбы.
Аньелетта грустно покачала головой.
— Почему вы не хотите сказать мне правду, господин Тибо?
— Я вам ее сказал, Аньелетта.
— Нет.
И она покачала головой еще печальнее.
— А почему вы думаете, что я обманываю вас?
— Потому что в это кольцо я могу всунуть два своих пальца.
В самом деле, у Тибо каждый палец был толщиной с два пальчика девушки.
— Если оно слишком большое, Аньелетта, мы отдадим его уменьшить.
— Прощайте, господин Тибо.
— Как прощайте?
— Да.
— Вы уходите?
— Ухожу.
— Почему, Аньелетта?
— Я не люблю лжецов.
Тибо искал, чем поклясться, чтобы успокоить Аньелетту, но ничего не смог найти.
— Послушайте, — вновь заговорила Аньелетта и слезы выступили на ее глазах, ведь ей приходилось делать над собой большое усилие, чтобы уйти от Тибо, — если это кольцо действительно предназначено для меня…
— Клянусь вам, Аньелетта.
— Хорошо, дайте мне кольцо на сохранение до дня нашей свадьбы, а тогда я отдам вам его, чтобы его освятили.
— Я только этого и хочу, Аньелетта: я мечтаю увидеть кольцо на вашей хорошенькой ручке. Вы очень верно заметили, что оно велико вам. Я сегодня иду в Виллер-Котре; мы снимем мерку с вашего пальчика, и я отдам кольцо господину Дюге, ювелиру, чтобы он его уменьшил.
Улыбка снова появилась на губах Аньелетты, а слезы на ее глазах мгновенно высохли.
Она протянула Тибо свою маленькую ручку.
Тибо с минуту подержал ее в своих, поворачивая то вверх то вниз ладонью, потом поцеловал.
— Ой, — сказала Аньелетта, — не надо целовать мою руку, господин Тибо, она недостаточно красива для этого.
— Тогда дайте мне что-нибудь взамен.
Аньелетта подставила ему лоб.
Потом с детской радостью попросила:
— Давайте примерим кольцо!
Тибо стащил кольцо с пальца и, смеясь, хотел надеть его на большой палец Аньелетты.
Но, к крайнему его удивлению, кольцо оказалось слишком тесным и не прошло через сгиб.
— Смотри-ка! — изумился Тибо. — Кто бы мог подумать!
Аньелетта засмеялась.
— В самом деле, забавно, — сказала она.
Тибо примерил кольцо на указательный палец Аньелетты. Кольцо отказалось налезть и на него.
Тибо попробовал надеть его на средний.
Можно было подумать, что кольцо все сильнее сжимается, как будто боится запачкать эту девичью ручку.
После среднего Тибо попробовал надеть кольцо на безымянный палец.
Он сам носил кольцо на этом пальце.
И снова его постигла неудача.
Чем дольше продолжался опыт, тем сильнее дрожала ручка Аньелетты, а у Тибо пот катился градом со лба, как будто он выполнял самую изнурительную работу.
Он чувствовал, что во всем этом есть нечто дьявольское.
Наконец очередь дошла до мизинца Аньелетты.
На этом тонком, хрупком, прозрачном мизинчике кольцо должно было болтаться, как болтался бы браслет на пальце Тибо; но этот мизинчик, как ни старалась Аньелетта, так и не пролез в кольцо.
— Ах, господин Тибо! — воскликнула девушка. — Что все это означает, Боже мой!
— Кольцо сатаны, вернись сатане! — и Тибо с силой бросил кольцо на камни, надеясь, что оно разобьется.
От кольца посыпались искры, словно от удара о кремень, оно отскочило назад и само наделось Тибо на палец.
Аньелетта, видевшая все это, смотрела на Тибо с ужасом.
— Ну и что здесь такого? — стараясь взять дерзостью, спросил башмачник.
Аньелетта не ответила.
Только взгляд у нее становился все более испуганным.
Тибо не мог понять, что она увидела.
Аньелетта медленно подняла руку и, показывая пальцем на голову Тибо, сказала:
— О господин Тибо, господин Тибо, что это у вас?
— Где? — спросил Тибо.
— Вот! Вот! — повторяла Аньелетта, все больше бледнея.
— Да где, в конце концов? — закричал башмачник, топнув ногой. — Скажите, что вы там увидели.
Но вместо ответа девушка закрыла руками глаза, закричала и в страхе пустилась бежать со всех ног.
Тибо, совершенно ошеломленный происшедшим, даже не пытался ее догнать.
Он не двигался с места — растерянный, онемевший, не в силах пошевелиться.
Что такого страшного увидела на нем Аньелетта? И на что она указывала пальцем?
Был ли он отмечен той печатью, которой Господь заклеймил первого убийцу?
Почему бы и нет? Разве Тибо не убил человека подобно Каину и не сказал ли кюре во время последней проповеди в Уаньи, что все люди — братья?
Это ужасающее подозрение терзало Тибо.
Прежде всего ему надо было узнать, чего так сильно испугалась Аньелетта.
Он подумал было отправиться в Бур-Фонтен и посмотреться в зеркало.
Но что, если он в самом деле отмечен роковым знаком и кто-нибудь еще увидит этот знак?
Нет, надо найти другое средство.
Конечно, он мог надвинуть шляпу поглубже на лоб, добежать до Уаньи и посмотреть на себя в осколок зеркала, но это займет слишком много времени.
В ста шагах от того места, где он сейчас стоял, тек прозрачный, как хрусталь, ручей, питавший пруды Безмона и Бура.
Тибо мог увидеть в нем себя как в самом лучшем зеркале Сен-Гобена.
Он отправился к нему и, опустившись на колени, посмотрел на свое отражение в воде.
У него были те же глаза, тот же рот, на лбу никакого знака не было.
Тибо вздохнул свободнее.
Но ведь что-то должно было испугать Аньелетту.
Тибо склонился ниже над прозрачной водой и тогда разглядел среди черных завитков, падавших ему на лоб, что-то блестящее, искрящееся.
Он нагнулся еще ближе к воде и теперь увидел на голове красный волос.
Но это был цвет необычный, не похожий ни на светло-рыжий, ни на морковный, ни на оттенок бычьей крови, ни на пунцовый. Волос был огненно-красного цвета и горел, как самое яркое пламя.
Не доискиваясь, откуда у него появился волос такой необычной окраски, Тибо попытался вырвать его.
Он свесил к воде прядь, аккуратно ухватил пламеневший в ней страшный волос большим и указательным пальцами и с силой потянул.
Волос не поддавался.
Тибо решил, что взялся за него недостаточно крепко, и решил действовать по-другому.
Он накрутил волос на палец и очень сильно дернул.
Волос разрезал кожу на пальце и остался на месте.
Тибо обернул строптивый волос вокруг двух пальцев и вновь стал тащить его.
Волос приподнял кожу на голове, но вышел из нее не больше, чем если бы Тибо обратил свои усилия на дуб, протянувший ветви над ручьем.
Тибо решил продолжить свой путь в Койоль, уверяя себя, что, в конце концов, подозрительный оттенок одного волоса вряд ли помешает осуществлению его намерения жениться.
Но все же подлый волос дразнил, неотвязно преследовал его, мелькал у него перед глазами, рассыпая тысячи искр, словно пробегающее по головешкам пламя.
Наконец, потеряв терпение и топнув ногой, Тибо закричал:
— Тысяча чертей! Я не так далеко ушел от дома и хочу справиться с этим проклятым волосом!
Он бегом вернулся к своей хижине, схватил осколок зеркала и, глядясь в него, отыскал красный волос, затем, приставив долото как можно ближе к корню волоса, опустил голову на верстак и, не отнимая инструмента, сильно ударил по рукоятке.
Долото глубоко вошло в дерево верстака, но волос остался невредим.
Тибо повторил операцию, но на этот раз взял деревянный молоток и, подняв руку над головой, с силой обрушил его на долото.
Безуспешно.
Но он заметил на лезвии своего инструмента маленькую зазубрину — как раз в толщину волоса.
Тибо вздохнул: он понял, что расплатился за исполнение своего первого желания. Волос теперь принадлежал черному волку, и Тибо отказался от дальнейших попыток вырвать его.
VII МЕЛЬНИЧНЫЙ ПОДРУЧНЫЙ
Видя, что отстричь или вырвать проклятый волос невозможно, Тибо решил получше спрятать его под другими волосами.
Может быть, не у всех такие глаза, как у Аньелетты.
Впрочем, у Тибо, как мы уже говорили, была очень густая черная шевелюра, и, если бы он сделал пробор сбоку и уложил прядь, можно было надеяться, что все останется незамеченным.
Он позавидовал молодым дворянам, которых видел при дворе г-жи де Монтессон: они посыпали свои волосы пудрой, под которой можно скрыть любой цвет.
К несчастью, он не имел права пудрить волосы: действовавшие в то время законы против роскоши запрещали это.
Ловко спрятав в своей шевелюре красный волос, Тибо вновь решил отправиться к прекрасной мельничихе.
Но на этот раз, опасаясь встретить Аньелетту, он поостерегся идти той же дорогой и свернул не влево, а вправо.
Таким образом, он оказался на дороге, ведущей в Ферте-Милон, а затем пошел через поле тропинкой, которая вела прямо в Пислё; а оттуда, спустившись в долину, можно было попасть в Койоль.
Не прошло и пяти минут, как он увидел высокого парня и узнал в нем своего кузена по имени Ландри, служившего старшим подручным у г-жи Поле. Ландри вел двух нагруженных зерном ослов.
Тибо не был знаком с вдовой Поле и надеялся, что Ландри его представит.
Встреча была для него удачей.
Тибо ускорил шаг и догнал Ландри. Услышав за спиной шаги, Ландри обернулся и узнал его.
Башмачник привык видеть приятеля в хорошем настроении и удивился унылому выражению его лица.
Ландри остановился, поджидая Тибо, а ослы пошли дальше.
Тибо заговорил первым:
— Ну, кузен Ландри, что все это означает? Я бросаю все дела, чтобы повидаться с родственником и другом, с которым не встречался больше шести недель, и вдруг такой прием!
— Ах, милый Тибо, что поделаешь! — ответил Ландри. — Я не могу изменить выражение своего лица, но, поверь, в глубине души очень рад тебе.
— В глубине ты, может, и рад, но по твоему лицу этого не скажешь.
— Как понять это?
— Ты говоришь, что рад мне, с таким похоронным видом! Прежде ты был веселым, живым, дорогой Ландри, и напевал в такт стуку своей мельницы; сегодня ты мрачнее кладбищенских крестов. Что, вода не крутит жернова?
— Да нет, Тибо, воды полно; напротив, вода прибывает, и шлюз не простаивает, но, видишь ли, жернов вместо пшеницы дробит мое сердце, и жернов этот вертится так быстро, что растер мое сердце в порошок.
— Что же, тебе так плохо на мельнице у этой Поле?
— Ох, если бы Господь дал мне упасть под мельничное колесо в день, когда я впервые пришел туда!
— Даже так! Ты пугаешь меня, Ландри… Поделись со мною своей бедой, парень.
Ландри тяжело вздохнул.
— Мы с тобой сыновья брата и сестры, — продолжал Тибо. — Что за черт! Если я слишком беден, чтобы одолжить тебе несколько экю, когда у тебя денежные затруднения, то, по крайней мере, могу дать добрый совет в сердечных делах.
— Спасибо, Тибо, но моей беде ни совет, ни деньги не помогут.
— Все же расскажи, что с тобой: когда поделишься горем, становится легче.
— Нет, не уговаривай, все равно ничего не скажу.
Тибо засмеялся.
— Тебе смешно? — удивленно и вместе с тем сердито спросил Ландри. — Тебя забавляет мое горе?
— Я смеюсь не над твоей бедой, Ландри, а над тем, что ты надеешься скрыть от меня причину твоего огорчения, хотя нет ничего проще, чем угадать ее.
— Так угадай.
— Черт возьми, ты влюблен! Это не так уж сложно понять.
— Я влюблен? — воскликнул Ландри. — Кто тебе это наврал?
— Никто не наврал, и это правда.
Ландри вздохнул еще безнадежнее, чем в первый раз.
— Да, это так и есть! — сказал он. — Я влюблен, это правда.
— Ну, наконец-то признался! И в кого же ты влюблен, Ландри? — спросил Тибо, с забившимся сердцем, потому что он увидел в кузене возможного соперника.
— В кого я влюблен?
— Да, я тебя именно об этом спросил.
— Ну, что до этого, кузен Тибо, — ты можешь вырвать сердце у меня из груди, но не заставишь назвать ее имя.
— Ты уже назвал.
— Как! Я сказал тебе это? — закричал Ландри, остолбенело уставившись на башмачника.
— Конечно.
— Да как же это?
— Разве ты не говорил, что лучше бы тебе было упасть под мельничное колесо в день, когда ты нанялся старшим подручным к вдове Поле? Ты несчастлив на мельнице и влюблен; стало быть, ты влюблен в мельничиху, и эта любовь — причина твоих бед.
— Замолчи же, Тибо! Что, если она нас услышит?..
— Хорошо; но как она может услышать нас? Где она может спрятаться — разве что превратиться в невидимку, сделается бабочкой или цветком?
— Все равно, Тибо, молчи!
— Она так сурова, эта мельничиха? Твое отчаяние не вызывает у нее жалости, бедный малый? — продолжал Тибо.
Эти, казалось бы, полные сострадания слова на самом деле скрывали под собой удовлетворение и насмешку.
— Еще как сурова! — ответил Ландри. — Вначале мне казалось, что она не отталкивает мою любовь. Целые дни я пожирал ее взглядом; ее глаза тоже иногда останавливались на мне; посмотрев на меня, она улыбалась… Увы, милый Тибо, я так радовался этим взглядам и улыбкам!.. Боже мой! Почему я не удовольствовался ими?
— Вот в чем дело, — философски заметил Тибо. — Человек ненасытен.
— Увы, да! Я забыл, что она мне не пара, и заговорил. Госпожа Поле страшно рассердилась, назвала меня маленьким оборванцем и большим нахалом и пообещала на следующей неделе выставить за дверь.
— Ox, — сказал Тибо, — а давно ли это было?
— Примерно три недели назад.
— И следующая неделя еще не наступила? — спросил Тибо, и его улегшаяся было тревога снова пробудилась, поскольку он лучше знал женщин, чем его кузен Ландри.
Затем, помолчав немного, Тибо продолжил:
— Ну-ну, ты не так несчастлив, как я думал.
— Не так несчастлив, как ты думал?
— Нет.
— Ах, знал бы ты, что у меня за жизнь! Ни взглядов, ни улыбок! Когда она встречается со мной, она отворачивается, а когда я прихожу к ней с отчетом о делах на мельнице, она слушает меня с таким презрительным видом, что я уже не могу говорить об отрубях, пшенице, ржи, ячмене или овсе, о помоле и высевках и начинаю плакать; тогда она с такой угрозой в голосе говорит мне: «Берегись!», что я убегаю и прячусь за своими решётами.
— Да зачем ты обращаешься со своими чувствами к хозяйке? Сколько вокруг девушек, которые рады будут иметь такого кавалера!
— Так я же не по своей воле полюбил ее!
— Заведи другую подругу, а об этой женщине не думай.
— Я не смогу.
— Но хотя бы попробуй. К тому же, если мельничиха увидит, что твое сердце принадлежит другой, может случиться, что она станет ревновать и бегать за тобой, как ты сейчас бегаешь за ней. Женщины такие странные!
— О, если бы я был в этом уверен, я немедленно попытался бы… Хотя теперь…
И Ландри покачал головой.
— Так что же… теперь?
— …хотя теперь, после того, что произошло, все бесполезно.
— Что же все-таки произошло? — спросил Тибо, которому хотелось узнать все до конца.
— Да так, ничего, — ответил Ландри. — Боюсь говорить об этом.
— Почему?
— Потому что у нас говорят: не буди несчастья, пока оно спит.
Тибо настоял бы на своем, чтобы узнать, о каком несчастье идет речь, но они уже подошли к мельнице, и Ландри, даже если бы начал рассказ, не успел бы его закончить.
Впрочем, Тибо знал уже достаточно: Ландри влюблен в прекрасную мельничиху, но она равнодушна к нему.
Такой соперник не казался ему опасным.
Тибо с гордостью и тайным самодовольством сравнивал тщедушную мальчишескую внешность своего кузена, восемнадцатилетнего парня, со своей наружностью крепкого мужчины пяти футов шести дюймов роста; это вполне естественно навело его на мысль о том, что если у г-жи Поле хороший вкус, то неудача Ландри служит залогом его собственного непременного успеха.
Койольская мельница была расположена в очаровательном месте — в глубине прохладной долины; вода, которая вертит ее колесо, образует затененный ивами пруд; среди ив растут стройные тополя; высокие и карликовые деревья переплетаются между собой, с великолепным ольшаником и огромным орешником с благоухающей листвой. Поворачивая мельничное колесо, вода, пенясь, стекает в маленький ручеек, который, подпрыгивая на камнях, поет свою вечную песню и осыпает алмазными брызгами цветы, кокетливо склоняющиеся над водой, чтобы увидеть свое отражение.
Сама мельница так хорошо укрыта рощей кленов и плакучими ивами, что в сотне шагов от нее можно увидеть только трубу, из которой, подобно колонне из голубого алебастра, поднимается дым.
Пейзаж, хорошо знакомый Тибо, на этот раз привел его в совершенно неописуемый восторг, какого он раньше никогда не испытывал.
До сих пор он смотрел на него другими глазами; теперь же у него появилось эгоистичное чувство собственника, самодовольно оглядывающего приобретенные владения.
Но еще большая радость охватила его, когда он вошел во двор и увидел живую картину.
Голуби с лазурными и пурпурными шейками ворковали на крышах; утки с криком плескались в ручье; куры кудахтали на навозной куче; индюки, надувшись, ходили вокруг индюшек; ухоженные белые и коричневые коровы возвращались с пастбищ с полным выменем молока; здесь разгружали повозку, там распрягали двух прекрасных першеронов, которые с ржанием тянули к кормушкам свои большие головы, освобожденные от сбруи; парень поднимал мешок на чердак; девушка несла хлебные корки и помои огромной свинье, гревшейся на солнце как бы в ожидании, когда ее превратят в солонину, сосиски и кровяную колбасу; все твари ковчега, от ревущего осла до поющего петуха, нестройно смешивали голоса в этом сельском концерте, которым, казалось отбивая такт, управляла мельница.
Тибо был ослеплен красочным зрелищем.
Он уже видел себя хозяином этого богатства и так весело потирал руки, что Ландри, если бы не был так поглощен своей болью, возраставшей по мере приближения к дому, конечно, обратил бы внимание на его необъяснимую радость.
Сидевшая в столовой вдова увидела их, едва они показались в воротах.
Казалось, ей было очень любопытно, что это за незнакомец явился с ее старшим подручным.
Тибо с развязным видом пересек двор, вошел в дом и представился мельничихе, объяснив, что решился прийти к ней, потому что очень хотел повидать Ландри, своего единственного родственника.
Хозяйка приняла его очень любезно.
С улыбкой, которую Тибо счел добрым предзнаменованием, она пригласила гостя провести на мельнице весь день.
Он принес ей подарок: проходя через лес, прихватил несколько дроздов, попавшихся в расставленные на рябинах силки.
Мельничиха тут же велела их ощипать, сказав, что надеется угостить Тибо.
Однако башмачник заметил, что, разговаривая с ним, прекрасная мельничиха все время поглядывает куда-то через его плечо.
Живо обернувшись, он увидел предмет ее внимания — Ландри, распрягавшего ослов.
Заметив, что ее взгляд перехватили, г-жа Поле стала красной, как вишня, но тотчас же пришла в себя.
— Господин Тибо, — сказала она новому знакомому, — с вашей стороны было бы очень милосердно помочь своему кузену: вы такой сильный, а эта работа для него слишком тяжелая.
И ушла в дом.
— Черт! Черт! — произнес Тибо, проследив взглядом за мельничихой и переведя затем глаза на Ландри, — этому шалопаю везет больше, чем он думает, и не придется ли мне, чтобы от него избавиться, прибегнуть к помощи черного волка?
Тем не менее Тибо исполнил просьбу мельничихи.
Он подозревал, что прелестная вдова следит за ним из окна, поэтому приложил к работе всю свою силу и ловкость.
А затем они собрались в комнате, где служанка накрывала на стол.
Когда все было готово, вдова села на свое место и пригласила Тибо сесть справа от нее.
Она была к нему внимательна и предупредительна, и вскоре Тибо, забеспокоившийся было, снова развеселился, понадеявшись на успех.
Мельничиха оказала честь подарку Тибо и сама приготовила дроздов с можжевеловыми ягодами: в таком виде они стали очень лакомым блюдом.
Между тем, продолжая смеяться над шутками Тибо, вдова все время украдкой посматривала на Ландри и заметила, что бедняга не прикоснулся к еде, положенной на его тарелку.
Еще она заметила, что по щекам у него катились крупные слезы, разбавляя можжевеловый соус, которым были политы нетронутые дрозды.
Это безмолвное страдание тронуло ее.
Взгляд мельничихи сделался почти нежным, и она выразительно покачала головой, как будто хотела сказать: «Ешьте, Ландри, прошу вас».
В этой короткой пантомиме вместился целый мир любовных обещаний.
Ландри явно понял прекрасную мельничиху и так поспешил исполнить безмолвное приказание хозяйки, что проглотил свою птичку целиком, едва не задохнувшись при этом.
Все это не ускользнуло от внимания Тибо.
«Черт вам в селезенку! — пробормотал он про себя (это ругательство Тибо слышал от барона Жана и считал, что теперь, войдя в дружбу с дьяволом, должен говорить, как знатный дворянин). — Черт вам в селезенку! Она что, и впрямь влюблена в мальчишку? Такое совсем не входит в мои планы, и к тому же она проявила бы дурной вкус. Нет, нет, моя прекрасная мельничиха, вам нужен парень, который легко управится с делами мельницы, и этим парнем буду я, или черный волк ни на что не годится».
Затем, увидев, что хозяйка снова, как прежде, умильно смотрит на своего подручного и улыбается, Тибо продолжал размышлять:
«Ну, я вижу, придется прибегнуть к сильнодействующим средствам; нельзя ее упустить: во всей округе это единственная подходящая невеста для меня. Да, но что делать с кузеном Ландри? Его любовь мешает моим планам, но не могу же я из-за такого пустяка отправить его вслед за беднягой Маркоттом в лучший мир. Ах, черт возьми, зачем же мне самому ломать голову в поисках решения! Это не мое дело — это дело черного волка».
Затем он позвал, совсем тихонько:
— Черный волк, друг мой, устрой как-нибудь так, чтобы я избавился от кузена Ландри, но с ним при этом не приключилось бы никакого несчастья.
Не успел он договорить свою просьбу, как увидел, что с горы спускается небольшая кучка — четверо или пятеро — людей в военных мундирах и эти люди направляются к мельнице. Ландри тоже их увидел, потому что громко закричал, вскочил, собираясь бежать, но снова упал на стул, как будто силы покинули его.
VIII ПОЖЕЛАНИЯ ТИБО
Заметив, какое впечатление произвел на Ландри вид подходивших к мельнице военных, вдова Поле испугалась не меньше своего подручного.
— О Господи! — сказала она. — Что случилось, бедный мой Ландри?
— Да, в чем дело? — в свою очередь поинтересовался Тибо.
Только у него, когда он задавал этот вопрос, голос слегка дрожал.
— Дело в том, — ответил Ландри, — что в прошлый четверг я встретил в гостинице «Дельфин» вербовщика и в припадке отчаяния поступил на военную службу.
— В припадке отчаяния! — воскликнула мельничиха. — Из-за чего же вы отчаялись?
— Я был в отчаянии, — сделав над собой усилие, сказал Ландри, — потому что любил вас.
— И из-за любви ко мне вы пошли в солдаты, несчастный?
— Разве вы не сказали, что прогоните меня с мельницы?
— Чтобы я прогнала вас?! — спросила мельничиха тоном, который никого не мог обмануть.
— Боже мой! Так вы не собирались меня выгонять?
— Бедный мальчик! — сказала мельничиха, улыбнувшись и пожав плечами.
В другое время Ландри был бы вне себя от радости, но сейчас от этих слов и улыбки его боль только возросла.
— Что ж, — сказал он, — но тогда я, может быть, успею спрятаться.
— Спрятаться! — повторил Тибо. — Уверяю тебя, это совершенно бесполезно.
— Почему бы и нет? — возразила мельничиха. — А я все-таки попытаюсь спрятать его. Пойдем, бедненький Ландри.
И она увела молодого человека, выражая ему по дороге самое горячее сочувствие.
Тибо проводил их глазами.
— Для тебя все складывается плохо, дружок Тибо, — сказал он. — К счастью, как бы хорошо она его ни спрятала, у них тонкий нюх и они найдут его.
Тибо и не подозревал, что произнеся эти слова, он высказал новое желание.
Похоже, вдова спрятала Ландри не слишком далеко: она вернулась через несколько секунд.
Возможно, этот ближний тайник был самым надежным.
Через минуту после того, как вернулась запыхавшаяся вдова Поле, в дверях появился сержант с одним из своих спутников-вербовщиков.
Двое остались снаружи — видимо, на тот случай, если Ландри попытается убежать.
Сержант и вербовщик вошли с видом людей, сознающих, что имеют на это право.
Окинув комнату вопросительным взглядом, сержант поставил правую ногу в третью позицию и поднес руку к шляпе.
Мельничиха не стала дожидаться, пока он к ней обратится: с самой чарующей улыбкой она предложила ему подкрепиться.
От такого предложения вербовщики никогда не отказываются.
Пока они занимались дегустацией вина, мельничиха, сочтя момент подходящим, поинтересовалась, что привело их на койольскую мельницу.
Сержант ответил, что разыскивает молодого мельничного подручного, который пил с ним за здоровье его величества, подписал контракт, а потом исчез и больше не появлялся.
На вопрос об имени и адресе этот юноша ответил, что его зовут Ландри, а живет он у г-жи Поле, вдовы, мельничихи в Койоле.
На основании этого они и пришли за беглецом к г-же вдове Поле, на койольскую мельницу.
Мельничиха была убеждена в том, что солгать не грех, если это ложь во спасение; она принялась уверять, что не знает Ландри, что на койольской мельнице никогда не было человека с таким именем.
Сержант ответил, что у мельничихи самые красивые в мире глаза и очаровательный рот, но для него это не основание верить ей на слово.
Поэтому он объявил прекрасной вдове, что намеревается обыскать ее мельницу.
Обыск начался.
Сержант вернулся через пять минут и попросил у хозяйки ключ от ее комнаты.
Мельничиха была крайне оскорблена такой просьбой.
Но сержант так настаивал, что пришлось дать ему ключ.
Еще через пять минут сержант привел Ландри, держа его за воротник куртки.
Увидев это, вдова страшно побледнела.
Что касается Тибо, то у него сердце выпрыгивало из груди, потому что он догадывался: без вмешательства черного волка сержанту не пришло бы в голову искать Ландри там, где тот скрывался.
— Ну-ну, мой мальчик! — насмешливо воскликнул сержант. — Значит, нам больше нравится служить красоте, чем королю? Это можно понять, но, раз уж тебе посчастливилось родиться во владениях его величества и ты пил за его здоровье, надо чем-то отплатить ему. Вы пойдете с нами, красавчик мой, а когда прослужите несколько лет солдатом французской гвардии, сможете вернуться под прежние знамена. Ну, в путь!
— Но, — сказала сержанту мельничиха, — Ландри еще не исполнилось двадцати лет, его нельзя забирать до этого возраста.
— Это правда, — подтвердил Ландри, — мне еще нет двадцати.
— А когда исполнится?
— Только завтра.
— Хорошо! — согласился сержант. — В таком случае мы уложим вас на ночь на солому, как незрелую грушу, а завтра вы проснетесь спелым.
Ландри заплакал.
Вдова просила, умоляла, заклинала, позволила вербовщикам целовать себя, кротко стерпела грубые насмешки над своим горем и дошла даже до того, что предложила выкупить Ландри за сто экю.
Все было напрасно.
Бедняге связали руки, один из вербовщиков взялся за конец веревки, и четверка отправилась в дорогу; но прежде Ландри успел заверить свою хозяйку в том, что будет вечно любить ее, где бы он ни оказался, и, если ему суждено умереть, умрет с ее именем на устах.
Прекрасная вдова, со своей стороны, перед лицом такой большой беды отбросила ложный стыд и нежно прижала Ландри к своей груди.
Когда маленькое войско скрылось за ивами, мельничиху охватила такая жестокая боль, что она упала в обморок и пришлось уложить ее в постель.
Тибо трогательно о ней заботился.
Сильная привязанность, которую вдова проявила к кузену Ландри, несколько испугала башмачника.
Но он гордился тем, что в корне пресек зло, и продолжал надеяться на успех.
Как только вдова пришла в себя, она стала звать Ландри.
Тибо изобразил глубокое сожаление.
Мельничиха разрыдалась:
— Бедное дитя! — восклицала она, заливаясь горькими слезами. — Что с ним станет, таким нежным и слабым? Чтобы убить его, хватит одной только тяжести ружья и ранца.
Затем она повернулась к гостю:
— Ах, господин Тибо, — сказала она, — это большое горе для меня; вы, наверное, поняли, что я любила его. Он был кроткий, добрый, ни одного недостатка я у него не находила: он не игрок, не пьяница; он никогда бы не стал спорить со мной, никогда не обидел бы меня; как это было приятно после двух ужасных лет, которые я прожила с покойным господином Поле. Ах, господин Тибо, господин Тибо! Как тяжело для бедной, несчастной женщины видеть, что рушатся все ее надежды на спокойное будущее!
Тибо подумал, что ему представился случай объясниться.
Видя плачущую женщину, он всегда ошибочно полагал, что она плачет только для того, чтобы ее утешали.
Тем не менее он решил идти к цели окольным путем.
— Конечно, я понимаю вашу боль, — ответил он. — Более того, я разделяю ее; вы не можете усомниться в моей привязанности к кузену. Но надо смириться, и, не отрицая достоинств Ландри, я скажу вам: «Ничего не поделаешь, прекрасная мельничиха, надо найти ему достойную замену».
— Достойную замену! — воскликнула вдова. — Это невозможно. Где я найду такого милого и разумного мальчика? Мне так нравилось его свежее румяное лицо и он был такой спокойный, такой уравновешенный! Он день и ночь работал, и при всем этом достаточно было одного взгляда, чтобы заставить его подчиниться. Нет, нет, господин Тибо, со всей искренностью уверяю вас, воспоминание о нем лишает меня желания искать другого, и я вижу — придется мне смириться и на всю жизнь остаться вдовой.
— Глупости! — сказал Тибо. — Ландри был слишком молод.
— Ну и что? Разве это недостаток?
— Кто знает, сохранил бы он в дальнейшем свои приятные свойства? Послушайтесь моего совета, мельничиха, перестаньте горевать; найдите, как я вам сказал, кого-нибудь, кто заставит вас забыть о нем. Вам нужен совсем другой человек, не мальчик, а зрелый мужчина, наделенный всеми достоинствами, о которых вы вздыхаете, утратив Ландри, но при этом достаточно зрелый для того, чтобы вам не приходилось опасаться, что в один прекрасный день, когда ваши несбыточные мечты рассеются, вы окажетесь во власти распутника и грубияна.
Мельничиха покачала головой.
Но Тибо продолжал:
— Словом, вам нужен человек, который мог бы внушить вам уважение и вместе с тем сделал бы мельницу доходной. Черт возьми! Только слово скажите, милая хозяйка, и вы немедленно получите кое-что получше того, с чем только что расстались.
— И где я найду такое чудо? — спросила вдова, поднявшись и с вызовом глядя на башмачника.
А тот, неверно истолковав тон, которым мельничиха произнесла последние слова, решил, что случай превосходный, надо воспользоваться им и сообщить о своих намерениях.
— Так вот, красотка Поле, — ответил он. — Говоря, что вам незачем далеко искать такого человека, какой вам нужен, признаюсь, я имел в виду самого себя. Я был бы очень счастлив и очень горд стать вашим супругом. Со мной вам нечего опасаться, — продолжал он (между тем мельничиха все более грозно смотрела на него), что вам будут противоречить: я кроток как ягненок, у меня лишь одно желание и один закон — желание нравиться вам и закон послушания. Что касается вашего благосостояния, у меня есть способы увеличить его: о них я расскажу вам попозже…
Тибо не удалось закончить свою речь
— Довольно! — закричала мельничиха, еще сильнее разъярившись, оттого что долго сдерживалась. — Довольно! Я считала вас его другом, а вы осмелились посягать на его место в моем сердце! Вы стараетесь заставить меня нарушить верность вашему кузену! Вон отсюда, негодяй! Вон отсюда! Если бы я поддалась своему гневу и возмущению, я позвала бы сюда четверых мужчин и велела бы бросить тебя под мельничное колесо!
Тибо хотел было возразить.
Обычно ему хватало доводов, но сейчас он не находил ни единого слова в свое оправдание.
Правда, мельничиха не дала ему на это времени.
Рядом с ней стоял совсем новый красивый кувшин. Схватив его за ручку, она запустила им в голову Тибо.
К счастью для себя, Тибо наклонил голову влево, и кувшин, не задев его, разбился о камин.
Мельничиха с прежней яростью бросила в ту же цель табуретку.
На этот раз Тибо отклонился вправо, и табуретка выбила три или четыре стекла в окне.
Стекла посыпались с грохотом, и с мельницы сбежались работники.
Они застали свою хозяйку швыряющей изо всех сил в Тибо поочередно бутылки, кружки, солонки, тарелки — словом, все, что попадалось под руку.
Хорошо еще, что от бешенства красотка Поле не могла говорить.
Если бы она смогла, она закричала бы: «Убейте его! Уничтожьте этого подлого негодяя!»
Видя, что к мельничихе пришло подкрепление, Тибо хотел бежать и устремился к двери, которую вербовщики, уводя Ландри, оставили открытой.
Но когда он выскочил, почтенная свинья, мирно дремавшая на солнышке, пока ее не разбудил этот ужасный шум, спросонок решив, что на нее покушаются, кинулась прятаться в хлеву и угодила под ноги Тибо.
Тибо потерял равновесие.
Пробежав еще десять шагов, он свалился в грязь и в навоз.
— Иди к черту, проклятая тварь! — завопил он, больно ударившись при падении и разозлившись, оттого что его новая одежда оказалась вся в грязи.
Тибо не успел договорить, как свинья впала в неистовство и принялась носиться по двору, ломая, разбивая и опрокидывая все препятствия, оказавшиеся на ее пути.
Прибежавшие на крик хозяйки мельники и батрачки решили, что во всем виновата свинья, и пустились за ней в погоню.
Но напрасно они старались с ней сладить.
Свинья опрокинула парней и девушек, как раньше — Тибо, пробила перегородку, отделявшую мельницу от шлюза, с такой легкостью, как будто она была бумажной, бросилась под мельничное колесо, и ее поглотил водоворот…
Тем временем мельничиха вновь обрела дар речи.
— Хватайте Тибо! — закричала она, потому что слышала обращенное к свинье проклятие и была поражена скоростью, с которой исполнилось пожелание башмачника.
— Хватайте Тибо! Бейте его! Это чародей! Это колдун! Это оборотень!
Последнее обвинение было самым страшным из всех, какие могут предъявить человеку в наших лесных местах.
Тибо, у которого совесть была не совсем чиста, воспользовался недолгим замешательством слуг, вызванным мельничихиной руганью.
Он пронесся мимо девушек и парней и, пока один искал вилы, другой — заступ, выбежал за ворота мельницы и с легкостью, лишь подтвердившей подозрения прекрасной мельничихи, стал быстро подниматься на отвесную гору, что всегда считалась неприступной, особенно с той стороны, с которой взбирался на нее Тибо.
— Ну что? — кричала мельничиха на своих работников. — Вы уже устали? Вы его отпустили? Не гонитесь за ним? Не нападаете на него?
Но они отвечали, качая головой:
— Э, хозяйка, что же мы можем сделать с оборотнем?
IX ПРЕДВОДИТЕЛЬ ВОЛКОВ
Спасаясь от угроз мельничихи и от оружия ее слуг, Тибо инстинктивно устремился к опушке леса.
Он собирался, как только покажется враг, скрыться в лесу, куда в такой час никто не решится последовать за ним, боясь засады.
Впрочем, Тибо был наделен полученной от черного волка дьявольской властью и никаких врагов не боялся.
Ему достаточно было послать их туда, куда он отправил свинью вдовы Поле.
И он был уверен, что избавится от них.
Но сердце у него сжималось при воспоминании о Маркотте, и он говорил себе, что никогда больше у него не хватит смелости отправить человека в преисподнюю, как он поступил со свиньей.
Размышляя о своей страшной власти и все время оглядываясь, чтобы узнать, не придется ли воспользоваться ею, Тибо вышел к окраине Пислё, когда уже стемнело.
Наступила мрачная и грозная осенняя ночь, ветер с жалобным воем носился по лесу, срывая с деревьев пожелтевшие листья.
Время от времени уханье сов перекрывало эти мрачные завывания; казалось, это окликали друг друга заблудившиеся путники.
Все эти звуки были привычными для слуха Тибо и не производили на него особого впечатления.
Впрочем, оказавшись на опушке леса, он предусмотрительно вырезал каштановую палку в четыре фута длиной: умея обращаться с таким оружием, он мог один справиться с четырьмя противниками.
Он смело вошел в лес около того места, которое до сих пор еще называют Волчьим Вереском.
Несколько минут он пробирался вдоль темной и узкой просеки, проклиная причуды женщин, без всякого на то основания предпочитающих робкого и тщедушного мальчика сильному и смелому мужчине. Внезапно он услышал, что позади него, шагах в двадцати, зашуршали листья.
Он обернулся.
Прежде всего он увидел во мраке два глаза, светящиеся, словно раскаленные угли.
Затем, приглядываясь и напрягая зрение, чтобы видеть в темноте, он различил большого волка, следовавшего за ним по пятам.
Это был не тот волк, что приходил в его хижину.
Тот волк был черным, а этот — рыжий.
Их нельзя было спутать ни по цвету шерсти, ни по размеру.
У Тибо не было оснований считать, что все волки относятся к нему так же благожелательно, как тот первый, с которым он имел дело.
Поэтому он покрепче перехватил обеими руками палку и сделал несколько мулине, проверяя, не разучился ли обращаться с ней.
Но, к большому его удивлению, волк бежал следом, не обнаруживая никаких враждебных намерений, останавливаясь, когда останавливался Тибо, и снова трогаясь с места, если тот продолжал путь; только время от времени волк подвывал, как будто звал подкрепление.
Эти завывания немного беспокоили Тибо.
Внезапно ночной путник увидел перед собой еще два огня, вспыхнувшие во все более сгущающейся мгле.
Подняв палку, готовый ударить, он пошел прямо на эти неподвижные огни, но споткнулся о лежавшее поперек дороги тело.
Это был второй волк.
Не думая о том, что опасно первым нападать на этих животных, башмачних сильно ударил волка своей дубиной.
Удар пришелся в голову.
Волк жалобно взвыл.
Затем, встряхнувшись, словно прибитая хозяином собака, он пошел впереди башмачника.
Тибо оглянулся посмотреть, куда девался первый волк.
Первый продолжал идти не приближаясь и не отставая.
Но, снова взглянув вперед, Тибо обнаружил справа от себя третьего волка.
Непроизвольно он повернул голову влево.
С этой стороны его сопровождал четвертый волк.
Он не прошел и четверти льё, как его уже окружили кольцом двенадцать волков.
Положение становилось опасным.
Тибо понял, насколько это серьезно.
Сначала он попробовал петь, надеясь, что звук человеческого голоса прогонит зверей.
Напрасно.
Ни один из них не покинул своего места в круге, как будто очерченном циркулем.
Тогда он решил забраться на первое же дерево с густой кроной и, сидя на ветке, ждать рассвета.
Но, хорошенько поразмыслив, он решил идти к дому — до него было уже не так далеко, — поскольку волки, хотя теперь их было много, проявляли к нему не больше враждебности, чем первый.
Если они переменят свое поведение по отношению к нему, забраться на дерево он всегда успеет.
Надо сказать, Тибо был так взволнован, что, оказавшись перед своей дверью, он не увидел ее.
Наконец он узнал свою хижину.
Но, к большому удивлению Тибо, когда он подходил к ней, волки, которые шли впереди, почтительно расступились, пропустив его, а затем уселись в ряд.
Тибо не стал терять времени на то, чтобы поблагодарить их за любезность.
Он бросился в дом и поспешил захлопнуть за собой дверь.
Заперев дверь на все задвижки, он придвинул к ней хлебный ларь, чтобы укрепить ее на случай осады.
Затем он упал на стул — и только теперь смог вздохнуть полной грудью.
Немного отдышавшись, он подошел к окну, выходившему в лес, и выглянул.
Цепь горящих глаз указала ему на то, что волки не только не ушли, но выстроились в ряд перед его жилищем.
Такое соседство испугало бы кого угодно; но Тибо всего несколько минут назад шел в сопровождении этой грозной компании, и его успокаивала мысль о том, что он отделен от своих мрачных спутников стеной, пусть даже тонкой.
Тибо зажег маленькую железную лампу, поставил ее на стол.
Собрав в кучу разбросанные в очаге головешки, он навалил сверху стружек и разжег большой огонь, надеясь, что его отблески заставят волков уйти.
Но это были, несомненно, особенные волки: они не боялись огня и не сдвинулись с выбранных мест.
С первыми лучами солнца Тибо, который так и не смог уснуть от страха, увидел их и пересчитал.
Как и вчера, они, казалось, чего-то ждали — одни лежа, другие сидя; кто дремал, кто, словно часовой, ходил взад и вперед.
Наконец когда последняя звезда растаяла в потоке алого света, разлившегося на востоке, волки разом поднялись и, издав унылый вой, каким ночные животные встречают день, разбежались в разные стороны.
Когда волки исчезли, Тибо принялся размышлять о своей вчерашней неудаче.
Почему мельничиха не захотела предпочесть его кузену Ландри?
Не перестал ли он быть красавчиком Тибо, не произошла ли в нем какая-нибудь неблагоприятная перемена?
У Тибо был только один способ это узнать: посмотреть на себя в зеркало.
Он взял в руки висевший над камином осколок зеркала и, повернув его к свету, кокетливо улыбнулся своему отражению.
Но едва он увидел свое отраженное в зеркале лицо, как у него вырвался крик, в котором смешались изумление и страх.
Он был все тем же красавчиком Тибо.
Но там, где из-за неосторожно вырвавшегося у него пожелания появился лишь один красный волос, теперь оказалась целая прядь, отблески которой смело могли поспорить с самым ярким пламенем его очага.
На лбу у Тибо выступил холодный пот.
Зная, что совершенно бесполезно пытаться вырвать или отрезать проклятые волосы, он решил хотя бы не увеличивать их число и в будущем выражать как можно меньше желаний.
Надо было прогнать все честолюбивые мысли, роковым образом воздействовавшие на него, и вернуться к работе.
Тибо попробовал это сделать.
Но душа у него не лежала к делу.
Он попытался воскресить в памяти ноэли, что распевал в доброе старое время, когда быстро вырезал сабо из березовых и буковых чурок, но напрасно: работа не шла, и инструмент часами неподвижно лежал в его руке.
Размышляя, он спрашивал себя, стоит ли выбиваться из сил только для того, чтобы продолжать влачить жалкое существование, если, разумно управляя своими желаниями, он может добиться чего угодно.
Готовить себе завтрак уже не было для него развлечением, как прежде: он с отвращением съедал, почувствовав голод, кусок черного хлеба, и зависть, прежде ощущавшаяся им лишь как смутная тяга к благополучию, понемногу превращалась в его сердце в глухую ярость, в злобную ненависть к ближнему.
Каким бы долгим ни показался Тибо этот день, он прошел как и все другие.
В сумерках Тибо отошел от верстака, уселся перед дверью на скамью, которую когда-то сколотил своими руками, и опять погрузился в мрачные раздумья.
Едва стало темнеть, из кустов вышел один волк и улегся, как вчера, неподалеку от хижины.
За ним, тоже как вчера, последовал второй, потом третий; наконец вся стая расположилась на тех же местах, что и прошлой ночью.
Тибо ушел, когда появился третий волк.
Он забаррикадировался так же тщательно, как вчера.
Но он был печальнее, чем вчера, и совсем пал духом.
И не было у него сил бодрствовать.
Он зажег огонь; устроив так, чтобы камин горел всю ночь, улегся в постель и заснул.
Когда Тибо проснулся, было совсем светло.
Солнце поднялось на две трети.
Его лучи трепетали на желтеющих листьях, окрашивая их в пурпур и золото.
Тибо подбежал к окну: волков не было.
Но на влажной от росы траве можно было сосчитать отпечатки тел, лежавших на ней ночью.
Вечером волки опять собрались у хижины башмачника. Тибо уже стал привыкать к их присутствию.
Он предположил, что, связавшись с черным волком, снискал себе дружбу нескольких представителей той же породы, и решил раз и навсегда выяснить, чего можно ждать от них.
Сунув за пояс только что заточенный садовый нож, с рогатиной в руке, башмачник распахнул дверь и решительно направился к стае.
К большому его удивлению, волки не бросились на него, а завиляли хвостами, как собаки, увидевшие хозяина.
Они так явно проявляли дружелюбие, что Тибо осмелился погладить одного волка по спине — и зверь не только позволил ему это, но и не скрывал своего удовольствия.
— Ну что ж, — сказал Тибо, обладавший живым и причудливым воображением, — если эти твари окажутся такими же послушными, как и любезными, у меня будет стая, какая и не снилась сеньору Жану, и я могу быть уверен, что заполучу любую дичь, какую мне только захочется.
Не успел он договорить, как четверка самых сильных и проворных волков отделилась от стаи и углубилась в лес.
Через несколько минут из-под деревьев послышался вой, а спустя полчаса один из волков вернулся; в зубах он тащил чудесную косулю, оставлявшую на траве длинный кровавый след.
Волк положил косулю у ног Тибо, который, вне себя от радости, что его желания не только исполняются, но предупреждаются, ловко разделал тушу и дал каждому его долю, оставив себе лишь часть спины и оба окорока.
Затем повелительным жестом, показывавшим, что лишь теперь он вошел в роль, Тибо отпустил волков до завтра.
Назавтра он еще до рассвета отправился в Виллер-Котре и продал окорока за два двойных экю трактирщику, хозяину «Золотого шара».
На следующий день Тибо отнес тому же трактирщику половину кабана и стал одним из его постоянных поставщиков.
Он пристрастился к этому промыслу, целые дни проводил в городе, шатаясь по кабакам, и совсем перестал делать сабо.
Кое-кто пробовал подшучивать над красной прядью, которая, как Тибо ни старался ее скрыть, всегда умудрялась приподнять лежавшие над ней волосы и выбиться наружу, но он решительно заявил, что не потерпит никаких насмешек над своим недостатком.
Между тем герцог Орлеанский и г-жа де Монтессон, к несчастью, решили провести несколько дней в Виллер-Котре.
Это подхлестнуло безумное честолюбие Тибо.
Все прекрасные дамы, все молодые сеньоры из соседних замков — Монбретоны, Монтескью, Курвали — съехались в Виллер-Котре.
Дамы были в самых богатых платьях, молодые сеньоры — в самых изысканных костюмах.
Рог сеньора Жана раздавался в лесу громче обычного.
Подобно чудесным видениям, проносились на великолепных английских лошадях стройные амазонки и стремительные всадники в роскошной охотничьей одежде — красной, обшитой золотым позументом.
Казалось, между высокими темными деревьями сверкают языки пламени.
Вечером картина менялась: все это высокое общество собиралось для пиршеств и балов.
Но между балами и пирами они катались в красивых раззолоченных колясках, украшенных разноцветными гербами.
Тибо всегда был в первом ряду глазевших.
Он пожирал взглядом облака атласа и кружев, которые, приподнимаясь, позволяли увидеть тонкую щиколотку, обтянутую шелковым чулком, маленькую туфельку на красном каблучке.
Все это проносилось перед изумленной толпой, оставляя за собой облака пудры а-ла-марешаль и нежные ароматы.
Тибо спрашивал себя: почему он не один из этих молодых сеньоров в расшитой одежде, почему у него нет любовницы среди этих шуршащих шелками прекрасных дам?
И тогда Аньелетта представлялась ему такой, какой была в действительности, — жалкой маленькой крестьянкой, и вдова Поле казалась той, кем была, — простой мельничихой.
Самые роковые размышления приходили в его голову в те часы, когда он возвращался домой через лес в сопровождении волчьей стаи, которая, стоило ночи наступить, а ему войти в лес, следовала за ним ни на шаг не отставая, словно телохранители короля.
Среди подобных искушений Тибо, уже вступивший на путь зла, не мог остановиться и должен был отбросить то, что еще привязывало его к честной жизни, — воспоминания о ней.
Что ему те несколько экю, который давал хозяин «Золотого шара» за дичь, добытую его друзьями — волками!
Деньги, собранные им за месяцы и даже за годы, не могли бы дать ему возможности осуществить самое скромное из бушевавших в его душе желаний.
Я не посмею утверждать, что Тибо, пожелавший для начала окорок оленя сеньора Жана, затем — сердце Аньелетты, затем — мельницу вдовы Поле, удовлетворился бы теперь замком Уаньи или Лонпон, — так сильно возбуждали его честолюбивое воображение все эти маленькие ножки и эти стройные округлые икры, так опьяняли его тонкие ароматы, исходившие от шелковых и бархатных платьев.
В один прекрасный день он сказал себе, что глупо продолжать жить в бедности, обладая такой властью, какая дана ему.
С этой минуты он решил пользоваться ею для осуществления самых необузданных желаний, какие у него появятся, пусть даже его волосы станут когда-нибудь похожи на огненную корону, пылающую по ночам над высокой трубой зеркальной мануфактуры Сен-Гобена.
X БАЛЬИ МАГЛУАР
В таком настроении, полный решимости, но еще не зная, на чем остановиться, Тибо провел последние дни старого года и вступил в новый.
Правда, предвидя неминуемые расходы, которые влечет за собой радостный новогодний праздник, Тибо, по мере того как приближался страшивший его переход из одного года в другой, требовал от своих поставщиков удвоенного количества дичи, за которую, естественно, получал вдвое больше денег от хозяина «Золотого шара».
Таким образом, материально Тибо вступал в новый год в лучших, чем когда-либо прежде, условиях, если забыть о красной пряди, размер которой внушал ему беспокойство.
Заметьте, мы говорим лишь о материальном благополучии, но не о духовном; если тело было, казалось, в неплохом состоянии, то душе был причинен страшный ущерб.
Но тело было тепло укрыто, и в кармане куртки весело звенел десяток экю.
Хорошо одетый и сопровождаемый серебряным звоном, Тибо уже был похож не на башмачника, а скорее на богатого арендатора или даже на солидного горожанина, который если и работает, то лишь для собственного удовольствия.
Вот таким Тибо однажды отправился на деревенский праздник.
Это была рыбная ловля в великолепных прудах Берваля и Пудрона.
Ловля рыбы в прудах — серьезное дело для хозяина или арендатора, не говоря уже о том, что это большое удовольствие для приглашенных.
Поэтому о начале ее объявляют за месяц и ради нее люди проделывают путь в десять льё.
Пусть те из читателей, кто не знаком с нравами и обычаями нашей провинции, не представляют себе при словах «рыбная ловля» удочку с насаженной на нее личинкой, червем или душистым хлебом, либо глубинную снасть — сеть или вершу; нет, иногда опустошают пруд длиной в три четверти льё или в целое льё, отлавливая всю рыбу, от самой большой щуки до самой мелкой уклейки.
Вот как это происходит.
Вероятно, среди наших читателей нет таких, кто никогда не видел пруда.
У любого пруда есть два отверстия: то, в которое входит вода, и то, через которое она вытекает.
Вход, через который вода наполняет пруд, названия не имеет, а выход называют затвором. Именно там происходит рыбная ловля.
Вода, вытекающая через затвор, попадает в большой водоем, откуда идет сквозь прочную сеть. Вода уходит, а рыба остается.
Известно, сколько дней требуется для того, чтобы опустошить пруд.
Зевак и любителей приглашают на второй, третий или четвертый день — смотря по тому, сколько воды надо вылить, прежде чем наступит развязка.
Развязка — это появление рыбы в сточном отверстии.
Начало рыбной ловли у пруда собирает — соответственно размерам и богатству этого пруда — не менее внушительную и по-своему не менее элегантную толпу, чем скачки на Марсовом поле или в Шантийи, когда состязаются знаменитые лошади и жокеи.
Только здесь на представление не смотрят из ложи или из кареты.
Нет, каждый приезжает в чем хочет или может — в одноколке, шарабане, фаэтоне, двухколесной тележке, верхом на лошади или на осле; затем, прибыв на место, каждый устраивается — конечно, учитывая почтение к властям, развитое даже у самых непросвещенных народов, — в соответствии с временем прибытия, силой локтей и более или менее выраженным движением бедер.
Прочно закрепленная решетка защищает зрителей от угрозы упасть в воду.
По цвету и запаху воды определяют, когда появится рыба.
У каждого зрелища есть свои неудобства. Чем роскошнее и многолюднее собрание в Опере, тем больше вдыхаешь углекислого газа; чем ближе волнующая минута во время рыбной ловли, тем больше вдыхаешь азота.
Сначала, как только затвор открывают, вода течет чистая, прозрачная, слегка зеленоватая, как в ручье.
Это появился верхний слой, увлекаемый своим весом.
Затем вода понемногу утрачивает прозрачность и окрашивается в серый цвет.
Это вытекает второй слой. В нем, по мере того как цвет сгущается, время от времени появляются серебристые проблески.
Мелкие рыбки вынужденно становятся разведчиками: маленький размер не дает им возможности сопротивляться течению.
Их даже не пытаются подобрать, им позволяют проделать в поисках лужиц, остающихся на дне водоема, те самые упражнения, которые у бродячих акробатов получили образное название прыжка «рыбкой».
Затем идет черная вода.
В этом действии зрелища внезапно все меняется.
Рыба инстинктивно, в меру своих сил, пытается сопротивляться непривычному течению, увлекающему ее; ей неоткуда узнать, что течение опасно, она угадывает это сама и старается, как может, идти против течения.
Щука плывет рядом с карпом, которого вчера еще преследовала, не давая ему слишком разжиреть; окунь двигается рядом с линем, даже не думая вцепиться зубами в лакомую плоть.
Так иногда арабы, выкопав яму для зверей, находят вместе серну и шакала, антилопу и гиену, и гиена с шакалом так же кротки и так же пугливы, как серна и антилопа.
Наконец, силы борющихся иссякают.
Разведчики, о которых мы только что говорили, встречаются все чаще, появляется рыба внушительного размера; доказательством того, что ею не пренебрегают, служит приход сборщиков.
Сборщики одеты в простые полотняные штаны и рубашки.
Штаны у них закатаны до бедер, рукава — до плеч.
Сборщики сваливают рыбу в корзины.
Ту, которую позже продадут живой или сохранят для нового заселения пруда, переносят в другой водоем.
Приговоренную к смерти просто выбрасывают на траву и продают в тот же день.
Чем больше прибывает рыбы, тем громче и радостнее кричат зрители.
Они совсем не похожи на посетителей наших театров.
Эти зрители приходят не для того, чтобы скрывать свои чувства, и не считают хорошим тоном изображать безразличие.
Нет, они приходят развлекаться и встречают шумными, радостными, искренними аплодисментами каждого упитанного линя, каждого жирного карпа, каждую большую щуку.
Так же как на параде, когда отряд следует за отрядом в соответствии со своим, если так можно выразиться, весом, впереди — легкие стрелки, за ними — внушительные драгуны, в конце — тяжелые кирасиры и нагруженные артиллеристы, — точно так же следуют друг за другом и различные виды рыб.
Впереди идут самые маленькие и слабые.
Самые большие или самые сильные — последними.
Наконец в какой-то момент вода начинает иссякать.
Отверстие буквально забито теми, что оставались в резерве — то есть наиболее важными особами пруда.
Сборщики сражаются с настоящими чудовищами.
Это развязка.
Это час аплодисментов и криков «браво!».
Спектакль окончен; теперь можно увидеть актеров.
Актеры изнемогают на траве.
Некоторые приходят в себя в ручье.
Вы ищете угрей; вы спрашиваете, где же они.
Тогда вам показывают трех или четырех угрей толщиной с большой палец и длиной в половину руки.
Благодаря своему строению, угри — по крайней мере на время — избежали общей участи: они спрятались в тине.
Именно по этой причине вы встречаете на берегах пруда вооруженных людей, именно поэтому время от времени раздаются выстрелы.
Если вы спросите, зачем стреляют, вам ответят: чтобы заставить угрей выйти из тины.
Теперь поговорим о том, почему угри вылезают из тины, когда раздаются выстрелы. Почему они ползут к ручьям, текущим по дну пруда? Зачем, наконец, они, раз уж сидят в безопасной тине, — как многие знакомые нам люди, у которых хватает здравого смысла там и оставаться, — вместо того чтобы переждать беду, направляются к ручью, который увлекает их в водоем, то есть в общую могилу?
Теперь, когда этот вопрос поставлен в прямой связи с рыбой, Коллеж де Франс сумеет легко на него ответить.
Итак, я спрашиваю ученых: не являются ли ружейные выстрелы предрассудком и не происходит ли просто-напросто то, что мы опишем ниже?
Грязь, в которой прячется угорь, вначале жидкая, постепенно высыхает, как отжатая губка, и становится непригодной для жизни; угрю в конце концов приходится вернуться в свою стихию — в воду.
Оказавшись в воде, он гибнет.
Ловят угрей только на пятый или шестой день.
Именно на такой праздник и были приглашены жители Виллер-Котре, Креспи, Мон-Гобера и окрестных деревень.
Тибо вместе с другими отправился туда.
Он больше не работал: ему проще было заставить волков работать на него.
Из ремесленника он сделался буржуа.
Теперь ему оставалось лишь стать дворянином, и он очень на это надеялся.
Тибо был не таким человеком, чтобы оставаться позади других.
Вот и сейчас он начал, работая руками и ногами, пробиваться в первый ряд.
Во время этого продвижения он измял платье одной красивой дамы высокого роста, рядом с которой хотел пристроиться.
Та, видимо, дорожила своим нарядом и, к тому же, несомненно привыкла повелевать, что порождает высокомерие; обернувшись и разглядев обидчика, она назвала его мужланом.
Но это грубое слово вылетело из такого прелестного ротика, но дама была так хороша собой, а минутная вспышка гнева исказила такое милое личико, что Тибо не ответил резкостью или чем-нибудь похлеще, а отступил назад, бормоча извинения.
Что ни говори, а первая из всех властей — сила красоты.
Представьте, что дама оказалась бы старой и безобразной: да будь она хоть маркиза, Тибо обозвал бы ее по меньшей мере мерзавкой.
Возможно, что Тибо отвлекся, увидев странного спутника дамы.
Это был толстый человечек лет шестидесяти, с головы до ног одетый в черное, очень опрятный, но совсем маленький, такой маленький, что его голова едва достигала локтя дамы. Не имея возможности взять своего спутника под руку, не подвергнув себя при этом пытке, дама довольствовалась тем, что величественно опиралась на его плечо.
Казалось, к современной неваляшке прислонилась античная Кибела.
Но что это была за очаровательная игрушка на коротких ножках: штаны на спадающем до колен животе натянуты до отказа; из-под кружевных манжет выглядывают маленькие толстенькие беленькие ручки; жирненькая головка с красным личиком аккуратно причесана, напудрена и завита, и при каждом ее движении по воротнику перекатывается аккуратная косичка, подвязанная лентой.
Он напоминал черного скарабея, ножки которого так мало соответствуют панцирю, что кажется, будто он катится, а не идет.
Но при этом выражение его лица было таким веселым, выпученные глаза светились такой добротой, что к нему невольно тянуло; чувствовалось, что этот славный толстяк постоянно занят поисками любых возможных способов приятно провести время и не станет искать ссоры с ближним — этим загадочным и непонятным существом.
Услышав, как бесцеремонно его подруга обошлась с Тибо, человечек пришел в отчаяние.
— Потише, госпожа Маглуар, потише, госпожа бальи! — сказал он, сумев в этих немногих словах сообщить стоявшим рядом свое имя и звание. — Потише! Вы сейчас сказали очень гадкое слово бедному парню, который больше вас огорчен этим происшествием.
— Что же, господин Маглуар, — ответила дама, — я что, поблагодарить его должна за то, что он совсем измял и испортил мое красивое голубое шелковое платье, не говоря уж о том, что он отдавил мне мизинец на ноге?
— Прошу вас простить мне мою неловкость, благородная госпожа, — сказал Тибо. — Когда вы обернулись, ваше прекрасное лицо ослепило меня, словно луч майского солнца, и я не видел, куда наступил.
Это был достаточно ловкий комплимент для человека, все общество которого вот уже три месяца составляли двенадцать волков.
И все же на красавицу он произвел весьма слабое впечатление, если судить по тому, что в ответ она состроила презрительную гримаску.
Несмотря на приличную одежду Тибо, она верно оценила его положение в обществе с той странной проницательностью, которой в подобных случаях отличаются женщины из всех сословий.
Толстяк был более снисходителен, он захлопал в пухлые ладошки, оставшиеся благодаря позе его жены совершенно свободными.
— Браво! — воскликнул он. — Браво! Точно подмечено, сударь: вы умный человек, и к тому же, по-моему, умеете обращаться с женщинами. Душенька моя, я надеюсь, вы тоже оценили комплимент; докажем этому господину, что мы не держим на него зла, как и полагается добрым христианам, и пригласим его, если он не слишком далеко живет и мы не очень далеко уведем его от дома, отправиться вместе с нами распить бутылочку лучшего из старых вин, за которой пошлем Перрину.
— О, узнаю вас в этом, метр Непомюсен: для вас хорош любой предлог, лишь бы поднять бокал, а если случай не представляется, вы ловко отыщете его где угодно. Между тем, господин Маглуар, вам известно, что доктор запретил вам пить вино между обедом и ужином.
— Это правда, госпожа бальи, — согласился метр Непомюсен. — Но он не запрещал мне быть учтивым с милым молодым человеком, каким показался мне этот господин. Будьте великодушны, Сюзанна! Перестаньте ворчать: вам это не к лицу. Черт возьми, сударыня! Тот, кто не знает вас, подумает, что мы не можем себе позволить купить еще одно платье. Чтобы доказать господину обратное — если вы уговорите его пойти с нами, — я дам вам, как только вернемся домой, денег на тот нелепый шелковый наряд, который вам так давно хочется купить.
Это обещание подействовало чудесным образом. Гнев г-жи Маглуар мгновенно утих, и, поскольку рыбалка заканчивалась, она с менее враждебным видом оперлась на руку Тибо, предложенную ей, надо сказать, довольно-таки неловко.
Ну а он, совершенно очарованный красотой дамы, из нескольких слов, которыми она обменялась с мужем, заключил, что дама была женой бальи, и гордо двинулся вперед, разрезая толпу с таким решительным видом и так высоко задрав голову, словно отправлялся добывать золотое руно.
И в самом деле, он, жених бедной Аньелетты, отвергнутый поклонник прекрасной мельничихи, не только мечтал о радостях любви, но подумал и о чести быть любимым женой бальи, и о пользе, которую он может извлечь из этого случая, такого неожиданного и вместе с тем такого желанного.
Впрочем, поскольку г-жа Маглуар была не только очень задумчива, но и очень рассеянна, она беспрестанно смотрела то вправо, то влево, то вперед, то назад, беседа совсем замерла бы по пути, если бы замечательный толстячок, бежавший рысцой то рядом с Тибо, то рядом с Сюзанной, переваливаясь, словно утка, возвращающаяся домой с полным брюшком, не взял все на себя.
Погруженный в расчеты Тибо, замечтавшаяся Сюзанна, семенящий, болтающий, отирающий поминутно лоб батистовым платком бальи — все они пришли в деревню Эрневиль, в полульё с небольшим от прудов Пудрона.
Именно в этой очаровательной деревушке, расположенной между Арамоном и Боннёем, всего в пяти или шести ружейных выстрелах от замка Вез, жилища сеньора Жана, и обосновался метр Маглуар.
XI ДАВИД И ГОЛИАФ
Пройдя через всю деревню, они остановились перед красивым домом у развилки дорог — на Арамон и на Лонпре.
Толстяк, с истинно французской рыцарской галантностью, в двадцати шагах от дома забежал вперед, с неожиданным проворством поднялся по пяти или шести ступенькам крыльца и, приподнявшись на носочки, сумел дотянуться до звонка.
Правда, взявшись за него, он дернул так, что было ясно: вернулся хозяин.
В самом деле, это было не только возвращение, но и торжество. Бальи привел гостя к обеду!
Дверь открыла чистенькая нарядная служанка.
Бальи шепнул ей несколько слов. Тибо, обожавшему хорошеньких женщин, но вместе с тем не презиравшему и вкусный обед, показалось, будто хозяин заказывает Перрине блюда.
Затем, повернувшись к гостю, судья сказал:
— Добро пожаловать, дорогой гость, в дом бальи Непомюсена Маглуара!
Тибо почтительно пропустил вперед хозяйку и вслед за толстяком вошел в гостиную. Там башмачник допустил оплошность.
Лесной житель, не успевший еще привыкнуть к роскоши, не сумел скрыть восхищения, вызванного обстановкой дома бальи.
В первый раз Тибо видел шелковые узорчатые занавеси и позолоченные кресла.
Ему казалось, что только король и, может быть, его высочество герцог Орлеанский могли иметь такие кресла и такие занавеси.
Тибо не замечал, что г-жа Маглуар за ним подглядывает и от ее внимания не ускользнуло наивное восхищение башмачника.
Все же, глубоко поразмыслив, она, казалось, стала смотреть более благосклонно на навязанного ей метром Маглуаром кавалера.
Она постаралась смягчить суровый взгляд своих черных глаз.
Но она все же не так далеко зашла в своей любезности, чтобы уступить настояниям метра Маглуара: толстяк. желал заставить ее налить гостю шампанского, вкус и букет которого таким образом улучшится.
Как ни уговаривал ее высокопочтенный супруг, г-жа бальи отказалась и, сославшись на вызванную прогулкой усталость, удалилась в свою комнату.
Перед тем как уйти, она все же сказала Тибо, что ей следует извиниться перед ним, и выразила надежду, что Тибо не забудет дорогу в Эрневиль.
И в заключение она улыбнулась, показав прелестные зубки.
Тибо с жаром, смягчившим некоторую грубость его языка, поклялся, что скорее перестанет есть и пить, чем позабудет даму столь же любезную, сколь прекрасную.
Госпожа Маглуар сделала реверанс, от которого на целое льё отдавало супругой бальи, и вышла.
Не успела за ней затвориться дверь, как метр Маглуар, сделав ей вслед пируэт, — может быть, не столь изящный, но почти такой же выразительный, как у школьника, избавившегося от учителя, — подошел к Тибо, взял его за руки и сказал:
— О дорогой друг, как же славно мы с вами выпьем теперь, когда женщины нам не мешают. О, эти женщины! Мессу и бал они украсят, но за столом, черт возьми! За столом должны быть только мужчины; не правда ли, приятель?
Вернулась Перрина. Она спрашивала, какое вино принести из погреба.
Но веселый толстяк был слишком тонким знатоком, чтобы доверить выбор вина женщине.
В самом деле, женщины никогда не относятся к почтенным бутылкам с подобающим уважением и необходимой деликатностью.
Он потянул к себе Перрину, как будто хотел шепнуть ей что-то на ухо.
Добрая девушка наклонилась, чтобы быть на одном уровне с маленьким человечком.
Но он лишь запечатлел на ее свежей щечке сочный поцелуй, и эта щечка покраснела явно недостаточно для того, чтобы можно было подумать, будто это случилось в первый раз.
— Ну, в чем дело, сударь? — смеясь, спросила толстушка.
— Дело в том, Перринетта, милочка, — ответил бальи, что только я знаю, где лучшее вино, ты можешь заблудиться среди такого множества бутылок. Я сам пойду в погреб.
И добряк убежал на своих коротеньких ножках — веселый, проворный и причудливый, как нюрнбергская механическая игрушка из тех, что заводят ключом, и они кружатся, поворачиваются вправо и влево, пока натянутая пружина не расправится.
Только этого милого человечка, казалось, завела рука самого Господа, и толстяк не останавливался никогда.
Тибо остался один.
Он потирал руки, поздравляя себя с тем, что попал в такой хороший дом, где жена столь красива, а муж столь любезен.
Через пять минут дверь снова распахнулась.
Это вернулся бальи, неся в обеих руках по бутылке и еще две зажав под мышками.
Две последние были наполнены лучшим пенистым силлери, не боящимся тряски: его можно было переносить в горизонтальном положении.
Две другие, те, что судья нес в руках с таким почтением, что приятно было посмотреть, были высшей марки: шамбертен и эрмитаж.
Наступило время ужина.
В те времена, если вы помните, обедали в полдень и ужинали в шесть часов.
Впрочем, в январе к шести часам вечера уже давно темнеет, а когда едят при свечах — в шесть вечера или в полночь, — всегда кажется, что это ужин.
Судья бережно поставил на стол свои четыре бутылки, затем позвонил.
Вошла Перринетта.
— Когда мы сможем сесть за стол, милое дитя? — поинтересовался Маглуар.
— Когда господин захочет, — ответила Перрина. — Я знаю, что господин не любит ждать: все готово.
— Тогда спросите у госпожи, не выйдет ли она к ужину, скажите ей, Перрина, что мы не хотим садиться за стол без нее.
Перрина вышла.
— Пройдемте пока в столовую, — предложил толстяк. — Вы, должно быть, проголодались, дорогой гость, а я, когда бываю голоден, обычно насыщаю взгляд, прежде чем наполнить желудок.
— О, мне кажется, вы чревоугодник. — сказал башмачник.
— Лакомка, лакомка, а вовсе не чревоугодник; не путайте эти понятия. Я пройду вперед, но лишь для того, чтобы показать вам дорогу.
Говоря это, метр Маглуар перешел из гостиной в столовую.
Войдя туда, он весело похлопал себя обеими руками по животу и спросил, не считает ли Тибо, что Перрина достойна прислуживать самому кардиналу.
— Посмотрите, как накрыт стол! Совсем простой, скромный ужин, а радует глаз больше, чем пир Валтасара!
— Клянусь, вы правы, бальи, — ответил Тибо. — Зрелище, в самом деле, приятное.
И глаза Тибо, в свою очередь, загорелись.
Ужин, как и сказал бальи, был скромным, но выглядел чудо как заманчиво.
Он состоял из сваренного в вине карпа, по обе стороны которого на петрушке и веточках моркови были уложены молоки.
Это блюдо занимало один конец стола.
На другом лежал окорок красного зверя (для тех, кто не знаком с этим определением, поясню: годовалого кабана), бережно уложенный на слой шпината, который плавал, словно островок зелени, в океане сока.
Середина стола была занята паштетом из куропаток, всего из двух куропаток, высунувших головы из верхней корочки и грозивших друг другу клювами.
На свободных местах стояли тарелки с ломтиками арльской колбасы, с кусочками тунца, погруженными в прекрасное зеленое прованское масло, с филе анчоуса, начертившим незнакомые и фантастические буквы на слое мелко нарубленных яичных белков и желтков, и с раковинками сливочного масла, сбитого, должно быть, только сегодня утром.
Все это дополняли два или три сорта сыра, выбранные среди тех, чье основное назначение — вызывать жажду; бисквиты из Реймса, рассыпающиеся, едва успев попасть в рот; и несколько груш, так хорошо сохранившихся, что становилось ясно: рука самого хозяина поворачивала их на полке в кладовой.
Тибо был так поглощен созерцанием этого скромного, но изысканного ужина, что едва расслышал ответ Перрины, сообщившей, что госпожа страдает мигренью, что она еще раз просит гостя извинить ее и обещает вознаградить его при следующем посещении.
Толстячок выслушал все это с нескрываемой радостью, шумно вздохнул, захлопал в ладоши и сказал:
— У нее мигрень! Мигрень! Ну, прошу к столу! К столу!
И он расположил четыре принесенные только что из погреба бутылки между тарелками с закусками и десертом, рядом с двумя бутылками старого макона, стоявшими на столе так, что их в качестве обычного вина мог достать любой из собеседников.
Пожалуй, супруга бальи поступила мудро, отказавшись сесть за стол с этими двумя неутомимыми тружениками, которые были так голодны и испытывали такую жажду, что половина карпа и содержимое двух бутылок исчезли прежде, чем сотрапезники успели обменяться хоть словом, кроме коротких замечаний:
— Неплохой, а?
— Превосходный!
— Неплохое, не правда ли?
— Великолепное!
Первое замечание относилось к карпу.
Второе — к вину.
После карпа и макона взялись за паштет и шамбертен.
Языки начали развязываться, особенно у бальи.
К середине первой куропатки и к концу первой бутылки шамбертена Тибо знал историю метра Непомюсена Маглуара. Эта история, впрочем, оказалась очень несложной.
Метр Маглуар был сыном фабриканта церковных украшений, работавшего для оснащения часовни монсеньера герцога Орлеанского, того, который из благочестия сжег картины Альбана и Тициана, стоившие от четырехсот до пятисот тысяч франков.
Хризостом Маглуар пристроил своего сына Непомюсена Маглуара распорядителем обедов к монсеньеру герцогу Филиппу Орлеанскому, сыну Луи.
У молодого человека с детства проявилась особенная склонность к кухне; он был приписан к замку Виллер-Котре и в течение тридцати лет распоряжался обедами его высочества, который представлял Маглуара своим друзьям как настоящего артиста и время от времени приглашал его для беседы о кулинарии с господином маршалом де Ришелье.
К пятидесяти пяти годам Маглуар так растолстел, что с трудом протискивался в узкие двери кладовых.
Он боялся, что в один прекрасный день застрянет, как ласка из басни Лафонтена в своем амбаре, и попросился в отставку.
Герцог отпустил его неохотно, но с меньшим сожалением, чем испытал бы при любых других обстоятельствах.
Только что женившийся на г-же де Монтессон, он теперь редко приезжал в Виллер-Котре.
Его высочество считал своей обязанностью заботиться о старых слугах.
Он позвал к себе Маглуара и спросил, сколько ему удалось скопить за время службы.
Маглуар ответил, что ему посчастливилось, уйдя в отставку, не испытывать ни в чем нужды.
Герцог настаивал на том, чтобы узнать точный размер его маленького состояния.
Маглуар признался, что у него девять тысяч ливров ренты.
— Человек, который так хорошо кормил меня тридцать лет, — сказал принц, — должен сам хорошо есть до конца своих дней.
И он увеличил ренту до двенадцати тысяч ливров в год, с тем чтобы метр Маглуар мог тратить тысячу ливров каждый месяц.
Кроме того, он разрешил ему подобрать для себя в кладовой замка всю обстановку из старой мебели.
Оттуда и появились узорчатые шелковые занавеси и позолоченные кресла; слегка поблекшие, они сохранили внушительный вид и сумели очаровать Тибо.
К концу первой куропатки и к середине второй бутылки Тибо знал, что г-жа Маглуар была четвертой женой хозяина дома; казалось, эта цифра возвышала толстяка в его собственных глазах.
Впрочем, метр Маглуар сообщил, что он женился на ней не из-за денег, но из-за ее красоты, потому что любил хорошенькие личики и прекрасные тела не меньше, чем старые вина и вкусную еду.
И он решительно прибавил, что, как он ни стар, но, если вдруг его жена умрет, он не побоится жениться и в пятый раз.
Переходя от шамбертена к эрмитажу и чередуя его с силлери, Маглуар стал говорить о достоинствах своей жены.
Она вовсе не была воплощением кротости: нет, совсем наоборот; она несколько мешала своему мужу наслаждаться различными французскими винами; она всеми доступными ей способами и даже физически препятствовала его частым посещениям погреба; со своей стороны, она слишком сильно, на взгляд сторонника простоты стиля, увлекалась тряпками, чепчиками, английскими кружевами и прочей чепухой, входящей в арсенал женщин; она с удовольствием превратила бы в кружевные манжеты на своих руках и ожерелья на своей шее двенадцать мюидов вина, припасенных в погребе мужа, если бы метр Маглуар допустил такое превращение; но, за исключением этого, нет ни одной добродетели, которой бы не обладала Сюзанна; к тому же, если верить бальи, эти добродетели стояли на таких безупречных ногах, что, потеряй Сюзанна одну из них, во всей округе не нашлось бы пары для оставшейся.
Толстяк источал счастье, напоминая кита, выбрасывающего из себя морскую воду.
Но еще до того, как добрый бальи, подобно Кандавлу, посвятил Тибо, словно нового Гигеса, во все скрытые совершенства г-жи Маглуар, красота супруги бальи успела произвести глубокое впечатление на нашего башмачника. Он не выходил из состояния задумчивости во время пути и продолжал мечтать об этой красавице за столом. Он молча слушал — не переставая, конечно, есть — фразы, которые метр Маглуар, счастливый оттого, что нашел столь благосклонного слушателя, непрерывно нанизывал словно бусины жемчужных четок.
Все же, совершив второе путешествие в погреб, после которого язык у него начал заплетаться, достойный бальи уже меньше ценил то редкое достоинство, какого требовал Пифагор от своих учеников.
Вследствие этого метр Непомюсен сообщил Тибо, что ему больше нечего рассказать о себе и о своей жене и теперь очередь гостя дать некоторые сведения о себе.
Добрый толстяк любезно добавил, что, желая завести дружбу с Тибо, он хочет получше его узнать.
Тибо счел необходимым слегка приукрасить правду.
Он представился богатым деревенским жителем, получающим доходы с двух ферм и сотни арпанов земли у Вертфея.
По его словам, на этих землях был чудесный заказник, полный оленей, косуль, кабанов, красных куропаток, фазанов и зайцев.
Тибо собирается угостить бальи всей этой дичью.
Бальи был очарован.
Мы видели кушанья на его столе и поняли, что он не пренебрегал дичью; при мысли о том, что новый друг станет ему эту дичь поставлять и не придется больше обращаться к браконьерам, судья безумно обрадовался.
На этом, честно разлив в стаканы содержимое седьмой бутылки, они решили расстаться.
Последняя бутылка шампанского — розового аи лучшего сорта — превратила обычное добродушие Непомюсена Маглуара в истинную нежность.
Он был в восторге от нового друга, не хуже его самого умевшего опорожнять бутылки.
Судья перешел с Тибо на «ты», обнимал его и заставил поклясться, что такой чудесный праздник повторится еще не раз.
Проводив Тибо до двери, он поднялся на цыпочки, чтобы в последний раз облобызать друга.
Впрочем, Тибо, со своей стороны, как нельзя более любезно к нему наклонился.
Когда башмачник закрывал дверь, часы эрневильской церкви как раз били полночь.
Винные пары уже в доме довольно сильно действовали на Тибо, но на воздухе ему стало гораздо хуже.
Совершенно оглушенный, Тибо покачнулся и прислонился к стене.
Дальнейшее осталось для него неясным и загадочным, словно происходило во сне.
Над его головой, в шести или восьми футах от земли было окно, показавшееся ему освещенным, хотя свет был приглушен двойными занавесями.
Едва он оперся о стену, как ему почудилось, будто окно отворилось.
Он решил, что почтенный бальи не может расстаться с ним, не простившись в последний раз.
Поэтому он постарался оторваться от стены и достойно ответить на это изысканное намерение.
Но его усилия оказались тщетными.
Сначала ему казалось, что он вьется по стене, словно плющ; позже он понял, что ошибся.
Сначала на его правое, затем левое плечо опустился груз до того тяжелый, что колени у Тибо подогнулись и он стал сползать по стене, как будто хотел сесть.
Это движение, казалось, отвечало желаниям субъекта, использовавшего Тибо в качестве лестницы.
Мы вынуждены признать, что этим грузом был какой-то человек.
Когда Тибо согнул колени, тот спустился и сказал:
— Прекрасно, Весельчак! Очень хорошо! Вот и все.
С последним словом он спрыгнул на землю; одновременно с этим окно наверху захлопнулось.
Тибо понял две вещи.
Во-первых, его приняли за кого-то другого, по прозвищу Весельчак; этот кто-то, по всей вероятности, спал где-то в ближайших кустах.
Во-вторых, он только что послужил лестницей для любовника.
Тибо почувствовал во всем этом какое-то неясное оскорбление.
Вследствие этого он машинально ухватился за болтающийся кусок материи, принятый им за плащ любовника, и держался за него с упорством пьяного человека.
— Ты что делаешь, негодяй? — послышался голос, показавшийся башмачнику знакомым. — Можно подумать, ты боишься отстать от меня.
— Разумеется, я этого боюсь, — ответил Тибо, — поскольку хочу узнать, что за наглец использовал мои плечи вместо лестницы.
— Ну и ну! — сказал неизвестный. — Так это не ты, Весельчак?
— Нет, не я, — подтвердил Тибо.
— Ну хорошо; ты это или кто-то другой, спасибо тебе.
— Как спасибо? Очень я в нем нуждаюсь! Вы что, думаете этим отделаться?
— Конечно, я так считаю.
— Значит, вы просчитались.
— Ну, отпусти меня, негодяй! Ты пьян!
— Пьян? Ну нет; мы выпили всего семь бутылок на двоих, к тому же четыре из них выпил бальи.
— Я тебе сказал, пьяница, отпусти меня!
— Пьяница! Вы меня назвали пьяницей за то, что я выпил три бутылки вина!
— Я тебя не за то назвал пьяницей, что ты выпил три бутылки вина, а за то, что ты совсем одурел от трех несчастных бутылок!
И незнакомец, жестом выразив соболезнование, попытался вырвать из рук Тибо свой плащ.
— Отпустишь ты мой плащ или нет, дурак? — снова заговорил незнакомец.
Тибо при любых обстоятельствах оставался очень чувствительным к обидам.
Но в теперешнем его состоянии обидчивость переросла в раздражительность.
— Черт возьми! — закричал он. — Запомните, красавчик мой, дурак здесь только один — тот, кто, воспользовавшись услугами человека, оскорбляет его вместо того, чтобы поблагодарить, и я не знаю, что удерживает меня от того, чтобы дать вам кулаком по физиономии!
Едва Тибо произнес эту угрозу, как с той же стремительностью, с какой стреляет пушка, когда огонь по фитилю добирается до пороха, удар кулака, обещанный им незнакомцу, обрушился на его собственную скулу.
— Получай, невежа! — произнес голос, в сочетании с только что полученным ударом вызвавший у Тибо некие воспоминания. — Получи; я честный ростовщик и даю сдачи, даже не взвесив твою монету.
Тибо в ответ толкнул его кулаком в грудь.
Удар был точным, и в глубине души Тибо остался очень доволен собой.
Но незнакомец даже не шелохнулся — как если бы ребенок щелкнул по стволу дуба.
Он ответил новым ударом, и этот удар настолько превосходил мощью первый, что Тибо понял: если сила незнакомца будет возрастать в той же пропорции, третьим ударом он неминуемо убьет его.
Но сама сила этого удара обернулась против незнакомца.
Тибо упал на одно колено; коснувшись земли рукой, он ушиб пальцы о камень.
В бешенстве вскочив с камнем в руке, он запустил им в голову врага.
Колосс вздохнул так шумно, как будто взревел бык.
Повернувшись вокруг своей оси, он упал на землю, теперь уже словно подрубленный дуб, и потерял сознание.
Тибо, не зная, убит или только ранен его противник, бросился бежать без оглядки.
XII ДВА ВОЛКА В ОВЧАРНЕ
Дом бальи стоял недалеко от леса.
Тибо мигом оказался по другую сторону маленького замка Фоссе, на просеке Кирпичного завода.
Едва он пробежал по лесу сотню шагов, как его окружила привычная свита.
Волки ласкались к нему, жмурясь и виляя хвостом, чтобы показать свою радость.
Впрочем, если при первой встрече со своими странными телохранителями Тибо сильно забеспокоился, теперь он боялся их не больше, чем пуделей.
Сказав им несколько ласковых слов, Тибо потрепал между ушами того из них, кто оказался поближе, и продолжил путь, размышляя о своем двойном триумфе.
За бутылкой он оказался сильнее хозяина дома.
В кулачном бою он оказался сильнее своего соперника.
Развеселившись, он на ходу говорил сам себе:
«Надо признать, друг мой Тибо, ты удачливый плут! Госпожа Сюзанна — это именно то, что тебе надо. Жена бальи! Черт возьми, вот это победа! А если место освободится — вот и жена! Но в любом случае, если она, жена или любовница, будет идти опираясь на мою руку — клянусь дьяволом, все примут меня за дворянина! Подумать только, это осуществится, если я сам не наделаю глупостей и все не испорчу! В конце концов, не такой я дурак, чтобы не понять, отчего она ушла: кто не боится, тот не убегает. Она боялась в первый же раз выдать себя. Но как настойчиво хотела она уйти к себе! Да, я вижу, что все улаживается, надо только немного подтолкнуть; в один прекрасный день она избавится от своего толстого старичка — и дело сделано. Все же я не могу и не хочу пожелать смерти бедному метру Маглуару. Когда его не станет, я готов занять его место; но убить человека, который поил меня таким хорошим вином! Убить его, когда это вино еще у меня в животе, — да после такого поступка сам кум волк покраснел бы за меня!
Впрочем, — продолжал он, улыбаясь самой плутовской улыбкой, — не лучше ли мне заранее приобрести права на госпожу Сюзанну, пока метр Маглуар естественным путем перейдет в лучший мир, что не может не произойти, если вспомнить, сколько ест и пьет этот чудак».
Затем ему на память пришли добродетели супруги бальи, о которых он столько услышал:
«Нет, нет! Никаких болезней, никакой смерти! Только легкие недомогания, какие бывают у всякого; но, раз это для меня выгодно, я хочу, чтобы с ним это случалось немного чаще, чем с другими; в его возрасте нельзя безнаказанно изображать неразумного юношу или годовалого оленя. Нет, люди должны получать по заслугам… Когда это произойдет, я буду вам очень признателен, мой кузен, господин волк».
И Тибо, находя шутку превосходной, — наш читатель, конечно, придерживается другого мнения, — потирал руки и ухмылялся, и так веселился, что не заметил, как оказался в городе и прошел до конца всю улицу Ларньи; он-то считал, что всего на пятьсот шагов отошел от дома бальи.
Здесь он сделал своим волкам знак исчезнуть.
Было бы неосторожно пересечь весь Виллер-Котре с двенадцатью волками в качестве телохранителей; им могли встретиться собаки и поднять тревогу. Шесть волков свернули вправо, шесть — влево, одни побежали быстрее, другие медленнее, и, хотя путь был разной длины, все двенадцать оказались одновременно в конце улицы Лорме.
У двери хижины Тибо волки простились с ним и разбежались.
Но, перед тем как расстаться с ними, Тибо предложил им на следующий день, как только стемнеет, встретиться на том же месте в лесу.
Тибо встал с рассветом, хотя и вернулся домой в два часа ночи.
Правда, в январе светает поздно.
Тибо вынашивал план.
Он не забыл, что обещал бальи прислать ему дичи из своего заказника.
Впрочем, его заказником были все леса его высочества монсеньера герцога Орлеанского.
Поэтому он и встал так рано.
С двух до четырех часов утра шел снег.
Осторожно и ловко, словно ищейка, Тибо обошел весь лес.
Он выследил лежки оленей и косуль, кабаньи берлоги, заячьи норы; он заметил, по каким тропам животные проходят на ночлег.
Затем, когда в лесу стало темнеть, он испустил вой (живя с волками, научишься выть!), и на этот вой собралось все приглашенное накануне волчье ополчение.
Пришли все, даже волчата последнего помета.
Тибо объяснил, что ждет от них необыкновенной охоты.
Для того чтобы подбодрить их, он объявил, что сам примет в ней участие.
Охота в самом деле была чудесной.
Всю ночь под сводами леса раздавался жуткий вой.
Там, загнанная волком, падала косуля, и другой волк, сидевший в засаде, хватал ее за горло.
Здесь Тибо, с ножом в руке, словно мясник, приходил на помощь троим или четверым из своих свирепых приятелей и добивал кабана-четырехлетка, которого они накрыли.
Старая волчица возвращалась с полудюжиной зайцев, застигнутых ею посреди любовных игр, и ей стоило большого труда помешать своим волчатам предаться неподобающему обжорству, приступив к еде прежде, чем хозяин волков возьмет свою долю: эти юные разбойники набросились на семейство красных куропаток, спавших спрятав голову под крыло.
Госпожа Сюзанна Маглуар даже не подозревала, что ради нее происходило в лесу Виллер-Котре.
За два часа волки сложили у хижины Тибо целый воз дичи.
Тибо выбрал свою долю, предоставив волкам роскошно пировать своей.
Он нагрузил двух мулов, одолженных им у угольщика (Тибо сказал ему, что собирается везти в город сабо), и отправился в Виллер-Котре, где продал часть своей добычи торговцу дичью, оставив для г-жи Маглуар лучшие куски, меньше всего пострадавшие от волчьих когтей.
Сначала он хотел сам отнести все это бальи.
Но башмачник уже начал приобретать светский лоск и счел более приличным отправить подарки вперед: он нанял за тридцать су крестьянина и послал с ним дичь эрневильскому бальи, сопроводив ее запиской, в которой значилось:
«От господина Тибо».
Сам он должен был прийти следом за своим посланием.
Он и в самом деле шел за ним по пятам и явился в ту минуту, когда метр Маглуар рассматривал только что полученную дичь, выложенную на стол.
Судья, охваченный пылом признательности, протянул ручки к новому другу и попытался прижать его к сердцу, не переставая при этом испускать радостные вопли.
Мы говорим «попытался», поскольку осуществлению этого желания препятствовали два обстоятельства: незначительная длина рук и округлость живота.
Но бальи подумал, что г-жа Маглуар может восполнить его недостатки.
И подбежав к двери, он изо всех сил стал звать:
— Сюзанна! Сюзанна!
Голос бальи звучал так необычно, что его супруга поняла: случилось нечто особенное; только она не могла определить — хорошее или плохое.
Так что она быстро спустилась, чтобы самой во всем разобраться.
Она нашла своего мужа обезумевшим от радости, семенящим вокруг стола, который, надо сказать, представлял собой самое приятное зрелище для любителя поесть.
Как только Сюзанна вошла, ее муж, хлопая в ладоши, закричал:
— Смотрите, смотрите, сударыня, взгляните, что принес нам наш друг Тибо, и поблагодарите его! Слава тебе, Господи! Нам встретился человек, который держит слово! Он обещал нам прислать корзинку дичи из своего заказника — а прислал целый воз… Дайте ему руку, поцелуйте его скорее и посмотрите на все это!
Госпожа Маглуар как нельзя лучше исполнила приказы своего мужа: она протянула руку Тибо, позволила себя поцеловать и осмотрела выставку съестных припасов, вызвавшую восторг судьи.
В самом деле, эта выставка, призванная столь приятно украсить их повседневный стол, достойна была восхищения.
Прежде всего и самое главное — голова и ляжка кабана, с твердым и вкусным мясом; хорошенькая трехлетняя козочка, должно быть нежная, словно роса на траве, которую она вчера еще щипала; зайцы с толстыми, мясистыми загривками, настоящие зайцы из гондревильских вересковых зарослей, питавшиеся тимьяном и чабрецом; наконец, такие душистые фазаны, такие аппетитные красные куропатки, что стоит нанизать их на вертел и почувствовать дымок от их мяса, как забудешь даже о роскоши их оперения.
В своем воображении толстяк заранее всем этим лакомился: он жарил на углях кабана, поливал пикантным соусом косулю, запекал паштет из зайцев, готовил фазанов с трюфелями, красных куропаток — а-ля Вопальер, — и все это он делал с таким жаром и с таким пылом, что у всякого, кто увидел бы это, потекли бы слюнки.
Рядом с восторженным бальи г-жа Сюзанна казалась несколько холодной.
Все же она проявила инициативу и любезность, объявив Тибо, что не отпустит его домой, пока не иссякнут полностью все запасы, какими благодаря ему забиты кладовые.
Судите сами, обрадовался ли Тибо, увидев, что дама идет навстречу самым заветным его желаниям.
Он ожидал чудес от этого посещения Эрневиля и сам — так ему было весело — предложил метру Маглуару угостить его каким-нибудь аперитивом, который поможет их желудкам достойно встретить вкусные блюда, приготовленные мадемуазель Перриной.
Метр Маглуар страшно обрадовался, что Тибо помнит все, вплоть до имени кухарки.
Подали вермут.
Этот напиток был еще совершенно неизвестен во Франции; монсеньер герцог Орлеанский выписывал его из Голландии, и метрдотель его высочества любезно снабжал им своего предшественника.
Тибо скорчил гримасу.
Он находил, что экзотический напиток не идет ни в какое сравнение с чудесным отечественным шабли.
Но стоило метру Маглуару сказать, что, благодаря чудодейственному напитку, у него через час разыграется зверский аппетит, и Тибо, перестав отпускать замечания, любезно помог судье прикончить бутылку.
Что касается г-жи Сюзанны, то она поднялась в свою комнату, чтобы проделать то, что у женщин называется «слегка привести себя в порядок», а на деле означает полную перемену декораций.
Вскоре настало время садиться за стол.
Госпожа Сюзанна спустилась из своих апартаментов.
Она была ослепительно хороша в платье из серого шелка, вышитом канителью, и любовный порыв Тибо помешал ему подумать о том затруднительном положении, в какое он непременно попадет, впервые пируя в таком прекрасном и изысканном обществе.
К чести Тибо, скажем, что не так уж плохо он с этим справился.
Он не только открыто бросал пылкие взгляды на очаровательную хозяйку, но постепенно приблизил под столом свое колено к ее колену и стал легонько нажимать на него.
Внезапно, пока Тибо предавался этому занятию, г-жа Сюзанна, нежно на него смотревшая, застыла с вытаращенными глазами.
Затем она раскрыла рот и так расхохоталась, что с ней сделался нервный припадок и она едва не задохнулась.
Не придавая значения последствиям, метр Маглуар занялся поисками причины.
Он в свою очередь взглянул на Тибо, гораздо более беспокоясь о том, что в облике его друга могло встревожить жену, чем о состоянии, в которое впала она из-за своего смеха.
— Ах, кум! — воскликнул он, в ужасе протянув ручки к Тибо. — Вы горите, кум, вы горите!
Тибо вскочил с места.
— Что случилось? — спросил он.
— У вас огонь в волосах, — простодушно объявил бальи; он до того перепугался, что схватил графин с водой, стоявший перед его женой, и собрался заливать пожар на голове Тибо.
Башмачник инстинктивно потянулся рукой к голове.
Но, не ощутив никакого жара, он догадался, в чем дело, страшно побледнел и рухнул на стул.
Он так был занят в последние два дня, что совершенно позабыл о предосторожности, какую предпринял в отношении мельничихи — то есть особенным образом укладывать волосы и прятать под ними прядь, перешедшую в собственность черного волка.
За это время, из-за множества вырвавшихся у Тибо незначительных пожеланий, приносивших вред то одному, то другому из его ближних, количество волос цвета пламени страшно умножилось и в эту минуту несчастный мог освещать комнату не хуже, чем две свечи желтого воска, что горели в подсвечнике.
— Черт возьми! — начал Тибо, пытаясь справиться с волнением. — Вы меня ужасно испугали, метр Маглуар.
— Но… — бальи продолжал в страхе указывать на пылающую прядь Тибо.
— Не обращайте внимания на необычный цвет части моей шевелюры, мессир, — продолжал тот, — это оттого, что моя матушка, будучи мною беременна, испугалась, едва не загоревшись от жаровни.
— Но еще более странно то, — произнесла г-жа Сюзанна, выпив большой стакан воды, чтобы подавить смех, — что только сегодня я заметила эту ослепительную странность.
— Ах, в самом деле!.. — не зная, что сказать, пробормотал Тибо.
— В прошлый раз, — продолжала г-жа Сюзанна, — мне показалось, что волосы у вас такие же черные, как моя бархатная накидка; поверьте, я не переставала очень внимательно смотреть на вас, господин Тибо.
Эти последние слова возродили надежды Тибо и вернули ему хорошее настроение.
— Черт возьми, сударыня! — ответил он. — Есть поговорка: «у рыжих сердце горячее»; а другая поговорка гласит, что под тонкой резьбой на сабо могут скрываться изъяны.
Госпожа Маглуар поморщилась, услышав эту мудрость башмачника.
Но, как часто случалось, бальи и на этот раз не разделял мнения жены.
— Золотые слова, кум Тибо, — сказал он. — И не надо далеко ходить за подтверждением его поговорок… Честное слово, вот возьмите лионский суп: на вид он, конечно, непригляден, но тем не менее лук и поджаренный на гусином сале хлеб никогда не радовали мою утробу сильнее.
Больше об огненной пряди Тибо никто не упоминал.
Только широко открытые глаза г-жи Сюзанны, казалось, были неотрывно прикованы к этой дьявольской пряди, и Тибо, встречая насмешливый взгляд супруги бальи, видел на ее губах намек на смех, только что поставивший его в такое неловкое положение.
Это его раздражало.
Он поминутно невольно подносил руку к волосам, пытаясь спрятать роковую прядь под другими волосами.
Однако прядь была не только необычного цвета, но и невиданной жесткости.
Это был конский волос.
Как Тибо ни прижимал и ни прятал дьявольские волосы, ничто, даже щипцы парикмахера, не могли бы изменить их природную укладку.
А тем временем колени Тибо продолжали действовать с удвоенной нежностью.
Впрочем, поскольку г-жа Маглуар, никак не отвечая на его заигрывания, нимало не пыталась и уклониться от них, самонадеянный Тибо больше не сомневался в своей победе.
Они сидели за столом до поздней ночи.
Госпожа Сюзанна, видимо, находила застолье затянувшимся и часто, покинув столовую, прогуливалась по дому; метр Маглуар использовал эти отлучки жены для того, чтобы наведаться в погреб.
Он рассовывал за подкладкой своей куртки столько бутылок, а едва поставив их на стол, он так проворно принимался опустошать их, что вскоре отяжелевшая голова его свесилась на грудь, напоминая: пора прекращать попойку, если он не хочет очутиться под столом.
Тибо, со своей стороны, решил воспользоваться обстоятельствами и объясниться в любви хозяйке; считая, что опьянение ее супруга дает ему возможность поговорить с ней, он объявил, что сам не прочь отдохнуть.
После этого заявления все встали из-за стола.
Перрина должна была проводить гостя в предназначенную для него комнату.
По дороге Тибо получил от служанки нужные ему сведения.
Первую комнату по коридору занимал метр Маглуар.
Вторую — его жена.
Третья предназначалась Тибо.
Между спальнями бальи и его жены была дверь, а в комнату Тибо вела только дверь из коридора.
Кроме того, он заметил, что г-жа Сюзанна вошла в спальню мужа.
Тибо справедливо решил, что ее призывает туда исполнение благочестивого супружеского долга.
Добрый бальи был почти в таком же состоянии, что и Ной, когда его оскорбили сыновья; г-жа Сюзанна вынуждена была помочь ему добраться до постели.
Тибо на цыпочках вышел из своей спальни, осторожно прикрыл дверь, постоял у двери хозяйки дома, но из комнаты не доносилось ни малейшего шума; тогда он пошарил рукой, отыскивая ключ, обнаружил его в замке, минутку передохнул и повернул один раз.
Дверь открылась.
В комнате было совершенно темно.
Однако Тибо, общаясь с волками, перенял от них некоторые свойства, и среди прочих — способность видеть в темноте.
Он быстро огляделся. Справа от него был камин, напротив камина — диван с большим зеркалом; позади, рядом с камином — задрапированная шелком постель; прямо перед ним, у дивана, — утопавший в кружевах туалетный столик; наконец, два больших занавешенных окна.
Он спрятался за занавесями одного из окон, инстинктивно выбрав то, которое находилось дальше от двери в спальню мужа.
Через четверть часа (все это время сердце у Тибо стучало, словно — досадное предзнаменование! — мельница в Койоле) г-жа Сюзанна вошла в свою спальню.
Первоначальный план Тибо заключался в том, чтобы выйти из укрытия, едва г-жа Маглуар войдет в комнату и закроет за собой дверь, затем броситься к ногам Сюзанны и признаться ей в любви.
Но он подумал, что г-жа Сюзанна, неожиданно увидев его и не сразу узнав, не успеет заглушить предательский вскрик, поэтому, прежде чем обнаружить своё присутствие, лучше дождаться, пока метр Маглуар крепко уснет.
Может быть, его заставляло медлить и то чувство, что заставляет даже самого решительного человека отдалять тот высший миг, от которого зависит его счастье или несчастье, как это было сейчас у нашего башмачника.
Тибо до тех пор внушал себе, что безумно влюблен в г-жу Маглуар, пока сам в это поверил, и, как все влюбленные, был несколько робок, несмотря на покровительство черного волка.
Он притаился за занавесями.
Тем временем жена бальи уселась перед зеркалом своего туалетного столика Помпадур и стала принаряжаться, как будто собиралась ехать на бал или участвовать в торжественной процессии.
Она перепробовала десять вуалей, пока выбрала одну.
Она расправила складки платья.
Она обернула шею тройным рядом жемчуга.
Затем она нанизала на руки все браслеты, какие у нее были.
Наконец, она тщательно причесалась.
Тибо терялся в догадках о цели этого кокетства; внезапно дребезжащий звук, словно от удара твердого предмета о стекло, заставил его вздрогнуть.
Госпожа Сюзанна тоже вздрогнула, услышав его.
Потом она сразу погасила свет, и башмачник услышал, как она в темноте на цыпочках подходит к окну и тихонько его отворяет.
Несколько слов, произнесенных шепотом, Тибо разобрать не смог.
Приоткрыв занавеси, он увидел, что какой-то великан перелезает через подоконник.
Тибо пришло на ум воспоминание о его приключении с незнакомцем, которого он не хотел отпускать и от которого потом так удачно избавился, запустив камнем ему в лоб.
Он попытался сориентироваться, и ему показалось, что великан вылез именно из этого самого окна, когда встал ногами ему на плечи.
Впрочем, подозрение было логичным.
Если человек поднимался к этому окну, он вполне мог спуститься из него.
А если какой-то человек из него спускался — отбросим предположение о наличии у г-жи Маглуар обширных знакомств и разнообразных вкусов, — если, повторим, какой-то человек спускался из этого окна, вероятно, он же и сейчас пытается проникнуть через него в дом.
Словом, кто бы он ни был, г-жа Сюзанна протянула руку к этому видению, и ночной гость так тяжело спрыгнул в комнату, что пол задрожал и вся мебель зашаталась.
Было очевидно, что явился не дух, а явилось тело, и притом из разряда самых увесистых.
— О монсеньер, осторожно! — послышался голос г-жи Сюзанны. — Мой муж спит крепко, но, если вы будете так шуметь, вы разбудите его.
— Клянусь рогами дьявола! — ответил неизвестный. (Тибо узнал его голос; именно его он слышал в позапрошлую ночь.) — Дорогая моя, я не птичка! Тем не менее, пока я, весь истерзанный этим ожиданием, стоял под вашим окном и ждал желанного часа, мне казалось, будто у меня отрастают крылья, чтобы перенести меня в вашу спаленку, куда я так стремился.
— О, — жеманничала г-жа Маглуар, — мне тоже было очень грустно, монсеньер, оттого, что вы мерзли на зимнем ветру… Но гость, который был у нас сегодня вечером, всего полчаса как ушел.
— А что вы делали эти полчаса, прелесть моя?
— Надо было помочь господину Маглуару лечь в постель, и убедиться в том, что он не сможет нам помешать.
— Вы всегда правы, Сюзанна моего сердца!
— Монсеньер, вы слишком добры ко мне, — ответила жена бальи.
Нам следовало бы написать «хотела ответить», потому что эти последние слова были заглушены, как будто что-то закрыло губы дамы и помешало ей продолжать. Одновременно с этим Тибо услышал звук, весьма напоминавший поцелуй.
Несчастный осознал всю глубину нового разочарования, постигшего его.
Новоприбывший прервал его размышления, два или три раза кашлянув.
— Душечка моя, что, если мы закроем окно? — откашлявшись, спросил он.
— О, простите меня, монсеньер, — отвечала г-жа Маглуар, — я должна была сделать это сразу же.
Подойдя к окну, она сначала плотно закрыла его, а потом задернула шторы.
В это время незнакомец, чувствовавший себя как дома, придвинул к огню кресло, устроился в нем поудобнее и с наслаждением стал греть ноги.
Госпожа Сюзанна, несомненно, тоже считала, что для замерзшего человека самое спешное дело — согреться, потому что не стала искать со своим высокопоставленным любовником ссоры вроде той, что произошла у Клеантиды с Созием, а приблизилась к креслу и изящно облокотилась на него.
Тибо, видевший со спины эту пару, четко вырисовывавшуюся на фоне огня, пришел в ярость.
Гость вначале был озабочен лишь тем, как бы ему согреться.
Затем, ощутив наконец благотворное действие тепла, он поинтересовался:
— А что это был за гость?
— О монсеньер, — ответила г-жа Маглуар, — кажется, вы хорошо знаете его.
— Как? — удивился счастливый любовник. — Это тот позавчерашний бродяга?
— Он самый, монсеньер.
— Ну, попадись он мне только под руку!
— Монсеньер, — нежным, мелодичным голосом проговорила г-жа Сюзанна, — не надо строить дурных планов против своих врагов; напротив, наша святая католическая вера учит нас прощать им.
— Есть еще и другая религия, которая этому учит, красавица моя, и вы являетесь ее всемогущей богиней, а я всего лишь скромный неофит… Да, я признаю, что был не прав, пожелав зла этому негодяю; в конце концов, именно оттого, что он так предательски и так грубо поступил со мной, я нашел долгожданный случай проникнуть к вам. От его благословенного удара камнем я потерял сознание; увидев меня бесчувственным, вы позвали мужа; ваш муж, найдя меня бездыханным под вашими окнами, решил, что меня привели в такое плачевное состояние разбойники, и велел перенести меня в дом; теперь, наконец, вы почувствовали жалость ко мне, столько выстрадавшему ради вас, и разрешили мне прийти сюда. Стало быть, этот подлец, трус, негодяй — источник моего счастья, поскольку оно заключается в вашей любви; однако это обстоятельство не помешает ему, окажись он в пределах досягаемости моего хлыста, провести неприятнейшие четверть часа.
«Черт возьми! — размышлял Тибо. — Похоже, и в этот раз мое желание обернулось выгодой для другого! Ах, черный волк, друг мой! Вот урок для меня! Но — чтоб мне пропасть! — теперь я так хорошо стану обдумывать каждое желание, что из ученика сделаюсь мастером. Но, — прервал Тибо сам себя, — кому же принадлежит этот голос? Я уверен, что он мне знаком!»
— Вы еще больше разгневались бы на беднягу, монсеньер, если бы я сделала вам одно признание.
— Какое, моя милая?
— Этот негодяй, как вы его называете, увивается за мной.
— Да ну?
— Да, монсеньер, это так, — смеясь, подтвердила г-жа Сюзанна.
— Кто? Этот олух, этот плут, это ничтожество! Где он? Где он прячется? Клянусь Вельзевулом! Я скормлю его моим псам!
На этот раз Тибо узнал голос незнакомца.
«Ах, монсеньер Жан, — прошептал он, — так это вы!»
— Не беспокойтесь, монсеньер, — продолжала г-жа Сюзанна, положив руки на плечи своего возлюбленного и заставив его сесть, — здесь любят только вашу милость, и даже если бы я совсем не любила вас, я не отдала бы свое сердце человеку, у которого прядь красных волос надо лбом!
И, вспомнив злополучную прядь, так рассмешившую ее во время обеда, г-жа Маглуар вновь расхохоталась.
Тибо рассвирепел.
— Ах, предательница! — прошептал он. — Не знаю, что бы я отдал, лишь бы твой муж, твой честный муж, этот славный малый вошел и застал тебя на месте преступления.
Тибо не успел договорить, как дверь, ведущая в спальню мужа, распахнулась и метр Маглуар, ростом в пять футов вместе с огромным ночным колпаком, вошел в комнату с зажженной свечой в руке.
— Ах, черт возьми, — пробормотал Тибо, — кажется, теперь моя очередь посмеяться.
XIII ГЛАВА, В КОТОРОЙ ДОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЖЕНЩИНА КРАСНОРЕЧИВЕЕ ВСЕГО В ТЕ МИНУТЫ, КОГДА ОНА НЕ ГОВОРИТ
Поскольку Тибо разговаривал сам с собой, он не расслышал, как г-жа Сюзанна тихо сказала сеньору Жану несколько слов.
Он только увидел, что колени у дамы подогнулись и она повисла на руках у своего любовника, как будто была без чувств.
Бальи остановился как вкопанный перед странной группой, освещенной его свечой.
Он оказался прямо напротив Тибо, и тот попытался прочесть на лице метра Маглуара, что происходит в его душе.
Но забавная физиономия бальи не была предназначена природой для передачи сильных чувств; Тибо увидел на лице снисходительного мужа лишь благожелательное удивление.
Несомненно, сеньор Жан увидел то же самое, поскольку обратился к метру Маглуару с необычайной, на взгляд Тибо, непринужденностью:
— Ну, метр Маглуар, как мы сегодня справились с бутылкой?
— Как, монсеньер, это вы? — бальи еще сильнее вытаращил свои и без того большие глаза. — Ах, простите меня, и, поверьте, если бы я мог рассчитывать на честь встретить вас здесь, я никогда не позволил бы себе появиться в таком неподобающем костюме.
— Ну что вы!
— Да, монсеньер; позвольте мне уйти, чтобы привести себя в порядок.
— Не стесняйтесь, дружок, — продолжал сеньор Жан. — После сигнала тушить огни можно принимать друзей запросто. К тому же, приятель, есть более спешное дело.
— Какое же, монсеньер?
— Да привести в чувство госпожу Маглуар, которую вы видите у меня на руках.
— Привести в чувство! У Сюзанны обморок! О Господи! — воскликнул толстяк, поставив свой подсвечник на камин. — Как же это несчастье случилось?
— Подождите, подождите, метр Маглуар, — сказал сеньор Жан. — Прежде всего надо удобно устроить в кресле вашу супругу: ничто так не досаждает женщинам, как неудобное положение, когда они в обмороке.
— Вы правы, монсеньер, прежде всего положим госпожу Маглуар в кресло… О Сюзанна, бедная Сюзанна! Как это с ней могло приключиться?
— Не подумайте чего-нибудь дурного, друг мой, встретив меня здесь в такой час!
— Я не посмею, монсеньер, — дружба, которой вы меня удостоили, и добродетель госпожи Маглуар служат мне достаточными гарантиями, чтобы мое бедное жилище в любой час могло гордиться честью принимать вас.
«Трижды дурак! — решил про себя башмачник. — Если только он не дважды хитрец… Но все равно! Посмотрим, как ты станешь выкручиваться, монсеньер Жан».
— Тем не менее, — продолжал метр Маглуар, смочив носовой платок мелиссовой водой и потерев им виски Сюзанны, — мне любопытно узнать, что за удар обрушился на мою бедную жену.
— Это очень просто, приятель, я вам все объясню. Я обедал у моего друга, сеньора де Вивьера, и шел через Эрневиль, возвращаясь к себе в замок Вез. Вдруг я увидел в открытом окне женщину, которая знаками звала на помощь.
— Ах, Боже мой!
— Вот и я сказал себе, когда узнал окно вашего дома: «Ах, Боже мой, не подвергается ли жена моего друга бальи какой-либо опасности и не нуждается ли она в помощи?»
— Вы очень добры, монсеньер, — расчувствовался балья. — Я надеюсь, это было не так?
— Напротив, мой милый!
— Как напротив?
— Да, это так, и вы сейчас все узнаете.
— Монсеньер, меня прямо в дрожь бросает. Как же это, моя жена нуждалась в помощи и не позвала меня?
— Это было ее первым побуждением, но она воздержалась от исполнения своего желания, и именно в этом вы видите доказательство ее нежности, потому что она боялась, позвав вас на помощь, подвергнуть опасности вашу драгоценную жизнь.
— Что? — побледнев, спросил бальи. — Моя драгоценная, как вы изволили выразиться, жизнь была в опасности?
— Уже нет, поскольку я здесь.
— Но, монсеньер, что, в конце концов, произошло? Я спросил бы у жены, но она, сами видите, еще не может ответить.
— Господи, да ведь я здесь для того, чтобы ответить вам вместо нее.
— Ответьте, монсеньор, раз вы так добры; я слушаю вас.
Сеньор Жан одобрительно кивнул головой и продолжал:
— Я прибежал и, увидев, как она перепугана, спросил: «Что случилось, госпожа Маглуар, кто вас так напугал?» —
«Ах, монсеньер, — ответила она, — вообразите, что мой муж позавчера и сегодня принимал у себя человека, который вызывает у меня самые ужасные подозрения». — «Ну да?» — «Человека, который проник сюда под предлогом дружбы с моим дорогим Маглуаром, а сам волочится за мной…»
— Она вам так сказала?
— Слово в слово, дружок! Впрочем, она ведь не слышит нас, не так ли?
— Да, она без сознания.
— Так вот, когда она придет в себя, спросите у нее, и, если она не повторит в точности все, что я сказал вам, считайте меня неверным, сарацином, турком!
— О, люди, люди! — пробормотал бальи.
— Да, порождение змей! — подхватил сеньор Жан. — Хотите, друг мой, чтобы я продолжал?
— Еще бы! — сказал толстяк, увлекшийся рассказом сеньора Жана до того, что совершенно забыл о скудности своего костюма.
— Тогда я сказал моей милой куме госпоже Маглуар: «Но, сударыня, как вы заметили, что негодяй имеет наглость любить вас?»
— Да, — подхватил бальи, — как это она заметила? Я не заметил ничего.
— Вы бы заметили, старина, если бы заглянули под стол; но вы лакомка и не можете видеть одновременно то, что сверху, и то, что снизу.
— Дело в том, монсеньер, что ужин был превосходный! Представьте себе отбивные из молодого кабана…
— Ну вот, — сказал сеньор Жан. — Сейчас вы станете описывать свой ужин, вместо того чтобы дослушать мой рассказ о том, как жизнь и честь вашей жены подверглись нападению!
— Да, в самом деле, бедная Сюзанна! Монсеньер, помогите мне разжать ей руки, чтобы я мог похлопать ее по ладоням.
Сеньор Жан пришел на помощь бальи, и общими усилиями они заставили г-жу Маглуар раскрыть одну ладонь.
Немного успокоившись, толстяк принялся похлопывать пухлой ручкой по ладони своей жены, внимательно слушая при этом продолжение правдивого и увлекательного рассказа сеньора Жана.
— На чем я остановился? — спросил этот последний.
— Монсеньер, вы дошли до того места, как моя бедная Сюзанна, которую можно назвать целомудренной Сусанной…
— О, вы можете ею гордиться! — сказал сеньор Жан.
— И горжусь! Вы говорили, что моя бедная Сюзанна заметила…
— Да, да, подобно пастуху Парису, ваш гость хотел сделать из вас нового Менелая; тогда она встала… Вы помните, как она встала?
— Нет; наверное, я был немного… немного… взволнован.
— Она встала и заметила всем, что пора разойтись.
— В самом деле, — радостно подхватил бальи, — в последний раз, когда я еще слышал бой часов, било одиннадцать.
— Так вот, встали из-за стола…
— Только не я, по-моему, — сказал бальи.
— Нет — госпожа Маглуар и ваш гость. Она указала ему его комнату, и мадемуазель Перрина проводила его туда, после чего ваша нежная и верная супруга, госпожа Маглуар, подоткнула вам одеяло и вернулась в свою спальню.
— Дорогая Сюзаннетта! — умилился бальи.
— Именно тогда, оставшись одна в своей спальне, она испугалась. Она подошла к окну и открыла его; ветер ворвался в комнату и задул свечу. Вы знаете, приятель, что такое страх?
— Да, я очень боязлив, — простодушно ответил метр Маглуар.
— Так вот, с этой минуты страх полностью завладел ею; не решаясь разбудить вас, чтобы с вами не случилось несчастья, она позвала первого проезжавшего мимо всадника; по счастью, им оказался я.
— Это большая удача, монсеньер!
— Не правда ли?.. Я прибежал, я назвал себя. «Монсеньер, — сказала она, — скорее, скорее поднимайтесь! Мне кажется, в моей комнате кто-то есть».
— Ой! — воскликнул бальи. — Вы, должно быть, ужасно испугались.
— Вовсе нет! Я решил, что звонить — только время терять, передал поводья Весельчаку, встал на седло, с седла перелез на балкон и, чтобы человек, который спрятался в комнате, не смог убежать, закрыл окно. В эту минуту, услышав шум вашей открывающейся двери и не выдержав стольких волнений, госпожа Маглуар упала без чувств мне на руки.
— Ах, монсеньер, — сказал бальи, — какой ужасный рассказ!
— И заметьте, дружок, что я старался смягчить все эти ужасы, а не усилить; впрочем, вы услышите, что скажет госпожа Маглуар, когда придет в себя…
— О, смотрите, монсеньер, она пошевелилась.
— Хорошо! Зажгите перо у нее под носом, приятель.
— Перо?
— Да; это лучшее средство против судорог; зажгите перо у нее под носом, и она придет в себя.
— Но где мне взять его? — спросил бальи.
— Черт возьми! Держите — это от моей шляпы.
И сеньор Жан отломил часть страусового пера, украшавшего его шляпу, и протянул его метру Маглуару; тот зажег перо от свечки и дал жене вдохнуть этот дым.
Сеньор Жан уверял, что лекарство превосходное.
Оно подействовало мгновенно.
Госпожа Маглуар чихнула.
— Ах! — обрадовался бальи. — Она приходит в себя! Моя жена! Моя милая жена! Моя дорогая женушка!
Госпожа Маглуар вздохнула.
— Монсеньер, монсеньер, она спасена! — воскликнул бальи.
Госпожа Маглуар, открыв глаза, с испуганным видом попеременно смотрела то на мужа то на сеньора Жана. Наконец, остановив взгляд на бальи, она произнесла:
— Маглуар! Милый мой Маглуар! Это в самом деле вы! О, как я счастлива видеть вас после такого дурного сна!
«Ну и ловкачка! — прошептал Тибо. — Если я ничего не могу добиться от дам, за которыми ухаживаю, что ж, по крайней мере, они попутно дают мне хорошие уроки».
— Увы! Моя прелестная Сюзанна! — сказал бальи. — Это не плохой сон, это, кажется, ужасная действительность.
— В самом деле, я начинаю припоминать, — сказала г-жа Маглуар.
Затем, притворившись, будто только сейчас заметила присутствие сеньора Жана, она спросила:
— Ах, монсеньер, я надеюсь, вы не стали повторять моему мужу все те глупости, что услышали от меня?
— Почему же, милая дама? — спросил сеньор Жан.
— Потому что честная женщина должна уметь постоять за себя и не надоедать мужу подобным вздором.
— Напротив, сударыня, — возразил сеньор Жан. — Я все рассказал моему другу.
— Как! Вы сказали ему, что во время ужина этот человек гладил под столом мое колено?
— Сказал.
— Ах, негодяй! — сказал бальи.
— Вы сказали ему, что, когда я уронила салфетку и наклонилась поднять ее, я наткнулась не на нее, а на его руку.
— Я ничего не скрыл от метра Маглуара.
— Ах, разбойник! — вскричал бальи.
— И сказали, что, когда метр Маглуар, сидя за столом, почувствовал слабость и закрыл глаза, его гость воспользовался этим, чтобы насильно поцеловать меня?
— Я считал, что муж должен знать все.
— Злодей! — завопил бальи.
— Наконец, — договорила дама, — вы сказали ему, что, когда я вошла в спальню, ветер задул мою свечу и мне показалось, что занавеси на этом окне зашевелились, так что я позвала вас на помощь, решив, что он там прячется?
— Нет, я этого не сказал, но как раз собирался, когда вы чихнули.
— Подлец! — заревел бальи, хватая и вытаскивая из ножен шпагу сеньора Жана, лежавшую на стуле, и устремился к окну, указанному его женой. — Если он действительно там, за этой занавеской, я насажу его на вертел как зайца!
И в самом деле, он два или три раза ткнул шпагой в занавески.
Но вдруг бальи замер на месте, как делают школьники во время игры.
Волосы его под ночным колпаком встали дыбом, и почтенный головной убор судорожно закачался.
Шпага выпала из дрожащей руки и, звеня, покатилась по полу.
Он только что увидел за занавесками Тибо; и, если Гамлет, считая, что поражает убийцу отца, убил Полония, то он, бальи, считая, что перед ним пустота, едва не проткнул своего позавчерашнего знакомца, уже успевшего оказаться неверным другом.
Поскольку бальи концом шпаги приподнял занавеску, он оказался не единственным, кто увидел башмачника.
Его жена и сеньор Жан, чьим глазам это зрелище тоже представилось, вскрикнули от изумления.
Они и не думали, что их рассказ окажется таким правдивым.
Сеньор Жан не только узнал Тибо, но вспомнил, где он его видел.
— г- Разрази меня гром! — сказал сеньор Жан, направляясь к башмачнику. — Если я не ошибся, это мой старый знакомый — человек с рогатиной!
— Как человек с рогатиной? — стуча зубами, переспросил бальи. — Надеюсь, по крайней мере, сейчас рогатины при нем нет?
И он спрятался за спину жены.
— Нет, нет, успокойтесь, — обернулся к нему сеньор Жан. — Впрочем, если рогатина при нем, я ее отберу. А, господин браконьер, — продолжал он, снова повернувшись к Тибо, — значит, вам мало того, что вы охотитесь на оленей его высочества герцога Орлеанского в лесу Виллер-Котре; вы вышли из леса, чтобы поохотиться в землях моего приятеля, бальи Маглуара?
— Как, он браконьер? — удивился бальи. — Значит, метр Тибо вовсе не честный землевладелец, живущий в сельском доме на доходы от сотни арпанов земли?
— Он! — сеньор Жан разразился хохотом. — Похоже, он заставил вас поверить в это. У негодяя хорошо подвешен язык. Он — землевладелец! Этот прощелыга! Все его богатство — на ногах у моих конюхов: он делает сабо.
Госпожа Сюзанна, услышав, чем занимается Тибо, состроила презрительную гримасу.
Метр Маглуар отступил на шаг и покраснел.
Славный толстяк не был спесив. Нет, но он не выносил лжи.
Он стыдился не того, что чокался с башмачником, а того, что пил с лжецом и предателем.
Тибо выслушал весь этот поток оскорблений с улыбкой, стоя со скрещенными на груди руками.
Стоит ему заговорить — и перевес сразу окажется на его стороне.
Момент показался ему подходящим.
Насмешливо — это доказывало, что он мало-помалу приучался говорить с людьми, занимающими более высокое положение в обществе, чем он сам, — Тибо воскликнул:
— Клянусь рогами дьявола, как вы только что выразились, монсеньер! Знайте, что вы сами немилосердно проболтались; если бы кое-кто здесь поступил так же, как вы, мне не пришлось бы даже притворяться, что я попал в затруднительное положение.
Сеньор Жан в ответ на эту угрозу, вполне ясную для него и для жены бальи, смерил башмачника гневным взглядом.
— О, вот увидите, сейчас он выдумает про меня какую-нибудь гадость, — несколько неосторожно сказала г-жа Маглуар.
— Не беспокойтесь, сударыня, — ответил Тибо, снова вполне обретя самоуверенность. — Если уж говорить о гадостях, то вы такое натворили, что мне незачем придумывать новые.
— Сколько в нем злости! Видите, я не ошиблась: он собирается оклеветать меня, он хочет отомстить за то презрение, которым я ответила на его нежные взгляды, наказать меня за то, что я не стала жаловаться мужу на его приставания.
Пока г-жа Сюзанна говорила, сеньор Жан подобрал с пола свою шпагу и двинулся к Тибо.
Но бальи, бросившись между ними, удержал руку сеньора Жана.
Это было очень кстати, потому что Тибо ни на шаг не отступил, чтобы уклониться от удара и, конечно, собирался отвести угрожавшую ему опасность каким-то страшным пожеланием.
Однако, благодаря вмешательству бальи, Тибо не пришлось ни о чем просить своего покровителя.
— Успокойтесь, монсеньер! — сказал метр Маглуар. — Этот человек недостоин нашего гнева. Посмотрите, я скромный буржуа, и все же я презираю его болтовню и прощаю ему то, что он хотел злоупотребить моим гостеприимством.
Госпожа Маглуар решила, что пора оросить эту сцену слезами.
Она разрыдалась.
— Не плачь, жена! — мягко, ласково и добродушно сказал ей бальи. — В чем может обвинить вас этот человек, если допустить, что он это сделает? Что вы неверны мне? Господи Боже мой! Если вы меня — такого, какой я есть, — до сих пор не обманывали, я должен поблагодарить вас за те прекрасные дни, какими вам обязан. Не бойтесь, что это воображаемое зло, причиненное мне, изменит мое к вам отношение. Я всегда буду добрым и снисходительным к вам, Сюзанна, и никогда не закрою ни мое сердце для вас, ни мои двери для моих друзей. Смиренному и слабому лучше всего склониться и доверять людям, тогда приходится опасаться лишь злых и трусливых, а я, по счастью, уверен: их меньше, чем мы думаем. И в конце концов, право же, если птица беды проскользнет в мой дом через дверь или через окно, — клянусь святым Григорием, покровителем пьяниц! — я буду так громко петь и звенеть стаканами, что придется ей убраться туда, откуда она пришла.
Госпожа Сюзанна упала к ногам толстяка и целовала ему руки.
Было ясно, что меланхолически-философская речь бальи произвела на нее более сильное впечатление, чем самая красноречивая проповедь.
Даже сеньор Жан казался растроганным.
Он вытер кончиком пальца заблестевшую в уголке его глаза слезу.
Затем, протянув руку бальи, сказал:
— Клянусь рогами Вельзевула! У вас проницательный ум и доброе сердце, и было бы грешно, друг мой, отягощать вашу голову заботами. Если я думал о вас плохо, пусть Господь меня простит! Но я обещаю вам, что больше этого никогда не случится!
Пока три второстепенных персонажа нашей истории скрепляли этот договор о прощении и раскаянии, положение четвертого, то есть главного героя, становилось все более затруднительным.
Сердце Тибо переполнилось бешеной ненавистью.
Сам того не заметив, из эгоиста и завистника он превратился в злодея.
— Не знаю, — вдруг закричал он, сверкая глазами, — что мешает мне ужасным способом покончить со всем этим!
Услышав это очень смахивающее на угрозу восклицание, и особенно тон, которым оно было произнесено, сеньор Жан и г-жа Сюзанна почувствовали, что какая-то большая опасность, неведомая и неслыханная, нависла над всеми.
Сеньора Жана не так легко было испугать.
Во второй раз он двинулся к Тибо со шпагой в руке.
И во второй раз бальи остановил его.
— Сеньор Жан! Сеньор Жан! — прошептал Тибо. — Уже во второй раз ты хочешь проткнуть меня насквозь своей шпагой; стало быть, ты во второй раз мысленно совершаешь убийство! Берегись! Грешат не только делом.
— Тысяча чертей! — вне себя закричал барон. — Похоже, этот мерзавец мне нотацию читает! Приятель, вы хотели только что насадить его на вертел как зайца; позвольте мне нанести всего один удар, какой матадор наносит быку; обещаю вам, от этого удара он не оправится.
— Сжальтесь над вашим бедным слугой, который на коленях умоляет вас, — сказал бальи. — Отпустите этого человека с миром, монсеньер, соблаговолите вспомнить, что он мой гость и в моем скромном жилище ему нельзя причинить зло или увечье.
— Пусть будет по-вашему! — ответил сеньор Жан. — Но я отыщу его. В последнее время о нем ходят нехорошие слухи и в вину ему вменяется не только браконьерство. Его видели и узнали, когда он бегал по лесу в сопровождении особенным способом прирученных волков. По-моему, негодяй все субботние ночи не ночует дома и чаще седлает метлу, чем подобает доброму католику; мне говорили, что койольская мельничиха жаловалась на его колдовство… Хорошо, не будем больше говорить об этом; я прикажу осмотреть его дом и, если мне там что-то покажется не в порядке, велю уничтожить это ведьмино гнездо, которое не потерплю во владениях его высочества герцога Орлеанского. Теперь убирайся, да поживее!
Этот выговор и эти угрозы сеньора Жана крайне ожесточили башмачника.
Все же он воспользовался тем, что путь открыт, и вышел из комнаты.
Благодаря своей способности видеть в темноте, он прошел прямо к двери, открыл ее и, переступив порог дома, где навек похоронил сладкие надежды, так яростно хлопнул дверью, что стены задрожали.
Ему пришлось подсчитать бесполезную трату желаний и волос, сделанную за этот вечер, чтобы удержаться и не попросить уничтожить в пламени этот дом со всеми, кто в нем находился.
Прошло десять минут, прежде чем Тибо обратил внимание на погоду.
Дождь лил как из ведра.
Но этот дождь, хотя он был ледяным — и даже именно поэтому, — благотворно подействовал на башмачника.
Как наивно сказал добрый Маглуар, голова его горела.
Выйдя от бальи, Тибо бросился бежать куда глаза глядят.
Он не искал какого-то определенного места.
Ему хотелось простора, свежего воздуха и движения.
Бесцельный бег привел его сначала в лес Валю.
Но он не замечал, где находится, пока не увидел вдали койольскую мельницу.
Проходя мимо, он послал глухое проклятие красивой мельничихе, затем пронесся как безумный между Восьенном и Койолем и, когда впереди показалась темная масса, бросился туда. Это был лес.
Перед ним лежала дорога, ведущая от последних домов Ама через Койоль в Пресьямон.
Он наугад пустился по ней.
XIV ДЕРЕВЕНСКАЯ СВАДЬБА
Едва войдя в лес, Тибо оказался среди своих волков.
Он был рад этому и, замедлив бег, позвал их.
Волки подбежали к нему.
Тибо ласкал их, словно пастух — своих овечек или охотник — своих собак.
Это было его стадо, его свора.
Стадо с горящими глазами; свора с огненными взглядами. Над головой Тибо, среди сухих веток, бесшумно пролетали жалобно стонавшие неясыти, скорбно ухавшие совы.
И на ветках, словно крылатые угли, светились глаза ночных птиц.
Тибо, казалось, был центром адского круга.
Не только волки к нему ластились, ложились у его ног, но и совы с сычами льнули к нему.
Сычи задевали его волосы своими бесшумными крыльями; совы усаживались к нему на плечи.
— Ах, значит, я не всему творению враг, — пробормотал Тибо, — меня ненавидят люди, но звери и птицы любят.
Тибо забыл о том, какое место в мироздании занимали любящие его живые существа.
Он не вспоминал о том, что эти твари ненавидят человека и прокляты человеком.
Он не думал о том, что они именно потому и любили его, что он среди людей стал тем, чем они были среди животных.
Ночным существом!
Хищным человеком!
Тибо не мог совершить ни малейшего хорошего поступка в окружении этого сброда. Но он мог сделать много дурного.
Тибо улыбнулся, подумав о том зле, какое он мог причинить.
До его хижины оставалось пройти еще льё; он чувствовал себя уставшим. Неподалеку стоял дуб с большим дуплом. Тибо знал его и, оглядевшись, направился к нему.
Если бы он заблудился, волки вывели бы его на дорогу: они словно угадывали его мысли и предупреждали его желания. Сычи и совы, перелетая с ветки на ветку, прокладывали дорогу, волки бежали впереди Тибо, указывая путь.
Дерево стояло в двадцати шагах от тропинки.
Как мы сказали, это был старый дуб — из тех, чей возраст исчисляется не годами, а веками.
Деревья, живущие в десять, двадцать, тридцать раз дольше человека, не считают дней и ночей, подобно людям: они замечают лишь смену времен года.
Осень для них сумерки, зима — их ночь.
Весной для них наступает рассвет, летом — день.
Человек завидует дереву, как мотылек мог бы завидовать человеку.
Сорок человек, взявшись за руки, не смогли бы обхватить ствол этого дуба.
Время, каждый день откалывая по щепочке концом своей косы, выточило в стволе дупло размером с обычную комнату.
Но вход в него едва пропускал одного человека.
Тибо протиснулся внутрь.
Он нашел нечто вроде сиденья, образовавшегося в толще дерева, устроился так же удобно и уютно, как в вольтеровском кресле, пожелал доброй ночи своим волкам и совам, закрыл глаза и уснул.
Волки улеглись вокруг дерева.
Сычи и совы расположились на ветках.
Глаза зверей и птиц сверкали в темноте.
Дуб, украшенный всеми этими огнями у подножия и на ветках, походил на огромную подставку для иллюминации, зажженной по случаю какого-то адского праздника.
…Когда Тибо проснулся, было совсем светло.
Волки давно уже вернулись в свои пещеры, совы и сычи укрылись в своих развалинах.
Ничто не напоминало о вчерашнем дожде.
Луч солнца, один из тех бледных лучей, чье появление все же предвещает весну, проскользнул среди обнаженных ветвей и, видя, что на них нет еще листвы, заиграл на вечной темной зелени омелы.
Издали неясно доносилась музыка.
Но звуки понемногу приближались, и вскоре можно было различить инструменты в оркестре, состоявшем из двух скрипок и гобоя.
Вначале Тибо показалось, что все это ему снится.
Но было совсем светло, голова у него была ясная, и Тибо пришлось признать, что он совсем проснулся; к тому же, пока он протирал глаза, желая убедиться в реальности происходящего, звуки стали совсем отчетливо слышны.
Они быстро приближались.
Какая-то птица божественным пением отозвалась на человеческую музыку.
У подножия дерева, на котором она пела, сияла звезда подснежника.
Небо светилось голубизной, словно это был погожий апрельский день.
Что означал этот весенний праздник среди зимы?
Пение птицы, встретившее этот нежданный свет, сияние цветка, отразившего в своей чашечке солнце, чтобы поблагодарить светило за его приход, звуки праздника — все это доказывало несчастному грешнику: люди объединились с остальной природой, чтобы быть счастливыми под этим лазурным сводом. Все это цветение счастья и радости, вместо того чтобы успокоить Тибо, усилило его мрачное настроение.
Ему хотелось бы сделать весь мир темным и угрюмым под стать его собственной душе.
Сначала он хотел убежать от этого приближавшегося к нему сельского праздника.
Но ему показалось, будто власть более сильная, чем его собственная воля, приковала его ноги к земле.
Он забился поглубже в дупло и стал ждать.
Вместе с мелодиями скрипок и голосом гобоя ясно слышались радостные крики и веселые песни.
Время от времени раздавался ружейный выстрел или взрывалась шутиха.
Тибо догадался, что весь этот веселый шум могла производить деревенская свадьба.
В самом деле, в сотне шагов от него, в конце длинной Амской просеки, показалась процессия нарядно одетых людей: женщины в ярких платьях и мужчины в воскресной одежде; у женщин на поясе, у мужчин на шляпах и в петлицах развевались разноцветные ленты.
Впереди шли скрипачи.
За ними — крестьяне, и среди них несколько человек, в которых Тибо по одежде узнал слуг сеньора Жана.
Следом шел Ангулеван, помощник доезжачего, на руку которого опиралась слепая старуха, украшенная лентами, как и все остальные.
За ними шел дворецкий замка Вез — вероятнее всего посаженый отец маленького псаря; он вел под руку невесту.
Тибо, не веря своим глазам, в ужасе уставился на новобрачную.
Он упрямо не желал узнавать ее.
Наконец, когда между ними осталось всего тридцать или сорок шагов, ему пришлось ее узнать.
Невестой на этой свадьбе была Аньелетта.
Аньелетта!
И что окончательно его унизило, нанесло его гордости последний удар — Аньелетта не была бледна и не дрожала, ее не тащили силой к алтарю, она не озиралась, раскаявшись или вспомнив что-то; нет, она казалась веселой, как эта поющая птица, как этот цветущий подснежник, как этот сияющий солнечный луч; Аньелетта явно гордилась своим флердоранжем, своей кружевной фатой, своим платьем из муслина; наконец, улыбающаяся Аньелетта похожа была на статую Пречистой Девы в церкви Виллер-Котре, когда в Троицын день ее оденут в белое платье.
Несомненно, всей этой роскошью она обязана была владелице замка Вез, жене сеньора Жана, которую называли святой за оказываемые ею благодеяния и раздаваемые ею пожертвования.
Аньелетта сияла и светилась улыбкой не от большой любви к тому, кто должен был стать ей мужем; нет, она нашла то, чего желала так страстно, то, что Тибо так вероломно пообещал ей, но не захотел дать, — опору для своей старой слепой бабушки.
Музыканты, жених с невестой, шафера и подружки на свадьбе прошли по дороге в двадцати шагах от Тибо, не увидев высунувшейся из дупла головы с огненными волосами и метавшими молнии глазами.
Затем они в том же порядке, как появились перед Тибо, скрылись в лесу.
Звуки скрипок и гобоя, раньше постепенно усиливавшиеся, теперь так же стихали. Через четверть часа лес снова был пуст и безлюден…
Тибо остался наедине с поющей птицей, распустившимся цветком, сияющим солнечным лучом.
Но теперь в его душе разгорелось адское пламя, змеи острыми зубами терзали его сердце и вливали в него самый сильный яд.
Адская ревность!
Видя Аньелетту такой свежей, такой милой, простодушно-веселой, а главное — увидев ее в день, когда она стала принадлежать другому, Тибо, уже три месяца не думавший о девушке, Тибо, у которого и в мыслях не было сдержать данное ей слово, — вообразил, будто никогда не переставал любить ее.
Ему казалось, что Аньелетта поклялась быть верной ему, и Ангулеван похитил его собственность.
Еще немного — и он выскочил бы из своего убежища, чтобы обвинить Аньелетту в измене.
Ускользнув от него, Аньелетта в тот же миг обрела в глазах Тибо достоинства и добродетели, которых он и не подозревал в ней в то время, когда довольно было лишь слово сказать — и она принадлежала бы ему.
Казалось, это был последний удар судьбы: после стольких разочарований отнять у него то, что он считал своим достоянием, на которое никто не позарится и которое он всегда успеет взять.
Его немое отчаяние было угрюмым и глубоким. Он грыз кулаки, бился головой о стенки дупла и наконец разрыдался.
Но его слезы и рыдания были не из тех, что смягчают сердце и обращают дурные чувства в добрые; нет, слезы и рыдания, вызванные не раскаянием, а гневом и яростью, не могли изгнать ненависть из души Тибо.
Казалось, половина его слез изливалась наружу, а вторая половина тем временем обращалась внутрь и падала на его сердце каплями желчи.
Он уверял себя, что любит Аньелетту.
Он жаловался, что потерял ее.
Но этот обезумевший от любви человек рад был бы увидеть Аньелетту упавшей замертво вместе с ее женихом у подножия алтаря, где священник должен был соединить их.
К счастью, Господь, сохранивший этих детей для других испытаний, не дал роковому пожеланию сложиться в уме Тибо.
Они, подобно человеку, который во время грозы слышит раскаты грома и видит кругом вспышки молний, не затрагивающие его, счастливо избежали смертельной опасности.
Вскоре башмачник уже краснел за свои слезы и стыдился своих рыданий.
Он подавил на глазах первые, в душе — вторые.
Выскочив из своего убежища, Тибо сломя голову помчался к хижине.
Меньше чем за четверть часа ему удалось пробежать льё.
Бешеная гонка вогнала его в испарину и принесла хоть немного облегчения.
Наконец он увидел, что оказался рядом с хижиной.
Ворвавшись в нее, как тигр в свою пещеру, захлопнув за собой дверь, он забился в самый темный угол бедного жилища.
Там, поставив локти на колени, уткнув подбородок в кулаки, он погрузился в размышления.
О чем думал этот отчаявшийся человек?
Спросите у Мильтона, о чем думал Сатана после своего падения.
Он снова возвращался к мечтам, постоянно будоражившим его ум, ставшим причиной стольких людских разочарований в прошлом, до его рождения, готовым породить столько же разочарований в будущем, после его смерти.
Почему один рождается бессильным, а другой могущественным?
Почему такое неравенство уже на той ступени, где все кажутся равными, — при появлении на свет?
Как вмешаться в эту игру природы, где случай постоянно играет против человека?
Поступить как ловкие игроки и привлекать на свою сторону дьявола?
Плутовать?
Он тоже это делал!
Но что он выиграл?
Каждый раз, как карта шла к нему и он был уверен в своем выигрыше, побеждал дьявол.
Какую выгоду принесла ему эта роковая способность творить зло?
Никакой.
Аньелетта ускользнула от него.
Мельничиха его выгнала.
Жена бальи посмеялась над ним.
Его первое желание стало причиной смерти бедняги Маркотта, а он сам не получил даже оленьего окорока, которого ему хотелось, и с тех пор его ждали сплошные разочарования.
Ему пришлось отдать этого оленя собакам сеньора Жана, чтобы сбить их со следа черного волка.
И потом, дьявольских волос стало чудовищно много!
Все это напоминало историю с тем ученым, что потребовал удвоенного количества пшеничных зерен за каждую следующую из шестидесяти четырех клеток шахматной доски: чтобы заполнить последнюю, понадобилась бы тысяча лет обильных урожаев!
Сколько у него еще осталось желаний? Самое большее — семь или восемь.
Несчастный не решался взглянуть на свое отражение.
Он не осмеливался смотреться ни в ручей, который тек у подножия дерева в лесу, ни в зеркало, которое висело на стене хижины.
Он боялся слишком точно узнать, как долго еще может продлиться его могущество.
Он предпочитал оставаться в ночи, лишь бы не увидеть грозную зарю, которой эта ночь сменится.
Но должно же было существовать средство все устроить так, чтобы чужое несчастье приносило ему выгоду!
Ему казалось, что, если бы он, вместо того чтобы оставаться бедным башмачником, едва умеющим читать и считать, получил хорошее образование, то сумел бы вычислить, как наверняка добиться богатства и счастья.
Несчастный безумец!
Если бы он был образованным, то знал бы легенду о докторе Фаусте.
К чему привело Фауста — мечтателя, мыслителя, ученого — дарованное ему Мефистофелем всемогущество?
К убийству Валентина! К самоубийству Маргариты! К погоне за Еленой — за тенью!
Впрочем, разве мог Тибо чего-нибудь хотеть, разве мог строить планы, когда его сердце терзала ревность, когда он видел беленькую Аньелетту, связавшую себя у алтаря на всю жизнь с другим — не с ним!
И кому она поклялась в верности?
Жалкому маленькому Ангулевану, тому самому, который обнаружил Тибо на дереве и подобрал в кустах брошенную им рогатину; это из-за него Тибо получил дюжину ударов от Маркотта!
О, если бы знать! Как бы Тибо хотелось, чтобы несчастье случилось вместо Маркотта с Ангулеваном!
Что значила физическая боль от ударов перевязью по сравнению с его сегодняшней душевной мукой!
Представьте, что у него не возникли бы честолюбивые желания, поднявшие его, словно на крыльях ястреба, над его сословием, каким он был бы счастливым, — он, умелый мастер, который мог бы зарабатывать по шести франков в день, будь у него такая милая маленькая хозяйка, как Аньелетта!
Он был уверен, что Аньелетта прежде любила его; может быть, она продолжала его любить, обвенчавшись с другим. Раздумывая обо всем этом, Тибо чувствовал, как шло время. Наступила ночь.
Какими бы бедными ни были новобрачные, какими бы скромными ни оказались желания крестьян, приглашенных на свадьбу, но в этот час все они, гости и новобрачные, сидели за праздничным столом.
Только он был одинок и несчастлив.
Некому было приготовить ему ужин.
Что у него в доме было из еды и питья?
Хлеб! Вода!
Он один; Небо не послало ему сестры, подруги, жены.
Но почему бы и ему не поужинать весело и сытно?
Ведь он мог пойти, куда ему заблагорассудится.
Разве не лежали у него в кармане деньги, вырученные за дичь, которую он только что продал хозяину «Золотого шара»?
Разве он не может потратить на себя одного столько же, сколько пошло на весь свадебный стол?
Это зависело только от него.
— Ах, черт возьми! — сказал Тибо. — Я дурак, если остаюсь здесь, чтобы изводить себя ревностью, мучить голодом, когда я могу через час с помощью хорошего ужина и двух-трех бутылок доброго вина обо всем забыть. Ну, пойдем поедим, а главное — выпьем!
Собираясь в самом деле вкусно поесть, он отправился в Ферте-Милон, где под вывеской с изображением золотого дельфина процветал трактир, хозяин которого, как уверяли, мог за пояс заткнуть метрдотеля его высочества монсеньера герцога Орлеанского.
XV СЕНЬОР ДЕ ВОПАРФОН
В «Золотом дельфине» Тибо заказал самый лучший ужин, какой только смог вообразить.
Можно было приказать подать его в отдельный кабинет, но тогда Тибо не испытал бы наслаждения от своего превосходства над другими.
Заурядные посетители должны были видеть, как он ест цыпленка и матлот из угря по-матросски.
Он хотел, чтобы другие гуляки завидовали человеку, наливающему себе вино из трех бутылок в три стакана разной формы.
Окружающие должны были слышать, каким высокомерным тоном он отдавал распоряжения и какой серебряный звон издавали его пистоли.
Едва он сделал свое первое распоряжение, как сидевший в самом темном углу со своей бутылкой вина человек в сером повернулся, как обычно оборачиваются на звук знакомого голоса.
В самом деле, этот человек был приятелем Тибо, мы хотели сказать — собутыльником.
С тех пор как Тибо перестал быть башмачником, работающим днем, и сделался ночным вожаком волчьей стаи, у него появилось немало приятелей такого рода.
Увидев Тибо, серый быстро отвернулся к стене.
Но недостаточно быстро, потому что Тибо успел узнать метра Огюста Франсуа Левассера, камердинера сеньора Рауля де Вопарфона.
— Эй, Франсуа! — крикнул Тибо. — Что ты там сидишь в углу с надутой физиономией, словно монах в Великий пост, вместо того чтобы честно и открыто, как делаю я, ужинать на виду у всех?
Франсуа не ответил на обращение, только сделал Тибо рукой знак молчать.
— Молчать? Чтобы я молчал? — удивился Тибо. — А если я не хочу молчать? Если я хочу говорить? Если мне скучно ужинать одному? Если я желаю сказать тебе: «Друг Франсуа, подойди ко мне: я приглашаю тебя поужинать со мной…»? Ты не идешь? Нет? Что ж, тогда я сам подойду к тебе.
Тибо встал и, провожаемый взглядами всех посетителей, подошел и так хлопнул своего друга Франсуа по плечу, что чуть не покалечил его.
— Притворись, что ты обознался, Тибо, или я потеряю место из-за тебя; ты разве не видишь, что на мне не ливрея, а серый, как эта стена, сюртук? Я здесь по любовным делам моего хозяина и жду записку, которую должен ему отнести.
— Это другое дело, и я прошу тебя простить мне мою нескромность. Все-таки я очень хотел бы поужинать с тобой.
— Нет ничего проще: вели подать себе ужин в отдельный кабинет, а я скажу трактирщику, чтобы он, когда появится еще один серый, такой же как я, провел его к нам — между друзьями нет секретов.
— Хорошо! — согласился Тибо.
Он подозвал хозяина и велел отнести ужин на второй этаж, в комнату с окнами на улицу.
Франсуа устроился так, чтобы издали увидеть, как тот, кого он ждет, спустится с горы Ферте-Милон.
Тибо заказал для себя одного такой обильный ужин, что его вполне должно было хватить для двоих.
Пришлось спросить только еще одну или две бутылки вина.
Тибо взял у метра Маглуара лишь два урока, но хороших урока, и воспользовался ими.
Скажем еще, что Тибо хотел кое о чем забыть и рассчитывал на помощь вина.
Так что для него было большой удачей встретить друга, с которым можно было бы поговорить.
В том состоянии сердца и ума, в каком находился наш герой, пьянеют от разговоров не меньше, чем от вина.
Поэтому, едва закрыв дверь и усевшись, Тибо надвинул поглубже шляпу, чтобы Франсуа не заметил изменившегося цвета его волос, и завязал разговор, смело взяв быка за рога.
— Ну вот, друг Франсуа, теперь ты объяснишь мне смысл нескольких непонятных для меня слов, не так ли?
— Нет ничего удивительного в том, что ты их не понял, — самодовольно откинувшись на спинку стула, ответил Франсуа. — Мы, слуги знатных господ, говорим на придворном языке, которым владеют не все.
— Нет, но если нам объяснить, мы поймем.
— Превосходно! Спрашивай, я отвечу тебе.
— Я тем более на это надеюсь, что беру на себя обязанность смачивать твои ответы — им будет легче выходить. Во-первых, что значит «серый»? До сих пор я считал, что это попросту осел.
— Сам ты осел, друг Тибо, — Франсуа рассмешило невежество башмачника. — Нет, «серый» — это ливрейный лакей, временно переодетый в серый сюртук, чтобы не узнали ливрею, пока он караулит за колонной или сторожит у дверей.
— Значит, сейчас ты в карауле, бедняга Франсуа? И кто должен тебя сменить?
— Шампань — тот, который служит у графини де Мон-Гобер.
— Так, понятно. Твой хозяин, сеньор де Вопарфон, влюблен в графиню де Мон-Гобер. Ты ждешь письма от дамы, и его принесет тебе Шампань.
— Optime![2] — как говорит учитель младшего брата господина Рауля.
— Счастливчик этот сеньор Рауль!
— Еще бы! — выпятив грудь, подтвердил Франсуа.
— Черт возьми! Графиня — такая красотка!
— Ты ее знаешь?
— Я видел ее на охоте вместе с его высочеством герцогом Орлеанским и госпожой де Монтессон.
— Друг мой, знай, что надо говорить не «охота», а «облава».
— О, — отозвался Тибо, — я не вникаю в такие тонкости. За здоровье сеньора Рауля!
Едва поставив свой стакан на стол, Франсуа увидел Шампаня, и у него вырвалось восклицание.
Открыв окно, он окликнул третьего собутыльника.
Шампань обладал быстротой соображения лакея из хорошего дома: он сразу же поднялся наверх.
Как и его товарищ, он был одет в серый сюртук.
Шампань принес письмо.
— Ну, что? — спросил Франсуа, увидев письмо от графини де Мон-Гобер в руках Шампаня. — Свидание состоится сегодня вечером?
— Да, — радостно ответил Шампань.
— Тем лучше, — весело откликнулся Франсуа.
Это общее счастье господ и слуг удивило Тибо.
— Вы так радуетесь любовным победам хозяина? — спросил он у Франсуа.
— Дело не в этом; когда господин барон Рауль де Вопарфон занят — я свободен!
— И ты пользуешься своей свободой?
— Еще бы! — Франсуа приосанился. — Пусть я камердинер, но и у меня есть свои делишки, и я умею провести время.
— А вы, Шампань?
— Я? — новоприбывший рассматривал на свет рубиновую жидкость в своем стакане. — Я тоже надеюсь своего не упустить…
— Ну, за вашу любовь! — произнес Тибо. — Раз у каждого есть своя любовь.
— За вашу! — хором ответили оба лакея.
— О, я, — проговорил башмачник с выражением глубокой ненависти ко всему роду человеческому, — я единственный, кто сам никого не любит и кого не любит никто.
Два человека с удивлением уставились на Тибо.
— О, значит, правда то, — спросил Франсуа, — что поговаривают о вас в наших краях?
— Обо мне?
— Да, о вас, — подтвердил Шампань.
— Значит, в Мон-Гобере говорят то же, что и в Вопарфоне?
Шампань кивнул.
— Ну, и что же говорят? — поинтересовался Тибо.
— Что вы оборотень, — ответил Франсуа.
Тибо расхохотался.
— Что ж, есть у меня хвост? И когти? И морда у меня волчья?
— Так мы же только повторили, что о вас рассказывают, — возразил Шампань, — мы не говорим, что это так и есть.
— Во всяком случае, — продолжал Тибо, — признайте, что оборотни пьют хорошее вино.
— Ей-Богу, да! — согласились лакеи.
— За здоровье дьявола, который посылает его, господа!
Оба гостя, державшие стаканы в руке, опустили их на стол.
— Ну, в чем дело? — спросил Тибо.
— Пейте за его здоровье с кем-нибудь другим, — ответил Франсуа, — только не со мной.
— И не со мной, — добавил Шампань.
— Что ж, — сказал Тибо, — тогда я один выпью все три стакана.
Он так и поступил.
— Друг Тибо, — сказал лакей барона, — нам пора.
— Что, уже? — спросил Тибо.
— Мой хозяин ждет меня, и я уверен — с нетерпением… Где твое письмо, Шампань?
— Boт оно.
— Простимся с нашим другом и пойдем каждый по своим делам или к своим удовольствиям, а Тибо оставим развлекаться или заниматься делом.
С этими словами Франсуа подмигнул приятелю, который в ответ тоже подмигнул.
— Но мы же не разойдемся, не выпив по последней? — сказал Тибо.
— Только не из этих стаканов! — Франсуа указал на те, из которых Тибо пил за здоровье врага рода человеческого.
— Уж очень вы брезгливы; позовите ризничего и велите ополоснуть их святой водой.
— Нет; но чтобы не отказывать другу, мы позовем слугу и велим принести другие стаканы.
— Так, значит, эти, — Тибо начинал пьянеть, — годятся только на то, чтобы кинуть их в окно? Иди к черту! — пожелал он.
Стакан, посланный по такому адресу, прочертил в воздухе светящийся след, который погас, как гаснет молния.
Вслед за первым Тибо запустил в окно второй стакан.
За вторым последовал третий.
Полет третьего сопровождался сильным раскатом грома.
Тибо закрыл окно и сел на свое место, пытаясь придумать, как объяснить это чудо своим приятелям.
Но его приятели исчезли.
— Трусы! — проворчал Тибо.
И стал искать на столе стакан, чтобы выпить.
Стаканов больше не было.
— Ну и что, — сказал Тибо, — подумаешь беда! Буду пить прямо из бутылки, только и всего!
Сказано — сделано: Тибо закончил свой ужин, запивая его вином прямо из бутылки, что отнюдь не способствовало равновесию его и так уже изрядно пошатнувшегося рассудка.
В девять часов Тибо позвал хозяина, расплатился и вышел.
Он был настроен против всего человечества.
Мысль, от которой он хотел отделаться, преследовала его.
Чем больше проходило времени, тем дальше была от него Аньелетта.
Значит, у каждого была нежная подруга — жена или любовница.
Этот день, полный для него ярости и отчаяния, для всех остальных был днем счастья и радости.
В этот час каждый — сеньор Рауль, Франсуа и Шампань, два жалких лакея, — шел за сияющей звездой счастья.
Только он один брел, спотыкаясь, во тьме ночи.
На нем лежит проклятие.
Но, раз он проклят, у него остаются радости осужденного, и он решил заявить о своем праве на эти удовольствия.
Вот какие мысли вертелись в голове Тибо; громко богохульствуя и угрожая Небу кулаком, он шел по лесной дороге, ведущей прямо к его хижине; до нее оставалось не более ста шагов, когда сзади послышался стук копыт.
— А, вот сеньор де Вопарфон отправился на свидание, — сказал Тибо. — Я от души посмеялся бы, господин Рауль, если бы сеньор де Мон-Гобер застал вас у своей жены! Это прошло бы не так, как с метром Маглуаром, и вам пришлось бы обменяться ударами шпаг.
Занятый мыслями о том, что произойдет, если граф де Мон-Гобер застанет у своей жены барона де Вопарфона, Тибо, шедший посреди дороги, недостаточно быстро отскочил в сторону, и всадник, которому этот мужлан мешал проехать, вытянул его плеткой, крикнув при этом:
— Посторонись, мерзавец, если не хочешь, чтобы я раздавил тебя!
Еще не протрезвевший Тибо почувствовал одновременно ожог удара плеткой и холод грязной воды, в которую он упал, сбитый с ног конем.
Всадник ускакал.
Тибо, разъярившись, привстал на одно колено и показал кулак удалявшейся тени.
— Черт возьми! Хоть бы раз в жизни двадцать четыре часа побыть знатным сеньором, как вы, господин Рауль де Вопарфон, а не башмачником Тибо, как я; иметь доброго коня, а не ходить пешком; стегать попавшегося на дороге простолюдина; волочиться за прекрасными дамами, обманывающими своих мужей, как делает графиня де Мон-Гобер!
Едва Тибо договорил, как конь барона Рауля споткнулся, всадник вылетел из седла и откатился на десять шагов.
XVI СУБРЕТКА ЗНАТНОЙ ДАМЫ
Увидев, какая неприятность произошла с драчливым молодым сеньором, за несколько секунд до того наградившим его ударом хлыста, от которого еще вздрагивали плечи Тибо, этот последний со всех ног побежал взглянуть на сеньора Рауля де Вопарфона.
Неподвижное тело лежало поперек дороги, рядом с фыркающей лошадью.
Тибо оно показалось не тем, что проехало мимо пять минут назад и стегнуло его плеткой, и это было самым удивительным.
Во-первых, одежда на этом теле была крестьянская, а не дворянская.
Кроме того, Тибо показалось, что эта самая одежда только что была на нем самом.
Его изумление продолжало возрастать и дошло до предела, когда он заметил, что не только одежда, но и голова, венчавшая это совершенно бесчувственное тело, прежде принадлежала ему, Тибо.
Естественно, удивленный башмачник перевел глаза со своего двойника на себя самого и обнаружил, что его костюм претерпел существенные изменения.
Его ноги вместо башмаков с гетрами оказались обутыми в пару изящных высоких французских сапог, мягких, словно шелковые чулки, собранных на подъеме и украшенных тонкими серебряными шпорами.
Его кюлоты были не из плиса, но из самой лучшей темно-коричневой замши, какую только можно найти, и подвязки стягивались маленькими золотыми пряжками.
Его оливкого цвета редингот грубого сукна из Лувье превратился в изысканный зеленый охотничий костюм с золотыми бранденбурами, под которым виднелся тонкий белый пикейный жилет, а между его отворотами, поверх искусно плиссированной рубашки, струился батистовый галстук.
Даже его мужицкая шапка превратилась в элегантную треуголку, украшенную галуном, таким же самым, из какого были сделаны бранденбуры на рединготе.
Кроме того, вместо длинной палки (так мастеровые называют свое боевое оружие), которую минуту назад Тибо держал в руке то ли для опоры, то ли для защиты, он помахивал легким хлыстом и, слушая его свист, испытывал истинно аристократическое наслаждение.
Наконец, тонкую талию нового тела стягивал пояс, на котором висел длинный охотничий нож — нечто среднее между прямым тесаком и мечом.
Тибо рад был чувствовать на себе такой изысканный костюм, и естественное в подобных обстоятельствах кокетство вызвало у него желание немедленно увидеть, к лицу ли ему этот костюм.
Но где он мог посмотреть на себя среди ночи, темной, словно нутро печи?
Оглядевшись, Тибо понял, что стоит в десяти шагах от собственной хижины.
— Ах, черт возьми, нет ничего проще, — сказал он. — Разве у меня нет зеркала?
И Тибо кинулся бежать к дому, собираясь, подобно Нарциссу, насладиться собственной красотой.
Но дверь хижины оказалась запертой.
Напрасно Тибо искал ключ.
В его карманах были лишь туго набитый кошелек, коробочка ароматных пастилок и маленький перочинный ножик с золотой, отделанной перламутром рукояткой.
Куда он мог деть ключ от своей двери?
В его голове сверкнула догадка: ключ мог лежать в кармане у другого Тибо, того, что остался лежать на дороге.
Вернувшись, он порылся в кармане штанов двойника и извлек оттуда ключ вместе с несколькими двойными су.
Тибо взял грубое орудие кончиками пальцев и вернулся к своей двери.
Однако в доме было еще темнее, чем снаружи.
Тибо ощупью нашел огниво, трут и кремень и стал высекать огонь.
Через несколько секунд воткнутый в пустую бутылку огарок уже освещал комнату.
Но, зажигая свечу, Тибо не мог не коснуться ее пальцами.
— Фу! — сказал он. — Что за свиньи эти крестьяне! Как могут они жить в такой грязи!
Впрочем, свечка горела, а это было самым главным.
Тибо снял со стены зеркало, поднес его к свечке и посмотрел на себя.
Едва встретившись взглядом со своим отражением, он изумленно вскрикнул.
Это был не он; вернее, его душа была в чужом теле.
Его дух вселился в тело красивого молодого человека двадцати пяти-двадцати шести лет, голубоглазого, со свежими яркими щеками, пурпурными губами, белыми зубами.
Одним словом, это было тело барона Рауля де Вопарфона.
Только теперь Тибо вспомнил о своем желании, вырвавшемся у него в минуту гнева, после того как его ударили хлыстом и сбили с ног.
Он захотел на двадцать четыре часа стать бароном де Вопарфоном, а барон де Вопарфон на тот же срок должен был стать Тибо.
Теперь он понял то, что прежде казалось ему необъяснимым: почему бесчувственное тело, лежавшее посреди дороги, было одето в его платье и имело его лицо.
— Черт! — сказал он. — Надо в этом разобраться: кажется, что я здесь, а на самом деле я там. Примем меры, чтобы за те двадцать четыре часа, на которые я так неосторожно себя покинул, со мной не случилось бы непоправимого несчастья. Ну-ну, умерьте свое отвращение, господин де Вопарфон; перенесем сюда беднягу Тибо и устроим его поудобнее на постели.
И в самом деле, хоть эта работа и оскорбляла аристократические чувства r-наде Вопарфона, Тибо подобрал себя с дороги и на руках отнес в постель.
Уложив себя, Тибо задул свечу, боясь, как бы с ним не случилось беды, пока он лежит без сознания; затем он тщательно запер дверь и спрятал ключ в дупле, как делал всякий раз, когда не хотел носить его с собой.
После этого он поймал коня, схватив его за повод, и сел в седло.
Вначале он слегка беспокоился: Тибо гораздо чаще передвигался пешком, чем верхом, и не был опытным всадником.
Он боялся, что, если лошадь сдвинется с места, он не сможет сохранить равновесие.
Но похоже было на то, что вместе с телом Рауля он унаследовал его навыки: как только умное животное попыталось воспользоваться минутной неловкостью седока и сбросить его, Тибо инстинктивно подобрал поводья, сжал колени, вонзил шпоры в бока коню и два или три раза огрел его хлыстом, призвав непокорного к порядку.
Сам не зная как, Тибо оказался умелым наездником.
Эта победа над лошадью помогла ему осознать свою двойственность.
По внешности он с головы до ног был бароном Раулем де Вопарфоном.
Душой он остался Тибо.
Не было сомнений в том, что в бесчувственном теле Тибо, лежавшем в хижине, дремала душа молодого дворянина, одолжившего ему свое тело.
При этом обмене телами у Тибо осталось весьма смутное представление о том, что он должен был делать.
Он прекрасно знал, что графиня письмом пригласила его в Мон-Гобер.
Но что говорилось в этом письме?
В котором часу его ждали?
Как ему проникнуть в замок?
Это оставалось совершенно неизвестным, следовательно, это предстояло точно выяснить.
Тогда у Тибо возникла мысль.
Рауль, несомненно, держал письмо графини при себе.
Ощупав себя со всех сторон, Тибо и в самом деле почувствовал в боковом кармане куртки что-то напоминавшее формой тот предмет, который он искал.
Остановив коня, он порылся в кармане и вытащил маленький бумажник из надушенной кожи, на белой атласной подкладке.
В одном из отделений этого маленького бумажника лежало несколько писем, в другом — всего одно.
Скорее всего, из этого письма он и узнает все, что ему надо знать.
Оставалось только прочесть его.
Тибо был всего в трех или четырех сотнях шагов от деревни Флёри.
Он пустил лошадь галопом, надеясь застать свет в каком-нибудь доме.
Но в деревне спать ложатся рано, а в те времена ложились еще раньше, чем теперь.
Проехав улицу из конца в конец, Тибо не увидел ни одного огонька.
Наконец ему показалось, что он слышит шум из конюшни трактира.
Он крикнул; вышел слуга с фонарем.
— Друг мой, — сказал Тибо, совершенно забывший, что на время он стал знатным дворянином. — Не могли бы вы посветить мне минутку? Вы оказали бы мне услугу.
— И для этого вы вытащили меня из постели? — грубо ответил конюх. — Ну и болван же вы!
Он повернулся к Тибо спиной и собрался уйти.
Тибо понял свою ошибку.
— Эй, мерзавец! — сказал он, повысив голос. — Неси фонарь и свети мне, не то получишь двадцать пять ударов плеткой!
— Ой, простите меня, монсеньер, — ответил конюх, — я не знал, с кем говорю.
И, встав на цыпочки, он поднял фонарь повыше, чтобы Тибо мог читать.
Тибо развернул письмо и прочел:
«Мой милый Рауль,
решительно, богиня Венера покровительствует нам. Не знаю, что за большая охота готовится завтра у Тюри, но знаю, что он уезжает сегодня вечером.
Выезжайте в девять, и Вы будете здесь в половине одиннадцатого.
Вы знаете, где войти; Вас встретит известная Вам особа и проводит в известное Вам место.
Мне показалось — не в упрек Вам, — что в прошлый раз Вы очень задержались в коридорах.
Джейн».
— Ах, черт! — выругался Тибо.
— Что угодно, монсеньер? — спросил конюх.
— Ничего, мужлан, кроме того, что больше ты мне не нужен и можешь убираться.
— Счастливого пути, монсеньер! — низко кланяясь, пожелал слуга.
И ушел.
— Черт! — повторил Тибо. — Немного же я узнал из этого письма — богиня Венера покровительствует нам, «он» уезжает сегодня в Тюри, графиня де Мон-Гобер ждет меня в половине одиннадцатого, и графиню зовут Джейн. Что касается остального, я знаю, где войти, знаю, кто меня встретит и куда меня проводят.
Тибо почесал за ухом; этот жест в любой стране свойствен людям, оказавшимся в крайне затруднительном положении.
Ему захотелось разбудить сеньора де Вопарфона, спавшего на его постели в оболочке Тибо.
Но, кроме того, что это означало бы потерять время, у этого средства были и другие неудобства.
Дух барона Рауля, увидев свое тело так близко, мог пожелать вернуться в него.
Но тогда — борьба, в которой Тибо сможет защищаться лишь с риском причинить вред себе самому.
Надо было найти другой способ.
Тибо не раз приходилось слышать похвалы мудрости животных, и сам он не раз в продолжение своей деревенской жизни имел возможность восхищаться их инстинктом.
Он решил довериться коню.
Тибо вывел коня на дорогу, повернул его головой в сторону Мон-Гобера и отпустил поводья.
Конь понесся галопом.
Конечно, он понял, что от него требуется.
Тибо больше не о чем было беспокоиться: за него все сделает конь.
У поворота ограды парка конь встал, но не потому, что не был уверен в дороге: он насторожил уши и казался встревоженным.
Тибо показалось, что он видит две тени; наверное, это и в самом деле были тени, потому что, сколько он ни поднимался в стременах, желая стать повыше, сколько ни оглядывался, ровно ничего не увидел.
Он подумал, что это браконьеры, которые хотят проникнуть в парк, чтобы составить конкуренцию прежнему Тибо в поисках дичи.
Никто не пытался преградить ему путь, и Тибо оставалось лишь предоставить коню свободу действий.
Он снова отпустил поводья.
Конь скакал крупной рысью вдоль ограды парка, ступая по вспаханной земле, и ни разу не заржал, как будто догадывался, что должен двигаться как можно тише.
Пробежав таким образом вдоль одной стороны ограды, конь свернул за угол и остановился у пролома.
— Несомненно, мы пройдем здесь, — сказал Тибо.
Конь принюхался и поскреб землю копытом.
Это был утвердительный ответ.
Тибо снова отпустил повод, и конь, из-под копыт которого посыпались камни, перепрыгнул через пролом.
Они оказались в парке.
Одно из трех затруднений счастливо разрешилось.
Тибо прошел внутрь, зная, «где войти».
Оставалось найти «известную особу».
Через пять минут конь встал в сотне шагов от замка, перед дверью одной из тех хижин, которые выстроены из неотесанных бревен и глины и украшают пейзажи парков, изображая развалины.
Дверь приоткрылась: внутри услышали стук копыт.
Вышла хорошенькая горничная.
— Это вы, господин Рауль? — шепотом спросила она.
— Да, дитя мое, это я, — спешившись, ответил Тибо.
— Госпожа ужасно боялась, что этот пьяница Шампань не передал вам письмо…
— Напрасно боялась: Шампань очень исполнителен.
— Оставьте коня здесь и идите за мной.
— А кто о нем позаботится?
— Как всегда, метр Крамуази.
— Верно, — сказал Тибо, словно о чем-то ему известном, — Крамуази займется им.
— Ну, скорее, — поторопила служанка, — а не то госпожа снова скажет, что мы задерживаемся в коридорах.
После этих слов, напомнивших Тибо фразу из адресованного Раулю письма, горничная засмеялась, показав жемчужные зубки.
Тибо захотелось остановиться — на этот раз в парке, а не в коридорах.
Но горничная замерла, прислушиваясь.
— Что случилось? — спросил Тибо
— Мне кажется, у кого-то под ногой хрустнула ветка.
— Ну и что! — сказал Тибо. — Это была нога Крамуази.
— Для вас это лишний повод быть умником, господин Рауль… по крайней мере, здесь.
— Не понимаю.
— Разве Крамуази не жених мне?
— Ах да! Но каждый раз, как я остаюсь с тобой наедине, малютка Роза, я об этом забываю.
— Теперь меня зовут Роза! Господин барон, я в жизни не встречала более забывчивого человека, чем вы.
— Я тебя называю Розой, прелестное дитя, потому что Роза — царица цветов, а ты царица служанок.
— Право же, господин барон, я всегда находила вас остроумным, но сегодня вечером вы особенно в ударе.
Тибо приосанился.
Адресованная барону похвала досталась башмачнику.
— Надеюсь, твоя госпожа такого же мнения обо мне, — сказал он.
— О, со знатными дамами всегда есть способ казаться самым умным человеком в мире: молчать.
— Я запомню этот рецепт.
— Тише! — прошептала субретка. — Видите, там госпожа графиня смотрит из-за занавески своей туалетной комнаты. Так что скромно следуйте за мной.
В самом деле, им предстояло пересечь открытое пространство между деревьями парка и входом в замок.
Тибо ступил на лестницу.
— Несчастный, что вы делаете? — субретка удержала его за руку.
— Что я делаю? Право же, Сюзетта, признаюсь тебе, что не имею об этом ни малейшего понятия.
— Теперь я стала Сюзеттой! Господин барон оказывает мне честь, награждая именами всех своих возлюбленных. Идите сюда!.. Вы же не пойдете через парадные комнаты? Оставим этот путь для господина графа.
И горничная провела Тибо через маленькую дверь, справа от которой начиналась винтовая лестница.
На середине лестницы Тибо обвил рукой гибкую, словно уж, талию служанки.
— Мы уже в коридорах? — спросил он, ища губами щеку прелестной девушки.
— Нет еще, — ответила та, — но это все равно.
— Клянусь, — сказал Тибо, — если бы в этот вечер я звался Тибо вместо того, чтобы быть Раулем, клянусь, милая Мартон, я поднялся бы в мансарду вместо того, чтобы остаться во втором этаже.
Послышался скрип открывающейся двери.
— Ну, скорее! — сказала служанка. — Господин барон, госпожа уже беспокоится.
Потянув за собой Тибо, она вошла в коридор, открыла дверь, втолкнула Тибо в комнату и закрыла дверь за башмачником, совершенно уверенная в том, что впустила барона Рауля де Вопарфона, по ее словам самого забывчивого человека в мире.
XVII ГРАФ ДЕ МОН-ГОБЕР
Тибо оказался в спальне графини.
Если его поразило великолепие обстановки бальи Маглуара, извлеченной из кладовых его высочества герцога Орлеанского, то свежесть, гармония и изысканность этой комнаты наполнили его душу пьянящим восторгом.
Бедный дикарь никогда и во сне не видел ничего подобного.
Нельзя мечтать о вещах, о которых не имеешь никакого понятия.
Окна этой спальни были занавешены двойными шторами.
Первые — из белой тафты, отделанной кружевами.
Вторые — из голубого китайского атласа, расшитого серебряными цветами.
Постель и туалетный столик, задрапированные той же тканью, тонули в волнах валансьенских кружев.
Стены были затянуты бледно-розовой тафтой, поверх которой дрожал и словно таял от малейшего сквозняка тончайший, будто сотканный из воздуха индийский муслин.
На потолке — медальоны работы Буше, изображавшие туалет Венеры.
Амуры брали из рук своей матери различные предметы, составляющие доспехи женщин; но, поскольку все части этих доспехов были в руках амуров, Венера осталась совершенно безоружной: на ней был только пояс.
Медальон был окружен вымышленными пейзажами Книда, Пафоса и Амата.
Все сиденья: стулья, кресла, диванчики, козетки — были покрыты тем же китайским атласом, из которого сделаны шторы.
По бледно-зеленому фону ковра были рассеяны на большом расстоянии один от другого букеты васильков, розовых маков и белых маргариток.
Столы были из розового дерева, а угловые шкафчики покрыты Коромандельским лаком.
Все это освещалось мягким светом шести свечей розового воска, стоявших в двух канделябрах.
В воздухе витал нежный, тонкий, неуловимый аромат; невозможно было определить, из чего он составлялся.
Это был не запах, это было веяние.
По такому благоуханию герой «Энеиды» догадывался о присутствии матери.
Тибо, которого служанка втолкнула в комнату, сделал шаг вперед и остановился.
Он все охватил одним взглядом, вдохнул одним глотком.
Подобно видению, пронеслись перед ним хижина Аньелетты, гостиная мельничихи, спальня г-жи Маглуар.
Затем все это исчезло, уступив место изысканному гнездышку любви, куда он перенесся словно по волшебству.
Он сомневался в реальности того, что видел перед собой.
Тибо спрашивал себя, неужели действительно существуют баловни судьбы, обитающие в подобных жилищах?
Не оказался ли он во дворце какого-нибудь чародея, в замке некоей феи?
За какие же заслуги получили эти дары те, кто ими владеет?
В чем провинились те, кто этого лишен?
Почему он не пожелал, вместо того чтобы превратиться на двадцать четыре часа в Рауля де Вопарфона, сделаться на всю жизнь маленькой собачкой графини?
Как можно снова стать Тибо после того, что он увидел здесь?
Тибо дошел в своих размышлениях до этого вопроса, когда дверь туалетной комнаты отворилась и вошла графиня.
Она поистине была птичкой в этом прелестном гнездышке, цветком этой благоуханной земли.
Ее распущенные волосы удерживались лишь тремя или четырьмя бриллиантовыми шпильками и свободно падали на спину с одной стороны; с другой же, свитые в один большой локон, они спадали на грудь.
Гибкое и податливое тело, освобожденное от фижм, гармонично обрисовывалось под домашним платьем из розовой тафты с волнами гипюра.
Шелковые чулки были до того тонкими и прозрачными, что казались белой, отливающей перламутром плотью.
Наконец, детские ножки графини были заключены в туфельки из серебряной парчи и с красными каблучками.
Никаких украшений — ни браслетов на запястьях, ни колец на пальцах; только одна нитка жемчуга вокруг шеи, но этот жемчуг достоин был королевы.
Тибо упал на колени перед лучезарным видением.
Он был раздавлен, уничтожен этой роскошью, этой красотой, неотделимыми друг от друга.
— О да, на колени! Ниже, еще ниже… Целуйте мне ноги, целуйте ковер, целуйте землю, но и тогда я вас не прощу… Вы чудовище!
— В самом деле, сударыня, — в сравнении с вами я еще хуже чудовища.
— Да, да, притворяйтесь, что не поняли смысла моих слов и думаете, что я говорила о вашей внешности, тогда как я имела в виду вашу нравственность; да, конечно, вы были бы чудовищно уродливы, если бы ваша вероломная душа проявлялась на вашем лице; но это не так, сударь, несмотря на все ваши дурные поступки, несмотря на все ваши низости, вы остаетесь самым красивым дворянином в округе. Полно, сударь, вам должно быть стыдно!
— Быть самым красивым дворянином в округе? — переспросил Тибо, прекрасно поняв по тону ее голоса, что совершенное им преступление не так уж непростительно.
— Нет, сударь, — иметь самую черную душу и самое вероломное сердце из всех, что могут скрываться за позолоченной оберткой. Ну, вставайте и извольте отдать мне отчет в своем поведении.
И графиня протянула Тибо руку, одновременно отпуская грехи и требуя поцелуя.
Тибо взял нежную руку и поцеловал ее.
Никогда его губы не прикасались к такому атласу.
Графиня указала лже-Раулю место на диванчике и села первая.
— Отчитайтесь мне, что вы делали со дня вашего последнего посещения, — приказала графиня.
— Скажите прежде, дорогая графиня, когда я был у вас в последний раз?
— Прекрасно! Так вы это забыли! Право же, в подобных вещах не признаются, если не ищут ссоры.
— Совсем напротив, дорогая Джейн, эта встреча так во мне жива, что мне кажется, будто это было вчера, и, сколько ни перебираю свои воспоминания, — со вчерашнего дня я ничем не грешил, кроме как любовью к вам.
— Неплохо; но комплиментом вы не загладите дурного поступка.
— Милая графиня, что, если нам отложить объяснение?
— Нет, сначала ответьте; я пять дней вас не видела — что вы делали?
— Я жду, что вы мне расскажете об этом, графиня. Как вы хотите, чтобы я сам себя обвинял, когда уверен в своей невиновности?
— Пусть будет так. Прежде всего, я уже не говорю о том, что вы задерживаетесь в коридорах.
— Нет, поговорим об этом; как вы можете предположить, графиня, что я, когда меня ждете вы — алмаз среди алмазов — стану подбирать на дороге фальшивый жемчуг?
— Ах, Боже мой! Мужчины очень непостоянны, а Лизетта такая хорошенькая!
— Нет, поймите, дорогая Джейн, что эта девушка — наша наперсница, она знает все наши секреты, я не могу относиться к ней как к служанке.
— Как это, должно быть, приятно говорить себе: «Я обманываю графиню де Мон-Гобер, и я соперник Крамуази!»
— Хорошо, я больше не буду задерживаться в коридорах, чтобы целоваться с Лизеттой — если вы считаете, что мы целовались.
— О, это еще не все.
— Как! Я совершил более серьезный проступок?
— Откуда вы возвращались ночью по дороге, ведущей из Эрневиля в Виллер-Котре?
— Что? Меня видели на дороге?
— Да, на Эрневильской; откуда вы возвращались?
— Я ловил рыбу.
— Ловили рыбу?
— Да, в бервальских прудах.
— О, это известно: вы большой любитель рыбной ловли, сударь. А что за угорь был у вас в сетях, когда вы шли с рыбалки в два часа ночи?
— Я ужинал с моим другом сеньором Жаном.
— В башне Вез? Я думаю, что вы, скорее всего, утешали прекрасную затворницу: говорят, начальник волчьей охоты ревнив и держит ее взаперти. Но я и это вам прощаю.
— Неужели я поступил еще хуже? — Тибо понемногу стал успокаиваться, видя, с какой легкостью прощение следует за самыми тяжкими обвинениями.
— Да, на балу у его высочества герцога Орлеанского.
— На каком балу?
— Вчера! Не так давно.
— Вчера? Я восхищался вами.
— Чудесно! Я не была на этом балу.
— Неужели вам необходимо присутствовать, чтобы я мог восхищаться вами, Джейн, и не заменяет ли реальности воспоминание? Если вы и отсутствуя выигрываете в сравнении, это лишь возвышает вашу победу.
— Да; так это для того, чтобы как можно лучше видеть разницу, вы четыре раза танцевали с госпожой де Боннёй?
Значит, это очень красиво — брюнетка, покрытая румянами, с бровями, как у китайцев на моих ширмах, и усами, как у гвардейца?
— Знаете ли вы, о чем мы говорили во время этих четырех контрдансов?
— Так это правда, что вы четыре раза танцевали с ней?
— Правда, раз это говорите вы.
— Ловкий ответ!
— Без сомнения; кто же захочет спорить с таким прелестным ротиком? Не я: в ту минуту, когда он произнес бы мне смертный приговор, я благословил бы его.
И Тибо упал на колени перед графиней, как будто в ожидании приговора.
В ту же минуту дверь распахнулась и показалась испуганная Лизетта.
— Ах, господин барон! — сказала она. — Бегите! Здесь господин граф!
— Что? Господин граф? — воскликнула графиня.
— Да, господин граф собственной персоной, и с ним его доезжачий Лесток.
— Это невозможно!
— Госпожа графиня, Крамуази видел их, как я вижу вас; бедный мальчик, на нем лица нет.
— Ах, так эта охота в замке Тюри только ловушка!
— Кто знает, сударыня? Мужчины так коварны!
— Что же делать? — спросила графиня.
— Подождать графа и убить его, — решительно сказал Тибо, придя в ярость оттого, что снова от него ускользала добыча, самая драгоценная из всего, за чем он гнался.
— Убить его? Убить графа? Вы с ума сошли, Рауль! Нет, нет, надо бежать, спасаться… Лизетта! Лизетта! Выведи господина барона через мою туалетную комнату.
И Лизетта, подталкивая упиравшегося Тибо, вышла вместе с ним.
Было самое время: на парадной лестнице уже слышались шаги.
Графиня в последний раз нежно простилась с лже-Раулем и тут же скользнула обратно в спальню.
Тибо следовал за Лизеттой.
Она быстро провела его коридором, другой конец которого сторожил Крамуази.
Они прошли через две комнаты в кабинет, сообщавшийся с башенкой.
Внутри башенки была лестница, подобная той, по которой они поднимались, и беглецы спустились по ней.
Однако внизу они нашли запертую дверь.
Лизетта, поднявшись на несколько ступенек, привела Тибо в какой-то чулан с окном, выходившим в сад, и открыла окно.
До земли было всего несколько футов.
Тибо выпрыгнул из этого окна и упал на землю, не причинив себе никакого вреда.
— Вы знаете, где ваш конь, — крикнула ему вслед Лизетта, — скорей в седло, и не останавливайтесь до самого Вопарфона.
Тибо хотел поблагодарить субретку за добрый совет, но окно было в шести футах над ним, а времени не оставалось.
В два прыжка он преодолел расстояние, отделявшее его от рощицы, которая укрывала развалины хижины, служившие временной конюшней его коню.
Был ли на месте конь? Услышав ржание, Тибо успокоился.
Однако ржание напоминало крик боли.
Войдя в хижину, Тибо ощупью добрался до коня, подобрал поводья и вскочил в седло, не коснувшись стремени.
Как мы уже говорили, Тибо внезапно сделался превосходным наездником.
Но под этим, казалось бы, привычным грузом, ноги у коня подогнулись.
Тибо пришпорил его, чтобы сдвинуть с места, но конь, попытавшись рвануться вперед, едва смог поднять передние ноги, снова жалобно заржал и упал на бок.
Тибо быстро высвободился — это было нетрудно, потому что конь пытался подняться, — и встал на ноги.
Он понял, что граф, чтобы не дать ему скрыться, перерезал или велел перерезать сухожилия его коню.
— Черт возьми! — сказал Тибо. — Если мы с вами встретимся, господин граф де Мон-Гобер, клянусь перерезать вам сухожилия, как вы поступили с этим несчастным животным.
И Тибо выбежал из хижины.
Он узнал дорогу, по которой пришел: она вела к пролому.
Он быстро добрался до отверстия в стене, влез по камням и спрыгнул за ограду.
И здесь он увидел человека, неподвижно стоявшего со шпагой в руке.
Этот человек (Тибо узнал в нем графа де Мон-Гобера) преградил ему путь.
Граф де Мон-Гобер считал, что перед ним Рауль де Вопарфон.
— За шпагу, барон! — сказал граф.
Объяснения были излишни.
Впрочем, Тибо, у которого из зубов и когтей вырвали добычу, был разгневан не меньше самого графа.
Он вытащил не шпагу, а свой охотничий нож.
Они скрестили клинки.
Тибо умел обращаться с палкой, но понятия не имел об искусстве фехтования.
Он очень удивился, взяв, как ему показалось, непроизвольно, оружие и став в оборонительную позицию по всем правилам.
Граф нанес ему подряд два или три удара, которые Тибо отразил с удивительной ловкостью.
— Да, в самом деле, — сквозь зубы пробормотал граф, — мне говорили, что на последнем состязании вы задели Сен-Жоржа.
Тибо не знал, кто такой Сен-Жорж, но он чувствовал такую твердость и гибкость руки, что мог, кажется, поразить самого дьявола.
До сих пор он только защищался; но вдруг, после одного-двух неудачных нападений графа, Тибо сделал выпад и пронзил графу плечо.
Выронив шпагу, граф согнулся влево и упал на колено с криком:
— Лесток, ко мне!
Тибо надо было вложить оружие в ножны и бежать.
К несчастью, он вспомнил, что поклялся, встретившись с графом, перерезать ему сухожилия, как тот поступил с конем.
Просунув лезвие под согнутое колено графа, Тибо потянул его на себя.
Граф вскрикнул.
Но, поднимаясь, Тибо почувствовал резкую боль между лопатками, затем ледяной холод в груди.
Наконец, он увидел, как из его груди, над правым соском, вышло острие ножа.
Затем все заволокло кровавое облако.
Лесток, которого граф, падая, позвал на помощь, воспользовался минутой, пока Тибо выпрямлялся, и воткнул ему между лопаток свой охотничий нож.
XVIII СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ
Утренний холод вернул Тибо к жизни.
Он попробовал приподняться, но сильная боль пригвоздила его к земле.
Тибо лежал на спине, он ничего не помнил, а видеть мог лишь низкое серое небо над головой.
С усилием повернувшись на бок, он приподнялся на локте и огляделся.
Вид окружавших его предметов вернул ему память о происшедших событиях: он узнал пролом в стене парка, вспомнил свое любовное свидание с графиней и жестокую дуэль с графом.
В трех шагах от себя он увидел на земле пятно крови.
Но графа не было.
Несомненно, Лесток, пригвоздивший его, Тибо, к земле ударом ножа, помог своему господину вернуться домой.
Тибо же они оставили здесь одного умереть как собака.
У башмачника уже на языке были пожелания всех несчастий, какие только можно придумать для злейшего врага.
Но с тех пор, как Тибо перестал быть Тибо, и на все то время, пока ему предстояло оставаться бароном Раулем, он утратил всю свою волшебную силу.
Оставалось дождаться девяти часов вечера; но доживет ли он до этого часа?
Он испытывал сильнейшее беспокойство. Если он умрет раньше девяти часов, кого же из них не станет: его, Тибо, или барона Рауля? Могло случиться и то и другое.
Но больше всего Тибо злило то, что эта беда приключилась с ним снова по его же собственной вине.
Он помнил, что, перед тем как пожелать сделаться на двадцать четыре часа бароном, он произнес эти или похожие слова: «Я от души посмеялся бы, Рауль, если бы граф де Мон-Гобер застал тебя у своей жены; это прошло бы не так, как вчера у бальи Маглуара, и вам пришлось бы обменяться ударами шпаг».
Как видите, первое пожелание Тибо исполнилось с не меньшей точностью, чем второе; в самом деле, удары были и даны и получены.
Ценой немыслимых усилий, испытав при этом жесточайшую боль, Тибо удалось встать на одно колено.
В этом положении он смог увидеть идущих оврагом людей; они направлялись на рынок в Виллер-Котре.
Он хотел позвать их, но захлебнулся кровью.
Подняв шляпу на острие охотничьего ножа, он стал подавать знаки, как делают потерпевшие кораблекрушение.
Но силы оставили его, и он без чувств упал на землю.
Через некоторое время он опять пришел в сознание.
Ему показалось, что его качает словно на корабле.
Он открыл глаза.
Крестьяне, которые шли на рынок, его заметили; они не знали, кто он такой, но сжалились над красивым молодым человеком, истекавшим кровью, сделали из веток носилки и теперь несли его в Виллер-Котре.
Но, когда они дошли до Пюизе, раненый почувствовал, что не выдержит дороги.
Он попросил оставить его в любом крестьянском доме и прислать врача.
Носильщики оставили его в доме кюре.
Тибо достал из кошелька Рауля два золотых и отдал их крестьянам в благодарность за то, что они уже сделали для него, и за то, что им еще предстояло сделать.
Самого кюре дома не было: он служил мессу. Вернувшись домой и увидев раненого, он вскрикнул от ужаса.
Будь Тибо в самом деле Раулем, он не смог бы выбрать лучшего лазарета: кюре был когда-то викарием в Вопарфоне и ему было поручено обучение маленького Рауля.
Как все сельские священники, он был немного знаком — или считал себя знакомым — с медициной.
Он осмотрел рану своего бывшего воспитанника.
Лезвие, войдя под лопатку, пронзило правое легкое и вышло спереди между вторым и третьим ребрами.
Кюре отдавал себе отчет в том, насколько рана опасна.
Но до прихода врача он ничего не сказал.
Доктор, осмотрев рану, жалостливо покачал головой.
— Вы не пустите ему кровь? — спросил священник.
— Зачем? Это еще могло помочь в первые минуты после того, как он получил рану, но теперь опасно давать крови какое бы то ни было движение.
— Вы думаете, его можно спасти? — спросил кюре, подумав, что, чем меньше может сделать врач, тем больше остается на долю священника.
— Если все будет идти так, как обычно бывает в подобных случаях, — понизив голос, сказал врач, — больной не доживет и до завтра.
— По-вашему, он обречен?
— Врач никогда не выносит приговора, а если это и случается — за природой всегда остается право на помилование. Может образоваться кровяной сгусток — и кровотечение остановится; кашель может этот сгусток разбить — и больной умрет от потери крови.
— Значит, вы считаете, что я должен готовить бедного мальчика к смерти?
— Я думаю, — пожав плечами, ответил врач, — что лучше всего вам оставить его в покое: сейчас он без сознания и вас не услышит, а позже он начнет бредить и вас не поймет.
Доктор ошибался.
Раненый, хоть и был в беспамятстве, слышал этот разговор, оставлявший больше надежды на спасение его души, чем на выздоровление тела.
Сколько всего говорят при больном, считая, что он ничего не слышит, а он не пропускает ни единого слова!
Кроме того, возможно, слух больного обострился оттого, что в теле Рауля бодрствовал дух Тибо.
На собственный дух Рауля рана, вероятно, оказала бы более сильное воздействие.
Врач наложил повязку на спину. Что касается раны на груди — он оставил ее открытой, предписав лишь держать на ней смоченную ледяной водой салфетку. Затем, накапав в стакан с водой несколько капель успокаивающего лекарства, врач посоветовал священнику давать больному ложечку этой микстуры всякий раз, как тот попросит пить.
Приняв эти меры, врач удалился, обещав вернуться завтра, но предупредил, что, вероятнее всего, этот завтрашний визит окажется напрасным.
Тибо хотел бы вставить слово в этот разговор и объяснить, что он думает о себе самом, но его дух, заточенный в умирающее тело, невольно поддавался воздействию этой темницы.
Все же он слышал, что священник с ним говорил, чувствовал, как он тряс его, стараясь вывести из похожего на летаргию оцепенения; больного все это очень утомило.
К счастью для достойного кюре, Тибо, не будучи самим собой, лишен был своей волшебной власти: не меньше десяти раз раненый мысленно послал его ко всем чертям.
Вскоре Тибо стало казаться, что под ногами, под поясницей, под головой у него раскаленные угли.
Кровь в его жилах задвигалась быстрее, потом вскипела, словно вода в поставленном на огонь котелке.
Он почувствовал, что мысли его путаются.
Его стиснутые челюсти разжались, сведенный язык освободился, и у больного вырвалось несколько бессвязных слов.
— А, вот, кажется, и то, что милейший доктор назвал бредом, — произнес он.
Это была его последняя ясная мысль.
Вся его жизнь — а по-настоящему он жил лишь с момента появления черного волка — прошла перед ним.
Он увидел, как преследует и упускает оленя.
Он увидел, как его, привязав к дубу, осыпают ударами перевязи.
Он увидел, как заключает с черным волком тяготеющий над ним договор.
Он увидел, как пытается надеть адское кольцо на палец Аньелетте.
Он увидел, как старается вырвать красные волосы, захватившие уже треть его шевелюры.
Он увидел, как идет к прекрасной мельничихе, встречается с Ландри, избавляется от соперника; как его преследуют подручные и служанки вдовы, а потом сопровождают волки.
Он увидел, как знакомится с г-жой Маглуар, охотится для нее, ест свою долю добычи, прячется за занавеской в спальне дамы; как его находит метр Маглуар, высмеивает сеньор Жан, выгоняют все трое.
Он увидел, как сидит в дупле дуба, ствол которого окружен лежащими волками, а на ветвях сидят сычи и совы.
Он увидел, как, высунув голову, прислушивается к звукам скрипок и гобоя, смотрит из своей норы на веселую свадьбу Аньелетты.
Он снова терзался бешеной ревностью и пытался заглушить ее вином; сквозь туман в голове он различал Франсуа, Шампаня, трактирщика; он слышал стук подков коня барона Рауля; чувствовал, как, сбитый с ног, катится в дорожную грязь.
Затем он перестал видеть себя, Тибо.
Он увидел красавца-всадника, облик которого принял.
Он обнимал Лизетту.
Он прикасался губами к руке графини.
Затем он хотел убежать; но он стоял на перекрестке трех дорог, и каждую из дорог стерегла одна из его жертв.
Первую — призрак утопленника: это был Маркотт.
Вторую — Ландри, умирающий в горячке на больничной койке.
Третью — тщетно пытающийся встать с перерезанными сухожилиями раненый граф де Мон-Гобер.
Тибо казалось, будто он рассказывает все, что видит, и священник, выслушивающий эту странную исповедь, все сильнее дрожит, бледнеет и больше похож на умирающего, чем тот, кого он исповедует. Ему казалось, что священник все же хочет отпустить ему грехи, но он сам отказывается от этого, трясет головой, смеется так, что страшно становится, и кричит:
— Мне нет отпущения! Я проклят! Проклят! Проклят!
И во время этого бреда, этих галлюцинаций, этого безумия Тибо слышал бой стенных часов кюре и считал удары.
Только часы казались ему огромными, циферблатом было не что иное, как голубой купол неба, цифры на нем были огненные; имя этим часам — вечность, и чудовищный маятник с каждым взмахом произносил:
— Никогда!
И при возвратном движении:
— Всегда!
Так прошел день, час за часом.
Часы пробили девять.
В половине десятого истекали двадцать четыре часа, которые Тибо провел в облике Рауля, а Рауль — в облике Тибо.
С девятым ударом башмачник почувствовал, как его лихорадка сменяется ознобом.
Он, дрожа, открыл глаза, узнал стоявшего на коленях кюре, который молился об умирающем у его постели, и увидел настоящие часы, показывающие девять с четвертью.
Его чувства так обострились, что он мог наблюдать незаметное движение большой и даже маленькой стрелки.
Обе продвигались к роковому часу: к половине десятого!
Хотя никакой свет не падал на циферблат, он казало, освещенным изнутри.
По мере того как большая стрелка придвигалась к цифре шесть, судороги все сильнее сотрясали грудь умирающего.
Ноги у него были ледяными, и холод медленно, но неумолимо поднимался от ступней к коленям, от колен к бедрам, охватывал внутренности.
Пот струился у него по лбу.
У него не было сил ни самому отереть лоб, ни попросить священника это сделать.
Он чувствовал смертельную тоску: наступала агония.
Перед ним проплывали всевозможные странные фигуры, в которых не было ничего человеческого.
Освещение изменилось.
Ему казалось, что он поднимается на крыльях летучей мыши куда-то в сумерки, которые не являются ни жизнью, ни смертью, но где одна встречается с другой.
Наконец сумерки стали сгущаться.
Глаза его закрылись; подобно бредущему во тьме слепому, он наталкивался своими перепончатыми крыльями на неведомые предметы.
Затем он покатился в неизмеримую глубину, в бездонную пропасть, где все же был слышен звон часов.
Часы пробили один раз.
Едва угас последний отзвук, раненый вскрикнул.
Священник поднялся с колен и подошел к изголовью.
С этим криком отлетел последний вздох барона Рауля.
Было девять с половиной часов вечера и одна секунда.
XIX КТО ИЗ НИХ ЖИВ, КТО УМЕР
В ту же минуту как отлетела трепещущая душа молодого дворянина, Тибо очнулся от населенного ужасными призраками сна и приподнялся на постели.
Кругом был огонь: горела его хижина.
Сначала он подумал, что продолжается его кошмар.
Но он так ясно слышал крики «Смерть колдуну! Смерть чародею! Смерть оборотню!», что понял: с ним в самом деле случилось нечто страшное.
Языки пламени приближались к постели, он чувствовал жар.
Еще несколько секунд — и он окажется в центре огромного костра.
Еще минуту поколебавшись, он не сможет убежать: путь будет отрезан.
Тибо соскочил с постели, схватил рогатину и выбежал через заднюю дверь хижины.
Когда его увидели бегущим сквозь пламя и дым, крики «Смерть! Убей его!» еще усилились.
Раздались три или четыре выстрела.
Эти выстрелы явно предназначались Тибо.
Он слышал свист пуль.
Стрелявшие были в ливреях начальника волчьей охоты.
Тибо вспомнил угрозу, два дня назад услышанную от барона де Веза.
Значит, он объявлен вне закона.
Можно выкурить его из норы, как лису, стрелять по нему, словно по хищному зверю.
К счастью для Тибо, ни одна пуля его не задела.
Горевшая хижина освещала на земле лишь небольшой круг, и вскоре Тибо оказался вне его.
Его окружала темнота леса, и, не будь слышно криков челяди барона, жгущей его дом, было бы настолько же тихо, насколько темно.
Тибо уселся под деревом и уронил голову на руки.
В последние сорок восемь часов события развивались так стремительно, что у башмачника не было недостатка в темах для размышления.
Только последние двадцать четыре часа, которые он прожил в чужом облике, казались ему сном.
Он не решился бы утверждать, что вся история барона Рауля, графини Джейн и сеньора де Мон-Гобера произошла на самом деле.
Услышав звон часов на колокольне в Уаньи, Тибо поднял голову.
Било десять.
Десять часов!
В половине десятого он еще умирал в облике барона Рауля у кюре из Пюизе.
— Ах, черт возьми! — сказал он. — Я должен знать точно. Отсюда до Пюизе не больше льё, я буду там через полчаса. Я хочу убедиться, что барон Рауль в самом деле мертв.
В ответ на заданный Тибо самому себе вопрос раздался жуткий вой.
Тибо огляделся: вернулись его телохранители.
Предводитель волков вновь обрел свою стаю.
— Ну, волки, единственные мои друзья, в путь! — сказал он.
И он через лес отправился в Пюизе.
Слуги сеньора Жана, ворошившие последние угли горящей хижины, видели, как мимо пронесся призрак человека, за которым бежали двенадцать волков.
Слуги барона перекрестились.
Теперь они, более чем когда-либо прежде, были уверены, что Тибо — колдун.
Кто угодно поверил бы в это, увидев, с какой стремительностью — быстрее любого из своих спутников — Тибо меньше чем за четверть часа пробежал расстояние, отделявшее Уаньи от Пюизе.
У первых домов деревни Тибо остановился.
— Друзья-волки, — сказал он. — Сегодня ночью я в вас не нуждаюсь; напротив, я хочу остаться один. Развлекайтесь в соседних овчарнях: я даю вам полную свободу действий. А если на вашем пути встретятся несколько двуногих тварей, именуемых людьми, друзья-волки, забудьте, что они считают себя созданными по образу и подобию Творца, и не отказывайте себе в удовольствии полакомиться их плотью.
Радостно подвывая, волки разбежались во все стороны.
Тибо продолжал путь.
Он вошел в деревню.
Дом кюре стоял по соседству с церковью.
Тибо сделал крюк, чтобы не идти мимо креста.
Он подошел к дому. Заглянув в окно, он увидел горевшую у изголовья постели свечу.
Постель была накрыта простыней, под которой вырисовывались очертания застывшего тела. Дом казался пустым.
Кюре, несомненно, пошел заявить мэру деревни о покойнике.
Тибо вошел и окликнул кюре. Никто не ответил.
Тибо подошел прямо к постели.
Под простыней действительно лежал труп.
Тибо поднял простыню и узнал сеньора Рауля.
Вечность наделила его спокойной и роковой красотой.
При жизни его черты казались слишком женственными; смерть придала им сумрачное величие.
На первый взгляд можно было принять его за спящего, но, присмотревшись внимательнее, в его неподвижности вы узнали бы сон более глубокий.
Вы догадались бы о присутствии королевы, у которой коса вместо скипетра, саван вместо мантии.
Здесь присутствовала Смерть.
Тибо оставил дверь открытой.
Ему показалось, что он слышит легкие шаги.
Тибо спрятался за зеленой саржевой занавеской, закрывавшей дверь в глубине алькова: если сюда войдут, он сможет убежать через эту дверь.
У входа в дом остановилась в нерешительности женщина в черном, под черной вуалью.
Рядом с ней показалась вторая и заглянула внутрь.
— Я думаю, что госпожа может войти: никого нет; кроме того, я посторожу.
Женщина в черном вошла, медленно приблизилась к постели, остановилась, чтобы отереть пот со лба, затем решительно подняла простыню, которой Тибо снова покрыл лицо мертвеца.
Тибо узнал ее: это была графиня.
— Увы! Мне не солгали! — проговорила она.
Упав на колени, она стала молиться и плакать.
Окончив молитву, она поднялась, поцеловала бледный лоб усопшего и посиневшие края раны, через которую вылетела душа.
— О, мой возлюбленный Рауль, — прошептала графиня. — Кто назовет мне имя твоего убийцы? Кто поможет мне отомстить?
Едва успев договорить, графиня вскрикнула и отскочила назад.
Ей показалось, что она слышит голос, ответивший:
— Я!
И складки занавески из зеленой саржи зашевелились.
Но графиня была не из робких. Взяв горевшую у изголовья свечу, она заглянула в промежуток между стеной и зеленой занавеской. Там никого не было.
Графиня увидела только закрытую дверь.
Поставив свечу на место, графиня достала из сумочки золотые ножницы, отрезала у покойного прядь волос, положила эту прядь в мешочек из черного бархата, висевший у нее на груди, снова поцеловала лоб покойного, покрыла ему голову простыней и вышла.
На пороге она встретилась со священником и отступила, прячась под вуалью.
— Кто вы? — спросил священник.
— Скорбь, — ответила она.
Посторонившись, священник пропустил ее.
Графиня и ее служанка пришли пешком; ушли они тоже пешком.
От Пюизе до Мон-Гобера всего четверть льё.
Примерно на половине дороги от ствола ивы отделился прятавшийся за ним человек и преградил путь двум женщинам.
Лизетта закричала.
Но графиня бесстрашно подошла к этому человеку.
— Кто вы? — спросила она.
— Тот, кто сказал «я», когда вы спрашивали, назовет ли вам кто-нибудь имя убийцы.
— Вы поможете мне за него отомстить?
— Когда вам угодно.
— Сейчас?
— Здесь неподходящее место.
— Предложите лучшее.
— Ваша комната, например.
— Мы не можем вернуться вместе.
— Нет; но я могу пройти через пролом в стене; мадемуазель Лизетта встретит меня у развалин, где господин Рауль ставил своего коня; она может провести меня по винтовой лестнице и впустить в вашу спальню. Если вы будете в вашей туалетной комнате, я подожду вас, как позавчера господин Рауль.
Обе женщины задрожали с головы до ног.
— Кто вы такой, что вам известны все эти подробности? — спросила графиня.
— Когда придет время вам это узнать, я скажу вам.
После недолгого колебания графиня сказала:
— Хорошо, вы пройдете в пролом; Лизетта встретит вас у конюшни.
— О госпожа! — воскликнула Лизетта. — Я никогда не решусь идти за этим человеком!
— Я пойду сама, — ответила графиня.
— В добрый час! — откликнулся Тибо. — Вот это женщина!
И, скользнув в овраг, что тянулся вдоль дороги, он исчез.
Лизетта едва не лишилась чувств.
— Обопритесь на меня, мадемуазель — предложила ей графиня, — и пойдем. Мне не терпится услышать, что скажет этот человек.
Женщины незаметно вернулись в замок со стороны фермы.
Никто не видел, как они выходили; никто не видел, как они вошли.
Графиня в своей комнате ждала, пока Лизетта приведет к ней незнакомца.
Через десять минут появилась Лизетта, очень бледная.
— Ах, госпожа, — сказала она. — Мне незачем было его встречать.
— Почему это? — спросила графиня.
— Потому что он не хуже меня знает дорогу! О, если бы госпожа знала только, что он мне сказал! Я уверена, госпожа, что этот человек — демон!
— Впустите его! — приказала графиня.
— Я здесь, — сказал Тибо.
— Хорошо, — сказала графиня Лизетте. — Оставьте нас, мадемуазель.
Лизетта вышла.
Графиня осталась одна с Тибо.
Вид его не внушал доверия.
Чувствовалось, что он готов решительно осуществить свои намерения и что намерения эти дурные: сатанинский смех кривил его рот, глаза горели адским огнем.
На этот раз Тибо не стал прятать свои красные волосы: он выставил их напоказ.
Они спадали ему на лоб, словно огненный плюмаж.
И все же графиня, даже не побледнев, устремила взгляд на Тибо.
— Эта девушка сказала, что вы знаете дорогу в мою спальню; вы уже бывали здесь?
— Да, госпожа, один раз.
— Когда же?
— Позавчера.
— В какое время?
— От половины одиннадцатого до половины первого ночи.
Графиня взглянула ему в лицо.
— Это неправда!
— Хотите, я расскажу вам все, что здесь произошло?
— В названный вами час?
— Да.
— Говорите, — коротко приказала графиня.
Тибо был не менее лаконичен, чем та, что спрашивала его.
— Господин Рауль вошел через эту дверь, — начал он, указывая на дверь, ведущую в коридор, — и Лизетта оставила его одного. Вы вошли отсюда, — он показал на дверь туалетной комнаты, — и застали его стоящим на коленях. Ваши волосы были распущены, их поддерживали три бриллиантовые шпильки; на вас было домашнее платье из розовой тафты, отделанное гипюром, розовые шелковые чулки, туфельки из серебряной парчи; вокруг шеи — нитка жемчуга.
— Совершенно точное описание, — подтвердила графиня. — Продолжайте.
— Вы три раза ссорились с господином Раулем. В первый раз из-за того, что он задерживался в коридорах, чтобы целоваться с вашей служанкой; во второй — из-за того, что его видели в полночь по дороге из Эрневиля в Виллер-Котре; в третий — из-за того, что на балу в замке, где вас не было, он четыре контрданса танцевал с госпожой де Боннёй.
— Продолжайте.
— В ответ на эти упреки ваш возлюбленный — иногда удачно, иногда неудачно — оправдывался; вы сочли его оправдания достаточными, потому что простили его; в это время вбежала перепуганная Лизетта и закричала, что вернулся ваш муж и ваш возлюбленный должен бежать.
— Значит, вы и в самом деле демон, как уверяет Лизетта, — зловеще рассмеявшись, сказала графиня. — Я вижу, что мы поладим… Договаривайте.
— Тогда вы и ваша горничная втолкнули упирающегося господина Рауля в вашу туалетную комнату, затем Лизетта вывела его через коридор и две или три комнаты в противоположное крыло дома; спустившись по винтовой лестнице, беглецы обнаружили, что дверь внизу заперта; они спрятались в чулане; Лизетта открыла окно, находившееся всего в семи или восьми футах над землей, господин Рауль выпрыгнул в это окно и побежал в конюшню. Там он нашел своего коня, но с перерезанными сухожилиями и поклялся поступить так же с самим графом, если они встретятся: господин Рауль считал низостью без необходимости калечить благородное животное. Затем господин Рауль пешком отправился к пролому в стене; по ту сторону ограды его подстерегал граф с обнаженной шпагой в руке. У барона был при себе охотничий нож; вынув его из чехла, он вступил в бой.
— Граф был один?
— Слушайте… Граф, казалось, был один; после четвертого или пятого выпада граф был ранен ножом в плечо. Упав на одно колено, он закричал: «Ко мне, Лесток!» В это время барон вспомнил о своей клятве и наклонился, чтобы перерезать графу сухожилия; когда господин Рауль поднимался, Лесток напал на него сзади; лезвие вошло под лопатку и вышло из груди… мне незачем уточнять: вы целовали рану.
— Дальше?
— Граф и его слуга вернулись в замок, оставив барона без помощи. Придя в себя, тот окликнул шедших на рынок крестьян, они положили его на носилки и хотели доставить в Виллер-Котре. Но в Пюизе раненому стало так плохо, что им пришлось остановиться. Его оставили на той постели, где вы его нашли и где вечером он испустил последний вздох в девять с половиной часов и одну секунду.
Графиня встала.
Подойдя к ларцу, она достала из него нитку жемчуга, которая была у нее на шее накануне, и молча протянула ее Тибо.
— Что это? — спросил то:
— Возьмите; это стоит пятьдесят тысяч ливров.
— Вы хотите отомстить?
— Да, — ответила графиня.
— Месть стоит большего.
— Сколько она стоит?
— Ждите меня завтра ночью; я скажу вам.
— Где мне вас ждать?
— Здесь, — сказал Тибо, хищно оскалившись.
— Я буду ждать вас.
— Так до завтра?
— До завтра.
Тибо вышел.
Графиня убрала жемчуг обратно в ларец, затем приподняла двойное дно и вынула флакон с опаловой жидкостью и маленький кинжал, рукоятка и ножны которого были украшены драгоценными камнями, а на клинке была золотая насечка.
Спрятав флакон и кинжал к себе под подушку, графиня встала на колени и произнесла молитву, а затем, не раздеваясь, бросилась на постель…
XX ВЕРНА СВОЕМУ ОБЕЩАНИЮ
Расставшись с графиней, Тибо тем же путем и без всяких происшествий вышел сначала из замка, а затем из парка.
Но, оказавшись за оградой, Тибо в первый раз в своей жизни не знал, куда идти. Его хижину сожгли, друга у него нет; подобно Каину, он не знал, где преклонить голову.
Тибо отправился в лес, свое постоянное убежище.
Он добрел до Шавиньи; уже начало рассветать, и Тибо постучался в отдельно стоявший дом, попросив продать ему хлеба.
Женщина была одна, мужа не было дома; она дала Тибо хлеб, но не захотела брать у него денег: Тибо внушал ей страх.
Не заботясь более о еде, Тибо вернулся в лес.
Он знал между Флёри и Лонпоном одно непроходимое место.
Там он решил провести весь день.
В поисках укрытия среди камней он заметил, как в овраге что-то блеснуло.
Из любопытства он решил спуститься.
Блестящий предмет оказался серебряной пластинкой с перевязи.
Перевязь обвивала шею трупа, или вернее, скелета, потому что мясо с него было обглодано, и кости были чистыми, какие встречаются лишь в анатомическом кабинете или в мастерской художника.
Скелет был совсем свежим — он лежал не больше одного дня.
— А вот это, — сказал Тибо, — вероятнее всего, работа моих друзей-волков; похоже, они воспользовались моим разрешением.
Он спустился в ров (ему хотелось узнать, кому принадлежал скелет) и смог удовлетворить свое любопытство.
Господа волки, несомненно, сочли, что пластинку не так легко переварить, как все остальное, и она осталась на груди скелета, как этикетка на тюке с товаром.
«Ж.Б.Лесток,
личный телохранитель господина графа де Мон-Гобер».
— Хорошо! — смеясь, сказал Тибо, — этот недолго ждал наказания за убийство!
Затем, наморщив лоб и перестав смеяться, Тибо тихо добавил, обращаясь к самому себе:
— Неужели Провидение все-таки существует?
Смерть Лестока легко было объяснить.
Волки застигли телохранителя графа, когда он, наверняка исполняя какой-то приказ своего хозяина, ночью отправился из Мон-Гобера в Лонпон. Вначале он защищался тем же охотничьим ножом, которым ранил барона Рауля; Тибо нашел этот нож в нескольких шагах от дороги, и земля кругом была изрыта, что указывало на борьбу. Затем Лесток потерял оружие, и свирепые твари утащили телохранителя в овраг, растерзали там и съели.
Тибо стал настолько безразличен ко всему, что не испытал от случившегося ни радости, ни сожалений, ни удовлетворения, ни угрызений совести; он только подумал, что графине теперь проще исполнить свой замысел: ей остается отомстить только мужу.
Затем Тибо устроился среди камней, стараясь получше укрыться от ветра, и собрался спокойно провести здесь весь день.
Около полудня он услышал рог барона Жана и лай его собак; но охота прошла довольно далеко и не помешала Тибо.
Стемнело.
В девять часов вечера Тибо отправился в путь.
Он прошел сквозь пролом в стене и отыскал хижину, где Лизетта ждала его, когда он явился в облике барона Рауля.
Сейчас бедная девушка вся дрожала.
Соблюдая традицию, Тибо хотел для начала поцеловать ее.
Но Лизетта отскочила назад, не скрывая страха.
— Не трогайте меня или я закричу!
— Черт! — сказал Тибо. — В прошлый раз, с бароном Раулем, вы были сговорчивее, красавица.
— Да, — ответила служанка. — Но с тех пор много чего произошло.
— Не говоря уж о том, что еще произойдет, — весело отозвался Тибо.
— О, я думаю, самое трудное уже позади, — печально произнесла служанка.
И пройдя вперед, сказала:
— Если вам угодно войти, идите за мной.
Тибо повиновался.
Не скрываясь, Лизетта шагнула на открытое место между деревьями и замком.
— Ох, красавица, какая ты сегодня смелая, — сказал ей Тибо. — Что, если нас увидят?..
Но Лизетта покачала головой.
— Опасности больше нет: все глаза, какие могли увидеть нас, закрылись.
Тибо не понял, что хотела этим сказать девушка, но тон ее голоса заставил его вздрогнуть.
В молчании он поднялся следом за ней на второй этаж по винтовой лестнице.
Но, когда Лизетта взялась рукой за ключ, торчавший в двери спальни, Тибо остановил девушку.
Его пугали пустота и тишина в замке. Казалось, что замок проклят.
— Куда мы идем? — сам не понимая, что говорит, спросил Тибо.
— Вы же знаете.
— В спальню графини?
— В спальню графини.
— Она меня ждет?
— Она вас ждет.
И Лизетта открыла дверь.
— Входите, — сказала она.
Тибо вошел. Лизетта закрыла за ним дверь, а сама осталась в коридоре.
Это была та же прелестная спальня, точно так же освещенная, благоухающая теми же ароматами.
Тибо поискал глазами графиню.
Он ждал, что она появится из двери туалетной комнаты.
Дверь, ведущая в соседнюю комнату, оставалась закрытой.
Тишину нарушали лишь звон часов севрского фарфора и стук сердца самого Тибо.
Тибо испытывал необъяснимый ужас; он стал оглядываться кругом.
Его глаза остановились на постели.
Он увидел графиню.
У нее в волосах были те же бриллиантовые шпильки, на шее та же нитка жемчуга; она была в том же платье из розовой тафты и в тех же туфельках из серебряной тафты, в каких встречала барона Рауля.
Тибо подошел ближе.
Графиня не шевелилась.
— Вы спите, прекрасная графиня? — спросил Тибо, наклонившись, чтобы взглянуть на нее.
Но вдруг он выпрямился с застывшим взглядом, волосы у него встали дыбом, на лбу выступил пот.
Он начал подозревать ужасную правду.
Не уснула ли графиня вечным сном?
Тибо дрожащей рукой взял на камине канделябр и поднес его к лицу странно спавшей графини.
Лицо было бледным, словно выточенным из слоновой кости, на висках проступали мраморные жилки.
Губы посинели.
Капля горячего розового воска упала на эту неподвижную маску.
Графиня не проснулась.
— О, что же это? — воскликнул Тибо.
Рука у него так дрожала, что он не мог держать канделябр и поставил его на ночной столик.
Руки графини были вытянуты вдоль тела, и в обеих она что-то сжимала.
Тибо с усилием разжал ей левую руку.
Там был флакон, который она накануне достала из ларца.
Он раскрыл другую ладонь. В ней оказалась записка.
Всего несколько слов: «Верна своему обещанию».
В самом деле верна слову, даже после смерти.
Графиня была мертва.
Иллюзии Тибо рушились одна за другой, как ускользают сны от человека, когда он просыпается.
Однако в снах других людей мертвые встают.
Мертвецы Тибо продолжали лежать.
Он вытер лоб, подошел к двери, ведущей в коридор; открыв ее, он увидел коленопреклонную Лизетту за молитвой.
— Так графиня умерла? — спросил Тибо.
— Графиня умерла, и граф умер.
— От раны, полученной во время боя с бароном Раулем?
— Нет, от удара кинжалом, нанесенного рукой графини.
— О, это совсем новая история, я ее не слышал, — Тибо попытался засмеяться среди этой мрачной обстановки.
Лизетта рассказала ему все.
Ее рассказ был простым, но страшным.
Графиня долго оставалась в постели, слушая, как звонят колокола в Пюизе, извещавшие, что тело Рауля переносят в Вопарфон, чтобы похоронить в семейном склепе.
К четырем часам пополудни колокола смолкли.
Тогда графиня поднялась, достала из-под подушки кинжал и, спрятав его на груди, направилась в спальню мужа.
Ей встретился радостный камердинер графа.
Только что ушел врач, сняв повязку с раны и объявив, что жизнь графа вне опасности.
— Госпожа графиня согласится, что это большая радость, — сказал ей слуга.
— Да, это в самом деле большая радость.
И графиня вошла в спальню мужа.
Через пять минут она оттуда вышла.
— Граф спит, — сказала она. — Не надо входить к нему, пока он не позовет.
Камердинер склонился перед ней и уселся в прихожей, чтобы быть наготове, как только хозяин окликнет его.
Графиня вернулась к себе.
— Разденьте меня, Лизетта, — велела она горничной, — и принесите мне все, что было на мне в последний раз, когда он приходил сюда.
Субретка выполнила приказ.
Мы видели, с какой точностью, до мельчайших деталей, она воспроизвела наряд графини.
Затем графиня написала несколько строк, сложила записку и зажала ее в правой руке.
Потом она легла на свою постель.
— Госпожа не прикажет что-нибудь подать? — спросила Лизетта.
Графиня показала ей флакон, который держала в левой руке.
— Нет, Лизетта, я выпью то, что здесь содержится.
— Как? — удивилась Лизетта. — И ничего больше?
— Этого достаточно, Лизетта; стоит мне это выпить, и мне уже ничего не понадобится.
Графиня поднесла к губам флакон и одним глотком осушила его.
Затем она сказала:
— Вы видели человека, который ждал нас на дороге, Лизетта; сегодня вечером, от девяти до десяти часов, у меня с ним назначено свидание в моей спальне. Вы встретите его в условленном месте и приведете ко мне… Я не хочу, — совсем тихо добавила она, — чтобы обо мне говорили, даже после моей смерти, будто я не сдержала слова.
Тибо нечего было возразить: все было исполнено в точности.
Только графиня совершила месть одна.
Это стало известно, когда камердинер, беспокоясь о хозяине, приоткрыл дверь его спальни и на цыпочках вошел к нему: он нашел графа лежащим на спине, с кинжалом в сердце.
Хотели сообщить новость госпоже, но госпожу тоже нашли мертвой.
Слух о двух смертях тотчас же разнесся по дому, и слуги разбежались, сказав, что в замок явился карающий ангел. Осталась только служанка графини, чтобы исполнить последнюю волю хозяйки.
Тибо больше нечего было делать в этом доме. Он вышел, оставив Лизетту возле лежавшей на постели графини.
Как и сказала Лизетта, ему нечего было опасаться ни хозяев, ни слуг: слуги разбежались, хозяева были мертвы.
Тибо вернулся к пролому в стене. Небо было темным, и, не будь на дворе январь, можно было бы сказать — грозовым.
В парке едва можно было различить тропинку.
Два или три раза Тибо останавливался и прислушивался: ему казалось, что справа и слева хрустят ветки под ногами, подстраивающимися под его шаг.
Подойдя к пролому, Тибо явственно услышал голос, сказавший:
— Это он!
В тот же миг сидевшие в засаде жандармы напали на него: двое спереди, двое сзади.
Ревнивый Крамуази не спал и бродил по ночам; он видел, что прошлой ночью в парк тайком вошел, а затем вышел неизвестный человек; Крамуази донес на него бригадиру жандармов.
К доносу отнеслись особенно серьезно, когда сделались известными происшедшие в замке несчастья.
Бригадир послал четырех людей с приказом задержать любого подозрительного бродягу.
Двое из них спрятались у пролома, куда привел их Крамуази; двое других выследили Тибо в парке.
Мы видели, как по сигналу Крамуази вся четверка бросилась на Тибо.
Борьба была долгой и упорной.
Тибо был не такой человек, чтобы его легко могли свалить даже четверо; но он был безоружен: сопротивление оказалось бесполезным.
Жандармы особенно старались, оттого что узнали Тибо, который стал уже известным из-за происходивших вокруг него несчастий, и в округе все ненавидели его.
Тибо повалили на землю, связали по рукам и ногам и поставили между двумя лошадьми.
Третий жандарм возглавлял процессию, а четвертый замыкал ее.
Тибо сопротивлялся скорее из самолюбия.
Как известно, его возможности причинять зло были безграничны: ему стоило лишь пожелать — и четыре его врага упали бы мертвыми.
Но он всегда успеет это сделать. Даже у подножия эшафота, если у него останется хоть один волос на последнее желание, он сможет избежать человеческого правосудия.
Со связанными руками и спутанными ногами, с показным смирением шел он в окружении четырех жандармов.
Один из них держал в руке конец веревки, которой был связан Тибо.
Они шутили и смеялись, спрашивая колдуна, как это он дал себя схватить, обладая такой властью.
Тибо отвечал на их шутки известной поговоркой: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним».
Жандармы были уверены в том, что последними посмеются они.
Пройдя Пюизе, Тибо и жандармы вошли в лес.
Темнело. Казалось, тучи, словно огромное черное покрывало, легли на верхушки деревьев. В четырех шагах нельзя было ничего разглядеть.
Но Тибо видел.
Он видел огни, проносившиеся со всех сторон во всех направлениях.
Эти огни все приближались, сопровождаемые шорохом сухих листьев.
Встревоженные лошади пятились, втягивая ноздрями ночной воздух и дрожа под всадниками.
Смех жандармов понемногу стал стихать.
Тогда Тибо, в свою очередь, рассмеялся.
— Над чем ты смеешься? — спросил один из жандармов.
— Над тем, что вы перестали смеяться, — ответил Тибо.
На голос Тибо огни придвинулись, и шаги стали слышнее.
Затем послышался ужасающий звук — лязгание зубов.
— Да, да, друзья мои, — приветствовал волков Тибо. — Вы попробовали человечью плоть, и она пришлась вам по вкусу!
В ответ раздалось негромкое одобрительное урчание, напоминавшее одновременно голоса собаки и гиены.
— Да, понимаю, — сказал Тибо, — отведав егеря, вы не откажетесь попробовать жандарма.
Всадников понемногу начинало трясти.
— Эй, с кем это ты говоришь? — спросили они.
— С теми, кто мне отвечает, — сказал Тибо.
И он завыл. Ему ответили двадцать глоток: некоторые были всего в десяти шагах, другие — далеко.
— Что это за звери идут за нами? — спросил один из жандармов. — Негодяй говорит с ними на их языке.
— Ах так? — откликнулся башмачник. — Вы поймали Тибо, предводителя волков, вы ведете его ночью через лес, и вы еще спрашиваете, что это за огни и завывания преследуют вас?.. Слышите, друзья? — крикнул Тибо. — Эти господа желают познакомиться с вами. Ответьте им все разом, чтобы у них не оставалось сомнений.
Подчиняясь голосу хозяина, волки завыли дружно и протяжно.
Дыхание лошадей стало шумным; две или три встали на дыбы.
Жандармы изо всех сил старались успокоить животных, поглаживая их и разговаривая с ними.
— О, это еще ничего, — сказал Тибо. — Скоро на крупе у каждой лошади окажутся двое волков, а третий вцепится в горло!
Волки, проскользнув между ногами лошадей, ластились к Тибо.
Один из них поставил лапы ему на плечи и словно ждал приказаний.
— Погоди, погоди немного, — сказал ему Тибо. — Время у нас есть; не будем эгоистами и дадим подойти другим.
Жандармы уже не могли справиться с лошадьми, которые вставали на дыбы, метались из стороны в сторону и, идя шагом, покрывались потом и пеной.
— Не правда ли, теперь мы можем сговориться? — спросил Тибо у жандармов. — Если вы отпустите меня, каждый из вас сегодня сможет заснуть в своей постели.
— Шагом! — сказал один из жандармов. — Пока мы будем двигаться шагом, нам нечего опасаться.
Другой вынул саблю из ножен.
Через несколько секунд раздался жалобный вой.
Один из волков вцепился жандарму в сапог, и жандарм саблей проткнул зверя насквозь.
— А вот это я называю неосторожным поступком, жандарм, — объяснил ему Тибо. — Что бы ни гласила поговорка, волки едят друг друга; а стоит им отведать крови — и я не уверен, что смогу удержать их.
И действительно, волки все разом накинулись на своего раненого собрата, и через пять минут от него остались одни кости.
Жандармы воспользовались этой передышкой для того, чтобы выбраться на дорогу, заставив связанного Тибо бежать вместе с ними. Но случилось то, что предсказывал Тибо.
Раздался шум, напоминающий рев урагана.
Это неслась волчья стая.
Лошади, бежавшие рысью, отказались снова перейти на шаг: их испугал топот, запах и вой стаи.
Несмотря на все усилия всадников, лошади перешли на галоп.
Жандарму, который держал веревку, пришлось выпустить ее из рук — он не мог справиться с конем.
Волки вскакивали на крупы лошадей, хватали их за горло.
Почувствовав острые зубы врагов, лошади стали бросаться из стороны в сторону.
— Ура, волки! Ура! — кричал Тибо.
Но страшные звери не нуждались в том, чтобы их подбадривали. Около Тибо остались всего два или три волка, все прочие преследовали лошадей; на каждую приходилось по шесть или семь хищников.
Кони и волки убегали во всех направлениях, и вскоре со всех сторон слышался, затихая, яростный вой, смешанный с криками ужаса и жалобным ржанием.
Тибо был на свободе. Но у него были связаны руки и спутаны ноги.
Он попытался перегрызть веревки — невозможно.
Потом он попытался разорвать их — бесполезно.
Его старания привели лишь к тому, что веревки глубоко врезались в тело.
Теперь завыл он — от боли, тоски и злости.
Наконец, устав терзать свои связанные руки, он позвал, поднимая к небу сжатые кулаки:
— О черный волк, друг мой, сними с меня эти веревки. Ты ведь знаешь, я хочу освободиться, чтобы творить зло.
В ту же минуту разорванные веревки упали к ногам Тибо и он с радостным воплем стал размахивать освобожденными руками.
XXI ДУХ ЗЛА
На следующий день вечером, около девяти часов, можно было видеть человека, который шел к просеке Озье дорогой Сарацинского Колодца.
Это был Тибо: он хотел в последний раз навестить свою хижину и взглянуть, не пощадил ли пожар хоть что-нибудь. На месте хижины лежала куча дымящихся углей.
Волки, как будто Тибо назначил им встречу, образовали широкий круг около пепелища и созерцали его со злобным и угрюмым выражением: казалось, они понимали, что люди, уничтожившие эту бедную хижину из веток и глины, тем самым совершили преступление против того, кого сделка с черным волком сделала их хозяином.
Когда Тибо вошел в круг, все волки одновременно жутко и протяжно завыли, словно хотели сказать, что готовы помочь ему отомстить.
Тибо сел на том месте, где прежде был очаг; оно угадывалось по кучке почерневших, но целых камней и по более толстому слою пепла.
Погруженный в скорбное созерцание, он провел так несколько минут.
Он не думал о том, что печальное зрелище перед его глазами — расплата за его завистливые желания, которые постоянно возрастали и множились. Он не раскаивался и не испытывал сожалений. Удовольствие от возможности воздать злом за причиненное ему зло, гордость, порожденная сознанием, что он может сражаться со своими преследователями благодаря страшным своим помощникам, подавили в нем все другие чувства.
Волки жалобно выли, и Тибо обратился к ним:
— Да, друзья мои, ваши завывания отвечают стонам моего сердца… Люди разрушили мою хижину, развеяли по ветру пепел инструментов, с помощью которых я зарабатывал себе на хлеб; их ненависть преследует меня, как и вас. Я не жду от них ни жалости, ни милосердия. Мы их враги, как они — наши, и у меня нет к ним ни жалости, ни сострадания. Идите и разоряйте все, от хижины до дворца, отплатите им за меня.
И, подобно предводителю кондотьеров, ведущему своих наемников, предводитель волков со своей бандой принялся убивать и разорять.
Теперь он преследовал не оленей, не ланей, не косуль, не скромную лесную дичь.
В первую очередь Тибо под покровом тьмы отправился в замок Вез, где находился его главный враг.
К замку барона примыкали три фермы; в конюшнях было много лошадей, в хлевах — коров, в загонах — овец.
В первую же ночь все это подверглось нападению.
На следующее утро обнаружили зарезанными: в конюшне — двух лошадей, в хлеву — четырех коров, в загоне — десять овец.
Барон не сразу поверил, что нападение совершили те самые хищники, с которыми он вел такую беспощадную войну; все это было похоже на продуманное преследование, а не на набег диких зверей.
Все же следы зубов на ранах и отпечатки лап на земле вынудили его признать, что виновниками несчастья были обычные волки.
Назавтра устроили засаду.
Но Тибо и его волки ушли на другой конец леса.
В эту ночь поредели конюшни, хлевы, овчарни в Суси и Вивье.
Затем пришел черед Бурсонна и Ивора.
Начавшись, разбойные нападения не могли не продолжаться со все возраставшей жестокостью.
Предводитель стаи не расставался со своими волками: он спал в их логовах, он жил среди них, подогревая в хищниках жажду крови и убийств.
Многих, кто пришел в лес за хворостом или вереском и наткнулся там на зловещую пасть с острыми белыми зубами, волки утащили в чащу и растерзали, и лишь некоторым удалось спастись благодаря собственной смелости и острому ножу.
Волки, организованные и управляемые человеческим разумом, были страшнее банды ландскнехтов, хозяйничающей в завоеванной стране.
Страх объял всех; с наступлением темноты никто не решался покинуть город или деревню безоружным; скот кормили в хлевах, и люди, собравшись куда-нибудь пойти, искали компанию, чтобы выйти вместе.
Суасонский епископ велел всем прихожанам молиться об оттепели и таянии снегов, потому что необычайную свирепость волков связывали с большим количеством выпавшего снега.
Говорили, что волков возбуждает, направляет и ведет человек; что этот человек более неутомим, жесток и безжалостен, чем сами волки; что, по примеру своих спутников, он питается трепещущей плотью и утоляет жажду кровью.
Народ называл Тибо.
Епископ отлучил бывшего башмачника от Церкви.
Сеньор Жан уверял, что громы Церкви бессильны против злых духов, если их не предваряет умелая травля.
Он был огорчен, что пролилось столько крови, унижен тем, что его собственный скот особенно часто подвергался нападению со стороны хищников, которых он по своему званию начальника волчьей охоты призван был истреблять; но в глубине души он тайно радовался при мысли о победах, которые одержит, о славе, которую, несомненно, завоюет среди известных охотников. Его страсть к охоте возрастала до гигантских размеров в этой борьбе, казалось открыто принятой противником; он не знал ни сна, ни отдыха, ел не сходя с седла. По ночам в сопровождении Весельчака и Ангулевана, возведенного после женитьбы в ранг доезжачего, рыскал по всей округе, с рассветом был уже в седле. Он поднимал волка и гнал его до тех пор, пока угасавший свет дня позволял различать собак.
Но увы! Сеньор Жан впустую растрачивал свою смелость, свою проницательность, свой опыт охотника.
Иногда ему удавалось убить злобного волчонка, тощую тварь, изъеденную чесоткой, или неосторожного обжору, который объедался во время набегов до того, что начинал задыхаться после двух-трех часов преследования; но большие рыжие волки, с подтянутыми животами, со стальными сухожилиями, с длинными сухими лапами, не потеряли в этой войне ни клочка шерсти.
Благодаря Тибо они сражались с противником на равных.
Так же как сеньор Жан был неразлучен со своими собаками, так и предводитель волков не расставался со своей стаей; после ночного грабежа и разбоя он держал банду наготове, чтобы прийти на помощь тому, кого затравит сеньор Жан; волк, следуя указаниям башмачника, начинал хитрить: сдваивал и запутывал следы, шел по ручьям, вспрыгивал на наклонно росшие деревья, чтобы затруднить работу людей и собак, наконец, чувствуя, что силы его иссякают, резко менял направление и уходил. Тогда вмешивалась волчья стая во главе со своим предводителем: при малейших колебаниях собак они так ловко сбивали их со следа, что требовался весь большой опыт сеньора Жана, чтобы догадаться: гончие уже не преследуют зверя.
Да и сеньор Жан мог ошибиться.
Кроме того, как мы говорили, и волки преследовали охотников: одна стая гналась за другой.
Только волчья стая, бежавшая молча, была куда страшнее гончих.
Отстанет ли выбившаяся из сил собака, уйдет ли в сторону от других — она немедленно будет задушена, и однажды новый доезжачий, сменивший беднягу Маркотта (уже известный нам метр Ангулеван), прибежав на предсмертный визг одной из своих гончих, сам подвергся нападению волков и смог спастись лишь благодаря быстроте своего коня.
За короткое время стая сеньора Жана сильно поредела: лучшие собаки надорвались, более слабые погибли от волчьих зубов. Конюшня была не в лучшем состоянии, чем псарня: Баяр разбил ноги; Танкред повредил сухожилие, перепрыгивая через ров; Храбрый стал инвалидом; больше, чем его товарищам, повезло Султану — он пал на поле боя, не выдержав шестнадцатичасового бега и огромного веса хозяина. Но того по-прежнему не обескураживали неудачи, повлекшие гибель его самых благородных и самых верных слуг.
Подобно благородным римлянам, применявшим против постоянно возрождающихся карфагенян всевозможные военные хитрости, сеньор Жан сменил тактику и попробовал прибегнуть к облаве. Он собрал ополчение из крестьян и принялся прочесывать лес, не оставляя по пути ни одного зайца в норе.
Но Тибо предугадывал эти облавы и места, где их станут проводить.
Если их обкладывали со стороны Вивье или Суси — волки и их вожак наведывались в Бурсонн или Ивор.
Если их ждали в Арамоне или Лонпре — они отправлялись в Кореи и Вертфей.
Сеньор Жан ночью являлся на условленное место, в полном молчании окружал выбранные просеки, на рассвете нападал — но ни разу ему не удалось поднять из логова ни единого волка.
Тибо никогда нельзя было застать врасплох.
Если он не расслышал, плохо понял, не смог разузнать о предстоящей облаве, с наступлением ночи он посылал в разные места гонцов и собирал волков в одном месте, затем все вместе незаметно пробирались просекой Лизарл’Аббесс, соединяющей — вернее, соединявшей в те времена — лес Виллер-Котре с Компьенским лесом, то есть уходили из одного леса в другой.
Так продолжалось несколько месяцев.
Как и барон Жан, Тибо, со своей стороны, тоже преследовал поставленную перед собой цель с неистовой энергией; как и его соперник, он, казалось, приобрел нечеловеческую силу и мог победить напряжение и усталость. Это было тем более удивительно, что в те короткие минуты передышки, которые барон де Вез предоставлял предводителю волков, душа Тибо была далеко не спокойна.
Поступки, совершаемые им, и те действия, к которым он побуждал волков, не вызывали у него ужаса: они казались ему естественными, и Тибо перекладывал всю ответственность за них на тех, кто, как он говорил, толкнул его на преступления.
Все же у него случались минуты необъяснимого упадка сил; тогда он среди своих жестоких товарищей выглядел печальным, подавленным и угрюмым.
Он вспоминал Аньелетту: в ее кротком облике воплощалось все его прошлое честного и трудолюбивого ремесленника, вся мирная и ничем не опороченная жизнь.
Тибо и не думал, что сможет любить кого-нибудь так, как он полюбил теперь Аньелетту. Иногда он плакал в отчаянии об утраченном счастье, иногда его охватывала бешеная ревность к тому, кто завладел девушкой, которая прежде могла принадлежать ему, Тибо, если бы он только это захотел.
Однажды, когда сеньор Жан, готовя новое нападение, вынужден был на время оставить волков в покое, Тибо, находившийся именно в таком настроении, вылез из логова, где жил среди волков.
Была великолепная летняя ночь.
Тибо бродил среди деревьев с посеребренными луной верхушками и вспоминал о тех временах, когда беззаботно и без тревог разгуливал по нежному ковру мха.
Ему удалось достичь единственного блаженства, которое оставалось доступным ему: возможности забыться.
Погруженный в сладкие мысли о прошлом, Тибо внезапно в сотне шагов от себя услышал отчаянный крик.
Он до того привык слышать эти крики, что в другое время не обратил бы на него никакого внимания.
Но в ту минуту воспоминание об Аньелетте смягчило сердце Тибо и расположило его к жалости.
Это было тем более естественно, что он находился вблизи того места, где в первый раз встретил кроткую девушку.
Он побежал туда, откуда послышался крик, и, выскочив из кустов на Амскую просеку, увидел женщину, которая отбивалась от чудовищного волка.
Тибо не отдавал себе отчета в своих чувствах, но сердце у него билось сильнее обычного.
Схватив зверя за горло, он отбросил его на десять шагов от жертвы, затем взял женщину на руки и отнес на склон оврага.
Лунный луч, проскользнувший между двумя тучами, упал налицо той, кого Тибо только что вырвал из когтей смерти.
Тибо узнал Аньелетту.
Он был в десяти шагах от того родника, в котором, взглянув на свое отражение, впервые увидел красный волос на своей голове.
Он побежал туда, зачерпнул полные пригоршни воды и брызнул ею на лицо молодой женщины.
Аньелетта открыла глаза, вскрикнула от ужаса и попыталась вскочить и убежать.
— Как, вы не узнаете меня, Аньелетта? — воскликнул предводитель волков так, словно все еще был башмачником Тибо.
— Ах, я узнала вас, Тибо, узнала, поэтому мне так страшно!
Упав на колени и протягивая к нему руки, она стала просить:
— Не убивайте меня, Тибо! Не убивайте меня! Это будет таким горем для бабушки! Тибо, не убивайте меня!
Предводитель волков был потрясен.
Только теперь он понял, какую ужасную известность приобрел: ему объяснил это безумный страх женщины, которая прежде любила его и которую он все еще продолжал любить.
На минуту он сделался отвратителен самому себе.
— Мне убить вас, Аньелетта! Да ведь я хочу спасти вас от смерти! О, вы, должно быть, сильно ненавидите меня, Аньелетта, раз вам в голову пришла такая мысль!
— Нет, Тибо, у меня нет ненависти к вам, — отвечала молодая женщина; но о вас такое рассказывают, что я вас боюсь.
— А что говорят о той, чья измена толкнула Тибо на все эти преступления?
— Я не понимаю вас, — сказала Аньелетта, глядя на Тибо своими большими глазами цвета неба.
— Как! Вы не понимаете, что я любил вас… что я обожал вас, Аньелетта, и, потеряв вас, обезумел?
— Если вы любили меня, если вы обожали меня, Тибо, то кто же вам помешал жениться на мне?
— Злой дух, — пробормотал Тибо.
— Я любила вас, Тибо, — продолжала Аньелетта, — и жестоко страдала, ожидая вас.
Тибо вздохнул.
— Вы любили меня, Аньелетта?
— Да, — ответила она нежным голосом, глядя на Тибо своими прелестными глазами.
— Но теперь все кончено и вы меня больше не любите?
— Тибо, я больше не люблю вас, потому что не должна вас любить. Но с первой своей любовью не так легко расстаются.
— Аньелетта! — дрожа, воскликнул Тибо. — Берегитесь того, что вы собираетесь сказать!
— Почему? — простодушно удивилась Аньелетта. — Почему я должна остерегаться это говорить, раз это правда? В день, когда вы сказали, что хотите взять меня в жены, я поверила вам, Тибо; к чему вам было меня обманывать, когда я только что оказала вам услугу? Потом я встретила вас снова; я не искала вас, это вы подошли ко мне, вы говорили о любви, вы первый напомнили о том обещании, которое дали мне. Не моя вина, Тибо, что я испугалась того ужасного кольца, которое было у вас на пальце: достаточно большое для вашей руки, мне оно оказалось мало.
— Хотите, я не стану больше носить это кольцо? Хотите, я выброшу его?
И он попробовал стащить кольцо с пальца.
Но оно снова оказалось слишком тесным; в прошлый раз оно не налезало на пальчик Аньелетты, сегодня оно отказывалось покинуть палец Тибо.
Тибо пробовал стащить его зубами, но, как он ни старался, кольцо словно навеки приросло к пальцу.
Тибо понял, что ему не удастся отделаться от кольца, полученного в залог от черного волка.
Отчаявшись, с тяжелым вздохом он уронил руки.
— В тот день я убежала, — продолжала Аньелетта. — Я знаю, что не должна была так поступать, но я не могла совладать со своим страхом при виде этого кольца, и особенно…
Она робко подняла глаза и взглянула на лоб Тибо.
Голова у Тибо была непокрытой, и при свете луны Аньелетта увидела, что уже не один волос светился адским пламенем, а половина головы предводителя волков окрасилась в дьявольский цвет.
— Ой! — попятившись, вскрикнула Аньелетта. — Тибо, Тибо, что с вами произошло зато время, что я вас не видела?
— Аньелетта! — Тибо уткнулся лбом в землю и обхватил голову обеими руками. — Я ни одному человеку, даже священнику, не могу рассказать о том, что со мной произошло; но вам, Аньелетта, я скажу только одно: Аньелетта, Аньелетта, пожалейте меня, я был очень несчастен!
Аньелетта подошла к нему и взяла его за руки.
— Так вы любили меня? Вы меня любили? — воскликнул Тибо.
— Что поделаешь, Тибо, — с прежней мягкостью и простодушием продолжала она. — Я приняла ваши слова всерьез, и каждый раз, как кто-нибудь стучался в дверь нашего домика, мое сердце начинало сильно биться, так как я думала, что это вы пришли сказать старушке: «Матушка, я люблю Аньелетту, Аньелетта любит меня; согласны ли вы отдать мне ее в жены?» Затем, отворив дверь и увидев, что пришли не вы, я плакала, забившись в угол.
— А теперь, Аньелетта? Что теперь?
— Теперь, — ответила девушка, — как это ни странно, Тибо, несмотря на все то ужасное, что о вас рассказывают, я больше не боюсь вас. Мне кажется, вы не можете желать мне зла. Я без страха шла через лес, когда на меня бросился этот страшный зверь, от которого вы меня спасли.
— Но как вы оказались рядом со своим прежним жилищем? Разве вы живете не у мужа?
— Да, одно время мы жили в Везе, но там не было места для слепой старушки. Тогда я сказала мужу: «Бабушка для меня важнее всего; я возвращаюсь к ней. Когда вы захотите увидеть меня, вы ко мне придете».
— И он согласился?
— Сначала он не хотел, но я объяснила ему, что бабушке семьдесят лет, что ей осталось прожить только два или три года, — дай Бог мне ошибиться в этом! — и для нас это всего лишь два или три года мелких неудобств, а впереди у нас, вероятно, еще долгие годы. Тогда он понял, что надо поделиться с тем, кто обладает меньшим.
Но, слушая объяснения Аньелетты, Тибо думал только об одном: любовь, которую девушка некогда испытывала к нему, не угасла в ее сердце.
— Значит, вы любите меня? — снова спросил Тибо. — Аньелетта, вы могли бы меня любить?
— Да нет же, это невозможно, раз я принадлежу другому.
— Аньелетта! Аньелетта! Скажите только, что вы любите меня!
— Напротив, если бы я любила вас, я всеми силами старалась бы это от вас скрыть.
— Почему? Почему же? Ты не знаешь моего могущества. У меня осталось, может быть, всего одно желание, может быть, два, но, если бы ты помогла мне высказать эти желания, я сделал бы тебя богатой, словно королеву… Мы можем уехать из этих мест, покинуть Францию и даже Европу; существуют большие страны, Аньелетта, самые названия которых тебе неизвестны: Америка, Индия. Это рай под синим небом; там растут большие деревья и летают всевозможные птицы. Аньелетта, скажи, что пойдешь со мной; никто не узнает, что мы уехали вместе, никто не будет знать, что мы любим друг друга, и даже о том, что мы вообще живы.
— Бежать с вами, Тибо! — Аньелетта смотрела на предводителя волков так, словно поняла лишь половину сказанного. — Но разве вам неизвестно, что я больше не принадлежу себе? Разве вы не знаете, что я замужем?
— Не все ли равно, раз ты любишь меня и мы можем быть счастливы!
— О Тибо, Тибо, что вы говорите!
— Послушай, — снова заговорил Тибо. — Я хочу говорить с тобой от имени этого мира и потустороннего. Хочешь ли ты спасти мое тело и вместе с тем мою душу, Аньелетта? Не противься мне, сжалься надо мной, приди ко мне. Уедем! Поедем куда-нибудь, где не слышно этого воя, не будет этого запаха окровавленной плоти. Если ты боишься стать богатой и знатной дамой, поедем в такое место, где я снова смогу стать ремесленником Тибо, бедным, но любимым Тибо, а стало быть, счастливым Тибо, хоть и занятым тяжелым трудом; поедем куда-нибудь, где у Аньелетты не будет другого супруга, кроме меня.
— Тибо, Тибо! Я готова была стать вашей женой, но вы оттолкнули меня!
— Аньелетта, не напоминайте мне о моих ошибках, за которые я так жестоко наказан.
— Тибо, то, что вы не захотели сделать, сделал другой: он взял в жены бедную девушку, он заботится о слепой старушке, одной он дал имя, другой — кусок хлеба; он не просил ничего, кроме моей любви, не искал другого богатства, кроме моей верности; как же вы можете требовать, чтобы я отплатила ему злом за добро? Посмеете ли сказать, что я должна оставить того, кто доказал мне свою любовь, ради того, кто доказал мне лишь свое безразличие?
— Но раз ты его не любишь, раз ты любишь меня, Аньелетта, какое это имеет значение?
— Тибо, не выворачивайте мои слова наизнанку, чтобы найти в* них то, чего нет. Я говорила о дружбе, которую сохранила к вам, но я вовсе не говорила, что не люблю своего мужа. Я хотела бы видеть вас счастливым, друг мой, и прежде всего хотела бы, чтобы вы отреклись от своих заблуждений, раскаялись в своих преступлениях. Наконец, я хотела бы, чтобы Господь сжалился над вами и вырвал бы вас из-под власти злого духа, о котором вы только что говорили. Я буду на коленях просить об этом в утренних и вечерних молитвах. Но, чтобы я могла молиться за вас, Тибо, чтобы голос мой достиг престола Всевышнего, я должна оставаться чистой, должна быть невинной и, наконец, должна быть верной, как поклялась у алтаря.
Услышав, с какой твердостью говорит Аньелетта, Тибо снова сделался угрюмым и печальным.
— Знаете ли вы, Аньелетта, как неосторожно говорить мне это?
— Почему, Тибо? — спросила она.
— Мы здесь одни, уже темно, и в такой час ни один человек не решится войти в лес. Знаешь ли ты, Аньелетта, что король не больше распоряжается в своих владениях, чем я здесь?
— Что вы хотите этим сказать, Тибо?
— Хочу сказать, что от просьб, уговоров и мольбы я могу перейти к угрозам.
— Вы мне угрожаете?
— Я хочу сказать, — не слушая Аньелетту, продолжал Тибо, — что каждое слово, которое ты произносишь, возбуждает разом и мою любовь к тебе, и мою ненависть к Ангулевану; я хочу сказать, наконец, что овечке, когда она во власти волка, не стоит его дразнить.
— Когда я шла по этой тропинке, Тибо, я не испугалась, увидев вас, как я вам и сказала. Придя в себя и невольно вспомнив, что о вас рассказывали, я на мгновение испытала ужас. Но теперь, Тибо, чтобы вы ни делали, вы не заставите меня побледнеть.
Тибо обеими руками схватился за голову.
— Не говорите так, — сказал он. — Вы не знаете, что шепчет мне на ухо демон и сколько сил мне требуется для того, чтобы сопротивляться его уговорам.
— Вы можете убить меня, — ответила Аньелетта, — но я не совершу низости, о которой вы меня просите; вы можете убить меня, но я останусь верна тому, кого выбрала в мужья; вы можете убить меня, но, умирая, я буду молить Бога помочь ему.
— Не произносите его имени, Аньелетта, не напоминайте мне об этом человеке.
— Угрожайте мне сколько хотите, Тибо, я у вас в руках; но он, к счастью, от вас далеко, и у вас нет над ним никакой власти.
— Кто тебе это сказал, Аньелетта, кто тебе сказал, что я не могу, обладая адской властью, поразить его издалека так же легко, как вблизи?
— И вы считаете меня такой подлой, Тибо, что надеетесь, когда я стану вдовой, заставить меня принять вашу руку, обагренную кровью того, чье имя я ношу?
— Аньелетта! — Тибо упал на колени. — Аньелетта, не дай мне совершить новое преступление!
— Это зависит от вас, а не от меня. Я могу отдать вам мою жизнь, Тибо, но не мою честь.
Тибо взревел:
— Любовь покидает сердце, в котором поселилась ненависть; берегись, Аньелетта! Береги своего мужа! Демон во мне и говорит за меня. Вместо утешений, которых я искал в твоей любви и в которых твоя любовь мне отказала, я утешусь местью. Аньелетта, останови, пока еще можно, мой жест проклятия, мою карающую руку, или — понимаешь ты это? — это не я ударю, это ты нанесешь ему удар! Аньелетта, ты это знаешь… Аньелетта, ты не приказываешь мне замолчать? Ну что ж, теперь мы прокляты — он, ты и я! Аньелетта, я хочу, чтобы Этьен Ангулеван умер, и он умрет!
Аньелетта страшно закричала.
Затем, поскольку ее разум отвергал возможность убийства на расстоянии, она сказала:
— Нет, вы говорите это, чтобы испугать меня, и мои молитвы окажутся сильнее ваших проклятий.
— Так узнай, как Небо исполнит твои молитвы. Только поторопись, Аньелетта, если хочешь застать в живых своего мужа, не то споткнешься о труп.
Побежденная уверенностью, с какой говорил предводитель волков, уступая неодолимому страху, Аньелетта ничего не ответила Тибо, стоявшему на склоне оврага и протянувшему руку в сторону Пресьямона. Аньелетта пустилась бежать в том направлении, которое, казалось, указывала ей эта рука, и вскоре скрылась в темноте за поворотом дороги.
Как только она исчезла, Тибо издал такой рев, какой могли бы издать десять одновременно завывших волков. Затем он бросился в чащу со словами:
— Теперь я в самом деле проклят!
XXII ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ТИБО
Аньелетта, преследуемая смертельным ужасом, изо всех сил спешила вернуться в деревню, где остался ее муж, но именно из-за этой поспешности вынуждена была время от времени останавливаться: она задыхалась от бега.
Во время этих остановок, пытаясь успокоить себя, она говорила себе, что стала безумной, раз придает значение бессмысленным словам, подсказанным ревностью и ненавистью, что эти слова давно унес ветер; все же, едва ей удавалось отдышаться и силы возвращались к ней, она пускалась бежать так же быстро, чувствуя, что не успокоится, пока не увидит мужа.
Ей необходимо было пройти около половины льё по самым диким и глухим местам в лесу, но она больше не думала о волках, внушавших ужас всему населению городов и деревень на десять льё кругом, и боялась только одного: натолкнуться на бездыханное тело Ангулевана.
Не один раз, споткнувшись о камень или ветку, она переставала дышать, как будто уже испустила последний вздох, резкий холод пронзал ей сердце, волосы у нее на голове вставали дыбом и ледяной пот заливал ей лицо.
Наконец в конце тропинки, по которой она шла и над которой деревья, сплетаясь, образовали свод, Аньелетта увидела дома деревни, мягко посеребренные лунным светом.
Едва она вышла из темноты, как какой-то человек (она прежде не заметила его: он прятался за кустами в овраге, отделявшем долину от леса) бросился навстречу Аньелетге и поднял ее на руки, смеясь и спрашивая:
— Куда это вы идете в такой поздний час, сударыня, да еще так спешите?
Аньелетта узнала мужа.
— Этьен! О, мой милый, дорогой Этьен! — воскликнула молодая женщина, обняв его за шею обеими руками. — Как я рада, что вижу тебя, вижу живым! Благодарю тебя, Господи!
— О, — сказал Ангулеван, — а ты уже думала, бедняжка Аньелетта, что Тибо, предводитель волков, обглодал мои косточки?
— Ах, Этьен, не произноси имени Тибо; бежим, друг мой, бежим скорее в деревню!
— Ну, — рассмеялся молодой доезжачий, — из-за тебя кумушки в Пресьямоне и Везе станут говорить, что муж ни на что не годен: не может даже успокоить жену.
— Ты прав, Этьен; но только что я не боялась идти через этот огромный страшный лес, а теперь, когда ты рядом со мной и я должна была бы успокоиться, я почему-то дрожу от страха.
— Что с тобой, скажи мне? — спросил Этьен, целуя жену.
Тогда Аньелетта рассказала мужу, как по пути из Веза в Пресьямон на нее напал волк, как Тибо спас ее и что произошло между ними потом.
Ангулеван слушал очень внимательно.
— Послушай, — сказал он Аньелетте. — Я отведу тебя домой и надежно закрою там с бабушкой, чтобы с тобой ничего не случилось, а сам верхом поеду предупредить сеньора Жана о том, где находится Тибо.
— О нет, нет! — воскликнула Аньелетта. — Тебе придется проехать через лес, это опасно.
— Я не поеду через лес, — ответил Этьен. — Я проеду кругом, через Койоль и Валлю.
Аньелетта вздохнула и покачала головой, но настаивать перестала. Она знала, что не сможет переубедить Ангулевана; впрочем, она собиралась возобновить свои молитвы, как только вернется домой.
Собственно, то, что собирался сделать молодой доезжачий, было его долгом: назавтра готовилась грандиозная облава в самой дальней от того места, где Аньелетта только что видела Тибо, части леса.
Этьен обязан был немедленно сообщить сеньору Жану, где встретила Аньелетта предводителя волков.
Оставалось не слишком много времени для того, чтобы сеньор Жан мог отдать новые распоряжения.
Все же, когда они подошли к Пресьямону, Аньелетта, некоторое время молчавшая, решила, что у нее скопилось достаточно доводов, и стала с еще большим пылом упрашивать Ангулевана не рисковать.
Она сказала Этьену, что Тибо, какой он ни есть оборотень, не только не причинил ей никакого зла, но спас ее жизнь и, вместо того чтобы воспользоваться своей силой, когда Аньелетта была у него в руках, отпустил ее к мужу. После этого назвать место, где прячется Тибо, выдать его смертельному врагу, сеньору Жану, значило бы не исполнить долг, но совершить предательство; Тибо, неминуемо узнав об этом, в подобных обстоятельствах больше не пощадит никого.
Молодая женщина защищала Тибо с подлинным красноречием. Как и тогда, перед замужеством, она не скрыла от Ангулевана своей прежней помолвки, так и теперь не утаила обстоятельств своей последней встречи с башмачником.
Полностью доверяя жене, Ангулеван все же не мог не ревновать.
Впрочем, между ним и Тибо существовала давняя вражда, зародившаяся в тот день, когда Ангулеван обнаружил на дереве башмачника и подобрал в соседних кустах его рогатину.
Так что он держался твердо и, слушая мольбы Аньелетты, продолжал быстро идти в сторону Пресьямона.
На ходу они продолжали спорить, и даже в ста шагах от первых деревенских изгородей каждый продолжал настаивать на своем.
Чтобы по мере сил защититься от возможного нападения Тибо, крестьяне выставили ночной дозор и охраняли деревни, как во время войны.
Этьен с Аньелеттой были так увлечены спором, что не слышали оклика часового, сидевшего в засаде за изгородью, и продолжали идти вперед.
Часовой, видя непонятные очертания чего-то, от страха и в темноте показавшегося ему чудовищным, не отвечавшего на оклик и продолжавшего двигаться к деревне, вскинул ружье.
Подняв глаза, молодой доезжачий внезапно заметил часового; ствол ружья молнией блеснул в свете луны.
Он успел ответить часовому: «Друг» — и одновременно бросился вперед, обхватив руками Аньелетту и закрыв ее своим телом.
Но в тот же миг прогремел выстрел и несчастный Этьен рухнул на землю вместе с Аньелеттой, не выпуская ее из объятий; он не издал ни единого стона.
Пуля пробила ему сердце.
Прибежавшие на выстрел жители Пресьямона нашли на тропинке, ведущей от деревни к лесу, мертвого Ангулевана и бесчувственную Аньелетту, распростертую на трупе мужа.
Несчастную перенесли в дом ее бабушки.
Но, придя в себя, она сразу впала в граничившее с безумием отчаяние.
Безумие и бред усилились, когда прошло оцепенение первых дней.
Аньелетта винила себя в смерти мужа, звала его, заклинала невидимого духа, преследовавшего ее даже в те короткие мгновения сна, которые допускало возбужденное состояние ее мозга, помиловать его.
Она произносила имя Тибо и обращалась к проклятому с мольбами, от которых у всех, кто это слышал, слезы выступали на глазах.
Во всем, что она говорила в беспамятстве, несмотря на бессвязность слов, проступала действительность; стало ясно, что предводитель волков причастен к зловещей случайности, повлекшей за собой смерть бедняги Этьена. Теперь общего врага обвиняли в том, что он погубил двух несчастных детей, и ненависть, которую и без того все испытывали к бывшему башмачнику, еще возросла.
Как ни старались врачи, приглашенные из Виллер-Котре и из Ферте-Милона, состояние Аньелетты продолжало ухудшаться: силы ее таяли, голос через несколько дней ослабел и сделался прерывистым, бред был по-прежнему жесток, и все, даже молчание врачей, заставляло поверить, что бедная Аньелетта вскоре сойдет в могилу вслед за мужем.
Лихорадку больной мог унять только голос слепой старухи. Услышав его, Аньелетта успокаивалась, безумный взгляд ее смягчался, а глаза заволакивались слезами; она проводила рукой по лбу как будто хотела прогнать навязчивую мысль, и на губах ее мелькала печальная улыбка.
Однажды вечером, как только стемнело, Аньелетта заснула еще более беспокойным и тяжелым сном, чем обычно.
Слабо освещенная медной лампой хижина была погружена в полумрак; бабушка сидела у очага, и ее лицо застыло в неподвижности, за которой дикари и крестьяне скрывают самые сильные чувства.
Сеньор Жан нанял двух женщин, чтобы они ухаживали за вдовой его слуги. Одна из них читала молитвы, перебирая четки и стоя на коленях у изголовья больной, до того бледной и бескровной, что ее можно было принять за мертвую, если бы ее грудь не приподнималась затрудненным дыханием; вторая молча пряла.
Вдруг больная, которая уже до этого начала дрожать, испуганно закричала, как будто боролась с кошмаром.
В ту же минуту дверь распахнулась и в комнату ворвался человек, голова которого казалась объятой пламенем. Он бросился к постели Аньелетты, сжал умирающую в объятиях, с мучительным стоном прижался губами к ее лбу, а потом выбежал через заднюю дверь хижины.
Он промелькнул стремительно, и могло показаться, что больная бредит, когда, отталкивая от себя что-то невидимое, она кричала:
— Прогоните, прогоните его!
Но обе сиделки тоже успели увидеть этого человека и узнали в нем Тибо; а за стенами дома уже слышался сильный шум и называлось его имя.
Шум приближался к дому Аньелетты; вскоре на пороге появились люди, которые преследовали предводителя волков.
Его видели бродившим около дома Аньелетты, и жители Пресьямона, предупрежденные часовыми, пришли, вооружившись вилами и палками.
Тибо, знал о безнадежном состоянии Аньелетты и не мог устоять перед желанием в последний раз увидеть ее.
Рискуя многим, не считаясь с тем, чем это могло обернуться для него, он пробежал через деревню, надеясь только на быстроту своих ног, распахнул дверь хижины и бросился к умирающей.
Женщины указали крестьянам, в какую дверь вышел Тибо, и они, словно стая гончих, устремилась по его следу, не переставая кричать и угрожать.
Разумеется, Тибо ускользнул от преследования и скрылся в лесу.
Но состояние Аньелетты после испытанного ею страшного потрясения, вызванного приходом Тибо и его прикосновением к ней, сделалось настолько угрожающим, что в ту же ночь пришлось послать за священником.
Было очевидно, что Аньелетте осталось страдать лишь несколько часов.
В полночь пришел священник в сопровождении ризничего, с крестом и мальчиков-певчих со святой водой.
Они встали на колени в ногах постели, священник приблизился к изголовью.
Тогда, казалось, какие-то таинственные силы оживили больную.
Она долго шепотом говорила со священником, и так как все знали, что бедняжке незачем так долго молиться за себя, они поняли, что Аньелетта молилась о ком-то другом.
Но о ком?
Это знали только Бог, священник и она сама.
XXIII ГОДОВЩИНА
Перестав слышать за своей спиной яростные крики преследовавших его крестьян, Тибо замедлил бег.
Потом, когда лес снова стал безмолвным, Тибо остановился и сел на груду камней.
Он был в таком смятении, что не сразу узнал место, где оказался; лишь увидев на камнях черные пятна, оставленные языками пламени, он понял, что это камни его очага.
Случай привел его туда, где несколько месяцев тому назад стояла его хижина.
Башмачник несомненно сравнивал свое грозное настоящее с безмятежным прошлым; крупные слезы, скатываясь по его щекам, падали в пепел у ног.
Тибо слышал, как часы на колокольне Уаньи бьют полночь, вслед за ними пробили часы других церквей.
В этот час священник слушал последние молитвы умирающей Аньелетты.
— О, будь проклят день, когда я пожелал чего-то кроме того, что Господь дал бедному ремесленнику! — воскликнул Тибо. — Будь проклят день, когда черный волк продал мне способность творить зло, потому что причиненное мною зло не только не принесло мне счастья, но навеки разрушило его!
Позади Тибо раздался смех.
Обернувшись, он увидел черного волка, который неслышно приблизился к нему в темноте, как собака приходит к своему хозяину.
Волк был бы невидим, если бы его не освещали метавшие пламя глаза.
Обойдя очаг кругом, он уселся напротив башмачника.
— Метр Тибо чем-то недоволен? — спросил он. — Клянусь рогами Вельзевула! Метр Тибо привередлив!
— Могу ли я быть довольным, если с тех пор, как встретил тебя, знаю лишь тщетные стремления и бесполезные сожаления?
Я хотел богатства — и в отчаянии оттого, что утратил крышу из папоротника, под которой засыпал, не беспокоясь о завтрашнем дне, не обращая внимания на ветер и дождь, хлеставшие по ветвям больших дубов.
Я жаждал почестей — а самые бедные крестьяне, которых я некогда презирал, гонят меня ударами камней.
Я желал любви — но единственная женщина, которая любила меня и которую я люблю, ушла от меня к другому, а теперь умирает, проклиная меня, и вся власть, что ты мне дал, не поможет мне спасти ее!
— Люби себя одного, Тибо!
— Да, смейся.
— Я не смеюсь. Разве до того, как я предстал перед твоими глазами, ты не смотрел алчно на чужое добро?
— И все из-за несчастного оленя, какие сотнями пасутся в этом лесу!
— Ты думал, что хочешь только оленя, Тибо, но желания следуют одно за другим, как ночь идет за днем, а день — за ночью.
Пожелав оленя, ты захотел иметь и серебряное блюдо, на котором должно быть подано его мясо; к серебряному блюду потребовались бы слуги: один принесет мясо, другой разрежет его.
Честолюбие, подобно небесному своду, кажется ограниченным горизонтом, но охватывает всю землю.
Ты пренебрег невинностью Аньелетты ради мельницы вдовы Поле; не получив мельницы, ты захотел дом бальи Маглуара, а дом бальи Маглуара утратил для тебя всякую привлекательность, стоило тебе увидеть замок графа де Мон-Гобера.
О, из-за твоей завистливости ты по праву принадлежишь падшему ангелу, нашему с тобой хозяину; только ты слишком глуп для того, чтобы извлекать выгоду из причиненного другому зла, и, быть может, тебе лучше было оставаться честным.
— О да, — печально отозвался башмачник. — Только теперь я понял, насколько справедлива пословица: «Не рой другому яму — сам в нее попадешь!»… Но, в конце концов, — добавил он, — разве не могу я снова стать честным?
Волк усмехнулся.
— Ох, парень, — сказал он, — дьявол может, взяв человека за один волос, увести его в ад. А ты считал когда-нибудь, сколько волос на твоей голове ему принадлежит?
— Нет.
— Не могу точно сказать, сколько твоих волос принадлежит ему, но могу сказать, сколько их осталось тебе. Всего один. Ты сам видишь, что упустил время, когда мог раскаяться.
— Почему, — спросил Тибо, — если дьяволу достаточно одного волоса, чтобы погубить человека, почему же Господу будет этого мало, чтобы человека спасти?
— Попробуй.
— Впрочем, заключая с вами эту злополучную сделку, я не думал, что связал себя.
— Ох, до чего люди нечестные! Ты не заключил договора, отдав свои волосы, глупец? С тех пор как люди изобрели крещение, мы не знаем, как их ухватить; за те услуги, что мы им оказываем, они отдают нам часть своего тела, которой мы можем завладеть. Ты уступил нам свои волосы; они крепко держатся, ты сам в этом убедился, и они не останутся у нас в когтях… Нет, нет, Тибо, ты наш с той самой минуты, как на пороге твоей хижины тебя посетила мысль о вымогательстве и обмане.
— Значит, — воскликнул Тибо, вскочив и в ярости топнув ногой, — значит, я погиб для будущей жизни, не получив никакого удовольствия от этой?
— Ты еще можешь получить его, Тибо.
— Каким образом?
— Твердо ступив на путь, на котором оказался случайно, и решительно требуя то, чего желал тайком, — одним словом, открыто перейдя на нашу сторону.
— И как мне это сделать?
— Занять мое место.
— А заняв его?
— Приобрести мою власть; тогда тебе нечего будет желать.
— Если ваша власть так велика, если она дает вам все богатства, к которым я стремлюсь, как же вы от нее откажетесь?
— Обо мне не беспокойся. Хозяин, которому я приведу слугу, щедро наградит меня.
— И заняв ваше место, я приму ваш облик?
— Да, на ночь; но днем ты будешь снова становиться человеком.
— Ночи долгие, темные и полны ловушек; я могу погибнуть от пули егеря, моя лапа может попасть в капкан — и прощай богатство, прощайте почести.
— Нет эта шкура непроницаема для железа, свинца и стали… Пока она будет покрывать твое тело, ты не только неуязвим, но и бессмертен. Один только раз в году, как все оборотни, ты станешь волком на двадцать четыре часа, и в течение этих суток будешь так же смертен, как все другие. Мы с тобой познакомились ровно год назад, как раз в такой роковой для меня день.
— А, — сказал Тибо, — теперь понимаю, почему вы так боялись зубов собак сеньора Жана.
— Когда мы договариваемся с людьми, нам запрещено лгать, мы должны говорить им все: они могут принять наши условия или отказаться.
— Ты расхваливал передо мной власть, которую я могу приобрести; что ж, посмотрим, насколько она велика.
— Так велика, что самый могущественный король не сможет с тобой соперничать: королевская власть ограничена человеческими возможностями.
— Буду ли я богат?
— Так богат, что станешь презирать богатство, потому что одной силой желания станешь получать все, за что люди платят золотом и серебром, а кроме того — то, что чародеи получают с помощью заклинаний.
— Я смогу отомстить своим врагам?
— Твоя власть творить зло будет безграничной.
— Сможет ли женщина, которую я полюблю, оставить меня?
— Ты станешь господствовать над себе подобными, они будут в твоей власти.
— И ничто не поможет им уйти из-под нее?
— Только смерть, которая сильнее всего.
— И я могу умереть в один из трехсот шестидесяти пяти дней?
— В один-единственный; в другие дни ни железо, ни свинец, ни сталь, ни вода, ни огонь не одолеют тебя.
— И за твоими словами не скрывается никакая ложь, никакая ловушка?
— Никакой ловушки — слово волка!
— Согласен, — сказал Тибо. — Пусть я буду волком двадцать четыре часа, а все остальное время — царем творения. Что я должен сделать? Я готов.
— Сорви один листик с остролиста, разорви его зубами на три части и отбрось их далеко от себя.
Тибо сделал то, что было ему приказано.
Разорвав лист, он разбросал куски, и тогда, хотя до тех пор погода была необычайно тихой, раздался удар грома и налетевший ураган закружил обрывки листа и унес их с собой.
— А теперь, брат Тибо, — сказал волк, — займи мое место, и удачи тебе! Как я год назад, ты останешься волком на двадцать четыре часа; постарайся выйти из этого испытания так же счастливо, как с твоей помощью вышел в прошлом году я, и ты увидишь, как сбудется все, что я тебе пообещал. А я попрошу сеньора с раздвоенным копытом, чтобы он поберег тебя это время от зубастых псов барона де Веза, потому что — слово дьявола! — ты вызываешь у меня подлинный интерес, друг Тибо!
И Тибо показалось, что черный волк растет, вытягивается, поднимается на задние лапы и уходит в человеческом обличье, помахав рукой на прощание.
Мы говорим «ему показалось», потому что на минуту его мысли перестали быть отчетливыми, его разум сковало странное оцепенение.
Позже, когда он пришел в себя, он оказался один.
Его тело приняло странную и непривычную форму.
Он сделался совершенно похожим на большого черного волка, с которым разговаривал за минуту до того.
На темной шерсти выделялся один-единственный белый волос, расположенный над мозжечком.
Этот белый волос у волка был тем самым, что оставался черным у человека.
Не успел Тибо прийти в себя, как ему послышался из кустов приглушенный лай и кусты зашевелились…
Тибо с дрожью вспомнил о своре сеньора Жана.
Превратившийся в черного волка, Тибо подумал, что ему не стоит подражать своему предшественнику и дожидаться, пока собаки сеньора Жана нападут на его след.
Услышав лай собаки, он предположил, что это заволновалась ищейка, и не стал медлить до момента, когда будут спущены гончие.
Тибо побежал вперед по прямой, как бегут обычно волки, и с удовольствием отметил, каким сильным и гибким стало его тело в новом облике.
— Клянусь рогами дьявола! — раздался в нескольких шагах от него голос сеньора Жана. — Ты слишком слабо держишь собак, парень, — обратился он к новому доезжачему, — ты позволил ищейке зарычать, и теперь мы не поднимем волка.
— Я не отрицаю своей вины, монсеньер, она очевидна; но я вчера видел волка пробегающим в сотне шагов отсюда и никак не мог предположить, что он всю ночь проведет в этих зарослях и окажется так близко от нас.
— Ты уверен, что это тот самый волк, который столько раз от нас ускользал?
— Пусть хлеб, который я ем на службе у монсеньера, обратится для меня в яд, если это не черный волк, которого мы травили в прошлом году; в тот день утонул бедняга Маркотт.
— Хотел бы я встретить этого волка, — вздохнул сеньор Жан.
— Стоит монсеньеру только приказать, и мы начнем охоту; но позвольте заметить, что у нас впереди еще два часа полной темноты: этого более чем достаточно, чтобы все наши лошади переломали себе ноги.
— Я не спорю; но, если мы станем ждать рассвета, Весельчак, негодяй будет к этому времени за десять льё отсюда.
— По меньшей мере, монсеньер, — качая головой, отозвался Весельчак, — по меньшей мере.
— Мне этот черный волк очень сильно досаждает, — добавил сеньор Жан, — я, кажется, заболею, если не смогу получить его шкуру.
— Ну, так начнем, не теряя ни минуты, монсеньер.
— Ты прав, Весельчак, иди за собаками, друг мой.
Весельчак отправился за своим конем, которого привязал к дереву на время, пока поднимали дичь. Сев в седло, он пустил коня галопом.
Через десять минут, показавшихся барону вечностью, Весельчак вернулся со всей охотой.
Немедленно спустили собак.
— Потише, дети мои, потише! — говорил сеньор Жан. — Помните, что это не наши старые собаки, такие умные и гибкие; это новички, и если вы забудетесь, они произведут дьявольский шум, а толку выйдет мало; дайте им постепенно разогреться.
В самом деле, две или три собаки, освободившись от связок, жадно втянули запах оборотня и подали голос.
К ним присоединились другие.
Все пустились по следу Тибо, вначале почти молча и скорее сближаясь, чем выслеживая, а затем подавая голос все чаще и сильнее; потом, почуяв волчий запах, вся стая по горячему следу с бешеным лаем и невероятным пылом устремилась в сторону Яворского леса.
— Хорошее начало — половина дела! — воскликнул сеньор Жан. — Весельчак, займись запасными собаками — я хочу, чтобы они были везде! Я сам стану кричать им… А вы действуйте смелее, — повернулся он к челяди. — Мы должны расквитаться за множество поражений, и если мы не загоним волка по вине одного из вас, — клянусь рогами дьявола! — я скормлю виновного моим собакам!
После этого напутственного слова сеньор Жан пустил коня в галоп; хотя ночь была еще довольно темной, а дорога опасной, он быстро догнал собак, которые к тому времени оказались уже у Бур-Фонтена.
XXIV БЕШЕНАЯ ОХОТА
Тибо поднялся, едва залаяла ищейка, и благодаря этому ему удалось намного опередить собак.
Довольно долго он не слышал своры.
Вдруг издалека послышался громкий лай, напоминавший отдаленный гром, и Тибо начал беспокоиться.
Он ускорил бег и не останавливался, пока его не отделило от преследователей расстояние в несколько льё.
Тогда он огляделся и определил, что находится на холмах Монтегю.
Он прислушался.
Собаки, казалось, сохраняли дистанцию: они были где-то у Тиле.
Только волчье ухо могло расслышать лай на таком расстоянии.
Тибо повернул, как будто собирался встретить их, оставил Эрневиль слева, прыгнул в небольшой ручей, который в этих местах берет свое начало, спустился по нему до Гримокура и через Лизарл’Аббесс добрался до Компьенского леса.
Он чувствовал, что после трех часов быстрого бега стальные мышцы волчьих ног нисколько не устали, и это его немного успокаивало.
Все же он не решался войти в лес, знакомый ему меньше, чем лес Виллер-Котре.
Тибо отклонился на одно или два льё в сторону. Он хотел, применив все известные ему подходящие уловки, отделаться от преследователей.
Он перемахнул одним прыжком долину между Пьерфоном и Мон-Гобером, вошел в лес у поля Метар, вышел у Воводрана, от Сансера двигался по воде и за Лонпоном снова ушел в лес.
К несчастью, в верхней части дороги Висельника его ждала свежая свора из двадцати гончих: доезжачий г-на де Монбретона, предупрежденный сеньором де Везом, привел их на помощь.
Собак спустили немедленно: доезжачий заметил, что волк сохраняет дистанцию, и боясь, что зверь уйдет, не стал дожидаться всей охоты.
Тогда началась настоящая борьба между волком-оборотнем и гончими.
Это был безумный бег: несмотря на ловкость и сноровку наездников, лошади с трудом поспевали за собаками.
Погоня неслась через поля, леса и вересковые заросли с быстротой мысли.
Она появлялась и исчезала подобно проблеску молнии в тучах, оставляя за собой облака пыли, звуки рога и крики, которым эхо едва успевало вторить.
Она перелетала через горы, долины, потоки, топи и пропасти, как будто у лошадей и собак выросли крылья, словно у химер или гиппогрифов.
Сеньор Жан присоединился к остальным.
Он мчался впереди своих охотников, следом за гончими; глаза его горели, ноздри раздувались; он подбадривал стаю оглушительными криками и трубил в рог, с яростью вонзая шпоры в бока своего коня, когда тот останавливался перед каким-нибудь препятствием.
Черный волк тоже не замедлял бега.
Хотя на поворотах он с сильным беспокойством слышал в ста шагах позади себя лай свежей своры, расстояние между погоней и волком не сократилось ни на дюйм.
Тибо полностью сохранил человеческий разум. Он продолжал бежать, чувствуя, что выдержит это испытание; ему казалось, что он не может умереть, не отомстив за все вынесенное им и не узнав обещанных радостей, прежде чем — это было главным, и в решающую минуту его мысль беспрестанно к этому возвращалась, — прежде чем он завоюет любовь Аньелетты.
Иногда его охватывал страх, иногда — гнев.
Ему хотелось повернуться лицом к этой ревущей стае и, позабыв о своем новом теле, разогнать ее ударами палки и камнями.
Минуту спустя, наполовину обезумевший от ярости, оглушенный похоронным звоном, которым отдавался лай в его ушах, он уносился стремительнее бегущего оленя, быстрее летящего орла.
Но его усилия были напрасными.
Он бежал, несся, почти летел, но похоронные звуки не отставали ни на шаг, не отдалялись ни на миг, или, отстав на мгновение, приближались еще более грозными и устрашающими.
Тем не менее инстинкт самосохранения не покидал его, силы его не убывали.
Но он чувствовал, что, если, на свою беду, наткнется на свежую свору, его силы вскоре могут иссякнуть.
Тибо решил попробовать оторваться oт собак и вернуться в хорошо знакомые ему места, где он мог бы, воспользовавшись своим знанием леса, уйти от гончих.
На этот раз он поднялся до Пюизе, пробежал краем Вивье, вернулся в Компьенский лес, сделал петлю через лес Ларг, в Аттиши перебрался через Эну и по Аржанской котловине снова достиг леса Виллер-Котре.
Он надеялся таким образом разрушить стратегию сеньора Жана.
Очутившись в привычных местах, Тибо вздохнул свободнее.
Он был на берегу Урка между Норруа и Труенном, в том месте, где река течет между двух рядов скал; взбежав на острый утес, нависший над потоком, Тибо решительно бросился в воду, вплавь добрался до расщелины в нижней части скалы, с которой только что прыгнул; затем он спрятался в глубине пещеры, чуть ниже обычного уровня воды, и стал ждать.
Свора отстала от него примерно на льё.
Но прошло не больше десяти минут — и собаки ураганом взлетели на гребень скалы.
Те, что прибежали первыми, опьяненные бегом, не увидели пропасти или надеялись перепрыгнуть ее вслед за тем, кого преследовали — и брызги от падения собачьих тел в воду долетели до Тибо, забившегося в глубь пещеры.
Собаки оказались менее удачливыми и не такими сильными, как он, и не смогли сопротивляться течению. После бесплодных усилий они исчезли, унесенные рекой, так и не заметив убежища волка-оборотня.
Тибо слышал у себя над головой топот коней, лай остатков своры, крики охотников и проклятия сеньора Жана, чей голос перекрывал все остальные голоса.
Наконец, когда течение унесло последнюю собаку, упавшую в воду, Тибо, вследствие того что река в этом месте делала поворот, увидел, как охотники спускаются вниз по течению.
Не сомневаясь в том, что сеньор Жан, скакавший во главе охоты, вернется назад, волк не стал его дожидаться и покинул пещеру.
То вплавь, то ловко прыгая по камням, то вброд он поднялся по Урку до зарослей Крена.
Оттуда он, точно зная, что намного опережает своих врагов, решил добраться до деревни: среди домов его никто не станет искать.
Он подумал о Пресьямоне.
Эту деревню он знал лучше всего.
К тому же он будет рядом с Аньелеттой.
Ему казалось, что это придаст ему сил и принесет удачу, что кроткая и целомудренная девушка сможет влиять на его судьбу.
Тибо направился к Пресьямону.
Было шесть часов вечера.
Охота продолжалась больше пятнадцати часов.
Волк, собаки и охотники проделали не меньше пятидесяти льё.
Когда черный волк, сделав крюк через Манере и Уаньи, выбежал на опушку Амского леса, солнце уже склонялось к горизонту и окрашивало вереск в ослепительный пурпурный цвет; ветерок, ласкавший мелкие белые и розовые цветочки, был напоен их ароматом; сверчок запел среди мха, и жаворонок, взмывая в небо, приветствовал приход ночи, как двенадцать часов назад встречал день.
Безмятежность природы странным образом подействовала на Тибо.
Его удивляло, что она может оставаться такой прекрасной и радостной, когда его душа истерзана тоской.
Глядя на цветы, слушая пение птиц и стрекот насекомых, он сравнивал тихий покой и чистоту этого мира со своими страшными тревогами, он спрашивал себя, умно ли он поступил, заключив после первой сделки вторую, несмотря на новые обещания посланника дьявола.
Он боялся, что и вторая сделка принесет ему лишь разочарования.
Пробегая по наполовину скрытой золотистым дроком тропинке, он узнал в ней ту, по которой провожал Аньелетту в день, когда впервые встретил девушку; в день, когда ангел-хранитель внушил ему мысль стать ее супругом.
Воспоминание о новой сделке, благодаря которой он сможет вновь завоевать любовь Аньелетты, немного ободрила Тибо, сникшего при виде всеобщей радости.
В Пресьямоне звонил колокол.
Его печальный однообразный звон напомнил черному волку о людях и о том, что он должен опасаться их.
Он смело направился через поле к деревне, надеясь найти приют в какой-нибудь заброшенной лачуге.
Когда он огибал огораживавшую кладбище низкую стену, сложенную из сухих камней, в овраге, которым он бежал, послышались человеческие голоса.
Продолжая свой путь, он неминуемо встретится с этими людьми; вернувшись назад, он должен будет подняться на холм, и его увидят; из осторожности он решил перепрыгнуть через ограду кладбища.
Одним прыжком он оказался на кладбище (как большая часть сельских кладбищ, оно примыкало к церкви).
Заброшенное, оно все заросло высокой травой; кое-где попадались кусты ежевики и терновник.
Волк подошел к самому густому кусту и, оставаясь невидимым, обнаружил развалившийся склеп, откуда мог бы наблюдать, что делается вокруг.
Проскользнув под колючками, волк спрятался в склепе.
В десяти шагах от Тибо свежая могила ждала своего постояльца.
Из церкви доносилось пение — тем более явственно, что склеп, служивший укрытием беглецу, некогда соединялся с церковью подземным ходом.
Через несколько минут пение смолкло.
Черный волк, которому было не по себе от соседства с церковью, решил, что люди из оврага прошли мимо и что пора бы ему подыскать себе более надежное убежище взамен этого временного.
Но не успел он высунуться из-за своего куста, как ворота кладбища раскрылись.
Он вернулся на прежнее место очень обеспокоенный.
Первым на кладбище вошел ребенок в белом стихаре, с кропильницей в руке.
За ним человек, тоже в стихаре поверх одежды, нес серебряный крест.
Священник, нараспев читающий заупокойные молитвы, следовал за этими двумя.
За священником четверо несли покрытые белой тканью носилки, усыпанные венками и зелеными ветками.
Ткань обрисовывала очертания гроба.
За носилками шли несколько жителей Пресьямона.
Такая встреча на кладбище была естественной, и Тибо, сидя рядом с открытой могилой, не должен был удивляться тому, что увидел, но все же он забеспокоился и с тревожным любопытством стал следить за церемонией, несмотря на то что малейшее движение могло выдать его присутствие и, следовательно, погубить его.
Священник окропил могилу, на которую обратил внимание Тибо, и носильщики опустили свой груз на соседний холмик.
В наших краях существует обычай — если хоронят молодую девушку или женщину в расцвете красоты, ее несут на кладбище в открытом гробу, под одной лишь тканью.
Там друзья могут в последний раз проститься с усопшей, родные — в последний раз поцеловать ее.
Потом заколачивают крышку — и все кончено.
Старуха, на вид слепая, направляемая милосердной рукой, подошла проститься с покойной, и носильщики приподняли ткань, покрывавшую лицо.
Тибо увидел Аньелетту.
Из его разбитой груди вырвался глухой стон и смешался с плачем и рыданиями присутствующих.
Лицо Аньелетты, очень бледное, застывшее в невыразимом покое смерти, под этим венком из незабудок и маргариток было прекрасным как никогда при жизни.
При виде бедной покойницы Тибо почувствовал, как тает сковавший его сердце лед. Мысль о том, что он подлинный убийца этой девушки, пронзила его болью: безмерной — потому что она была истинной; мучительной — потому что в первый раз за долгое время он думал не о себе, но о той, что умерла.
Когда он услышал стук молотка, забивавшего крышку гроба, когда камни и земля посыпались из-под заступа могильщика на тело единственной женщины, которую он любил, им овладело безумие: ему казалось, что телу Аньелетты, еще недавно такому свежему и прекрасному, еще вчера живому, твердые камни причиняют боль, и он сделал движение, желая броситься на провожающих и отнять у них ту, что должна была достаться ему хотя бы мертвой, раз при жизни она принадлежала другому.
Человеческая боль подавила это последнее движение загнанного зверя, под волчьей шкурой пробежала дрожь, из налитых кровью глаз брызнули слезы, и несчастный воскликнул:
— Господи! Возьми мою жизнь, я от всего сердца возвращаю тебе ее, если это вернет к жизни ту, что я убил!
Вслед за этими словами раздался такой устрашающий вой, что люди в ужасе разбежались с кладбища.
Тибо остался один.
Почти в ту же минуту гончие, снова напавшие на след черного волка, перепрыгнули стену в том же месте, что и Тибо, и заполнили опустевшее кладбище.
За ними показался обливающийся потом сеньор Жан на коне, покрытом кровью и пеной.
Собаки направились прямо к кусту и что-то там схватили.
— Улюлю! Улюлю! — громовым голосом закричал сеньор Жан и, спрыгнув с коня, не заботясь о том, есть ли кому стеречь его, выхватил охотничий нож и бросился к склепу, прокладывая себе путь среди собак.
Собаки дрались над свежей окровавленной шкурой волка, но тело исчезло.
Не могло быть ни малейшего сомнения в том, что это была шкура волка-оборотня, которого они травили: она была совершенно черная, за исключением одного белого волоска.
Что стало с телом?
Никто и никогда этого не узнал.
Но с тех пор никто не встречал Тибо в тех краях, и все единодушно решили, что оборотнем был башмачник.
Поскольку нашли только шкуру, а тело исчезло; поскольку на том самом месте, где нашли шкуру кто-то слышал слова: „Господи! Возьми мою жизнь, я от всего сердца возвращаю тебе ее, если это вернет к жизни ту, что я убил!“, — священник объявил, что Тибо спасся благодаря своему отречению и своему раскаянию.
Это предание казалось особенно правдоподобным оттого, что еще многие годы — до тех пор, пока Революция не упразднила монастыри, — каждый раз в годовщину смерти Аньелетты из монастыря, расположенного в полульё от Пресьямона, выходил священник-премонстранец и шел молиться на ее могиле.
* * *
* * *
* * *
Вот и вся история черного волка, как мне рассказал ее Моке, служивший сторожем в доме моего отца.
Александр Дюма Женитьбы папаши Олифуса
I ЛОВЕЦ ВОРОНОВ
Мартовским утром 1848 года я вышел из спальни в кабинет и, как всегда, обнаружил на своем бюро стопку газет, а поверх газет — пачку писем.
Прежде всего я заметил конверт с большой красной печатью. На нем не было марки, и адресовано оно было просто: "Господину Александру Дюма, в Париже"', стало быть, его передали с оказией.
Начертание букв было чужестранным — что-то среднее между английским и немецким; по почерку можно было судить о писавшем: это был человек решительный, привыкший повелевать, но эти качества, вероятно, смягчались сердечными порывами и причудами ума, делавшими его совсем не тем, кем он казался на первый взгляд.
Мне нравится, получив конверт, надписанный незнакомой рукой, в тех случаях, когда автор представляется мне лицом значительным, заранее угадывать его положение, характер и привычки, руководствуясь начертанием букв, из которых складывается адрес.
Сделав свои выводы, я вскрыл конверт и прочел следующее:
"Гаага, 22 февраля 1848.
Сударь!
Не знаю, говорил ли Вам господин Эжен Вивье, который посетил нас этой зимой и с которым я имел счастье познакомиться, что я один из самых усердных Ваших читателей, сколь бы ни было велико их число; сказать, что я прочел "Мадемуазель де Бель-Иль", "Амори", "Трех мушкетеров", "Двадцать лет спустя", "Бражелона" и "Монте-Кристо", было бы чересчур пошлым комплиментом.
Мне давно хотелось сделать Вам подарок и одновременно познакомить Вас с одним из величайших наших художников, господином Бакхейзеном.
Позвольте мне преподнести Вам четыре его рисунка, на которых изображены наиболее выдающиеся сцены Вашего романа "Три мушкетера".
Теперь я с Вами прощаюсь, сударь, и прошу Вас считать своим поклонником Вильгельма, принца Оранского".
Признаюсь, это письмо, датированное 22 февраля 1848 года, то есть днем, когда в Париже разразилась революция, и полученное через день или два после того, как я едва не был убит по той причине, что был другом принцев, доставило мне большое удовольствие.
В самом деле, для писателя иностранцы все равно что потомки: иностранец стоит вне наших мелких литературных ссор, вне ничтожной художнической ревности! Он, словно будущее, судит о человеке по его делам, и венок, летящий через границы, сплетен из тех же цветов, какими усыпают могилы.
Все же любопытство возобладало над признательностью. Я открыл папку, лежавшую на уголке стола и, действительно, увидел четыре прелестных рисунка: один изображал д’Артаньяна, въезжающего в Мён на желтом коне, второй — бал, на котором Миледи срезала бриллиантовые подвески с камзола Бекингема, третий — бастион Сен-Жерве, четвертый — казнь Миледи.
Затем я написал принцу письмо с благодарностью.
Собственно, я давно знал принца Оранского как отличного композитора, и два других принца, никогда не ошибавшиеся в оценках, герцог Орлеанский и принц Жером Наполеон, мне часто говорили о нем.
Известно, что герцог Орлеанский делал чудесные гравюры. У меня есть сделанные им оттиски, безупречные офорты и акватинты.
Что касается принца Наполеона, у меня хранятся — вероятно, сам он об этом не помнит — его республиканские стихи, за которые он был сурово наказан в Штутгартском коллеже; я получил их во Флоренции в 1839 или 1840 году от прекрасной принцессы Матильды.
Я часто слышал о принцессе Оранской, что это одна из тех выдающихся женщин, которые, если только не родились Елизаветой или Христиной, становятся г-жой де Севинье или г-жой де Сталь.
Вот почему, когда принц Оранский должен был сменить своего отца на голландском троне, мне, естественно, в голову пришла мысль совершить поездку в Амстердам, чтобы присутствовать при коронации нового государя и лично выразить признательность моему именитому поклоннику.
Я выехал 9 мая 1849 года.
Десятого газеты объявили, что я отправился в Амстердам с целью написать отчет о празднествах по случаю коронации.
То же самое было 3 октября 1846 года, когда я выезжал в Мадрид.
Прошу прощения у интересующихся мною газет, но я бываю на свадьбах у принцев в качестве гостя, а не бытописателя.
Возвращаюсь к моему отъезду.
Помимо радости от движения, потребности время от времени дышать другим, непривычным воздухом, я получил от поездки и неожиданное удовольствие.
Собираясь выйти на вокзале из зала ожидания, я почувствовал, что меня кто-то держит за полу сюртука.
— Куда это вы собрались? — спросил человек, только что остановивший меня таким образом.
У меня от изумления вырвалось восклицание.
— А вы?
— В Голландию.
— Я тоже.
— Взглянуть на коронацию?
— Да.
— Я тоже. Вы официально приглашены?
— Нет, но я знаю, что принц Вильгельм — человек искусства, а поскольку после смерти герцога Орлеанского среди принцев это встречается редко, я хочу видеть, как его будут короновать.
Моим дорожным спутником оказался Биар.
Вы знаете это имя, даже если лично незнакомы с этим художником. Остроумной кисти Биара принадлежат "Парад национальной гвардии в деревне", "Переход через экватор", "Разделенные почести". Эта поэтическая кисть изобразила двух лапландцев; они плывут каждый в своей пироге у подножия расколовшейся ледяной горы и мимоходом обнимаются; наконец, он автор всех тех очаровательных женских портретов, полных света и кокетства, которые вы могли видеть на последних выставках. Но главное — поскольку я имею дурную привычку ценить в художнике в первую очередь человеческие достоинства, — это прелестный ум, неутомимый рассказчик, путешественник, искренний друг, не знающий зависти собрат, забывающий о себе ради других, — словом, это тот дорожный компаньон, какого я пожелал бы моему читателю в кругосветном путешествии и счастлив был иметь для поездки в Голландию.
Мы не виделись год или два. Странная у нас жизнь: встречаясь, мы любим друг друга, счастливы увидеться, часы, дни, недели проводим, радуясь, что случай свел нас, едем назад в одном вагоне, нанимаем один фиакр; обмениваясь прощальным рукопожатием, говорим: "Как же это глупо, что мы совсем не видимся, давайте встречаться!" — и расстаемся.
Каждый возвращается в свою жизнь, к своей работе, к своему гигантскому или крошечному строению, высоту которого смогут оценить лишь потомки, прочность которого покажет лишь время.
По дороге в Брюссель я провел прекрасную ночь с Биаром и моим сыном. В том же дилижансе было еще пять или шесть человек; поняли они хоть слово из нашего разговора? Сомневаюсь в этом. Кем мы были для них после пятидесяти льё и пяти или шести часов дороги — умными людьми или глупцами? Понятия не имею: у нас, людей искусства, ум такой странный! Мы так легко переходим от возвышенной философии к грубому каламбуру! Мы говорим на таком необычном, удивительном, эксцентричном языке, что понять его может лишь посвященный!
Но, в конце концов, даже смех утомляет: к двум часам ночи наша беседа иссякла, в три мы заснули, в пять нас подняли, чтобы осмотреть наш багаж, и к восьми мы прибыли в Брюссель.
Там царило полное спокойствие, и, если бы кругом так много и плохо не говорили о Франции на французском языке, о ее существовании можно было просто забыть.
Мы снова оказались в королевстве, где правил монарх.
Удивительная она, эта Бельгия: страна, сохраняющая короля, потому что он всегда готов покинуть престол.
В самом деле, король Леопольд I умен необычайно.
Каждый раз, когда во Франции происходит революция, каждый раз, когда в Брюсселе начинаются волнения, он, со шляпой в руке, выбегает на свой балкон и знаком показывает, что хочет говорить.
Его слушают.
— Дети мои! — начинает он. — Вы знаете, что меня сделали королем помимо моей воли. Я не хотел им быть прежде, и, с тех пор как стал королем, мое желание — перестать им быть. Если вы со мной согласны, если королевское правление вам надоело, дайте мне один час — большего я у вас не прошу; через час я буду вне пределов королевства, лишь для этой цели я поощрял строительство железных дорог. Только будьте благоразумны, ничего не ломайте: вы видите, что это совершенно излишне.
Народ отвечает:
— Мы не хотим, чтобы вы уезжали. Нам хотелось немного пошуметь, только и всего. Мы это сделали, и теперь мы удовлетворены. Да здравствует король!
После чего король и народ расстаются, чрезвычайно довольные друг другом.
Всю дорогу Биар повторял: "Будьте уверены, когда приедем в Брюссель, я покажу вам нечто такое, чего вы никогда не видели".
И я, гордец, слыша это обещание, только пожимал плечами.
Я раз десять был в Брюсселе, и во время этих десяти поездок я видел Парк, Ботанический сад, дворец принца Оранского, церковь святой Гудулы, бульвар Ватерлоо, магазины Мелина и Кана, дворец принца де Линя. Что можно было там еще увидеть?
Как только мы приехали, я попросил Биара показать то, что он обещал.
— Пойдемте, — коротко ответил он.
И мы отправились — Биар, Александр и я.
Наш проводник остановился у двери довольно красивого дома, расположенного рядом с собором, и без колебаний позвонил.
Отворил слуга.
Вид его меня поразил: концы его пальцев были окровавлены, жилет и панталоны буквально покрыты перьями или, вернее, пухом самых разнообразных птиц.
Кроме того, он странно двигал головой: вращал ею, словно птица-вертишейка.
— Друг мой, — обратился к нему Биар, — не будете ли вы так любезны сообщить вашему хозяину, что иностранцы, находящиеся в Брюсселе проездом, хотели бы видеть его коллекцию?
— Сударь, — ответил он, — моего хозяина нет дома, но он поручил мне принимать посетителей в его отсутствие.
— Ах, черт! — воскликнул Биар и затем добавил, повернувшись ко мне: — Это будет менее забавно, но все равно — войдем.
Слуга ждал. Кивнув ему, мы последовали за ним.
— Обратите внимание на его походку, — сказал Биар. — Это тоже редкость.
В самом деле, славный малый, который нас вел, имел не человеческую, а птичью походку и более всего своими движениями напоминал сороку.
Сначала мы пересекли квадратный двор, где встретили кота и двух или трех аистов. Кот смотрел недоверчиво; аисты, неподвижно стоявшие на длинных красных ногах, казались спокойными.
Пока мы шли через двор, я не видел в слуге ничего особенно примечательного, не считая вращения головы, о котором мы уже упоминали, и важности, с которой он переставлял ноги.
Он выступал, как я уже упомянул, с какой-то сорочьей степенностью.
Но вот мы добрались до сада.
Это было нечто вроде ботанического сада, квадратного как и двор, но более просторного; на грядках, разделенных проходами, чтобы легко было ухаживать за растениями, было множество цветов, снабженных ярлычками.
Едва мы вошли в сад, как походка нашего проводника изменилась.
Теперь он не шествовал, а подпрыгивал.
С расстояния в три или четыре шага он замечал насекомое, гусеницу или жука; тут же, непередаваемым образом изогнувшись, он с сомкнутыми ступнями делал два-три мелких прыжка вперед, затем один прыжок в сторону; встав на одну ногу, он одновременно наклонялся и, ни разу не промахнувшись, хватал насекомое двумя пальцами, бросал его на землю в проходе и, опустив ту ногу, которую до сих пор держал на весу, всей тяжестью своего тела давил его.
Меньше секунды проходило между обнаружением, поимкой и казнью насекомого.
Покончив с этим, он перепрыгивал в тот проход, где находились мы.
Затем, заметив еще одного вредителя, он снова проделывал ту же операцию, и настолько проворно, повторяю, что мы могли, не останавливаясь, продвигаться к квадратному павильону, представляющему первую часть экспозиции.
Дверь его была открыта настежь, и весь он был заставлен ящиками.
С первого взгляда мне показалось, что все эти ящики наполнены зернами. Я подумал было, что попал к ученому садоводу, и приготовился увидеть интересные разновидности гороха, фасоли, чечевицы и вики; но, подойдя ближе и внимательно вглядевшись, понял: то, что я принимал за зерна, было глазами орлов, ястребов, попугаев, соколов, воронов, сорок, скворцов, дроздов, зябликов, воробьев, синиц — словом, всевозможными птичьими глазами.
Казалось, это разные заряды — от пуль в одну двенадцатую фунта до мельчайшей дроби.
Благодаря какому-то химическому составу, несомненно изобретенному хозяином дома, все эти глаза сохранили свой цвет, плотность и, я бы даже сказал, свое выражение.
Но, вынутые из орбит и лишенные век, все они смотрели со злобной угрозой.
Над каждым ящичком табличка сообщала, каким пернатым эти глаза принадлежали раньше.
О Коппелиус, доктор Коппелиус, фантастическое порождение Гофмана, вы все просили глаз, красивых глаз; здесь, в Брюсселе, вы нашли бы то, что так настойчиво разыскивали для своей дочери Олимпии.
— Господа, — обратился к нам проводник, сочтя, что мы достаточно ознакомились с первой коллекцией, — не угодно ли вам пройти в галерею воронов?
Мы наклонили головы в знак согласия, и он повел нас дальше.
Ни одна галерея в такой степени не оправдывала свое название, как эта. Представьте себе длинный коридор, шириной в десять футов и высотой в двенадцать, с окнами, выходящими в сад, и стенами, которые сплошь покрыты прибитыми к ним воронами, распростертыми, с развернутыми крыльями, вытянутыми шеями и лапами.
Птицы составляли причудливые розетки и удивительные рисунки.
Одни из них почти рассыпались в прах, другие находились в разных стадиях разложения, иные были совсем свежими, а некоторые еще бились и кричали.
Их было, вероятно, восемь или десять тысяч.
Я с признательностью повернулся к Биару: в самом деле, ничего подобного мне еще видеть не доводилось.
— И что же, — спросил я у проводника, — ваш хозяин собственноручно потрудился изобразить на стене все эти кабалистические фигуры?
— О да, сударь! Никто, кроме него самого, не прикасается к его воронам. Воображаю, как бы ему понравилось, если бы кто-нибудь себе это позволил.
— Что, ему со всей Бельгии доставляют сюда воронов?
— Нет, сударь, он сам их ловит.
— Как! Сам их ловит? И где же?
— Вон там, на крыше.
И он показал на крышу, где я в самом деле увидел какое-то устройство, но не мог различить его деталей.
Я очень люблю охотиться на птиц, хотя мое увлечение не переросло в такую страсть, как у нашего почтенного брюссельца. В молодости я пользовался манками и ловушками, и способ охоты, применяемый хозяином дома, меня заинтересовал.
— Но, послушайте, — сказал я слуге, — объясните мне, как это удается вашему хозяину, ведь ворон — самая умная птица в мире, хитрая, догадливая и недоверчивая.
— Да, сударь, старые методы охоты на них им известны: это ружье, чилибуха, рожок с клеем — но только не бас.
— А что может бас?
— Разумеется, сударь, ворон может не доверять человеку, держит ли тот в руках ружье, или ничего не держит, но какие подозрения может вызвать у него человек, играющий на басе?
— Так ваш хозяин, подобно Орфею, привлекает воронов музыкой, играя на басе?
— Не совсем так.
— А как же?
— Я сейчас вам объясню: у моего хозяина есть предатель.
— Предатель!
— Да, ручной ворон. Видите, вон тот негодяй, что прогуливается в саду.
И он показал на прыгавшего по аллеям старого, седого ворона.
— Он встает в четыре часа утра.
— Ворон?
— Нет, мой хозяин. Ворон! Разве ворон спит? Днем и ночью у него глаза открыты: замышляет недоброе. Я уверен, что это не настоящий ворон — это демон. Так вот, мой хозяин поднимается до рассвета, в четыре часа утра, спускается в халате, сажает этого старого негодяя, ворона, на середину сетки, растянутой на крыше в другом конце сада, привязывает к своей ноге веревку, прикрепленную к сетке, берет свой инструмент и начинает играть "Любовную лихорадку"; ворон кричит; вороны церкви святой Гудулы это слышат, летят сюда и видят, что их старый собрат клюет сыр, а человек играет на басе. Вы понимаете, эти твари, ничего не подозревая, садятся рядом с предателем. Чем больше их слетается, тем сильнее выводит смычком свои "рам-там-там" мой хозяин. Потом он внезапно — хлоп! — дергает ногой, сетка закрывается, и дурачки попались. Вот и все!
— И тогда ваш хозяин прибивает их к стене?
— О, в эти минуты мой хозяин превращается в тигра. Он бросает свой бас, отвязывает веревку, бежит к стене, взбирается по лестнице, хватает воронов, прыгает на землю, набирает полный рот гвоздей, берет молоток, — тук! тук! — и вот ворон распят. Он может сколько угодно каркать, моего хозяина это только возбуждает. Впрочем, вы и сами все видите.
— И давно это с вашим хозяином?
— О сударь, уже десять лет. Он только этим и живет. Если бы он три дня подряд не ловил воронов, то непременно заболел бы, а если бы так продолжалось неделю, он бы умер. Не хотите ли взглянуть теперь на галерею синиц?
— С удовольствием.
Эта обивка стен из пернатых, воздух, отравленный зловонием трупов, конвульсии и крики агонизирующих птиц вызвали у меня тошноту.
Мы снова пересекли сад, и на этот раз, одним глазом наблюдая за старым вороном, другим — за слугой, я заметил у них сходство движений, когда они ловили и убивали насекомых. Несомненно, один из них подражал другому: то ли ворон слуге, то ли слуга ворону.
Поскольку было известно, что ворону сто двадцать лет, а слуге — никак не более сорока, я заподозрил в подражательстве последнего.
Галерея синиц была расположена в противоположном углу сада. Стены этого маленького павильона были покрыты крыльями и головками воробьев, украшены крыльями, головками и хвостиками синиц.
Представьте себе большой серый ковер с синими и желтыми рисунками.
Здесь были круги, розетки, звездочки, арабески — словом, все, что может изобразить болезненная фантазия с помощью птичьих тел, лапок и клювов.
Промежутки были заполнены кошачьими головами — с разинутой пастью, сморщенной кожей, блестящими глазами. Под головами — кошачьи лапы, скрещенные на манер костей, обычно сопровождающих изображение черепа.
Над головами были укреплены таблички следующего содержания:
"МИСУФ. Приговорен к смертной казни 10 января 1846 года за вред, причиненный двум щеглам и одной синице".
"ДОКТОР. Приговорен к смертной казни 7 июля 1847 года за кражу сосиски с жаровни".
"БЛЮХЕР. Приговорен к смертной казни 10 июня 1848 года за то, что пил молоко из чашки, приготовленной мне к завтраку".
— Похоже, — сказал я, — ваш хозяин, подобно нашим старым феодальным сеньорам, присвоил себе право вершить правосудие и карать.
— Да, сударь, как видите; он не знает пощады и говорит, что, если бы каждый поступал так же, как он, уничтожая грабителей, воров и убийц, вскоре на земле остались бы лишь добрые и полезные животные, а люди, имея перед собой только хорошие примеры, становились бы лучше.
Я склонился перед этим утверждением.
Я уважаю коллекционеров, но не понимаю их. В Генте мне как-то пришлось посетить одного любителя пуговиц; его увлечение поначалу мне казалось смешным, но в конце концов стало интересным. Он разложил свои пуговицы по разрядам — с девятого века и до наших дней. Коллекция начиналась пуговицей от платья Карла Великого и заканчивалась пуговицей от мундира Наполеона; здесь были пуговицы всех полков, когда-либо существовавших во Франции, от вольных стрелков Карла VII до венсенских стрелков; среди этих пуговиц были деревянные, свинцовые, медные, цинковые, серебряные, золотые, рубиновые, изумрудные и бриллиантовые; коллекцию оценивали в сто тысяч франков, а хозяину его она обошлась, возможно, и в триста тысяч.
В Лондоне я знал одного англичанина, собиравшего веревки висельников. Он объехал оба полушария; были у него и свои агенты. С их помощью, да и лично сам он связался с палачами во всех частях света. Стоило повесить человека в Европе, Азии, Африке или Америке, как палач тотчас отрезал кусок веревки и, приложив к ней свидетельство о ее подлинности, отправлял нашему коллекционеру, получая взамен стоимость своей посылки. Одна из веревок, например, обошлась в сотню фунтов стерлингов; впрочем, она имела честь удавить Селима III, и к этой казни, как всем известно, имела некоторое отношение английская политика.
Я уже заканчивал списывать эпитафию метру Блюхеру, что выпил молоко, когда на церкви святой Гудулы пробило половину десятого. У нас оставалось не более получаса до поезда на Антверпен; я присоединил свое вознаграждение к тому, что слуга получил от Биара в начале нашего визита, и мы выбежали из этого некрополя.
Полный благодарности, слуга, подпрыгивая, проводил нас до двери и, выворачивая шею, смотрел нам вслед, пока мы не скрылись за углом.
Мы пришли на вокзальную платформу, когда уже дан был сигнал к отправлению поезда.
II ВАФЛИ И КОРНИШОНЫ
В одиннадцать часов мы были в Антверпене. Наше судно должно было отчалить в полдень, и, чтобы не опоздать, нам пришлось пообедать на набережной неподалеку от корабля. В двенадцать мы были на борту, в пять минут первого отправились в путь, сопровождаемые тем приятным нескончаемым мелким дождиком, который, по-моему, идет в Антверпене всегда, ибо я неизменно застаю такую погоду каждый раз, как приезжаю туда.
Биар был несколько обеспокоен тем, как мы устроимся в Роттердаме, Гааге и Амстердаме: церемония, на которой мы собирались присутствовать, должна была привлечь много путешественников.
Но я человек предусмотрительный. (Впрочем, есть ли хоть один город, где бы я никого не знал?)
В 1840 году я спускался по Роне. Поднявшись на борт в Лионе в четыре часа утра, к одиннадцати или к двенадцати я уснул под тентом на палубе, обдуваемый ласковым ветерком, который рябил поверхность реки.
Мне так сладко спалось, что два или три раза, наполовину проснувшись, я не хотел открывать глаза из страха, что проснусь окончательно. Неподвижный, с отуманенным сознанием, какое бывает в сумерках сна, я был вырван из блаженной мечтательности несколькими проникшими, если можно так сказать, в полумрак моего мозга французскими словами: их произнесли с легким английским акцентом женские голоса.
Тихонько приоткрыв глаза и осторожно оглядевшись, я увидел сквозь веки, на три четверти смеженные, группу, состоявшую из двух молодых женщин лет восемнадцати — двадцати, молодого человека двадцати шести — двадцати восьми лет, и мужчины, которому могло быть от тридцати четырех до тридцати шести лет.
Обе женщины были не только красивы: они пленяли той простодушной и небрежной грацией, которая присуща лишь англичанкам; у мужчин были прекрасные манеры.
В группе шел спор.
Предметом его был дальнейший маршрут: сойти на берег в Авиньоне или продолжать плыть до Арля?
Это очень серьезный, а главное — трудный вопрос для иностранцев, у которых нет другого путеводителя, кроме Ришара.
Одна из женщин предложила спросить совета у кого-нибудь, кто совершал поездку и через Арль и через Авиньон.
Кажется, я был именно тем человеком, какой им был нужен. Три или четыре раза мне доводилось проделать по Роне путь от Лиона до Марселя через каждый из этих городов. Я подумал, что мне пора представиться и что услуга, которую я окажу путешествующей компании, заставит простить мою дерзость.
Я полностью открыл глаза и, слегка поклонившись, вмешался в разговор:
— Если господа позволят автору "Путевых впечатлений" помочь разобраться в этом вопросе, я скажу дамам, что лучше ехать через Арль, чем через Авиньон.
Обе молодые женщины покраснели; мужчины с любезной улыбкой повернулись в мою сторону. Было очевидно, что они узнали меня до того, как я заговорил с ними, и что, пока я спал, им рассказали, кто я.
— Скажите, пожалуйста, почему вы так считаете? — спросил меня старший из путешественников.
— Во-первых, проезжая через Арль, вы увидите этот город, а он стоит того. Во-вторых, дорога от Арля до Марселя приятная и чрезвычайно интересная: с одной стороны от вас будет Камарга, то есть древний лагерь Мария, с другой — Кро.
— Но нам надо быть в Марселе послезавтра.
— Мы и будем.
— Мы отплываем на судне в Ливорно.
— Я отплываю вместе с вами.
— Мы хотим быть во Флоренции в Иванов день.
— Меня ждут там в это же время.
— Как мы попадем из Арля в Марсель?
— Со мной на судне моя коляска. Нас пятеро, а в ней помещаются шесть человек; мы наймем почтовых лошадей в складчину, и всю дорогу я буду вашим чичероне.
Наши путешественники повернулись к молодым женщинам, которые в ответ едва заметно кивнули; все было решено.
В обеих семьях еще не закончился медовый месяц, а, как всем известно, в течение медового месяца решения принимает жена.
Наше путешествие было чудесным. В Арле мы осмотрели амфитеатр и купили знаменитую колбасу. В Марселе мы навестили Мери и пообедали у Курти. Наконец, во Флоренции мы увидели состязания колесниц у г-на Финци и иллюминацию на Арно у князя Корсини.
Пришло время расстаться. Я оставался во Флоренции, а мои спутники собирались проехать через всю Италию. Мы тысячу раз пообещали друг другу, что встретимся снова, и обменялись адресами на случай их приезда в Париж или моей поездки в Голландию.
Один из путешественников, г-н Якобсон, жил в Роттердаме, второй, г-н Виттеринг, — в Амстердаме.
В отличие от множества обещаний подобного рода, эти были выполнены, и г-н Якобсон из дорожного спутника сделался моим другом и даже оказал мне услугу, какую можно ожидать не от всякого друга.
Поэтому, собираясь отправиться в Голландию, я заранее написал в Роттердам г-ну Якобсону, извещая о моем приезде.
Это обеспечило мне королевское гостеприимство сначала в его доме, а затем у г-на Виттеринга.
Господин Якобсон не только умный путешественник и честный банкир: у него душа артиста. Лучшие картины Декана, Дюпре, Руссо, Шеффера, Диаса, попавшие в Голландию, куплены им.
Стоило мне произнести его имя — и Биар перестал беспокоиться о ночлеге.
Что до Гааги, туда неделю назад должен был приехать Жакан со своей картиной "Вильгельм Молчаливый продает евреям посуду, чтобы поддержать войну за независимость".
Он обещал снять для меня комнату в гостинице "Императорский двор".
Итак, мы смогли спокойно отдаться течению Шельды и, в те редкие минуты, когда ветер и дождь позволяли нам подняться на палубу, бросить взгляд на проплывающие мимо пейзажи в духе Паулюса Поттера, Хоббемы и ван де Вельде.
Мы пробрались сквозь лес мельниц Дордрехта, рядом с которыми мельницы Пуэрто Лаписе выглядят пигмеями. В Дордрехте у каждого жителя есть своя мельница; их ставят на берегу реки, в садах, на крышах домов — маленькие, большие, огромные, для детей, для взрослых, для стариков. Очертания у всех одинаковые, но раскрашены они по-разному: попадаются серые с белыми кантами, похожие на вдов в полутрауре, печальные монашенки-кармелитки в черном, веселые бело-голубые паяцы. Не знаю ничего более удивительного, чем эти высокие неподвижные тела, ничего более причудливого, чем эти большие вращающиеся крылья. В тени мельниц стоят маленькие красные домики с зелеными решетчатыми ставнями — чистенькие, отмытые, очаровательные, они выглядывают из-за деревьев с кудрявыми кронами, с побеленными известью стволами. Эта прелестная панорама разворачивается перед нами со скоростью, какую развивают двести двадцать лошадиных сил судна.
Ближе к Роттердаму начинают встречаться корабли; неподвижно стоящие мельницы сменяются скользящими по воде судами: трехмачтовиками, бригами, шлюпами, рыбачьими баркасами. Есть и совсем особенные, с большим белым и маленьким голубым парусом, укрепленным высоко на мачте; кажется, будто по реке плывут огромные сахарные головы, завернутые в серую и синюю бумагу, и тают в воде; я говорю, что они тают, потому что, удаляясь, они словно погружаются в воду. Все это живет, действует, торгует, и вы чувствуете, как приближаетесь к той старой Голландии, что представляет собой один огромный порт и выпускает каждый год рой в десять тысяч судов.
В восемь часов вечера мы причалили в Роттердаме. Едва установилось сообщение между пакетботом и берегом, как я услышал свое имя. Приказчик Якобсона сообщал мне, что его хозяин в этот же день уехал в Амстердам, где меня с нетерпением ожидает его свояк Виттеринг, у которого еще вчера остановился Гюден.
Еще одна прекрасная новость! Гюден, так же как мы с Биаром, приехал ради коронации; это не только друг, но и собрат. Гюден столько же поэт, сколько художник; вспомните хотя бы одну его картину: потерпевший кораблекрушение, уцепившись за последнюю мачту, вычисляет путь по единственной звезде.
Мы спрыгнули на землю; нельзя было терять ни минуты: поезд на Гаагу отходил в девять часов, а было уже половина девятого. С деловым видом, свойственным людям, торопящимся на поезд, мы пересекли город и, как это было в Брюсселе, успели вовремя.
Через три четверти часа мы оказались посреди праздничного гулянья, шума, танцев, криков, музыки, ярмарочных балаганов, лавочек продавцов вафель и торговцев корнишонами.
Торговец корнишонами и продавец вафель — две специальности, заслуживающие упоминания: во Франции вы ничего подобного не найдете.
В Голландии пьянеют от корнишонов и крутых яиц и протрезвляются с помощью пунша и вафель.
Тот, кто желает приобрести веселое расположение духа, попросту останавливается у лавочки торговца маринованными овощами, выкладывает на прилавок пять су, берет вилку в правую руку и крутое яйцо — в левую.
Затем он тычет вилкой в огромную посудину, где золотыми рыбками плавают кусочки огурца размером с обычный корнишон.
Он вылавливает один из этих кусков, проглатывает его и немедленно заедает крутым яйцом.
И такие операции чередуются до тех пор, пока желудок не крикнет: "Довольно!". Выигрывают те, у кого желудок растягивается вдвое, втрое, вчетверо; причем победители платят не больше всех остальных: с каждого берут пять су.
Врачи разных стран изучали с медицинской и нравственной точек зрения различные виды опьянения: от водки, от вина, от пива, от джина — словом, от чего угодно.
Но, как мне кажется, никто еще не описал опьянения корнишонами.
Попытаюсь восполнить этот пробел.
Едва голландец опьянеет от корнишонов, ему сразу хочется шалить.
Вследствие этого он отправляется в лавочку продавщиц вафель.
Эти лавочки заслуживают подробного описания.
Они представляют собой вытянутый четырехугольник, план которого прилагается:
Жаровня
Прилавок
ЛАВКА] Кресло
Отдельный кабинет
Отдельный кабинет
Обычно лавочку держат четыре женщины — две неопределенного возраста, две молоденькие и хорошенькие.
Все четыре носят фризский костюм.
Фризский костюм состоит из более или менее нарядного казакина, более или менее красивого платья. Но не в этом его оригинальность.
Необычность этому костюму придает двойная шапочка из позолоченной меди, плотно охватывающая виски. Над внешним углом каждой брови торчит маленькое золотое украшение, по форме напоминающее каминную подставку для дров.
К медным бляхам обычно приделывают две-три пряди накладных волос.
Всю эту постройку венчает чепец с лопастями.
И что же? Очень приятно для глаз это странное сочетание меди, обращающей голову в позолоченный череп, растущих на меди волос, а также кружев, которые гасят слишком яркие блики на тех частях чепца, что ими прикрыты.
Ремесло этих лавочниц то же, что у египетских танцовщиц или индийских баядерок, с той разницей, что они не танцуют и не поют.
Две женщины почтенного возраста сидят: одна — в кресле у входа, другая — в кресле у прилавка.
Они приросли к своим креслам.
Та, что у двери, печет вафли.
Та, что за прилавком, наливает пунш.
Молодые девушки заняты… довольно трудно сказать, чем они занимаются, особенно после того, как я рассказал, чего они не делают.
С первого взгляда они узнают людей, пьяных от корнишонов, и подают им знаки.
Если знаков оказывается недостаточно, они выходят из лавки и сами идут к пьяным.
Войдя в лавку, покупатель немедленно скрывается в одном из отдельных кабинетов.
Фризка идет за ним.
Затем туда относят тарелку с вафлями и чашу пунша.
После этого занавеси, скрывающие внутренность кабинетов от прохожих и посетителей лавки, опускаются с чисто голландским простодушием.
Через четверть часа гость выходит из кабинета совершенно трезвым.
Все это мы увидели вечером десятого мая, ровно через двадцать четыре часа после того, как покинули Париж.
За эти двадцать четыре часа мы проделали путь в сто шестьдесят льё по всем извивам и поворотам Шельды.
А затем забота нашего друга Жакана обеспечила нам готовые постели в гостинице, и мы уснули под звуки самой адской музыки, какую мне когда-либо доводилось слышать.
III МОРСКИЕ ДЕВЫ И РУСАЛКИ
Воспоминание, чудесный дар Неба, с помощью которого человек переселяется в прошлое; волшебное зеркало, окутывающее сумеречной поэтической дымкой отраженные в нем предметы, делая зыбкими их очертания, — ты постоянно присутствуешь рядом со мной, мне не вырваться из твоего плена! Я берусь за перо с твердым намерением, с единственным желанием перелететь пространство подобно птице и как можно скорее добраться до цели. Но воспоминание на всем пути находит расставленные им прежде вехи, и вот я больше не принадлежу себе: перенесся в прошлое душой и телом. Мой дух, который хотел бы перемещаться мгновенно, словно молния, мыльным пузырем неуверенно плывет в струях воздуха. На поверхности непрочного шара, в рубиновых, сапфировых, опаловых переливах сияют дома, поля, небеса — отражение вечного мира в недолговечном создании.
Я действительно собирался в одной главе покинуть Францию, пересечь Бельгию, спуститься по Шельде, добраться до Амстердама и отплыть в Монникендам, чтобы встретиться там с папашей Олифусом. Но на моем пути встретились Биар, бельгийский король, человек, играющий на басе, дордрехтские мельницы, суда у Иссельмонда, письмо Якобсона, Жакан, гулянье в Гааге, торговцы корнишонами, продавщицы вафель, фризки в золотых чепцах… И вот я останавливаюсь рядом с каждым человеком или предметом, протягиваю руку, поворачиваю голову, замедляю шаг — и где в результате я оказываюсь к началу третьей главы? В Гааге, накануне коронации; мне едва хватит этой главы, чтобы поговорить о короле, о королеве, об Амстердаме, в котором три сотни каналов, тридцать тысяч флагов, двести тысяч жителей. Пусть мои читатели меня простят: таким меня создал Бог, и таким им придется меня принять — или закрыть книгу.
Все же я не теряю надежды до конца этой главы оказаться в Монникендаме; но человек предполагает, а Бог располагает.
Подобно бумажным корабликам, какие дети пускают в ручье, что кажется им рекой, я поплыву по течению моего рассказа, рискуя перевернуться сегодня и доплыть только завтра.
У меня было письмо от короля Жерома Наполеона к его племяннице, голландской королеве. Едва прибыв, я передал письмо по назначению и наутро получил ответ из дворца.
Высунув голову из-под навалившейся на меня перины, я осведомился о причине, вынудившей разбудить меня.
Адъютант короля передал от имени его величества разрешение для меня и моих спутников занять места в специальном поезде и билеты, позволяющие пройти на дипломатическую трибуну во время коронации.
Поезд отходил в одиннадцать часов, было еще только девять; поблагодарив гонца, я попытался выбраться из постели.
Я не случайно сказал "попытался выбраться": не так легко вылезти из голландской кровати, имеющей форму ящика и снабженной двумя набитыми перьями одеялами, которые, пропустив вас, смыкаются над вашей головой.
Просто невероятно, какое разнообразие форм и деталей может существовать у предмета, во всех странах мира имеющего общее назначение — дать отдых человеческому телу. Домоседам кажется, будто повсюду ложатся спать одним способом, и они сильно ошибаются.
Поставьте рядом английскую, итальянскую, испанскую, немецкую и голландскую кровати, покажите их парижскому ученому, никогда не видевшему другого ложа, кроме французского, — и вы получите целый том предположений, одно другого любопытнее, о различных способах использования этих предметов меблировки.
До того как догадаться, что все это — приспособления для сна, он припишет им сотню всевозможных предназначений.
К счастью, я давно освоился с самыми невероятными постелями и прекрасно выспался в моей голландской кровати.
Александр и Биар не могли сказать этого о себе: они с семи часов утра разыскивали баню, надеясь, что купание поможет им прийти в себя после пребывания в ящике с перьями.
Они вернулись в половине десятого утра, после того как три раза обошли Гаагу, посетили все музеи и все лавки старьевщиков, но не нашли ни одной бани.
Правда, море от Гааги всего в одном льё.
У меня как раз оставалось время на то, чтобы осмотреть еще один музей.
Не говоря о картинах Рембрандта, Ван Дейка, Хоббемы, Паулюса Поттера и других шедеврах голландской живописи, я хотел увидеть там один экспонат этого музея: в одном из нижних залов стоял стеклянный ящик, в котором были собраны морские девы разных видов.
Морская дева — существо, которое встречается исключительно в Голландии и ее колониях.
Как известно — возможно, не всем, — морские девы бывают двух видов: русалки и нереиды.
Русалка — это известное с древних времен существо с головой женщины и рыбьим хвостом. Это дочери Партенопы, Лигеи и Левкосии. Если верить авторам XVI, XVII и даже XVIII веков, русалки встречались не так уж редко. Английский капитан Джон Смит видел русалку в 1614 году на пути из Новой Англии в Вест-Индию: верхней частью тела она совершенно не отличалась от женщины. Когда он увидел ее, она со всей возможной грацией плавала в море. У нее были большие, несколько круглые глаза; изящный, хотя и слегка приплюснутый нос; хорошей формы, но несколько длинные уши — словом, довольно приятная внешность, которой длинные зеленые волосы придавали оттенок не лишенной очарования странности. К несчастью, прекрасная купальщица перекувырнулась, и капитан Джон Смит, готовый в нее влюбиться, увидел, что ниже пупка женщина была рыбой.
Правда, у этой рыбы был раздвоенный хвост, но раздвоенный хвост не заменяет пары ног.
Доктор Кирхер сообщает в своем научном отчете, что русалка, пойманная в Зёйдер-Зе, была препарирована профессором Пьером Пау; в том же отчете он рассказывает о русалке из Дании: она научилась прясть и предсказывать будущее; на голове у нее вместо волос длинные мясистые отростки; лицо приятное; руки длиннее человеческих, а между пальцами перепонки, словно у гуся; твердые круглые груди; тело, покрытое тонкими белыми чешуйками (издали их можно было принять за лоснящуюся кожу). Она рассказывала, что население подводного мира составляют тритоны и русалки. С ловкостью, присущей лишь обезьянам и бобрам, они строят себе в местах, недоступных для ныряльщиков, гроты из раковин и устраивают в них песчаные постели, где спят, отдыхают и занимаются любовью.
Иоаганн Филипп Абелинус сообщает в первом томе своего "Театра Европы", что в 1619 году советники датского короля, возвращаясь из Норвегии в Копенгаген, видели морского жителя: он разгуливал по воде с охапкой травы на голове. Ему бросили крючок с приманкой. Видимо, морской житель оказался не меньшим лакомкой, чем земные люди, потому что попался на кусок сала и был поднят на борт. Оказавшись на палубе, он на чистейшем датском языке пригрозил погубить корабль. Как вы сами понимаете, первые его слова очень удивили матросов. Но когда он перешел к угрозам, изумление переросло в ужас, и они поспешили бросить его в море, всячески перед ним извиняясь.
Поскольку это был единственный пример говорящего морского жителя, Абелинус в своих комментариях утверждает, что матросы видели вовсе не тритона, а привидение.
Джонстон рассказывает, что в 1403 году в Голландии была поймана русалка, выброшенная морем в одно из озер; она позволила себя одеть, приучилась питаться хлебом и молоком, стала прясть, но так и осталась немой.
Наконец, чтобы закончить так, как завершаются фейерверки, то есть букетом, скажем, что Димас Воске, врач вице-короля острова Манара, в письме, включенном в "Историю Азии" Бартоли, сообщает о своей прогулке по берегу моря в обществе иезуита, когда к ним подбежали рыбаки и пригласили святого отца в свою лодку взглянуть на чудо. Святой отец принял приглашение, и Димас Воске присоединился к нему.
В этой лодке находились шестнадцать рыб с человеческими лицами — девять самок и семь самцов, только что попавшихся в одну сеть. Их вытащили на берег и внимательно рассмотрели. Как у людей, у них были выступающие уши — хрящеватые и покрытые тонкой кожей. Глаза цветом, формой и расположением напоминали человеческие: они сидели в орбитах подо лбом, были снабжены веками и не имели нескольких осей зрения — в отличие от рыбьих глаз. Нос почти не отличался от носа человека, он был приплюснут, как у негра, и слегка раздвоен, как у бульдога. Рот и губы были совершенно такие же, как у нас; зубы квадратной формы росли плотными рядами. Широкая грудь их была покрыта удивительно белой кожей, сквозь которую проступали кровеносные сосуды.
У женщин были твердые и круглые груди; без сомнения, некоторые из этих женщин кормили младенцев (стоило сжать сосок — и из него брызгало очень белое и чистое молоко). Руки, в два локтя длиной, лишены были суставов, кисть продолжала локтевую кость. Наконец, низ живота, начиная от бедер, переходил в раздвоенный хвост, похожий на рыбий.
Понятно, что подобная находка вызвала большой шум. Вице-король откупил у рыбаков этот улов и раздарил всех тритонов и русалок своим друзьям и знакомым.
Голландский резидент тоже получил в подарок русалку и передал ее правительству, которое, в свою очередь, отправило ее в музей в Гааге.
Понятно, что настоящая русалка, снабженная музейной этикеткой, не имеющая, по утверждению ученых, ничего общего со всякими Ласарильо с Тормеса и Каде Руссель-Эстюржонами, но происходящая по прямой линии от Ахелоя и нимфы Каллиопы, была для меня гораздо интереснее галереи воронов, пусть даже их в этой галерее было десять тысяч. В конце концов, вороны встречаются каждый день, в то время как русалки, напротив, попадаются все реже и реже.
Не зная, вернусь ли я когда-нибудь в Гаагу, я не хотел упускать случая взглянуть на морскую деву.
Но, как я ни спешил ее увидеть, пришлось отложить ненадолго это удовольствие.
Я знал, что в том же музее находится одежда Вильгельма Оранского, прозванного Молчаливым; она была на нем 10 июля 1584 года, в день, когда он пал в Делфте от руки Балтазара Жерара.
Этот исторический предмет имел для меня не меньшую привлекательность, чем русалки и морские девы всех стран.
Я попросил моего проводника сначала показать мне витрину, в которой выставлен костюм Вильгельма, а уж потом отвести меня к ящику с морской девой.
Вещи основателя голландской республики, создателя Утрехтской унии, супруга вдовы Телиньи, хранятся в первом зале, слева от входа; в течение двухсот шестидесяти четырех лет они доступны для поклонения народу, за который Вильгельм отдал последнюю каплю крови.
"Господи, сжалься над моею душой и над этими несчастными людьми!" — его последние слова.
Вместе с камзолом, жилетом и рубашкой, пропитанными кровью, в музее хранится пуля, пробившая ему грудь, и пистолет, из которого эта пуля была выпущена.
Это живое и вечное проклятие убийце.
Не знаю ничего иного, что более располагало бы к размышлениям и поэтическим грезам, чем вид материальных предметов.
Сколько всего заключает в себе кинжал Равальяка! Сколько скрыто в пуле Балтазара Жерара!
Кто может сказать, как изменили судьбы народов эти три дюйма железа, эта унция свинца!
Случай, Провидение и рок — мир состарится, пытаясь разгадать загадку этих понятий, предлагаемую Сфинксом-сомнением.
Я вернусь в Гаагу только для того, чтобы снова увидеть эту залитую кровью рубашку, этот пистолет и эту пулю.
Но было уже без четверти одиннадцать, и у меня оставалось всего несколько минут. Я попросил показать мне русалку; меня провели к витрине № 449: в ней помещались три диковинки — фавн, вампир и русалка.
Меня интересовала русалка, и я не обратил внимания на фавна и на вампира.
Засушенная, она напоминала цветом лицо караиба. Глаза были закрыты, нос сделался плоским, губы прилипли к зубам, пожелтевшим от времени; увядшую грудь еще можно было различить; на голове торчало несколько коротких волосков; наконец, нижняя часть тела представляла собой рыбий хвост.
Придраться было не к чему: настоящая русалка.
В ответ на мои вопросы я услышал историю Димаса Воске, отца-иезуита, вице-короля Манара и голландского резидента — ту историю, которую только что рассказал вам.
Затем, поскольку я хотел узнать больше, мой чичероне заметил:
— Похоже, вас интересуют сведения об этих животных.
Мне показалось несколько дерзким с его стороны считать животным создание с головой, руками и торсом женщины, но спорить было некогда, и я ответил:
— Очень интересуют, и если бы вы могли мне их дать…
— О, мне больше нечего сообщить, но я могу подсказать вам, где вы можете узнать больше.
— Где же? Говорите скорее.
— В Монникендаме.
— Что такое Монникендам?
— Это городок в двух льё от Амстердама, в глубине маленького залива Зёйдер-Зе.
— И там я найду сведения о русалках?
— Да, конечно, о русалках! О морских девах, что еще более любопытно.
— Значит, в музее Монникендама тоже есть такая?
— Нет, она на кладбище. Вы увидите ее мужа и детей, что тоже довольно интересно.
— Она была замужем, ваша морская дева? И у нее были дети?
— Была замужем и родила детей. Правда, дети от нее отреклись, но муж… он вам все расскажет.
— Он говорит по-французски?
— Он говорит на всех языках. Это старый морской волк.
— И как его зовут?
— Папаша Олифус.
— Как мне его найти?
— Может быть, он в Амстердаме; у него есть судно, на котором он перевозит путешественников из Амстердама в Монникендам. Если вы не найдете его в Амстердаме, значит, найдете в Монникендаме, где его дочь Маргарита держит гостиницу "Морской царь".
— Папаша Олифус, вы сказали?
— Папаша Олифус.
— Хорошо.
Я в последний раз взглянул на русалку, которую Биар успел зарисовать, и мы, вскочив в наемную карету, вскричали:
— На вокзал!
IV ГОСТИНИЦА "МОРСКОЙ ЦАРЬ"
Голландия создана для железных дорог. От Гааги до Амстердама голландским инженерам не пришлось засыпать ни одного оврага, срезать ни одного пригорка.
Страна везде одинакова: обширная равнина, которая вся изрезана каналами и усеяна свежими зелеными рощицами; на ней пасутся погребенные под своей шерстью овцы и будто закутанные в пальто коровы.
Нет ничего более точного и верного, чем пейзажи голландских мастеров. Если вы видели картины Хоббемы и Паулюса Поттера — вы видели Голландию.
Познакомившись с Тенирсом и Терборхом, вы узнали голландцев.
И все же я советую тем, кто никогда не был в Голландии, побывать там. Даже после Хоббемы и Паулюса Поттера на Голландию стоит посмотреть; после всех Тенирсов и Терборхов с голландцами стоит познакомиться.
Через два часа мы были в Амстердаме.
Еще через четверть часа мы поднялись по ступенькам прелестного домика, расположенного на Кайзерграце; слуга доложил о нас, и навстречу нам выбежали г-жа Виттеринг, г-да Витгеринг, Якобсон и Гюден.
Госпожа Витгеринг была все той же очаровательной женщиной, с которой я имел честь встретиться три раза, — красивая, скромная, краснеющая, как дитя, милое соединение парижанки с англичанкой.
Ее сестра, г-жа Якобсон, осталась в Лондоне.
В течение пяти минут мы обменивались звонкими поцелуями и занимались гимнастикой в виде рукопожатий.
Как я сказал, там был Гюден, приехавший из Шотландии.
Стол уже накрыли.
Я говорю "стол накрыли" по французской привычке.
В Голландии стол накрыт всегда: это гостеприимство в полном смысле слова.
Каждому из нас в этом прелестном доме, напоминавшем и дворец и хижину, была приготовлена комната.
Как приятно было видеть прозрачные окна, блестящие дверные ручки, ковры в комнатах, коридорах, на лестницах; слуги здесь никогда не показываются, но вы угадываете присутствие людей, заботящихся о чистоте, удобстве и спокойствии.
Провожая нас к столу, г-жа Виттеринг напомнила, что выход короля назначен на три часа и мы будем смотреть на эту церемонию из окна дома одной из ее подруг.
Наскоро, но сытно поев, без четверти три мы отправились в дом, где нас уже ждали.
Это было одиннадцатого мая. Прошла неделя с четвертого мая — того дня, когда я видел подобный праздник в Париже. С разницей в семь дней и на расстоянии в сто пятьдесят льё я присутствовал на втором празднике, который, на первый взгляд, мог показаться продолжением первого. В Амстердаме, как и в Париже, в Париже, как в Амстердаме, мы шли под сводами трехцветных флагов, среди криков толпы. Только у французского флага полосы располагаются вертикально, а у голландского — горизонтально; в Париже кричали: "Долой короля!", в Амстердаме — "Да здравствует король!"
Нас представили хозяевам и познакомили с домом. Это был еще один образец голландского жилища, немного побольше, чем дом Виттеринга, и, так же как тот, расположенный между каналом и садом: фасадом он выходил на канал, а задней стеной обращен к саду.
Потолки были украшены отличной росписью.
Я готовился увидеть в Голландии лаковую мебель, фарфоровые вазы, на каждом шагу встречать в столовых и гостиных образцы китайского и японского искусства; но голландцы подобны высокомерным собственникам, не ценящим того, чем обладают. Там можно увидеть множество французских этажерок, несколько саксонских фигурок, но мало китайских ширм, японских ваз и восточных безделушек.
В три с четвертью шум, раздавшийся на улице, заставил нас поспешить к окнам. Появилась процессия. Сначала показались музыканты, затем кавалерия, следом толпа, перемешанная с повозками, и, наконец, национальная гвардия — верхом, в штатской одежде, с единственным оружием — хлыстом, единственным знаком отличия — малиновой бархатной лентой.
Впереди всех шли двести или триста мастеровых и мальчишек, бросавших в воздух картузы и распевавшие национальный гимн Голландии.
Примечательно, что у голландцев, самого республиканского народа на свете, национальный гимн монархический.
Пока я припоминал все королевские выходы, какие мне приходилось видеть, процессия разворачивалась и показался король в окружении двенадцати генералов и высших придворных.
Это был человек тридцати или тридцати двух лет, белокурый, с голубыми глазами, умевшими смотреть и очень мягко и очень решительно, с бородой, покрывавшей нижнюю часть лица.
Он казался обаятельным: ласково и с благодарностью приветствовал он собравшихся.
Я поклонился ему, когда он проезжал мимо; повернувшись, он ответил мне взглядом и взмахом руки.
Я не мог поверить, что это двойное приветствие относилось ко мне, и обернулся, чтобы узнать, кому король воздает такие почести.
Якобсон верно истолковал мое движение.
— Нет, нет, — сказал он. — Король обращался именно к вам.
— Король обращался ко мне? Не может быть, он не знает меня.
— Именно поэтому он смог вас узнать. Наши лица ему хорошо знакомы. Увидев неизвестного человека, он сказал себе: "Это мой поэт".
Самое удивительное, что так оно и было: на следующий день король сам мне об этом сказал.
Король ехал верхом; на нем был мундир адмирала.
За ним следовала большая золоченая карета, запряженная восьмеркой белых лошадей; каждую вел слуга в ливрее. По обе стороны кареты, на подножках, стояли пажи в красной с золотом форме.
В карете сидели женщина двадцати пяти или двадцати шести лет и двое детей лет шести-восьми.
Дети беззаботно приветствовали толпу; женщина тоже кланялась, но казалась слишком задумчивой.
Эта женщина — королева, эти дети — принц Оранский и принц Морис.
Нельзя было представить себе более благородного и вместе с тем более печального лица, чем лицо королевы: это была женщина в расцвете своей красоты, государыня во всем своем величии.
Я удостоился чести быть принятым ею три раза за те два дня, что провел в Амстердаме; каждое слово, произнесенное ею, навек запечатлелось в моей памяти.
Дай Бог, чтобы народ любил свою королеву и был ей верен, чтобы Господь никогда не дал ее печали перерасти в скорбь!
Процессия прошла мимо и скрылась с глаз. Это видение казалось странным для нашего времени, когда короли, кажется, отмечены роковым "тау"!
Увы! Кто из них прав: короли или народ?
Разрешение этой великой загадки стоило жизни Карлу I и Людовику XVI.
Реставрация 1660 года обвиняет народ.
Революция 1848 года обвиняет королей.
Будущее покажет. Но я готов биться об заклад, что не прав народ.
Процессия прошла, скрылась, и до одиннадцати часов завтрашнего дня у меня уже не было дел в Амстердаме. Я распрощался с хозяевами, попросив объяснить мне, как добраться до Монникендама.
Эта прихоть показалась им странной: зачем мне ехать в Монникендам?
Я скрыл от них, что собирался отправиться на поиски морской девы, и просто настаивал на своем желании посетить Монникендам.
Брат Виттеринга вызвался сопровождать меня. У Александра были свои планы, он хотел отправиться в Брок.
Биар же, решив и дальше разделить мою судьбу, объявил, что поедет со мной.
Я думаю, Биару было неловко оттого, что он, побывав на мысе Нордкап, самом краю Европы, где встречаются воды двух морей, не увидел в этих морях ни одной русалки.
Не веря больше в свою удачу, он рассчитывал на мою.
Оказавшись в порту, я стал разыскивать — вернее, попросил моего проводника отыскать — папашу Олифуса.
Долгое время поиски оставались бесплодными: лодка была на месте, но хозяина нигде не было.
Наконец его обнаружили в ужасной таверне, где он был завсегдатаем. Ему сообщили, что путешественник, направляющийся в Монникендам, ни с кем другим ехать не желает.
Такое явное предпочтение ему польстило: оставив свой грог, он с широкой улыбкой направился ко мне.
— Вот и папаша Олифус, — сказал человек, разыскавший его по просьбе Виттеринга.
Я дал ему флорин.
Увидев, как дорого я его оценил, папаша Олифус стал еще любезнее.
Все это время я рассматривал его с любопытством — он стоил того, — а Биар сделал с него набросок.
Как мне и говорили, это был старый морской волк, от шестидесяти до шестидесяти четырех лет, больше напоминавший тюленя, чем человека: волосы и борода белые, то и другое не больше дюйма длиной, жесткие, будто прутья метлы; круглые влажные светло-голубые глаза; большой рот, в котором сверху торчали два желтых зуба, словно моржовые клыки; кожа цвета красного дерева.
На нем были широкие штаны (когда-то они были синими) и пальто с капюшоном (сохранившиеся кое-где вдоль швов клочья отделки позволяли догадаться об испанском или неаполитанском происхождении его).
Одна щека была, точно флюсом, раздута огромной порцией жевательного табака.
Время от времени из его рта вылетала струя черной слюны, сопровождаемая характерным свистом.
— А, так вы француз, — сказал мне папаша Олифус.
— Откуда вы знаете?
— Ну вот! Стоило объезжать все части света, Азию, Африку и Америку, чтобы я не мог с первого взгляда распознать человека. Француз, француз, француз!
И он затянул:
За родину умрем…[3]
Я сразу же прервал его.
— Не то, папаша Олифус! Совсем не это!
— Почему же?
— Этот припев я уже слышал.
— Что ж, как хотите. Значит, вы хотите попасть в Монникендам?
— Да.
— И вы настаиваете на том, чтобы отвез вас туда именно папаша Олифус, без шуток?
— Да-
— Ну что же! Мы вас туда отвезем и дорого не запросим…
— А почему?
— Потому что у меня есть глаза и я все вижу, а этого достаточно. Вы собираетесь заночевать в Монникендаме?
— Да.
— Так вот — я советую вам остановиться в гостинице "Морской царь".
— Я именно туда и собирался.
— Ее содержит моя дочь Маргарита.
— Мне это известно.
— Ах, так вы это знаете! — сказал папаша Олифус. — Так, значит…
И он погрузился в размышления.
— Папаша Олифус, что, если нам отправиться в путь?
— Да, да, сейчас, — сказал он. Затем, повернувшись ко мне, продолжил: — Я знаю, зачем вы туда едете.
— Знаете?
— Знаю. Вы ученый и хотите заставить меня рассказывать.
— Неужели для вас это так трудно, папаша Олифус, если начало рассказа смочено тафией, середина — ромом, а конец — араком?
— Смотрите-ка! Вы знаете последовательность?
— Ей-Богу, нет! Я случайно угадал.
— Хорошо, мы поговорим, только не при детях, понятно?
— А где дети?
— Вы сейчас их увидите.
И он засвистел, поворачиваясь в разные стороны.
Звук, который издавал папаша Олифус, очень напоминал паровозный свисток.
Я увидел, как с разных сторон после этого сигнала появились пять здоровенных парней и устремились к одной точке.
Этой точкой были Биар, папаша Олифус и я сам.
— Эй, Иоаким! Эй, Фома! Эй, Филипп! Симон и Иуда! Поторопитесь! — крикнул он по-голландски. — Есть заработок для вас и для вашей сестры Маргариты.
Услышав имя Маргариты и тон, каким папаша Олифус обратился к направлявшимся в нашу сторону парням, я приблизительно догадался, о чем речь.
— Так это и есть ваше потомство, папаша Олифус? Мне о нем говорили.
— В Гааге, да? Смотритель музея? Пожалуй, я должен делать скидку этому старому плуту. Да, это мои сыновья, все пятеро.
— Значит, у вас пять сыновей и одна дочь?
— Одна дочь и пять сыновей, из которых двое близнецы: Симон и Иуда; самому старшему двадцать пять лет.
— И все от одной матери? — после некоторого колебания спросил я.
Олифус взглянул на меня.
— Да, от одной матери, в этом я уверен. Не могу сказать этого об… Тише! Идут дети, при них ни слова.
Дети прошли передо мной, поздоровались и недоверчиво взглянули на отца: несомненно, им показалось, что старик уже проболтался.
— Ну-ну, ребята, в лодку! — сказал папаша Олифус. — Покажем этому господину, что мы и не таким судном смогли бы управлять.
Трое молодых людей спустились в лодку, а двое других, оставшихся на берегу, подтягивали ее поближе к причалу.
Мы спрыгнули на корму; туда же довольно легко сошел папаша Олифус. Наконец за нами последовали остальные двое его сыновей, Симон и Иуда, и теперь команда и пассажиры были в полном сборе. Мне показалось, что близнецы никогда не расставались: сейчас они вместе поднимали маленькую мачту, лежавшую на дне лодки; тем временем отец усаживался к рулю, Иоаким отвязывал цепь, а Филипп и Фома, взяв в руки по веслу, выгребали на открытое место среди множества лодок и кораблей, заполнивших порт.
Преодолев все препятствия, мы смогли поднять парус. Ветер был благоприятный, и лодка быстро продвигалась вперед. Через десять минут, обогнув маленький мыс, закрывавший от нас залив, мы оказались в Зёйдер-Зе.
Через полчаса мы прошли между мысом Тидам и островом Маркен.
Олифус коснулся моей руки.
— Поглядите-ка на этот высокий тростник, — сказал он.
— У берега острова? — переспросил я.
— Да.
— Смотрю; что дальше?
— Там я ее и нашел.
— Кого?
— Тише!
В самом деле, Иоаким, заметивший его жест, повернулся в нашу сторону и, непочтительно пожав плечами, бросил на отца укоризненный взгляд.
— Ну, дети, в чем дело? — сказал тот. — Ничего не произошло.
Все молчали.
Через пять минут мы вошли в маленький залив и увидели слева деревню.
Молодые люди все время поглядывали в южную сторону с видом не то чтобы беспокойным, но озабоченным.
— Что с вашими детьми? — спросил я. — Они словно чего-то ждут.
— Да, они ждут чего-то, но предпочли бы этого не дождаться.
— А чего они ждут?
— Ветра…
— Ветра?
— Да, ветра, южного ветра. Скорее всего сегодня вечером им придется следить за плотиной. Но для нас это будет кстати…
— Почему?
— Нам никто не помешает, мы сможем поговорить.
— Значит, вам не будет неприятно говорить о…
— Напротив, мне это облегчает душу. Но они, похоже, все держат сторону этой потаскушки, Бюшольд. Ну вот, у меня вырвалось слово, и они его услышали. Посмотрите, какие взгляды кидают на меня Симон и Иуда. А ведь это младшие, им еще и двадцати нет. И что же! Они поступают как и их братья.
— Кто эта Бюшольд?
Парни, нахмурившись, обернулись к нам.
— Ну вот, вы еще и повторяете за мной! Посмотрите, как вас примут после этого!
В самом деле, настроение наших пятерых матросов, казалось, испортилось.
Я замолчал.
Мы приблизились к деревушке, которая словно вставала из воды нам навстречу.
— Не показывайте вида, — шепнул мне папаша Олифус, — но посмотрите налево.
Я увидел кладбище.
Он торжествующе подмигнул мне:
— Она там.
Я понял, и на этот раз вместо ответа только слегка кивнул головой.
Наш диалог, наполовину безмолвный, все же не ускользнул от внимания Фомы, который, не разделяя радости отца, вздохнул и перекрестился.
— Похоже, ваши дети католики? — поинтересовался я.
— Ох, Господи, да! И не говорите, они просто не знают, эти ребята, что бы еще такое выдумать, чтобы позлить меня. Собственно, я зря на них сержусь, это не их вина, а их матери.
— Так их мать была…
— В день, когда я ее нашел, она некоторое время провалялась без присмотра. За это время кюре быстренько окрестил ее.
— Отец! — Филипп, стоявший ближе всех, повернулся к нам.
— Ну что? Мы говорили о святом Иоанне, который крестил Господа нашего в реке Иордан, больше ни о чем.
Говоря это, он вскочил и в знак приветствия помахал своим колпаком.
— Эй, Маргарита!.. Эй!.. — окликнул он красивую девушку лет девятнадцати или двадцати, стоявшую на пороге дома. — Готовь лучшую комнату и подавай ужин повкуснее: я привез тебе постояльцев. — А затем, обратившись ко мне, сказал: — Идите вперед и подождите меня в вашей комнате. Пока они будут на плотине, я поднимусь к вам; мы выкурим по трубочке, выпьем по стаканчику тафии, и я все вам расскажу.
Я утвердительно кивнул, он в ответ лукаво подмигнул мне; сойдя на берег с помощью Симона и Иуды, мы направились к гостинице "Морской царь", на пороге которой, улыбаясь, ждала нас прекрасная трактирщица.
V ПЕРВАЯ ЖЕНИТЬБА ПАПАШИ ОЛИФУСА
Мадемуазель Маргарита Олифус приняла нас как нельзя лучше.
Проводив нас в комнату с двумя постелями, она спросила, будем мы ужинать в общем зале или хотим, чтобы ужин подали в комнату.
Мы надеялись услышать рассказ о приключениях папаши Олифуса и попросили подать ужин в комнату.
Выбор блюд мы предоставили целиком на усмотрение хозяйки.
Весь этот разговор, разумеется, велся с помощью знаков; но, если такой способ неудобен в общении между торопящимися мужчинами, он становится приятным в разговоре с хорошенькой улыбающейся женщиной.
За десять минут мы обо всем договорились, хотя и не произнесли ни единого слова.
Папаша Олифус не ошибся: ветер продолжал дуть и даже усилился. Опасаться было нечего, но все же приходилось из осторожности наблюдать за плотиной.
Из своего окна мы видели, как трое сыновей папаши Олифуса направились к берегу; двое других, Симон и Иуда, вошли в какой-то дом; позже мы узнали, что они ухаживали за двумя живущими там сестрами.
Пока мы сквозь сгущающиеся сумерки следили за уличной и портовой жизнью, на столе появилось сначала блюдо жареной лососины, за ним — дымящиеся крутые яйца (размером с голубиные, зеленые в рыжую крапинку; они оказались яйцами чибиса; их собирают в мае; на вкус они гораздо нежнее куриных).
Среди блюд национальной кухни возвышалась, как тонкая, качающаяся от малейшего толчка колокольня, бутылка бордо.
От морского воздуха аппетит у нас разыгрался, и мы набросились на еду, оказавшуюся удивительно вкусной, как и вино.
Впрочем, ужин не был для нас главным: с гораздо большим нетерпением мы ожидали появления папаши Олифуса.
Во время десерта мы услышали, что кто-то тяжело, но вместе с тем крадучись поднимается по лестнице. Дверь открылась, и показался папаша Олифус с бутылками в руках, трубкой в зубах, с безмолвной ухмылкой на лице.
— Тсс! — сказал он. — Ну вот и я.
— И, похоже, в хорошей компании.
— Да. Я сказал себе: здесь два француза, надо идти вчетвером, чтобы сила была на нашей стороне. Я взял с собой бутылку тафии, бутылку рома и бутылку арака, и вот я здесь.
— Честно говоря, папаша Олифус, — сказал я ему, — чем больше я вас слушаю, тем больше удивляюсь: вы говорите по-французски не как матрос флота его величества Вильгельма Третьего, но как мореплаватель, что служит его величеству Людовику Четырнадцатому.
— Это потому, что на самом деле я француз, — подмигнув, ответил папаша Олифус.
— Как это на самом деле?
— Да, мой отец — француз, мать — датчанка; мой дед был француз, а бабка родом из Гамбурга. Что касается моих детей, могу похвастаться, что они французы по отцу, а по матери… Не берусь решить, кем она была, только они настоящие голландцы. Этого не случилось бы, если бы я занимался их воспитанием, но я был в Индии.
— Ну, время от времени вы возвращались! — смеясь, заметил я.
— В этом вы ошибаетесь, я сюда не приезжал.
— Значит, ваша жена приезжала к вам?
— Нет и да.
— Что значит "нет и да"?
— Вот здесь и начинается путаница, как видите. Похоже, расстояние не имеет значения, если жена у вас ведьма.
— И что же?
— Да, так вот. Впрочем, я все вам расскажу, только сначала пропустим по стаканчику тафии — это настоящая, я за нее ручаюсь. За ваше здоровье!
— За ваше, старина!
— Ну, как я вам и говорил, я француз, сын француза, потомственный моряк из породы морских волков и морских тюленей: в море я родился, на море надеюсь и умереть.
— Как же вы могли, имея такое призвание, не вступить в военный флот?
— О, я служил при императоре, но в тысяча восемьсот десятом году — привет! — меня схватили и отправили в Англию — вероятно, для того чтобы я выучил английский; позже, как вы увидите, он мне пригодился.
В тысяча восемьсот четырнадцатом году я вернулся сюда, в Монникендам: император взял меня отсюда. Я был ремесленником, там, на блокшивах, делал всякие вещи из соломы и продавал их англичанкам, которые приходили посмотреть на нас; таким образом, я скопил небольшую сумму, триста или четыреста флоринов.
Я купил лодку, набрал команду матросов и стал возить путешественников в Амстердам, в Пюрмерен, в Эдам, в Хорн — словом, вдоль всего побережья.
Так продолжалось с тысяча восемьсот пятнадцатого по тысяча восемьсот двадцатый год. Мне было уже тридцать пять лет, и меня спрашивали: "Вы все не женитесь, папаша Олифус?" Я отвечал: "Нет. Я моряк и не женюсь, пока не найду себе русалку". — "А почему вы хотите жениться на русалке, папаша Олифус?" — "Ну, как же! — отвечал я. — Потому что русалки не умеют разговаривать".
Надо вам сказать, что двести или триста лет назад на одном берегу нашли выброшенную морем морскую деву. Ее научили делать реверанс и прясть, но никогда — никогда в жизни! — она не разговаривала.
— Да, я знаю. И что же?
— Вы сами понимаете: женщина, умеющая делать реверанс и прясть, но не умеющая говорить, — настоящее сокровище; но, видите ли, на самом деле я не верил в существование русалок и решил, что не женюсь никогда.
Однажды — это было двадцатого сентября тысяча восемьсот двадцать третьего года, и мне не забыть этот день — случилась непогода; второй день ветер дул с Северного моря. Я отвез одного англичанина в Амстердам и возвращался назад. Проходя между мысом Тидам и островком Маркен, как раз там, где растут тростники — я показывал вам это место по дороге сюда, — мы заметили, что в воде бьется какое-то существо.
Мы направились к этому месту; чем ближе мы подплывали, тем больше это создание нам напоминало человека.
"Держитесь! Не бойтесь! Мы здесь!" — призывали мы его. Но чем громче мы кричали, тем сильнее слышался плеск воды. Мы подошли совсем близко и что же увидели? Перед нами барахталась женщина.
В команде был один парижанин, большой шутник. Он сказал мне: "Смотрите-ка, папаша Олифус, русалка — как раз для вас".
Конечно, мне надо было бежать оттуда. Так нет же: любопытный, словно дельфин-касатка, я продолжал двигаться вперед, сказав: "Ей-Богу, это женщина! И к тому же она тонет. Надо ее выловить".
"Она совсем голая!" — сказал парижанин.
В самом деле, на ней ничего не было.
"Ты что, боишься?" — спросил я у него.
В ту же минуту я прыгнул в воду и подхватил женщину на руки.
Она уже лишилась чувств.
Мы хотели вытащить ее из тростника, но ей каким-то образом удалось так запутаться ногами в траве, что рядом с этим морские узлы — просто пустяк.
И пришлось нам разрезать стебли.
Положив женщину на дно лодки, мы укрыли ее нашими плащами и взяли курс на Монникендам.
Мы предположили, что где-то неподалеку произошло кораблекрушение, бедняжку прибило течением к берегу, и она запуталась в тростниках.
Лишь парижанин продолжал качать головой и уверять, что это вовсе не женщина, а русалка и что она лишилась чувств от страха, вызванного нашим появлением.
Приподняв плащ, он стал рассматривать ее. Я тоже взглянул — признаюсь, не без удовольствия.
Это было прелестное существо лет двадцати, самое большее — двадцати двух. Красивые руки, красивая грудь. Правда, волосы слегка отливали зеленым, но при очень белой коже это выглядело неплохо.
Пока я ее разглядывал, она открыла один глаз. Глаз тоже был зеленым, но и это ее не портило.
Увидев, что она пришла в себя, я снова прикрыл ее плащом, извинившись за нескромность, и пообещал одолжить для нее лучшее платье удочки бургомистра Монникендама ван Клифа.
Она не ответила — как мне показалось, застыдившись; я обернулся к остальным, сделав им знак молчать и грести. Вдруг плащи приподнялись: она собралась прыгнуть в воду. Дурак я был, что помешал ей!
— Вы ее удержали?
— Вот именно — за ее зеленые волосы; но при этом я должен был обратить внимание на одну вещь: она почти справилась с нами, шестью мужчинами. Парижанину тоже от нее досталось — кулаком в глаз; он сказал, что ничего подобного ему, кроме как в Куртиле, не приходилось встречать.
Я думал, что она сошла с ума и хочет наложить на себя руки. Схватив ее в охапку, я сумел ее удержать (хотя кожа у нее была скользкой, словно у угря), пока мои спутники связывали ей руки и ноги.
Спутанная по рукам и по ногам, она успокоилась: немножко покричала, поплакала, но потом смирилась.
Тумаки от нее достались всем, она никого не обошла, но парижанину было хуже других; каждые пять минут он промывал свой глаз морской водой. Если вас когда-нибудь отлупцуют, знайте, что морская вода — лучшее лекарство.
Короче, мы причалили к берегу. Узнав о нашей находке, сбежалась вся деревня.
Мы отнесли женщину ко мне домой, и я попросил дочку бургомистра ван Клифа предоставить одно из ее платьев в распоряжение спасенной. Что я мог сделать? Ведь я же тогда ничего еще не знал о ней.
Дочка бургомистра прибежала с одеждой, я отвел ее в комнату пленницы, лежавшей на постели и все еще связанной.
Надо думать, та признала в девушке схожее с собой существо, так как сделала ей знак развязать ее, что и было быстро исполнено, а потом принялась с любопытством разглядывать гостью, трогать ее одежду, приподнимать юбки, заглядывать за корсаж: она словно пыталась понять, не растет ли одежда прямо на теле. Дочка бургомистра охотно подчинилась осмотру, любезно объяснила различие между кожей и платьем, разделась и снова оделась, чтобы показать, как они похожи друг на друга в голом виде, а отличает их только ее одежда.
О, видите ли, кокетство — порок, свойственный дикой женщине не меньше, чем цивилизованной, и морской деве — не меньше, чем земной. Наша русалка больше не пыталась убежать, перестала кричать и плакать и принялась разглядывать платья и казакины, чепчики и позолоченные украшения. Потом она знаками показала, что хочет одеться. Она всего один раз видела, как снимают и надевают все эти вещи. И что же! Она проделала это так ловко, как будто всю жизнь только и делала, что одевалась и раздевалась. Закончив свой туалет, она стала искать воду, чтобы посмотреться в нее. Дочка бургомистра подставила ей зеркало; увидев себя, русалка вскрикнула от удивления и безумно расхохоталась.
Именно в эту минуту вошел кюре, решивший на всякий случай ее окрестить. Когда он попытался снять с нее чепчик, она чуть было глаза ему не выцарапала, этому кюре. Пришлось объяснить ей, что это всего на минутку; но она не выпустила из рук ни чепчика, ни золотых украшений и сама поправила свой костюм, как только кюре вышел.
Я просто умирал от желания взглянуть на нее. Поднявшись, я спросил у дочки бургомистра, можно ли войти, и она открыла мне дверь. За моей спиной столпились пять моих матросов; последним шел парижанин, продолжавший прикладывать к глазу соляную примочку.
Я не узнавал русалку и глазами искал ее. Передо мной была красивая фризка, с чуть зеленоватыми волосами, это правда; но зеленое с золотом, как вы знаете, очень хорошо сочетается.
Дочка бургомистра сделала мне глубокий реверанс.
Русалка посмотрела, как это делает ее подружка, и сделала то же самое. Да, сударь, в этом вся женщина! Что за лицемерное создание! Всего два часа, как русалка познакомилась с людьми — и вот она уже плачет, смеется, смотрится в зеркало и кланяется. О, я тогда уже должен был понять; но что сделано, того не воротишь!
Я стал знаками с ней разговаривать и спросил, не голодна ли она. Мне было известно, что животных приручают с помощью лакомств, и — что поделаешь! — мне хотелось, хотя бы из любопытства, приручить эту женщину. Она кивнула; тогда я принес ей арбуз, виноград, груши — словом, все фрукты, какие смог раздобыть.
Она знала, что это: едва увидев их, она набросилась на них. Съев фрукты, она хотела съесть и тарелку, и стоило неимоверного труда убедить ее, что посуда несъедобна.
Кюре тем временем успел напакостить. Он объяснил дочке бургомистра, что морская дева хоть и рыба, но слишком похожа на женщину, чтобы оставаться в доме холостяка. Так что, как только она кончила есть, бургомистр с женой и второй дочкой явились за ней.
Свежеиспеченные подружки удалились, взявшись за руки.
Только русалка шла босиком: она не смогла надеть принесенные ей туфли. Нет, они не были ей малы, напротив, но к этой части своего костюма она привыкала дольше всего.
Подойдя к двери дома, она оглянулась на море; возможно, ей захотелось вернуться в старое обиталище, но для этого пришлось бы пробраться сквозь толпу местных жителей, собравшихся поглазеть на нее; к тому же она испортила бы свое красивое платье. И новоприбывшая, тряхнув головой, спокойно вошла в дом бургомистра, провожаемая криками всего населения Монникендама: "Бюшольд!
Бюшольд!", что на местном наречии означает "Дочь воды".
Поскольку никто не знал ее имени, это прозвище осталось за ней.
Я не раз говорил, что женюсь только на русалке, и теперь получил то, чего хотел. Поэтому в тот же вечер приятели пили за мою будущую свадьбу с Бюшольд. Она была молоденькая, хорошенькая; мне нравилось, как она поглядывала на меня своими зелеными глазами, и она была немая. Черт возьми! Я тоже выпил за это.
Через три месяца она умела делать все, что делают другие женщины, не умела только говорить; в своем фризском костюме она была самой красивой девушкой не только во всей Голландии, но и во всех землях, где живут фризы; мне казалось, что я ей не противен, а сам я влюбился в нее как дурак. У меня были на нее все права: ведь это я ее нашел, и со стороны ее родственников препятствий опасаться не приходилось…
Я женился на ней.
В мэрии новобрачную записали Марией Бюшольд, поскольку господин кюре, когда крестил ее, счел самым подходящим для нее имя матери нашего Спасителя.
Я дал большой обед, затем был большой бал. Мария принимала гостей, изъясняясь с помощью знаков. Она пила, ела, танцевала — словом, обычная женщина, только немая как рыба.
Гости, видя, как она мила, как грациозна и как безмолвна, в один голос твердили: "Ну и повезло же этому черту Олифусу! Какой счастливчик!"
Назавтра я проснулся в десять часов утра. Она пробудилась раньше и разглядывала меня спящего. Неожиданно для нее открыв глаза, я заметил на ее лице удивительно насмешливое и злое выражение. Но стоило ей увидеть мой устремленный на нее взгляд, и лицо ее сделалось обычным, а я обо всем забыл.
— С добрым утром, женушка, — сказал я ей.
— С добрым утром, муженек, — ответила она.
У меня вырвался крик отчаяния, на лбу выступил холодный пот: моя жена заговорила.
Похоже, замужество развязало ей язык.
Это произошло двадцать второго декабря тысяча восемьсот двадцать третьего года.
— За ваше здоровье, сударь! — произнес папаша Олифус, поднимая второй стакан тафии и предлагая мне с Биаром последовать его примеру. — И никогда не женитесь на русалках!
Затем он вытер губы тыльной стороной ладони и продолжил…
VI СЕМЕЙНЫЕ ТЕРЗАНИЯ
— Первое время моя жена пользовалась обретенным даром речи лишь для того, чтобы говорить мне нежности, и я утешился и перестал сожалеть об ее утраченной немоте.
И даже более того: в течение месяца я был вполне счастлив. Все меня поздравляли; один только парижанин, стоило мне похвастаться перед ним своей удачей, в ответ напевал насмешливую песенку:
Жан, взгляни-ка: не идут?
Жан, иди, взгляни-ка.
Надо отдать ему должное, он никогда не доверял Бюшольд.
После месяца штиля погода начала портиться; пока было тихо, но такое спокойствие обычно предвещает бурю. Вы понимаете, что я, моряк, знал это и потому приготовился к шторму.
Все началось с моей поездки в Амстердам. Моя жена заявила, что я навещал там свою давнюю подружку, которая жила рядом с портом, и оставался у нее всю ночь, и если эта подружка вчера молчала, ничто не помешает ей заговорить завтра.
Ах да! Надо вам сказать, что меньше чем в неделю моя жена выучила все слова, а через месяц могла заткнуть за пояс всех болтунов Амстердама, Роттердама и Гааги, взятых вместе.
Больше всего в ее обвинении разозлило меня то, что все сказанное ею насчет моего визита в амстердамский порт было правдой: можно подумать, что ведьма меня выследила, вошла за мной в дом и видела все, что там делалось.
Я изо всех сил отпирался, но она стояла на своем и пригрозила мне: если подобное повторится, накажет меня так, что я надолго это запомню.
Я воспринял эти слова как обычную женскую угрозу и, поскольку терпеть не могу угрюмых лиц, постарался приласкать Бюшольд так, что назавтра она обо всем забыла или, по крайней мере, притворилась…
Две недели прошли относительно спокойно. На шестнадцатый день я перевозил художников в Эдам. Они собирались вернуться в Монникендам тем же вечером, но, увлекшись пейзажами, объявили, что задержат меня до завтра. Я мог бы уехать, сказав им, что не обязан соблюдать наш договор, раз они сами этого не делают, но, понимаете ли, так не поступают с выгодными клиентами. К тому же в Эдаме у меня была прежняя подружка, я не видел ее с тех пор, как женился на Бюшольд; я шел мимо ее окна, она помахала мне из-за занавески; я подмигнул ей в ответ. Это значило: "Договорились, если у меня будет свободная минутка, я зайду тебя навестить". А у меня впереди была не минутка, а целая ночь.
К тому же на этот раз я был совершенно спокоен. Моя подружка принимала меня до моей женитьбы со всякими предосторожностями: по ночам я перелезал через стену, окружавшую сад, потом открывал калитку в палисадник и через окно забирался в ее комнату.
До сих пор никто не знал об этих ночных посещениях, не узнают и теперь.
В одиннадцать часов вечера — темно было, ничего не видно — я подошел к стене, перебрался через нее, открыл калитку, затем влез в окно; за ним меня встретили две прелестные ручки, сразу меня обнявшие.
— Черт возьми, папаша Олифус! — сказал Биар. — От вашего рассказа просто слюнки текут. За здоровье обладательницы этих прелестных ручек!
— Ох, сударь, выпейте лучше за мое, — с меланхолическим видом ответил папаша Олифус, проглотив третий стаканчик тафии.
— Да что такого могло с вами случиться в этой маленькой комнатке, где вас встретили таким приятным образом?
— Это не в комнатке случилось, сударь, а когда я оттуда вышел.
— Продолжайте же, папаша Олифус, мы слушаем; вы рассказываете не хуже Стерна, говорите.
— Ну вот, выйдя из дома подружки, как вы сами понимаете, до рассвета (ведь ей — я вам уже говорил — приходилось быть осторожной, а мне, после того что случилось дома, когда я вернулся из Амстердама, совсем не хотелось быть замеченным) и закрыв калитку, я увидел на дорожке сада препятствие, впрочем пустяковое: протянутую поперек веревочку, нить, из каких вьют тросы. У меня в кармане был нож, я вынул его, открыл и перерезал веревку.
Но в ту же минуту меня огрели палкой по спине, и как огрели! "Ах, негодяй!" — закричал я и схватился за палку. Но с другой стороны никто за нее не держался: она была с помощью искусного приспособления подвешена к стволу груши; перерезав веревку, я отпустил эту палку, и, освободившись, она нанесла мне удар.
Я пустился бежать, потирая ушибленное место. Поначалу я решил, что отец или братья моей подружки что-то заподозрили и, не осмелившись напасть открыто, устроили засаду.
Но в саду и за пределами его было тихо: никто не засмеялся, не сказал ни слова, никто даже не пошевелился, и я, удалившись на цыпочках, тихонько вернулся в гостиницу.
В десять часов мы покинули Эдам, еще через полчаса причалили в Монникендаме.
Как только вдали показался мой дом, я увидел на пороге Бюшольд: она встречала меня с угрюмым видом, и это показалось мне дурным предзнаменованием; сам я, напротив, изобразил на лице улыбку. Но стоило мне войти за порог, русалка закрыла за мной дверь.
"Ах, вот как! — сказала она. — Хорошенькое поведение для человека, который шесть недель как женился".
"Какое поведение?" — с невинным видом поинтересовался я.
"Он еще смеет спрашивать!"
"Конечно".
"Замолчите и отвечайте!"
Ее зеленые глаза сверкали.
"Где вы были сегодня ночью, с одиннадцати часов? Говорите. Где вы провели время с одиннадцати часов вечера до пяти часов утра? Что с вами случилось, когда вы выходили оттуда, проведя там шесть часов?"
"Не знаю, что вы хотите этим сказать".
"Ах, не знаете?"
"Нет".
"Тогда я вам расскажу. Вы вышли из гостиницы в одиннадцать часов, перебрались через стену, открыли калитку палисадника, влезли в окно и проникли в комнату, где оставались до пяти часов утра. В пять часов вы вышли, получили удар палкой и вернулись в гостиницу, потирая спину. Попробуйте сказать, что это неправда!"
Однако я все отрицал. Признаться, в этот раз я не был так в себе уверен, как в прошлый; к тому же при мне было доказательство моей вины — след от удара.
Но, продолжая спорить, я отвлекал Бюшольд, целовал то ручку, то щечку, и, не перестав еще дуться, она в конце концов простила меня, сказав: "Берегитесь: в другой раз так легко не отделаетесь".
"О, — подумал я, — в другой раз я буду так осторожен, что мы еще посмотрим, кто кого".
Она кивнула, как будто хотела ответить: "Да, мы посмотрим!"
Можно было подумать, что эта ведьма Бюшольд читала мои мысли.
Словом, и на этот раз мы в конце концов помирились.
Еще через неделю я повез пассажиров в Ставерен. Путь был долгим, в один день не обернуться, и я не знал, куда деваться вечером; внезапно я вспомнил, что и здесь у меня есть подружка.
Эта была хорошенькая мельничиха; она жила на берегу прелестного маленького озера, расположенного между Батом и Ставереном. Когда я прежде приезжал к ней, то перебирался через озеро вплавь; окно было прямо над водой, я протягивал руку и — хоп! — оказывался в комнате.
На этот раз все было гораздо проще: озеро замерзло. Я достал пару коньков; в десять часов вышел из Ставерена, в четверть одиннадцатого был на берегу озера, в двадцать минут одиннадцатого стоял под окном моей мельничихи.
В ответ на условный сигнал окно отворилось.
На мельнице было известно о моей женитьбе. Мельничиха сначала сердилась на меня; но, поскольку это была добрейшая женщина, ссора не слишком затянулась.
В шесть часов я с ней расстался, совершенно спокойный: на озере никого не было; никто не видел, как я пришел; никто не увидит, как я уйду. Оттолкнувшись, я помчался по льду.
На третьем или четвертом шаге мне показалось, будто лед у меня под ногами затрещал. Я хотел вернуться назад, но было поздно. Я скользил к пролому, в котором плескалась вода: лед раскололся, пока я был у мельничихи. Как я ни упирался пятками, меня несло прямо к дыре. Плюх! И на льду пусто: я в воде.
К счастью, я ныряю как тюлень. Задержав дыхание, стал искать выход. Но подо льдом это не так-то легко! Увидев более прозрачную полосу льда, я поплыл к ней. В это время что-то крепко схватило меня за ногу и потащило в глубину. Я уже раскрыл рот, чтобы глотнуть воздуха, но вместо воздуха хватил воды. Это вовсе не одно и то же — я просто света невзвидел.
В ушах у меня шумело. Я понял, что должен как можно скорее разделаться с тем, кто тянет меня вниз, иначе пропаду. И изо всех сил лягнув свободной ногой невидимого врага, почувствовал, что удар попал в цель: меня отпустили. Две или три секунды я бился об лед головой и наконец, полумертвый, едва дышащий, почти без чувств, сумел, как говорят математики, нарушить непрерывность. Высунув голову из воды, я дышал глазами, носом и ртом одновременно, пытаясь уцепиться за кромку льда. Но лед обламывался под моими руками. Сделав отчаянный рывок, я упал плашмя. Теперь вес распределялся на большей поверхности и лед выдержал. Поднявшись на ноги, я оттолкнулся коньком и понесся вперед. Ни одно судно на всех парусах при попутном ветре не могло со мной соперничать: я делал не меньше тридцати узлов. На берегу почувствовал, что силы оставляют меня, и упал без сознания. Очнулся я в теплой постели, и, оглядевшись, узнал комнату гостиницы, из которой вышел вчера.
Отправлявшиеся на рынок крестьяне нашли меня на земле полумертвым, на три четверти замерзшим. Положив меня в свою повозку, они отправились в Ставерен, где хозяйка гостиницы стала меня выхаживать.
Выпив полную чашку горячего пунша, через два часа я был совсем здоров.
К десяти часам утра мои пассажиры закончили все свои дела. Они торопились вернуться, и я тоже, поскольку испытывал некоторое беспокойство, не зная, как меня встретят дома. Мы отправились в одиннадцать; ветер был попутный. От Ставерена до Монникендама около двенадцати льё; мы преодолели это расстояние за шесть часов, что совсем неплохо.
На этот раз Бюшольд встретила меня не у двери, а на берегу моря. Ее зеленые глаза светились в темноте, как два изумруда. Она знаком приказала мне идти домой впереди нее. Я не стал возражать, решив, если она уж очень станет меня пилить, дать ей небольшую супружескую взбучку; говорят, если хочешь сделать из жены безупречную подругу, надо повторять эту процедуру каждые три месяца.
Итак, я вернулся домой и сам закрыл за собой дверь. Затем, усевшись, я обратился к жене:
"Ну, и что дальше?"
"Как что дальше?" — воскликнула она.
"Да. Что вам от меня нужно?"
"Что мне от вас нужно? Я хочу сказать вам, что вы бесчестный человек, раз позволяете себе рисковать жизнью и можете утонуть, оставив вашу несчастную жену вдовой с ребенком на руках".
"С каким еще ребенком?"
"Да, негодяй, я беременна, и вы прекрасно это знаете!"
"Право же, нет!"
"Ну, раз не знаете, так я вам об этом говорю".
"Я очень рад".
"Ах, вы довольны!"
"Вы хотите, чтобы я сказал вам, как меня это огорчает?"
"Вот как вы мне отвечаете вместо того, чтобы попросить прощения".
"Просить прощения за что?"
"За то, что бегаете по ночам, словно оборотень, за то, что волочитесь за мельничихами. Я вас спрашиваю, кто это катается на коньках в шесть часов утра?"
"Ну, довольно с меня вашей слежки, — сказал я. — Если вы не оставите меня в покое…"
"Что вы тогда сделаете?"
У меня была чудесная индийская бамбуковая палка, гибкая, словно тростник; я выбиваю ею свой воскресный костюм. Выхватив ее из угла, я со свистом рассек воздух над ухом Бюшольд:
"Вот и все, что я хотел сказать, душечка".
"Ах, ты угрожаешь мне! — крикнула она. — Погоди же!"
Из ее глаз вылетели две зеленые молнии. Бросившись на меня, она легко, словно у ребенка, вырвала из моих рук бамбуковую палку и, скрипнув зубами, размахнулась и ударила меня с дьявольской силой.
— Ух! — вырвалось у нас с Биаром.
— Я уже забыл, как в лодке она чуть до смерти не забила нас шестерых, помните? И сейчас, после первых ударов, память ко мне вернулась. Я пытался защищаться, но безрезультатно: не помогали ни угрозы, ни проклятия — пришлось в конце концов запросить пощады. Как говорится, я получил свое, и даже более того.
Увидев меня на коленях, она перестала драться.
"Ну хорошо! На этот раз довольно, но в другой раз так легко не отделаетесь".
"Черт! — пробормотал я. — И так чуть до смерти не забила…"
"Тише! И пора ложиться спать, — сказала она. — К тому же вы, должно быть, устали".
Я не только устал, но и был разбит.
Молча раздевшись, я лег и повернулся лицом к стене; закрыв глаза, притворился спящим, но не спал…
VII БЕГСТВО
— Сами понимаете, я даром времени не терял; семейная жизнь сделалась для меня невыносимой, и я стал искать способ вырваться из когтей Бюшольд и одновременно отомстить ей за себя. Почему-то у меня была смутная уверенность в том, что это она подстроила ловушку с палкой в Эдаме и проломила лед на озере в Ставерене.
Более того. Вы помните, что я почувствовал, как что-то тянет меня на дно озера, и только сильный удар ногой помог мне освободиться.
Так вот, я был уверен: тащило меня за ногу не что-то, а кто-то и этим кем-то была Бюшольд.
"Рано или поздно, — сказал я себе, продолжая обдумывать планы мести, — наверняка это узнаю".
— Каким образом? — перебил я папашу Олифуса.
— Черт возьми! У меня же были коньки на ногах, и я не стал снимать их перед тем, как ударить. А удар ногой с коньком, да еще нанесенный отвесно, — не самый слабый. Мой удар был именно таким, и если это была Бюшольд, у нее где-то на теле остался след.
— Верно, — подтвердил я.
А папаша Олифус продолжал:
— Надо было затаиться, сделать вид, что все забыто — удар палкой в Эдаме, купание в Ставерене, побои в Монникендаме; если она виновата, то расплатится за все сразу.
Решение было принято.
Наутро, пока жена еще спала, я приподнял простыню и осмотрел ее с ног до головы: ни малейшего следа удара.
Вот только я заметил, что она не стала, как обычно, надевать ночной чепчик, а осталась в медном чепце.
"Ага! — сказал я себе. — Если ты и завтра его не снимешь, значит, под ним что-то есть".
Но, сами понимаете, вида не подал; я стал одеваться, а пока одевался, Бюшольд проснулась.
Первым делом она схватилась за свой медный чепчик.
"Ага! — снова подумал я. — Поглядим еще".
Все это я говорил про себя, притворившись веселым. Она тоже, надо отдать ей должное, через минуту стала вести себя так, словно ничего не произошло, хотя эта минута была нелегкой.
За весь день мы ни словом не обмолвились о том, что случилось вчера, и ворковали как голубки.
С наступлением вечера мы улеглись в постель.
Как и вчера, Бюшольд не стала снимать свой медный чепчик.
Всю ночь меня терзало чертовски сильное желание встать, зажечь лампу и нажать на маленькую пружинку, которая раскрывает проклятый чепчик; но, как нарочно, Бюшольд всю ночь металась, словно в жару, переворачиваясь с боку на бок. Я запасся терпением, надеясь, что в следующую ночь она будет спать спокойнее.
Я не ошибся: следующую ночь она спала как убитая. Тихонько поднявшись, я зажег лампу. Бюшольд лежала на боку. Я нажал на пружинку, пластинка раскрылась, и под ней, как раз над виском, я увидел отметину, в происхождении которой сомневаться не мог.
Лезвие конька рассекло кожу головы, и, если бы не ее мерзкие зеленые волосы, смягчившие удар, оно раскроило бы ей череп.
Теперь я знал точно, что моя жена не только устроила ловушку в Эдаме, не только проломила лед на озере, она еще к тому же пыталась меня утопить, схватив за ногу.
Утопив меня, она вернулась бы в Монникендам и, поскольку по завещанию все имущество отходило к оставшемуся в живых, она получила бы все, бедная крошка!
Сами понимаете, нечего мне было церемониться с подобным созданием. Я решил так: возьму с собой все деньги, сколько у меня есть, с этими деньгами доберусь до какой угодно страны, и в этой стране, что бы со мной ни приключилось, буду жить спокойно и счастливо, только бы оказаться вдали от Бюшольд.
Решившись привести свой план в исполнение, я погасил лампу, тихонько оделся, взял из шкафа свой мешок и на цыпочках подошел к двери.
Дотронувшись до ключа, я почувствовал, что чьи-то когти схватили меня за воротник и тянут назад.
Я обернулся: передо мной стояла эта ведьма, Бюшольд. Она только притворялась, что спит, и все видела.
"Ах так! — сказала она. — Вот как ты поступаешь: сначала обманул меня, теперь бросаешь, да еще разоряешь при этом! Сейчас ты у меня попляшешь!"
"А ты сначала избила меня, а потом, проломив лед, решила утопить! Это ты у меня попляшешь!"
Она взяла в руки бамбуковую палку, я схватил подставку для дров. Наши удары были нанесены одновременно, но я остался стоять, а она рухнула, вскрикнув, или, вернее, вздохнув, и больше не шевелилась.
"Так! — сказал я. — Она мертва, ей-Богу! Тем хуже для нее: она сама угодила в свою ловушку!"
Проверив, на месте ли деньги, я выбежал из дома, запер дверь и выбросил в море ключ. Затем я пустился бежать в сторону Амстердама.
Через полчаса я оказался на берегу моря.
Разбудив одного из моих друзей — рыбака, спавшего в своей хижине, я рассказал ему о моей несчастной семейной жизни, о своем решении бежать и попросил его отвезти меня в Амстердам, чтобы при первой же возможности покинуть Голландию.
Рыбак оделся, столкнул лодку на воду и взял курс на Амстердам.
Через полчаса мы были в порту. В это время великолепный трехмачтовик готовился отплыть в Индию; он как раз снимался с якоря.
Я мгновенно сообразил, что делать.
"Ей-Богу, это то, что мне нужно, — сказал я моему другу, — если капитан не слишком дорого запросит с меня, мы с ним договоримся".
И я окликнул капитана.
Капитан приблизился к борту.
"Эй, в лодке, кто меня спрашивал?" — крикнул он.
"Я…"
"А вы кто?"
"Некто, желающий узнать, есть ли еще место для пассажира".
"Да, подойдите к правому борту, там есть трап".
"Не надо, бросьте мне фалреп".
"Хорошо! Похоже, вы наше дело знаете".
"Немного".
Я снова повернулся к рыбаку.
"Ну а ты, друг мой, выпей за мое здоровье, вот тебе десять флоринов, — сказал я, развязывая мешок, и, увидев, что вместо золота он набит камнями, закричал: — Тысяча чертей, это еще что такое? Видишь ли, друг, — успокоившись, обратился я снова к рыбаку, — намерения у меня были самые лучшие, но меня обокрали".
"Да ну?"
"Честное слово!"
И я высыпал камни в лодку.
"Что ж! Тем хуже для меня, папаша Олифус, — сказал добрый малый. — Ничего не поделаешь, вы хотели как лучше; не беспокойтесь, за ваше здоровье я все равно выпью".
"Эй! — крикнули мне сверху. — Ловите свой перлинь!"
Я пожал руку рыбаку, схватил брошенную мне снасть, как белка взобрался на борт и спрыгнул на палубу со словами:
"Вот и я!"
"А ваши чемоданы где? — удивился капитан.
"Разве матросу нужны чемоданы?"
"Матросу? Вы говорили — пассажиру".
"Пассажиру?"
"Да".
"Значит, язык меня подвел. Я хотел сказать, есть ли место для матроса?"
"Что ж, кажется, ты бывалый моряк, — ответил капитан. — Да, у меня есть место для матроса, и к тому же этот матрос будет получать сорок франков в месяц, потому что я на службе у Индийской компании, а она хорошо платит".
"Раз она хорошо платит, я буду хорошо служить, вот и все".
Капитан больше ни о чем не спрашивал, я ни о чем не рассказывал; но договор был не менее действительным, чем если бы его скрепили все нотариусы мира.
Через день мы были в открытом море.
VIII ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ
— Первой землей, которую мы увидели после того, как скрылись из виду берега Франции, был небольшой остров Порту-Санту, расположенный к северу от Мадейры. Сам остров Мадейра показался из густого тумана двумя часами позже. Оставив слева порт Фуншал, мы продолжали путь. На четвертый день, обогнув Мадейру, мы увидели пик Тенерифе, то появлявшийся, то пропадавший среди тумана, накатывающегося на его бока, словно волны второго моря. Мы шли не останавливаясь и вскоре оказались в зеленых водах, напоминающих огромные плантации салата; поверхность океана была покрыта толстым слоем желто-зеленых водорослей, сливающихся в грозди (матросы называют их тропическим виноградом).
Я не в первый раз совершал подобное плавание, два раза побывал в Буэнос-Айресе, видел то, что моряки называют лазурными водами; теперь я снова оказался в своей стихии и дышал полной грудью. Наше судно — отличный парусник — делало от семи до восьми узлов; каждый узел на милю увеличивал расстояние между мной и Бюшольд — лучшего желать было нельзя.
Мы пересекли экватор, и, как это принято, на борту был праздник. Я предъявил свое свидетельство, подписанное морским царем, и, вместо того чтобы искупаться самому, обливал водой других.
Капитан оказался славным малым: ром лился рекой. Я немного перебрал и, напевая, улегся спать в этаком, знаете, туманном состоянии. Продолжая напевать, я начал дремать и даже похрапывать, непроизвольно отмахиваясь от тараканов, которых принимал за летучих рыб. Внезапно мне почудилось, будто высокая фигура в белом, спустившись в люк, приблизилась к моей койке.
По мере ее приближения я все отчетливее узнавал Бюшольд; храпеть я, может быть, и не перестал, но что больше не пел — это уж точно.
"Ах так! — сказала она. — После того как ты два раза проломил мне череп, сначала коньком, потом подставкой для дров, ты не только не каешься и не пытаешься искупить свои грехи, но еще и напиваешься до бесчувствия!"
Я хотел ответить, но произошло что-то странное: теперь она говорила, а я онемел.
"Не старайся, — продолжала она. — Ты не только онемел, ты еще и парализован. Ну, попробуй встать, попробуй".
Проклятая Бюшольд прекрасно видела, что со мной делалось и какие нечеловеческие усилия я прилагал, чтобы выбраться из койки. Но моя нога гнулась не больше, чем фок-мачта, и без помощи кабестана я не мог сдвинуться с места.
Я сдался: лег в дрейф и оставался неподвижным, словно буек.
К счастью, можно было закрыть глаза и не смотреть на русалку: это было некоторым облегчением; но, к сожалению, нельзя было заткнуть уши, чтобы не слышать ее голоса. Она все говорила и говорила, и в конце концов я перестал различать слова, они слились в неясный гул, затем умолк и он, а потом стало слышно, как пробили склянки и боцман закричал:
"Вторая вахта, на палубу!"
— Вы знаете, что такое вахта? — спросил у меня папаша Олифус.
— Да, продолжайте дальше.
— Так вот, это была моя вахта, и звали меня. Я слышал, что меня зовут, но и пальцем не мог пошевельнуть и только говорил себе: "Будь уверен, Олифус, от расправы тебе не уйти, прогуляется по тебе линёк. Ну, несчастный, тебя же зовут; ну, лентяй, вставай же скорее!"
Все это, сударь, происходило внутри меня; но, черт возьми, снаружи я не мог сделать ни малейшего движения.
Неожиданно почувствовав, как меня трясут, я решил, что это Бюшольд, и хотел спрятаться; меня трясли все сильнее, но я не шевелился. Наконец послышалось ругательство, от какого палуба может треснуть, затем кто-то спросил меня: "Эй, ты что, помер?"
Я узнал голос рулевого.
"Нет! Нет! Я жив! Нет, папаша Видерком, я здесь. Только помогите мне слезть с койки".
"Что? Помочь тебе?"
"Да, я сам не могу двигаться".
"Господи, помилуй; я думаю, он еще не протрезвел. Ну, сейчас я тебя!"
И он схватился за ручку валявшейся на полу метлы.
Не знаю, страх придал мне сил или мое оцепенение прошло, только я легко, словно птичка, соскочил с койки, сказав: "Вот и я! Это все подлая русалка! Эта тварь, без сомнения, родилась мне на погибель!"
"Русалка или кто другой виноват, — проворчал рулевой, — но чтобы завтра с тобой такого не было; не то увидишь у меня…"
"О, завтра этого бояться нечего", — ответил я, натягивая штаны и начиная взбираться по трапу.
"Да, понимаю, завтра ты не напьешься; на сегодня я тебя прощаю: не каждый день бывает такой праздник. Ну, живее, живее!"
Я поднялся на палубу. Никогда мне не приходилось видеть подобной ночи.
Небо, сударь, было усеяно не звездами: оно было осыпано золотой пылью. Поверхность моря покрылась рябью от легкого бриза — по такой дорожке только в рай идти.
Это еще не все. Казалось, судно, рассекая волны, поджигает их. Делать мне было нечего: судно шло на всех парусах, распустив бом-брамсели и лиселя, словно девушка, спешащая на воскресную мессу. Так что я, перегнувшись за борт, стал смотреть на воду.
Вы и представить себе не можете ничего подобного. Говорят, такое устраивают мелкие рыбешки, но я предпочитаю думать, что сам Господь. Похоже было, будто вдоль всего корпуса судна загорелось полсотни римских свечей. Бесконечный фейерверк рассыпался звездами за кормой. И все это вырисовывалось на темном фоне волн, будто в глубине кто-то колыхал складки огненного полотнища.
Вдруг мне показалось, что в этом пламени кувыркается человеческая фигура; я все больше различал ее, и кого же, по-вашему, я в ней узнал? Бюшольд!
Не надо и спрашивать, хотел ли я отскочить назад. Но не тут-то было! Я прилип к борту, словно сушеная треска, и не мог сдвинуться ни на шаг. Она же напротив, то ныряла, то плавала кругом, то переворачивалась на спину, манила меня к себе, звала, улыбалась, и я почувствовал, что мои ноги отрываются от палубы, я начинаю падать, словно у меня закружилась голова, а затем скользить на животе; я хотел удержаться — но схватиться было не за что, хотел закричать — но голос пропал, и меня все тянуло вниз. Ах, проклятая русалка! Волосы на моей голове встали дыбом, около каждого волоска выступила капля пота, и я все скользил, скользил головой вниз и чувствовал, что вот-вот упаду в воду. Проклятая русалка!
Вдруг кто-то схватил меня сзади за штаны.
"Это еще что? Олифус, ты, никак, взбесился? — сказал рулевой, подтащив меня к себе. — Эй, двоих — ко мне, да поздоровее, покрепче! Сюда!"
Они подбежали, и во время! Я чуть не увлек его за собой в воду. Ох!
Я упал на доски палубы, мокрый как мышь, зубы у меня стучали, глаза закатывались.
"Ну, если уж ты эпилептик, так надо было раньше об этом сказать, — продолжал рулевой. — В таком случае мы тебя спишем на берег. Хорошенький матрос с нервными припадками! Именно то, что надо. Барышня Олифус — как вам это нравится?"
Меня продолжало трясти, но я заговорил:
"Нет, это не эпилепсия, это Бюшольд. Вы ее не видели?"
"Кого?"
"Бюшольд. Она была там, в воде, и ныряла в огонь, словно саламандра. Она звала меня, притягивала к себе, это была она! Ах, проклятая русалка, чтоб тебя!"
"Что это ты все говоришь про русалку?"
"Нет, ничего…"
— Видите ли, — перебил сам себя папаша Олифус, — если вам, сударь, придется пуститься в долгое плавание, никогда не говорите с матросами ни о русалках, ни о нереидах, ни о морских девах, ни о тритонах, ни о рыбах-епископах. На земле — еще куда ни шло, на берегу матросы над этим смеются, но в море такие разговоры им не по душе: они наводят страх. Так что, если бы не рулевой, меня выбросили бы за борт, хлебнул бы я морской воды.
Я уселся у основания бизань-мачты и, уцепившись за снасти, стал ждать рассвета.
Утром мне уже казалось, что все это было сном; но меня била такая лихорадка, что пришлось признать: ночные события происходили наяву. Собственно, все очень просто: я ударил Бюшольд подставкой для дров, и так сильно, что убил ее; и теперь ее душа явилась с просьбой, чтобы я помолился о ее спасении.
К несчастью, на судах Индийской компании не было священника, иначе я попросил бы отслужить заупокойную мессу и все было бы кончено.
Пришлось воспользоваться другим известным средством. Взяв мускатный орех, я написал на нем имя русалки, завернул орех в тряпочку, положил в жестяную коробку, нацарапал на крышке два крестика, разделенные звездочкой, и с наступлением темноты бросил этот талисман в море, прочитав "De profundis"[4], а затем пошел укладываться в свой гамак.
Но едва я лег, как раздался крик:
"Человек за бортом!"
Как вы знаете, это сигнал для всех. На судне все может случиться, сегодня с твоим товарищем, завтра — с тобой. Так что я спрыгнул с койки и побежал на палубу.
Там все были в некотором замешательстве. Каждый спрашивал, кто же упал в море? Вот я, вот ты, вот он — все на месте. Но все равно надо что-то сделать. На любом судне, где есть порядок, всегда стоит человек с ножом около шнурка, удерживающего спасательный буек, или около противовеса, не дающего буйку упасть в воду. И вот этот человек уже перерезал шнур, и буек поплыл за кормой.
Капитан тем временем приказал отпустить руль, спустить верхние паруса, отдать фалы и шкоты.
Видите ли, так всегда делается. Когда человек упал в море, судно ложится в дрейф; и, если не отдать фалы и шкоты, пока корабль держится к ветру, у вас поломаются гафели и порвутся лиселя, особенно если снасти не выбраны втугую.
В то же время на талях мы стали спускать шлюпку; взяв достаточно толстый трос, который мог выдержать ее вес, пропустили конец сверху вниз в полуклюз, прикрепленный к шлюпбалке. Короче, шлюпку спустили на воду.
Все собрались на корме; спасательный буек был в море; чтобы увидеть человека, который все плыл, и плыл, и плыл, стали еще пускать ракеты.
Я ошибся, когда сказал, что человека за бортом могли увидеть; никто, кроме меня, не видел ничего, и, сколько я ни спрашивал: "Видите? Видите?" — другие отвечали мне: "Нет, мы ничего не видим".
Затем, оглядевшись кругом, матросы начали спрашивать:
"Странно, я здесь, и ты здесь, и он, мы все здесь. Кто же видел человека, упавшего за борт?"
И все отвечали:
"Не я… не я… не я…"
"Но в конце концов, кто кричал "Человек за бортом!"?"
"Не я… не я… не я…"
Никто ничего не видел, никто не кричал. За это время пловец или пловчиха добрались до буйка, и я ясно различал человека, ухватившегося за этот буек.
"Ну вот, — сказал я. — Он за него держится".
"За кого?"
"За буек".
"Кто?"
"Человек за бортом".
"Ты что, видишь кого-то на буйке?"
"Ну да, черт возьми!"
"Подумайте, Олифус видит кого-то на буйке, — сказал рулевой. — До сих пор я считал, что зрение у меня хорошее; оказывается, я ошибался, не будем больше об этом говорить".
Шлюпка двигалась к буйку.
"Эй, на шлюпке! — крикнул им рулевой. — Кто там на буйке?"
"Никого нет".
"Послушайте, мне в голову пришла мысль", — сказал рулевой, обернувшись к матросам.
"Какая мысль?"
"Это Олифус кричал "Человек за бортом!"".
"Только этого недоставало!"
"Ну, конечно! Все здесь, и никто не видит человека на буйке; один Олифус утверждает, что кто-то отсутствует, и один Олифус видит кого-то на буйке; наверное, у него есть на то причины".
"Я не говорю, что кого-то из нас нет на судне; я говорю, что кто-то держится за буек".
"Сейчас увидим: шлюпка возвращается".
В самом деле, шлюпка дошла до буйка и принайтовила его к своей корме, так что он двигался за ней.
Я отчетливо видел сидевшего на буйке человека, и чем ближе подходила шлюпка, тем вернее я узнавал его.
"Эй, — крикнул рулевой, — кого вы нам везете?"
"Никого".
"Как никого! — воскликнул я. — Вы что, не видите?"
"Смотрите, что это с ним? У него глаза на лоб вылезли!"
В самом деле, понимаете ли, я окончательно узнал спасенного и сказал себе: "Ну все, со мной покончено!" Сударь, на буйке была Бюшольд, которую я, как мне показалось, похоронил в море, засунув в коробочку из жести.
"Не везите ее сюда! — просил я. — Киньте ее в воду… Разве вы не видите, что это русалка? Не видите, что это морская дева? Не видите, что это сам черт?"
"Ну-ну, — сказал рулевой, — он точно помешался. Свяжите-ка этого парня и позовите лекаря".
В одну минуту меня скрутили и уложили на койку. Вскоре появился лекарь со своим ланцетом.
"Ничего страшного, — сказал он. — Просто мозговая горячка, только и всего. Сейчас сделаю ему хорошенькое кровопускание, и, если через три дня он не умрет, можно надеяться, что он поправится".
Дальше я ничего не помню, кроме боли в руке и вида собственной крови. Я начал терять сознание, но все же успел услышать, как капитан громко спросил:
"Никого, не правда ли?"
И вся команда ответила:
"Никого".
"Ах, разбойник Олифус! Я обещаю, что высажу его на первый же берег, который нам встретится".
В момент этого приятного обещания я лишился чувств.
IX ДОБЫЧА ЖЕМЧУГА
— Капитан сдержал слово: я пришел в себя на суше. Осведомившись, в какой части света нахожусь, в ответ я услышал, что трехмачтовое судно "Ян де Витт" Индийской компании, на котором я служил, проходило мимо Мадагаскара и оставило меня там.
Я пробыл на борту "Яна де Витта" три с половиной месяца; под своей подушкой я обнаружил сто сорок франков, которые как раз и составляли мое жалованье за этот срок.
Как видите, капитан действительно оказался славным малым. Он мог бы вычесть жалованье за один месяц, поскольку в течение месяца я ничего не делал.
За этот месяц, о котором я не помню ничего, судно подошло к острову Святой Елены, затем, обогнув мыс Доброй Надежды, бросило якорь в Таматаве, где меня и высадили на берег.
Поскольку я собирался обосноваться вовсе не в Таматаве, а в Индии, я спросил у хозяина дома, в котором меня оставили, как мне туда добраться. Оказия в Индию — большое событие в Таматаве, и он посоветовал мне перебраться на остров Сент-Мари, где такая возможность у меня появится скорее. Подходящее для меня судно отходило в Пуэнт-Ларре через неделю, и я решил, если раньше случай не представится, отплыть на этом судне.
Только одного я боялся, сударь, только одно обстоятельство могло замедлить мое выздоровление: мою жену могли случайно высадить на берег вместе со мной.
Сами понимаете, первую ночь меня терзал смертельный страх, при малейшем шуме я говорил себе: "Ну, все! Это Бюшольд!" — и лоб мой покрывался холодным потом; конечно, после этого я не сразу успокаивался.
Наконец стало светать. Ничего не произошло. Я вздохнул с облегчением.
И во вторую ночь она не появилась.
И в третью тоже.
Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая ночь… Никого. Я на глазах оживал. И когда мой хозяин спросил меня: "Ну, вы в состоянии отправиться на Сент-Мари?", я ответил: "Уверен, что да" — и через десять минут был готов тронуться в путь.
Мы быстро покончили со счетами: он ничего не захотел с меня взять. Я предпочитал заплатить ему признательностью, а не деньгами и, поскольку первой у меня было гораздо больше, чем второго, не настаивал. Мы обнялись на прощание, и я отплыл в Пуэнт-Ларре.
Я пустился в плавание не без страха: любую рыбу принимал за мою жену. В пути матросы хотели было забросить удочки, но я так умолял не делать этого, что они не решились возражать.
Только сойдя на берег в Пуэнт-Ларре я вполне успокоился: родной стихией Бюшольд было море. Но ни разу больше не встретив ее там, я решил, что она потеряла мой след.
Тем не менее остаток пути я собирался проделать по суше. Моей стихией стала земля: мне казалось, что здесь перевес на моей стороне. Забавно — прежде я считал, что берег нужен только для того, чтобы запасаться пресной водой да еще чтобы вялить рыбу.
Я нанял двух черных проводников, которые в обмен на мой складной нож-вилку согласились отвести меня из Пуэнт-Ларре в Тинтинг. Вы понимаете, я не хотел тратить мои сто сорок франков.
Назавтра мы вышли. Нельзя было назвать это путешествие сухопутным в полном смысле слова; на каждом шагу приходилось перебираться через ручьи и болота, где вода доходила нам до пояса. Время от времени нам встречались островки, изобиловавшие дичью…
— Вы охотник? — обратился Олифус ко мне.
— Да.
— Ну, так вы славно порезвились бы, окажись вы там. Цесарки, горлицы, перепела, зеленые и синие голуби тысячами носились вокруг нас, и мы с помощью простой палки добывали себе княжеское жаркое. В полдень мы остановились в пальмовой рощице; наступил час обеда. Я ощипал подбитых цесарок, негры развели огонь, мы стряхнули с деревьев несколько плодов, каких никогда не пробовал сам король голландский, и принялись за еду.
Единственная вещь, которой нам недоставало, была бутылка доброго бордо или эдинбургского эля. Но я, как настоящий философ, умеющий обходиться без того, чего у меня нет, направился к ручью, чтобы напиться прямо из него.
Увидев это, один из проводников обратился ко мне:
"Вода — он невкусный, моссье".
"Черт возьми, — ответил я. — Я и сам знаю, что он невкусный, я лучше выпил бы вина".
"Он лучше выпить бы вина, моссье?"
"Ну да! Моссье лучше выпить бы вина", — повторил я, начиная терять терпение.
"Хорошо! Я дать ему вина".
"Вина?"
"Да, молодой вина. Идти сюда, моссье".
Я последовал за ним, бормоча себе под нос: "Ну, шутник, если ты меня обманешь, я с тобой поквитаюсь, как только дойдем до Тинтинга".
Видите ли, я сказал "как только дойдем", потому что по пути мои проводники могли сыграть со мной какую-нибудь злую шутку, но уж когда будем на месте…
— Да, да, понимаю, — согласился я.
— Так вот, я пошел за ним; пройдя шагов тридцать, он огляделся.
"Идти сюда, моссье, вот он, бочка".
И показал мне на дерево.
Я снова прошептал:
"Ну, шутник, если ты меня обманешь…"
— Так это дерево, на которое он вам указал, — была равенала! — воскликнул Биар.
Олифус уставился на него широко открытыми от изумления глазами.
— Смотри-ка! Вы это знаете?
— Да, черт возьми!
— Как вы и сказали, это была равенала, которую прозвали "деревом путешественника". Я немало бродил по свету, но никогда прежде не видел такого дерева; поэтому, когда он сорвал с дерева лист, свернув из него подобие стакана и протянул мне со словами: "Держать, моссье, и ни капля не пролить!" — я все еще повторял: "Ах, шутник!"
Сударь, он проколол кору этого дерева моим ножом, и оттуда брызнул сок, вернее, вино или, еще вернее, ликер…
Я снял перед негром шляпу, сударь, словно эта черная обезьяна была человеком.
Вслед за мной оба негра тоже выпили вина.
Потом я снова стал пить. Я пил бы до следующего дня, но они сказали мне, что пора двигаться дальше. Мне хотелось заткнуть дыру в коре, чтобы не пропала драгоценная влага, однако мои проводники объяснили мне, что равенала растет по всему Мадагаскару и встречаются целые заросли этих деревьев.
На минуту мне захотелось остаться на Мадагаскаре, в одном из таких лесов.
Назавтра мы были в Тинтинге. Мои проводники не обманули меня: по всему нашему пути росли равеналы, и я продырявливал их.
В Тинтинге я познакомился с одним богатым сингальцем, торговцем жемчугом. Как раз тогда, в марте, начинался сезон добычи и он приехал нанимать ныряльщиков на Зангебарском берегу и среди подданных короля Радамы: они считаются лучшими искателями жемчуга. Узнав во мне европейца, он предложил мне руководить добычей. Мне это место подходило как нельзя лучше. Я предложил ему испытать меня; он согласился. Две недели спустя мы бросили якорь в Коломбо.
Нельзя было терять времени: сезон уже начался. Едва зайдя в порт, мы снова снялись с якоря и поплыли в Кондачи — средоточие торговли острова. Мой сингалец был одним из основных поставщиков жемчуга: у него оказалась целая флотилия. Мы направились к острову Манар, в окрестностях которого и велась добыча.
Наша флотилия состояла из десяти лодок, по двадцать человек в каждой. Из этих двадцати человек десять составляли команду, остальные десять были ныряльщиками.
Эти лодки были особенной формы, длинные и широкие; у них была только одна мачта с одним парусом, и они сидели в воде всего на восемнадцать дюймов.
На одной из таких лодок я был старшиной.
Я заранее предупредил моего сингальца, что совершенно не разбираюсь в этом промысле, на зато я искусный мореход; он и сам вскоре убедился в том, что другие старшины лодок по сравнению со мной ничего не стоят.
Но через три дня я заметил, что наши ныряльщики, если они достаточно ловки, иногда в один день зарабатывали больше, чем я, их начальник, получал за месяц.
Дело в том, что они получают десятую часть того, что выловят: таким образом, если искателю жемчуга повезет и он наткнется на устричную отмель, он может заработать десять, пятнадцать и даже двадцать тысяч франков за сезон, то есть за два месяца; я же за эти два месяца получу всего-навсего пятьсот франков.
Тогда я принялся изучать способ, который они использовали при ловле: в конце концов, не боги горшки обжигают.
Каждый ныряльщик привязывал к ступням или к поясу камень весом около десяти фунтов, чтобы побыстрее уйти в глубину; затем он бросался в воду, держа в одной руке сетку; другой рукой он старался собрать как можно больше раковин. Когда запас воздуха у него в легких кончался, он дергал за веревку, соединявшую его с лодкой, и его поднимали на поверхность. Каждый член экипажа следил за своей веревкой: ныряльщику не приходилось повторять сигнал дважды. Именно поэтому матросов было столько же, сколько и ныряльщиков.
Добыча шла превосходно, и я жалел только об одном — что не нанялся ныряльщиком (в Монникендаме я дольше других мог пробыть под водой, и вы знаете, как мне это пригодилось, когда я искал дорогу подо льдом озера в Ставерене). Единственным моим оправданием была мысль о том, что под водой я мог встретиться с Бюшольд, а этого я боялся смертельно. Сами понимаете, ничего хорошего из такой встречи выйти не могло: мне было бы при этом уже не до раковин. Я предпочел бы остаться на всю жизнь старшиной лодки и получать двести пятьдесят фунтов в месяц.
Впрочем, была еще одна вещь, которой стоило опасаться: акулы так хорошо знали сроки добычи жемчуга, словно у них был календарь. Просто невероятно, какое количество этих рыб кружит в Манарском заливе в течение сезона. Редкий день проходил без какого-нибудь несчастья. Но, должен признаться, одни акулы не удержали бы меня от того, чтобы стать ныряльщиком: это могла сделать только Бюшольд.
Среди наших ныряльщиков была одна великолепная пара африканцев — отец и сын. Мой сингалец получил этих негров от самого имама Маската. Мальчику было пятнадцать лет, отцу — тридцать пять. Они были самыми ловкими и самыми отважными искателями жемчуга. За десять или двенадцать дней, прошедших с начала сезона, они собрали почти столько же раковин, сколько остальные восемь ныряльщиков. Я подружился с маленьким черномазым и всегда следил за ним, когда он был в воде; вынырнув, он складывал свою добычу у моих ног, чтобы я стерег ее. Мальчика звали Авель.
Однажды он нырнул как обычно. Он, знаете ли, всегда оставался под водой от пятнадцати до двадцати секунд — это огромный срок. Но на этот раз, против обыкновения, он почти сразу дернул веревку. И что бы вы думали?! Человек, который должен был вытащить его, был занят чем-то другим: он считал, что бедняжка-негритенок только что прыгнул в воду. Когда я закричал: "Поднимай его, дурак! Поднимай! Ты же видишь, там что-то случилось! Тащи!" — было, черт возьми, уже поздно. Я увидел на поверхности воды все расширяющееся пятно, а потом в середине этой лужи крови всплыл мальчик: он отчаянно барахтался, и нога была отрезана у него выше колена.
В ту же минуту показался отец. Когда он увидел лицо сына и красную от крови воду, он не заплакал, не закричал, только его лицо из черного стало пепельным. Он поднялся в лодку вместе с несчастным Авелем, положил его на мои колени, взял большой нож, перерезал веревку, которой сам был привязан к лодке и, как раз в ту минуту как акула показалась на поверхности воды, прыгнул в море.
"Смотрите, смотрите! — сказал я остальным. — Я знаю этого человека, сейчас мы увидим нечто удивительное!"
Едва я договорил, как — трах! — акула, спинной плавник которой виднелся над водой, ударила хвостом по воде и тоже нырнула; и вот вода закипает, пенится, ничего не разобрать, а мальчик, с горящими глазами, кричит, позабыв о своей ране: "Смелее, отец, смелее! Убей, убей ее, убей!" — и хочет сам броситься в море со своей бедной, растерзанной ногой. Поверьте мне на слово, никогда вам не увидеть ничего подобного тому, что происходило на наших глазах; это продолжалось четверть часа — целых четверть часа. И за это время отец не больше пяти раз поднимался на поверхность, чтобы глотнуть воздуха и взглянуть на сына, как будто хотел сказать ему: "Ничего, не беспокойся, я отомщу за тебя"; потом он снова нырял, и сразу же море делалось штормовым, словно под водой началась буря. Пятно крови уже расплылось на двадцать шагов; чудовище выскакивало из воды на шесть футов, и мы видели вывалившиеся из его живота внутренности. Наконец море стало успокаиваться. Теперь не человек, а акула всплывала на поверхность. У нее началась агония, она перевернулась, отчаянно забила хвостом, исчезла под водой, снова показалась, еще раз нырнула, а потом мы увидели под водой сверкающие серебряные блестки: это она поднималась брюхом кверху, твердая и неподвижная, как бревно.
Акула была мертва.
Только тогда появился негр. Взяв сына на руки, он сел с ним у основания мачты.
Судовой врач с одного французского корабля, стоявшего в бухте Коломбо, ампутировал бедному Авелю ногу, и хозяин отдал несчастному отцу все раковины, которые тот успел выловить.
Глядя на всплывшую акулу, на ее шестьдесят три раны, из которых две были на сердце, я подумал: если можно драться с акулой и победить ее, значит, можно справиться и с женщиной, даже если это русалка. Мне стало стыдно за свою трусость; а поскольку я увидел, что собранные обоими неграми за десять дней жемчужные раковины оценили более чем в двенадцать тысяч франков, мне мучительно захотелось разбогатеть. В первый же раз, как появился мой сингалец, а это происходило каждые четыре-пять дней, я стал просить его как о милости позволить мне стать простым ныряльщиком.
Это, кажется, его не слишком устраивало.
"Олифус, — сказал он мне по-голландски. — Мне жаль, что вы просите об этом. Вы один из лучших моих старшин; если вы согласитесь остаться, я удвою ваше жалованье".
"Вы очень добры, — ответил я. — Но, видите ли, по происхождению я бретонец, да еще с примесью голландской крови, поэтому, если уж я вбил себе что-нибудь в голову, то сделал это до того прочно, что и сам выбить обратно не могу. Я решил стать искателем жемчуга, так получилось, и так оно и будет и по-другому быть не может".
"Ты хоть умеешь нырять?"
"О, я родился в Дании, стране тюленей".
"Что ж, посмотрим, что ты умеешь".
"Ну, за этим дело не станет!" — воскликнул я.
В одно мгновение я разделся догола, привязал к ступням камень весом в десять фунтов, взял в левую руку сетку, как делали другие ныряльщики, не забыл сунуть за пояс нож с удобной рукояткой, обвязался веревкой, прежде служившей бедному Авелю, сказал себе: "Ну что ж! Если Бюшольд там, мы с ней встретимся!" — и прыгнул в воду.
Там было примерно семь морских саженей. Я быстро опускался на дно. Открыв глаза, я с тревогой огляделся.
Бюшольд не было, зато раковин — хоть лопатой греби.
Наполнив сетку, я дернул за веревку, чтобы меня подняли на поверхность. С первого же раза я пробыл под водой десять секунд.
Высыпав свой улов к ногам хозяина, я спросил:
"Ну, что вы на это скажете?"
"Что ты ловко ныряешь, что ты и в самом деле можешь разбогатеть и что я не вправе помешать тебе в этом".
Мне было немного стыдно оттого, что я так легко добился своего. Я сравнивал свой поступок с поведением хозяина и чувствовал себя не на высоте.
"Все же, — продолжал я, — поскольку вы нанимали меня старшиной лодки, а не ныряльщиком, вы можете брать у меня жемчуга больше, чем у других".
"Нет, — ответил он. — Мы сделаем по-другому, и я надеюсь, все останутся довольны. Ты хороший старшина и хороший ныряльщик: будь для меня старшиной, а для себя — ныряльщиком. Другие получают десятую часть своей добычи, поскольку ты мне служишь, я дам тебе восьмую часть. Другими словами, семь дней ты будешь старшиной, восьмой — ныряльщиком. Само собой разумеется, все, что ты соберешь в этот день, останется у тебя. Согласен?"
"Еще бы!"
"Хорошо. Но, поскольку сезон уже начался, давай считать, что наша сделка заключена неделю назад, и начинай с завтрашнего дня".
Мне оставалось только поблагодарить его: я поцеловал его руку.
Так принято в этой стране.
Я с нетерпением ждал следующего утра.
X НАГИ-НАВА-НАГИНА
— Я не ошибся, — продолжал папаша Олифус, перейдя от тафии к рому. — Лов был превосходный; за шесть дней я набрал жемчужин почти на семь тысяч франков и не видел ни акул, ни Бюшольд.
Сезон закончился; я поблагодарил своего сингальца и предложил ему свои услуги на следующий год. Продав жемчуг, я перебрался в Негомбо, прелестный городок, окруженный лугами и рощами коричных деревьев.
В промежутке между двумя сезонами добычи жемчуга я собрался заняться торговлей корицей, шалями или тканями. Устроить это мне было очень просто: Негомбо было всего в нескольких льё от одного из главных городов острова — Коломбо, большую часть населения которого и сегодня составляют голландцы.
Для начала я купил себе в Негомбо дом. Расходы были небольшие: за триста франков я стал владельцем одного из самых красивых домов в городке. Это была премиленькая хижина из стволов бамбука, связанных между собой волокнами кокосовой пальмы; в ней был всего один этаж и три комнаты, но большего мне и не требовалось. Потратив еще сто пятьдесят франков, я обзавелся лучшей на всем острове обстановкой и домашней утварью: у меня были кровать, четыре циновки, ступка для риса, шесть глиняных мисок и терка для кокосовых орехов.
Я окончательно решил, чем мне заняться: покупать в Коломбо европейские ткани и что-нибудь на них выменивать у бедатов.
Сейчас объясню вам, кто такие бедаты.
Это одно из диких племен, живущих в джунглях; оно независимо, не имеет короля и добывает пропитание охотой. Эти люди не покупают домов, поскольку у них нет ни городов, ни деревень, не строят даже самых простых хижин. На ночь они устраиваются у подножия дерева, окружив себя колючими ветками. Если слон, лев или тигр попытается пройти сквозь эту изгородь, бедаты просыпаются от шума, взбираются на дерево и смеются над этими зверями. Что касается змей, то, если это кобра де капелло, каравилья, тии-полонга и будру-пам или другая ползучая тварь, чей яд убивает человека как муху, бедатам на них наплевать, поскольку у этих дикарей есть заговоры от змеиных укусов; остается бояться только удава, который не ядовит, но может проглотить человека, словно устрицу. Сами понимаете, эти пресмыкающиеся в двадцать пять или тридцать футов длиной встречаются не на каждом шагу. Короче, у бедатов нет жилья и они без него обходятся.
Вот каким способом осуществляется торговля с ними. Когда бедатам понадобятся какие-нибудь промышленные товары, например, железные изделия или ткани, они приближаются к городу или деревне, оставляют в условленном месте воск, мед или слоновую кость и записку на скверном португальском, нацарапанную на листе дерева, сообщая, что им хотелось бы получить взамен, и им это приносят.
Так вот, я вступил в переговоры с бедатами и выменивал у них слоновую кость.
Тем временем у меня завязались знакомства. Чаще всего я посещал одного сингальца, славного малого, торговца корицей и отчаянного игрока в шашки. Десять раз игра разоряла его, и десять раз он снова наживал богатство, чтобы снова проиграть все дотла. Этот человек был на всем острове лучшим знатоком пряностей: стоило ему только увидеть коричное дерево, и он говорил: "Так! Это настоящий куруунду — лучший сорт". Надо вам сказать, что на Цейлоне растут десять видов коричного дерева, и даже самые знающие люди, бывает, ошибаются. Этот цейлонец не ошибался никогда. Как он выбирал дерево? По форме листьев, напоминавших листья апельсинного дерева? По запаху цветка? По виду плода, похожего на желтую оливку? Понятия не имею. Выбрав дерево, он снимал верхний слой коры, расщеплял второй, сворачивал его в трубочки, сушил, заворачивал в ткань из кокосовых волокон и ставил на тюке свое имя: этого было достаточно, никто даже не просил его показать образец товара.
Получив деньги, он не мог удержаться и начинал искать партнера для игры в шашки.
Как вы знаете — может, и не знаете, — сингальцы — страстные игроки. Проиграв все деньги, они ставят на кон мебель; за мебелью идут дома; проиграв дом, они ставят палец, два пальца, три пальца…
— Как палец, два пальца, три пальца? — перебил я Олифуса.
— Очень просто! Проигравший кладет палец на камень, выигравший маленьким топориком очень ловко отсекает соответствующую фалангу, как было условлено. Понимаете ли, нет необходимости играть на целый палец, можно играть на фалангу. Неудачливый игрок окунает палец в кипящее масло, рана зарубцовывается, и можно продолжать игру. У моего соседа Вампуниво на левой руке не хватало трех пальцев, оставались лишь большой и указательный; но я не поручусь, что с тех пор они не последовали за другими.
Сами понимаете, между нами до этого дело не доходило, я слишком бережно отношусь к своей особе: ставил жемчужину или слоновый клык против партии корицы, сегодня проигрывал, завтра выигрывал, ну и все.
Однажды, когда мы сидели за вечерней партией в шашки, на пороге внезапно появилась красивая молодая женщина. Войдя, она бросилась на шею Вампуниво.
Это была его дочь; ей исполнилось шестнадцать лет, и она всего пять раз выходила замуж.
Надо вам сказать, что на Цейлоне можно расстаться после пробного брака; такая проба длится от двух недель до трех месяцев. Так вот, прекрасная Наги-Нава-Нагина (так звали дочь Вампуниво) сделала пять попыток выйти замуж и каждый раз, недовольная очередным выбором, возвращалась в отчий дом.
Я заметил, что им надо поговорить о семейных делах, и тихонько вышел.
Назавтра Вампуниво пришел ко мне. Его дочь два или три раза спрашивала, что это за европеец вчера играл с ним в шашки, и выразила желание со мной познакомиться.
Как я уже сказал, Наги-Нава-Нагина была красавица; я с первого взгляда в нее влюбился, и эта любовь оказалась взаимной. Легкость, с которой на Цейлоне сходятся и расходятся, если брак окажется неудачным, очень соблазняла меня. Через неделю мы решили попытать счастья в семейной жизни: она — в шестой раз, я — во второй.
Свадебные обычаи у сингальцев очень просты, церемония недолгая: семьи обсуждают приданое, астролог назначает день свадьбы, родственники жениха и невесты усаживаются вокруг стола, посреди которого на листьях кокосовой пальмы возвышается пирамида риса, и все присутствующие зачерпывают себе по горсти из этой пирамиды. После того как близкие отношения таким образом засвидетельствованы, невеста подходит к жениху; каждый из них заранее приготовил три или четыре шарика из риса, смешанного с мякотью кокоса. Жених с невестой обмениваются этими шариками и глотают их, словно это пилюли. Потом жених дарит невесте кусок белой ткани, и обряд считается совершенным.
Мы быстро поладили. Я дал тестю четыре слоновьих бивня, он мне — тюк корицы. Астролог выбрал день для нашей свадьбы. В назначенный день мы съели по горсти риса, затем я проглотил два шарика, приготовленные прелестной Наги-Нава-Нагиной, подарил ей кусок белой как снег ткани — и вот мы уже муж и жена.
На Цейлоне принято отводить новобрачных в спальню порознь: жена идет первой, за ней муж. Гости провожают их под звуки цистр, барабанов и тамтамов.
Я как можно лучше устроил брачную комнату. В десять часов девушки пришли за невестой и она направилась к дому, бросив мне на прощание взгляд.
О! Что это был за взгляд!
Я умирал от желания последовать за ней, но должен был ждать, пока девушки отведут ее в постель и разденут.
Я еще полчаса провел с тестем; чтобы скоротать время, он предложил мне партию в шашки.
Я согласился, но мне было не до игры.
Наконец, настал мой черед идти в спальню. Я пустился бежать так, что мои спутники не поспевали за мной. На пороге меня встретили поющие, танцующие, беснующиеся девушки.
Они хотели помешать мне войти. Как бы не так! Меня и батальон солдат, построенный в каре, не остановил бы.
Я поднялся в спальню. Было совсем темно, но я слышал тихое дыхание, подобно легкому бризу, доносившееся из алькова. Я запер дверь, разделся и лег.
По-моему, пять предыдущих мужей Наги-Нава-Нагины были чересчур привередливы; только успел я об этом подумать, как раздался голос, от которого у меня кровь в жилах застыла.
"Ах!" — послышался вздох.
"Что?" — воскликнул я, приподнявшись на локтях.
"Ну да, это я!" — прозвучал тот же голос.
"Как, это вы, Бюшольд?"
"Разумеется".
Как раз в эту минуту, сударь, луна заглянула в окно и ярко осветила нас.
"Друг мой, — продолжала Бюшольд. — Я пришла сказать вам, что вот уже два месяца, как у вас есть сын; я назвала его Иоакимом, потому что разрешилась от бремени в день святого Иоакима".
"Моему сыну два месяца! — закричал я. — Да как же это может быть? Мы всего девять месяцев как женаты".
"Вы же знаете, мой друг, случаются и преждевременные роды; врачи считают детей, родившихся через семь месяцев, вполне жизнеспособными".
"Гм!" — только и сказал я.
"Я выбрала ему в крестные отцы, — продолжала она, — бургомистра ван Клифа, в доме которого, как вам известно, я провела три месяца перед нашей свадьбой".
"А-а!" — сказал я.
"Да, и он обещал воспитать Иоакима".
"Ага!"
"Что вы хотите этим сказать?"
"Ничего! Хорошо, пусть будет Иоаким! Что сделано, то сделано. Но какого черта вы вмешиваетесь в то, что происходит на Цейлоне, раз я не суюсь в то, что делается в Монникендаме?"
"Неблагодарный! — ответила она. — Вот как вы отвечаете на проявления любви! Много ли вы знаете женщин, способных проделать путь в четыре тысячи льё ради того, чтобы провести одну ночь со своим мужем?"
"Ах, так вы здесь всего на одну ночь?" — немного успокоившись, спросил я.
"Увы! Как я могу оставить бедного невинного младенца?"
"Это правда".
"У него никого нет, кроме меня".
"Вы правы".
"И вот как вы встречаете меня, неблагодарный!"
"По-моему, я не так уж плохо встретил вас".
"Да, потому что приняли за другую".
Я поскреб голову. А что стало с той, другой? Это меня несколько беспокоило; но больше всего в ту минуту, признаюсь, меня беспокоила Бюшольд.
Я решил, что лучше всего не заговаривать с ней об ударе подставкой для дров, раз она об этом молчит; что лучше не упоминать о мускатном орехе, раз она сама и намеком не обмолвилась; наконец, раз она обещала уйти на рассвете, ночью я должен быть с ней как можно любезнее.
После того как я принял это решение, мы больше не спорили.
К трем часам ночи я заснул.
Проснувшись, я огляделся и увидел, что остался один.
Только в дверь громко стучали.
Это отец прекрасной Наги-Нава-Нагины со всеми своими родственниками явился поздравить меня с первой брачной ночью.
Вы понимаете, прежде чем открыть дверь, я должен был выяснить, что стало с прекрасной Наги-Нава-Нагиной. Хорошо зная нрав Бюшольд, я не мог быть совершенно спокойным за бедняжку.
Я тихонько позвал, не решаясь крикнуть погромче: "Наги-Нава-Нагина! Прекрасная Наги-Нава-Нагина! Очаровательная Наги-Нава-Нагина!" — и мне показалось, что в ответ раздался вздох.
Этот вздох шел из маленькой комнаты, смежной со спальней.
Открыв дверь, я нашел несчастную Наги-Нава-Нагину лежащей на циновке со связанными руками и ногами и кляпом во рту.
Бросившись к ней, я развязал ее, вынул кляп изо рта и хотел с ней объясниться, но, сами понимаете, я имел дело с бешеной фурией. Она не уразумела, о чем мы беседовали с Бюшольд, потому что мы говорили по-голландски, но все остальное она поняла.
Как я ни старался, успокоить ее все же не смог. Она объявила родным, что шестым мужем недовольна еще больше, чем другими пятью, что европейские мужчины обращаются с женами еще хуже, чем сингальские, и что она хочет покинуть дом, где провела первую брачную ночь на циновке связанная, скрученная, с заткнутым ртом, а ее муж тем временем в соседней комнате… Ну, в общем… это неважно.
Она натравила на меня отца, братьев, племянников, кузенов, правнучатых племянников; у меня не было больше никакой возможности остаться в Негомбо после такого скандала; я решил вернуть ее отцу тюк с корицей, оставив ему в то же время свои четыре слоновых бивня, и поискать счастья на другом конце Индии.
Поэтому я поспешил обратить в деньги все свое имущество, стоившее от десяти до двенадцати тысяч франков, и сел на судно, что направлялось в Гоа, через восемь дней после своей второй свадьбы; как видите, этот второй брак принял довольно странный оборот.
Папаша Олифус вздохнул, доказав тем самым, что прекрасная Наги-Нава-Нагина оставила глубокий след в его памяти; затем он пропустил стаканчик рома и продолжал рассказ.
XI АУТОДАФЕ
— Восемь дней, которые мне пришлось провести в Негомбо после моей женитьбы, были очень беспокойными. У сингальцев, если человек чем-нибудь досадил им, существует особая манера мстить за обиду. В Италии нанимают убийцу, чтобы он зарезал врага; в Испании это делают своими руками; но в том и в другом случае месть имеет свои неудобные стороны. Вы нанимаете убийцу? Он может выдать вас. Вы убиваете сами? Вас могут увидеть. Но Цейлон, страна древней цивилизации, намного опередил нашу бедную Европу.
На Цейлоне человека убивают с помощью несчастного случая.
Чаще всего от врага избавляются следующим образом.
Надо вам сказать, что Цейлон — родина слонов. На Цейлоне слоны встречаются так же часто, как в Голландии — утки. Цейлон поставляет всему миру слоновую кость и всей Индии — слонов.
Вам, конечно, известно, что слоны — чрезвычайно умные животные; на Цейлоне они выполняют все виды работ, в том числе обязанности палача. В этом последнем случае они справляются с делом так хорошо, что могут в точности исполнить приговор. Если преступник приговорен к четвертованию, слон по очереди отрывает у него руки и ноги, а затем убивает его. Приговоренного к смертной казни без предварительных пыток слон подбрасывает хоботом вверх, а потом ловит на бивни. Если же существуют смягчающие обстоятельства, слон точно так же берет осужденного хоботом, но, раскрутив его, как пастух — пращу, запускает в небо. Если несчастный не налетит на дерево, не упадет на камни, то ему иногда удается отделаться сломанной ногой, вывихнутой рукой или свернутой шеей. Я заметил: на Цейлоне редко случается, чтобы слон прошел мимо хромого, однорукого или горбатого, не обнаружив своего знакомства с ним.
Как вы понимаете, у каждого есть свой слон, у каждого слона — свой погонщик. Пригласив погонщика выкурить трубочку опиума, пожевать бетель или выпить стакан водки, ему говорят: "Я дал бы десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят рупий тому, кто принес бы мне известие о смерти такого-то".
Конечно, здесь вы называете имя того человека, которого хотите убрать.
"В самом деле?" — спрашивает погонщик.
"Честное слово!"
"По рукам! Если я услышу о его смерти, я обещаю, что первый сообщу вам об этом".
Через неделю вам рассказывают, что слон ни с того ни с сего, взбесившись, набросился на человека, который ничего ему не сделал, схватил его хоботом и, несмотря на крики погонщика, подбросил так высоко, так ужасно высоко, что несчастный умер прежде, чем упал на землю.
Вечером того же дня погонщик валяется мертвецки пьяный и говорит, что напился с горя.
Назавтра убитого хоронят по местному обычаю: вырвав с корнем дерево, выдалбливают ствол, кладут тело внутрь и засыпают пустые места перцем; в таком виде покойник остается до тех пор, пока не будет получено разрешение сжечь его.
Вот этого я и боялся, и в ту последнюю неделю, что провел в Негомбо, каждый раз, увидев слона, говорил: "Знаю я вас!" — и переходил на другую сторону улицы.
Поэтому я с удовольствием почувствовал под ногами палубу славного небольшого брига, делавшего свои восемь узлов, проходя вдоль Малабарского берега.
Через три недели после моего отъезда из Негомбо я высадился в Гоа.
Судно было португальским, и капитан очень торопился прибыть на место; даже в бурную погоду он поднимал все паруса, а в обычную распускал лиселя. Не удержавшись, я поинтересовался, куда он так спешит. Капитан ответил, что он, как добрый католик, считает полезным для спасения своей души увидеть аутодафе тысяча восемьсот двадцать четвертого года.
Надо вам сказать, что в Гоа аутодафе устраивают лишь один раз в два или три года, и от этого они становятся еще более великолепными.
Сударь, он так старался, этот чертов капитан, что мы, с Божьей помощью, пришли в Гоа за три дня до церемонии.
Благодаря капитану я в тот же день снял себе комнату в одной португальской семье. Сначала я хотел устроиться на полный пансион с общим столом, но капитан, славный человек, посоветовал мне немного подождать и посмотреть, подойдут ли мне португальские обычаи.
В самом деле, в тот же день мои хозяева пригласили меня пообедать вместе с ними. Увидев, что они всё, даже суп, едят из общей миски, я решил впредь питаться отдельно. Вечером я продолжил свои поиски настолько успешно, что нашел себе маленький одноэтажный домик рядом с портом, прекрасно расположенный, с прелестным садиком; мне сдали его всего за две рупии в месяц, что составляет чуть больше пяти франков.
— Послушайте, Биар! — сказал я, обернувшись к приятелю. — Что, если нам отправиться в Гоа?
— Ну что ж! — ответил Биар с видом человека, вполне оценившего сделанное предложение.
— Отправляйтесь, отправляйтесь в Гоа! — вмешался папаша Олифус. — Чудесное место, и жизнь там невероятно дешевая. Там изумительные женщины и всего две опасности: троа и инквизиция.
— А что такое троа? — спросил я.
— Сейчас услышите, — ответил Олифус. — Всему свое время. Когда я снял дом, мне, как и в Негомбо, надо было его обставить. Но и это обошлось недорого. Только все мое небольшое состояние было в золотых монетах, и мне пришлось обратиться к менялам; их весьма прибыльное ремесло заключается в том, чтобы давать путешественникам в обмен на золото и серебро грязные медяки. Мне понадобилось два или три раза в течение одного дня прибегать к их услугам, то есть два или три раза опускать руку в карман. Всякий раз я доставал из кармана монеты в пять и десять флоринов; в результате по городу распустили слух, что приехал набоб: для нищего, разоренного городишка, каким был Гоа, я оказался богачом. В тот же вечер меня посетили две или три благородные дамы или девицы. Прислав ко мне, как здесь принято, слугу за подачкой, сами они ждали в паланкине у двери, не захочу ли с ними познакомиться. Я еще слишком был утомлен путешествием, поэтому ограничился тем, что послал им оставшуюся у меня мелочь; там было две-три рупии, не больше, но этого оказалось достаточно, чтобы меня окончательно сочли богатым торговцем.
На следующий день я осматривал город: очень красивые церкви, особенно церковь Милосердной Богоматери; королевский госпиталь, стоящий над рекой (вначале я принял его за дворец); площадь Святой Екатерины; Прямую улицу и базар, где можно найти все, что душе угодно — мебель, одежду, овощи, любую утварь, рабов и рабынь, в качестве которых нельзя усомниться, поскольку их продают совершенно голыми; статую Лукреции — у нее из раны постоянно течет вода, которой достаточно, чтобы утолить жажду всего населения города; деревья, посаженные святым Франциском Ксаверием (их стволов благодаря этому священному происхождению никогда не касался ни нож для подрезки, ни топор дровосека). После этой прогулки я вернулся глубоко убежденный в том, что лучшее занятие, какое я могу себе выбрать, — торговля фруктами.
Вот как это происходит в Гоа: вы покупаете на базаре по двадцать — двадцать пять экю пятнадцать красивых девушек, нарядно одеваете их: кольца на пальцах, серьги в ушах; ставите каждой на голову корзинку, в корзинку кладете фрукты; с восьми часов утра вы выпускаете девушек на улицу. Молодые богатые люди, любящие фрукты и беседу, зазывают красоток к себе. Некоторым удается опорожнять свою корзинку восемь и даже десять раз в день. Даже если каждая корзинка приносит хозяину не больше рупии, то, поскольку он может и не платить девушкам, — ведь это рабыни, сами понимаете, — дело это достаточно прибыльное.
Вначале меня поразило, что на улицах попадались одни рабы, метисы и индийцы. Правда, время от времени негры проносили паланкины, но так плотно закрытые, что нельзя было рассмотреть сидящего внутри человека, а он сам мог через проделанные окошки свободно видеть все. Я с первого дня стал жаловаться на отсутствие женщин, отчего улицы Гоа казались мне беднее и печальнее; но меня уверили, что послезавтра, на поле Святого Лазаря я увижу первых красавиц города. На вопрос, что это за поле Святого Лазаря, мне ответили: место для устройства аутодафе.
Как мне объяснили, очень трудно, не имея больших связей, заранее оставить за собой место, или же надо заранее отстоять длинную очередь, чтобы получить желаемое. Но, поскольку меня считали очень богатым — об этом я уже говорил, — то мне наперебой предлагали места, не стесняясь спрашивать за них по две-три пагоды. Видя, что я торгуюсь, они понемногу стали сбавлять цену, и в конце концов за две рупии я получил место прямо под ложей вице-короля.
Торжество должно было состояться в день святого Доминика, покровителя инквизиции; я уверен, что, кроме меня, накануне никто в Гоа не ложился спать. Всю ночь на улицах не прекращались танцы, песни и серенады; ясно было видно, что, как это раз двадцать мне повторяли в течение дня, назавтра должно было произойти нечто чрезвычайно угодное Богу.
У меня было место на трибунах, окружавших поле для аутодафе; оттуда я мог наблюдать зрелище во всех подробностях. Сначала я увидел выходивших из своей тюрьмы осужденных: их было около двухсот.
Подумав, что сожжение такого количества преступников должно занять не меньше недели, я спросил, сколько же времени будет продолжаться праздник. Горожанин — богатый португальский торговец, к которому я обратился, — объяснил мне, грустно качая головой, что суд инквизиции с каждым днем все более ослабляет свое рвение и что среди всей этой толпы язычников и еретиков всего трое приговорены к сожжению; все другие подлежат менее суровому наказанию и отделаются всего лишь пятнадцатью, десятью, пятью или двумя годами тюрьмы; некоторые даже приговорены всего-навсего к публичному покаянию и должны только присутствовать при казни троих несчастных, которых сочли достаточно виновными для того, чтобы сжечь их. Я попросил показать мне этих обреченных. Мой любезный собеседник ответил, что нет ничего проще, чем узнать их, поскольку на их длинных черных одеждах были изображены они сами среди языков пламени на костре, вокруг которого пляшут черти; приговоренные к тюремному заключению носили одежду с изображением языков пламени, спускающихся от пояса к подолу, а не поднимающихся от подола к поясу; те же, что должны только покаяться публично и в качестве наказания присутствовать при сожжении, носили черные с белыми полосами одеяния без всяких поднимающихся или опускающихся языков пламени.
Сначала всех осужденных отвели из тюрьмы в иезуитскую церковь и там призывали раскаяться в грехах, а потом прочли каждому его приговор; впрочем, по надетому на него платью каждый знал уже, что его ожидает. Затем, после мессы и оглашения приговоров, процессия двинулась к полю Святого Лазаря.
Торговец пряностями не обманул меня, и на этот раз пожаловаться я не мог: все знатные, все богатые, все красивые женщины Гоа были здесь, собранные на пространстве не большем, чем обычный цирк для боя быков. Трибуны были переполнены, и казалось, что они вот-вот обвалятся. В середине поля был сложен костер, над ним возвышался трехсторонний столб. С каждой стороны в столб было вделано железное кольцо, чтобы приковать осужденного, а против каждого кольца был устроен алтарь с распятием, чтобы смертник мог до последней минуты наслаждаться счастьем лицезреть Христа.
Мы, торговец пряностями и я, с большим трудом пробрались к своим местам, но все же в конце концов уселись, и как раз в ту минуту, когда осужденные, выйдя из двери, затянутой черной тканью с вышитыми серебром каплями слез, направились к месту казни.
Едва они показались, со всех сторон послышались религиозные песнопения и женщины принялись перебирать пальцами роскошные четки — у кого янтарные, у кого жемчужные, — бросая направо и налево взгляды из-под приподнятых вуалей. Думаю, меня уже здесь знали как богатого торговца жемчугом, потому что многие взгляды были направлены в мою сторону. Впрочем, поскольку я сидел прямо под ложей вице-короля, я мог принять на свой счет и часть взглядов, обращенных на него.
Церемония началась. Поддерживая под руки троих приговоренных, им помогли подняться на костер. Они шли с трудом; сами понимаете, не слишком приятно, когда тебя собираются сжечь заживо. Наконец, помогая друг другу и пользуясь посторонней помощью, они забрались на площадку; их привязали к кольцам железными цепями, поскольку обычные веревки быстро перегорели бы и тогда осужденные, несомненно, спрыгнули бы на землю и принялись бы метаться, охваченные пламенем, что могло бы вызвать ужасный переполох, а главное — погубило бы грешные души: преступники стали бы думать о бегстве, а не о том, чтобы достойно умереть. Но, благодаря железным цепям, державшим их ноги, середину туловища и шею, не было ни малейших опасений, что кто-нибудь из них сойдет с места.
Только (ведь в самом гениальном изобретении всегда есть слабая сторона) кроме этой опасности была другая: родственники могли подкупить палача, чтобы он посильнее затянул цепь на шее приговоренных и задушил их. Тогда, понимаете ли, зрелище становится не таким захватывающим, раз перед вами сжигают труп вместо живого человека. Но палач в этот раз попался добросовестный, и каждый мог убедиться, что приговоренные оставались в живых: перекрывая гул молитв, они больше десяти минут еще вопили и просили о пощаде.
После окончания церемонии каждый из присутствующих при казни наполнил маленький мешочек пеплом от костра; похоже, этому пеплу приписывали те же свойства, что и веревке повешенного, — приносить счастье в дом.
Когда я, как и другие, заполнял пеплом свой мешочек, то внезапно почувствовал, как в руку мне всовывают записку. Обернувшись, я увидел какую-то старуху; она прижала палец к губам и, сказав только одно слово: "Прочтите!" — удалилась.
С минуту я стоял в недоумении, затем развернул записку и прочел:
"Сегодня вечером, в десять часов, Вас ждут в саду третьего дома, считая от пруда. Дом с зелеными ставнями; у порога две кокосовые пальмы. Вы переберетесь через стену и остановитесь под печальным деревом, куда за Вами придет та самая дуэнья, что передала письмо".
Я повернулся в сторону дуэньи, ожидавшей в стороне. Увидев, что я махнул рукой в знак согласия, она сделала реверанс и исчезла.
XII ДОНЬЯ ИНЕС
— Я приблизительно знал, куда мне предстояло отправиться на свидание. Оглядев окрестности со стены, которой был обнесен старый город, я заметил приятный уголок для прогулок — берег маленького пруда, где у каждого богатого португальца есть окруженный садом загородный дом. Печальное дерево, названное так потому, что его цветы раскрываются лишь по ночам, тоже было известно мне: одно такое дерево я видел в саду снятого мною дома.
В половине десятого я вышел из Гоа; при мне были три или четыре жемчужины, на случай если пришлось бы сделать подарок. Жемчужины были достаточно красивыми, чтобы подарок мой не был отвергнут. Спрятав под одеждой сингальский кинжал, я готов был отважно посмотреть в глаза любой опасности, с какой мог встретиться во время своей ночной вылазки.
Без четверти десять я стоял перед маленьким домиком, легко найденным по описанию. Я обошел его кругом, чтобы выбрать место, где легче всего перелезть через садовую ограду. При виде калитки у меня появилась надежда: может быть, ее оставили открытой, желая избавить меня от необходимости брать стену штурмом. Так оно и было: я толкнул калитку, она подалась, и я очутился в саду.
Там мне совсем уже легко было найти то место, где я должен был ждать. Ориентируясь на восхитительный аромат, минуту спустя я уже скрылся в густой тени, отбрасываемой ветвями печального дерева. Его цветы, раскрывающиеся в десять часов вечера и закрывающиеся перед рассветом, покачивали свои благоухающие чашечки, и время от времени некоторые из множества покрывавших дерево цветков падали, устилая землю лепестками, будто снежными хлопьями, и маня прилечь и понежиться в этой сладко пахнувшей постели. Как вы могли заметить, я не слишком поэтичен по натуре, но тогда я не мог не поддаться очарованию прекрасной ночи; если есть мне о чем пожалеть сейчас, так это о том, что я рассказываю как старый морской волк, а не как поэт, вроде вас, или художник, вроде вашего приятеля.
Мы, Биар и я, поклонились.
— Собственно говоря, вам не за что извиняться, папаша Олифус, — сказал я ему. — Вы рассказываете не хуже господина Бернардена де Сен-Пьера.
— Благодарю вас, — ответил папаша Олифус, — хоть я и не знаю, кто такой господин Бернарден де Сен-Пьер, но догадываюсь, что вы сделали мне комплимент. Так я продолжу.
Я простоял под деревом уже с четверть часа, когда послышалось шуршание ткани и шум шагов, потом показалась робко приближающаяся тень женщины. Я тихонько окликнул эту женщину; мой голос ее ободрил, и она пошла прямо ко мне. Протянув мне конец пояса, другой конец которого держала зажатым в кулаке, она молча направилась впереди меня к дому, указывая путь.
Дом был почти полностью погружен в темноту, лишь в двух или трех окнах сквозь жалюзи пробивался свет. Стены дома были окрашены в красный цвет и совершенно сливались с темным ночным небом. Переступив порог, я оказался в еще более глубокой тьме. Тогда дуэнья (это была она), потянув пояс к себе, нашла мою руку, помогла мне подняться по лестнице, провела по коридору и, распахнув дверь, откуда хлынул яркий свет, втолкнула меня в комнату. Там, на бамбуковой кровати, покрытой великолепным китайским шелком, лежала прелестная женщина совершенной красоты, лет двадцати — двадцати двух.
10-435
К потолку комнаты был подвешен большой веер, колебавшийся, казалось, сам собой, от него в воздухе веяло прохладой; в середине стоял стол, уставленный всевозможными лакомствами.
В те времена я был молод, красив и далеко не робок. Я поклонился даме; она ответила на мой поклон с удовлетворенным видом женщины, которой доставили то, за чем, в конечном счете, она посылала, и я уселся рядом с ней.
На Цейлоне и в Буэнос-Айресе я выучился немного болтать по-испански, а испанский и португальский очень близки между собой. К тому же за языком, состоящим из не всегда понятных слов, следует язык всегда ясных жестов. Женщина показала мне накрытый стол, ожидавший меня в течение часа. Я ответил, что, раз этот ужин уже час ждет меня, не стоит заставлять его томиться, и мы сели за стол. По обычаю испанских и португальских свиданий, стакан был только один. В двух графинах горели, словно рубин и топаз, портвейн и мадера. Попробовав оба напитка, я нашел их превосходными и только собрался приняться за пирожные и прочие сласти, как вошла перепуганная дуэнья и что-то шепнула хозяйке на ухо.
"Что случилось?" — поинтересовался я.
"Ничего, — ответила моя прекрасная сотрапезница. — Это мой муж, который, как я думала, должен был пробыть в Гондапуре еще три или четыре дня, внезапно вернулся. Он всегда так поступает, гадкий метис".
"Ах так! — сказал я. — А что, ваш муж ревнив?"
"Как тигр".
"То есть, увидев меня здесь…"
"…он убил бы вас".
"Хорошо, что предупредили, — заметил я, достав из-под одежды кинжал и кладя его на стол. — Приготовимся встретить его".
"Ой! Что вы делаете?" — воскликнула она.
"Вы же сами видите. Следуя пословице, лучше самому убить черта, чем ждать, пока он нас убьет".
"Не надо никого убивать", — засмеялась она, показав два ряда жемчужин, рядом с которыми те, что лежали в моем кармане, показались бы просто черными.
"Как не надо?"
"Я сама обо всем позабочусь".
"Ну, тогда все в порядке".
"Только выйдите в ту комнату: оттуда можно попасть на балкон, и вы увидите все, что здесь произойдет. Если мой муж направится в вашу сторону (это почти невероятно), идите на балкон и прыгайте вниз… там невысоко, всего двенадцать футов".
"Хорошо!"
"Ступайте! Я сделаю все, чтобы его возвращение не нарушило наших планов".
"Еще лучше!"
"Не беспокойтесь. И идите, я слышу на лестнице его шаги".
Я выскочил в соседнюю комнату. Она тем временем выбросила в открытое окно фарфоровую тарелку и серебряный столовый прибор, которые могли выдать мое присутствие, затем достала спрятанный у нее на груди шитый серебром мешочек, вынула из него маленький флакон с зеленоватой жидкостью и пролила несколько капель на пирожные, составлявшие вершину лежавшей на блюде пирамиды. После этого она встала и направилась к двери, но успела проделать лишь половину пути, когда дверь отворилась.
Тот, кого она назвала гадким метисом, оказался красивым индийцем с кожей цвета флорентийской бронзы и короткой курчавой бородой.
Он был одет в богатый мусульманский костюм, хотя, кажется, был христианином.
— Ах, сударь, — перебил сам себя папаша Олифус. — Не знаю, хорошо ли вы изучили женщин, но, по-моему, чем красивее женщины — все равно, земные или морские, — чем они красивее, тем более лживыми и лицемерными тварями оказываются. Вот и эта красавица улыбалась своему мужу точно так же, как за минуту до того улыбалась мне. Но, несмотря на ее приветливость, он казался озабоченным. Вначале он огляделся, затем принюхался, словно людоед в поисках свежей плоти. Мне показалось, что он смотрит на дверь соседней комнаты. Он сделал шаг вперед — я отступил на два назад. Он коснулся ключа в двери — я с балкона перебрался на дерево с густой листвой. Увидев над своей головой черную тень, я затаил дыхание; тень исчезла. Снова вздохнув полной грудью и осторожно подтянувшись, я выставил голову над перилами балкона: там никого не было.
Тогда меня одолело любопытство; мне захотелось взглянуть, что делается в комнате, которую я только что покинул. Проворно и ловко, как положено моряку, я перебрался на балкон и на цыпочках подошел к двери, оставшейся приоткрытой.
Супруги сидели за столом, жена нежно обнимала мужа, а тот с жадностью поглощал обрызганные зеленой жидкостью пирожные.
Муж сидел ко мне спиной, жена повернулась в профиль. Она заметила мое лицо через приоткрытую дверь и подмигнула мне, как бы желая сказать: "Вот увидите, что сейчас произойдет".
10"
И правда, в ту же минуту, подняв стакан, муж с жаром начал произносить тост. Выпив за здоровье жены, он затянул песню; изображая оркестр с помощью бутылок и тарелок, он стучал по ним ножом. Наконец он встал и принялся плясать танец баядерок, пытаясь задрапироваться салфеткой.
Тогда жена, поднявшись из-за стола, спокойно подошла к двери, из-за которой я украдкой смотрел на это странное зрелище, открыла ее и сказала:
"Входите".
"Входите… входите… Это очень мило, — пробормотал я. — Но…"
"Да идите же! — она потянула меня за руку. — Входите, раз я говорю, что можно!"
Пожав плечами, я последовал за ней.
В самом деле, ее муж, казалось, полностью был поглощен своим танцем и продолжал солировать на все лады, грациозно размахивая салфеткой.
Поскольку незначительные размеры ее не позволяли ему драпироваться так, чтобы его изящные позы, как полагается в этом танце, были полускрыты, он размотал свой тюрбан и стал изображать танец с шалью.
Тем временем его жена провела меня к той кушетке, на которой лежала перед моим приходом. На все мои вопросы она отвечала лишь пожатием плеч.
Видя это, я перестал спрашивать.
Танец мужа продолжался три четверти часа. Казалось, он уже позабавился от души и поэтому, вдоволь наплясавшись, захрапел, гудя, словно органная труба.
Воспользовавшись этим, я попросил объяснить мне, что это за зеленая жидкость, капельки которой на пирожных, как мне показалось, вызвали у ее мужа такую страсть к танцам и пению.
Это оказалась троа.
— Превосходно, милый папаша Олифус, — вмешался я. — Теперь скажите нам, что такое троа. Будучи умелым рассказчиком, вы обещали сделать это, когда настанет время. По-моему, время настало.
— Сударь, троа — это трава, в изобилии растущая в Индии. Из нее либо извлекают сок, когда она еще зеленая, либо измельчают ее семена в порошок, когда они созревают. Затем этот сок или этот порошок подмешивают в пищу человеку, от которого хотят на время избавиться. Тогда этот человек замыкается сам в себе, начинает петь, танцевать, потом засыпает, не замечая, что происходит вокруг. При его пробуждении, поскольку он ничего не помнит, ему рассказывают первую пришедшую в голову чушь, и он всему верит.
Вот что такое троа; как видите, вещь чрезвычайно удобная. Говорят, женщины Гоа всегда носят при себе либо флакончик сока, либо мешочек с порошком.
В пять часов утра моя прекрасная португалка попросила меня помочь ей уложить мужа в постель. Затем, поскольку уже светало, мы расстались, обещав друг другу увидеться вновь.
На минуту у меня мелькнула мысль отправить в Европу груз, состоящий из этого вещества, снабдив его подробным перечислением достоинств товара; но меня уверили, что троа испортится за время плавания, и пришлось отказаться от этого, как я считал, весьма прибыльного предприятия.
Тем временем моя торговля фруктами процветала; десять рабынь доставляли мне в среднем шесть рупий чистой прибыли в день, что составляет от тридцати шести до сорока франков на наши деньги, и для Гоа, где все можно купить за бесценок, является громадным богатством. Мой приятель, торговец пряностями, уже несколько раз заговаривал со мной о возможном союзе с его дочерью, доньей Инес, прелестной юной особой, получившей религиозное воспитание в монастыре Благовещения; я раз или два встречал ее в его доме.
Донья Инес была очень хороша собой и казалась скромницей. Мне надоела моя португалка, понемногу склевавшая все мои жемчужины. К тому же, как видите, я просто создан был для брака, вот только женщины меня от него отвратили. Словом, я поддался на уговоры моего друга-торговца, и донью Инес взяли из монастыря, чтобы мы могли сговориться.
Она была все так же красива и скромна, только глаза у нее были красны.
Я спросил, отчего у нее такие глаза: видно, она немало слез пролила? Мне сказали, что донья Инес еще совсем невинное дитя, и едва ей предложили покинуть монастырь, как она буквально утонула в слезах.
Спросив у нее самой, о чем она плакала, я получил ответ: прелестное создание не имело никакой склонности к браку, для нее было настоящим горем покинуть обитель, где у нее было все, чего она только могла пожелать.
Эта удивительная наивность вызвала у меня улыбку. Я не сомневался, что брак произведет на нее то же действие, что путешествие на путешественника, то есть ее увлечет новизна впечатлений, поэтому ни ее горе, ни вызвавшие его причины нимало меня не занимали.
Стало быть, вопрос о нашей свадьбе был решен между нами, моим другом, торговцем пряностями, и мною. Мы обсудили размер приданого, и три недели спустя, выполнив все необходимые формальности, я с большой пышностью обвенчался с доньей Инес в кафедральном соборе.
Не стану подробно описывать обряд венчания: он был примерно таким же, как во Франции. Донья Инес, казалось, совершенно позабыла свой монастырь и была весела настолько, насколько это допускали приличия. Когда настал момент идти в спальню, она с милой стыдливостью попросила разрешения дать ей всего только четверть часа, чтобы она могла раздеться и лечь в постель.
Конечно, в известных обстоятельствах четверть часа — это долго, но что делать!
Впрочем, чтобы помочь мне скоротать время, был приготовлен маленький ужин; он был такой вкусный и так красиво подан на китайских тарелочках, а мускат из Санлукара так ярко сверкал в своей хрустальной тюрьме, что я, как философ, принялся пить за здоровье моей прекрасной супруги. Никогда мне не доводилось пробовать подобного вина, сударь, а уж я в винах разбираюсь.
Поел я и фруктов. Как вы знаете, я сам торговал фруктами, но никогда не ел таких плодов.
Вино было нектаром, фрукты — амброзией.
И у всего этого был такой возбуждающий привкус, раздражающая аппетит кислота, что я продолжал бы есть и пить всю ночь, если бы уже после первого бокала вина и первого съеденного банана не почувствовал себя таким веселым и довольным, что затянул матросскую песню.
Надо вам сказать, сударь, что я никогда не пою — у меня получается настолько фальшиво, что я сам себе делаюсь противен после первого же звука. И что же! В тот вечер, сударь, мне казалось, что я пою словно соловей, легко и непринужденно, и мой собственный голос так мне нравился, что я не мог усидеть на месте, ноги сами собой подпрыгивали, выделывая фуэте и па-де-зефир; я чувствовал, что отрываюсь от земли, как будто вместо бокала муската проглотил бочонок горючего газа. Короче, искушение сделалось таким сильным, что я стал плясать, отбивая такт ножом по дну тарелки, отчего она звенела словно бубен. Я видел в зеркале свое отражение и очень себе нравился, и чем дольше я на себя смотрел, тем больше мне хотелось это делать. Наконец голос мой ослабел от пения, ноги устали плясать, и я так долго вглядывался в зеркало, что перестал что-либо видеть, кроме розовых и голубых огней. Под конец этого праздника я улегся на большом диване, чувствуя себя самым счастливым человеком на свете.
Не знаю, сколько времени я проспал, но проснулся я от приятного ощущения прохлады в ступнях. Я протянул руки, рядом со мной была моя жена, я подумал, что обязан ей своим прекрасным самочувствием и, право же, был ей благодарен.
"Ах!" — глубоко вздохнув, произнесла она.
Сударь, этот вздох до того напомнил мне тот, который я услышал в Негомбо во время брачной ночи с прекрасной Наги-Нава-Нагиной, что я с головы до пят содрогнулся.
"Что?" — крикнул я.
"Как что, я сказала "ах!", — ответила она.
Сударь, меня в одно мгновение пронизал холод, зубы у меня стучали, и сквозь этот стук я едва мог выговорить: "Бюшольд! Бюшольд!" — и услышал в ответ:
"Да, да, это Бюшольд, которая пришла сообщить, мой милый муженек, что вы стали отцом второго сына, хорошенького, словно амур; завтра ему исполнится шесть месяцев, и я назвала его Фомой в память о том дне, когда расстроила вашу женитьбу на прекрасной Наги-Нава-Нагине. Его восприемником был инженер, который строит плотины, достопочтенный ван Брок; он обещал мне, что станет вторым отцом дорогому мальчику".
"Милая моя женушка, — ответил я. — Согласен, новость в самом деле приятная. Но, раз она могла подождать пять или шесть месяцев, пока я ее узнаю, нельзя ли было повременить еще пять или шесть дней?"
"Да, я понимаю, — сказала Бюшольд. — Я бы не испортила вашу брачную ночь с прекрасной доньей Инес".
"Ну да, так и есть. Все равно придется сказать вам о моей новой женитьбе".
"Неблагодарный!"
"Почему неблагодарный?"
"Да потому, что я спешила именно для того, чтобы помешать тебе оказаться жертвой гнусного обмана".
"Какого гнусного обмана?"
"Конечно, гнусного. Твоя жена попросила у тебя четверть часа, чтобы улечься в постель?"
"Да".
"А ты, пока шли эти пятнадцать минут, выпил бокал санлукарского муската и съел банан?"
"В самом деле, мне кажется, я это помню".
"А что ты еще помнишь?"
"Ничего".
"Ну так вот, мой милый: в это вино был подмешан сок травы троа, а этот банан был посыпан порошком троа".
"Ах, черт побери!"
"Так что, пока вы спали, словно пьяница, и храпели, как кафр…"
"И что?"
"… ваша целомудренная супруга…"
"Что моя целомудренная супруга?…"
"…чрезвычайно набожная особа, которая, пока была в монастыре, каждую неделю исповедовалась одному красивому монаху-францисканцу…"
"Ну-ну! Моя целомудренная супруга…"
"Что же, хотите взглянуть, чем она занималась все то время, когда вы спали?"
"Может быть, она исповедовалась?" — воскликнул я.
"Вот именно; поглядите".
И она подвела меня к отверстию в стене, позволявшему увидеть, что происходило в спальне.
Сударь, то, что я увидел, настолько унизительно для мужа, особенно в первую брачную ночь, что я схватил чудом оказавшуюся под рукой бамбуковую палку, распахнул дверь и набросился со своей палкой на духовника доньи Инес, осыпая его ударами, от которых он бросился вон, вопя не хуже, чем те приговоренные, на чьем сожжении я присутствовал через три дня после своего приезда сюда.
Что до моей юной жены, я попытался упрекнуть ее в безнравственном поведении, но она как нельзя хладнокровнее ответила мне:
"Хорошо, сударь; пожалуйтесь моему отцу, а я буду жаловаться инквизиции".
"И на что же вы пожалуетесь, госпожа развратница?"
"На то, что вы мешаете исполнить мои религиозные обязанности и бьете святого человека, которого все уже три года знают как моего духовника. Уходите, сударь, вы еретик, я не желаю жить с еретиком и возвращаюсь в свою обитель".
После этих слов она вышла гордая, словно королева.
Услышав слово "еретик", я, знаете ли, перепугался: я уже видел себя облаченным в черный балахон с изображением поднимающихся языков пламени; я чувствовал себя привязанным к столбу на поле Святого Лазаря за ноги, за шею и туловище, так что я не стал долго раздумывать, а собрал остатки своих прежних богатств, прибавил к этому две или три тысячи франков, которые скопил, пока торговал фруктами в Гоа, и, вспомнив, что накануне видел в порту судно, которое собиралось идти на Яву, немедленно отправился в порт, бросив на произвол судьбы дом, сад и обстановку.
К счастью, судно, чтобы выйти в море, дожидалось восточного ветра и отлива. Я принес с собой и бриз и отлив. Капитан согласился за десять пагод отвезти меня на Яву, и, едва первые лучи осветили шпили церквей Гоа, я с удовольствием отдался на волю ветра и волн, уносивших меня в открытое море.
Такая предосторожность оказалась далеко не лишней: два года спустя мое изображение сожгли на поле Святого Лазаря.
XIII ВСТАВКА
Я уже говорил читателям, что книга, которую я сейчас пишу, — нечто очень личное; кроме моих воспоминаний, она содержит некоторые повседневные происшествия, которым предстоит стать воспоминаниями в свой черед, и отдаю своему повествованию не только отпущенный мне Господом талант, но и часть своего сердца, своей жизни, своей личности.
Поэтому сегодня хочу поговорить о другом, не о папаше Олифусе; оставив этого достойного искателя приключений качаться на волнах темного и таинственного Индийского океана, мы последуем за отлетевшей душой друга, путешествующей в этот час по куда более темному и таинственному океану вечности.
Я провел вечер в театре, на первом представлении драмы "Шевалье д’Арманталь". Кажется, в сороковой раз я вступил в эту борьбу мысли против материи, один против толпы, в страшную игру, которая навеки излечила меня от увлечения прочими играми, поскольку здесь я рискую не только деньгами, какие поставит лишь самый отчаянный игрок, но и своей репутацией, которую завоевал в течение двадцати лет на широкой равнине словесности, где так много людей подбирают колоски после жатвы и так мало жнут.
И заметьте, что после провала в театре человек падает не с высоты одного произведения, того, которое провалилось только что, но с высоты двух, трех или четырех десятков одержанных побед; таким образом, чем больше было прежде успехов, тем более глубокая пропасть разверзается под его ногами, и, следовательно, он рискует погибнуть навеки.
Что ж! Мне приходилось не только наблюдать за тем, как зал старается столкнуть моих собратьев с вершин славы, но я испытал это на себе самом.
Клянусь вам, для сердца, одетого Богом в тройную броню из стали, достаточно прочную, чтобы оно могло выдержать, это довольно любопытная вещь — борьба между пьесой и публикой, когда пьеса одна бросает вызов восемнадцати сотням зрителей; эта схватка продолжается шесть часов, из которой иногда утомленный атлет выходит победителем, уложив публику на ковер, наступив ей на грудь коленом и не давая ей вздохнуть до тех пор, пока она не запросит пощады и не захочет узнать имя своего неизвестного победителя.
Иногда это, напротив, слишком известное имя, и часто именно этим объясняется ожесточение публики на первых представлениях.
Действительно, публика на премьерах совершенно особая, составляющие ее люди встречаются между собой только в эти дни, и, смешавшись в зале, не соединяются в единое целое; если только есть у вас память на лица и вы храните воспоминание об ощущениях, каждый раз на подобном торжестве вы находите все тех же людей, узнаете весь ансамбль и отдельных зрителей.
Вот из кого состоит публика в зале в день премьеры.
Пятьсот или шестьсот мужчин и женщин, принадлежащих к светскому обществу; часть из них заблаговременно позаботилась о билетах и получила их по обычной цене, другие же спохватились слишком поздно и вынуждены были обратиться к перекупщикам.
Они очень недовольны тем, что заплатили за билет вместо пяти франков пятнадцать, двадцать, тридцать, а иногда даже пятьдесят франков.
Эта часть публики не довольствуется пятифранковым развлечением, а требует, чтобы ее позабавили на все пятьдесят франков.
Среди них выделяются в отдельную группу люди, пришедшие не ради спектакля, но для того, чтобы быть в зале, поскольку там находится г-жа *** или мадемуазель X., а место в ложе мадемуазель X. или г-жи *** занять нельзя; они непременно желают увидеть г-жу *** или мадемуазель X., чтобы незаметно для остальных обменяться с ней условным, незаметным ни для кого, только им двоим ведомым знаком, — стало быть, нельзя было не пойти на этот расход.
Часто этот расход оказывается непомерным, и в наше счастливое время всеобщей бедности он лишает решившегося на него возможности месяц курить акцизные сигары или неделю обедать в английском ресторане.
Вот первая часть публики, состоящая из шестисот человек, среди которых три сотни равнодушных и три сотни недовольных.
Перейдем к другим.
Тридцать или сорок журналистов, друзей или врагов автора или авторов, скорее врагов, чем друзей, поскольку они окажутся весьма остроумными, если пьеса провалится: они подберут обломки и вооружатся ими; в случае же успеха пьесы им придется довольствоваться лишь собственным умом.
Тридцать или сорок драматических авторов, гордость которых уязвлена слишком постоянным успехом двоих из них; они аплодируют, не соединяя ладоней, и шепчут один другому на ухо: "Ужасно! Отвратительно! Все те же приемы, то же построение, та же интрига!" Аплодируют они очень тихо, а шепчут — очень громко.
Тридцать или сорок актеров из других театров, которые пришли увидеть не пьесу, но игру артистов с теми же, что у них самих, амплуа; они почти всегда выбирают редкие минуты, когда публика молчит, чтобы отпускать как нельзя более справедливые замечания об исполнителях, сопровождая их рассказами о том, как сами они тогда-то и там-то с огромным успехом сыграли похожую роль; только у них роль была похуже, чем у того актера, что сейчас на сцене (подразумевается, что для нее требовался куда более яркий талант).
Тридцать или сорок девиц — наполовину лореток, наполовину актрис, которые вечно дебютируют и никогда не получают ангажемента. Эти последние приходят не ради пьесы и не ради актеров, а исключительно ради зрителей. В течение одной или двух картин они блуждают между ложами, партером и балконом; наконец они усаживаются, и немедленно возникает телеграфная связь, основные элементы устройства которой — лорнет, веер и букет. После окончания спектакля выясняется, что эти девицы во всей пьесе заметили лишь платье на героине и ткань, из которой оно сшито. Если ткань была красивой, через три дня вы увидите этих зрительниц на другой премьере в таких же платьях.
Двести или триста буржуа пришли с глубоким убеждением, что современный театр — одна сплошная непристойность; они с трудом согласились привести жен и оставили дома обиженных дочерей; в продолжение пяти или шести картин они ждут обещанных непристойностей и, не найдя их, готовы заявить, что их обманули.
Эти люди из хорошего теста: они впечатлительны и платят автору слезами и смехом. Автор редко может на них пожаловаться.
Наконец, три или четыре сотни простого народа, без предубеждений и предрассудков, они, со своим ломтем хлеба под мышкой и куском колбасы в кармане, с двух часов стояли в очереди за билетами; эти люди говорят просто "Дюма", просто "Маке", просто "Исторический"; они пришли поразвлечься: если им весело — они аплодируют, если скучно — свистят. Это лучшие судьи, самая умная часть публики, потому что их суждения свободны от примесей — ненависти, зависти, тщеславия, корысти и суетности.
Прибавьте сюда еще сто пятьдесят клакёров, которые пришли, кажется, только затем, чтобы дать повод сказать им каждый раз, как они начнут аплодировать:
— Долой клаку!
Вот вам публика на первом представлении; вот ареопаг, перед которым предстает гений в любую эпоху; вот Бриарей с двумя тысячами голов и четырьмя тысячами рук, с которым я в тот вечер сражался в сороковой раз с обычным своим спокойствием, но более печальный.
Я говорю, что был печален более обыкновенного, так как, повторяю, нет ничего более грустного, чем эта борьба, (даже если она увенчивается победой), когда вы должны сразиться с недоброжелательно настроенной частью публики (такое бывает на каждой премьере), сопротивляющейся смеху, сопротивляющейся слезам, готовой наброситься на вас при малейшем проявлении слабости или неуверенности, которые она или заметит, или ей покажется, что заметила.
А потом все расходятся, и вы оказываетесь тем более одиноким, чем больше был успех. Все эти друзья, что уходят, забыв пожать вам руку; эти огни, гаснущие прежде, чем вышел последний зритель; этот занавес, обнажающий пустую и холодную сцену; театр, душа которого отлетела, и остался лишь его труп; слабый свет, сменивший огни; молчание, пришедшее на смену пестрому шуму, — поверьте мне, все это оправдывает самую подлинную грусть, самое глубокое разочарование.
Сколько раз — о Господи, даже в те дни, когда грусть была легкой, а разочарование не достигало глубин сердца, — сколько раз после самых прекрасных, ярких, несомненных моих успехов, после "Генриха III", после "Антони", после "Анжелы", после "Мадемуазель де Бель-Иль", — сколько раз я возвращался один пешком, с тяжелым сердцем, с готовыми пролиться слезами (и какими горькими!), когда половина моих зрителей говорила: "Он очень счастлив сейчас".
Так вот, сегодня вечером, когда я, как уже сказал, вернулся печальнее обыкновенного, я застал у себя сына, который ждал меня, чтобы сообщить:
— Умер наш бедный Джеймс Руссо.
Я молча склонил голову. С некоторых пор такие скорбные слова часто повторяются при мне.
Умерла мадемуазель Марс, умер Жоанни, умер Фредерик Судье, умерла г-жа Дорваль, умер Руссо.
Существует целая эпоха жизни, первые годы ее, позолоченные восходящим солнцем, когда ничто подобное не омрачает нашей радости. Звон похоронного колокола не достигает нашего слуха. Обращающиеся к нам голоса произносят лишь приятные слова: мы слышим лишь ласковый щебет, пока поднимаемся к вершине жизни по склону столь же радостному, сколько бесплоден и печален тот, по которому мы спускаемся вниз.
Приветствую тебя, час задумчивости, когда, поднявшись на вершину, мы останавливаемся, чтобы отдохнуть, и видим одновременно и цветущий склон, по которому только что поднялись, и грустный путь, которым нам предстоит идти; и с первым дуновением зимы до нас доносится могильный холод, когда нам говорят: "Умерла ваша мать", "Умер ваш родственник", "Умер ваш друг".
Тогда проститесь с безоблачными радостями жизни, потому что этот голос уже не покинет вас; сначала прозвучит один раз в году, потом — два, три; вначале вы, словно дерево, с которого первая летняя гроза сорвала лист, скажете себе: "Ну и что? У меня еще столько листьев!"; но грозы следуют одна за другой, они сменяются осенним ветром, затем ударят первые заморозки — а дерево, нагое, с голыми ветвями, лишенный плоти скелет, стоит и ждет, когда раздастся стук топора, который снесет его с лица земли.
Впрочем, разве это не дар Небес — одиночество, постепенно охватывающее нас по мере того, как исчезают все, кто любил нас, все, кого мы любили? Не лучше ли нам, склоняясь к земле, слышать оттуда знакомые и милые голоса? Не утешительно ли, неотвратимо двигаясь к незнакомому миру, быть уверенным в том, что, по крайней мере, найдешь там тех, о ком помнишь, тех, что ушли раньше тебя, вместо того чтобы за тобой последовать?
— Умер наш бедный Джеймс Руссо, — сказал мне мой сын.
Скажем теперь, какие воспоминания связывают меня с тем, о чьей смерти мне только что сообщили.
XIV ДЖЕЙМС РУССО
Мне было восемнадцать лет; у меня не было ни будущего, ни образования, ни денег. Я служил младшим клерком у провинциального нотариуса и ненавидел свое занятие. Я готовился выпросить должность сборщика налогов в каком-нибудь городишке и прозябать в безвестности; но однажды, подходя к городку Кореи, расположенному на расстоянии льё от Виллер-Котре, я заметил в конце тропинки, по которой шел, троих людей; встреча была неминуемой, и мне оставалось пройти всего тридцать или сорок шагов.
Это были молодой человек моих лет, женщина лет двадцати пяти-двадцати шести и пятилетняя девочка.
Молодой человек был совершенно незнаком мне; две другие особы, то есть молодая женщина и маленькая девочка, имели некоторое отношение к самым ранним моим воспоминаниям.
Молодая женщина была баронесса Капель; малышка — Мари Капель, впоследствии ставшая г-жой Лафарж.
Боже мой! Кто бы мог сказать, глядя на эту прелестную молодую женщину и на это смеющееся дитя — одна лишь опережала другую в жизненных горестях, одна была очаровательной, а другая обещала такой стать, — кто бы мог сказать, что мать ожидает преждевременная кончина, а дочь — несчастье хуже смерти?
Горячий луч июньского солнца, проходя сквозь кроны высоких деревьев, бросал на сияющие лица и на белые платья матери и дочери трепещущие тени листьев, колеблемых легким ветерком, какой пробегает по лесу перед наступлением вечера.
Я сказал, что знал эту женщину, и в самом деле, я испытывал к ней самые сердечные дружеские чувства и глубокую признательность.
В три года я остался сиротой, и ее отец был моим опекуном. Кроме моей матери и моей сестры, я нашел вторую мать и трех других сестер в замке Виллер-Эллон. Оглядываясь на прошлое, я посылаю вам, Эрмина и Луиза, самые сердечные приветствия; сестры мои, я двадцать лет вас не видел; говорят, что вы все так же молоды и прекрасны; а я хочу сказать вам, что в глубине моего сердца, так благоговейно хранящего воспоминания, не переставал любить вас.
О, поверьте, я часто о вас думаю. Едва мои глаза, утомленные слепящим солнцем, которым опалена жизнь поэта, переводят, чтобы отдохнуть немного, взгляд на затянутые голубоватой дымкой годы юности, я снова вижу вас такими, какими вы были тогда, благоухающие цветы моего раннего детства: склоненные над водой, словно лилии; выглядывающие из цветников, словно розы; прячущиеся в высокой траве, подобно фиалкам. Увы! Обо мне вы не вспоминаете, ветер унес меня из мира, который был вашим и моим, вы не видите меня и, поскольку вы забыли меня, думаете, что и я вас не помню!
Вот кто была эта юная женщина и эта маленькая девочка, встретившиеся мне в один прекрасный июньский день, около четырех часов пополудни; вот кто шел навстречу мне — бедному мальчику, которого, по общему мнению, ожидало темное и безвестное будущее.
Теперь скажем, кто был молодой человек в костюме немецкого студента, на руку которого опиралась г-жа Капель.
Это был сын человека, чье имя роковым образом вписано в историю монархий, человека, что был другом Анкарстрёма и Хурна, — сын графа де Риббинга; вы все знаете его под именем Адольфа де Лёвена: так позже он подписывал свои имевшие огромный успех пьесы, шедшие в Комической опере и в Водевиле.
Я подошел к троим, которым всем вместе было тогда сорок шесть лет — столько же, сколько одному из них сегодня.
Госпожа Капель представила меня своему спутнику; мы были ровесниками; с этого дня началась наша дружба, неизменная и в мрачные и в радостные дни. Сегодня, когда мы встречаемся, мы приветствуем друг друга той же веселой улыбкой, с тем же сердечным порывом, что и двадцать пять лет тому назад.
Увы! Я вынужден признать, что и в нынешние времена равенства Адольф де Лёвен не только литератор, но литературный аристократ.
Он и его семья были высланы из Парижа; они не должны были ближе чем на двадцать льё подходить к нему: этот город был запретным для их семьи по распоряжению старшей ветви Бурбонов.
Но, как молод он ни был, он успел ступить ногой на землю столицы, успел пригубить из опьяняющей чаши, откуда пьют вначале надежду, затем славу, а напоследок остается лишь горечь. Он успел вкусить лишь надежду.
Он пробовал писать для Жимназ, где знал Перле, превосходного актера, которого знают все те, кому сейчас от тридцати пяти до сорока лет, и красивую девушку, чье имя — Флёрье — распускалось, словно роза (говорят, она умерла от яда).
Все эти имена были совершенно неизвестны мне, бедному провинциалу, покидавшему родной город лишь ради короткой поездки в Париж в 1807 году, о которой у меня сохранилось одно туманное воспоминание: "Поль и Виргиния" в исполнении Мишю и г-жи де Сент-Обен.
Между тем высокие буки в лесу Виллер-Котре, посаженные Франциском I и г-жой д’Этамп, буки, в тени которых отдыхали Генрих IV и Габриель, эти буки, с их темной листвой и долгим шелестом, не были для меня немыми.
Поэтами той эпохи были Демустье, Парни и Легуве.
Все трое проходили под прохладными колеблющимися сводами большого парка, сегодня уже погибшего вместе со многим другим великим; но, когда в детстве я ловил там бабочек или собирал цветы, мне не раз случалось, остановившись, читать стихи, написанные на серебристой коре собственной рукой поэта: общее поклонение берегло их от малейшего повреждения.
Так что первые поэтические строки стали мне известны не из книг: я прочел их на деревьях, где они, казалось, росли сами собой, подобно цветам и плодам.
И не раз, словно одиноко стоящая в углу лира, откликающаяся на голос арфы, чьи струны оживают под пальцами музыканта, — не раз я в ответ издавал свои нестройные, неловкие поэтические младенческие крики.
Когда, сидя рядом в тени одного из этих деревьев, в этой вековой тени, окутавшей нас обоих, нас, чьи отцы родились в разных концах света и кого случай свел для того, чтобы каждый из нас влиял на судьбу другого; когда де Лёвен приподнимал передо мной, кого ожидало смиренное и спокойное существование провинциального чиновника, уголок завесы, скрывавшей от меня столичную жизнь; когда с юной верой, золотым одеянием, которое тускнеет и ветшает с каждым днем зрелости, он говорил мне о борьбе, об известности, о славе; когда передо мной вставали эти аплодирующие зрители, это высокое опьянение успехом, такое мучительное, что высшие радости его близки к пыткам, а смех звучит подобием стона, — я ронял голову в ладони и шептал:
— Да, да, вы правы, де Лёвен, надо ехать в Париж, нет ничего, кроме Парижа.
Прекрасная детская вера в Бога. Чего, собственно, нам недоставало, чтобы отправиться в Париж?
Ему — свободы.
Мне — денег.
Он был изгнанником; я был беден.
Но нам было по девятнадцать лет, а девятнадцать лет — это свобода, это богатство, более того — это надежда.
С тех пор я жил не действительностью, но мечтой, как человек, взглянувший на солнце и продолжающий видеть под опущенными веками сияющее светило. Мои глаза устремлены были на цель, от которой они могли отвернуться на мгновение, но после этого еще упорнее к ней возвращались.
Годом позже изгнание графа де Риббинга закончилось. Адольф прибежал сообщить мне новость: он возвращался в Париж с матерью и отцом.
Теперь изгнанником был я один.
С тех пор у моей бедной матушки не было ни минуты покоя. Именем Парижа сопровождался любой разговор, любая ласка, каждый поцелуй.
Я уже рассказывал в другом месте, как осуществилось это жгучее желание, как я, в свою очередь, прибыл в Париж, как дилижанс высадил меня, с пятьюдесятью тремя франками в кошельке, у дверей маленькой гостиницы на улице Старых Августинцев; и до чего горд и уверен я был тогда, словно обладал чудесной лампой Аладина, спектакль о которой как раз тогда шел в Опере.
Через три месяца моя мать, собрав все что могла — кажется, сто луидоров, — приехала ко мне.
У меня было тысяча двести франков жалованья.
Сто луидоров моей матери и мои тысячу двести франков мы растянули на два года.
Началась борьба за существование.
Столкнувшись с новыми для меня понятиями, я увидел, что не знаю ничего: ни греческого, ни латыни, ни математики, ни иностранных языков, ни даже своего родного; не знаю ничего ни о прошлом, ни о настоящем, ни о мертвых, ни о живых, ни истории, ни географии; моя уверенность в себе рухнула после первого же удара; но Господь оставил мне волю, и из этой воли выросла надежда.
Де Лёвен, мой проводник и в реальном мире, и в мире фантазии, не оставил меня.
Мы принялись за работу. О, в то время наши замыслы были скромными! Речь шла о том, чтобы изготовить водевиль для театра Жимназ. И что же! Каким бы незначительным ни казалось это произведение, после двух часов иссушившей наш мозг работы мы, поглядев друг на друга, вынуждены были признаться самим себе, что мы не в состоянии одни его создать.
Тогда де Лёвен предложил взять в компанию одного из его друзей, сочинителя славных песенок, чье остроумие вошло в поговорку, к тому же знакомого с Дезожье.
Он знал вообще всех парижских директоров, он чудесно читал и умел захватить слушателей.
Я тоже признавал нашу несостоятельность и принял предложение. В тот же вечер мы прочли наше творение будущему соавтору, и я с беспокойством следил за выражением его лица. Читал де Лёвен: я не мог, так был взволнован.
— Хорошо, — сказал он, когда де Лёвен закончил чтение. — Надо попробовать. Может быть, что-нибудь из этого получится.
В самом деле что-то получилось: под более опытным пером нашего соавтора фразы округлились, куплеты стали острее, диалоги заискрились, и через неделю водевиль был готов.
Мы попросили — вернее, наш соавтор попросил — разрешения прочесть водевиль в Жимназ и получили его.
Водевиль был отклонен единодушно.
Мы читали его в Порт-Сен-Мартен — получили шесть черных шаров и два белых.
Прочли в Амбигю-Комик, — оглушительный успех.
Это было тяжелым испытанием, не скажу, что для моей авторской гордости — я не принадлежал к театральной аристократии, — но для моих финансов. Чем дальше, тем больше мы с матушкой оказывались стесненными в средствах. Правда, я получил повышение по службе, и, вместо тысячи двухсот франков в год, у меня теперь было полторы тысячи; но в некоторых делах я оказался более умелым: в то время как мы втроем с трудом состряпали водевиль, я самостоятельно сотворил ребенка. Появление на свет Александра поглощало эту ежемесячную прибавку в двадцать пять франков, которой я обязан был доброте герцога Орлеанского. Конечно, я не пренебрегал и славой, которую должна была мне принести моя треть водевиля, но, должен признаться, мой карман ожидал первых доходов с этой трети с не меньшим нетерпением, чем мое чело — первых поцелуев славы.
Доходы автора от водевиля, исполняемого в Амбигю, — двенадцать франков за представление и еще шесть из вырученных от продажи билетов.
Билеты продавались за полцены, и каждый из нас за вечер получал по пять франков.
В счет этих будущих доходов я получил от Порше, превосходного человека, сделавшего для парижских драматургов гораздо больше, чем г-н Состен де Ларошфуко, или г-н Каве, или г-н Шарль Блан, — я получил от Порше пятьдесят франков в день, когда в доме не на что было купить еды для обеда.
Эта ссуда в пятьдесят франков была первыми деньгами, которые мне удалось заработать своим пером.
Те, что каждый месяц я получал из кассы господина герцога Орлеанского, я зарабатывал своим почерком.
Наконец великий день настал. Наш водевиль имел умеренный успех.
Умеренный успех в Амбигю в 1826 году — представляете ли вы, что это такое? И на мою долю пришлось сто пятьдесят франков!
Пьеса называлась "Охота и любовь".
Что касается нашего соавтора, его имя — Джеймс Руссо.
Какое странное совпадение! Спустя двадцать три года, и тоже в день успеха, мой сын Александр — тогда, в 1826, еще лежавший в колыбели, — ждал меня, чтобы сказать:
— Умер наш бедный Джеймс Руссо.
Бедный Джеймс Руссо, такой добрый, любящий, такой умный, чем была твоя жизнь все эти двадцать три года?
Я расскажу об этом.
Не находите ли вы, что века — и в этом они подобны людям — имеют безумную юность, солидный зрелый возраст и унылую старость? В самом деле, разве не безумной юностью было начало XVIII века с его Регентством, его герцогом Орлеанским, герцогиней Беррийской, г-жой де При, г-ном герцогом, г-жой де Шатору и Ришелье; зрелый, солидный возраст — тот, в котором расцвела слава маршала Саксонского, г-на де Ловендаля, де Шевера, выигравших битвы при Фонтенуа и Року; унылая старость, начавшаяся канадскими войнами, Парижским договором, королевской гангреной, захватившей все королевство, и закончившаяся убийствами в Аббатстве, эшафотами на площади Революции и оргиями времен Директории.
То же самое было с нашим XIX веком. Ватерлоо сделал было его грустным, словно ребенка-сироту, но Реставрация — в сущности, неплохая мать, — вскоре вернула ему беспечность и безумства. К 1816–1826 годам относятся последние вспышки французского веселья, последние песни в духе Каво, эти песенки шансонье, не претендовавших на звание поэтов, — Армана Гуффе, Дезожье, Ружмона, Рошфора, Ромьё и Руссо.
К этому времени относится расцвет Потье, Брюне и Тьерселена. Тьерселен играл "На углу улицы", Брюне — "Жокрисс-хозяин и Жокрисс-слуга", Потье — "Я шучу".
Это в самом деле было время шуток; старое традиционное остроумие судейских писцов понемногу умирало на наших глазах — на глазах нынешних сорокалетних, — слабея с каждым вздохом, как чахнет изнуренный старик.
В то время еще обедали, еще были рестораторы-артисты, всерьез беседовавшие о кулинарии с господами Брийа-Савареном и Гримо де Ла Реньером, как г-н де Конде беседовал с Вателем. Они были шеф-поварами у Камбасереса и д’Эгрефёя; их звали Борель и Бовилье.
Сегодня в ресторанах едят, но не обедают.
А тогда не только обедали, но еще и ужинали, и эта традиция прошлого века понемногу угасала в нашем. Кто может сказать, что утратил французский дух, отказавшись от этого приятного застолья при свечах, в поэтический час, когда отступают все призраки дня — все заботы, тревоги, все дела.
Ромьё, Руссо и Анри Монье к ужину относились серьезно; они были молоды и чаще обладали большим аппетитом, чем толстым кошельком, вели бродячую жизнь не то цыган, не то студентов, им ни к чему были прославленные роскошью кухни имена на вывесках ресторанов. Нет, они довольствовались первым попавшимся кабаком, заказывали паштет, котлету, матлот, запивая их пуи вместо шампанского и божанси вместо шамбертена. Они распевали "Беседку откровений", "Чем больше свихнувшихся, тем веселее", "Хорошо, когда нет ни единого су", а в два часа ночи, разогретые вином, разгоряченные песнями и смехом, выходили на улицу и начинались шутки.
Эти шутки дошли до следующего за нами поколения лишь в виде легенд: существует легенда о фонарике, история двух уродов, предание о привратнике, у которого попросили его волосы; прибавьте к этому кошек, привязанных к звонкам, разбитые фонари, натянутые веревки — почти всегда эти ночные развлечения заканчивались для шутников у комиссара того квартала, в котором они совершали свои подвиги.
Комиссары тогда были людьми понимающими, они и сами в свое время шутили. Часто единственным наказанием за эти постоянные нарушения предписаний городской полиции служил вполне отеческий выговор; у каждого был свой комиссар, к которому он предпочитал быть отведенным.
Руссо выбрал себе комиссара квартала Одеон. Шесть раз на одной неделе, шесть раз с понедельника до субботы, то есть каждую ночь, являлся он к этому славному человеку, которому надоело в конце концов, что один и тот же нарушитель порядка будит его в один и тот же час, и на шестой раз он сделал вид, что сердится.
Руссо выслушал выговор с глубоким смирением и весьма сокрушенным видом. Когда полицейский чиновник закончил, он сказал:
— Вы правы, господин комиссар. Завтра я попрошу отвести меня к кому-нибудь другому. Должны же вы отдохнуть хотя бы в воскресенье.
Эта веселая жизнь продолжалась, пока длилась Реставрация. Хорошее было время для тех, кто обладал остроумием, а у Руссо его было столько (особенно за десертом), что он был знаком всем, хоть и не написал ничего, кроме водевиля "Охота и любовь". Все прелестные статьи, появлявшиеся в "Фигаро", в "Пандоре", в "Розовой газете", гонорарами за которые оплачивались эти обеды и ужины, не были подписаны никем: их сочиняли вместе, как вместе проедали.
Июльская революция взорвалась, словно бомба, посреди стаи певчих птиц: одни ударились в политику, другие занялись делами, иных поглотило искусство.
Ромьё сделался супрефектом, Монье стал актером, Руссо остался один.
Ужины прекратились.
Существует даже двустишие, удостоверяющее, что именно отсутствие Ромьё было причиной прекращения ужинов, поскольку с его возвращением в Париж после четырех лет вынужденного пребывания в провинции эта традиция возродилась.
Вот двустишие, которое подтверждает наши слова:
Пока в Мономотапе был Ромьё,
Париж не ужинал; теперь берет свое.
Ромьё вернулся с репутацией превосходного супрефекта. Рассказывали, правда, как он дал урок детям, которым не удавалось разбить фонарь. Существовало также фаблио о часах и часовщике. Но все это служит доказательством одного положения, до сих пор остававшегося недоказанным: можно быть бесконечно остроумным человеком и при этом стать отличным супрефектом.
Ромьё доказал это так убедительно, что его назначили префектом.
Что касается Руссо, с возрастом он стал несколько рассудительнее, не утратив ни своего бесподобного остроумия, ни прекрасного сердца. Он по-прежнему оставался человеком десерта, песни его были полны огня, с ним было весело пить, но при этом он каждый день работал. Вместе с ужинами прекратились и шалости. Комиссары полиции, сменившиеся после Июльской революции, уже не знали его имени, хорошо известного комиссарам времен Реставрации. Он стал редактором "Судебной хроники". Это он рассказывал в своей превосходной газете, с одному ему присущим вдохновением, все эти истории о бродягах, притонах, кражах, причем под его пером каждый персонаж приобретал свой характер, ухватки, почти лицо.
Кажется, в 1839 году Руссо женился. Как видите, он совершенно остепенился. Более того, он поселился в Нёйи.
С тех пор его некогда беспечная жизнь перестала быть беспечной, ленивое существование рассталось с ленью. Руссо понял, что не имеет права навязывать те лишения, которые он так философски переносил, пока жил один, женщине, связавшей с ним свою жизнь. И все же, несмотря на то что он постоянно работал и ежемесячно получал твердое жалованье, жизнь предъявляла свои требования, и порой Руссо оказывался беднее, чем в прежние времена, когда у него не было денег, но оставалось веселье. Теперь Руссо не распевал "Хорошо, когда нет ни единого су!". В дни безденежья Руссо даже не пользовался омнибусом, он пешком отправлялся в Париж, являлся ко мне и спрашивал:
— Не правда ли, ты все еще хорош с герцогом Орлеанским?
Я знал, что это означает. Утвердительно кивнув головой, я выписывал ему чек в кассу моего дорогого и добрейшего принца на сто, двести или триста франков — сколько было нужно. Асселин выдавал по этому чеку деньги, и Руссо возвращался, чтобы пожать мне руку и сказать:
— Вот увидишь, я и в день своей смерти должен буду обратиться к тебе, чтобы ты меня похоронил.
Бедный Руссо, он не знал, как точно это сбудется!
Принц погиб, и Руссо утратил щедрый и доступный источник средств к существованию.
Но оставались министры.
Когда в Нёйи слишком сильно сказывался недостаток денег, Руссо появлялся у меня.
— В каких ты отношениях с министром народного просвещения? — спрашивал он.
— В хороших, — отвечал я, когда министром был г-н де Сальванди; если же это был г-н Вильмен или г-н Кузен, то я говорил: "В плохих".
И если это был г-н де Сальванди, я давал Руссо записку к г-ну де Сальванди, и тот соблюдал традицию герцога.
В дни г-на Вильмена или г-на Кузена я выдвигал ящик и говорил:
— Бери, друг мой.
И Руссо без колебаний запускал руку в мой ящик, как поступил бы и я, если бы у Руссо был ящик и в нем что-нибудь лежало.
Впрочем, не думайте, что это происходило постоянно: Руссо обращался ко мне раз в год или в два года.
После Февральской революции жалованье Руссо уменьшилось с трехсот франков до ста. Увы! С герцогом и министрами тоже было покончено.
К тому же у него развилась какая-то жестокая грудная болезнь, в которой врачи не могли разобраться. Руссо задыхался, он не мог говорить.
Только тогда мы увидели, сколько преданности и мужества таили в себе его доброе сердце и любящая душа. Руссо, вынужденный останавливаться через каждые пятьдесят шагов, чтобы отдышаться, каждое утро выходил из дома и отправлялся на службу в редакцию своей газеты, притворяясь, будто у него есть десять су на омнибус, чтобы жена не беспокоилась. Но, не имея десяти су, он всю дорогу, туда и обратно, шел пешком.
Это продолжалось больше года. Больше года я не видел его.
Бедный мой друг! Он знал, какое отвращение у меня вызывают те, к кому я должен был бы обратиться сегодня; а у меня самого он просить не решался, боясь, что мне нечего дать ему.
Наконец настал день, когда он не смог дольше ждать.
— Знаком ли ты с министром де ***? — спросил он.
Я не был с ним знаком; но, раз Джеймс обратился ко мне, значит, у него не было выхода и мне ни минуты нельзя было колебаться.
— Я с ним незнаком, — ответил я, — но он, должно быть, меня знает, и я напишу ему.
Я обратился к министру де *** за помощью для Джеймса Руссо, писателя, драматурга и журналиста.
Руссо пообедал со мной, простился и ушел с письмом.
Однажды утром я получил записку от министра де ***. Он просил у меня сведений о г-не Джеймсе Руссо.
Вечером того же дня мой сын ждал меня, как я уже сказал, чтобы сообщить мне горестную весть.
Взяв перо, я написал министру:
"Господин министр,
единственное, что я могу сообщить Вам о господине Джеймсе Руссо, — это то, что он умер сегодня утром, не получив никакой помощи".
Теперь о том, как умер Руссо.
Он пешком пришел в Париж, на улицу Арле, где находится редакция "Судебной хроники". Это было в четверть одиннадцатого. Руссо читал газеты в кабинете. Вдруг он вздохнул, поднялся с места, протянул вперед руки, открыл рот — оттуда хлынула кровь — и пробормотал:
— Апоплексический удар! Мне повезло.
Потом добавил:
— Бедная моя жена!..
И упал вниз лицом.
Он был мертв.
В кармане его жилета нашли пять су — все его состояние.
Вы правы, г-н Л., литераторы с голоду не умирают; у них есть даже больше чем надо, потому что после смерти у них остается пять су в жилетном кармане.
В два часа ночи Александр был в Нёйи. Он принес вдове нашего несчастного друга первое утешение — она не должна была ничем заниматься: мы, его друзья, брали на себя все печальные обязанности, какие налагает смерть любимого существа.
Но, как ни торопился Александр, его все же опередили: сотрудники "Судебной хроники" просили оказать им честь и позволить благоговейно проводить тело их коллеги до его вечного жилища.
Нет, г-н Л., литераторы не умирают с голоду, но их приносят домой на носилках для бедных, потому что за пять су не наймешь фиакра. Нет, литераторы не умирают с голоду; но придите на похороны писателя, и вы увидите, как судебные приставы едва могут дождаться, пока вынесут тело, чтобы начать описывать имущество. Тогда вы могли бы повторить им мои слова:
— Почему же вы не возьмете тело, господа, вам дадут за него семь франков в Медицинской школе?
О, что за несчастное общественное устройство! Живой не находит куска хлеба, мертвый — могилы, а едва вынесут из дома тело мужа, начинают грабить дом вдовы!
Не бойтесь, бедная вдова, вы можете плакать и молиться; когда вы вернетесь в печальное жилище, откуда вас унесли без чувств, вы найдете, — я вам это обещаю, — каждую вещь на том месте, где вы ее оставили.
Будет недоставать только нашего друга; но и его вы найдете — на этом милом кладбище, где мы положили его недалеко от дороги, словно усталого путника, который прилег отдохнуть и ждет.
Дай вам Бог спокойной жизни. Дай ему Бог успокоиться после смерти.
XV САМОСОЖЖЕНИЕ ВДОВЫ
— Человек предполагает, а Бог располагает; эта пословица, самая верная из всех существующих, кажется созданной нарочно для мореплавателей, — продолжал свой рассказ папаша Олифус.
Мы покинули Гоа в самом начале зимы, а кто не видел бурь Малабарского берега, тот не видел ничего.
Одна из таких бурь забросила нас в Каликут, и нам пришлось там задержаться.
У индийских зим есть одна приятная черта: они совсем не холодны, а сопровождаются лишь ветрами, тучами и молниями, поэтому плоды зреют зимой так же хорошо, как и осенью.
Собственно, тому, кто устал от зимы, не надо проделывать долгий путь, чтобы оказаться в другом времени года. Достаточно перебраться через Гаты, тянущиеся с севера на юг. Через два дня вместо Малабарского берега вы окажетесь на Коромандельском берегу и, вместо того чтобы мокнуть под зимними дождями Аравийского моря, станете жариться на солнце у Бенгальского залива.
Словом, я хочу сказать вам: нет ничего прекраснее этих берегов, поросших пальмами и кокосовыми деревьями с их вечнозелеными султанами. Под сильным ветром стволы пальм склоняются словно арки моста. Ничего не знаю прекраснее этих долин и лугов, этих рек и озер, в воды которых смотрятся города, деревни и отдельные дома; и все это тянется от мыса Коморин до Мангалура.
Когда мы оказались на берегу и капитан сказал мне, что мы не сможем выйти в море раньше, чем через три или четыре месяца, я принял следующее решение. Поскольку я чувствовал себя индусом на три четверти, я мог обосноваться в Каликуте и жить тем спокойнее, что Каликут был в руках англичан, то есть протестантов, и мне нечего было опасаться этих чертовых инквизиторов из Гоа. Впрочем, в десяти льё от Каликута находится французская фактория Махе, и я мог обратиться туда.
Первое, что поразило меня в Каликуте, — это длина ушей тех, с кем я встречался. До сих пор я думал, что у меня уши достаточно внушительного размера: этим украшением я обязан постоянной готовности, с которой мои отец и мать хватались за них в дни моей юности; но теперь я понял, что мои уши не достигли и четверти того размера, какого они только могут быть у человека. Дело в том, что едва родившемуся ребенку в Каликуте уши прокалывают, после чего изобретательные родители вставляют в отверстие скрученный в трубочку сухой пальмовый лист. Стремясь развернуться, он постоянно расширяет отверстие — иногда до того, что в него можно просунуть кулак. Можете себе представить, как гордятся ими местные франты, счастливые обладанием такой красоты.
Первой моей заботой, едва я ступил на берег, было нанять себе наира — своего рода телохранителя, который должен был сопровождать меня в городе и за городом, а также помогать мне совершать сделки и покупки.
Мы направились в сторону Каликута, но в дороге были застигнуты таким сильным ураганом, что мне пришлось искать убежища в малабарской пагоде, как раз в той, где за четыреста лет до меня побывал Васко да Гама.
Поскольку внутренность храма была покрыта изображениями, Васко и его спутники приняли пагоду за христианскую церковь, а то, что люди в миткалевой одежде, похожей на монашеские подрясники, посыпали им головы пеплом и полили водой, еще укрепило португальцев в этом заблуждении.
Все же один из них, смущенный странными лицами окружавших его идолов, не желая рисковать спасением своей души, сопроводил свою молитву следующим пояснением: "Даже если я оказался в доме дьявола, молитва моя обращена к Богу".
Я же, будучи немного язычником, не обращался ни к Богу, ни к дьяволу, а просто пережидал дождь.
Я давно слышал об одном существовавшем в Каликуте обычае, очень занимавшем меня, потому что я собирался заняться коммерцией. Встретив должника, кредитор, как мне говорили, может описать круг около него, и должник под страхом смерти не может покинуть этот круг, пока долг, из-за которого он оказался в плену, не будет выплачен. Более того, как меня уверяли, сам король однажды встретился с торговцем, с которым не хотел расплачиваться уже три месяца; тот начертил круг, заключив в него королевского коня, и монарх оставался неподвижным, словно конная статуя, пока из дворца не принесли требуемую для его освобождения сумму.
Это подлинный случай, но он произошел в давние времена, а теперь закон, о котором мы только что говорили, почти вышел из употребления.
Но другой закон оставался в силе, хотя англичане и объявили, что индийские женщины уже не обязаны исполнять его, — закон, предписывающий женам сжигать себя вместе с умершим мужем. Похоже, мне на роду было написано присутствовать на всевозможных аутодафе, какие устраивают на западном берегу Индии: едва я успел обосноваться в Каликуте, как объявили о смерти брамина и о том, что его жена решила сжечь себя; стало быть, я мог сразу же присутствовать при самосожжении вдовы.
Для европейца это достаточно любопытное зрелище, чтобы не пропустить его, особенно для европейца, жена которого, без сомнения, не только не стала бы сжигать себя вместе с умершим мужем, но в день его смерти устроила бы фейерверк.
Я окончательно договорился с наиром, что он на месяц остается со мной.
Это был умный мальчик; он согласился работать за пол-фарона в день, что составляет от пяти до шести су, и обещал, что доставит мне возможность увидеть это зрелище.
Церемония должна была состояться в следующее воскресенье, на равнине в четверти льё от города. Костер был сложен из самых горючих материалов и самых легковоспламеняющихся пород дерева и — не скажу, чтобы возвышался, — заполнял подготовленную яму таким образом, что вход в нее напоминал кратер вулкана.
На костре лежал труп мужа, набальзамированный, чтобы он не слишком испортился в ожидании супруги.
В назначенный час, то есть около десяти часов утра, вдова брамина, босая, с непокрытой головой, в длинном белом одеянии, вышла из супружеского дома и с большой пышностью, под звуки флейт, барабанов и тамтамов, была отведена к костру. У выхода из города ее ждали английский офицер и двенадцать солдат, посланных каликутским губернатором.
Приблизившись к женщине, офицер спросил ее на хинди, который я прекрасно понимаю:
"Вы добровольно идете на смерть?"
"Да, — отвечала она, — добровольно".
"В случае если вас принуждают к этому родственники, я окажу вам помощь: обратитесь ко мне, и я уведу вас именем моего правительства".
"Никто меня не принуждает, я сжигаю себя по доброй воле. Дайте мне пройти".
Я стоял достаточно близко, чтобы слышать разговор, и признаюсь, был восхищен подобной твердостью женщины. Правда, вдова говорила с христианином и, возможно, хотела похвастаться своей религией; правда и то, что, эти чертовы брамины смущали ее, напевая ей прямо в уши свои литании.
Словом, она продолжала решительно двигаться к костру; остановившись на краю начинавшей разгораться ямы, она приняла из рук окружающих ее браминов и выпила какую-то жидкость, которая должна была придать ей сил.
Мой наир сказал мне, что тот, кто сильнее всех подталкивал ее к костру и заставлял ее пить, приходился ей дядей.
Как бы там ни было, брамины расступились, и бедняжка, простившись со всеми и раздав подругам свои украшения, отступила на четыре шага для разбега и, подбадриваемая криками жрецов, под звуки адской музыки, кинулась в огонь.
Но стоило ей там оказаться, как она, видимо, нашла атмосферу немного жаркой; хотя она приняла опиум, а пение жрецов и тамтамы музыкантов не умолкали, вдова с громкими криками выскочила из огня еще поспешнее, чем вошла в него.
Я восхитился предусмотрительностью славных инквизиторов из Гоа, которые ставят посреди костра столб с вделанным в него железным кольцом, чтобы удерживать осужденного.
Надо отдать должное собравшимся: увидев, как вдова уклоняется от исполнения супружеского долга, они завопили от негодования и все как один устремились в погоню за беглянкой, чтобы водворить ее в пламя костра.
Впереди меня стояла прелестная девочка лет десяти-двенадцати, совершенно разъяренная. Она объявляла во всеуслышание, что, когда настанет ее черед сжечь себя, она не станет так ломаться.
"В огонь! Отступница! В огонь! В огонь! В огонь!" — кричала она изо всех сил.
Поскольку все, кроме меня, кричали то же самое, английский офицер и его двенадцать солдат, делавшие все возможное, чтобы прорваться к обреченной, разумеется, были легко отброшены взбешенной толпой. Отступница, как назвала ее милая крошка, была схвачена, ее снова отвели к костру и с размаху швырнули в огонь. Затем сверху навалили как можно больше хвороста, поленьев, прутьев, сухих трав, что не помешало ей, разрушив всю эту горящую постройку, второй раз выскочить из огня, живым факелом пронестись, расталкивая зрителей, к ручейку, бежавшему в пятидесяти шагах от костра, и отчаянно кинуться в воду.
Вы представляете себе этот позор?! Как говорили присутствующие, такого никто еще не видел. Моя маленькая соседка не могла опомниться от изумления: можно ли до такой степени забыть о долге супруги?!
Она едва могла пролепетать: "О, я!.. О, я!.. Если бы я была на ее месте!.."
И она вместе с другими побежала к ручью, в котором пряталась полуобгоревшая преступница. Я последовал за девочкой, поскольку начал испытывать глубокое восхищение ею.
Приблизившись к ручью, мы услышали крики несчастного создания: "Ко мне, господа англичане! На помощь! Сюда!"
Но англичане, которых все время отталкивали, не могли помочь ей. Тогда она заметила своего дядю — того самого, который толкал ее в огонь.
"Дядя, на помощь! — позвала она. — Сжальтесь надо мной! Я уйду из своей семьи, я буду жить как отверженная, стану просить милостыню!"
"Хорошо, пусть будет так! — ласково ответил дядя. — Дай, я заверну тебя в мокрую простыню и отнесу в дом".
Но при этом дядя подмигивал, словно хотел сказать браминам: "Не мешайте мне, как только я заверну ее в простыню, ей не вырваться".
Она, конечно, тоже заметила его подмигивания и все поняла. Вместо того чтобы довериться дяде, она закричала: "Нет! Нет! Не хочу! Уходите! Я сама пойду! Оставьте, оставьте меня!"
Но дядя не собирался сдаваться. Он, несомненно, поручился за племянницу и хотел, чтобы она исполнила обещание.
Он поклялся священными водами Ганга, что отведет ее домой.
Бедная женщина не могла не поверить такой клятве. Она легла на мокрую простыню, и дядя запеленал ее как мумию. Затем, когда она уже не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, он взвалил ее на плечо и воскликнул: "На костер! На костер!"
И побежал к яме, сопровождаемый толпой, повторявшей:
"На костер! На костер!"
Моя маленькая индианка была вне себя от восторга. Когда брамин произнес священную клятву, она готова была заклеймить его именем парии; но, увидев, что клятва была произнесена им лишь с одной целью — обмануть племянницу и он не собирался ее сдержать, она захлопала в ладоши, крича: "О, честный человек! Достойный человек! Святой человек!"
Я не очень понимал, как можно стать честным, достойным и святым человеком, нарушив клятву; но моя маленькая индианка говорила так убежденно, она была так привлекательна и так простодушна, что я в конце концов — о мужская гордость! — признал в душе, что эта несчастная вдова и в самом деле была страшно виновата, позволив себе так колебаться, перед тем как сжечь себя с трупом мужа.
Я присоединил свой голос к воплям толпы, приветствуя этого честного человека, достойного человека, святого человека — дядю, бросившего в огонь свою презренную племянницу; на этот раз ее так хорошо связали, что, как она ни пыталась высвободиться, через пять или шесть минут всю ее охватило пламя.
Моя маленькая индианка была в восхищении. Такая супружеская преданность, заранее заложенная в сердце юного создания, растрогала меня до того, что я спросил, как зовут девочку и кто она.
Ее звали Амару (как видите, очень красивое имя); ее отец принадлежал к касте вайшиев, то есть крупных землевладельцев и торговцев.
Таким образом, отец Амару принадлежал к третьей касте, выше его были лишь раджи и брамины, а сразу за ним следовали шудры.
Его положение в Каликуте соответствовало посту портового синдика.
Этот человек мог быть весьма полезен мне, и, поскольку мой наир его знал, мы условились, что завтра он меня ему представит.
XVI ТУФЛИ БРАМИНА
— В результате визита к отцу прекрасной Амару я решил остаться в Каликуте и заняться торговлей пряностями.
Первым делом мне надо было купить дом. В Каликуте дома еще дешевле, чем в Гоа. Правда, самый прочный дом в Каликуте построен из глины, а самый высокий едва насчитывает восемь футов.
Так что за двенадцать экю я получил в собственность дом, причем прежний хозяин дал мне в придачу трех змей.
Я сказал ему, что змеи мне ни к чему и что я немедленно сверну им шею; но он предостерег меня от подобной неосторожности. Змеи в Каликуте заменяют европейских кошек: они уничтожают крыс и мышей, которые иначе наводнили бы дома.
Став владельцем этих гадов, я попросил показать их мне, чтобы познакомиться с ними.
В самом деле, мы должны были с ними ладить, чтобы они охраняли дом от непрошеных гостей.
Продавец позвал их свистом, и они примчались, как собаки.
Через три дня, благодаря тому, что я щедро угостил их двумя-тремя плошками молока, мы сделались лучшими друзьями.
Иногда я, укладываясь спать или просыпаясь, находил одну из них в своей постели. Признаюсь, в первое время эта бесцеремонность вызывала во мне некоторое отвращение, но понемногу я привык к ней и больше об этом не думал.
Более всего я был склонен к торговле кардамоном — этот род перца у нас продается только в аптеках, но все жители индийских островов очень лакомы до него. За время своего пребывания на Цейлоне я понял, какой это ценный товар, и решил сделать его основным предметом своей коммерции.
Я приехал в сезон дождей — это самое подходящее время расчищать землю под кардамон. Возделывать ее здесь очень легко: за зиму на полях вокруг Каликута вырастает целый лес трав, они служат удобрением для почвы, в которую вы собираетесь что-то посадить или посеять; вы сеете или сажаете, а через четыре месяца собираете урожай.
Арендовав большое поле неподалеку от Каликута, я начал обрабатывать его, но не так, как принято здесь: доверив его двадцати шудрам, которые без хозяйского присмотра всячески увиливают от работы; нет, я сам надзирал за ними и, чтобы все было сделано тщательно, для начала построил четыре хижины по углам своего поля. Это было очень легко и стоило недорого, поскольку на моей земле росло множество кокосовых пальм; как всем известно, для тех мест эти деревья — просто дар Небес: из пальмовой древесины строят дома и покрывают их пальмовыми же листьями, из коры плетут циновки, мякотью орехов питаются, из почек делают вино, из орехов добывают масло, а из сока — сахар.
К тому же я научился гнать из этого вина своего рода водку, при помощи которой мог чего угодно добиться от моих шудров.
Раздача "тари", то есть кокосовой водки, сказалась на моем урожае. Никто в Каликуте еще не видел, чтобы с десяти или двенадцати акров собирали такое количество кардамона. Урожай у меня был не только богатый, но и превосходного качества. Увидев плоды своих трудов, я решил посвятить выращиванию кардамона пять или шесть лет, что поможет мне сколотить состояние, особенно если я сам стану продавать на Цейлоне то, что собрал в Каликуте. Для этого было достаточно просто-напросто нанять небольшое судно и в конце лета, когда соберется достаточно груза, отплыть на Цейлон. Для того чтобы нагрузить корабль, мне довольно будет двух урожаев, а в Каликуте собирают по два урожая в один год.
Все это время я продолжал навещать моего старого друга Нахора и мою юную подругу — прекрасную Амару. Я не забыл, что отец мог быть мне весьма полезен в делах таможни, при оплате пошлины и тому подобных обстоятельствах, и, признаюсь, я глубоко был тронут той сильной приверженностью супружескому долгу, какую продемонстрировала дочь в день сожжения вдовы. К тому же и папаша Нахор был не дурак; он видел, как я расплачивался наличными за все, что купил или арендовал. По моему способу вести дело он видел, что я встал на путь обогащения, поэтому он принимал меня, как человек, которому хочется, чтобы гостю нравился его дом и чтобы он возвращался туда как можно чаще.
Я приходил туда часто и так успешно, что по прошествии восьми или десяти месяцев все было решено между мной и папашей Нахором и для моей женитьбы недоставало лишь согласия прекрасной Амару (но, как мне казалось, я не раз читал его в ее взгляде).
Одно событие, которое могло иметь последствия самые плачевные, привело, напротив, к быстрой развязке; мы все, казалось, стремились к ней, но стыдливость прекрасной Амару мешала объяснению. Как-то я пригласил отца и дочь посетить мои плантации и, собираясь провести в поле весь день, учтиво приготовил в каждой из моих четырех хижин накрытый стол. Прекрасная Амару, которая шла следом за рабыней (та палкой отпугивала ядовитых змей с обеих сторон тропинки), неожиданно громко вскрикнула. Из густой травы выскользнула маленькая зеленая змейка, одна из самых страшных, чей укус всегда смертелен, и вцепилась в край ее шарфа. Я видел, как она пронеслась мимо, слышал крик, и мне удалось так ловко ударить ее веткой, которую я держал в руке, что змейка упала на землю; затем каблуком я размозжил ей голову.
Но Амару, избавившись от смертельной опасности, не почувствовала себя лучше. Казалось, избежав смерти от яда, она вот-вот умрет от страха. Повиснув на моей руке, словно стебель прекрасной речной лилии, она была все еще бледна и по-прежнему дрожала. Я поднял ее и, прижав к груди, отнес в хижину, где нас ждал завтрак. Девочка, которой едва исполнилось двенадцать лет, весила не больше грезы или облачка, и лишь стук ее сердца напоминал мне, что на руках у меня живое существо.
Войдя в хижину и заглянув во все углы, прекрасная Амару немного успокоилась и согласилась съесть несколько зернышек риса; но, когда настало время продолжить путь, ею овладел прежний ужас и она заявила, что больше не сделает ни шагу.
Для меня ничего не могло быть приятнее такого заявления. Я предложил ей воспользоваться тем же средством перемещения, какое доставило ее сюда. Она взглянула на отца, тот подал ей знак согласиться. Я снова поднял Амару на руки, и мы двинулись дальше.
На этот раз она, опасаясь, что мне будет тяжело нести ее, обняла меня рукой за шею, отчего ее лицо приблизилось к моему, ее волосы сплелись с моими, ее дыхание смешалось с моим дыханием; казалось, все это не прочь было сблизиться и перемешаться, и чем сильнее смешивалось, тем больше сближалось. В первой хижине у меня зародилась надежда быть любимым, во второй — я был в этом уверен, в третьей — я выслушал признание Амару, наконец в четвертой — наша свадьба была делом решенным, оставалось только уговориться о сроках.
Здесь выбор принадлежал Нахору.
Нахор был человеком осторожным: он видел урожай на корню, но хотел увидеть его в амбаре, так что он назначил совершение обряда на июль.
Мне это подходило. Именно в это время я собирался отправить мое суденышко, точнее, самому вести его, к Цейлону, и я очень не прочь был оставить здесь кого-нибудь, кто присматривал бы за полевыми работами. Амару так боялась зеленых змеек, что не способна была надзирать за работами, но Нахор доказал мне, что он человек понимающий, и я был уверен, что интересы его единственной дочери, безусловно совпадающие с моими, будут соблюдены как нельзя лучше.
Был уже конец мая, так что ждать мне оставалось недолго.
Нахор и Амару исповедовали индуистскую религию. Было решено, что мы поженимся по обычаю браминов.
Поскольку все было улажено между нами, я искал брамина, который от моего имени попросит руки Амару у Нахора. Таков обычай, и у меня не было причин от него отступить.
Никого из браминов я не знал. Амару предложила мне обратиться к тому мошеннику, который завернул свою племянницу в простыню и после ложной клятвы священными водами Ганга бросил в костер, несмотря на крики и мольбы несчастной. Я ничего против него не имел, разве что находил его не лучшим родственником. Но, поскольку поручение, которое он должен был исполнить, не делало его моим дядей, мне было все равно.
В условленный день он вышел из моего дома и отправился к Амару. Два раза, через различные промежутки времени, он возвращался под предлогом, что встретил в пути дурное предзнаменование. Но в третий раз дурные предзнаменования исчезли, уступив место, напротив, самым благоприятным знакам, и, когда он вернулся ко мне с сообщением, что мое предложение принято, оставалось лишь выбрать день, угодный Брахме.
Я ответил, что для меня все дни хороши, следовательно, назначенный Брахмой день мне подходит. Брамин выбрал пятницу.
Я хотел было возразить, вы же знаете наши предубеждения насчет пятницы; но из самолюбия, раз я уже сказал, что все дни для меня хороши, я не стал спорить и ответил:
— Пусть будет пятница, если только это ближайшая пятница!
Благословенная пятница наступила; церемония должна была состояться в доме Нахора. В пять часов вечера я явился туда. Мы предложили друг другу бетель. Затем разожгли огонь Гоман из веток дерева Рависту. Все тот же злодей-брамин, дядя сожженной вдовы, взял три горсти риса и посыпал им голову Амару. Три другие горсти риса он высыпал на мою голову, после чего Нахор налил воды в большую деревянную миску, вымыл мне ноги и протянул руку дочери. Амару вложила в нее свою руку, Нахор брызнул водой на эту руку, вложил в нее несколько монет и подвел ко мне Амару со словами:
— Больше мне нечего с вами делать. Передаю вас во власть другого человека.
Тогда брамин достал из мешочка символ брака — тали, ленту, к которой подвешено золотое изображение головы. Показав ее собравшимся, он передал мне, чтобы я завязал ее на шее у жены.
Как только я повязал ленту, обряд стал считаться совершенным.
Но, согласно обычаю, свадебные празднества длятся пять дней, и в эти дни муж не имеет никаких прав на жену. В течение первых четырех дней дружки и подружки так хорошо следили за мной, что мне едва удалось поцеловать мизинчик прекрасной Амару. Я старался взглядами объяснить ей, как долго тянется для меня время; она же, со своей стороны, смотрела на меня так, словно хотела сказать: "Да, правда, это долго, но — терпение! терпение!"
И, заручившись этим обещанием, я терпел.
Наконец пятый день занялся, прошел, закончился. С наступлением ночи нас проводили до моего дома. В первой комнате был накрыт стол, и я угостил наших друзей, пока мою жену раздевали и укладывали в постель. Через некоторое время, когда мне показалось, что никто не обращает на меня внимания, я пробрался к двери спальни, охотно предоставив все остальные комнаты моим гостям: мне была нужна лишь та маленькая комнатка, где ждала меня прекрасная Амару.
Но у двери я споткнулся о какой-то предмет; взяв его в руки, я с удивлением обнаружил пару туфель.
Туфли у двери Амару! Что это значит?
На минуту я об этом задумался, но вскоре, отбросив туфли в сторону, счел нужным открыть дверь.
Дверь была заперта.
Я звал самым нежным голосом: "Амару, Амару, Амару" — все еще веря, что она откроет; но, хотя я ясно слышал, что в комнате кто-то есть, и скорее два человека, чем один, мне не отвечали.
Можете вообразить себе мою ярость: если бы не эти чертовы туфли, я еще мог бы сомневаться; но поскольку сомнений не оставалось, я расшумелся вовсю. Вдруг кто-то схватил меня за руку.
Обернувшись, я узнал Нахора.
"Ах, черт возьми! — сказал я ему. — Вы пришли как раз вовремя, сейчас вы поможете мне расправиться с вашей мерзавкой-дочерью".
"Что вы хотите этим сказать?" — спросил Нахор.
"Я хочу сказать, что она закрылась с мужчиной, ни больше ни меньше".
"С мужчиной? — воскликнул Нахор. — В таком случае я отрекаюсь от моей дочери; если это правда, вы вправе посадить ее в тюрьму и даже убить".
"Ну, тем лучше. Я рад, что это мое право, и обещаю вам воспользоваться им".
"Но с чего вы все это взяли?"
"Черт возьми, я сам слышал шум в комнате, и, потом, эти туфли…"
Я ногой подтолкнул к Нахору вещественное доказательство.
Нахор, подобрав сначала одну, потом вторую, внимательно рассмотрел их.
"О счастливый Олифус! — закричал он. — О счастливый муж! О, какая честь для нашей семьи! Зять мой, поблагодарите Вишну и его жену Лакшми, благодарите Шиву и его жену Парвати, Брахму и его жену Сарасвати; возблагодарите Индру и его жену Авити; поклонитесь дереву Кальпа, корове Камадеру и птице Гаруде. Святой человек оказал вам честь, сделав для вас то, что обычно делает лишь для короля этой страны; он избавляет вас от труда, который вам предстоял, и через девять месяцев, если восемь великих богов Индии не отвернутся от вас и от вашей жены, в нашей семье появится брамин".
"Простите! — воскликнул я. — Но я совсем не хочу иметь в своей семье брамина. Я не ленив, и труд, который взял на себя наш святой человек, прекрасно мог исполнить и сам. Я не король, поэтому не смотрю как на честь на то, что жрец запирается с моей женой в мою первую брачную ночь. Я не стану благодарить ни птицу Гаруду, ни корову Камадеру, ни дерево Кальпа, ни Индру, ни Брахму, ни Шиву, ни Вишну, а вместо этого переломлю хребет вашему подлецу-брамину, который сжег свою племянницу, поклявшись священными водами Ганга, что отведет ее домой".
И с этими словами я схватил бамбуковую палку, решив привести в исполнение свою угрозу.
Но на крик Нахора сбежались все гости; увидев их, я бросил палку, убежал и заперся в комнате.
Там я смог дать волю своему гневу. Я бросился на покрытый циновками пол, катался по нему, изо всех сил ругался и проклинал все. Но, катаясь, выкрикивая ругательства и проклятия, я оказался в кольце обнимавших меня рук, и к моим губам прижался в поцелуе чей-то рот.
Я не слишком удивился. Среди моих рабынь, принадлежащих к четвертой касте — шудрам, была одна хорошенькая девочка лет четырнадцати или пятнадцати: мне не раз приходилось обнаруживать ее в своей постели, словно змею, ловившую крыс в моем доме, и, должен сказать, встречал я ее с большей радостью, чем последнюю.
Эта верность ее в несчастье в тот самый вечер, когда я совершенно забыл о бедной девочке, тронула меня.
"Ах, бедняжка Холаохени, — сказал я ей. — Кажется, на мне и моих женах лежит порча. Клянусь никогда больше не жениться и, имея такую красивую любовницу, как ты, довольствоваться этим".
С этими словами я вернул ей полученный от нее поцелуй.
"Ах!" — вздохнула она минут через пять.
"Как! — закричал я. — Это не Холаохени; но кто же? Боже мой, Боже мой, неужели это снова…"
И пот, памятный мне по трем предыдущим случаям, выступил у меня на лбу.
"Да, неблагодарный! Это опять я, снова я; каждый раз, хоть ты и отталкиваешь, оскорбляешь, обманываешь меня, я возвращаюсь к тебе с хорошей новостью".
"Знаю я ваши хорошие новости, — ответил я, высвобождаясь из супружеских объятий. — Вы хотите объявить мне, что я в третий раз стал отцом, не так ли?"
"Да; мальчика, которого я назвала Филиппом в память о том дне, когда пришла сказать вам, что ваша жена вам изменяет. Увы! Сегодня мне незачем говорить, вы сами все видели, бедный мой друг!"
"Все это прекрасно, — нетерпеливо воскликнул я. — Но у меня уже трое сыновей на руках; по-моему, этого вполне достаточно".
"Да, и вам хотелось бы дочку, — подхватила Бюшольд. — Хорошо! Сегодня — двадцатое июля, день святой Маргариты, будем надеяться, что добрая святая поможет исполнить ваше желание".
Я только вздохнул.
"Теперь, мой милый, — продолжала она, — вы сами понимаете, я не могу надолго оставлять семью. Если бы не достопочтенный ван Тигель, амстердамский сенатор, который обещал любить и опекать нашего бедного Филиппа как родного сына и позаботиться в мое отсутствие о нем и его братьях, я не смогла бы прийти к вам даже так ненадолго".
"Так вы уезжаете?"
"Да, но позвольте мне, перед тем как уйти, дать вам совет".
"Дайте".
"Вы злы на этого беднягу-брамина, который, желая оказать вам услугу…"
"Все понятно, дальше".
"Отомстите ему, он это более чем заслужил. Но отомстите ему ловко, как делается в этой стране; не подвергайте себя при этом опасности. Вы должны сохранить себя для жены и детей".
"Ничего не скажешь: совет хорош. Но как отомстить?"
"Ах, Боже мой, вы же знаете, в Писании сказано: "Ищите, и найдете". Ищите — и найдете. У вас стоит корабль с грузом, который здесь оценивается в две-три тысячи рупий, вдвое дороже — на Цейлоне, втрое — на Яве. Идите в Тринкомали или в Батавию — вы все продадите, я в этом уверена. Прощайте, дорогой мой, вернее — до свидания; боюсь, вы заставите меня совершить еще одно или два путешествия в Индийский океан. К счастью, я подобна Магомету, и если гора не идет ко мне, я сама к ней иду. Кстати, не забудьте при первой возможности поставить свечку святой Маргарите".
"Да, не беспокойтесь, — рассеянно ответил я, — постараюсь сберечь себя для вас и для наших детей… И если мне где-нибудь по дороге встретится часовня святой Маргариты… А, нашел!" — воскликнул я.
Казалось, Бюшольд должна была спросить меня, что я нашел, но она уже исчезла.
Я нашел способ отомстить.
Позвав одного из своих рабов, славившегося как искусный заклинатель змей, я пообещал ему десять фаронов, если до завтрашнего утра он принесет мне зеленую змейку.
Полчаса спустя он принес мне в коробке то, о чем я просил. Лучше и представить было нельзя; настоящее изумрудное ожерелье.
Я дал ему двенадцать фаронов вместо десяти, и он отправился восвояси, призывая на меня благословения восьми великих богов Индии.
Оставшись один, я собрал все деньги, камни и жемчуг, какие у меня были. На цыпочках подойдя к двери спальни моей жены, я открыл коробку с гадом как раз над туфлей брамина; увидев приготовленное для нее гнездышко, змея скользнула в него и спокойно свернулась там; я же поспешил сесть на мое судно, стоявшее в порту с грузом кардамона.
Конечно, я бросал дом, стоивший двенадцать экю, и обстановку, которая стоила восемь. Но, право же, по такому великому случаю надо уметь смириться с небольшой потерей.
Команда, которую заранее предупредили, что приказ сняться с якоря будет отдан с минуты на минуту, была готова. Нам осталось только поднять якорь и поставить паруса, что мы и проделали без особого шума.
К рассвету мы уже отошли от берега больше чем на десять льё.
Я больше никогда не слышал об этом мерзавце-брамине, но возможно, что он уже давно — лет двадцать тому — и навеки расстался с привычкой, входя в комнату, оставлять свои туфли за дверью.
— Ей-Богу, похоже, ром нас подвел, — произнес папаша Олифус, уставившись на труп второй своей бутылки. — Пора перейти к араку.
XVII ПЯТАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНИТЬБА ПАПАШИ ОЛИФУСА
Рассказ о первых четырех своих женитьбах папаша Олифус запил бутылкой водки и бутылкой рома. Сами понимаете, обильные возлияния, соединившись с воспоминаниями о прошлом, несколько расстроили связность его речи. Мы с Биаром были уверены, что, если ему предстоит рассказывать о шестой и седьмой женитьбах, нам либо придется отнять у него бутылку арака, либо мы только завтра сможем услышать заключительную часть брачной одиссеи монникендамского Улисса.
К счастью, папаша Олифус успокоил нас на этот счет. Отхлебнув арака и утерев губы тыльной стороной руки, он голосом зазывалы произнес:
— Пятая и последняя женитьба папаши Олифуса!
Затем он своим обычным голосом продолжил рассказ.
— Стало быть, я вышел в море на своем суденышке — нечто вроде люгера, не более того, с командой из шести человек; мы шли наудачу, решив обогнуть мыс Коморин и, если ветер окажется благоприятным, а море — спокойным, оставить Цейлон по левому борту и идти к Суматре и Яве. Мне было безразлично, тот ли остров, этот ли: чем ближе мы подходили к Тихому океану, тем больше я был уверен в том, что смогу продать свой кардамон.
На седьмой день после отплытия показался Цейлон: в свою подзорную трубу я даже смог различить дома порта Галле. Но ветер был свежим, а впереди у нас был еще примерно месяц хорошей погоды.
Я отвернулся от этой чертовой земли, манившей нас к себе, и, взяв курс на Ачем, пустил мою скорлупку по волнам Индийского океана так спокойно, словно это был лучший трехмачтовик Роттердама.
Первые пять дней все шло хорошо — да и после тоже, как вы сейчас увидите, — но на шестую ночь, перед тем как заступить второй вахте, небольшое происшествие едва не отправило нас всех собирать жемчужные раковины на дне Бенгальского залива.
Все предыдущие ночи я сам стоял у штурвала, и все шло как нельзя лучше; но, право же, мы были далеко от берега, на нашем пути не было ни одной скалы, ни одной мели; благодаря низкой мачте и небольшому количеству парусов, мы надеялись укрыться от глаз пиратов, даже самых проницательных; поставив к штурвалу наиболее искусного из моих матросов, я спустился в твиндек, улегся на тюки и заснул.
Не знаю, сколько времени я проспал. Меня разбудил сильный шум, внезапно раздавшийся над моей головой. Мои матросы бежали с кормы на нос и кричали, вернее, вопили, и в этих воплях можно было различить перемешанные с ругательствами молитвы. Единственное, что мне удалось понять из всего этого, — мы подвергаемся какой-то опасности, и опасности серьезной.
Чем сильнее была опасность, тем более она требовала моего присутствия; перестав раздумывать над тем, что бы это могло быть, я помчался к люку и выскочил на палубу.
Море было великолепным, а небо усеяно звездами, кроме одного места, где огромный предмет, почти нависший у нас над головой и готовый упасть на палубу, загораживал собой сияние звезд.
Глаза всех моих матросов были устремлены на эту громаду, все их усилия были направлены на то, чтобы избежать столкновения с ней.
Только что это было?
Ученый стал бы искать ответ на этот вопрос и утонул бы прежде, чем нашел бы его. Я не стал уподобляться ученому.
Схватив штурвал, я положил руль влево до отказа; затем, поскольку поднялся — несомненно, посланный нам добрым боженькой — приятный норд-норд-вест, надувший наш парус, судно рванулось с места, как испуганная овца, и когда громада обрушилась, вместо того чтобы упасть на нас отвесно, что нам угрожало, она лишь задела корму. Теперь мы оказались на гребне волны, вместо того чтобы очутиться под ней.
То, что едва не раздавило нас, оказалось огромной китайской джонкой с круглым, как тыквенная бутылка, днищем; она налетела на нас без предупреждения!
На Цейлоне и в Гоа я выучил несколько китайских слов, может быть не самых вежливых, но наверняка наиболее выразительных. Взяв рупор, я дал залп по адресу подданных великого императора.
Но, к большому нашему удивлению, ответа не последовало.
Только тогда мы заметили, что джонка безжизненно качается на волнах, словно никто ею не управляет; нигде — ни сквозь бортовые люки, ни из штурвальной рубки — не пробивался свет.
Можно было подумать, что это мертвая рыба, труп Левиафана, тем более что ни один парус не был поднят.
Все это было достаточно странно и заслуживало внимания. Мы знали, что китайцы очень беспечны, но не до того же, чтобы так спокойно отправиться в преисподнюю. Я понял, что с судном или командой случилось что-то необычное; до рассвета оставалось подождать всего полтора или два часа, и я стал управлять моим судном так, чтобы плыть вместе с джонкой. Это было нетрудным делом, если учесть, как она болталась: оставалось лишь следить за тем, чтобы не наткнуться на нее.
Оставив один парус, мы были в безопасности.
Понемногу стало светать. По мере того как рассеивалась тьма, мы старались разглядеть хоть какие-то признаки жизни на огромном судне; но ничто там не шелохнулось: либо джонка была пуста, либо вся ее команда спала.
Я подошел так близко, как только смог, и произнес все китайские слова, какие знал. Один из матросов, десять лет проживший в Макао, тоже говорил, звал, кричал — ответа не было.
Тогда мы решили обойти джонку кругом и посмотреть, так ли безжизнен правый ее борт, как левый.
То же безмолвие; но с правого борта свешивался фалреп. Сманеврировав так, чтобы подойти как можно ближе к громадному корпусу, я сумел ухватиться за фалреп и через пять минут был на палубе.
Было совершенно очевидно, что с теми, кто был на джонке, произошло нечто для них неприятное: сломанная мебель, обрывки ткани, повсюду пятна крови — все это указывало на борьбу, и китайцы в этой борьбе, без всякого сомнения, потерпели поражение.
Осматривая палубу, я услышал приглушенные стоны, доносившиеся, как мне показалось, снизу. Я хотел спуститься в твиндек, но люки были задраены.
Оглядевшись, я увидел у кабестана нечто вроде лома, который показался мне самым подходящим орудием для того, что я собирался сделать. В самом деле, использовав его как рычаг, я сумел поднять крышку одного из люков, и в твиндек проник дневной свет.
В то время как пространство между палубами осветилось, жалобы сделались более различимыми. Признаюсь, я спускался несколько неуверенно, но успокоился, дойдя до середины трапа.
На полу лежали двадцать китайцев, спелёнутые, словно мумии, и обвязанные веревками, как колбасы; с большими или меньшими гримасами — в зависимости от темперамента, — они в нетерпении грызли свои кляпы.
Я прежде всего подошел к тому, кто показался мне главным; он был связан более толстой веревкой, и рот ему затыкал самый солидный кляп: по заслугам и почет.
Я развязал его и освободил от кляпа. Это оказался хозяин джонки, капитан Исинг-Фонг. Для начала он искренне поблагодарил меня — во всяком случае, так я это понял, — затем попросил помочь ему развязать его спутников.
Мы справились с этим за десять минут.
Каждый из тех, кого мы развязывали и освобождали от кляпа, немедленно исчезал в трюме. Мне стало любопытно, почему они так торопятся, и я увидел, как один из несчастных вышиб дно у бочонка с водой и пьет прямо из него.
Они три дня провели без воды и пищи, и поскольку от жажды они страдали сильнее, чем от голода, то первой их заботой было утолить жажду.
Двое опились и умерли; третий объелся с тем же результатом.
История этой злополучной джонки, вначале показавшаяся нам необъяснимой, на деле оказалась очень простой.
Ночью на судно напали малабарские пираты, и, после недолгого сопротивления, команда оказалась побежденной.
Следы этого сопротивления мы видели на палубе.
Затем пираты, чтобы их никто не беспокоил во время делового визита, связали и уложили, заткнув им рты, капитана и всех членов команды в твиндеке; после чего, отобрав все, что им захотелось взять, они испортили или утопили часть того, что не смогли унести.
Затем, явно надеясь еще раз навестить джонку, они взяли на гитовы все паруса, которые могли помочь судну сдвинуться с места, и бросили его на произвол судьбы.
В таком состоянии джонка чуть было не свалилась нам на голову.
Можете себе представить радость капитана и команды, когда мы освободили их — вернее, когда я их освободил, — после трехдневных мучений; в самом деле, положение, в котором они оказались, не назовешь приятным. Моим матросам бросили трап, четверо из них поднялись на палубу, двое других принайтовили люгер к корме джонки, где он показался не больше, чем шлюпка, следующая за бригом.
После чего и эти два моих матроса присоединись к нам.
Надо было помочь китайцам прийти в себя. Подданные великого императора не самые храбрые и не самые умелые на свете моряки: они кричали и размахивали руками, но у них ничего не получалось, и всю работу нам пришлось сделать за них.
После того как мы со всем управились, перевязали раненых, бросили за борт покойников и поставили паруса, китайцы решили, что им незачем продолжать путь до Мадраса, раз груз перекочевал на пиратское судно. Капитан Исинг-Фонг собрался повернуть назад. Он хотел взять в Мадрасе груз кардамона, а я как раз вез кардамон; вот только, сами понимаете, пираты первым делом прихватили с собой денежный ящик капитана Исинг-Фонга. Поскольку хозяин джонки не в состоянии был выплатить мне восемь тысяч рупий, в которые оценивался мой груз, мы договорились вместе плыть к Маниле, где у капитана был корреспондент и где он, воспользовавшись кредитом, обеспеченным ему от Малаккского пролива до Корейского, мог завершить нашу сделку. Мне было совершенно все равно, куда плыть, я ничего не имел против Филиппин и принял предложение с условием, что со мной будут советоваться об управлении судном, чтобы нам не встретиться с пиратами.
Капитан Исинг-Фонг немного покапризничал — не то из самолюбия, не то из недоверия, — но, видя, что его джонка, прежде катившаяся словно бочка, теперь рассекает воду не хуже рыбы, сложил руки на животе, закивал головой сверху вниз и два-три раза произнес: "Хи-о, хи-о", что означает "превосходно", и больше ни о чем не беспокоился.
Так что мы без всяких происшествий прошли Малаккский пролив и острова Анамбрас, по-прежнему без приключений обогнув маленький островок Коррехидор, стоявший, словно часовой, у входа в залив, вошли в устье Пасига и, целые и невредимые, глубокой ночью бросили якорь перед таможенными складами.
XVIII БЕЗОАР
— Капитан Исинг-Фонг не обманул меня и в день приезда отвел к своему корреспонденту, богатому сигарному фабриканту, который предложил либо выплатить мне восемь тысяч рупий деньгами, либо дать на эту сумму товары по ценам, по каким он один мог мне их поставить, учитывая размах его торговли и многочисленность сделок.
В самом деле, Филиппинские острова — это мировые склады: там можно найти перуанские золото и серебро, алмазы Голконды, топазы, сапфиры и корицу с Цейлона, перец с Явы, гвоздику и мускатный орех с Молуккских островов, камфару с Борнео, жемчуг с Манара, персидские ковры, росный ладан и слоновую кость из Камбоджи, мускус с Ликейских островов, бенгальские ткани и китайский фарфор.
Я должен был сделать свой выбор, остановившись на тех товарах, которые могли дать мне скорую и верную прибыль.
Собственно, мне незачем было торопиться: я неплохо заработал на моем кардамоне и решил провести некоторое время в Маниле, с тем чтобы разобраться за время своего пребывания на Филиппинах, какая отрасль коммерции может быть наиболее выгодной для человека, начавшего со ста сорока франков и теперь имеющего тридцать тысяч франков наличными, которые можно вложить в дело.
Для начала я посетил два города: испанский (Манилу) и тагальский (Бидондо).
Испанский город состоит из монастырей, церквей, приютов и прочных домов с толстыми высокими стенами, пробитыми где попало бойницами, выстроенных без всякого плана и отделенных друг от друга садами; он населен монахами и монашками, испанцами в плащах, передвигающимися в дурных паланкинах или важно выступающими с сигарой во рту, как кастильцы времен Дон Кихота Ламанчского. В городе свободно могли бы разместиться сто тысяч человек, но живет всего восемь тысяч, отчего он выглядит крайне уныло.
Это было совсем не то, что я искал; осмотрев Манилу, я с презрением покачал головой и решил познакомиться с Бидондо.
Назавтра, выпив свой шоколад, я направился в этот город простолюдинов; по мере моего приближения к нему шум жизни, которого совершенно лишена похожая на склеп Манила, все явственнее доносился до меня. Я вздохнул свободнее; мне показалось, что солнце светит ярче и листва стала зеленее.
Я поспешил пройти через укрепления и подъемные мосты воинственного города и, словно выйдя из подземелья, как только ступил на мост, который называют Каменным, почувствовал себя легко и радостно. Здесь начиналась или, скорее, отсюда широко разливалась жизнь.
Мост был забит испанцами в паланкинах, метисами, бегущими под огромными солнечными зонтами, креолами, гуляющими в сопровождении слуг, крестьянами из соседних деревень, китайскими торговцами и малайскими рабочими; весь этот шум, звон, беспорядок оказались чрезвычайно приятными для человека, который уже чувствовал себя мертвым, после того как он в течение двух дней был заживо погребен в Маниле.
Прощай, мрачный город, прощайте, тоскливые дома, прощайте, благородные сеньоры; приветствую тебя, веселое предместье, здравствуйте, сто сорок тысяч жителей Бидондо, красивые дома и их суетливые обитатели; привет тебе, пристань, где раздается скрежет блоков, где перемещаются тюки с товарами из всех частей света, где причаливают китайские джонки, пироги из Новой Гвинеи, малайские прао, европейские бриги, корветы и трехмачтовики! Здесь нет разрядов и каст: человеку воздают по заслугам, его ценят за то, чем он владеет; здесь достаточно одного взгляда на вас и на вашу одежду, чтобы узнать вас прежде, чем вы заговорите. Малайцы, американцы, китайцы, испанцы, голландцы, мальгаши и индийцы то и дело мелькают в толпе туземцев. Этих тагальских мужчин и женщин, коренных обитателей острова, составлявших его население до завоевания испанцами, можно распознать: мужчин — по их почти нормандскому костюму, по рубахе навыпуск и полотняным штанам, шейному платку, повязанному на манер Колена, фетровой шляпе с опущенными полями, туфлям с пряжками, четкам на шее и шарфу, который они носят вроде как плед; женщин — по высокому испанскому гребню в волосах и прикрепленной к нему вуали; по короткой белой полотняной кофточке, что, распахиваясь на груди, оставляет обнаженным тело от низа груди до пупка; по обвивающим ноги юбкам, обернутым сверху пестрой тканью; по едва заметным туфелькам без задников, в которых нога кажется босой; по сигаре, вечно торчащей во рту, отчего сквозь клубы дыма глаза сверкают еще сильнее.
Именно все это я искал. Прощай Манила и да здравствует Бидондо!
Я вернусь в Манилу только для того, чтобы забрать все мои вещи.
Корреспондент моего китайского капитана приветствовал это решение, находя его разумным; он и сам по воскресеньям приезжал в Бидондо, где у него был дом, отдохнуть от недельных трудов. Он даже предложил мне маленький флигель, примыкавший к его дому и выходивший окнами на набережную. Но я согласился занять его лишь в качестве жильца, и мы договорились, что за тридцать рупий в год — около восьмидесяти франков — он переходит в мое распоряжение со всеми, как говорится в Европе, службами и угодьями.
Через три дня я понял, что основной промысел тагалов — петушиные бои.
Невозможно пройти по набережной в Бидондо из конца в конец и не наткнуться на десять, пятнадцать или двадцать кружков, образовавшихся вокруг двух пернатых бойцов; от исхода боя зависит судьба двух, трех, четырех или даже пяти тагальских семей, потому что кормится за его счет не только семья, имеющая породистого петуха, но и все родные и соседи, которые держат пари за владельца петуха, тоже живут благодаря этой птице: у женщины появляются черепаховые гребни, золотые четки, стеклянные бусы; у мужчины — деньги в кармане и сигара во рту; так что петух в семье — любимое дитя. Тагальская мать, вместо того чтобы заниматься малышами, ухаживает за петухом: наводит глянец на его перья, точит его шпоры. Муж, выходя из дома, никому, даже жене, не может доверить петуха: он берет его с собой, носит под мышкой, приходит с ним на деловые встречи и в гости к друзьям; если на пути его встретится другой владелец петуха, соперники задирают друг друга, затем усаживаются один против другого на корточках, стравливают птиц, зрители заключают пари, и вот уже образовался круг, в центре которого две самые жестокие человеческие страсти — игра и бой. Ах, право, до чего хороша жизнь в Бидондо!
Среди тагалов встречаются и такие, чья деятельность сродни поискам философского камня, — это добытчики безоара; природа, собравшая на Филиппинах все существующие в мире яды, поместила там и универсальное противоядие — безоар.
— Ах, вот как! — перебил я папашу Олифуса. — Раз вы заговорили о безоаре, я не прочь узнать, насколько в это можно верить. Я много раз встречал упоминания о безоаре, особенно в сказках "Тысячи и одной ночи"; я видел самые редкие камни: бледный рубин, необработанный гранат, карбункул; но как ни искал, я никогда не встречал безоар, никто не мог показать мне и самого мелкого его осколка.
— Ну так вот, сударь, — ответил папаша Олифус. — Я видел его, я держал его в руках и даже глотал, и если бы не это, я сейчас не имел бы чести выпить за ваше здоровье стаканчик арака, что я сейчас и сделаю.
И папаша Олифус в самом деле, налив себе стакан арака, залпом осушил его за здоровье Биара и мое.
— Так вот, — продолжал он, — безоар не только существует, но у него еще есть три разновидности, которые находят в коровьих, в козьих и в обезьяньих кишках.
Меньше всего ценится тот, который добывают из коровьего живота. Двадцать зернышек такого безоара дешевле семи, извлеченных из живота козы, а семь зернышек безоара из козьего живота не стоят одного, найденного в животе обезьяны.
Козы, дающие безоар, чаще всего встречаются в королевстве Голконда. Что, это какая-то особая порода? Нет, из двух козлят от одной матери один дает безоар, другой не дает. Пастуху довольно бывает особым образом ощупать живот козы, чтобы определить такого рода плодовитость; они через кожу могут сосчитать количество находящихся внутри камней и безошибочно узнают их ценность. Так что можно покупать безоар на корню.
Один торговец из Гоа проделал в то время, когда я жил на малабарском берегу, любопытный опыт. Он купил в горах Голконды четыре козы, содержащие безоар, перевез их за сто пятьдесят миль от места их рождения, две немедленно зарезал и нашел еще в них безоар, но уменьшившийся в объеме. Еще одну он убил десять дней спустя. Вскрытие показало, что в животном прежде был безоар, но он исчез. Наконец, четвертую он убил через месяц и не нашел и следа исчезнувшего драгоценного камня: он полностью растворился.
Это доказывает, что в горах Голконды растет особенное дерево или трава, которому или которой коровы и козы обязаны своим безоаром.
Еще мы говорили, что одним из занятий тагалов является охота на обезьян, несущих в себе безоар, столь же драгоценный в сравнении с другими сортами безоара, как алмаз в сравнении с рейнской галькой, стразом или горным хрусталем.
Один обезьяний безоар оценивается в тысячу, две тысячи, десять тысяч фунтов; щепотка измельченного безоара, растворенная в стакане воды, может служить противоядием для всех самых страшных филиппинских ядов и даже для яванского упаса.
Просто невероятно, как широко применяют яды от Лусона до Минданао, особенно во время холеры; поскольку у отравления симптомы те же, мужья пользуются эпидемиями, чтобы избавляться от жен, жены — от мужей, племянники — от дядюшек, должники — от кредиторов и так далее и так далее…
В Бидондо очень много китайцев. Они живут в прекрасном квартале на берегах Пасига; свои дома они строят наполовину из камня, наполовину из бамбука; это очень красивые дома, в них много воздуха; часто они украшены изнутри росписями, а в нижних этажах размещаются лавки и магазины. Что за лавки! Что за магазины! Знаете, достаточно пройти мимо, и у вас слюнки потекут; а если вспомнить еще китаянок, этих куколок, что сидят у порога, кивают головками, строят глазки прохожим… И не говорите!
Поскольку я спас жизнь китайского капитана и китайской команды, спас китайскую джонку, меня прекрасно приняли в Бидондо. К тому же корреспондент капитана Исинг-Фонга, тот, у кого я снял флигель, вел торговлю в основном с подданными великого императора.
Первое же воскресенье, когда мой хозяин приехал в Бидондо, было посвящено мне. Он спросил, не охотник ли я. На всякий случай я сказал, что да. Тогда он сообщил мне, что в следующее воскресенье собирается охотиться с друзьями и, если я захочу к ним присоединиться, мне не о чем беспокоиться: я найду в деревне у его друга все необходимое для охоты.
Я с благодарностью принял приглашение.
К месту охоты надо было подняться выше по Пасигу, к красивому внутреннему озеру; оно называлось Лагуна.
В следующую субботу мы выехали из Бидондо в лодке с шестью мощными гребцами; будьте уверены, что иначе мы не смогли бы идти против течения Пасига.
Это была чудесная прогулка. Не только оба берега радовали разнообразием видов, но и пироги, поднимавшиеся и спускавшиеся по течению справа и слева от нас, представляли собой самую очаровательную картину, какую только можно вообразить.
После трех часов пути мы остановились отдохнуть в хорошенькой рыбацкой деревушке; ее жители по вечерам приходили в Бидондо продавать то, что наловили задень. В водах озера отражались колышущиеся под ветром метелки риса, пальмовые и бамбуковые рощи, хижины с островерхими крышами, похожие на подвешенные к небу птичьи клетки.
Мы остановились, чтобы дать отдых гребцам и пообедать самим. Когда мы насытились, а гребцы отдохнули, лодка продолжила путь.
И вот на закате перед нами сверкнуло, словно огромное — тридцать льё в окружности — зеркало, озеро Лагуна.
К семи часам вечера лодка вошла в озеро, и через два часа мы были на месте.
Наш хозяин оказался французом по имени г-н де Ла Жероньер; вот уже пятнадцать лет жил он на берегу озера Лагуна в очаровательном поместье, называвшемся Хала-Хала. Он принял нас с совершенно индийским гостеприимством, но, когда узнал, что перед ним европеец французского происхождения, когда мы обменялись с ним несколькими словами на языке, на котором, если не считать семьи, у него и раз в году не было случая поговорить, — любезный прием превратился в настоящий праздник.
Все шло как нельзя лучше, потому что я не строил из себя идальго или аристократа, не хвастался; я говорил: "Вы оказываете мне большую честь, я только бедный монникендамский матрос, обычный старшина лодки с Цейлона, простой торговец из Гоа; руки у меня грубые, но честные; хотите — принимайте меня таким, не хотите — не надо". И папашу Олифуса принимали за того, кем он и был, — за славного, необидчивого малого.
Вечером я не изменил ни одной из своих привычек: не отказывался ни от бутылки, ни от постели; меня попросили рассказать о моих приключениях, и я имел большой успех; вот только они породили в голове корреспондента моего китайца нелепую мысль женить меня в пятый раз.
Но я заявил ему, что принял мудрое решение не доверять больше женщинам, поскольку прекрасная Наги-Нава-Нагина, прекрасная Инес и прекрасная Амару отвратили меня от своей породы.
"Ба! — ответил мой корреспондент. — Вы еще не видели наших китаянок из Бидондо; когда вы на них взглянете, так не скоро забудете".
В результате я невольно лег с матримониальными планами в голове, и мне снилось, что я женился на китайской вдове с такой маленькой, ну до того маленькой ножкой, что просто невозможно было поверить, что она принадлежала вдове.
XIX ОХОТА
— В пять часов утра меня разбудили лай собак и звуки рога. Мне показалось, что я еще в Гааге и король Вильгельм охотится в парке Лоо.
Но нет: я был в четырех тысячах льё — или около того — от Голландии, на берегу озера Лагуна, и нам предстояло охотиться в филиппинских горах.
Мы собирались преследовать оленя, кабана и буйвола, а нас, возможно, подстерегали тигр, крокодил и ибитин.
Насчет тигров меня предупредили: если я подниму одного павлина или целую стаю, я должен опасаться тигра, который наверняка где-то поблизости.
Что до крокодила, то, каждый раз, приближаясь к озеру, я должен внимательно присматриваться к валяющимся на берегу бревнам. Почти всегда они оказываются крокодилами; сон у них чуткий, и когда вы пойдете мимо, они цапнут вас за руку, ногу или пониже спины.
Ибитин — это другое дело. Это змея футов тридцать длиной, дальняя родственница боа; она обвивает дерево, словно большая лиана, висит неподвижно, а потом, когда вы меньше всего этого ожидаете, бросается на оленя, кабана или буйвола, прижимает к дереву, размалывая кости и вытягивая тело жертвы, чтобы удобно было проглотить добычу целиком.
Само собой разумеется, она и людьми не пренебрегает и, если случай представится, ест без разбора тагалов, китайцев и европейцев.
Средство справиться с этой змеей очень простое, надо только уметь им пользоваться. Достаточно носить на поясе остро, как бритва, наточенный нож. Ибитин не ядовита и не может ужалить, а когда она станет вас душить, просуньте охотничий нож между собственным телом и одним из змеиных изгибов и режьте наискосок, змея тут же разделится пополам.
Перед уходом наш хозяин подвесил мне к поясу роскошный охотничий нож, которым сам уже разрезал двух или трех ибитинов.
Что касается ядовитых змей, то, поскольку от их укусов не существует лекарства, лучше с ними не встречаться.
Два месяца назад из дома г-на де Ла Жероньера пропала хорошенькая тагалочка лет шестнадцати или восемнадцати; хозяин подозревал, что ее или утащил тигр, или проглотил крокодил, или задушил удав.
Во всяком случае, в один прекрасный вечер бедняжка Шиминдра ушла и не вернулась, и, сколько ее ни искали, больше никто о ней не слышал.
Признаюсь, пока наш хозяин перечислял мне все опасности, которым мы подвергаемся во время охоты, я начал находить охоту довольно своеобразным развлечением.
Мы доехали верхом до того места, где начиналась облава; там мы спешились и вошли в лес.
Первой дичью, которую я поднял, была великолепная стая павлинов. Хорошо заметив место, откуда она вылетела, я сделал большой крюк, и мне удалось избежать встречи с тигром, о близости которого мне сообщили эти прекрасные птицы.
Через десять минут послышался выстрел. Господин де Ла Жероньер убил оленя.
Я, в свою очередь, услышал шум откуда-то снизу; поворошив кусты в десяти шагах от себя, я выстрелил наугад. Не могу сказать, что я попал в кабана: это кабан напоролся на мою пулю.
Меня поздравляли с роскошной добычей.
Я убил наповал одинца; кажется, так у вас называют старого кабана? (Я утвердительно кивнул.)
Собакам отдали их часть добычи, остальное взвалили на плечи четыре тагала; а мне предложили продолжать мои подвиги, уверяя, что с первого выстрела я показал себя метким стрелком.
Сударь, ничто не губит человека так, как лесть.
Теперь мне казалось, что, раз я убил кабана, то убью и тигра, и носорога, и слона. Я направился через лес, желая одного: сразиться с любым филиппинским чудищем.
В азарте я не заметил, как понемногу удалился от охоты. Мне сказали, что нам предстоит подниматься в течение двух часов, но через три четверти часа я уже спускался по склону.
Внезапно в тридцати шагах от себя я услышал ужасный рев.
Повернувшись в ту сторону, откуда он раздался, я увидел буйвола.
Ах, что за добыча! Только ружье в моих руках почему-то немного дрожало, я прислонил его к ветке дерева и спустил курок.
Едва я успел это сделать, как увидел два надвигающихся на меня налитых кровью глаза и морду, вспарывающую землю, словно плуг.
Я выстрелил второй раз; но, вместо того чтобы замедлить бег животного, второй выстрел, казалось, подхлестнул его.
Я успел лишь отбросить ружье, схватиться за ветку дерева, под которым стоял, гимнастическим прыжком подтянуться до уровня этой ветки и затем перебраться с нее на верхние.
Но с буйволом далеко не было покончено. Он не мог влезть за мной на дерево, но принялся сторожить его. Первые десять минут я говорил ему: "Давай-давай, приятель, кружись, мне на тебя, в общем, плевать!"
Но в течение следующих десяти минут я заметил, что дело обстояло серьезнее, чем показалось мне на первый взгляд.
Через час я понял по тому спокойствию, с которым буйвол разгуливал вокруг дерева, что он решил быть моим сторожем до тех пор, пока ему не удастся сделаться моим палачом.
Время от времени он поднимал голову, смотрел на меня налитыми кровью глазами, угрожающе ревел, потом принимался щипать растущую вокруг моего дерева траву, как будто хотел сказать мне: "Вот видишь, у меня есть все, что мне нужно: трава, чтобы прокормиться, утренняя и вечерняя роса, чтобы утолить жажду; но ты животное плотоядное и не привык еще питаться листьями, в один прекрасный день тебе придется спуститься, а когда ты спустишься, я затопчу тебя копытами, забодаю рогами; ты у меня проведешь неприятные четверть часа, так и знай!"
К счастью, папаша Олифус не из тех, кто долго раздумывает, когда надо принять решение. Я сказал себе: "Олифус, приятель, чем дольше ты станешь ждать, тем хуже для тебя. Ты дашь твоему буйволу час на то, чтобы убраться отсюда, и, если через час он не уйдет, ну что ж! Тогда посмотрим, что делать".
Я взглянул на часы: было одиннадцать. Я сказал: "Ну, так до полудня!"
Как я и подозревал, буйвол не ушел от дерева и продолжал караулить меня. Время от времени он принюхивался и мычал изо всех сил. Каждые десять минут я смотрел на часы и отпивал глоток из моей фляжки. На пятидесятой минуте я сказал ему: "Берегись, приятель, у тебя осталось всего десять минут; если через десять минут ты не уйдешь один, мы уйдем вместе". Но на пятьдесят девятой минуте он, вместо того чтобы уйти, улегся головой к подножию дерева и, раздувая ноздри, насмешливо поглядывал на меня, словно говорил: "О, мы еще побудем вместе, не беспокойся".
Но я решил по-другому. Как только истекла шестидесятая минута, я проглотил весь оставшийся во фляжке ром, взял в зубы нож и — хоп! — прыгнул вниз, рассчитав так, чтобы упасть в двух футах позади него и схватить его левой рукой за хвост, как, я видел, это делали тореро в Кадисе и Рио-де-Жанейро.
Каким бы проворным ни был буйвол, я ему в этом не уступал; пока он поднимался, я успел вцепиться ему в хвост. Он два или три раза повернулся кругом, а я еще крепче обмотал его хвост вокруг своей руки. Видя, что, до тех пор пока я держу его за хвост, он не сможет достать меня рогами, я стал понемногу успокаиваться, а он, напротив, ревел изо всех сил, и явно от ярости.
"Подожди! Подожди! — сказал я ему. — Ах, ты ревешь от злости, приятель. Что ж! Я заставлю тебя реветь от боли".
И взяв нож, я — раз! — засадил его буйволу в живот.
Похоже, на этот раз я попал в чувствительное место: он встал на дыбы, как лошадь, и так неожиданно рванулся вперед, что едва не оторвал мне руку; но я держался крепко, не отстал, и — вжик! вжик! — бил его ножом. Не пожелаю я вам такой гонки! Видите ли, это продолжалось четверть часа, и за это время я проделал больше двух льё по кустам, болотам, ручьям — с тем же успехом я мог прицепиться к локомотиву. И — вжик! вжик! — я не переставал бить его, приговаривая: "Ах, негодяй! Ах, подлец! Ах, злодей! Ты хочешь мне брюхо распороть; погоди у меня!" Он уже не просто был разъярен, он взбесился, так взбесился, что, добежав до края отвесной скалы, не задумываясь, кинулся вниз; но я видел, куда он бежит, и отпустил его. Я как вкопанный остановился наверху, а он покатился вниз: трах! бум! бум!
Вытянув шею, я посмотрел вниз: мой зверь лежал мертвый на дне пропасти. Что до меня, то, надо признаться, я был не многим лучше: избитый, замученный, исцарапанный, покрытый кровью, но у меня ничего не было сломано.
С грехом пополам поднявшись и срезав деревце, чтобы опираться на него как на палку, я направился к ручью, блестевшему за деревьями в сотне шагов от меня.
Добравшись до берега, я опустился на колени и только начал умываться, как услышал голос, кричавший по-французски: "Ко мне! Ко мне! Помогите!"
Повернувшись на крик, я увидел молоденькую девушку, почти голую, которая бежала в мою сторону, протянув ко мне руки, и выглядела ужасно испуганной. Ее преследовал какой-то негр с палкой в руках; он так мчался, что, хотя до девушки ему оставалось сто шагов, он в секунду ее догнал, схватил и потащил в чащу.
Вид этой девушки, которая звала на помощь по-французски, ее жалобный голос, грубость негодяя, взвалившего ее на плечо и тащившего в лес, — все это вместе придало мне сил; забыв об опасности, я бросился за ним, крича: "Стой! Стой!"
Чувствуя за собой погоню, похититель побежал с удвоенной скоростью. Ноша едва замедляла его бег. Я не мог понять, что это за человек, наделенный подобной силой, и опасался, как бы в минуту нашей встречи мне не пришлось раскаяться в том, что строил из себя странствующего рыцаря.
Расстояние между нами почти не сокращалось, и не знаю, удалось бы мне, несмотря на пыл, с которым я преследовал негра, догнать его когда-нибудь, если бы несчастная женщина, похищенная им, не уцепилась за ветку оказавшегося на ее пути дерева с такой силой, что ее обидчик вынужден был остановиться. Он изо всех сил старался оторвать ее от ветки, а она продолжала кричать: "Ко мне! Ко мне! На помощь! Бога ради, не бросайте меня!"
До нее оставалось не больше двадцати пяти или тридцати шагов, когда внезапно негр, видя, что на него собираются напасть, решил, кажется, начать первым и, бросив женщину, с поднятой палкой направился ко мне.
В три прыжка он оказался рядом. Я вскрикнул от удивления: тот, кого я принял за негра, оказался обезьяной.
К счастью, у меня тоже была в руках палка, и я умел с ней обращаться. Я встал в оборонительную позицию, поскольку из нападающего превратился в атакуемого.
Женщина, почувствовав себя свободной, описала большой круг и спряталась позади меня, продолжая кричать: "Смелее! Смелее, сударь! Спасите меня от этого чудовища! Не бросайте меня!"
Не переставая делать мулине, чтобы отражать удары, нанося ему острием уколы в грудь, от которых он вскрикивал, но не уходил, я рассматривал моего противника. Это была большая волосатая обезьяна, около шести футов ростом, с седеющей бородой. Зверь так ловко и проворно размахивал палкой, что победа чуть было не оказалась на его стороне. К счастью, благодаря моему искусству этого не произошло. После десяти минут борьбы он, с раздробленными пальцами, с дырой в животе и с окровавленной мордой, начал отступать; но единственной целью его отступления стало дерево, на которое он быстро взобрался не для того, чтобы там и остаться, а чтобы броситься на меня сверху. Хорошо, что я это заметил и разгадал его план; я вытащил нож и вытянул руку над головой. Нападение обезьяны и мое ответное движение совпали. Я почувствовал, что на меня обрушилась невероятная тяжесть, мы оба — мой враг и я — упали на землю; но поднялся только я один: нож вошел ему в сердце.
Зверь вскрикнул, вцепился зубами в траву, заскреб когтями по земле, два-три раза судорожно дернулся и издох.
"Ох, до чего прекрасная вещь охота! — воскликнул я. — Но черт меня побери, если я еще хоть раз дам себя в это втянуть!".
"Так вы жалеете, что пошли на охоту?" — послышался позади меня нежный голос.
"Да нет же, Господи, — ответил я, обернувшись, — раз я оказался полезным вам, милое дитя; но какого черта вы оказались в лесу, что за удовольствие жить с обезьяной и как получилось, что вы говорите по-французски?"
"Я оказалась в лесу, потому что меня похитили; я не испытывала ни малейшего удовольствия от сожительства с обезьяной, раз позвала вас на помощь, чтобы избавиться от нее; я говорю по-французски, потому что я служила горничной у госпожи де Ла Жероньер".
"Значит, вас зовут Шиминдра?"
"Да".
"Вы та девушка, что пропала два месяца назад?"
"Да. Но теперь вы ответьте, откуда вы знаете мое имя, почему вам известна моя история?"
"Черт возьми, да потому, что господин де Ла Жероньер рассказал мне ее назвал ваше имя!"
"Вы знаете господина де Ла Жероньера?"
"Мы вместе охотимся. Он в этом лесу, но в какой части леса, понятия не имею; должен признаться, я совершенно заблудился".
"О, об этом не беспокойтесь, я знаю дорогу".
"Так почему же вы не возвратились домой, раз знаете дорогу?"
"Потому что это мерзкое животное глаз с меня не спускало ни днем ни ночью. Я двадцать раз тщетно пыталась бежать; если бы Провидение не привело вас на берег этого ручья, возможно, мне никогда в жизни не довелось бы увидеть человеческое жилье".
"Что же, — ответил я, — в таком случае, если вы мне доверяете, вернемся туда как можно скорее, милая Шиминдра; признаюсь, в доме я чувствую себя куда в большей безопасности, чем здесь".
"Хорошо, я готова идти с вами; только прежде позвольте открыть вам один секрет, который будет наградой за ваш добрый поступок".
"Ну да?"
"Этот омерзительный орангутанг, от которого вы меня спасли, принадлежит как раз к той породе обезьян — возможно, вы слышали о ней, — из какой добывают самый чистый безоар".
"Правда?"
"Можете в этом убедиться, пока я с помощью нескольких листьев кокосовой пальмы приведу в порядок свой костюм".
Я посмотрел на прекрасную Шиминдру: ее сильно расстроенный туалет и правда нуждался в починке; признаюсь, только мысль о том, что этот беспорядок причинен был обезьяной, помешала родиться моему желанию еще усилить его.
Я знаком показал Шиминдре, что она может заняться починкой, и, полный любопытства, опасений и надежды, приступил к вскрытию трупа врага тем самым ножом, который в этот день оказал мне столько важных услуг.
Шиминдра не обманула меня: я нашел во внутренностях животного красивый голубой с золотыми прожилками камень размером с голубиное яйцо.
Это был один из лучших безоаров, какие только можно найти.
"А теперь, — сказала Шиминдра, — если мне позволено дать вам совет, то не хвастайтесь ни перед кем, что обладаете подобным сокровищем, потому что оно недолго останется вашим — вас убьют, чтобы заполучить его".
Я поблагодарил Шиминдру за совет, и, поскольку кокетка уже успела сделать себе очаровательный передник из кокосовых листьев и ничто теперь не удерживало нас в лесу — напротив, у меня возникло живейшее желание покинуть его, — я попросил Шиминдру послужить мне проводником и показать самую короткую дорогу домой.
Через два часа мы пришли в Хала-Хала, к большому удивлению, но к еще большей радости всех его обитателей, которые считали меня погибшим, как Шиминдра, а увидели, что я вернулся вместе с ней.
Я рассказал о своих приключениях, Шиминдра — о своем, но ни я, ни она ни словом не обмолвились о безоаре.
XX ВАНЛИ-ЧИНГ
— Через неделю я обосновался в Бидондо и, поскольку мне совершенно необходима была экономка, чтобы вести хозяйство, попросил у г-на де Ла Жероньера прекрасную Шиминдру, и он любезно уступил мне ее.
Мой выбор был сделан. Я решил торговать манильскими сигарами.
В самом деле, манильские сигары и в Европе составляют серьезную конкуренцию гаванским, а по всему Индийскому океану их решительно предпочитают этим последним.
Более всего меня склонило к этой мысли то, что у г-на де Ла Жероньера сигарами занималась Шиминдра. Я решил, что выгоднее будет не покупать готовый товар, но производить его и во главе предприятия поставить Шиминдру.
Ничего не могло быть проще. В саду построили нечто вроде сарая; Шиминдра наняла десять молоденьких тагалок, несколько из них прежде работали на королевской мануфактуре в Маниле; на следующий день я с удовольствием увидел, что работа идет полным ходом.
Благодаря постоянному наблюдению Шиминдры и ее знанию дела мне ничего не оставалось делать, кроме как прогуливаться; это меня и погубило.
Просто невероятно, как брошенное на ветер самое незначительное слово может иногда засесть в голове и развиться в мозгу. Вы помните те четыре слова, какие произнес за ужином у г-на де Ла Жероньера мой корреспондент — о китаянках и о своих планах насчет моей пятой женитьбы. И что же! Днем и в особенности ночью я не переставал думать об этом. Едва я ложился в постель, закрывая глаза, и задремывал, как мимо моей кровати начинала шествовать процессия китаянок, показывая мне ножки… На этих ножках туфелька Золушки болталась бы, словно шлепанец, и заметьте любопытную вещь: рядом со мной была Шиминдра — настоящая красавица, на моей сигарной мануфактуре работали десять маленьких негодниц, самая некрасивая из которых, с ее большими черными глазами, длинными бархатными ресницами, с… со всем, что у нее было, наконец, могла бы вскружить голову парижанину, а я при всем при том — что поделаешь! — мечтал только о китаянках.
Поэтому, едва проснувшись, я отправлялся в китайский квартал, заходил во все лавки, приценивался к веерам, фарфору, ширмам, здесь подхватывал пару китайских слов, там — пару кохинхинских, бормотал всевозможные комплименты маленьким ножкам, скрытым от меня длинными платьями, и возвращался вечером с твердым как никогда решением исполнить свой каприз и выбрать невесту среди китаянок.
В это время я встретил очаровательную малютку, торговавшую чаем; у нее был один из самых красивых магазинов в Бидондо; она привлекла меня главным образом тем, как ела рис с помощью этих маленьких вязальных спиц, какие заменяют китайским дамам вилки и ложки; это была уже не ловкость, а жонглирование; я думаю, красавица Ванли-Чинг из кокетства приказывала принести себе пилав, когда в магазине были посторонние.
Замечу мимоходом, что эти два слова — Ванли-Чинг — означают в переводе "десять тысяч лилий"; как видите, моей китаянке родители воздали должное и нарекли ее именем, соответствующим ее красоте.
Я осведомился у моего корреспондента о прекрасной китаянке; после первых же произнесенных мною слов он поднял палец к глазам и воскликнул:
"Ах вы, плутишка!"
Это означало: "Ну-ну, везет же вам: сразу отыскали именно ее; хорошо!"
Поняв это, я стал еще больше расспрашивать и узнал, что Ванли-Чинг была маленькой сироткой, ее подобрал знаменитый врач, влюбившийся в нее, когда ей было всего двенадцать лет, и женившийся на ней, хотя самому ему было шестьдесят пять. Провидению не было угодно, чтобы такой неравный брак длился долго. Три месяца спустя старичок-врач умер от болезни, которую сам не смог распознать; но он умер счастливым, потому что ни один человек не мог похвастаться, чтобы за ним так ухаживали во время болезни, как ходила за ним его юная и достойная супруга: он оставил ей все свое состояние — две или три тысячи рупий, довольно жалкое вознаграждение за самоотверженность, проявленную ею во время его болезни, и особенно за то, как горевала она о нем после его смерти.
Получив эти две или три тысячи рупий наследства, молодая вдова устроила в самом скромном квартале города маленький магазинчик вееров, который, благодаря ее уму и бережливости, вскоре начал чудесным образом процветать.
Но самым примечательным в этом скоропостижном вдовстве прекрасной Ванли-Чинг было то, что она, не слушая предложений щеголей из Бидондо, не испортив какой-нибудь неосторожностью своей репутации умницы, встречалась лишь с пожилым мандарином, другом ее мужа, который каждый день приходил вместе с ней оплакивать общую потерю. И в результате этих ежедневных визитов вдова и мандарин так привыкли плакать вместе: одна — о супруге, второй — о друге, что в одно прекрасное утро стало известно: безутешная парочка решила пожениться, чтобы впредь плакать в свое удовольствие.
Через год после смерти первого мужа Ванли-Чинг вышла замуж за мандарина; но, видимо, сделавшись неразлучными, новобрачные с утра до вечера плакали, так плакали, что пятидесятилетний мандарин стал жертвой этого потопа и через два месяца скончался.
Прекрасной Ванли-Чинг тогда было всего пятнадцать лет, и, естественно, она легче справилась с горем; несмотря на то что ей пришлось оплакивать разом и первого и второго мужа, красота ее сияла сквозь слезы ярче прежнего.
От мандарина ей осталось наследство — пятьсот или шестьсот пагод; приумножив таким образом свое состояние, она смогла перебраться в более роскошный квартал и начать новое дело. От вееров она перешла к фарфору, и вскоре прекрасную лавочницу знали во всем Бидондо.
Она сделалась такой известной, что городской судья, хорошо знавший и первого и второго мужа прекрасной Ванли-Чинг и, стало быть, способный оценить, как врач был счастлив в течение трех, а мандарин в течение двух месяцев, которые они прожили с китаянкой, вызвался ее утешить. Горе Ванли-Чинг было таким глубоким, что она считала невозможным утешиться, но судья так настаивал, что она решилась попробовать.
Свадьба состоялась через год; хоть эта отсрочка и не обязательна, Ванли-Чинг строго соблюдала приличия и ни за что на свете не пожелала бы утешиться до срока. Но судье не удалось совершенно ее утешить, поскольку спустя месяц после свадьбы он умер от несварения желудка, поев ласточкиных гнезд, на другой день после того, как унаследовал значительную сумму от дальнего родственника из Макао, и в тот самый день, когда он пригласил к обеду нескольких друзей, чтобы отпраздновать это событие.
Но перед смертью он объявил, что последний месяц был самым счастливым в его жизни. Он только-только успел получить завещанные ему деньги, и благодаря этому наследству прекрасная вдова смогла снова расширить свое дело и открыть на главной улице Бидондо великолепный чайный магазин, где я ее и увидел: она кивала головкой и ела рис.
Сами понимаете, все эти сведения окончательно вскружили мне голову. Прекрасная Ванли-Чинг много раз делалась вдовой, но она так мало была замужем, что не могла не оказаться райской девой, о которой я мечтал. Так что я открыл моему корреспонденту свое горячее желание сделаться ее четвертым мужем и сделать ее своей пятой женой.
Признаваясь женщинам в любви, мы никогда не сообщаем им ничего нового, поскольку они прежде нас самих замечают нашу любовь. Так что Ванли-Чинг не только не удивилась моему предложению, но ответила, что ожидала его.
Настроенная таким образом, китаянка даже на заставила меня ждать ее решения. Оно было благоприятным: я ей нравился, она готова была согласиться, но, поскольку из самолюбия желала, чтобы ее любили ради нее самой, то попросила дать ей небольшой отчет о моем состоянии. Если мое состояние окажется равным или превосходящим ее собственное, она поверит в мое чувство, но, если я окажусь беднее ее самой, она сочтет, что мною двигала низкая корысть, но не любовь.
Такое рассуждение показалось мне разумным. Я спросил, хочет ли она, чтобы я считал в франках, рупиях или пагодах; она ответила, что ей это безразлично: она сильна в арифметике любой страны.
Я был не так силен в счете, как она, и предпочитал франки; назавтра я послал ей следующий отчет:
"Точный подсчет того, что Жером Франсуа Олифус заработал в Индии, и того, что он имеет:
Добыча жемчуга на Цейлоне…………… 13 500 фр.
Торговля фруктами в Гоа……………… 7 400
Выращивание кардамона на Цейлоне…….. 22 500
Сигарная мануфактура в Бидондо……….
Этот последний пункт внесен для памяти. Прибыль еще ее не подсчитана, но это легко сделать.
Итого……………….. 43 400 фр.".
Как видите, довольно кругленькая сумма, и я не терял даром времени с тех пор, как четыре года назад покинул Монникендам.
Она, со своей стороны, сделала расчет и послала его мне. Вот он:
торговлей:
От продажи вееров…………………… 4 000 фр.
От продажи фарфора………………….17 000
От продажи чая………………………22 037
"Точный подсчет того, что заработала Ванли-Чинг, хозяйка чайного магазина в Бидондо, занимаясь разного рода
Итого…………………43 037 фр.".
Как видите, наше состояние было почти одинаковым, разница составляла триста шестьдесят три франка; у меня было некоторое преимущество, потому что на складе лежало примерно двести тысяч готовых сигар.
Признаюсь, вместо того чтобы гордиться своим преимуществом, я радовался тому, что, обладая некоторым превосходством в богатстве, могу уравновесить физическое превосходство красавицы-китаянки.
Установив мои преимущества и доказав, что я женюсь на Ванли-Чинг ради ее прекрасных глаз, а не ради прекрасных глаз ее денежного ящика, мы назначили день свадьбы через три месяца и семь дней — именно тогда истекал срок траура по третьему мужу прекрасной Ванли-Чинг.
Она деликатно позаботилась о том, чтобы, храня верность памяти судьи, не заставить меня ждать ни минуты лишней.
XXI ХОЛЕРА
— Слух о моей грядущей женитьбе на Ванли-Чинг вскоре распространился в Бидондо, и жители города, привыкшие в течение двух или трех лет интересоваться мельчайшими переменами в жизни прекрасной китаянки, по-разному к этому отнеслись. Одни осуждали, другие одобряли, а многие, качая головой, говорили, что первый муж умер через три месяца после свадьбы, второй — через два, третий — через месяц, и мне, чтобы не нарушать стройность этого ряда умерших, вероятно, придется умереть в первую брачную ночь.
Но больше всего этой новостью была потрясена несчастная Шиминдра. Я был к ней так добр, что с некоторых пор она стала надеяться стать моей женой. В минуту отчаяния она призналась мне в своих честолюбивых замыслах; но я легко и быстро доказал ей превосходство Ванли-Чинг, вдовы врача, мандарина и судьи, над ней, вдовой всего лишь обезьяны.
После чего Шиминдра вернулась в прежнее смиренное состояние, честно признавшись, что никогда не должна была из него выходить; зная, что ее соперница потребовала отчета о моих доходах, она ограничилась тем, что умоляла меня не включать в этот список безоар.
Мое состояние и без того было равным и даже превышало состояние моей красавицы-невесты, и я без труда пообещал Шиминдре исполнить ее просьбу; безоар, висевший у меня на шее в маленьком кожаном мешочке, остался нашей общей с Шиминдрой тайной.
Все вечера я проводил у будущей супруги, так что время проходило быстро; я плохо говорил по-китайски, она — еще хуже на хинди и совсем не говорила ни по-голландски, ни по-французски, так что мы объяснялись в основном с помощью жестов, и порой я выражался смелее, чем мог бы выразиться словами; но, к чести прекрасной Ванли-Чинг, должен сказать, она сохранила незапятнанной свою репутацию добродетельной женщины и, подарив мне несколько пустяков, никогда не давала ничего серьезного в счет будущей женитьбы.
И вот наконец день настал.
За два дня до этого у меня был повод для сильного беспокойства: было несколько случаев холеры в Кавите и один или два — в Бидондо; я опасался, что близость эпидемии заставит Ванли-Чинг отложить нашу свадьбу; но моя китаянка оказалась сильна духом, и эти события не оказали на нее никакого воздействия.
Этот великий день был двадцать седьмого октября. Этот день был праздником и для всего Бидондо. С утра у дверей Ванли-Чинг собралась толпа. Моя красавица в четвертый раз проходила по городу в наряде невесты, но горожане не уставали смотреть на нее.
По китайскому обычаю, невеста проходит по улицам в сопровождении музыкантов и певцов. Один голландский ученый, живший в Маниле, сказал мне, что это напоминает греческие процессии: только во время первой свадьбы невеста закрывает лицо покрывалом в знак своей невинности. Когда же она вступает во второй, третий и четвертый брак, то идет с открытым лицом.
Так что мою невесту вели с открытым лицом — к большому моему удовольствию, потому что вокруг себя я только и слышал: "Счастливый Олифус, ну и плут этот Олифус, ох, этот негодник Олифус!"
Все остальное очень напоминало брачную церемонию в Сиаме. Когда жених с невестой договорятся, родители молодого человека преподносят родителям девушки семь ящиков бетеля; неделю спустя жених является сам и приносит еще четырнадцать ящиков; после чего он остается в доме тестя на месяц, чтобы разглядеть невесту и привыкнуть к ней; затем, в тот день, когда должна состояться свадьба, собираются родные и самые близкие друзья и складывают в мешок: кто — браслеты, кто — кольца, кто — деньги; один их них проходит семь кругов с зажженной свечой в руках, а остальные громко поздравляют молодых, желая им долгой жизни и отменного здоровья.
После этого устраивается пиршество, за которым следует легкий ужин на двоих и, наконец, завершение свадьбы.
Мы с Ванли обошлись без полной церемонии. Она показала мне шкатулку, заключающую в себе ее состояние; я показал ей свои денежные документы, подтвержденные подписью филиппинского корреспондента моего китайского капитана и оплачиваемые по предъявлению; каждый из нас завещал сорок тысяч франков последнему оставшемуся в живых; все это стоило семи и даже четырнадцати ящиков бетеля.
Что касается родственников, у нас их не было — ни у одной, ни у другого. Так что церемонии с мешком и браслетами, с зажженной свечой, семь раз обнесенной вокруг, а также крики радости и пожелания долгих лет жизни в превосходном здравии мы тоже опустили.
Остались лишь парадный обед и маленький интимный ужин.
Обед был великолепен, Ванли руководила всем; блюда были самые изысканные: мыши в меду, акула, отваренная с мокрицами, черви с касторовым маслом, ласточкины гнезда с толчеными крабами, бамбуковый салат; все это орошалось каншу — китайской водкой, которую стоявшие у нас за спиной слуги без конца наливали нам из огромных серебряных кофейников; пили за китайского императора, за голландского короля, за Английскую компанию, за наш счастливый союз, и каждый раз мы брали чашку двумя руками и делали "чин-чин", то есть качали головой вправо и влево, словно болванчики, а потом каждый показывал донышко чашки, чтобы все могли убедиться, что она пуста.
Во время обеда мне показалось, что прекрасная Ванли смотрит на меня с беспокойством и тихо переговаривается с соседями по столу. Два или три раза она обращалась ко мне и спрашивала нежнейшим голосом:
"Как вы себя чувствуете, друг мой?"
"Превосходно, — отвечал я, — превосходно".
Но, несмотря на эти заверения, она качала головой и вздыхала так, что я сам начал беспокоиться о своем здоровье и, выйдя из-за стола, посмотрелся в зеркало.
Мой вид меня успокоил: я сиял здоровьем и радостью.
И все же присутствующим я казался не таким благополучным, потому что двое или трое, перед тем как уйти, подошли ко мне с вопросом:
"Вы больны?"
И, несмотря на отрицательный ответ, на прощанье пожимали мне руку с печалью на лице.
Мне даже послышалось произнесенное вполголоса слово "холера"; но на мой вопрос, не заболел ли кто-то из общих знакомых, мне ответили, что нет, и я решил, что ослышался.
В то же время я искал мою молодую красавицу-жену; она подошла с тревогой в глазах. Я хотел было спросить ее о причине беспокойства; но она только взглянула на меня, отвернулась, чтобы смахнуть слезу и прошептала:
"Бедняжка!"
Я распрощался с гостями, спеша от них избавиться; мы потерлись носами, как требует обычай. Последним уходил корреспондент китайского капитана. Я особенно пылко потерся о его нос своим, ведь это он, как вы помните, был посредником в моей женитьбе; но, когда я с лукавой улыбкой показал ему на прекрасную Ванли, медленно шедшую к двери спальни, сделав знак, что собираюсь последовать за ней, он сказал:
"Лучше бы вы послали за врачом".
И, подняв глаза к небу, вышел.
Я ничего не понимал.
Но мне совершенно не хотелось разгадывать, что все это значит. Закрыв дверь, я поспешил в спальню.
Восхитительная Ванли уже сидела у стола, на котором накрыт был изысканный ужин, украшенный цветами и фруктами; она переливала из одного графина в другой красную жидкость.
Мне не доводилось видеть ничего более привлекательного, чем эта красная жидкость, похожая на растворенный рубин.
"Дорогая моя, — сказал я, войдя в комнату, — не можете ли вы объяснить мне, отчего это я, которому нечего больше и желать, внушаю всем такую жалость? Меня спрашивают, как я себя чувствую, спрашивают, не лучше ли мне, советуют послать за врачом; право же, я напоминаю себе того персонажа французской комедии — я видел ее в Амстердаме, — которого решили убедить в том, что у него лихорадка; ему столько раз это твердили, что он, в конце концов, поверил, распрощался со всеми и улегся в постель".
"Ах! — прошептала Ванли. — Если бы у вас была всего лишь лихорадка, я вылечила бы вас хиной".
"Как? Если бы у меня была всего лишь лихорадка? Но, уверяю вас, у меня нет лихорадки".
"Милый Олифус, — сказала Ванли. — Теперь, когда мы остались одни, вам уже не надо принуждать себя, скажите мне откровенно, что вы испытываете".
"Что я испытываю? Я испытываю самое жгучее желание сказать вам, что я вас люблю, более того — вам это…"
"И ни малейшей судороги в желудке?"
"Ни малейшей".
"И никакого озноба?"
"Напротив".
"И никаких спазмов?"
"Да что же это? Дорогая моя, вы такие вопросы задаете, словно у меня холера".
"Ну, раз уж вы об этом заговорили…"
"Так что же?"
"Во время обеда все обратили внимание".
"На что?"
"Что вы меняетесь в лице, что вы много раз хватались за живот, а потом…"
"А, это я вам сейчас объясню: во-первых, мне стало не по себе, когда я посмотрел на ваших мышей в меду; потом, видите ли, ваш отвар из мокриц… У нас такого не делают. Наконец, ваше касторовое масло… Но это все уже прошло. Это же надо! Ничего себе — подумать, что я заболею холерой как раз в первую брачную ночь! Ну и ну!"
"Так вот, дорогой мой, всем так показалось, и я совершенно уверена, что из тридцати наших гостей двадцать девять убеждены, что к завтрашнему утру вас не будет в живых".
"Что я умру от холеры?"
"От холеры".
"Еще чего недоставало!"
"Но это так".
"Но, если честно… разве…"
"Ну…"
Ох, сударь, странная вещь — воображение. Посмеявшись над Базилем, которому внушили, что у него лихорадка, я стал щупать свой живот и готов был поверить, что у меня начинаются судороги и вот-вот будут спазмы.
Во всяком случае, одно было бесспорным: я холодел прямо на глазах.
"Бедняжка, — говорила Ванли, сочувственно глядя на меня. — К счастью, болезнь не успела далеко зайти, а мой первый муж оставил мне верное средство".
"Против холеры?"
"Да, против холеры".
"О, какой благородный человек! Что ж, милая Ванли, вот вам случай воспользоваться этим средством".
"Ах, так вы признаете!"
"Да, я начинаю и сам так думать. Ох, что это?"
"Спешите, милый мой, спешите; на вас напала отрыжка".
"Как отрыжка?"
Должен вам сказать, что это слово и на французском-то довольно варварское, не так ли? Но по-китайски оно звучит еще хуже; когда она сказала: "На вас напала отрыжка!" — мне послышалось: "На вас напали казаки!"
"Отрыжка! — повторил я, без сил упав на стул. — Но, милая Ванли, что же мне делать?"
"Немедленно выпить стакан этой красной жидкости, которую я смешивала, когда вы вошли — я догадывалась, милый Олифус, о том, что с вами случилось".
"Скорее дайте стакан, дайте этой красной жидкости. Опять отрыжка начинается. Скорее, скорее, скорее!"
Ванли налила красную жидкость в стакан и протянула его мне.
Взяв стакан дрожащей рукой, я поднес его ко рту и собрался проглотить красную жидкость до последней капли, как вдруг увидел, что Ванли, побледнев, уставилась на дверь.
В ту же секунду я услышал знакомый голос:
"Ради Бога, Олифус, не пейте!"
"Шиминдра! — воскликнул я. — Какого черта вы сюда явились?"
"Я пришла отплатить вам услугой за услугу — спасти вам жизнь".
"Ах, милая Шимиццра, значит, и у вас есть лекарство от холеры?"
"Я не знаю средства от холеры; впрочем, оно было бы бесполезным".
"Как бесполезным?"
"Да".
"Так у меня не холера?"
"Нет".
"Если у меня не холера, так что же?"
"У вас, — Шиминдра взглянула на все сильнее бледневшую Ванли, — у вас жена — отравительница, только и всего".
Ванли вскрикнула, как будто ее ужалила змея.
"Отравительница?" — повторил я.
"Вы слушаете эту женщину?" — спросила Ванли.
"Шиминдра, милая моя, — покачав головой, сказал я, — мне кажется, вы далеко зашли".
"Отравительница", — повторила Шиминдра.
Ванли мертвенно побледнела.
"Сосчитаем тех, кого вы отравили, сударыня, и вспомним чем вы отравили их, — продолжала Шиминдра.
"О, идите ко мне, Олифус!" — вскрикнула Ванли.
"Нет, оставайтесь и слушайте, — возразила Шиминдра, затем, повернувшись к Ванли, сказала: — Вы отравили вашего первого мужа, врача, бобами святого Игнатия, обычным для Минданао ядом. Вы отравили вашего второго мужа, мандарина, американским тикунасом. Вы отравили вашего третьего мужа, судью, гвианским вооара. Наконец, сегодня вечером вы собрались отравить вашего четвертого мужа, Олифуса, яванским упасом".
"Вы лжете, вы лжете!" — кричала Ванли.
"Я лгу? — переспросила Шиминдра. — Что ж! Если я лгу, выпейте сами стакан, который только что наполнили для вашего мужа, выдумав, что у него холера".
И она, взяв стакан, который я поставил на стол, протянула его Ванли.
Я ждал, что Ванли выхватит стакан у нее из рук и выпьет содержимое; но нет, она попятилась, добралась до двери, открыла ее и убежала.
Я бросился за ней.
"О, милая Ванли! — звал я. — Не бойтесь ничего, вернитесь, я ей не верю, этого не может быть".
"Не может быть? — воскликнула Шиминдра, в отчаянии от того, что я не поверил ей. — Не может быть?"
"Нет; разве что я получу доказательство…"
"Если вы получите доказательство?" — повторила Шиминдра.
"Конечно!"
"Вы поверите?"
"Придется".
"Вы поверите, что эта женщина — отравительница, не правда ли?"
"Разумеется".
"И вы разлюбите ее?"
"Разлюблю? Еще бы! Я не только разлюблю ее, но еще и выдам властям, и буду преследовать, и добьюсь, что ее повесят, ей отрубят голову, ее четвертуют".
"Вы клянетесь в этом?"
"Клянусь".
"Что ж! — сказала Шиминдра. — Вот доказательство".
И она залпом выпила красную жидкость, одним глотком, прежде чем я успел бы спросить:
"Эй, что вы делаете?"
Теперь закричал я, потому что, в конце концов, ничего не имел против несчастной Шиминдры, вот только эта мерзкая обезьяна… Но, если забыть об этом предшественнике, я всем сердцем любил ее.
"Теперь, — проговорила она, падая мне в объятия, — теперь вы поймете, почему среди ваших гостей распространяли слух, что вы заразились холерой".
И в самом деле, едва Шиминдра успела произнести эти слова, как сильно побледнела и схватилась за грудь; весь ее вид выражал ужасное страдание.
XXII ЗАКЛЮЧЕНИЕ
— Это зрелище рассеяло последние мои сомнения. Ванли была преступницей, и Шиминдра отравлена.
У меня оставалось лишь одно желание — спасти несчастную женщину, пожертвовавшую собой ради меня.
"На помощь! На помощь! — закричал я. — Врача! Врача!".
Никто не отвечал: Ванли приняла меры предосторожности, и в доме никого не осталось; я распахнул окно.
"На помощь! — повторял я. — На помощь! Врача! Врача!"
К счастью, в это время по набережной проходил носильщик. Он услышал мои крики, узнал меня и вызвался мне помочь.
"Врача!" — крикнул я, бросив ему золотую монету.
Подобрав монету, он кивнул мне и пустился бежать со всех ног.
Через пять минут он привел бонзу, бесплатно лечившего бедных и имевшего в порту репутацию мудреца и святого.
Но хотя с тех пор, как Шиминдра приняла яд, прошло не больше десяти минут, состояние ее стремительно ухудшалось. Дыхание сделалось шумным и прерывалось рыданиями, мускулы живота и грудной клетки начали сокращаться, изо рта показалась пена, голова запрокинулась, началась рвота.
Я поспешил подвести врача к Шиминдре.
"Ох! — воскликнул он, — или у этой женщины холера, или…"
Он колебался.
"Или?" — повторил я.
"Или она отравлена".
"Чем?"
"Яванским упасом".
"Так и есть! — закричал я. — Да, да, ее отравили яванским упасом. Что может ее спасти?"
"Нет такого средства, а если и есть…"
"Ну?"
"Оно очень редкое".
"Ну, так что это за средство?"
"Нужен безоар".
"Безоар?"
"Да; но не коровий безоар, не козий безоар…"
"Обезьяний безоар?"
"Конечно; но где его взять?"
Я вскрикнул от радости.
"Держите, — сказал я ему, — держите".
И я вытащил свой безоар из кожаного мешочка.
Шимивдра приподняла голову.
"Ах, — произнесла она, — так он еще любит меня немного!"
"О! — удивился бонза. — Голубой безоар, настоящий обезьяний".
"Да, настоящий, я за него отвечаю, поскольку сам его добыл. Но не теряйте времени; смотрите".
И я показал ему на Шиминдру, корчившуюся в предсмертных муках.
"Теперь не беспокойтесь, — ответил он. — У нас есть время".
"Но она умрет через пять минут!"
"Да, если мы не спасем ее через три минуты".
И бонза принялся так спокойно тереть безоар над стаканом воды, словно это был кусочек сахара.
Вода немедленно окрасилась в красивый голубой цвет, постепенно перешедший в опаловый с золотыми отблесками.
Противоядие, несомненно, уже было готово, потому что, сделав мне знак приподнять Шиминдру, бонза вставил между ее стиснутыми зубами край стакана, который она едва не раздавила.
Но, как только первые капли смочили нёбо умирающей, мускулы ее расслабились, голова свесилась, руки опустились, хрип прекратился и на сухом лбу выступила легкая испарина.
Шиминдра опорожнила стакан.
Затем, выпив все до дна, она произнесла:
"Боже мой! Вы дали мне выпить саму жизнь".
Последний раз взглянув на меня и в последний раз поблагодарив улыбкой, последним жестом попытавшись коснуться моей руки, она вздохнула, закрыла глаза и впала в бессознательное состояние, не внушавшее ни малейшего беспокойства: под этой видимостью смерти чувствовалось биение жизни.
Я не мог оставить ее в доме Ванли-Чинг и сам не хотел оставаться там; до моего дома от того, где мы находились, было не больше пятидесяти шагов. Я взял Шиминдру на руки. Мы вышли вместе с бонзой, я запер дверь на ключ, отдал ключ бонзе и попросил немедленно отнести к судье, преемнику предпоследнего мужа Ванли-Чинг, и рассказать ему все, чему бонза был свидетелем; тем временем я собирался отнести к себе домой Шиминдру, которая, по словам врача, нуждалась только в спокойном сне.
Уложив Шиминдру на ее постель, я тоже лег.
Не могу передать вам, что происходило в моей голове после того, как погас свет и, побежденный усталостью, я впал в смутное состояние — еще не сон, но уже и не явь. Мне казалось, что мои жены, все четыре, собрались в ногах моей постели. Там были Наги-Нава-Нагина, донья Инес, Амару и Ванли-Чинг, и каждая заявляла на меня права, тянула к себе и отнимала у других скорее на манер фурии, чем нежной супруги; а бедная Шиминдра на крыльях смерти летала надо мной, защищала меня как могла, отталкивала и прогоняла их; но, едва их выгоняли в дверь, как эта нескончаемая вереница жен возвращалась в окно, бросалась к моей кровати, накидывалась на меня, да так, что я уже чувствовал, как меня рвут на части: на минуту я поверил, что они разделят между собой мои руки и ноги.
Внезапно дверь отворилась и я увидел какой-то призрак, окутанный покрывалом; он разогнал моих четырех индийских жен и, отстранив Шиминдру, спокойно улегся рядом со мной.
Право же, новоприбывшая оказала мне такую большую услугу, что я бросился к ней в объятия и, вскоре успокоившись, заснул.
На следующий день я проснулся от солнечного луча, упавшего мне на лицо; открыв глаза, я вскрикнул от удивления.
Рядом со мной лежала Бюшольд.
Но Бюшольд такая бледная, до того изменившаяся, что у меня не хватило духу упрекнуть ее в том, что она пришла: казалось, ей недолго оставалось жить.
К тому же я помнил об услуге, которую она оказала мне ночью.
"Как, это вы?" — спросил я.
"Да, я; как я ни больна, но без колебаний решилась сама принести вам добрую весть".
"Ах, да; так вы разрешились от бремени?"
"Девочкой, прелестной маленькой девочкой; как я вам и обещала, я назвала ее Маргаритой".
"А кто ее крестный?"
"О, вы будете гордиться им: один из самых знаменитых профессоров Лейденского университета, доктор ван Гольстентиус".
"Да, я знаю его".
"Ну так вот: он обещал мне любить милую крошку, как если бы она была его дочерью, но…"
"Но что?"
"Боюсь, когда меня не будет…"
"Как это не будет? Вы навсегда покинули Монникендам?"
"Напротив, друг мой, я уеду без промедления, не беспокойтесь. Но мы не бессмертны, и, если меня не станет, наши бедные дети…"
"Разве у каждого из них нет крестного, любящего, словно родной отец; разве не будет у них бургомистра ван Клифа, инженера ван Брока, преподобного ван Кабеля, доктора ван Гольстентиуса и прочая, и прочая, и прочая?"
"Увы! — отвечала Бюшольд. — На вашем примере я вижу, как можно верить мужским клятвам. В этих обязательствах наших знатных покровителей больше пустых слов, чем действительности; таким образом, милый друг, если бы не ваш кум Симон ван Гроот, сторож монникендамского порта, не знаю, что бы с нами стало — со мной, с моими детьми и с теми, которые могут еще родиться".
"Как еще могут родиться? Какое сегодня число?"
"Двадцать восьмое октября".
"Да, но какой святой или святая управляет этим днем?"
"Два великих святых, друг мой: святой Симон и святой Иуда".
"Ну, это слишком! — закричал я. — На этот раз мне не отделаться иначе, как близнецами".
"Во всяком случае, — ответила Бюшольд, — эта двойня будет последней".
"Почему?"
"Да разве вы не видите, как я переменилась?"
В самом деле, я уже говорил, что эта перемена в ней поразила меня с первого взгляда.
"Да, вижу, — ответил я. — Что с вами?"
Она печально улыбнулась.
"Вы думаете, путешествия, которые я совершаю, не отнимают сил? Я, не в упрек вам, четыре раза навещала вас; туда и обратно это примерно тридцать две тысячи льё: четыре раза вокруг света. Много ли вы найдете женщин, которые сделают подобное… ради злодея, который только и думает, как бы их обмануть? Ах!"
И Бюшольд пролила несколько слезинок.
Это было до того справедливо, что я растрогался.
"Ну, так почему же вы приходите?" — спросил я.
"Да потому, что все-таки люблю вас. Ах, если бы вы остались в Монникендаме, как мы могли быть счастливы!"
"С вашим милым характером! Как бы не так".
"Чего же вы хотите? Мой характер испортила ревность. И что породило эту ревность? Избыток любви. Ну, хоть теперь, когда прошло пять лет, скажите, так ли невинны были ваши поездки в Амстердам, в Эдам, в Ставерен".
Я почесал ухо и сказал:
"Ну, если не врать…"
"Видите, вам нечем оправдаться. А меня вы могли упрекнуть в чем-то подобном?"
"В то время как был дома — нет, это я знаю точно".
"Но, по-моему, с тех пор…""
"С тех пор все несколько сложнее. Но, в конце концов, я ничего не могу сказать, поскольку — во всяком случае, для меня — приличия были соблюдены, и сроки совпадают, разве не так?"
"День в день".
Я вздохнул.
"Дело в том, — философски заметил я, — что в погоне за счастьем отправляешься далеко…"
"Да, и находишь женщин, не так ли? Давайте немного поговорим о ваших женах".
"Нет, не стоит, я знаю их, и к тому же я исцелился от желания жениться".
"Увы, бедный мой друг, нет ничего важнее домашнего очага, детей; возвращайтесь, возвращайтесь, и вы найдете все это, только, может быть, уже без меня".
"Ну, что вы!"
"Я знаю, что говорю — она со вздохом покачала головой: — Но я умру спокойно, если буду знать, что у моих бедных детей, оставшихся без матери…"
"Хорошо, хорошо… не будем раскисать; посмотрим, а пока возвращайтесь домой".
"Придется".
"И сообщите о моем приезде".
"О, правда?"
"Погодите, я ничего не обещаю; я сделаю что смогу, вот и все".
"Прощайте! Я уезжаю с этой надеждой".
"Отправляйтесь, дорогая. Поживем — увидим".
"Да, поживем… Прощайте".
И Бюшольд в последний раз поцеловала меня, вздохнула и ушла.
Это появление Бюшольд оставило во мне совсем другие чувства, чем прежние ее визиты. Впрочем, как я ей сказал, сравнение голландских женщин с сингальскими, испанскими, малабарскими и китайскими — не в пользу последних; одна лишь бедняжка Шиминдра могла уравновесить чаши весов; но, понимаете ли, против нее была история с той мерзкой обезьяной!..
Словом, я думал теперь только об одном — привести в порядок свои дела и вернуться в Европу.
Но, перед тем как уехать, я прежде всего должен был обеспечить будущность Шимивдры.
Я оставил ей свое сигарное дело, которое шло полным ходом, и остаток безоара; он, правда, был початый, но и в таком виде стоил не меньше двух-трех тысяч рупий, тем более что был испробован.
Что касается Ванли-Чинг, она исчезла вместе со своей шкатулкой; в те пять месяцев, что я еще прожил в Бидондо, я ничего о ней не слышал.
Наконец пятнадцатого февраля тысяча восемьсот двадцать девятого года, почти через шесть лет после моего приезда в Индию, я покинул Бидондо с капиталом в сорок пять тысяч франков; оставив деньги моему китайскому корреспонденту, я получил в обмен ценные бумаги лучших торговых домов Амстердама.
Переход был долгим из-за штиля на экваторе. Спустя шесть месяцев после моего отъезда из Манилы мы увидели мыс Финистерре, затем, пройдя мимо Шербура, вошли в Ла-Манш и восемнадцатого августа тысяча восемьсот двадцать девятого года бросили якорь в Роттердаме.
Мне незачем было там задерживаться, и я в тот же день, наняв экипаж, отправился в Амстердам, а оттуда — на лодке в Монникендам.
Лодка принадлежала моему приятелю-рыбаку, — тому самому, что перевез меня шесть с половиной лет тому назад на борт "Яна де Витта"; хотя я не смог заплатить ему за проезд, он все же обещал выпить за мое здоровье и свято сдержал слово.
На этот раз вместо мешка камней в моем кармане лежал бумажник, а в нем — сорок пять тысяч франков.
Таким образом, высадившись в Монникендаме, поскольку я должен был ему не только за этот переезд, но и за прошлый, да еще с процентами и процентами с процентов за шесть лет, я дал ему двадцать пять флоринов; он давно не получал такой суммы.
Затем я направился к дому.
Издалека я увидел на пороге кормилицу в трауре с двумя младенцами у груди.
Я все понял.
Я вошел в нижнюю комнату, где были мои три сына и дочь.
Увидев меня, все три мальчика убежали.
Девочка была еще слишком мала и не умела ходить; ей пришлось остаться.
Поняв, что я чужой для этих бедных невинных созданий, я взял на руки мою крошку Маргариту и отправился на поиски кого-нибудь, кто мог знать меня.
Узнав, что прибыл какой-то незнакомец, направившийся к дому Бюшольд, Симон ван Гроот догадался о действительном положении вещей и примчался, приведя за собой троих маленьких беглецов и кормилицу с двумя сосунками.
В одну минуту все разъяснилось.
"А бедная Бюшольд?" — спросил я.
"Ты опоздал на два месяца, дорогой Олифус, — ответил Симон ван Гроот. — Бюшольд умерла, дав жизнь твоим двойняшкам".
"Да, Симону и Иуде".
"Совершенно верно. В твое отсутствие я позаботился о твоей семье. Кредиторы продали дом, я выкупил его; они продали обстановку, я выкупил и ее. Я твердо знал, что ты когда-нибудь вернешься, и хотел, чтобы ты нашел все таким, как было раньше, только детей прибавилось".
"Спасибо тебе, ван Гроот".
"И только бедная наша Бюшольд!…"
"Что поделаешь, Симон, все мы смертны".
"Увы! Другой такой тебе никогда не встретить, Олифус".
"Возможно".
Мы со слезами расцеловались, ван Гроот и я, затем уладили дела.
Я вернул ему деньги за дом и мебель, которые решил оставить Маргарите.
Затем я положил на имя каждого из мальчиков по шесть тысяч франков, оставив за собой проценты до их совершеннолетия.
Наконец, девять тысяч франков я оставил себе, чтобы не быть никому в тягость и оплачивать из своего кармана свой графинчик тафии, рома или арака.
— И вы никогда больше не видели Бюшольд? — спросил я.
— Видел еще раз. Она явилась сообщить мне, что я навек избавился от нее, поскольку она только что вышла замуж за Симона ван Гроота, которого схоронили накануне; старый плут просил положить их рядом. Так что, — добавил папаша Олифус, приканчивая свой последний графин арака, — я избавился от нее в этом и в том мире. По крайней мере, я надеюсь на это.
После этого папаша Олифус разразился своим неповторимым смехом и сполз под стол, откуда вскоре послышался храп, не позволявший усомниться в безмятежности сна, в который погрузилась эта чистая и безупречная душа.
В ту же минуту дверь отворилась и раздался тихий нежный голос. Я повернул голову.
На пороге, держа в руке лампу, стояла Маргарита; голос принадлежал ей.
— Господа, пора отдохнуть, — сказала она. — Позвольте показать вашу комнату. Должно быть, мой бедный отец замучил вас своими рассказами? Но надо быть снисходительными к нему. Еще при жизни нашей бедной матери он шесть лет провел в приюте для сумасшедших в Хорне и вышел оттуда не вполне излечившимся. У него на уме одни глупости и небылицы, особенно когда перепьет, а это с ним часто случается. Но, когда он проснется, разум вернется к нему и он забудет о своих путешествиях в Ост-Индию — путешествиях, которые совершил лишь в воображении.
Мы отправились спать, найдя это объяснение гораздо более убедительным, чем все то, что рассказывал нам папаша Жером Франсуа Олифус.
Назавтра мы хотели с ним проститься, но нам сказали, что он повез пассажира в Ставерен.
Так что мы покинули Монникендам, так и не узнав, кто из них нам солгал — старый беззубый рот папаши Олифуса или свежий хорошенький ротик его дочки Маргариты.
Вот только одно говорило против прелестной хозяйки гостиницы "Морской царь": еще вчера она объяснялась только знаками, а на следующий день внезапно научилась говорить по-французски и смогла рассказать нам то, что вы прочли выше.
Предоставляю тем, кто путешествовал в Индию, судить о том, видел ли в действительности папаша Олифус те страны, о которых рассказывал нам, а мы в свою очередь рассказали вам, или Мадагаскар, Цейлон, Негомбо, Гоа, Каликут, Манила и Бидондо пригрезились ему в доме для умалишенных в Хорне.
Александр Дюма Огненный остров
На островах, что раскинулись среди моря восхитительным ожерельем и напоили воздух невыносимо сильным ароматом, ведут жестокий бой любовь и смерть. Там Ява вздымает к небу свои пылающие вершины — губительная, плодородная, божественная Ява.
МишлеЧасть первая
I УРАГАН
Ноябрьским вечером 1847 года на Батавию обрушился один из тех страшных ураганов, столь обычных в индийских морях, когда меняется направление муссонов, и часто опустошающих Яву.
Весь день дул сильный ветер, к шести часам вечера сменившийся яростными порывами. Море разыгралось и с ревом набрасывалось на мол, образующий гавань.
Стихии объединились, стремясь уничтожить человека и все, что им создано.
Казалось, море вот-вот затопит город.
Особенно страшно было на рейде. Во время подобных бедствий более всего ужасает море.
Чудовищные волны поднимались выше домов, с ревом и неистовой силой разбиваясь о берег. Пелена воды накрывала мол, словно банку рифов; суда поднимались на высоту крыш, сталкивались между собой и с невыносимым грохотом разлетались в щепки.
Ливень не прекращался.
Пробило девять часов.
В это время все население Батавии собирается в верхнем городе.
Батавия состоит из двух городов, расположенных один над другим: в одном из них живут, в другом — ведут торговлю; мимоходом заметим для памяти, что есть еще и третий город, китайский Кампонг.
Нижний город расположен рядом с гаванью, среди болот и мангровых зарослей. Корни деревьев часто спускаются к самому морю, а там, где лес отступает, он едва оставляет между собой и океаном узкую полоску, похожую на наши бечевники. Воздух в нижнем городе нездоровый; вечером от земли, целиком состоящей из разложившихся остатков растений и животных, поднимаются тлетворные испарения, и никто не решается провести ночь среди этих гнилостных миазмов.
Между шестью и семью часами, когда мгновенно, как это бывает в тропиках, спускается ночь, жители города торопливо покидают свои фактории, лавки и конторы, куда приходили днем заниматься делами.
Административные здания, театр, общественные сооружения и дома европейцев построены на горе, что возвышается над рейдом, и таким образом защищены от ядовитых испарений побережья.
На тыльном склоне этой горы расположен китайский и малайский кварталы.
Буря так бушевала, что никто не решался покинуть свое жилище, несмотря на опасность, которой подвергались лавки: к утру они могли оказаться полностью разрушенными, как случилось в 1806 году.
И лишь один человек спускался по крутому склону горы из верхнего города в нижний, не обращая внимания ни на дождь, ни на ветер, ни на раскаты грома. Казалось, он совершенно равнодушен к окружающей его картине разрушения.
С его одежды ручьями текла вода, ветки деревьев хлестали его по лицу, вокруг, грозя раздавить его, падали обломки кровли, а он, казалось, был озабочен лишь одним — при свете молний, гигантскими огненными змеями слетавших с небес на землю, силился разглядеть дорогу, да еще с каждым шагом за что-нибудь ухватиться, чтобы буря не сбросила его в море.
Спустившись к рейду, он оставил слева мол, повернул вправо и пошел вдоль набережной.
Море поминутно окатывало его пеной.
Дойдя до конца набережной, он на минуту остановился и стал ждать очередной вспышки молнии.
Небо раскололось, и хлынувший оттуда каскад огня позволил человеку разглядеть узкую мощеную дорогу, теряющуюся среди луж соленой воды.
Свернув на эту дорогу, он шел еще минут пять и в конце концов остановился у небольшого бамбукового дома, стоящего выше складов нижнего города. Подступы к нему преграждались тюками и ящиками всевозможных размеров, сваленными под навесами из брезента — огромных полотнищ просмоленной ткани.
Человек постучался в дверь.
Ответа не было.
Он толкнул дверь, но она не поддалась.
Это его удивило: ведь в большинстве жилищ индийского архипелага дверь представляет собой чисто символическое препятствие.
Подобрав валявшийся вблизи кусок дерева — обломок какой-то крыши, сорванной со стропил ураганом, он принялся, словно молотком, колотить им в упрямую дверь, и эти удары перекрывали даже рев урагана.
Сквозь щели в бамбуковых стенах верхнего этажа пробился слабый свет,"и какая-то женщина спросила по-голландски:
— Wie gaat daar? ("Кто там?")
— Откройте, — ответил незнакомец. — Скорее откройте!
— Кто вы и что вам нужно?
— Сначала откройте; вы должны видеть и слышать, какая ужасная погода: не время вести переговоры через дверь!
— А я не могу открыть, пока не узнаю, что вам нужно и зачем вы пришли; в такую бурю, в такую страшную ночь выходят на улицу лишь те, кто замыслил недоброе.
— И все же мои намерения самые простые и святые, — возразил неизвестный. — Моя жена больна, и от нее отказались все врачи Батавии, все судовые лекари с кораблей, стоящих на якоре; я пришел просить доктора Базилиуса, прославившегося своим искусством, осмотреть ее.
— Если вы пришли только за этим, подождите минутку.
И женщина загремела деревянными задвижками и железными прутьями: дом запирался надежно; затем дверь приотворилась и женщина высунула руку, держа раскрашенный фонарь из резного рога таким образом, чтобы свет падал на лицо пришедшего.
При свете этого фонаря она смогла разглядеть молодого человека лет двадцати пяти, с правильными чертами кроткого и привлекательного лица. Несмотря на явно нидерландское происхождение гостя, это лицо обрамляли, подчеркивая матовую бледность кожи, длинные черные волосы. Выразительные темно-синие — оттенка сапфира — глаза покраснели от слез и бессонных ночей. Его европейский костюм был чистым, но сильно поношенным; хотя стояла непогода, незнакомец был без плаща.
Однако скромность одежды молодого человека лишь подчеркивала его стройность и изящество.
Увидев перед собой такого красавца, в котором она к тому же узнала соотечественника, наша голландка, естественно, успокоилась. Это была хорошенькая юная фризка, не старше восемнадцати лет, сохранившая на Зондских островах свой национальный костюм со шлемом из позолоченного серебра и ослепительно яркой юбкой.
Опустив фонарь, чтобы была видна ступенька, девушка пригласила:
— Входите и закройте дверь: дождь продолжает преследовать вас и за порогом.
Молодой человек послушался; пока он закрывал уличную дверь, фризка открыла другую, что вела в комнату, и впустила туда незнакомца.
Маленькая восьмиугольная комната, стены которой были сплошь покрыты причудливо раскрашенными циновками, в Нидерландах называлась бы приемной, но на Яве она не имела ни специального названия, ни определенного назначения. Посредине ее на лакированном столике стояли бутылка арака и наполовину опорожненные стаканы, лежали раскрытые деловые книги, испещренные записями; на этом же столе, на всей прочей мебели, во всех углах комнаты громоздились распоротые тюки с высовывающимися из них креповыми шалями и кусками шелка, теснились открытые ящики, в глубине которых находились темные груды опиума, пахнувшего терпко и удушливо; повсюду виднелись очаровательные фигурки из слоновой кости, вырезанные с нечеловеческим терпением и необыкновенным вкусом, стоял тонкий фарфор и возвышались коробки с чаем, еще источавшим аромат (он постепенно улетучивается во время долгих путешествий, какие совершает благоухающий лист, чтобы достичь берегов Франции и Англии).
Девушка сбросила на пол один из тюков и пододвинула гостю бамбуковый стул. Заметив, что башмаки незнакомца оставляют на ослепительно белой циновке грязные следы, а с его одежды ручьями льется вода, она недовольно поморщилась.
Молодой человек сел, продолжая оглядываться, словно надеялся обнаружить в одном из углов того, кого искал.
— Вы хотите видеть доктора? — спросила фризка.
— Я не только хочу его видеть, — ответил тот, к кому был обращен этот вопрос, — но я хотел бы, чтобы он отправился вместе со мной к моей жене: она при смерти, понимаете ли вы? Единственное существо в мире, которое меня любит и кого люблю я! Господи! Подумать только, что каждая минута, потерянная мной, означает для нее еще один шаг к смерти. Во имя Неба, — молодой человек, рыдая, протянул к ней обе руки, — проводите меня скорее к вашему хозяину.
— Ах, бедняга, — сказала девушка, — так о чем вы просите?
— Я прошу спасти жизнь моей жены; меня уверяли, что он один в силах это сделать.
— Значит, вам неизвестно, что, с тех пор как у него были неприятности с полицией, доктор Базилиус не посещает больных и не делает исключения ни для кого на свете? Он принимает здесь своих друзей, дает им гигиенические, как он их называет, советы, если его об этом просят, но лишь этим и ограничивается его медицинское вмешательство. Более того, мой хозяин, кажется, года два уже не поднимался в верхний город.
— О, попросите его за меня! — воскликнул молодой человек. — Ради Бога, попросите его за меня, умоляю вас. Если бы вы знали, как я люблю мою бедную Эстер! Спасая ее, он спасет не одно, а два человеческих существа, два создания Господа, двух ближних своих, которые обязаны будут ему жизнью. Боже мой! Боже мой! — снова разрыдался молодой человек. — Вот уже двадцать четыре часа, как она борется со смертью, и не знаю, как выжил я сам: каждая истекшая минута кажется мне веком и в то же время каждая минута все стремительнее приближает миг, когда я должен буду навек с ней проститься. Молю вас, дайте мне пройти к доктору! Позвольте мне броситься к его ногам, заклинать его всем, что есть для него дорогого в этом мире и святого в мире другом, спасти мою жену, если только это, увы, еще возможно.
Хорошенькая фризка в сомнении покачала головой, продолжая с ласковым участием смотреть на гостя.
— Так вы не знаете доктора Базилиуса? — понизив голос, спросила она.
— Нет, я только два месяца назад прибыл в Батавию; в течение этих двух месяцев Эстер не вставала с постели, а я не покидал ее изголовья.
— Но кто же прислал вас сюда?
— Аптекарь, у которого я покупаю лекарства; он сказал, что доктор — выдающийся ученый, необыкновенный человек и единственный врач, способный победить ужасную болезнь, убивающую мою жену.
Поколебавшись, девушка спросила:
— А аптекарь ничего не рассказывал вам о жизни доктора Базилиуса? Не говорил о его привычках, его прошлом, его приключениях? Не повторял сотни слухов, которые распускают о докторе злые языки?
— Нет. Он сказал: "Идите к этому человеку. Он может стать вашим спасителем". И я пришел.
— Да, но не прибавил ли он к сказанному: "Возьмите с собой кошелек, молодой человек, и позаботьтесь о том, чтобы он был как следует наполнен, если собираетесь явиться к нему"?
— Увы! — ответил незнакомец. — Эта рекомендация была бы совершенно излишней: я всего лишь бедный приказчик, у меня нет никаких источников дохода, кроме моей работы. К несчастью, с тех пор как я в Батавии, я не мог доверить чужим людям уход за Эстер и вынужден был отказаться от места, ради которого проделал четыре с половиной тысячи льё. Таким образом, пока я не найду другого места, я совершенно лишен средств к существованию.
— Стало быть, придя сюда…
— …я рассчитывал лишь на милосердие доктора.
Юная голландка вздохнула.
Затем она прошептала, словно говоря сама с собой:
— Бедняжка!
— Что вы сказали? — переспросил незнакомец, чувствуя, как его нетерпение и беспокойство все возрастают.
— Я сказала, дорогой мой земляк: если вы так бедны, я еще сильнее сомневаюсь в том, что доктор согласится осмотреть вашу жену.
— Боже мой! Боже мой! — в отчаянии вскричал голландец. — Если моя несчастная Эстер обречена, так возьми вместе с ее жизнью и мою!
— Если бы я осмелилась… — начала молоденькая служанка, перебирая в руках уголок шелкового передника.
— Что? Говорите же! Вы видите какой-нибудь выход, знаете средство? Не заставляйте меня ждать.
— У меня есть кое-какие сбережения, о которых мой хозяин не знает; вы мой соотечественник, вы страдаете; не знаю почему, но ваше горе причиняет мне боль, и вы внушили мне участие, едва обратились ко мне с первыми словами. Господи, это ведь редко встречается — человек, любящий свою жену так, как вы.
Казалось, девушка старается сделать свое предложение менее унизительным для молодого человека.
— Так вот, возьмите эти деньги, вы вернете мне их, когда ваша жена будет здорова и вы найдете место, — сказала она.
Гость собирался поблагодарить ее, хотел в порыве признательности сжать руки девушки в своих, когда по всему дому разнесся яростный удар гонга.
Юная голландка вздрогнула и, ни слова не сказав незнакомцу, выбежала в боковую дверь.
Оставшись один, молодой человек обхватил руками голову. Силы его были на исходе, он решил, что последняя отчаянная попытка спасти жену была напрасной и, совершенно пав духом, безмолвно заплакал.
Поглощенный собственным горем, он и не заметил, как хорошенькая фризка снова оказалась рядом с ним.
Она тронула его плечо кончиком пальца.
Вздрогнув, он поднял голову и, увидев улыбающееся лицо девушки, в ожидании ее слов замер на месте с открытым ртом.
— Возвращайтесь домой, — произнесла она. — Доктор Базилиус придет к вашей жене.
Внезапно перейдя от глубочайшего горя к безумной радости, молодой человек упал на колени и стал целовать пухлые белые ручки служанки.
— Спасибо, — восклицал он, — спасибо вам, мой ангел-спаситель! Я не сомневаюсь, что именно предложенные вами деньги убедили доктора.
— Нет, — отвечала девушка. — Я сама не могу опомниться от удивления: мне ни о чем не пришлось просить доктора.
— В самом деле?
— Да; я вошла к нему, дрожа от страха и ожидая наказания, ведь он раз и навсегда запретил мне разговаривать с посетителями, и, Бог свидетель, я ни разу не ослушалась его приказа! Доктор даже не поднял глаз от "Калькуттской газеты", которую читал, и сказал только: "Объявите Эусебу ван ден Бееку, что я сейчас отправлюсь к его жене".
— Ему известно мое имя! — в изумлении воскликнул молодой человек.
— Господи, ему все известно! — со страхом произнесла голландка. — Однако, с тех пор как я у него работаю, то есть почти два года, я ни разу не видела, чтобы он вышел из дома.
— Странно, — сказал Эусеб, поднимаясь, — но, в конце концов, главное сделано. Ах, как я благодарен вам! Хотя ваши сбережения и не понадобились, я не забыл вашего щедрого предложения. Как только моя бедная Эстер поправится, если ей суждено выздороветь, я приведу ее сюда, чтобы она могла поблагодарить вас.
— Она голландка? — спросила девушка.
— Да, из Харлема, как и я сам.
— И… она красива? — проглянуло сквозь участие женское любопытство.
— Почти так же красива, как вы! — весело ответил Эусеб.
— Нет, не приводите ее, я сама приду ее проведать. А теперь идите скорее. Поторопитесь, доктор сейчас выйдет и, если он застанет вас здесь, выбранит меня за болтливость.
— Погодите, я должен дать вам свой адрес.
— Незачем, доктор найдет вас, идите же.
— И все же…
— Если бы он в этом нуждался, так спросил бы. Идите, уходите скорее!
И хорошенькая фризка выставила из дома Эусеба ван ден Беека, пожимая ему руку, чтобы смягчить неприятное впечатление от своих действий.
Молодой человек робко пытался сопротивляться.
В эту минуту новый удар гонга, еще более оглушительный и долгий, чем первый, заполнил дом.
Юная голландка собрала все силы, распахнула дверь и вытолкнула за порог Эусеба ван ден Беека, который непременно хотел назвать свой адрес, но оказался на улице, так и не успев сделать этого.
Вслед за этим Эусеб услышал, как девушка запирает дверь на все деревянные и железные задвижки с поспешностью, доказывавшей, какой безоговорочной властью пользовался в своем доме доктор Базилиус.
Напрасно молодой человек звал голландку и надеялся вступить в дальнейшие переговоры — никто ему не ответил, а свет, горевший в доме, погас.
— О! — воскликнул он, отчаявшись сильнее, чем прежде. — Это была жестокая шутка: чтобы избавиться от меня, девушка сказала, будто доктор Базилиус придет к моей жене. Как он это сделает, если не знает, где я живу; к тому же мой дом расположен на окраине верхнего города, среди безымянных улочек, примыкающих к китайскому кварталу!
Он снова и снова окликал служанку, перемежая свои призывы жалобами.
— Боже мой, Боже мой! — бормотал он. — Неужели все мои усилия были напрасны? Этот злополучный врач никогда не сможет найти в темноте мою хижину — ее ведь даже нельзя назвать домом, — и к утру моя бедная Эстер умрет.
И он стал кричать с удвоенной силой.
Потом, поскольку дом доктора оставался безмолвным, Эусеб подобрал кусок дерева, с помощью которого ему раньше удалось привлечь к себе внимание обитателей дома, и опять начал стучать в дверь.
Но его усилия ни к чему не привели: все осталось неподвижным, никто к нему не вышел, дом казался покинутым и даже эхом не отзывался на отчаянные удары, которыми осыпал его несчастный Эусеб ван ден Беек.
II ДОКТОР БАЗИЛИУС
Дверь не открывалась, дом был погружен в безмолвие, и Эусеб решил, что лучше всего ему дождаться, пока доктор Базилиус, исполняя свое обещание, выйдет на улицу. Тогда он представится доктору и покажет ему дорогу к своему дому. Буря не утихала.
Рев моря и свист ветра были по-прежнему сильными. Дождь лил так яростно, что казалось, будто струи воды пришивают небо к земле.
Но горе Эусеба было таким глубоким, он был так далек от всего окружающего, что даже не подумал укрыться под брезентом и оставался беззащитным перед ураганом.
Впрочем, возмущение стихий вполне отвечало тому, что творилось в его душе.
Так он прождал около часа.
Потом, видя, что дверь остается закрытой, и не слыша никакого шума, указывающего на то, что доктор собирается исполнить обещанное, Эусеб вновь принялся стучать — уже не с отчаянием, но в ярости. Однако все было напрасно.
Тогда он пришел в уныние, смирился со своей участью и, решив, что голландка его обманула и доктор Базилиус вовсе не собирался беспокоить себя ради него, печально побрел к набережной тем же путем, каким пришел, а затем поднялся в верхний город той же дорогой, по которой спускался.
На половине пути он остановился и в последний раз оглянулся назад.
Насколько он мог видеть в темноте сквозь потоки воды, устремившиеся с небес на землю, дорога была пуста.
— О негодяй! — воскликнул Эусеб, воздев руки, словно призывая на доктора Божью кару. — От него зависит спасение ближнего, а он не хочет пальцем шевельнуть, потому что я не могу дать ему золота в обмен на человеческую жизнь.
Затем он обвел взглядом горизонт и продолжил:
— Бедная Эстер! Неужели ты обречена, неужели я не встречу милосердной души, которая вырвала бы тебя у безжалостной судьбы, и ты умрешь двадцатилетней? О! Я буду бороться до конца, я буду защищать твою жизнь до тех пор, пока сам Господь не отнимет ее у меня.
И внезапно, приняв решение, Эусеб пустился бежать со всех ног. В несколько секунд он поднялся по склону и постучал в двери дома одного из самых известных в Батавии врачей.
И здесь слуги отказались пропустить его к хозяину, но тот, услышав его крики, рыдания и мольбы, вышел сам.
Эусеб изложил свою просьбу.
— А чем больна ваша жена? — спросил врач.
— До сих пор ее лечили от чахотки, — отвечал Эусеб.
Врач покачал головой и направился к столу; написав несколько строк, он протянул листок бумаги молодому человеку.
— Завтра утром вы привезете вашу жену в больницу и скажете, чтобы ее положили в палате "Д": я буду ее лечить. Вот вам пропуск. Но не могу скрывать от вас, что здесь не было ни одного случая излечения от этой болезни, исход которой и в Европе почти всегда смертельный. Впрочем, этот шарлатан Базилиус уверяет, будто излечивает больных в последнем градусе чахотки.
— Базилиус! Снова Базилиус! — воскликнул Эусеб, выбежав из дома врача и даже не взяв протянутой записки. — О, он должен прийти и осмотреть ее, я силой приведу его к Эстер, пусть даже для этого мне придется пригрозить, что я убью его, или поджечь дом, чтобы заставить выйти на улицу!
Взволнованный предложением врача отвезти жену в больницу, Эусеб готов был вернуться и осуществить свою угрозу; но тут он вспомнил, что давно ушел из дома, Эстер все это время оставалась одна и, возможно, нуждается в помощи.
Представив себе, как Эстер зовет его и не получает ответа, он почувствовал, что сердце его готово разорваться от жалости: несчастная женщина считает себя покинутой единственным, кто у нее оставался на этом свете.
Вместо того чтобы спуститься к порту, Эусеб устремился в верхний город.
Он обогнул длинные стены садов, окружавших роскошные виллы богатых голландских торговцев, и свернул в лабиринт грязных и смрадных улочек еврейского квартала (подобно китайцам и малайцам, евреи имели в Батавии свой особый квартал).
Наконец он остановился перед своим домом.
Эта хижина первоначально была построена из бамбука, но, по мере того как она разрушалась, ее латали кусками циновок и обрывками парусов.
Нельзя представить себе более убогого жилища.
В нем был всего один этаж.
Сквозь щели в циновке, служившей одновременно окном и дверью, пробивался слабый свет: это горел ночник у изголовья больной.
Увидев этот огонек, Эусеб содрогнулся.
— Господи! — сказал он. — Этот огонек едва теплится, но, может быть, он пережил мою бедную Эстер!
Его охватила такая нестерпимая тоска, что он не мог решиться войти в дом.
Наконец, собрав все силы, он приподнял циновку, вбежал в комнату и устремился к жалкой постели, на которой лежала его жена.
Молодая женщина оставалась неподвижной и казалась спящей: глаза сомкнуты, рот полуоткрыт, дыхания почти не слышно.
Ужасная мысль пронзила мозг Эусеба подобно черной молнии, и он склонился к губам Эстер, ловя ее вздох, но послышавшийся из угла комнаты смешок заставил его вздрогнуть.
Обернувшись, он различил в полумраке фигуру человека, сидевшего на бамбуковом табурете и державшего во рту трубку, головка которой светилась при каждой затяжке.
— Ну-ну, мой юный друг, — сказал он. — Кажется, вы немного загуляли: от мангровых зарослей путь сюда неблизкий, но я жду вас уже больше часа.
— Но кто вы, сударь? — спросил изумленный Эусеб.
— Доктор Базилиус, черт возьми! — ответил курильщик.
Эусеб принялся рассматривать странного гостя, расположившегося в его доме. Это был толстый, короткий и пузатый человек, что опровергало, несмотря на ходившие о нем слухи, всякую мысль о его дьявольском происхождении (если представлять себе сатану как это принято — тощим, высоким и худосочным).
Трудно было сказать точно, сколько лет доктору: это был не то тридцатипятилетний человек, который казался старше своих лет, не то пятидесятилетний, выглядевший моложе своего возраста.
Цвет лица у него был кирпично-красный, какой появляется у людей белой расы после долгих лет, проведенных ими на морском ветру под палящим солнцем тропиков.
Толстые щеки и сильно развитые челюсти расширяли его лицо книзу и придавали ему вульгарное выражение, искупавшееся лишь необычностью взгляда.
Если в самом деле доктор Базилиус был сродни духу тьмы, то это семейное сходство следовало искать именно в глазах.
Глубоко сидящие и наполовину скрытые густыми бровями, его глаза были живыми и проницательными, их острота вполне гармонировала с удивительно хитрой улыбкой, приподнимавшей углы тонких губ и резко контрастировавшей со всей голландской внешностью доктора.
Выпуклый лоб переходил в залысину, позволявшую увидеть два выступа на том месте, где в соответствии с античной мифологией располагались рога сатиров, а следуя средневековым поверьям, — рога дьявола. Отсутствующие волосы заменяла красная вязаная шапочка, которую доктор натягивал на уши, когда хотел защититься от холода или дождя, и поднимал на китайский манер, если был уверен, что ветер не представляет для его ушей никакой опасности.
Его одежда ничем не напоминала ту, что обычно носят его коллеги. С тех пор как в Батавии распространился европейский костюм, врачи там стали одеваться традиционно — черный сюртук, черные брюки, белый жилет и белый галстук.
Ничего похожего вы не обнаружили бы в повседневном наряде доктора.
Поверх брюк из полосатого тика он, чтобы защититься от дождя, надел штаны из желтой просмоленной ткани, какие носят матросы во время плавания; пальто из синего сукна, вполне заурядное, но толстое и теплое, и красный шейный платок из Мадраса, сколотый огромной булавкой в виде якоря, дополняли его костюм, который, возможно, был бы вполне уместным на берегах Зёйдер-Зе, но на Яве выглядел более чем странно.
Как мы уже говорили, доктор сидел на бамбуковом табурете, поставив его в угол, чтобы образовалась подобие кресла. Прогоняя тоску ожидания, он, как тоже сказано выше, курил маленькую, из посеребренной меди трубку с длинным и тонким чубуком. Головка этой трубки, размером с наперсток, была заполнена смесью, содержащей опиум.
— Но как вы сюда попали, господин доктор? — поинтересовался Эусеб ван ден Беек.
— По воздуху, верхом на метле, — ответил доктор с тем же резким сухим смешком, напоминавшим треск, который издает кузнечик. — Сами понимаете, при таком ветре мне не потребовалось много времени, чтобы добраться сюда.
— Главное — то, что вы здесь, доктор, и моей признательности нет дела до вашего способа передвижения. Спасибо, добрый доктор, спасибо!
И Эусеб хотел с благодарностью пожать доктору руку.
— Осторожнее! — быстро отдернув руку, остановил его доктор. — Берегитесь моих когтей!
— Что вы хотите этим сказать? — спросил молодой человек.
— Вероятно, вы единственный человек в славном городе Батавии, которому ничего не известно о моей дружбе с сатаной, о том, что князь тьмы каждый день приходит ко мне пить кофе: утром — со сливками, вечером — на одной воде, и в трех или четырех случаях я, благодаря его советам, выглядел меньшим ослом, чем мои коллеги.
— Напротив, доктор, я слышал об этом, но как можно в наше время верить подобным нелепостям?
— Эх, мой юный друг, чем черт не шутит. Впрочем, признательность — груз до того тяжелый, что многие с радостью от него избавились бы даже благодаря подобной нелепости.
— Поверьте, доктор, я не из их числа и всю свою жизнь буду помнить об отзывчивости, поспешности и бескорыстии, с которыми вы откликнулись на мою просьбу.
— Ну-ну! — воскликнул доктор, которого охватил такой неудержимый смех, что он в конце концов закашлялся. — Этот молодой человек меня забавляет, он чрезвычайно смешон. Продолжайте, дружок, я люблю видеть, как сердце исходит потоками слов; это выдает возвышенную душу тех, кто предается подобным излияниям, а я обожаю возвышенные души. Так о чем мы говорили?
— О том, что в обмен на услугу, которую вы собираетесь мне оказать, вылечив мою Эстер, вы, доктор, можете располагать мной, как вам будет угодно; назначайте любую цену, я с благодарностью отдам вам даже собственную жизнь, потому что вы спасете более драгоценное существование — жизнь женщины, любимой мною.
— Myn God![5] Да ведь вы мне сделку предлагаете, молодой человек. Так и есть, вы явно поняли буквально то, что добрые люди рассказывают обо мне. Признательность завела вас слишком далеко. Признательность… Черт возьми, берегитесь ее, следует остерегаться подобных чувств.
— Доктор, доктор, — произнес несчастный Эусеб, до того оскорбленный шутками, которыми Базилиус отвечал на изъявления благодарности, что слезы брызнули из его глаз. — Доктор, вы смеетесь надо мной?
— О, я не стал бы этого делать! — воскликнул доктор. — Разве я хоть в чем-нибудь усомнился? Я верю всем обещаниям, их всегда дают от чистого сердца. Но вот выполнять их — другое дело; честные люди — это те, кто держит слово, сожалея о том, что дал его.
— Доктор, клянусь вам…
— Я думаю о вас то же самое, мой юный друг, что о других людях: так же искренне, как дали обещание, вы о нем забудете.
— Доктор, я клянусь…
— Постойте, — перебил Эусеба доктор, — вот перед вашими глазами, справа от ящика, что служит вам комодом, осколок зеркала.
— И что же?
— Приблизьте к нему свое лицо.
— Я это сделал, доктор.
— Что вы видите?
— Свое отражение.
— Так вот, обещать, что через двадцать лет вы будете помнить о своей клятве, столь же бессмысленно, сколько надеяться через двадцать лет увидеть себя в зеркале таким, как сейчас. Но это не имеет значения, продолжайте, мой юный друг. Мне в десять раз приятнее слушать, как люди говорят о своей признательности, чем видеть ее проявления. Так что продолжайте, не стесняйтесь.
— Словом, доктор, — сказал бедняга Эусеб, упорно старавшийся убедить своего странного собеседника в том, что он не такой неблагодарный, как большинство людей, — я надеюсь, что мне выпадет счастье доказать вам ошибочность вашего дурного мнения о роде человеческом. А теперь мне кажется, что мы потеряли много времени. Хотите ли вы, чтобы я разбудил больную?
— Для чего?
— Доктор, для того, чтобы вы оказали ей необходимую в ее состоянии помощь.
— Что ж, — доктор издал свой пронзительный смешок, — в данный момент ей в ее состоянии ничего не требуется: она спит, как никогда прежде не спала. Прислушайтесь, и вы даже не услышите ее дыхания.
— Это правда, — встревожился молодой человек и шагнул к постели.
Но доктор удержал его за полу сюртука.
— Оставьте ее, — сказал он. — Именно во сне силы восстанавливаются. Кто вам говорил, что сама смерть, которой все так боятся, не есть долгий отдых перед новой жизнью? Смотрите-ка! Право же, кажется, я только что создал систему, и, может быть, она не так уж бессмысленна.
— Не хотите ли, по крайней мере, доктор, чтобы не терять больше времени попусту, выслушать мой рассказ о болезни Эстер — о проявлениях ее первого периода?
— Прежде всего поймите, мой мальчик, что мы вовсе не теряем времени напрасно. Напротив, мы философствуем, а это наилучшее использование часов своей жизни, какое может найти человек. Что касается рассказа о болезни вашей жены, о симптомах первого периода — мне все известно не хуже, чем вам. Существуют законы рождения, точно так же существуют законы смерти; из этого следует, что всякое знание дается легко, стоит только научиться читать эту великую книгу для слепых, называемую природой. Так что дадим спать вашей жене и поговорим о других вещах.
Эусеб вздохнул, но, решив, что должен подчиняться капризам доктора, спросил:
— О чем вам хотелось бы поговорить, доктор?
— О чем угодно, мой юный друг. Мне безразлично, что пить: арак или наш превосходный ехидам, констанс или пальмовое вино. Я провел долгие часы за беседой с почтенным брамином, служившим Джаггернауту, а на следующий день, после того как полностью исчерпал тему таинства тридцати шести воплощений Брахмы, с не меньшим интересом прислушивался к болтовне ласкаров на джонке, в которой мы спускались по священной реке.
— Ну, а теперь, доктор, — начал Эусеб (несмотря на то что сердце молодого человека все сильнее сжимала безотчетная тоска, он старался казаться веселым и доверчивым), — скажите мне, отчего вы так скоро и бескорыстно откликнулись на мою просьбу, вы, кто…
Эусеб, заметив, что неудачно начал фразу, не решался ее закончить.
— Кто?.. — спросил доктор.
Затем, видя, что Эусеб продолжает молчать, договорил:
— … кто продает на вес золота те небольшие знания, которые у меня есть или которые мне приписывают? Вот что вы хотели сказать вот что, по крайней мере, вы думали.
— О, доктор!
— Вы меня этим не оскорбили. Черт возьми! Священника обогащает религия, а врача — смерть. Неужели вы считаете, что я, если бы захотел, не смог бы ясно и неопровержимо доказать вам: не только врач, но человек любой профессии наживается на несчастье ближнего? Только зло, причиненное другому, возвращается к человеку, лишь за добро не платят добром. Но эта тема заведет нас чересчур далеко, вернемся к вашему вопросу. Есть одна вещь, которую я предпочитаю золоту, может быть, оттого, что золота у меня слишком много.
Эусеб в изумлении воззрился на доктора.
— Ах да!.. Вот еще одно доказательство того, какого прекрасного мнения о человеческом роде держатся люди. Вас удивляет то, что я говорю о своем богатстве? В таких вещах не признаются по двум причинам: во-первых, богатый человек всегда боится, как бы его не обокрали; но это причина не главная, еще больше он боится — и это вторая причина, о которой я должен был бы сказать с самого начала, — еще больше он боится, что кто-то может доискаться источников его богатства. А этими источниками, юный мой друг, чаще всего оказываются подкуп, лихоимство, мошенничество, воровство и даже убийство; сами понимаете, какого презрения удостоилась бы большая часть наших миллионеров, если бы кто-нибудь добрался до истоков их обогащения. Путешественники, достигнув верховьев Нила на четвертом градусе широты, обнаружили там лишь грязное болото со смертоносными испарениями. Большинство крупных состояний, дружок, происходят из куда более нечистых болот, чем те, в которых берет свое начало Нил. Не подходите к ним слишком близко: вы рискуете вдохнуть больше углекислого газа, чем азота или кислорода. Я — другое дело, я бесстыжий плут и говорю вслух, каким путем разбогател. Подобно доктору Фаусту, я продался сатане, и он дал мне испить из чаши знания. Я могу бороться против Бога и исцелять людей, но забочусь о том, чтобы получить плату прежде выздоровления больного: оставив это на потом, я ходил бы в протертых штанах и с дыркой на локте, как вы.
— Именно поэтому я и обратился к вам с вопросом, на который вы, доктор, так и не ответили.
— Так вот, я отвечаю на него, мой юный друг. Есть нечто, предпочитаемое мною золоту, — это мои прихоти. Выказанное мною расположение, в котором вы чуть ли не упрекаете меня, — мой каприз, только и всего. Вот потому я так недорого ценю вашу благодарность… Курите ли вы опиум, меестер ван ден Беек?
— Нет, доктор.
— Напрасно, опиум — превосходная вещь; говорят, от него худеют, — но взгляните на мой стан; говорят, от опиума тускнеют глаза, — но взгляните на мои.
С этими словами доктор похлопал себя по круглому животу, отозвавшемуся звуком, каким мог бы гордиться большой барабан, и сверкнул глазами так, что ослепил Эусеба.
— Говорят еще, что он укорачивает жизнь, — продолжал доктор, — это заблуждение, ложь, клевета! Он удваивает ее продолжительность, поскольку во сне мы проживаем вторую жизнь.
— Доктор, — с беспокойством перебил его Эусеб, — раз уж вы заговорили о сне, не находите ли вы, что моя жена спит слишком долго и это внушает беспокойство?
— Знаете ли вы, что народы Востока — турки, арабы и даже китайцы, которых мы считаем черновым наброском человека или подделкой под него, — воспринимают жизнь гораздо логичнее, чем мы, жители Запада? Что такое наше тупое или буйное опьянение от вина или пива, это материальное поглощение, от которого человек становится хуже скотины, по сравнению с вдыханием благоуханного дыма, который, непрестанно поднимаясь, обволакивает мозг, а не падает в желудок; по сравнению с волшебным оцепенением, что освобождает душу от ее земной оболочки и позволяет ей путешествовать из одного рая в другой?
— Доктор, милый доктор, умоляю вас, поговорим об Эстер.
— Ну что ж, давайте, раз вы непременно этого хотите, — ответил Базилиус, не пытаясь скрыть своего недовольства.
— Так вот, доктор, вы должны знать, что еще до того, как мы покинули Харлем, у нее начался кашель, длительные и непрерывные припадки которого меня тревожили.
— Ах, вы из Харлема? — прервал его доктор Базилиус, казалось не замечавший, как нетерпеливо Эусеб ждет конца этого вмешательства. — Право, это прелестный городок.
— Да, доктор, очаровательный; но позвольте мне…
— Но, — продолжал доктор, — если вы действительно из Харлема, я думаю, вы знаете знаменитый "Ночной дозор" Рембрандта, который теперь находится в кабинете господина ван Дамма?
— Да, доктор, но я хотел сказать вам…
— Милый мой, то, что я хочу сказать вам, гораздо интереснее того, о чем вы собираетесь сообщить мне; я рассказываю вам о человеческом творении, которое проживет века — столько, сколько просуществуют холст и положенные на него краски, в то время как человек, этот венец творения Господа, созданный из костей и плоти, живет тридцать, сорок, пятьдесят или шестьдесят лет, после чего рассыпается в прах… Фу, как говорил Гамлет.
— Доктор, — невольно вздрогнув, произнес Эусеб, — честное слово, вы пугаете меня.
— Представьте, — продолжал Базилиус, словно и не слышал слов, только что сказанных Эусебом, — это знаменитое полотно всего лишь копия, дорогой господин ван ден Беек. А если вам хочется увидеть оригинал, достаточно прийти ко мне; вы увидите не только "Ночной дозор", но всю мою коллекцию; вам следует знать, что у меня прекрасная картинная галерея здесь, в Батавии, в жалкой хижине на набережной; как я только что собирался сказать вам, благодаря моему богатству я смог окружить себя подлинными восточными наслаждениями и духовными радостями европейцев. Вы найдете у меня все: шедевры искусства и природы, картины Рембрандта, Тициана и Рубенса, лучшие вина Венгрии, Франции и Испании, наконец, прекраснейшие образцы трех населяющих землю рас: черной, белой и желтой.
— Боже мой! Боже мой! — бормотал вполголоса молодой человек, беспокойно перебегая через комнату, чтобы взглянуть на юную женщину, по-прежнему неподвижную и безмолвную. — Господи! Неужели вот этот немилосердный болтун и есть тот самый доктор Базилиус, об искусстве которого мне рассказывали такие чудеса?
Наконец он остановился с решительным видом и потребовал:
— Сударь, прежде всего осмотрите мою жену, очень прошу вас, а потом… Ах, Боже мой, потом мы будем с вами говорить сколько пожелаете.
— Хорошо, — согласился доктор, — но прежде еще несколько слов.
— Покороче.
— Ваше имя Эусеб ван ден Беек?
— Да, сударь.
— Вы родом из Харлема?
— Я только что вам это сообщил.
— Вы сын Якобуса ван ден Беека?
— Сын Якобуса ван ден Беека.
— Супруг Эстер Мениус, дочери Вильгельма Мениуса, нотариуса, и Жанны Катрин Мортье, его жены?
— Совершенно верно, сударь, вы как будто метрическую книгу читаете.
— … сестры, — продолжал доктор, — некоего Базил я Мортье, который в двадцать лет сел на корабль, покинул Харлем и больше туда не возвращался?
— Нет, сударь, никогда больше. Вы знали этого дядю моей жены, с которым сама она едва знакома?
— Я слышал о нем и даже знал его лично. Он был контрабандистом, морским разбойником, пиратом. Не знаю, в каком уголке земного шара он был повешен.
— Ах, Боже мой!
— О, не жалейте его, это был отъявленный негодяй.
— Доктор, он был дядей моей бедной Эстер. Простите меня, но я попрошу вас не говорить дурно о столь близком нашем родственнике. Мы, голландцы старого закала, воспитаны в уважении к семье.
— В самом деле, вы удивительный молодой человек. Так не станем больше говорить о вашем дяде.
— Нет, доктор, нет. Но, Бога ради, поговорим о его племяннице.
— Странно, — произнес Базилиус, говоривший будто бы сам с собой, но достаточно громко для того, чтобы Эусеб его слышал, — поразительно, с какой настойчивостью человек устремляется навстречу своему несчастью.
— Так я говорил вам… — снова начал Эусеб, не обращая внимания на эту своего рода реплику a parte[6].
Но доктор нетерпеливо перебил его:
— Ох, Господи! Да, вы сказали мне, что перед вашим отъездом из Харлема у вашей жены начался кашель, продолжительность припадков которого вас тревожила.
Эусеб хотел продолжать, но доктор не дал ему говорить.
— О, дайте мне рассказать вам дальнейшее, — продолжил он, — и вы увидите, что незачем надоедать мне, сообщая вещи, известные мне лучше, чем вам.
— Лучше, чем мне? — воскликнул удивленный Эусеб.
— Ей-Богу, вы сами в этом убедитесь. Остановите меня, если я ошибусь, но, черт возьми, не прерывайте меня ни в каком другом случае.
— Я слушаю вас, — ответил Эусеб, удивляясь еще больше.
— Так вот, первые дни плавания крайне утомили ее. Она вынуждена была оставаться в постели: кашель не прекращался, появилась обильная мокрота…
— Да, доктор, так оно и было.
— Тогда дайте мне продолжить. На пятый день после отплытия у вашей жены началось сильное кровохарканье, иначе говоря, настоящая гемоптизия; ее остановили с помощью сиропа Фаулера, но ваша жена продолжала жаловаться на жестокую боль в груди; кашель сделался слабее, но пищеварение прекратилось. В таком состоянии ваша жена находилась четыре или пять дней, после чего, почувствовав себя лучше, решила, что она уже здорова. Неделей позже, поскольку погода была ясной, а море — спокойным, больная достаточно окрепла для того, чтобы подняться на палубу и прогуливаться, опираясь на вашу руку. Боли в груди и в животе утихли, появился аппетит, к вашей жене вместе с ним частично вернулись силы и полностью — ее молодость и веселость. Когда после пяти месяцев плавания вы высадились на берег в Батавии, ни вы, ни она больше не думали о туберкулезе легких, словно эта болезнь никогда не существовала на земле, оставшись в ладони Господа, которому мы обязаны всеми дарами, как надежда осталась на дне сосуда Пандоры.
— Да, да, совершенно верно, доктор! — воскликнул Эусеб, куда более напуганный знаниями доктора, чем богохульством, которое тот только что проронил, сопроводив его тем сатанинским смехом, какой мы уже замечали у него.
— Дождитесь финала, чтобы начать аплодировать, черт возьми! Как все великие артисты, я приберег свой эффект. Через два дня после вашего прибытия вы возвращались от негоцианта, которому вас рекомендовали и у которого вы должны были начать служить с ближайшего понедельника; ваша жена стала жаловаться на боль в пояснице и на усталость в руках и ногах. В тот же вечер возобновился кашель, на следующий день появилась мокрота; туберкулы продолжали свое разрушительное дело, углубляя каверны под воздействием влажной жары. При выслушивании было обнаружено, что у вашей жены уже нет или почти нет правого легкого и задето левое; у нее открылась, как мы говорим, скоротечная чахотка. Дыхание делалось все более затрудненным и свистящим, кровообращение — ускоренным и неровным; пульс доходил до девяноста пяти или ста ударов в минуту, а по ночам поднимался даже до ста десяти и ста пятнадцати; утром грудь, лицо и руки покрывал холодный липкий пот; силы убывали, разум угасал, чувства притуплялись. Любовь — даже любовь, то проявление жизни, которое, казалось, должно было пережить вашу жену, — покинула ее; в течение нескольких дней эта еще недавно такая веселая и любящая юная женщина превратилась в старуху, безразличную даже к проявлению вашей нежности, равнодушную ко всему, вплоть до самой смерти. Все происходило именно так?
— Да, доктор, в точности; но как вы могли узнать?..
— Ну-ну, — ответил доктор. — Правду сказать, мне бывает смешно, когда в ваших прелестных европейских романах легочных больных изображают розовыми и слащавыми, словно те ужасные пастели, которые у французов считаются живописью. Очаровательные больные дамы, в розовом атласном пеньюаре и чепчике с оборками, вдыхающие воздух Ниццы или пьющие целебные воды, изящно кашляют и благородно падают в обморок. Скажите, скажите же, метр ван ден Беек, в последние дни похожа была ваша Эстер на этих хорошеньких чахоточных?
— Увы! Нет, доктор; но, несмотря на изменения, происшедшие в ней из-за болезни, я не стал меньше любить ее; помогите ей, вылечите, спасите ее!
— Дорогой друг, — произнес доктор со своим пугающим смехом, — я и сам бы рад был сделать это, но мы немного опоздали.
— Как немного опоздали? — воскликнул Эусеб, растерянно и в страхе глядя на врача. — Вы сказали, что уже поздно?
— Без всякого сомнения; ваша жена испустила последний вздох в половине девятого вечера, как раз в ту минуту, когда вы в первый раз постучали в дверь моего дома.
Эусеб страшно закричал и бросился к постели.
Тело Эстер уже было сковано ледяным холодом и той отверделостью, которая на языке науки называется трупным окоченением.
— О, это невозможно, это невозможно! — вопил несчастный молодой человек; упав на постель, он сжимал жену в объятиях и прильнул к ее уже застывшим губам. — Ах, Боже мой, Боже мой! Доктор, помогите же мне! Она не мертва, она не может умереть вот так, не простившись со мной! А я так спокойно слушал все, что говорил этот человек. Эстер! Эстер! О доктор, умоляю вас; я оставил ее спокойной, улыбающейся, она сказала мне, что с самого начала своей болезни не чувствовала себя так хорошо!
— Это всегда так бывает, бедный мальчик, — объяснил врач. — Жизнь должна улыбнуться тем, кому приходится с ней расстаться.
III СДЕЛКА
Убедившись, что его жена мертва, Эусеб впал в страшное отчаяние: он кричал так, что мог разорвать самое бесчувственное сердце, падал на безжизненное тело, стараясь его согреть, рвал на себе волосы и ломал руки, поднимая их к небу.
Доктор, сидя все на том же табурете, совершенно спокойно набивал и раскуривал свою трубку; он не произнес ни слова, не сделал ни одного движения, чтобы остановить этот взрыв горя.
Понемногу боль Эусеба утихла или, вернее, погасла, словно слишком сильное пламя, поглотившее всю свою пищу.
После особенно сильного нервного припадка глаза молодого человека, до сих пор сухие и горящие, увлажнились; он заплакал, и слезы облегчили ему душу.
Он сел на край кровати, откинул несколько волосков, упавших от его беспорядочных движений на лицо умершей, заботливо уложил ее светлые косы, взял ее руку в свою и, повернувшись к доктору, произнес:
— Ах, сударь, вы не можете знать, что я потерял! Представьте себе, что мы росли вместе, жили по соседству; я делил с ней все ее игры, как позже она разделила со мной все мои невзгоды. Она была до того хорошенькая в десять лет и уже тогда звала меня своим муженьком; у нее было так много светлых локонов, что их никогда не удавалось спрятать под маленький миткалевый чепчик, и до того прекрасные голубые глаза, что незабудки, сорванные нами на берегу ручья, когда я плел из них венки, казались бледными на ее головке. О, кто мог сказать, что так скоро я увижу ее бледной, холодной, мертвой! О Господи, Господи! Моя Эстер! — воскликнул Эусеб и снова разрыдался.
— Это всеобщий закон, мой мальчик, — сказал доктор, с наслаждением втягивая опиумный дым. — Мы расцветаем, чтобы увянуть, и растем, чтобы попасть под косу; счастливы те, кого смерть скосила в расцвете красоты, молодости, пока они еще наполняли воздух вокруг себя благоуханием, а не тогда, когда осенний ветер засушил их на корню и зима засыпала снегом. Вы видите, каким я стал, но ведь и я был хорошеньким мальчиком, прелестным розовым и белокурым ребенком. Сейчас трудно это представить себе, не правда ли?
И он разразился своим резким смехом, так странно прозвучавшим у одра смерти.
Содрогнувшись, Эусеб встал, но почти сразу сел снова, почти упал, словно ноги подкашивались и не держали его.
— Боже мой, Боже мой, — в изнеможении проговорил он, — какая страшная судьба уготована мне!
— В добрый час, — пожелал доктор. — Поплачьте над собственной участью, дружок; дайте в вашей скорби свободно излиться человеческому эгоизму, признайте, что не о жене своей горюете, но жалеете себя самого, и вы будете правы.
— Эгоизм, сударь! Вы называете мои страдания эгоизмом! Но этот эгоизм убьет меня; я чувствую, что не смогу пережить ту, которую так любил!
— Тем лучше для вас, мой юный друг, тем лучше, — ответил доктор. — И если вы сдержите слово, я не стану вас жалеть, как не жаль мне молодой женщины, только что расставшейся с жизнью, успев узнать лишь прекрасные ее стороны и не изведав горя, низостей и разочарований, ожидающих в этом мире каждого; уснув, она продолжает грезить, если только в потустороннем мире грезы все-таки существуют.
Эусеб ван ден Беек молча закрыл лицо руками. Время от времени слышались его рыдания, которым вторил смешок доктора.
Неожиданно Эусеб вскочил на ноги: этот смех терзал его сердце, он не мог его больше слышать.
— Сударь, — обратился он к врачу, — мне крайне неприятно делать выговор человеку вашего возраста и вашей профессии, но, право же, все то время, пока вы были здесь, вы непрестанно выказывали неуважение к моему горю.
— В моем возрасте, дружок, — спокойно сказал Базилиус, — люди не меняют своих привычек, а я привык уважать лишь то, что мне понятно.
— Что ж, я отвечу тем же, сударь, — глаза Эусеба были сухи, голос сделался пронзительным, — и не стану терять времени на то, чтобы отыскивать причины вашего удивительного скептицизма. Извольте выйти отсюда: у меня есть только эта комната для того, чтобы молиться, а ваше присутствие иссушает мои слезы, оно ненавистно и нестерпимо для меня.
Доктор хладнокровно достал висевшие на шее на тяжелой серебряной цепи большие часы и откинул двойную крышку.
— Благодарность, о которой вы недавно говорили и которой я удостоился за то, что бескорыстно побеспокоил себя ради особы мне незнакомой, просуществовала ровно один час сорок семь минут. Эх-хе-хе, молодой человек, это немало, я встречал и менее продолжительную признательность.
Подобрав брошенную им в угол шляпу из вощеной кожи, доктор подтянул просмоленные штаны и направился к двери.
Возражение доктора показалось Эусебу резким, но не лишенным справедливости, и он невольно сделал движение, словно хотел удержать Базилиуса.
Доктор, заметив жест Эусеба, остановился у порога и сказал:
— Только что я слышал, как вы клялись не пережить вашей жены. В тех случаях, когда речь идет не о признательности, слову честного человека можно верить, а вы считаете себя честным человеком. Действительно ли вы готовы, раз ваша жена мертва, уйти вслед за ней?
— Да, — мрачно подтвердил Эусеб.
— Тогда я докажу вам, молодой человек, что мое расположение к вам, каким бы необъяснимым оно вам ни казалось, — не пустой звук. Возьмите этот кинжал; это малайский крис, отравленный знаменитым американским ядом, о котором вы несомненно слышали; он называется кураре. Простого укола, нанесенного в любой части тела так, чтобы пролилась кровь, достаточно для мгновенной и безболезненной смерти. Бери кинжал, Эусеб ван ден Беек, бери, и на этот раз я снова избавляю тебя от необходимости благодарить.
— Спасибо, — ответил Эусеб, схватившись за лезвие кинжала.
— Ах, Боже мой! Осторожнее, дорогой друг! Вы можете нечаянно уколоться или порезаться, а это непоправимо. — Снова разразившись своим зловещим смехом, доктор прибавил: — До свидания, мой милый, до свидания!
И вышел.
— Прощайте! — ответил ему Эусеб.
Оставшись один, молодой человек опустился на колени рядом с усопшей и хотел помолиться. Но память не подсказала ему ни слова из знакомых с детства молитв.
Его губы отказывались произносить имя Господа, Пресвятой Девы и святых.
Можно было подумать, что присутствие дьявольского врача изгнало из хижины всякое религиозное чувство, что служит человеку утешением в глубоком горе.
Эусеб заметил цветы в вазе, которые вчера собрал для Эстер по ее просьбе.
Он сплел из них венок и сделал букет. Венок положил ей на голову, а букет вложил в руки Эстер.
Затем он поднял ее, передвинул на постели так, чтобы освободить себе место, и улегся рядом с женой.
Крепко обняв мертвую жену, он осыпал поцелуями ее губы и глаза.
Потом, левой рукой продолжая обнимать Эстер и прижимать ее к своей груди, правой он взял лежавший на краю постели крис и приставил его острие к груди.
В эту минуту Эусеб заметил у изножья постели Базилиуса, вошедшего неслышно и незаметно: доктор смеялся, глядя на него.
Эусеб ван ден Беек вскочил, как будто его подтолкнула пружина, и с быстротой молнии кинулся к доктору.
Тот не сдвинулся с места, на лице его не отразилось ни малейшего страха, только смех стал похожим на лай гиены.
Но как только молодой человек подошел ближе, доктор схватил его державшую отравленное оружие руку и вывернул ее так сильно, что Эусеб выронил крис из полураздавленных пальцев и закричал от боли.
Затем, не давая противнику опомниться, доктор бросился на него и с ловкостью профессионального борца приподнял, перевернул в воздухе и совершенно оглушенного швырнул на пол.
Потом он поставил колено ему на грудь, левой рукой обхватил оба запястья, сделав сопротивление невозможным, и, подобрав правой рукой лежавший рядом крис, приставил, в свою очередь, оружие к сердцу Эусеба.
— Ну-ну! — насмешливо произнес доктор. — Так, значит, мы хотели обратить кинжал против того, кто нам его дал? Это нехорошо, господин Эусеб.
— Я вам уже сказал, сударь, — сказал Эусеб, в последний раз тщетно попытавшись вырваться, — что не намерен терпеть ваше присутствие.
— Неблагодарный! — воскликнул доктор. — Ведь я люблю тебя как собственную плоть.
— Если вы меня любите, почему издеваетесь над моим горем; если вы меня любите, отчего мешаете воспользоваться кинжалом, который дали мне?
— Помешал тебе воспользоваться кинжалом? Я никоим образом не хотел тебе помешать воспользоваться им; я только хотел взглянуть, как ты это сделаешь.
— Вы ушли, и я думал, что избавился от вас. Скажите, зачем вы вернулись?
— Возможно, затем, чтобы тебя спасти, но, может быть, и для того, чтобы присутствовать при развязке небольшой комедии, которую ты обещал для меня сыграть. Угадывай.
— Так обратите ее в трагедию и поскорее кончайте: у вас в руках кинжал, а жизнь для меня вдвойне невыносима, если ею я обязан вам. Убейте меня! Убейте! Да убейте же меня! — кричал Эусеб, бросаясь навстречу лезвию. — Это единственная услуга, какую вы можете оказать мне, и единственная, которую я соглашусь принять от вас.
— Ну, слава Богу, вот и оскорбления, такая славная ничем не прикрытая и не приукрашенная брань! Ты исправляешься, Эусеб ван ден Беек, мне это нравится больше твоих приторных комплиментов… Так, значит, мы по-прежнему хотим отправиться вслед за нашей ненаглядной Эстер и жизнь решительно кажется нам невыносимой с тех пор, как некому ее украсить?
— Да кончай же, палач! — и Эусеб сделал нечеловеческое усилие, стараясь освободиться.
— Немного терпения, мой юный друг, немного терпения! Вот в чем заключается тайна жизни, вот где источник силы.
Зажав кинжал между зубов, доктор с таким спокойствием раздвинул одежду Эусеба и обнажил ему грудь, словно речь шла о заурядном хирургическом вмешательстве.
Снова угрожая молодому человеку кинжалом, доктор продолжал:
— Но вполне ли ты уверен, что встретишь там свою возлюбленную?
— Что вы хотите этим сказать?
— Ты готов покончить с собой или позволить себя убить, для того чтобы соединиться с Эстер, не правда ли?
— Конечно.
— Ну, а если, вместо чтобы соединять души, смерть просто-напросто разлучает тела? А если она не придет на свидание, вернее, вы оба туда не пойдете? Наиболее здравомыслящие люди упрямо верят в небытие.
— Боже мой! Боже мой! — в отчаянии прохрипел Эусеб, — неужели этот демон не устанет меня истязать?
— Истязать тебя? Ни в коем случае. Вот уже три часа ты заблуждаешься, а я пытаюсь вернуть тебя на истинный путь. Собственно говоря, — проговорил доктор, как будто размышляя вслух, — мне незачем держать тебя под моим коленом, чтобы, когда мне захочется, отнять твою жизнь; тебе, должно быть, крайне неудобно в таком положении, я тоже расположился не лучшим образом, так что давай встанем и поговорим.
И доктор, перейдя от слов к делу, отпустил запястья Эусеба, зажатые словно в тисках, поднялся сам и, протянув руку, помог встать и ему.
Покончив с этим, Базилиус попросил:
— Дай мне на что-нибудь сесть, дорогой Эусеб.
Сам не зная почему, Эусеб подчинился воле доктора и послушно вытащил на середину комнаты бамбуковый табурет.
Но сам он остался стоять.
Доктор, поблагодарив его, как можно прочнее уселся на своем табурете и сказал:
— Теперь, дорогой мой Эусеб, когда вы немного успокоились, не кажется ли вам, что вы слишком торопитесь со всем покончить?
— Чего мне еще ждать? — спросил молодой человек. — Разве моя Эстер не умерла?
И он указал на окоченелый труп своей жены.
— Да, согласен, она действительно мертва. Но вполне ли ты уверен, бедный дурачок, что, с тех пор как ты лишился любимой женщины, в жизни для тебя не осталось ни радостей, ни утешения?
— Если к этому вы ведете, если вы разыграли комедию с целью удержать мою руку, то ваше участие и забота совершенно напрасны. Я уже сказал вам, сударь, и повторяю снова: я никогда не любил никого, кроме Эстер, никогда никого не полюблю и не сегодня, так завтра избавлюсь от тягостного для меня существования.
— Что ж, в добрый час! Вот это благородство! Я вижу, что вы любите так, как только может любить сердце смертного. Мое любопытство удовлетворено, и знайте раз и навсегда, Эусеб ван ден Беек, что у меня вы не найдете ни участия, ни заботливости — одно лишь любопытство. Я исследую души, как мои коллеги — тела. Хе-хе! Иногда это такое же нечистоплотное занятие, но всегда более забавное.
— Ну, покончим с этим, — сказал Эусеб, топнув ногой, — такой разговор мне слишком неприятен. Чего вы хотите от меня, раз вы удовлетворили свое любопытство? Дайте свершиться моей участи. Для этого вам достаточно вернуть мне кинжал, и через несколько секунд вы увидите, что делает любовь с истинно влюбленным сердцем.
— Решительно вы слишком торопитесь, мой юный друг; к счастью, у меня есть время, и я далеко не разделяю вашего нетерпения. Впрочем, поскольку вы обратили кинжал против меня, поскольку вы еще живы лишь благодаря моему желанию, теперь мне принадлежит право решать, сколько дней, часов или минут вы еще проведете на земле; я думаю, вы слишком честный человек для того, чтобы возразить мне.
— В конце концов, что хотите этим сказать? Что вам нужно? Объяснитесь, говорите же!
— Скажи мне, Эусеб ван ден Беек, — продолжал доктор, — ведь ты человек рассудительный, как же ты мог предположить, что доктор Базилиус, еще вчера отказавшийся отправиться в Бёйтензорг лечить губернатора Явы (который завтра умрет, хотя его могла бы спасти одна щепотка порошка из вот этого мешочка), проделает полторы мили пешком, ночью, в такую погоду, какой черт наградил нас сегодня, лишь для того, чтобы присутствовать при погребении и слушать твои жалобы? Ты ведь догадываешься, что, выходя из дома, я уже знал о смерти твоей жены, не правда ли?
— О! — вскричал Эусеб, схватившись за голову и запустив пальцы в волосы. — Вы меня с ума сведете, сударь!
Казалось, доктор, этот анатом души, довел наконец молодого человека до того состояния, которого добивался, потому что, протянув ему кинжал, он произнес:
— Эусеб ван ден Беек, если ты в самом деле решился, я больше тебя не удерживаю. Иди, посмотри, что там — в неведомых краях, откуда ни один странник еще не возвращался, как сказал поэт Шекспир, — христианские ад и рай, населенные гуриями сады отца правоверных, воплощения Брахмы, Елисейские поля греков или темное и печальное небытие атеистов. Но в какой бы стране ты ни оказался после смерти, как бы хорошо ни искал, ты не найдешь там Эстер.
— Господи, Господи! — рвал на себе волосы Эусеб.
— Наконец, предположи одну вещь…
— Какую?
— Предположи, что Эстер не умерла.
— Эстер не умерла? — воскликнул Эусеб, бросившись к постели; приложив руки к груди жены, он растерянно смотрел на доктора.
— Я не говорю тебе, что Эстер жива, я сказал: предположи, что она не умерла, или же представь себе, что после твоей смерти я смогу ее оживить.
— О, это было бы ужасно!
— Хорошо! Вот я и нашел слабое место твоей преданности, предел твоей любви. Ты не соглашался жить без Эстер, но еще неохотнее ты согласился бы оставить ее жить без тебя.
На мгновение Эусебу показалось, что ему предлагают дать современникам пример той же самоотверженности, какую в древности проявила Алкестида, согласившись сойти в царство мертвых вместо супруга: Базилиус может в обмен на его жизнь воскресить Эстер.
Эта мысль возвратила ему спокойствие, он выпустил из рук тело жены и подошел к доктору, который продолжал неподвижно сидеть на своем табурете.
— Вы ошибаетесь, сударь, — сказал Эусеб. — Убедите меня, что Эстер не мертва; обещайте мне, что она устоит против своей страшной болезни, против горя, вызванного моей смертью; уверьте меня, что она еще сможет быть счастлива на земле, пусть даже в объятиях другого, — и в тот же миг я расстанусь с жизнью. Сердце мое будет полно сожалений, но высшим утешением для меня будет знать, что память обо мне останется нетленной в сердце моей подруги.
В тоне, которым он это произнес, было столько восторга, искренности и вдохновения, что слова Эусеба подействовали даже на доктора: он не стал отвечать обычным своим смешком и с его лица на мгновение исчезло постоянное язвительное выражение.
— Хорошо, пусть будет так, — сказал он. — Эстер не умерла, Эстер не умрет.
Эусеб остановил его жестом, в котором угрозы, возможно, было не меньше, чем радости, потому что бедный его рассудок, метавшийся между скорбью и надеждой, оказался на грани безумия.
— Но, может быть, — продолжал доктор, — и для нее и для тебя было бы лучше, чтобы я не успел вовремя дать ей снадобье, которое после происходящего в ней сейчас кризиса в зависимости от моего желания либо окончательно сведет ее в могилу, либо вернет ей жизнь и здоровье.
— Значит, — задыхаясь, воскликнул Эусеб, — значит, от вас все еще зависит, будет Эстер жить или умрет?
— Да; теперь ты видишь, что я хорошо сделал, вернувшись и помешав тебе умереть.
— Но тогда ни она, ни я не умрем.
— Возможно.
— О, я еще смогу увидеть тебя счастливой! — вскричал Эусеб и снова бросился к ложу Эстер.
— Да, но предупреждаю тебя: вы оба подвергнетесь куда более грозному испытанию, чем то, через которое только что прошли. Посмотрим, милый Эусеб, устоит ли твоя любовь к жене, любовь, заставившая тебя бросить вызов смерти, перед временем и пресыщением.
— О доктор, неужели вы думаете?…
— Я думаю, что одной любви недостаточно для человеческой жизни, что слова "Я люблю тебя" не могут долго путешествовать из тех же уст в то же ухо; наконец, я считаю, как недавно говорил тебе, что эта молодая женщина, умри она в рассвете лет и во всем блеске красоты, исполненная веры в Бога, имела бы более счастливый удел, чем продолжать жить, обманутая тобой.
— Обманутая мной! Чтобы я изменил Эстер! — с этим восклицанием Эусеб воздел руки к небу, словно призывая Господа в свидетели. — О, если бы вы могли читать в моем сердце, которое Эстер занимает целиком, вы увидели бы, что там нет места ни для одной мысли, не относящейся к ней!
— Оглянись вокруг, юноша, и ты увидишь, что все в природе меняется, терпит превращение; стало быть, и человеческое сердце не может оставаться неизменным.
— Ах, если бы я мог на минуту поверить, что вы правы, доктор, если бы настал день, когда я разлюблю Эстер, забуду ее до такой степени, что смогу изменить ей — пусть даже с прекраснейшим в мире созданием! Я возьму этот кинжал, на этот раз не для того, чтобы она могла меня пережить, но покараю себя, вонзив его в свое сердце. Но нет, этого не может быть, поймите, это невозможно!
— Меня очень радует твоя убежденность, Эусеб; только от меня зависит, будет ли Эстер снова жить, но, собираясь вернуть ей жизнь лишь на определенных условиях, я опасался, как бы ты не отказался, узнав о них.
— Скажите мне их, доктор, какими бы они ни оказались, я заранее подчиняюсь им… даже если мне придется душу ради этого заложить! — мрачно закончил он.
— Ну на кой черт мне твоя душа? Если у меня есть собственная, значит, она бессмертна, и в таком случае в твоей я не нуждаюсь; если я ее лишен, так и у тебя ее нет, потому что я такой же человек, как ты, только немного более старый и безобразный, только и всего; допустив второе предположение, ты видишь, что не можешь продать мне то, чем не обладаешь.
— Так чего же вы хотите от меня? Скажите, я готов подписать любой договор.
— Договор? Безумец! Я только что усомнился в существовании Бога, а ты считаешь меня настолько непоследовательным, чтобы верить в дьявола… Нет ни сделки с чертом, ни волшебства, есть человек, немножко больше тебя знающий о тайнах души, о движущих силах и устройстве человеческого тела, и он говорит тебе: "Эта женщина может жить, но, если ты действительно любишь ее так, как уверяешь, остерегайся желать ее воскрешения!"
— Воскрешения, которое вернет мне мою Эстер, позволит снова услышать ее голос! Да вы богохульствуете!
— Я богохульствую! Пусть будет так… Но поговорим по-деловому: я собираюсь, как только что сказал, предложить тебе не договор, а простую торговую сделку. Если когда-нибудь ты пожалеешь о том, что я сделаю сегодня для Эстер, если ты станешь проклинать гнусного Базилиуса, вернувшего к жизни эту женщину — твое тело будет принадлежать мне, только и всего. Заметь, я говорю о твоем теле, нимало не интересуясь душой, если она у тебя есть; ставка — тело против вечности чувства, в котором ты убежден, — ни больше ни меньше.
— Жалеть о чуде, проклинать того, кто отнимет у смерти мою Эстер! Ах, доктор, вы в это не верите!
— Я настолько верю в это, что составил небольшой контракт, чтобы обеспечить выполнение нашего соглашения.
— Дайте, доктор, я подпишу.
— Нет, так, не читая, не подписывают: потом ты меня станешь обвинять в том, что я расставил тебе ловушку.
Он вытащил из кармана бумажник и достал исписанный лист бумаги.
— Вот видишь, эти буквы написаны обыкновенными чернилами; вот печать уважаемой нидерландской компании, не имеющей — по крайней мере, явно — ничего общего с Люцифером; ты можешь убедиться, что это не пахнет серой, — сказал доктор, протянув бумагу молодому человеку.
Это был один из тех гербовых листов, какие используют торговцы и юристы. Документ, составленный в форме завещания, гласил:
"Чувствуя отвращение к жизни, будучи женатым на женщине, которую разлюбил, я проклял день, когда доктор Базилиус воскресил ту, с кем роковая судьба навсегда меня связала, добровольно предаю себя смерти и хочу, чтобы никого не беспокоили по поводу моего самоубийства.
Свое имущество я оставляю законным наследникам, но хочу, чтобы тело мое было отдано доктору Базилиусу, который будет располагать им по своему усмотрению, либо тому, кому он поручит вступить им в обладание в случае собственной смерти.
Пятница, 13 ноября 1847 года".
Эусеб без остановок прочел вслух содержание странного документа.
— Перо и чернила, доктор, дайте мне перо и чернила! — потребовал он, озираясь по сторонам и стараясь отыскать эти предметы.
Доктор опустил свою ладонь на его протянутую руку.
— Я уже сказал тебе юноша, — произнес он, качая головой. — Я уже сказал, что ты слишком торопишься.
— Я прошу вас дать перо и чернила, — повторил Эусеб.
— Подумай, — продолжал доктор, — я не заставляю тебя это делать: здесь нет ни наущения, ни обмана, ни принуждения. Точно ли в здравом уме и твердой памяти, вполне ли добровольно ты подписываешь эту бумагу?
— Без наущения, обмана и принуждения, в здравом уме и твердой памяти, по собственной воле.
— Предупреждаю тебя о том, что, какие бы слухи обо мне ни распространяли, в любом случае, стоит тебе подписать этот документ — и, вблизи или издалека, живой или мертвый, я стану читать в твоем сердце, словно в книге, самые тайные твои мысли. По тому, что уже произошло, и особенно по тому, что произойдет сейчас, ты сможешь судить о моем могуществе, которое, несмотря на все успехи науки в 1847 году от Рождества Христова, все же слишком велико, чтобы принадлежать к этому миру. Как только договор вступит в силу, я смогу распоряжаться твоей жизнью, убить тебя, если пожелаю: твоя смерть для тебя самого и для тех, кто имеет право спросить у меня в ней отчета, будет выглядеть самоубийством. Так что подумай еще, прежде чем подвергнуться испытанию, и если оно пугает тебя, время пока есть: скажи последнее "прости" этой женщине, которая не может тебя услышать и не узнает, что ты струсил, и она безболезненно перейдет из сна в смерть.
Эусеб некоторое время пребывал скорее в изумлении, чем в нерешительности.
— О нет! — воскликнул он наконец. — Разделить ваши ужасные сомнения значило бы нанести оскорбление Богу и людям, сердцу и душе. Мы будем жить, Эстер, — продолжал он, обернувшись к молодой женщине и в этом зрелище черпая новые силы. — Мы будем жить для любви, жить один ради другого, жить один во имя другого, и, какие бы несчастья и тревоги ни ожидали нас на земле, рядом с тобой, моя Эстер, сильный своей любовью, я буду мужественно сражаться и найду для тебя утешения и радости даже среди наших страданий… Перо и чернила!
— Вы не узнаете ни нищеты, ни страданий, напротив, вы будете богаты и счастливы. А теперь готов ли ты подписать эту бумагу, Эусеб?
— Я могу упрекнуть вас лишь в одном — вы слишком долго не даете мне то, что я прошу. У меня здесь нет ни пера, ни чернил, но такой могущественный человек, как вы, не остановится перед такой малостью.
— В самом деле, у меня всегда при себе перо, чтобы выписывать рецепты, — ответил доктор. — Что касается чернил, раз их здесь нет, поступим в соответствии с традицией: заменим их каплей крови.
— Капля крови, согласен! — сказал Эусеб, поднимая рукав на левой руке.
Доктор вытащил из-за подкладки своего пальто стальное перо с тонким, как острие ланцета, кончиком и уколол Эусеба в срединную вену.
Эусеб тихо вскрикнул — показалась капля крови, похожая на жидкий рубин.
Доктор подхватил эту каплю кончиком пера и протянул. перо Эусебу, повторив:
— Без принуждения? Добровольно?
— Совершенно добровольно, — ответил Эусеб. — Ничто не принуждает и никто не заставляет меня это делать.
И, взяв перо из рук Базилиуса, он без колебаний и без страха собственной кровью подписал договор.
Впрочем, после этого ни молния не сверкнула, ни гром не прогремел и в природе все было так спокойно, словно был подписан обыкновенный вексель.
— Если ты раскаиваешься, — сказал доктор, — ты еще можешь разорвать эту бумагу.
Вместо ответа Эусеб протянул доктору документ.
— Он ваш, — произнес он. — Но Эстер — моя.
— Это более чем справедливо, — ответил Базилиус, сложив листок и пряча его в бумажник. — Я ухожу; пока я иду к двери, ты еще можешь вернуть меня, но стоит мне переступить порог — и будет поздно.
— Так идите, доктор, идите, и пусть Небо указывает вам путь!
— Убирайся к черту со своими пожеланиями! — проворчал доктор.
Подойдя к двери, он остановился у порога, словно хотел дать Эусебу время окликнуть его, если молодой человек раскаивается в заключенной сделке, затем приподнял циновку, протянул руку, чтобы узнать, прекратился ли дождь, помахал Эусебу в знак прощания и наконец решился перешагнуть порог.
Циновка опустилась за его спиной.
В ту же минуту молодой голландец почувствовал, как облако застилает ему глаза, ноги у него подогнулись, и им овладела необъяснимая сонливость.
Он слышал шум, подобный тому, с каким море бьется о рифы, затем среди этою шума, который был не чем иным, как биением крови в висках, раздался резкий отрывистый смех Базилиуса.
Эусеб подошел к постели Эстер, чтобы взглянуть, заметит ли он в соответствии с обещанием доктора какие-либо признаки жизни, но глаза у него против воли закрылись, ноги отказались держать его, он упал на пол и заснул, уронив голову на кровать, где молодая женщина, по-прежнему недвижная и безмолвная, вытянулась — совершенно мертвая на вид.
IV НАСЛЕДСТВО
Когда Эусеб ван ден Беек открыл глаза, было уже совсем светло.
Солнце ослепительно сияло; его лучи, пройдя сквозь щели в бамбуковых стенах, чертили на полу хижины яркие арабески.
Придя в себя, Эусеб не мог понять, продолжает он спать или грезит наяву. Он утратил представление не только о том, что происходило перед тем, как он уснул, но и о нынешнем своем состоянии.
В эту минуту он услышал, как его зовет нежный, хорошо знакомый ему голос — голос Эстер.
— Боже мой! Боже мой! — произнес несчастный молодой человек, измученный мозг которого отказывался мыслить связно и хранил воспоминание лишь о том, что видел распростертое на постели безжизненное и остывшее тело жены. — О Господи! Я все еще не верю, что это правда.
— Эусеб, друг мой! — продолжал звать нежный голос. — Где же ты?
Одним прыжком Эусеб ван ден Беек оказался на ногах.
И тогда он увидел живую Эстер, в самом деле живую. Сидя на постели, она улыбалась ему и поправляла свои растрепавшиеся волосы, глядясь в осколок зеркала, послуживший вчера доктору для одного из его неприятных сравнений.
Кокетство проснулось в юной женщине вместе с жизнью.
Вскрикнув, Эусеб сжал жену в объятиях и стал неистово целовать ее.
— Да, да, да, это в самом деле ты! — восклицал он. — О, дай мне смотреть на тебя, дай почувствовать нежное тепло крови, текущей в твоих жилах. О да, оно бьется, сердце, которое я считал остановившимся навек! Они раскрылись, глаза, погасшие, как я думал, навсегда. О, поговори со мной, моя Эстер, говори, пусть я снова услышу голос, который не должен был больше звучать в моих ушах!
— Да что с тобой, Эусеб? — с нежной улыбкой спросила его молодая женщина. — У тебя такой встревоженный вид. Как ты бледен! Одежда у тебя в беспорядке, ты пугаешь меня. Господи, что произошло?
— Ничего, моя Эстер; во сне меня мучил ужасный кошмар. Представь себе, милая, я думал, что ты умерла, и этот сон был до того похож на действительность для моего разума и сердца, что, когда ты в первый раз окликнула меня, я не мог решиться посмотреть на кровать, где видел тебя безмолвной и похолодевшей.
— Что за вздор! — ответила Эстер, целуя мужа. — Что за вздор! А я, напротив, никогда еще не видела таких чудесных снов, как в эту ночь. Мне казалось, что у меня появились крылья, что я сквозь небесную лазурь и облака поднялась к престолу Господа, сияющего в окружении своих ангелов. Он надел мне на голову венок, а в руки вложил букет, но вовсе не из земных и недолговечных цветов, подобных вот этим, — и Эстер с презрением показала на венок, сплетенный ночью ее мужем, и букет, собранный им, — но из небесных лилий с алмазными лепестками, с изумрудными листьями. Затем в благоухающем воздухе возникло пение, оно шло неизвестно откуда, но было прекрасным, восхитительным, упоительным. О, совсем напротив, дорогой Эусеб, никогда я так сладко не спала, никогда не чувствовала себя такой здоровой и счастливой, как сегодня утром. Мне кажется, что кровь в моих жилах течет быстрее и она более горячая, чем прежде. Послушай, мой Эусеб, — добавила молодая женщина, склонив голову на грудь мужа. — Послушай, мой Эусеб, то, что я скажу тебе сейчас, похоже на покаяние, но мне кажется, что сегодня я люблю тебя совсем по-другому, чем вчера, что я принесла нечто чистое и прекрасное из того рая, где побывала во сне, и что я больше принадлежу тебе с тех пор, как меня не давит гадкий груз, так душивший меня и подавлявший в моем сердце его естественные порывы.
— Эстер! Эстер! — взволнованно шептал Эусеб; он начинал догадываться, что ночные события не были сном, хотя его немного смущало это посещение небес, прояснившее лицо и сердце Эстер. — Эстер, припоминаешь ли ты, что необычные, почти сверхъестественные обстоятельства предшествовали твоему сну или сопровождали его?
— Господи, ничего подобного! Я спала ангельским сном. Оставь при себе свои отвратительные кошмары. Хороший сон и спокойный отдых — вот что принесло мне такое облегчение!
— Конечно, это был сон, — произнес Эусеб, проведя рукой по лбу. — А раз это был сон, незачем мне из-за этого тревожиться.
— Так оставьте этот озабоченный вид, я вам приказываю, — сказала Эстер. — Неужели вы забыли обещание, что дали мне однажды вечером, когда мы катались в лодке по озеру, по нашему прекрасному озеру с зеленой водой, и я разрешила вам просить у моего отца руку, столько раз уже пожимавшую вашу?
— Конечно, я помню о нем, моя Эстер! Я обещал тебе, что ты будешь королевой с неограниченной властью в нашем бедном маленьком королевстве.
— Да, это так… А теперь ваша королева приказывает вам улыбнуться, а в награду за ваше послушание она приготовила для вас подарок.
— Какой, любовь моя? Расскажи мне, клянусь, от этого мое удовольствие не станет слабее.
— Хорошо, милый мой Эусеб. Сегодня я чувствую себя достаточно сильной для того, чтобы встать с постели, достаточно кокетливой, чтобы желать быть красивой; я выберу самое нарядное из моих скромных платьев, и ты поведешь меня погреться под лучами прекрасного солнца; посмотри, оно пробралось сквозь стены нашей жалкой хижины и, стремясь заставить нас забыть о том, каким путем проникло к нам, оставило на полу эти прелестные рисунки.
Эусеб оглянулся вокруг: под одним из солнечных лучей блеснул предмет, сверкавший всеми огнями, словно колотый лед.
Он спрыгнул с постели, наклонился и поднял кинжал, полученный от доктора Базилиуса и сыгравший такую важную роль в драматических событиях минувшей ночи.
Это в самом деле был малайский клинок с темно-синим лезвием причудливой формы, напоминавшим язык пламени.
Молодой человек вздрогнул и некоторое время созерцал оружие в угрюмом молчании, затем положил его на стол и вернулся на свое место на кровати, нахмурившись и продолжая дрожать.
Жена спросила, чем вызвана перемена в его настроении и что это за кинжал, которого она прежде не видела у него.
Тогда Эусеб, не в силах хранить подобный секрет в своем сердце из страха, что оно разорвется, рассказал жене все, что происходило во время ее странного сна.
Молодая женщина слушала спокойно, не выказывая ни малейшего испуга.
— Ну что ж, — произнесла она, когда рассказ был окончен, — я не вижу, что может внушить тебе страх или причинить огорчение; напротив, я как нельзя более благодарна этому доброму доктору, и не столько за то, что он сохранил мне жизнь, сколько за мудрую мысль создать между нами новые узы.
— Но неужели ты считаешь это возможным? — вскричал Эусеб в ужасе.
— Я не знаю, возможно ли это, — отвечала Эстер. — Но меня утешало бы сознание того, что конец моей любви стал бы и концом моей жизни; безусловно, он хороший человек, этот твой доктор, и я готова при первой же встрече кинуться ему на шею, чтобы поблагодарить его.
— О, на этот счет я совершенно спокоен, при виде его этот каприз у тебя пройдет.
— Значит, он очень страшный?
— Нет, дело не в этом; его лицо даже казалось бы довольно добродушным, если бы не его смех — он кажется отголоском смеха сатаны, и не его глаза — они временами сверкают подобно глазам дикого зверя.
— Во всяком случае, друг мой, он не таков, каким кажется, поскольку, если верить твоему рассказу, мы оба обязаны ему жизнью.
— Да; только одно меня тревожит.
— Что именно?
— Я не могу понять особенного интереса, который он проявляет к тебе.
— Что нам до причин этого интереса, милый, если мы можем воспользоваться его последствиями? Подумай о том, что без вмешательства доктора, ты, бедный мой Эусеб, сейчас шил бы для меня саван и сколачивал доски, предназначенные укрыть мои жалкие останки. Ты не мог согласиться жить без меня, и я клянусь тебе, Эусеб, что никогда не забуду твоей преданности. Вспомни, если бы не он, для нас все было бы кончено, мы больше не радовались бы ветру, солнцу, нашей любви, нашим поцелуям! Именно ему мы обязаны всем этим, Эусеб, — этот человек занял в нашей жизни место Бога.
— Несомненно, — ответил молодой человек. — Но только безумец мог бы предположить, что доктор оказал нам услугу из простого человеколюбия. О, за добром, которое он нам сделал, скрывается какая-то тайная и страшная угроза.
— Но пока мы живы, молоды и любим друг друга… — и подняв глаза на мужа, Эстер внезапно спросила: — Уж не боишься ли ты, что скоро меня разлюбишь, не опасаешься ли за собственную жизнь?
— О! Эстер! — только и мог выговорить молодой человек.
Его жена рассмеялась.
— О, что касается меня, любимый мой, — сказала она, с милым кокетством склонив голову на плечо мужа, — я уверена, что твое сердце всегда будет биться лишь для меня, и без малейшего опасения доверяюсь нашей новой судьбе.
— Я тоже, — откликнулся Эусеб. — А то, что я говорил, означало просто нежелание без сопротивления принять фантасмагорию, которая теперь, при свете дня и рядом с тобой, кажется мне годной лишь пугать маленьких детей.
— Прости меня, мой друг, — возразила Эстер, — но на этот счет я твоего мнения не разделяю. Не только в появлении доктора было нечто сверхъестественное: мое выздоровление противоречит всем правилам медицины и опровергает всякую научную логику.
— Что же, — невольно содрогнувшись, спросил Эусеб, — уж не веришь ли ты, как другие, что доктор Базилиус связан с духом тьмы?
— Не будем пытаться проникнуть в эту тайну, друг мой, — серьезно ответила Эстер. — Повторяю, удовольствуемся тем, что станем пользоваться его благодеяниями, и докажем ему, раз ты говоришь, что он в этом сомневается: два человека могут состариться, не думая ни о чем другом, кроме своей любви, и прожить на земле безразличными ко всему, что лежит за пределами их общего счастья.
И в подтверждение своих слов юная женщина сделалась такой обольстительной, показала себя до того нежной и предупредительной, что ей удалось рассеять тучу, омрачившую лицо мужа.
Она встала, сделала несколько кругов по комнате, опираясь на руку Эусеба, и наконец решилась подышать воздухом у двери.
— Ну вот, — сказала она, когда Эусеб принес ей к порогу бамбуковый табурет, на котором ночью сидел доктор. —
Я выздоравливаю, и пора тебе подумать, друг мой, о том, чтобы найти работу, потому что из-за моей злосчастной болезни ты потерял место, на которое мы рассчитывали, и это должно было сильно уменьшить наши сбережения.
— Увы, да! — подтвердил молодой человек, грустно глядя на свои пустые сундуки: вещи он одну за другой продал, чтобы оплатить необходимое его жене лечение.
— Да, я знаю, вернее, догадываюсь, что тебе пришлось многим пожертвовать, — продолжила Эстер, перехватив взгляд мужа. — Бедный мой! Я все видела, но была так слаба, что не находила в себе сил даже поблагодарить тебя; но не беспокойся, я сторицей отплачу тебе за твою самоотверженность и исправлю свою невольную неблагодарность, — закончила Эстер, повиснув на шее Эусеба.
Потом внезапно она спросила:
— Но я подумала, почему бы тебе не обратиться к доктору Базилиусу, чтобы получить место? Он сказал тебе, что интересуется мной, и теперь, после того как вернул мне жизнь, он не допустит, чтобы мы умерли с голоду.
От этих слов облачко набежало на лоб Эусеба, и молодой человек, резко повернувшись, ушел в дом.
Эстер последовала за ним и увидела, что он, обхватив голову, сидит на постели.
— Что с тобой? — отведя ему руки от лица, спросила она и поцеловала его в лоб.
Но Эусеб, оттолкнув жену, закричал:
— Не говори мне больше об этом человеке! Послушай, Эстер, мы и так слишком многим ему обязаны. За несколько минут, проведенных им здесь, он вернул тебе жизнь, но отравил воздух, которым я дышу. Признаться ли тебе? Сегодня утром я не узнаю себя: я должен был целиком отдаться счастью видеть тебя спасенной, забыть весь мир, всех людей и помнить лишь о тебе одной, о твоей жизни, вернувшейся чудесным образом, в то время как я считал тебя умершей; ну так вот, смех этого человека преследует меня и в твоих объятиях, его голос примешивается к твоему голосу, когда ты говоришь мне слова любви, и тогда, — пожалей меня, Эстер, я так несчастен! — тогда мной овладевают сомнения: мне кажется, что мной управляет некая высшая сила, что я утратил свободу воли. Ах, Эстер, любимая моя, если эта ужасная пытка продлится, боюсь, для меня не существует больше счастья на земле!
Эстер собиралась высмеять эти страхи, которые считала химерой, когда ей показалось, будто кто-то стучит по подпорке циновки, служившей, как мы уже говорили, дверью бедному жилищу.
— Войдите! — произнес Эусеб, тоже услышавший стук; он всей душой надеялся, что какое-нибудь событие поможет ему отвлечься.
В ответ на приглашение циновка приподнялась и в комнату вошел человек, одетый в черное.
— Господин Эусеб ван ден Беек? — спросил человек.
— Это я, — ответил Эусеб, поднявшись. — Что вам угодно, сударь?
— Вы в самом деле Эусеб ван ден Беек, супруг девицы Эстер Мениус? — настаивал черный человек.
— Я Эусеб ван ден Беек, — повторил хозяин дома. — А это моя жена, Эстер Мениус.
— Госпожа, следовательно, является дочерью Вильгельма Мениуса, нотариуса из Харлема, и Жанны Катрин Мортье, его супруги?
— Да, — подтвердил Эусеб, почти испуганный этим торжественным предисловием.
— Значит, мы имеем дело с вами, Эусеб ван ден Беек, и с вами, Эстер Мениус; в таком случае нам остается лишь выполнить возложенную на нас печальную обязанность.
— Ах, Господи, да говорите же, сударь, говорите! — воскликнула Эстер. — Я вся дрожу!
— Час тому назад, сударь, нас позвали опечатать жилище господина Жана Анри Базиля Мортье, более известного в этом городе под именем доктора Базилиуса; в его доме на камине мы обнаружили завещание — в данный момент оно находится у метра Арнольда Маеса, нотариуса в Батавии, — в котором он назначает Жанну Эстер Мениус, дочь своей покойной сестры Жанны Катрин Мортье, в замужестве Мениус, единственной и полной наследницей всего своего состояния.
— Так доктор Базилиус умер? — вскричал потрясенный Эусеб.
— Увы, сударь, это так, — скорбным и официальным тоном ответил законник. — Ваш несчастный родственник утонул сегодня утром, собираясь посетить стоящий на рейде корабль.
Эусеб был настолько оглушен новостью, что ему даже не пришло в голову спросить, как это случилось.
— Дядя! — воскликнула Эстер. — Он был моим дядей! Вот все и разъяснилось, вот почему он проявлял ко мне такой необычный интерес.
— А тело его найдено? — спросил Эусеб.
— Да сударь, и оно перенесено в его дом; вы можете отдать ему последний долг.
— Но это точно, что он мертв, действительно мертв? — продолжал спрашивать Эусеб.
Стряпчий озадаченно взглянул на молодого человека.
— Все городские врачи засвидетельствовали его смерть, но вы можете убедиться в этом сами.
— Я это сделаю, и немедленно! — вскричал Эусеб.
И не тратя времени на то, чтобы привести в порядок свою одежду, он выбежал из дома, пока Эстер, душу которой не терзали тревоги, подобные тем, что мучили ее супруга, проливала слезы над судьбой своего дяди: в детстве она слышала о нем, однако в двадцатилетием возрасте он покинул Харлем и теперь встретился с ней лишь затем, чтобы оказать благодеяние.
— Кажется, ваш супруг был удивительно привязан к покойному, — произнес законник, прощаясь с Эстер. — Соблаговолите передать ему, что я к его услугам для выполнения всех предстоящих ему формальностей.
И, поклонившись Эстер так, как кланяется богатой наследнице мелкий служащий, то есть с глубоким смирением, он вышел вслед за Эусебом.
Но тот был уже далеко.
V ТРИ ТРУПА ОДНОГО УМЕРШЕГО
Эусеб ван ден Беек шел так быстро, что человек в черном не смог догнать его.
Через четверть часа он уже был в нижнем городе.
С самого утра Эусеб, как он и сказал Эстер, не переставал думать о докторе Базилиусе.
Его рассудок отказывался верить, что этот человек мог быть наделен сверхъестественной силой, и вместе с тем Эусеб не решился бы назвать обычными события, свидетелем которых оказался.
Но с самого утра, продолжая отрицать возможность совершившегося, он чувствовал, как его охватывает глубокий ужас, стоит ему подумать о том, что, если верить бесовским словам Базилиуса, этот страшный человек следит за борьбой, происходящей в душе Эусеба, подстерегает все его сердечные порывы.
С самого утра ему казалось, что грудь его вскрыта и огромный глаз исследует ее глубины; этот взгляд Эусеб ощущал как стальной клинок, проникающий в тело.
Такая жизнь сделалась для Эусеба невыносимой, о чем он успел сказать Эстер.
Но непредвиденная и скоропостижная смерть доктора Базилиуса сильно упростила проблему.
К доводам, которым разум Эусеба преграждал путь его разыгравшемуся воображению, прибавлялась теперь физическая невозможность вмешательства доктора в его жизнь.
Он не думал о наследстве, чудесным образом вырвавшем его из нищеты, сделав одним из самых богатых жителей Батавии; но, не радуясь несчастью, которое приключилось с тем, кого он должен был считать спасителем Эстер, Эусеб все же не мог огорчаться из-за события, избавившего его от опеки, нестерпимой, несмотря на то что все помыслы опекавшего оказались чисты и невинны.
Прежде всего он испытывал потребность убедиться в том, что доктор Базилиус не смог избежать общей для всех смертных участи.
В самом деле, если врач не сумел избежать смерти, это означало отрицание той власти над ней, какую он себе приписывал.
Убедившись в том, что доктор Базилиус действительно мертв, Эусеб вернет себе блаженное спокойствие духа, утраченное им несколько часов назад.
Он шел очень быстро, но это не помешало ему заметить, что матросы в порту — по большей части малайские матросы — собираются группами и о чем-то оживленно переговариваются.
Это показалось ему вполне естественным, когда он вспомнил рассказы о том преклонении, каким окружали доктора Базилиуса моряки, обитавшие в квартале, избранном им для жительства; ни один человек в Батавии не мог понять, почему было отдано предпочтение месту, которое считалось смертельно опасным для европейцев.
Всех удивляло, что удушливый воздух, поднимавшийся от окрестных болот, не приносит вреда Базилиусу, а его бесспорное здоровье немало способствовало распространению слухов о его связи с нечистой силой.
Эусеб ван ден Беек, проделав на этот раз при свете дня и в прекрасную погоду тот же путь, что и грозовой ночью, прошел по мощеной дороге, пересек болото и мангровую рощицу и оказался перед домом доктора.
Как и накануне, дом казался необитаемым. Ни звука не доносилось изнутри, ничто не говорило о каком-либо трагическом происшествии.
Только дверь, раньше тщательно закрытая и запертая, сейчас оставалась открытой, и лишь ветер захлопывал ее.
Эусеб, не дав себе труда постучать, толкнул дверь и вошел в дом.
Он направился прямо в ту приемную, куда в прошлый раз провела его прелестная голландка.
Кипы товаров, тюки и вскрытые ящики были на своих местах, но фризка не показывалась.
Приемная была пуста.
Эусеб позвал служанку, но никто не откликнулся.
Тогда он остановился, а затем направился к той двери, за которой девушка скрылась накануне, когда доктор позвал ее.
Эта дверь вела в темный коридор.
Он пошел по нему.
В конце его из-под двери пробивался слабый свет: вероятно, это горел факел или мерцала свеча, потому что пламя казалось колеблющимся.
Эусеб открыл дверь и попятился в изумлении: он стоял на пороге комнаты, обставленной совершенно по-голландски; если бы не солнце, огненными лучами врывавшееся сквозь ромбы стекол маленького окошка со свинцовыми рамами, он почувствовал бы себя на пасмурных берегах Зёйдер-Зе.
Ничто не было забыто: ни глиняная посуда из Делфта; ни ящики, полные цветущих гиацинтов и тюльпанов; ни маленький медный светильник, какие изображали на своих картинах Герард Доу и Мирис; ни мебель; ни дубовые сундуки — натертые, лоснящиеся, отполированные до блеска так, что казалось, будто их только вчера покрыли лаком; ни даже искусно сработанная железная печка, хотя при сорока градусах жары, обычной температуре Батавии, она могла служить лишь бесполезным украшением.
В противоположном от двери углу стояла дубовая кровать с витыми колоннами и занавеской из зеленой саржи.
С того места, где стоял Эусеб, невозможно было разглядеть, кто лежал на этой кровати.
Напротив нее находился стол, а на нем — маленькое медное распятие, четыре зажженные свечи и тарелка со святой водой, в которую была опущена засушенная веточка букса.
Между кроватью и столом молилась, опустившись на колени, молодая женщина, с головы до ног одетая в черное.
На шум открывшейся двери женщина обернулась, и Эусеб узнал хорошенькую голландку.
Она сделала молодому человеку знак стать рядом с ней и вновь углубилась в свои молитвы.
Эусебу стало ясно, что он находится в комнате покойного и на смертном ложе лежит доктор Базилиус.
Ему очень хотелось в этом убедиться, но пришлось бы подвинуть стол и заглянуть через плечо фризки — Эусеб не решился до такой степени нарушить приличия.
Он опустился на колени рядом с кроватью и попробовал молиться, но был так озабочен, что не мог сосредоточиться.
Эусеб взглянул на соседку, стараясь прочесть на ее лице правду о случившемся.
Она молилась искренне и набожно, и по ее щекам, немного побледневшим от горя, катились большие слезы.
"Похоже, этот ужасный доктор был все-таки довольно славным малым!" — подумал Эусеб, поскольку печаль девушки казалась идущей от сердца.
И, желая в качестве наследника поблагодарить служанку, Эусеб протянул ей руку.
Она не поняла обращенного к ней жеста и решила, что молодой человек спешит исполнить свою благочестивую обязанность; поднявшись, девушка уступила ему свое место и протянула веточку букса, пропитанную святой водой.
Эусеб оказался рядом с телом.
Это в самом деле был доктор Базилиус.
Значит, доктор Базилиус мертв.
Его смерть была настолько быстрой и внезапной, что черты его лица совершенно не изменились.
Глаза закрылись, дыхание исчезло, сердце перестало биться — только и всего.
Он слишком мало времени провел в воде для того, чтобы его лицо приобрело свойственный лицам утопленников мраморно-синеватый оттенок, какой вызывает удушье при погружении в воду.
Лишь его седеющие волосы слиплись от морской воды и почти полностью закрывали лоб до самых глаз.
Но рот не утратил своего выражения, он был живым на застывшем лице; минутами Эусебу казалось, что губы доктора вот-вот закривятся и послышится его металлический смех.
Руки умершего были сложены на груди; набожная голландка, полная веры в Божье милосердие, обвила их четками.
Улучив момент, когда молодая фризка погрузилась в свои молитвы, Эусеб потрогал пальцы трупа: они оказались холодными, словно мрамор.
Сомнений не оставалось: доктор Базилиус уснул вечным сном.
Выходя из комнаты, Эусеб ван дан Беек издал вздох, свидетельствовавший если не об удовлетворении, то, по крайней мере, о том, что с сердца молодого человека свалился тяжелый груз.
Снова оказавшись в маленькой приемной, он заметил, что хорошенькая голландка последовала за ним.
Поскольку ее больше не сдерживало присутствие трупа, она кинулась Эусебу на шею и, рыдая, поцеловала его.
— О Боже мой, Боже мой! — восклицала она. — Бедный доктор Базилиус! Такой добрый хозяин, и я так скоро потеряла его! Что со мной будет, великий Боже?
— Но как же случилось это несчастье? — спросил Эусеб, до сих пор не знавший подробностей случившегося.
— Он собирался посетить больных на борту китайской джонки; волна перевернула лодку, доктор упал в море, а когда его вытащили из воды, он уже был мертв.
— О Господи! — произнес Эусеб.
— Какая потеря для всех нас, сударь! — продолжала фризка. — Он был такой добрый, такой милосердный!
— Но мне кажется, что вчера вечером вы говорили совсем другое, милое мое дитя, — заметил Эусеб.
— Ах, сударь, вы меня плохо поняли; могу ли я, не показав себя неблагодарной, сказать что-либо другое о человеке, чей хлеб ела два года, о человеке, заменившем мне отца?
— Да? — удивился Эусеб. — Доктор Базилиус заменил вам отца?
— Конечно; и останься он в живых, я никогда бы не узнала нужды. Что со мной будет, Господи Иисусе?
После этих слов фризка снова начала плакать, и так трогательно, что Эусеб, который, надо признаться, самым невыгодным для девушки образом оценивал ее положение в доме доктора, не знал, что и подумать.
— Дитя мое, — сказал он. — Я обещаю, что позабочусь о вас; я не забыл и никогда не забуду вашего вчерашнего дара. Мы найдем для вас хорошее место.
— Место в этом городе, сударь? — возразила красавица-голландка. — Никогда, никогда! Разве вы не знаете, что честная европейская девушка не может согласиться занять положение, которое ей предлагают в большинстве домов Батавии?
— Если хотите, дитя мое, я оплачу вам проезд и вы вернетесь в Голландию.
— Увы! Сударь, мои родители умерли, и там я найду лишь могилы; но все равно, хотя я уже и испытала на себе, что значит для добродетельной девушки совершить долгое плавание среди людей без чести и совести, я воспользуюсь вашим предложением, господин ван ден Беек, и вернусь в Голландию. Я должна в память о моем благодетеле оставаться чистой и честной.
В эту минуту с верхнего этажа послышались громкие крики.
Услышав их, голландка сильно побледнела.
— Что это? — спросил Эусеб.
— Не знаю, — ответила девушка, стараясь как-нибудь отвлечь внимание молодого человека. — Наверное, это малайцы дерутся.
— Нет, — сказал Эусеб и повелительно взмахнул рукой. Это кричит женщина; значит, вы не одна в этом доме?
И, прежде чем голландка могла помешать ему исполнить свое намерение, не слушая ее просьб и молений, Эусеб устремился к лестнице, которая, как ему казалось, вела в верхние комнаты.
Он пересек четыре или пять комнат, беспорядочно заваленных товарами и в точности повторявших маленькую приемную первого этажа.
По мере того как Эусеб продвигался, крики, все более страшные и пронзительные, не умолкали, но, хотя женщина кричала где-то у него над головой, он не видел никакой лестницы, по которой мог бы попасть на верхний этаж.
Наконец Эусеб заметил в углу комнаты лесенку из бамбука, взобрался по ней к потолку и обнаружил люк; толкнув крышку этого люка и просунув в него голову, он увидел странное зрелище.
Своеобразный бельведер, в который он проник, был выстроен в форме негритянской хижины на Мадагаскаре: он был круглым.
Над открытой всем ветрам решеткой (сквозь ее просветы виднелся город; мангровые заросли и рейд) толстые стебли бамбука, оплетенные пальмовыми ветвями, образовывали остроконечную крышу, достаточно плотную и высокую для того, чтобы воздух, циркулируя под ней, помогал переносить жару.
Всю обстановку хижины составляли тростниковая кушетка, деревянный сундук с медными украшениями и инкрустацией из ракушек да несколько разбросанных по полу глиняных сосудов.
Хижину пересекал гамак из кокосовых волокон, подвешенный к двум бамбуковым стропилам крыши.
Гамак с человеком, казалось отдыхавшим в нем, качался, и, несомненно, это движение возобновляли, как только гамак останавливался.
Эусеб буквально остолбенел, увидев в хижине женщину; не обращая на него никакого внимания, она продолжала испускать вопли, возбудившие его любопытство.
Это была негритянка самой ослепительной и самой безупречной красоты.
Настоящая черная Венера.
Ей было не более пятнадцати лет; совершенные черты лица, тонкая гибкая шея, поднимавшаяся над стройными плечами, и талия, образец которой следовало бы искать среди всего, что могло создать лучшего древнее и современное искусство ваяния.
Одежду ее составлял кусок голубой хлопчатобумажной ткани с золотыми и пурпурными полосками, какую ткут в Тунисе; негритянки называют эту ткань "фута". Этот кусок материи держался у пояса на стеклянных застежках.
Казалось, юную женщину терзало жестокое горе.
В обеих руках она держала по раковине с острыми режущими краями и, ударяя себя ими по рукам и груди, наносила себе глубокие царапины, не переставая громко кричать.
По ее телу струилась кровь.
В хижине, освещенной лишь несколькими лучами солнца, проникавшими сквозь решетчатые стены и бамбуковую крышу, было довольно темно, и Эусеб не сразу понял, что делает эта женщина.
Разобравшись в происходящем, он немедленно ворвался в хижину и попытался остановить руку негритянки.
Но, оказавшись в это мгновение рядом с гамаком и увидев лежащего в нем человека, охваченный ужасом, он отшатнулся назад.
Быстрым, словно мысль, движением Эусеб оторвал часть решетчатой стены. В полумраке он еще мог сомневаться, но теперь луч солнца, осветив хижину, упал налицо этого человека, или, лучше сказать, этого трупа.
Это было тело доктора Базилиуса.
Все то же синевато-бледное, но спокойное лицо с теми же прилипшими ко лбу волосами и искаженным гримасой ртом, что молодой человек видел в комнате внизу.
Эусеб почувствовал, что колени у него подгибаются, а волосы на голове встают дыбом; он попятился, не в силах отвести взгляд от трупа, добрался до люка, скорее соскользнул, чем спустился, по бамбуковой лесенке и убежал, предоставив негритянке продолжать кровавым способом демонстрировать покойному свое горе.
Пока Эусеб ван ден Беек дошел до приемной нижнего этажа, его волнение достигло такой степени, что он вынужден был сесть.
На лбу у него выступили крупные капли пота, зубы судорожно стучали, а сердце билось так неистово, что он боялся задохнуться.
Он решил проветрить комнату, в которой находился, и приподнял китайскую штору, закрывавшую окно.
Это окно выходило в маленький садик с европейскими кустарниками, которые в прокаленной земле влачили такое же жалкое существование, как тропические деревья в наших оранжереях.
Два малайца в молчании занимались работой, заинтересовавшей Эусеба до того, что он на минуту сумел отвлечься от охватившего его ужаса.
В самом деле, эти двое воздвигли посреди сада нечто вроде костра, уже достигшего двухметровой высоты, и продолжали симметрично укладывать куски дерева, доводя свое сооружение до огромных размеров.
Между рядами дров они размещали пучки рисовой соломы и ветви смолистых деревьев, чаще всего — фисташкового и камфарного.
Все более изумляясь, Эусеб выпрыгнул в окно и приблизился к двум малайцам, не прерывавшим своей работы.
— Что это вы здесь делаете? — спросил он.
— Разве вы не знаете? — на дурном голландском ответил один из них. — Ведь это ни на что другое, кроме костра, не похоже.
— Значит, это костер?
— Конечно.
— И что вы собираетесь делать с этим костром?
Малаец пожал плечами и, забравшись на кучу дров, поправил несколько толстых досок, небрежно уложенных его товарищем.
Эусеб повторил свой вопрос.
— Ну, а покойник? — сказал малаец. — Вы что, собираетесь его выбросить в море как собаку?
И с этими словами он указал не на первый этаж дома, где Эусеб видел лежащий в постели труп, но в сторону своего рода индийской беседки, видневшейся в конце сада.
Чувствуя непреодолимое любопытство, Эусеб направился к ней.
Это было довольно большое сооружение; его глиняные, выбеленные известью стены покоились на грубо вытесанных каменных опорах, представлявших собой изображения фантастических персонажей: людей с бычьей или слоновьей головой, многоруких тел, гермафродитов — словом, весь набор индусской теогонии.
У двери сидел старик с белой бородой, одетый в костюм брамина с Малабарского берега, и, казалось, наблюдал за работой двух малайцев.
— Покойник? — коротко спросил Эусеб.
Старик, не отвечая, пальцем указал через свое плечо, вовнутрь беседки, и посторонился, чтобы пропустить голландца.
Эусеб ван ден Беек оказался в большой комнате, освещенной пламенем дюжины древних бронзовых светильников, формой напоминавших этрусские.
Посредине комнаты на постели, точнее, на груде подушек, лежал труп, в котором Эусеб тотчас же узнал доктора и который ничем не отличался от двух тел, виденных им прежде. Напротив покойного, под нишей с изображением бога Брахмы, перед которым горели три лампы из тех, о которых мы говорили, на золотом стульчике сидела, прислонившись к стене, молодая женщина.
Вид третьего трупа окончательно вывел Эусеба ван ден Беека из равновесия. Неожиданно переселившись в фантастический мир призраков, бедняга уже не знал, живет он в самом деле или грезит; кровь бурно приливала к голове и шумела в ушах; ему казалось, что рассудок вот-вот покинет его, а между тем глаза его встретились со взглядом странной женщины, сидевшей у тела, и не могли оторваться от ее лица.
Кожа ее была не смуглой, как у индианок полуострова или малаек с Зондских островов, но светло-желтой, как у женщин Визапура.
Черты ее отличались правильностью, свойственной кавказской расе; огромные глубокие глаза имели чистый темно-синий цвет, довольно редкий у женщин с ее оттенком кожи.
Грудь ее покрывали своего рода латы из кусочков очень легкого дерева, оправленных в золото и серебро и украшенных драгоценными камнями.
Талию ее стягивал муслиновый шарф, и его прозрачные складки как бы служили переходом от наготы верхней части тела к изобилию драпировок, скрывавших бедра и ноги до самых ступней, почти целиком спрятанных под тканью.
Руки, пальцы и шея ее были отягощены множеством браслетов, ожерелий и колец причудливой формы и удивительно тонкой работы.
В странном противоречии со всем этим голова ее была лишена подобных украшений; черные и блестящие, словно вороново крыло, волосы покрывал лишь простой венок из цветов и листьев лотоса.
Она оставалась безмолвной и неподвижной как статуя; только глаза свидетельствовали о том, что она живая, и взгляд, направленный на Эусеба ван ден Беека, казалось, призывал его обратиться к ней.
— Кто вы? — спросил ее Эусеб.
Желтая женщина, устремив глаза на молодого человека, знаком показала, что ничего не понимает.
Он взял ее руку — она позволила это сделать.
Рука была холодная как лед, и все же Эусебу почудилось, что от нее по его жилам побежал огонь.
— Пойдемте со мной, — сказал он, жестом предлагая ей подняться.
Желтая женщина медленно опустила свои длинные ресницы и отрицательно покачала головой, указывая на труп.
Тогда Эусеб вспомнил, что по обычаю малабарских индийцев жена должна взойти на костер с телом мужа. Сделав вопросительный жест, он показал желтой женщине на кучу дров, видневшуюся сквозь приоткрытую дверь беседки и продолжавшую расти стараниями двух малайцев.
Она печально склонила голову, потом отделила от своего венка цветок лотоса и протянула его молодому голландцу.
Сам не замечая, что он делает, Эусеб взял цветок.
— Но это невозможно! — воскликнул он. — Этот варварский обычай, уничтоженный в Индии, не может существовать здесь; к тому же этот человек не был вашим мужем, и религиозные предрассудки не могут принудить вас умереть вместе с ним. Я отправлюсь к губернатору, я не допущу, чтобы юная и прекрасная женщина умерла такой ужасной смертью.
В это мгновение Эусебу послышалось, что в его ушах раздался пронзительный металлический смех доктора Базилиуса.
Он обернулся, ожидая увидеть доктора стоящим или, по меньшей мере, сидящим.
Труп был на прежнем месте, окоченевший и неподвижный, ни один мускул не шевельнулся в его лице.
Тогда под действием все усиливающегося страха, от которого его на мгновение отвлек вид прекрасного создания, охранявшего третий труп, Эусеб закрыл лицо руками и убежал не оглядываясь.
VI ДАТУ НУНГАЛ
Стоило Эусебу оказаться на набережной, как страшная тяжесть, сдавившая ему грудь, исчезла и стало легче дышать.
Он чувствовал, что покинул царство мертвых и вернулся к обычной жизни; его радовали шум и движение на улицах и на рейде; проезжавшие во всех направлениях повозки, люди в разнообразных костюмах, кричащие на всех языках и бранящиеся на всевозможных наречиях, — все это казалось ему вещественным доказательством реальности его существования, подтверждало, что он вырвался из мира призраков, открывшегося ему такими ужасными видениями.
Прежде всего голландец хотел определить, что ему делать и на чем остановиться; но воспоминания о недавних событиях были еще настолько сумбурны, что он решил выбросить их из головы и совершать какие-либо поступки лишь после того, как посоветуется с Эстер, не только обладавшей прекрасным сердцем, но и в высшей степени наделенной здравым смыслом.
А пока он принялся бродить по набережным, стараясь окончательно прийти в себя и успокоить охватившее его возбуждение.
Мы уже говорили, что город Батавия выстроен не на самом берегу моря, а отделен от него каналом длиной около трех миль, ведущим к рейду.
Вход в этот канал был некогда устьем небольшой речки; тина и обломки, которые она несла с собой, образовали мощную запруду.
Привычные к морским работам, голландцы, желая остановить постоянно прибывающие наносы, угрожавшие рейду и делавшие сообщение с ним все более затруднительным, изменили течение реки и превратили ее в канал. Две плотины, каждая около двух миль длиной, направляют движение реки среди прибрежных болот.
К одной из этих плотин и направился Эусеб.
Когда он дошел до ее конца, внимание его привлекло большое малайское прао, собиравшееся сняться с якоря и, воспользовавшись отливом, выйти в открытое море.
У этого судна водоизмещением примерно в сорок тонн был тонкий изящный киль и огромный ют, снабженный с обеих сторон платформами вроде русленей (их поддерживали прочные изогнутые деревянные опоры).
На носу были закреплены две шестифунтовые пушки, которые могли откатиться назад, пройдя под ютом, если судну пришлось бы не преследовать врага, но убегать от него. По каждому борту находились три карронады с двухфунтовыми ядрами. Судно было двухмачтовым, с двойным рулем и несло паруса из циновок, которые натягивались с помощью множества бамбуковых реек.
Команду судна составляли десятка три малайцев.
Одни были заняты тем, что ставили на место руль, прикрепляя его к ахтерштевню прочными лентами, сплетенными из ротанга; другие, пользуясь тем, что прао причалило к плотине, грузили последние припасы.
Капитан стоял на плотине, прислонившись к одной из причальных тумб, наблюдал за работами и лениво жевал бетель.
При неудачном маневре матросов волна ударила в руль, резко толкнула его, и тяжелое орудие, еще не закрепленное, качнулось, при этом румпель опрокинул одного человека; несчастный, оглушенный ударом, не догадался ухватиться за ротанговую веревку, служившую перилами, и упал в море. Его товарищи в ту же минуту бросили ему канаты, но течение в этом месте было сильное, и беднягу стало сносить в открытое море; он не мог поймать брошенную снасть, и пришлось спускать на воду лодку, чтобы спасти его.
Капитан, на глазах которого произошла эта сцена, казался до того безразличным, что Эусеб усомнился, действительно ли перед ним хозяин судна и в самом ли деле несчастный, плывущий по воле волн, чтобы, по всей видимости, сделаться пищей для наводнявших рейд Батавии акул, является подчиненным человека, так мало интересующегося его судьбой. Но сомневаться не приходилось, поскольку, прежде чем выгрузить из шлюпки громоздившиеся в ней тюки, малайцы повернулись к молчаливому капитану, ожидая приказа, и не брались за весла, пока он знаком не скомандовал: "Вперед!"
Эусеб ван ден Беек стал более внимательно разглядывать этого человека.
Ему могло быть лет тридцать пять; он казался более сильным и шире в плечах, чем обычно бывают люди желтой расы; глаза, не такого узкого разреза, как у его соотечественников, и почти орлиный нос, отличавший его от негра, приближали его внешность к европейской.
В выражении его лица сочетались свирепость, дерзость и хитрость.
Одет он был в причудливый наряд: широкие штаны из черного шелка, закрывавшие ноги ниже колен, и блуза наподобие матросской из пестрой индийской ткани в ярких цветах. Тканный золотом кусок муслина обвивал его голову тюрбаном; наконец, за пояс у него был заткнут малайский крис с рукояткой слоновой кости, оправленной в золото, а с пояса свисал мешочек с бетелем.
Но самым удивительным Эусебу ван ден Бееку показалось то, что между складок блузы он заметил тонкие и гибкие кольца кольчуги.
Капитан, догадавшись, что сделался объектом внимания, с самым развязным видом приблизился к Эусебу, на ходу посыпая известью ядро ореха, которое вынул из мешочка, и сказал на чистейшем голландском языке голосом, заставившим Эусеба содрогнуться:
— До чего же неуклюж этот негодяй, не правда ли, сударь?
— Но мне кажется, что этот несчастный ни в чем не виноват, — ответил Эусеб.
— Виноват он или нет, но мне этот прыжок в воду обойдется в несколько тысяч пиастров.
— Что, этот человек — раб и вы так дорого заплатили за него, как говорите? — поинтересовался Эусеб.
— Нет, — сказал малаец. — Но тем не менее этот мерзавец меня разоряет.
— И все же, капитан, — улыбаясь, возразил Эусеб, — по вашему виду не скажешь, чтобы вы очень волновались из-за этого прыжка в воду, который, по вашим словам, разоряет вас.
— А зачем волноваться? — произнес моряк. — Я мусульманин, сударь; что предначертано, то и сбудется, и мое настроение ничего не изменит; но, если вы непременно хотите получить разъяснение моих слов, взгляните вон туда.
Взглянув в указанном направлении, молодой голландец увидел флотилию китайских джонок, направлявшуюся в открытое море.
— Те длиннохвостые негодяи и не подозревают об услуге, оказанной им дураком, которого в данный момент мои матросы отнимают у акул, — продолжал малаец.
— Я не понимаю вас.
— Черт возьми! Господин ван ден Беек, — при этих словах Эусеб вздрогнул, подумав, откуда этот моряк, впервые им встреченный мог знать его имя. — Это же совершенно ясно, мы потеряем час, пока станем вылавливать этого шутника, а за час проклятые джонки успеют набрать скорость, и, как бы ни налегали на весла мои тридцать парней, сомневаюсь, чтобы до темноты я успел догнать этих любезных поклонников бога Фо.
— А почему вы непременно хотите догнать их до наступления темноты?
— Почему? — капитан сопроводил свой ответ резким металлическим смехом, так сильно напомнив Эусебу доктора Базилиуса, что он вздрогнул. — Почему? Да просто мне хочется посмотреть, аккуратно ли уложены товары у них в трюмах, и избавить эти несчастные суденышки от лишнего груза, мешающего им двигаться.
— Ах, так вы пират? — спросил Эусеб, еще пристальнее всматриваясь в капитана.
— К вашим услугам. Уж не выгляжу ли я честным человеком? Вы первый принимаете меня за такого.
— И вы не боитесь в этом признаться, сказать это первому встречному, пока вы еще стоите на голландском рейде, под пушкой губернаторского стационера? — удивился Эусеб, пораженный такой дерзостью.
— Во-первых, — насмешливо ответил малаец, — я действительно это сказал, но сказал вам, а вы для меня не первый встречный. Признаете ли вы это, господин наследник? — с этими словами малаец показал Эусебу цветок лотоса, который тот получил от индианки и потерял во время бегства.
— В самом деле, если бы это не было безумием, я подумал бы, что вы…
Он замолчал, ужаснувшись тому, что собирался произнести.
Капитан расхохотался.
— Что я доктор Базилиус, не так ли! Ну-ну, издали мы с ним похожи. Но успокойтесь, я не доктор Базилиус, вовсе нет! Доктор Базилиус мертв, действительно мертв. Как, вам мало трех трупов, когда довольно и одного, чтобы засвидетельствовать чью-нибудь смерть? Чего же вы еще хотите, молодой человек? Повторяю еще раз, дяди вашей жены нет на свете, а тот, кто стоит перед вами, тот, кто говорит с вами и на кого вы смотрите словно на привидение, сегодня утром влез в шкуру дату Нунгала, полновластного хозяина судна "Магомедия"; этот самый Нунгал покончил с собой сегодня ночью, между двумя и тремя часами, из-за того, что проиграл свою долю добычи в игре, от которой в один безумный день поклялся навсегда отказаться. В данную минуту я Нунгал, и никто иной. Может быть, когда-нибудь я снова изменюсь; возможно, это будет зависеть и от твоего благоразумия, Эусеб ван ден Беек.
Если бы малайскому капитану угодно было продолжать говорить еще полчаса, у несчастного Эусеба, раздавленного тем, что он видел и слышал, не было бы сил прервать его.
Но дату Нунгал остановился.
— Что вы хотите сказать? — спросил Эусеб. — Объясните; каждое ваше слово представляет для меня загадку, разгадывать которую у меня духу не хватает. С тех пор как двадцать четыре часа тому назад доктор Базилиус вмешался в мою жизнь, я уже не знаю, продолжаю ли жить сам по себе или не перестаю метаться под безмерной тяжестью кошмара. Я сомневаюсь в себе, в других, в Боге, сомневаюсь во всем, и небесный свод кажется мне огромной сетью, под которой бьются жертвы, предназначенные, подобно мне самому, сделаться игрушкой сверхъестественных сил, против которых человеческий разум, здравый смысл и свободная воля не в силах бороться.
— Да, жалуйтесь на свою участь, тем более при мне! Через несколько часов я выйду в открытое море и в нескольких сотнях льё отсюда буду точить клюв и когти на скверных морских птиц, которые на свою беду встретятся мне на пути, а господин Эусеб ван ден Беек тем временем получит кругленькую сумму.
— Я не желаю этого наследства, я отказываюсь от него! — воскликнул Эусеб. — Вы никогда не были дядей Эстер!
— Ну и пусть! Не все ли вам равно, если тот, кого называли Базилиусом, представлял его?
— Нет, потому что принять это наследство означало бы вступить в сделку с силами ада, которые я отрицал и которые вынужден признать.
— Какое же вы дитя! — произнес дату Нунгал, доставая из-за пазухи бумагу, в которой Эусеб с ужасом узнал ту, на которой прошлой ночью поставил свою подпись. — Вот договор, связавший вас с тем, кто теперь представляет на земле Базилиуса, хоть этот документ и не написан огненными буквами на черном пергаменте и на нем вместо печати ада стоит государственная печать. В наше время, друг мой, вексель — вот настоящая адская сделка. Поверьте мне, человек, подписавший заемное письмо, больше не принадлежит себе: если он не оплатит его в срок, в указанный час, минуту и секунду, он делается имуществом, принадлежащим кредитору. Дурак Шейлок просил всего два фунта плоти; надо было требовать сто двадцать, сто тридцать, сто сорок фунтов: он получил бы их. Современные ростовщики не так глупы, они просят все тело, и им дают его без труда. В самом деле, свободно высказанная воля человека, изложенная на бумаге и подписанная его именем — чернилами ли, кровью ли, — не довольно ли этого, чтобы поработить этого человека, и не связаны ли мы друг с другом неразрывно с той минуты, как в обмен на жизнь твоей жены, подаренную мной, ты поклялся мне бороться со влечениями, какие, по моему утверждению, ты не в силах побороть? Ну, неужели ты, зять нотариуса, в этом не разбираешься? Такой договор называется взаимообязывающим и вступает в силу с той минуты, как одна из сторон начинает выполнять свои обязательства.
— Но, давая это обещание, я думал, что даю его одному из себе подобных! — вскричал Эусеб. — Я считал, что принимаю на себя обязательства по отношению к такому же человеку, как я, а не демону!
— Иными словами, ты рассчитывал остаться свободным и просто-напросто нарушить обещание, как только получишь от ближнего своего то, чего хотел, — иными словами, ты надеялся, что человек, с которым ты связан обязательством, не сможет принудить тебя выполнить его или наказать тебя за то, что ты нарушил обещание. Ах, ты собирался одурачить меня, бедный мой Эусеб! К несчастью твоему, этого не будет; но если для успокоения твоей богобоязненной совести тебе нужна уверенность в том, что я не являюсь ни Ариманом персов, ни Тифоном египтян, ни Пифоном греков, ни Сатаной Мильтона, ни Мефистофелем Фауста, ни змеем Висконти, ни Бафометом тамплиеров, ни Грауилли, ни Тараской, ни средневековой химерой, ни чертом, наконец, — я могу тебя в этом уверить. Впрочем, если ты сомневаешься в моих словах, — а я позволю тебе в них усомниться, — можешь заглянуть мне в туфли, можешь заглянуть под тюрбан, vide pedes, vide caput[7], и ты не найдешь ни рогов, ни раздвоенного копыта.
— Так кто же вы?
— Воля.
— Воля?
— Да, воля, направленная к одной цели — бессмертию.
— Тела или души?
— Тела, глупец. Душа бессмертна по самой своей сущности, тогда как тело бренно.
— Значит, вы бессмертны?
— Я вовсе не бессмертен, но живу уже примерно сто тридцать или сто сорок лет. Я хотел бы достичь, по крайней мере, трехсотлетнего возраста: то, что происходит в мире в последние сто двадцать лет, так интересно! Именно это желание и навело меня на мысль возродить кабалистику, науку, которую считали отжившей, именно это желание дало мне силу и власть, размеры которых ты уже имел возможность оценить.
— И вы можете сражаться со смертью? — с возрастающим ужасом спрашивал Эусеб.
— По-моему, ты сам видел. Послушай!.. Я открою тебе одну из неведомых истин, какие станут известны только через века. Смерть — это порожденный невежеством призрак; ее не существует, тело служит душе одеждой, и только. Когда это тело совершенно износится или окажется серьезно и непоправимо поврежденным, она сбросит свое жалкое рубище у первого же придорожного столба. Так вот, милый мой, — прибавил доктор с тем смехом, от какого холод пробирал Эусеба до мозга костей, — я умею менять платье, пока оно не протерлось, вот и все.
— Но как это можно сделать?
— Ах, прости, но я совершенно не собираюсь рассказывать тебе, как это делается, потому что, если я объясню тебе это, ты станешь таким же ученым, как я сам. Однако тебе можно узнать, — хотя я и не обязан говорить тебе это, но хочу дать возможность выиграть, — что в день, когда Эусеб ван ден Беек, разочарованный и пресытившийся своей женой, Эстер Мениус, скажет сам себе: "Где, черт возьми, была моя голова, когда я посреди ночи отправился за доктором Базилиусом, разрази его гром? Зачем этот адский доктор вернул жизнь той, кого унесла смерть?" — в этот день душа Эусеба ван ден Беека захочет покинуть его тело, и это тело будет еще молодым, свежим и вполне пригодным для того, чтобы прожить лет тридцать, а в то же время, все равно в каком месте, найдется скверный главарь разбойников, жестокий капитан пиратов, который в ожидании лучшего с удовольствием проведет эти тридцать лет в указанном теле.
— Так, значит, смерть, о которой было объявлено сегодня утром?..
— Перемена чехла, только и всего.
— И вы будете жить так…
— До скончания века, я думаю, поскольку рассчитываю на то, что человеческая злоба и глупость до дня Страшного суда будут вызывать в людях отвращение к жизни.
— О, я еще не принадлежу вам, сударь, — сказал Эусеб. — Теперь, когда вы меня предупредили, я буду беречься и обещаю вам, что вы рискуете окончить свои дни в шкуре дату Нунгала.
— Ты так думаешь? — усмехнулся малаец.
— Я за это ручаюсь.
— Что ж, раз ты так уверен в успехе, у тебя больше нет причин отказаться от наследства.
— Я беру его, — решительно произнес Эусеб. — Я беру его! Богатому и счастливому, мне легче будет устоять перед адскими соблазнами, которыми вы, несомненно, окружите меня. Часть этих денег я отдам на благотворительные цели, привлеку на свою сторону Небо, и оно одержит верх над вами, чья власть, как бы вы ни отрицали, имеет адское происхождение.
— Попробуй, — ответил капитан, — попробуй и живи в свое удовольствие! Жизнь коротка, а твоя в особенности не обещает быть долгой, так что постарайся сделать ее приятной. До свидания, Эусеб.
После этих слов пират повернулся к молодому человеку спиной, как будто у него были занятия поважнее, чем продолжать беседу, и сделал матросам, уже вернувшим на борт своего товарища и закончившим все приготовления к снятию с якоря, знак, по которому четверо из них взялись за весла и подогнали лодку к плотине.
Малайский разбойник перешагнул через парапет набережной, схватился за трос, к которому крепился буек в открытом море, и, дождавшись, пока лодка пройдет прямо под ним, отпустил трос и оказался среди гребцов, которые тотчас же направились в сторону судна.
Оказавшись у борта прао, Нунгал медленно поднялся по вделанным в обшивку ступенькам и стал командовать маневром. С помощью ротанговых снастей соломенные паруса встали под ветер, натянулись под свежим бризом — судно тронулось с места и обогнуло плотину.
Когда оно поравнялось с концом мола, Нунгал поднялся на ют и в знак прощания послал Эусебу, словно приросшему к земле, последний зловещий смешок.
И только когда судно, летевшее будто на крыльях, исчезло за горизонтом, Эусеб собрался вернуться домой. Он пришел туда в неописуемом нервном возбуждении. В тот же день его охватила лихорадка, и врач, которого Эстер пришлось позвать ночью, объявил, что, по его мнению, больной не выдержит больше трех дней приступов столь жестокой горячки.
VII СТРАННАЯ ПРИПИСКА
Вы, конечно, помните, дорогие читатели, некоего человека, объявившего Эусебу ван ден Бееку и Эстер Мениус о смерти их дяди, доктора Базилиуса.
Этот человек был старшим клерком у нотариуса Маеса, чья контора находилась на площади Вельтевреде, одной из самых красивых в Батавии.
Нотариус Маес был чудаком, далеко не лишенным характера, и вполне заслуживает того, чтобы мы посвятили ему одну или две страницы.
Внешне нотариус был высоким, толстым и одутловатым. Его бело-розовое безбородое лицо, украшенное носом Роксоланы, составляло довольно забавный контраст с ростом тамбурмажора и богатырским сложением метра Маеса.
Что касается нравственного облика нотариуса Маеса, то он был двойственным; мы хотим сказать, что в одном теле как бы существовали два различных человека.
Одним из них был метром Маесом, нотариусом.
Другой — просто господином Маесом.
Нельзя и представить себе более спокойного, методичного, пунктуального, степенного и благоразумного человека, чем метр Маес, нотариус. Если бы какой-нибудь клиент потребовал явиться к нему в четыре часа утра, нотариус и тогда вышел бы из дома не иначе как в черном сюртуке, белом галстуке и свежих перчатках, в полном соответствии с батавийским этикетом.
Никто не видел нотариуса Маеса идущим пешком по улице прежде, чем зайдет солнце.
Исполняя свои обязанности, он никогда не улыбался; его лицо оставалось серьезным и напоминало о завещании даже в том случае, когда речь шла о брачном контракте.
Нотариус всегда обращался к клиентам только в третьем лице и ловко переводил разговор, как только речь заходила о чем-то не относящемся к его обязанностям.
Но каждый вечер, ровно в шесть часов, метр Маес, облегченно вздохнув, расставался со своей манерой держаться, надменностью и мрачным видом. На его широком лице расцветала довольная улыбка, и он сбрасывал с себя черные брюки и сюртук, сдавливавшие его тело, с проворством и бесцеремонностью, приводившими в отчаяние г-жу Маес, женщину скромную и приличную, хотя живую и резвую по характеру. Затем нотариус, надев белый пикейный костюм и пританцовывая на ходу, насколько позволяла его грузность, отправлялся выпить четыре-пять стаканчиков имбирного пива, после чего делался просто Маесом — славным малым, не лишавшим себя после обеда тайных наслаждений, доставляемых трубочкой опиума. Более того — иногда он отправлялся в узкие улочки и под соломенные кровли Меестер Корнелиса, и в таком случае вечер непременно заканчивался в китайском Кампонге, в маленьком театре на площади Ваянг-Чайна, причем злые языки поговаривали, что нотариус куда меньше интересовался драматическими произведениями Небесной империи, чем нравами хорошеньких малаек, из которых состояла наиболее соблазнительная часть труппы.
В тот час когда мы выводим на сцену г-на Маеса, он не успел еще вступить в радостную фазу своего повседневного существования.
Было около пяти часов пополудни, и он сидел в своем кабинете перед столом, заваленным кипами бумаг и делами, из коих нотариус делал выписки с прилежанием, которое должно было внушить клиентам вполне оправданное доверие. Но время от времени мощный торс г-на Маеса мучительно извивался под черным сюртуком, шея выворачивалась из белого галстука, словно торсу и шее не терпелось сбросить оковы, а глаза, перед тем как вновь уставиться в бумаги, меланхолически останавливались на больших часах красного дерева, отсчитывающих время с нестерпимой медлительностью и однообразием.
Дверь отворилась.
— Сударь, — произнес один из клерков метра Маеса, дежуривший в комнате, расположенной перед кабинетом, где мы застали этого последнего, — сударь, здесь находится госпожа ван ден Беек-Мениус, она хотела бы с вами побеседовать, если это не слишком обеспокоит вас.
— Пригласите ее войти, пригласите, Вильгельм Рейк, — ответил метр Маес. — Не следует заставлять клиентов ждать… а тем более клиенток, — прибавил нотариус с самой многозначительной улыбкой.
Немедленно сообразив, что молодой человек может как-нибудь легкомысленно истолковать его слова, метр Маес поправился:
— Особенно, когда речь идет о таких почтенных клиентках, как госпожа ван ден Беек-Мениус. Пригласите ее, друг мой, пригласите.
Нотариус бросил взгляд в маленькое венецианское зеркало, висевшее над обитым малиновым шелком диваном, желая убедиться в том, что недавние проявления нетерпения не нарушили складок его галстука и гармонии костюма.
Клерк ввел в кабинет г-жу ван ден Беек.
Беспокойство, внушенное состоянием мужа, как и недавняя болезнь, оставили след на лице Эстер. Она побледнела, но от этого еще более похорошела.
Нотариус церемонно придвинул ей кресло.
— Прежде всего, сударыня, — обратился он к ней самым официальным тоном, — я желал бы осведомиться о здоровье господина ван ден Беека.
— Мой муж чувствует себя лучше, сударь, — ответила молодая женщина. — К счастью для него, самые ненадежные оракулы принадлежат к медицинскому факультету: лечивший его врач привел меня в полное отчаяние.
Метр Маес улыбнулся, и Эстер продолжала:
— Молодость и крепкое сложение победили болезнь, и мы счастливо отделались от этой страшной горячки, во время которой моего мужа терзали ужасные видения; это лихорадочное возбуждение сменилось внушающим некоторое беспокойство оцепенением, но мы надеемся справиться и с этим.
— Я думаю, — прервал ее нотариус, сочтя что приличия достаточно соблюдены и желая в столь поздний час поскорее перейти к делам, — я думаю, госпожа ван ден Беек-Мениус пришла побеседовать со мной о наследстве, доставшемся ей от дяди, доктора Базилиуса.
— Разумеется, сударь, поскольку ваш клерк, посетивший меня вчера, сообщил о приписке в завещании: некоторые упомянутые в ней обстоятельства могут изменить содержащиеся в нем распоряжения.
— Действительно, это так, сударыня, но начнем с самого начала. Позвольте мне прочесть вам опись движимого и недвижимого имущества, оставленного покойным господином доктором Базилиусом, которую я составил в соответствии с законом.
— Пусть будет по-вашему, сударь, — наклонив голову, ответила Эстер.
— Я имею честь сообщить вам, сударыня, что это значительное состояние, более значительное, чем вы и ваш супруг могли разумно предполагать. Актив, по моему мнению, составляет не менее полутора миллионов флоринов; что касается подлежащих оплате долгов, то дела доктора Базилиуса были в таком порядке, что он никому не должен был и сантима.
— Ах, Боже мой! — воскликнула молодая женщина. — Мой бедный Эусеб! Какое счастье для меня увидеть его богатым и наслаждающимся всей той роскошью, о которой мы, как все бедняки, мечтали, никогда не надеясь ее узнать!
— Прибавьте к этому, сударыня, — произнес метр Майес, — что ваше удовольствие объединяется с радостью самой принести богатство супругу, поскольку наследство пришло от вашего родственника.
— Согласна, сударь: я так люблю моего бедного Эусеба, а сам он столько раз доказывал мне свою любовь!
Бросив взгляд на часы, нотариус, казалось, тотчас же пожалел об этом отступлении — единственной фразе, заставившей его уклониться от дела.
— Я имею честь, — продолжил он, — передать вам копию описи; вы увидите, что состояние доктора Базилиуса, а теперь ваше, заключается в следующем:
1) плантация в округе Бейтензорг, оцененная в шестьсот тысяч флоринов;
2) четыреста тысяч флоринов, помещенных в банкирском доме ван ден Брока, одном из самых надежных в Батавии;
3) двести тридцать тысяч флоринов наличными, найденные в жилище покойного и находящиеся в данный момент у меня;
4) наконец, различные товары, частично перенесенные в мой дом, частично находящиеся на складах…
Госпожа ван ден Беек не дала ему договорить.
— Хорошо, сударь, не сомневаюсь, что ваша опись в полном порядке; прошу вас, перейдем к содержащей некие условия приписке, о которой вы говорили мне.
Это требование чрезвычайно смутило метра Маеса, обычно строго следовавшего наставлению Горация: "Ad eventum festinat"[8]. Он кашлянул, медленно обтер лицо платком, наморщил лоб и поднял очки с простыми стеклами: исполняя обязанности нотариуса, он надевал их в качестве не только украшения, но и необходимой для его звания принадлежности; наконец он произнес, играя золотой часовой цепочкой:
— Я имею честь сообщить госпоже ван ден Беек-Мениус, что предпочел бы подождать выздоровления господина Эусеба ван ден Беека, ее супруга, чтобы сообщить ему об этой в высшей степени странной статье завещания покойного господина доктора Базилиуса; впрочем, она касается исключительно господина ван ден Беека — если не по своим последствиям, то, во всяком случае, по способу осуществления. Поскольку этот последний является естественным и законным опекуном наследницы, мне кажется возможным, удобоисполнимым и надлежащим ввести вышеназванную особу во владение имуществом ее покойного дяди и предать забвению эту приписку, в которой нет никакой срочной необходимости, в особенности пока господин ван ден Беек болен. После своего выздоровления господин ван ден Беек сообщит ее содержание своей супруге, предварительно сам с ним ознакомившись.
— Сказать по правде, сударь, — возразила молодая женщина, — вы сильно заинтриговали меня, и все же не одно любопытство вынуждает меня настаивать. Возможно, Эусеб еще долгое время не в состоянии будет заниматься делами; кроме того, из слов, вырвавшихся у него в горячечном бреду, я заключила, что благоразумнее было не заставлять его вспоминать о некоторых случаях, связанных с моим дядей; так изложите мне, умоляю вас, эту странную приписку во всей ее странности.
— О, удивительно странную, сударыня, — повторил за ней нотариус. — До того странную, что я не знаю, как изложить вам намерение завещателя приличным образом, не теряя уважения, с каким я отношусь к вам и к самому себе. Если бы, по крайней мере, уже пробило шесть часов вечера! — прибавил он с улыбкой.
— Во всяком случае, сударь, — заметила Эстер, тоже пытаясь улыбаться, — вам недолго осталось ждать, часы уже бьют.
В это время, как только в кабинете нотариуса угас последний отзвук шестого удара, дверь распахнулась и в кабинет ураганом влетела низенькая женщина.
Это была достопочтенная г-жа Маес.
— О чем только вы сегодня думаете! — закричала она, не замечая, что муж не один в комнате. — Уже десять минут как на часах губернаторского дома пробило шесть, все клерки ушли из конторы, имбирное пиво стоит в холодке; чего вы ждете, чтобы оставить работу?
Нотариус указал жене на поднявшуюся с места г-жу ван ден Беек.
— Вильгельмина, я имею честь представить вас госпоже ван ден Беек. Госпожа ван ден Беек — госпожа Маес.
Эта последняя ответила глубоким реверансом на поклон молодой женщины.
Госпожа Маес представляла собой забавную противоположность своему мужу; как и он, она была огромной, но росла не в высоту, а в ширину и достигла в этом такого развития, что лишь через немногие двери могла протиснуться иначе, чем бочком.
Маленькие живые и блестящие глазки, нос картошкой и рот, украшенный тридцатью двумя белыми зубами, которые она показывала при каждом удобном случае, придавали ей тем более необыкновенный вид, что Небо щедро снабдило ее мужским украшением, в котором отказало мужу, и все лицо ее было покрыто белым пушком; не будь щеки и нос кирпичного оттенка, она стала бы похожей на кактус.
Живость толстухи находилась в удивительном противоречии с ее фигурой и служила предметом величайшей гордости г-жи Маес; свою живость или, вернее сказать, бойкость она приписывала своему происхождению, считая себя француженкой на том основании, что родилась в Льеже в то время, когда валлонские провинции были французским департаментом.
Национальность, которую приписывала себе Вильгельмина (как всегда называл ее муж), оправдывала эту живость, тем более замечательную, что, как мы уже говорили, дородность дамы мало этому способствовала. Эта живость плохо соответствовала невозмутимому и сдержанному поведению г-на Маеса с восьми часов утра и до шести часов вечера; но г-жа Маес, словно из признательности по отношению к приемной родине, привила к своей природной бойкости чисто голландские благочестие и суровость; эпикурейца, прожигателя жизни, каким был Маес с шести часов вечера до восьми часов утра, она понимала не лучше, чем размеренного и неподвижного, словно механического Маеса, ускользавшего от нее с восьми часов утра до шести часов вечера.
Из этого следовало, что с храмом Януса, три раза закрывавшимся во время правления Августа, не случилось бы того же, находись он в доме на площади Вельтевреде.
И все же г-н Маес на сей раз казался как нельзя более довольным, поскольку его жена прервала сообщение, которого ждала от него г-жа ван ден Беек и которое давалось ему с таким трудом.
— Да, вы правы, Вильгельмина, — сказал он. — В самом деле, настал тот час, когда я прерываю свои труды; они так тяжки под нашим знойным небом, сударыня, — прибавил он, повернувшись к Эстер, — что я с предельной точностью не только приступаю к работе, но и прекращаю ее. Если сударыня позволит, мы в другой раз продолжим начатую сегодня беседу, и я попрошу указать час, в которой сударыне удобно будет прийти, чтобы подписать необходимые акты передачи имущества.
— Но повторяю вам, сударь, — настаивала Эстер, — что, пока мы не узнаем содержания этой злосчастной приписки, которое вам так трудно сообщить, я не могу быть уверена, что мы можем принять это наследство.
— Как? — воскликнула г-жа Маес. — Вы до сих пор не сообщили госпоже ван ден Беек о низости этого старого негодяя, ее дяди? Ах, вот в чем дело! Право же, я находила ее чересчур спокойной для женщины, знающей, что с ней произошло.
— Замечу вам, дорогая моя Вильгельмина, — возразил г-н Маес, вновь надевая очки, которые положил было на стол, — замечу вам, что у нас деловой разговор и ваше вмешательство совершенно неуместно.
— А я замечу вам, сударь: сейчас не время заниматься делами, — еще более язвительным тоном продолжала Вильгельмина, — и я хочу, чтобы эта молодая дама, которая, по моему мнению, заслуживает самого глубокого сочувствия, узнала, до чего скверными могут быть некоторые люди. Впрочем, я предупреждаю вас, что, если вы ничего не скажете госпоже ван ден Беек, это сделаю я.
— В самом деле, — смирившись, ответил метр Маес, — это кажется мне, в сущности, настолько несерьезным, что, может быть, и лучше узнать об этом в обычной светской беседе, чем при посредстве представителя закона. И все же мне хотелось бы предварить мое сообщение несколькими вопросами, нескромность которых я попрошу госпожу ван ден Беек простить мне. Впрочем, эта нескромность вполне разъяснится самим содержанием приписки.
— Начинайте, сударь, — нетерпеливо попросила Эстер.
— Прежде всего, сударыня, я спрошу вас, был ли ваш брак с господином ван ден Бееком заключен по любви?
— О да, сударь, вполне; мы оба были бедны и понятия не имели о том, что стало с нашим дядей Базилем Мениусом; мы были до того бедны, что наши обручальные кольца сделаны из серебра.
И, протянув нотариусу левую руку, она в самом деле показала ему на безымянном пальце кольцо, отлитое из серебра, всего лишь второго среди металлов.
Господин Маес окинул одним взглядом руку и кольцо и нашел, что рука настолько же красива, насколько скромным было кольцо.
— Вы видите его, — улыбаясь, добавила Эстер. — И все же я не променяла бы это кольцо, которое стоит не дороже одного флорина, даже на бриллиант Великий Могол.
— У вашего мужа такое же кольцо?
— В точности такое же.
— И он дорожит им так же, как вы — своим?
— Готова в этом поклясться.
— Это хорошо, — произнес нотариус. — А теперь скажите мне, дорогая моя госпожа, сколько времени вы замужем?
— Уже полтора года, сударь.
— И вы ручаетесь, что в течение этих полутора лет — это щекотливый вопрос, сударыня, но вскоре вы поймете его важность — ваш муж был вам верен?
— О сударь, жизнью своей поручусь! — без колебаний воскликнула Эстер.
— Счастливая женщина! — проговорила г-жа Маес. — Я могу поручиться, что уже в течение первого месяца нашей совместной жизни этот изверг, — она показала на метра Маеса, — изменил мне три или четыре раза.
— Вильгельмина, Вильгельмина, — укорил ее нотариус, — если вы станете всякий раз прерывать нас подобным образом, мы никогда не закончим.
Затем, повернувшись к Эстер, он продолжал:
— Таким образом, сударыня, успокоенная примером прошлого, вы не испытываете ни малейшей тревоги за будущее.
— Ни малейшей.
— Так вот, знайте, сударыня…
— Да, узнайте, милая малютка, что ваш дядя был самым отъявленным негодяем и развратником, которого только можно себе представить.
— Вильгельмина!
— Оставьте меня в покое, сударь, вы не лучше его, — ответила Вильгельмина. — Ах, милая крошка, — продолжала жена нотариуса, взяв руки г-жи ван ден Беек в свои и скорбно устремив свои маленькие серые глазки на розетку потолка, — если бы вы только знали, в какую ужасную страну вам довелось приехать, если бы могли представить себе степень безбожия и безнравственности ее обитателей — и в первую очередь вот этого господина!..
— Но, в конце концов, сударыня… — нетерпеливо прервала Эстер, которой хотелось узнать содержание удивительной приписки, давшей повод ко всем этим рассуждениям.
— Милое дитя, у вашего чудовищного дяди был гарем, настоящий гарем, словно у турецкого султана. Больше двадцати женщин, как говорят!
— Три, всего только три, — перебил ее метр Маес. — Правда, все три очень хороши собой.
— Слышите, слышите вы это?
— И мой дядя оставил часть своего состояния этим трем женщинам? — спросила Эстер. — Я нахожу это вполне естественным. Мой дядя ничем мне не обязан, но он сделал меня миллионершей. Признательность воспрещает мне осуждать его поведение и хоть в какой-то степени препятствовать проявленному им великодушию.
— Бедный ангелочек! — воскликнула г-жа Маес, целуя Эстер. — Какая утонченность, что за сердце! Не это ли мерзость запустения: такие чистые и добрые существа, как мы, отданы в жертву низким страстям подобных созданий? Но дело совсем не в том, дорогое мое дитя; в самом деле, это было бы всего лишь ничтожное огорчение, какое следует безропотно сносить нам, несчастным. Нет, нет! Это гораздо хуже того, что вы предположили.
— Бога ради, сударыня, объяснитесь…
— Представьте себе, — говорила Вильгельмина, которой ее муж, казалось, уступил слово, — что этот проклятый Базилиус — да он и на вид был негодяй! — своим завещанием поощряет разврат, назначает этим трем мерзавкам премию за их испорченность.
Эстер повернулась к метру Маесу, надеясь, что он несколькими словами прервет бесконечные излияния своей супруги.
— Он пообещал треть вашего состояния той, которая заставит полюбить себя, — нехотя произнес нотариус.
— Кто должен ее полюбить? — спросила Эстер.
— Ваш муж, в этом-то вся мерзость, бедная моя девочка; надо быть мужчиной, чтобы выдумать такую гнусность!
— Я нахожу эту мысль всего лишь странной, — возразил метр Маес. — Таким образом, милая малютка, если эти три создания заставят вашего мужа полюбить их, одну за другой или всех трех одновременно, вы окажетесь не только обманутой, униженной и принесенной в жертву, но и лишенной всего вашего состояния.
— Это в самом деле так, сударь? — переспросила Эстер, не решаясь поверить в странное содержание приписки, которое метр Маес так долго не мог открыть ей.
— Увы, сударыня, это правда! — ответил нотариус, безнадежно разведя руками и склонив голову.
— Но вы обратитесь в суд, дорогая госпожа ван ден Беек! — Ради чести священного института брака вы должны начать тяжбу, и судьи отменят это ужасное условие!
— Та-та-та-та-та! — закричал в свою очередь метр Маес. — Судиться! Разве этот доктор не все предусмотрел? Разве в приписке не сказано, что, если возникнет спор, первое завещание следует считать недействительным и все состояние целиком переходит к правительству? Отказаться от полутора миллионов флоринов — легко сказать, госпожа Маес.
— Увы, сударь, — сказала Эстер, — меня соблазняет не огромный размер этого состояния, уверяю вас; меня заставляет решиться страх перед нищетой. Эусеб болен, серьезно болен, и признаюсь вам, без этого наследства, чудесным образом свалившегося на нас, мы оказались бы в такой нужде, что мне пришлось бы расстаться с мужем и просить общественную благотворительность позаботиться о нем, раз я не в силах это сделать сама. Меня глубоко огорчает скандал, вызванный этой злосчастной припиской, но я нимало не испугана ею: любовь Эусеба ко мне останется неизменной, я знаю его сердце и уверена, что ни для одной женщины, кроме меня, в нем не найдется места.
— Бедняжка, как она невинна! — воскликнула г-жа Маес, смахивая слезу.
Метр Маес кашлянул.
— Значит, вы принимаете наследство? — спросил он.
— Принимаю, сударь.
— И хорошо делаете, поверьте мне. На свете есть столько женщин, которых стоит любить, что этих трех можно исключить безболезненно.
— Господин Маес, — произнесла Вильгельмина. — Вы глубоко развращенный человек, но отнеситесь с уважением хотя бы к этой молодой женщине.
— Ах, сударыня, — возразил нотариус. — Ведь уже почти семь часов, значит, позволительно немного пошутить над этой забавной выдумкой доктора Базилиуса.
— Забавной, забавной! — вскричала г-жа Маес. — Чудовище, он находит эту выдумку забавной!
— Сударь, — сказала Эстер. — Мне остается задать вам последний вопрос.
— Говорите, сударыня, — ответил нотариус, снова став серьезным.
— Что стало с этими тремя женщинами?
— Мне это неизвестно, сударыня; когда я явился в дом доктора Базилиуса на следующий день после похорон, они уже исчезли.
VIII КОНСИЛИУМ
Заболевание Эусеба ван ден Беека, как и все нервные недуги, было долгим и жестоким; за потрясением, с которого она началась, последовала горячка с испугавшим Эстер бредом; затем больной впал в расслабленное состояние, что было не менее опасно, чем предыдущие периоды болезни.
Если умственные способности молодого человека и не угасли полностью, то они, по крайней мере, притупились; пережитые страшные кризисы отняли у него разом и память и мысль. Он мало говорил и, казалось, чаще всего даже не замечал, что происходило вокруг него.
Из всех его дремлющих чувств временами просыпалось лишь одно, вызываемое присутствием Эстер у его изголовья: любовь, которую он испытывал к жене, усиливалась по мере того, как он терял все прочие ощущения. Эстер словно стала его ангелом-хранителем и удерживала в этом изнуренном страданиями теле готовую покинуть душу.
Эусеб проводил долгие часы, вложив свои руки в ладони жены и погрузив взгляд в ее глаза, и если словом, знаком или движением она проявляла жившую в ее сердце любовь, глаза его, обыкновенно тусклые и застывшие, загорались необычным блеском; больной не произносил ни слова, но выражение его губ напоминало Эстер нежные и пламенные клятвы первых дней их любви.
Когда же Эстер вынуждена бывала ненадолго удалиться от постели мужа, Эусеб делался беспокойным, печальным и несчастным, а если ее отсутствие затягивалось, он ценой неслыханных усилий вновь обретал дар речи и в тоске, со слезами на глазах, звал жену к себе; когда она возвращалась, он смотрел на нее с мучительной тревогой и, словно не полностью доверяя своему зрению, ощупывал руками ее лицо, немного успокаиваясь лишь тогда, когда несколько нежных слов, ласка или поцелуй убеждали несчастного молодого человека в том, что она действительно рядом с ним.
О прошлом, о страшной ночи, в которую он отправился за доктором Базилиусом, о смерти последнего, о богатом наследстве, доставшемся бедному семейству, не заходило речи: Эусеб словно обо всем забыл. Казалось, он даже не замечал изменений, пришедших в дом вместе с этим наследством: распоряжался многочисленными слугами, окружавшими его с начала болезни, словно никогда не обходился без них, и нимало не удивлялся тому, что грязные почерневшие стены его хижины на улице Крокот сменились ^озолоченными панелями и богатой обивкой особняка на Королевской площади, в котором г-жа ван ден Беек обосновалась после своей встречи с нотариусом Маесом.
Незачем говорить, что Эстер расточала не меньше забот 0 муже, чем сам он о ней в те дни, когда так боялся ее потерять. К больному были приглашены лучшие врачи Батавии. Не в силах дольше ждать хоть какого-то улучшения в состоянии мужа, Эстер созвала консилиум и попросила высказаться о той вялости, которая грозила довершить то, что было начато горячкой, или, по меньшей мере, превратить Эусеба в слабоумного, что было бы хуже смерти.
Перебравшись из Европы в Индию, последователи Эскулапа не утратили ни одной из традиций своего ремесла, и доктора Батавии были в столь же полном несогласии друг с другом, в каком могли бы быть их коллеги в Париже, Лондоне или Амстердаме.
Для начала они разделились на два лагеря.
Двое заявили, что сделать ничего нельзя и Эусеб безнадежен; двое других поманили Эстер самыми радужными и скорыми надеждами; пятый промолчал.
Его голос мог бы склонить чашу весов на сторону либо смерти, либо жизни.
Но, как настойчиво его ни спрашивали, он ограничился тем, что предположил выздоровление больного в случае, если состояние его не ухудшится; если же это произойдет, он ни за что не ручался.
Что касается выбора лечения, здесь мнения снова разделились.
Один предлагал использовать в больших дозах хину; второй уверял, что победит болезнь с помощью опиума; третий рекомендовал кровопускания и пиявок; четвертый — полное воздержание от пищи и обильное слабительное.
Пятый врач (тот самый, кому принадлежало мудрое высказывание о том, что следует опасаться худшего в случае, если больному станет хуже, но, если он почувствует себя лучше, можно надеяться на лучшее) предположил наличие пяти хороших шансов против пяти дурных при использовании carduus benedictus[9] в сочетании с серными ваннами Пангезанго.
К концу этого совещания бедная Эстер сделалась почти такой же слабоумной, как ее муж.
После ухода врачей она осталась одна и почувствовала себя покинутой.
В том состоянии духа, в какое привела ее болезнь Эусеба, она совершенно не стремилась к новым знакомствам; впрочем, плохая репутация доктора Базилиуса и скандал, вызванный его странным завещанием, сказались на его наследниках, и новые соседи на Вельтевреде относились к Эусебу и Эстер не лучше, чем бедные жители китайского квартала, среди которых они жили, пока были нищими.
Нотариус Маес был единственным из сколько-нибудь важных персон города, с которым г-жа ван ден Беек поддерживала отношения. Насколько это было возможно для него, он относился к ней с добротой и сердечностью, и, прежде чем суд ввел ее как доверенное лицо мужа во владение богатствами доктора, любезно предложил ссудить юным супругам любую сумму, какая могла неотложно потребоваться в их бедственном положении.
Естественно, что именно у нотариуса Маеса Эстер решила просить совета.
Когда она пришла в его контору, был час пополудни, так что молодая женщина нашла его закованным в галстук, очень важным, чопорным, степенным и серьезным, как в первые пятнадцать минут их прошлой встречи.
Она объяснила ему причину своего посещения.
Нотариус выслушал ее, не дрогнув.
— Не вижу причин для вашего беспокойства, сударыня, — сказал он ей таким же уверенным тоном, каким говорили врачи, убежденные в непогрешимости своих диагнозов. — Состояние господина ван ден Беека тяжелое, но, к счастью, промысел Божий — и благочестивый нотариус поднял глаза к небу — поместил лекарство рядом с болезнью.
— Лекарство! О, если вы знаете, как помочь моему несчастному Эусебу, скажите мне, господин Маес, умоляю вас, и даже если для этого потребуется пожертвовать всем наследством моего дяди, я воспользуюсь этим средством.
— Вам не надо приносить жертв, сударыня, более того, — это средство не только ничего вам не будет стоить, но удвоит ваше имущество или ваш капитал; оно вовсе не послужит источником вашего разорения, но приведет к богатству и процветанию; оно сделает вас самыми богатыми колонистами в Батавии.
— Но, в конце концов, что это за средство?
— Труд! — важно ответил метр Маес.
— Труд? — удивленно переспросила Эстер.
— Да, сударыня; мозг господина ван ден Беека страдает от того, что ничем не занят, как желудок страдает от того, что не получает подходящей пищи. Приговорить его к полному умственному воздержанию — значит обречь на смерть так же верно, как заставить полностью воздерживаться от пищи. Верните ему заботы, тревоги, волнения, являющиеся подлинным двигателем жизни, и вы увидите, как к нему вернется вся его молодость и сила. Дайте ему действовать, и он будет жить.
— Что вы такое говорите, сударь! Мой муж едва может связать две мысли и не скажет подряд четырех слов.
— Пусть! Все это придет вместе с заботой о собственных интересах, милая дама. Работа как игра: стоит кубику упасть на одну из граней, как того, кто его бросил, охватывает лихорадка; демон наживы трясет его, как сам он трясет стаканчик, заключающий в себе его богатство или разорение. Труд, госпожа ван ден Беек, — вот универсальное средство от всех бед, единственно надежное и подлинное, именно он вернет здоровье вашему мужу. Вот, к примеру, возьмите меня, — продолжал нотариус. — Я пустил бы себе пулю в лоб, если бы не работал; лишь мой труд дает мне забыть о тяготах жизни, лишь он утешает в сердечных огорчениях.
— Сердечные огорчения, сударь! — прервала его Эстер. — Но мне казалось, госпожа Маес говорила, будто этот род горестей совершенно вам незнаком.
Нотариус не смог удержаться и покраснел, но все-таки не смутился.
— Да, — не откликнувшись на это замечание, снова заговорил метр Маес. — Да, труд побеждает самые жгучие огорчения, как и самую острую физическую боль; и я сам, сгибаясь под тяжестью ноши, обремененный своим долгом, выполнение которого так мучительно под этим знойным небом, — с этими словами он показал на окна, защищенные толстыми циновками от палящих лучей солнца, — я лишь работой и ради нее живу. Я чувствую, что, не будь ее, я умер бы, задохнулся бы от недостатка средств, способных поддерживать лихорадочную деятельность моего ума. Поверьте мне, испробуйте это средство для господина ван ден Беека, победите вялость его мозга с помощью заботы о его интересах; пусть он, едва придет в себя, займется делами, все равно какими, пусть купит плантацию, откроет в Батавии торговый дом; пусть собирает кофе, выращивает рис, очищает сахар, перегоняет арак; пусть начнет продавать индиго, чай, пряности — что угодно, только бы продавал; подобно мне, он должен быть занят день и ночь своими делами, и вскоре вы увидите его толстым и здоровым, как я.
Госпожа ван ден Беек в недоумении взглянула на огромного нотариуса и спросила себя, вообразив подобное превращение своего мужа, не окажется ли в этом случае выздоровление хуже самой болезни.
— Но, сударь, — осмелилась она начать, — мне казалось, что по вечерам вы присоединяете к работе некоторые развлечения?
— Ошибка, сударыня, глубокое заблуждение! — возразил г-н Маес. — Я вижу, что вы судите обо мне так же, как чернь. Из-за того, что метр Маес, в силу своего положения принимая у себя важных особ, вынужден держать роскошный и изысканный стол, говорят: "Метр Маес — гурман". Заблуждение. Простой народ не знает, — продолжал нотариус, приняв томный вид, — он даже не знает, до какой степени я должен противоречить собственным вкусам. Они говорят: "О, нотариус Маес катается в карете, запряженной четверкой лошадей, словно набоб, стоит только наступить ночи!" Нет, нотариус Маес не катается, он просто отправился осмотреть плантацию, которую владелец собирается заложить. Говорят: "Нотариус Маес бывает в Кампонге, его чаще видят за кулисами китайского театра, чем в храме". Увы! Сударыня, им неведомо, что я лишь исполняю тяжкую повинность.
— Повинность, сударь?
— Вне всякого сомнения, сударыня; именно там я наверняка могу встретить плутов, с которыми вынужден иметь дело. Вы, разумеется, не знаете, что наши торговцы заключают с подданными Небесной империи очень важные сделки. Так вот, именно преданность делу, заботы об интересах моих клиентов заставляют меня ночи напролет проводить за столом в компании этих мошенников с раскосыми глазами, пить с ними цион и арак, пока они не свалятся под стол: только тогда, когда в утробе у них плещется рисовая или тростниковая водка, можно раскрыть козни этих пройдох; но все это, сударыня, лишь тяжкие подневольные обязанности моего ремесла; они кажутся мне горькими, клянусь вам, среди полной радостей жизни, какую создает мне любимая работа.
И г-н Маес, обеими руками схватив перо, воздел его к небесам.
— Вы начинаете убеждать меня, сударь, — с едва приметной улыбкой сказала Эстер.
— Стараюсь, сударыня, стараюсь, — проникновенно ответил нотариус.
— Но как же, — продолжала молодая женщина, — можно добиться подобного результата от бедного больного, господин Маес?
— Э, существует тысяча способов, сударыня.
— Назовите мне один из них.
— Покажите ему результат труда! Золото.
— Золото?
— Да; он не часто видел его в своей жизни, бедный господин ван ден Беек; так вот, дайте ему потрогать золото, скажите ему: "Эусеб, это действительно наше, но у нас хотят его отнять, наша собственность под угрозой". С первых же слов, если он принадлежит к роду человеческому, взгляд его загорится, мозг просветлеет, и с этой минуты к нему вернется рассудок и сила.
— Но если я скажу ему, что наше богатство под угрозой, мне придется объяснить, какая статья завещания тому виной.
— Рано или поздно он должен будет это узнать.
— О нет, сударь, никогда!
— В таком случае изобретите что-либо другое, что разбудит его, если не хотите, чтобы он от своего оцепенения перешел к смерти.
Несчастная Эстер была так удручена, находилась в такой нерешительности, а главное — до того устала от своих колебаний, что вернулась домой с твердым намерением исполнить предписание нотариуса Маеса и попытаться пробудить этот ослабевший рассудок, расшевелить этот отяжелевший дух.
Однажды, когда Эусеб большую часть дня провел с ней (она сидела на его постели, держа руки больного в своих, а голову — у себя на груди), Эстер показалось, будто выражение его лица спокойнее обычного, а во взгляде — больше осмысленности, и она решилась заговорить.
— Друг мой, — обратилась она к Эусебу. — Знаешь ли ты, что мы богаты?
Эусеб с полным безразличием отнесся к ее словам и принялся играть ее прекрасными шелковистыми локонами.
— Нам больше незачем бояться нищеты, заставившей нас так страдать, — продолжала Эстер. — Смотри, — прибавила она, бросив на одеяло горсть золота, — у нас в тысячи раз больше денег, чем сейчас перед твоими глазами.
Эусеб искоса глянул на золото и, словно тяжесть монет его давила, машинально столкнул их коленом с постели на ковер.
Затем, когда над ним склонилось прелестное лицо Эстер, губы Эусеба нежно коснулись лба жены.
— Разве ты не счастлив оттого, что богат? — продолжала она. — Разве ты не гордишься, видя богатые украшения на своей жене?
Эусеб с любовью посмотрел на нее.
— Знаешь, — снова заговорила она, — теперь я не ре шилась бы показаться тебе в той бедной одежде, котирую носила раньше. Мне кажется, видя меня такой, ты меньше любил бы меня.
Эусеб сделал над собой усилие и, в первый раз отвечая на мысль своей жены, произнес:
— Разве не такой я увидел тебя впервые? Разве не такой полюбил? Не была ли ты прекрасна и не любила ли меня прежде, Лем стала богатой?
— Значит, ты все еще любишь меня? — спросила Эстер, видя,/К какому незначительному успеху привело рекомендованное нотариусом Маесом средство, и почерпнув в нежности мужа идею испытать другой способ.
— Да, — отвечал Эусеб, — люблю более, чем когда-либо прежде.
— Я полагаюсь на твою любовь, но иногда боюсь, что у меня ее не станет.
Эусеб пожал плечами.
— Этого не может быть!
— Я надеюсь на это, — повторила она. — И все же, по-моему, самые глубокие и искренние чувства, как и все на земле, должны иметь свой предел.
— Кто это сказал? Кто сказал? — сильно побледнев, закричал Эусеб.
— Очень образованный и глубоко знавший людей человек, тот, кому мы обязан своим нынешним счастьем.
— Ты говоришь о докторе Базилиусе?
— О нем самом.
— О! Доктор Базилиус! — Эусеб судорожно приподнялся на постели и прижал руки ко лбу, словно хотел сдержать прилив крови. — Доктор Базилиус! О, Господи! Так это правда, это был не сон?
— Правда, что его искусство спасло мне жизнь, правда, что его доброта обогатила нас, — ответила Эстер, которая испугалась, что зашла слишком далеко, когда увидела, в какое возбуждение пришел ее муж. — Вот что правда.
Но Эусеб уже не слушал ее. При упоминании о докторе он сделался бледным как привидение, его блуждающие глаза ничего не различали, язык заплетался; похоже было, что жестокая горячка первого периода болезни вновь готова была охватить его.
— Доктор Базилиус! — говорил он. — Да, я вспоминаю! Малайский крис, сделка, три трупа, фризка, негритянка, желтая женщина с холодными, страшными глазами, проникающими вам в сердце, словно сталь ножа. А! Так это было правдой, мне это не приснилось, я видел, видел это! Сюда, Эстер! Не оставляй меня ни на минуту, слышишь? Оставайся всегда на моей груди, прижавшись к моему сердцу, иначе… иначе придет он, человек с сатанинским смехом, и разлучит нас!
И несчастный, обхватив руками Эстер, так же крепко прижимал ее к груди, как в ту ураганную ночь, ночь, когда она была в агонии и он думал, что потерял ее, а доктор вернул ему жену.
Все его жесты, движения, все это неистовство сопровождалось потоком бессвязных слов. Эстер боялась теперь не только горячки, но и безумия.
— Друг мой, друг мой, — повторяла она, покрывая поцелуями лицо и руки мужа, — во имя Неба, успокойтесь!
Но он, вместо того чтобы успокоиться, дрожал в ее объятиях; молодая женщина с ужасом увидела, как волосы у него на голове встали дыбом и пот выступил на лбу.
— Нет, — говорил он, — нет, есть лишь одно средство избежать этого: покинуть проклятую страну, населенную тенями и призраками, которые хотят тебя отнять у меня, моя любимая. О, уедем, уедем!
И, сделав последнее усилие, Эусеб выскочил из постели, увлекая за собой Эстер, и упал без чувств посреди комнаты.
Эстер подумала, что он мертв, и стала громкими криками звать на помощь всех врачей, которые лечили Эусеба. К счастью, ни один из них не явился, и спустя четверть часа Эусеб вновь открыл глаза.
IX ПОПЫТКИ ОТЪЕЗДА
Этот страшный кризис был началом выздоровления.
Эусеб проснулся немного более спокойным, но мысль об отъезде теперь полностью овладела его умом.
Эстер была далека от того, чтобы противиться воле мужа, и сказала, что готова последовать за ним на край света, как только у него будет достаточно сил для путешествия; эта надежда произвела то чудо выздоровления, которое медицина бессильна была совершить. В самом деле, под властью убеждения, что от улучшения его здоровья более или менее зависит близость отъезда, больной поправлялся намного быстрее, чем можно было ожидать.
Всего через несколько дней Эусеб, который шесть недель не вставал с постели, смог несколько раз обойти комнату, опираясь на руку жены; он начал есть и постепенно окреп настолько, что еще через несколько дней отважился на короткие прогулки в карете.
Со времени кризиса он ни разу не произнес имени доктора Базилиуса, но ни на одну минуту не переставал о нем думать.
Однажды Эстер застала его в страхе уставившимся на тот малайский крис, которым он когда-то хотел заколоться. Как это оружие оказалось в новом жилище Эусеба? Кто принес его туда? Кто положил на стол, где его нашел выздоравливающий?
Никто не мог этого сказать.
Одно обстоятельство казалось Эстер особенно странный: среди окружавшей его роскоши Эусеб старался жить как можно проще; у него было десять слуг, но он, как мог, сам обслуживал себя; имея роскошный стол, он придерживался прежних правил, то есть ел самую простую пищу и пил только воду.
Эусеб не переставал говорить о скором отъезде, но, несмотря на это явное расстройство мозга, он оставался нежным и заботливым, более чем когда-либо высказывал Эстер свою любовь, ни за что на свете не соглашался расстаться с ней даже на несколько минут, и молодая женщина понемногу привыкла к тому, что считала навязчивой идеей мужа, и забыла о своих горестях, чувствуя себя счастливой.
И все же как-то раз Эусеб ван ден Беек, до сих пор, как мы говорили, ни на минуту не покидавший Эстер, ушел один и отсутствовал в течение двух часов; вернувшись домой, он объявил жене, что взял каюту на трехмачтовом корабле "Рюйтер", которое через две недели должно было отплыть в Роттердам.
Эстер выслушала эту новость без радости и без огорчения, ей было хорошо везде, если рядом был Эусеб; но она отдавала себе отчет в том, что перед отъездом в Европу ее мужу необходимо привести в порядок достаточно сложные дела, доставшиеся им вместе с наследством, обеспечить выплату процентов, аренды, оплату жилья; однако имя Базилиуса, естественным образом возникающее при этом, производило на Эусеба такое впечатление, что бедной г-же ван ден Беек приходилось избегать упоминания о докторе.
И все же, поскольку день отъезда приближался, Эстер, ободряемая метром Маесом, который целиком разделял ее мнение по этому поводу, решила, что на следующее утро приступит к делу.
Ей не пришлось ни о чем говорить.
Ночью на рейд Батавии налетел один из тех страшных тайфунов, которые в течение десяти лет обрушивались на остров; он сломал мачты и реи у тех судов, что прочно стояли на якоре, и выбросил на берег все прочие суда.
Среди этих последних оказался и "Рюйтер". Дрейфуя на якорях, он был отброшен к устью Анджоля, и волны бушующего моря превратили его в щепки; ни одного человека из команды спасти не удалось.
Это несчастье глубоко поразило Эусеба: он стал мрачнее и тревожнее прежнего и его яростное нетерпение покинуть Яву усилилось. С той поры он пристально следил за жизнью порта, осведомляясь о дне отплытия каждого из стоявших на рейде судов.
Как-то он узнал, что "Сиднус", новое судно водоизмещением в восемьсот тонн, прочно построенное и превосходно оснащенное для перехода, собирается со дня на день отплыть в Голландию. Эусеб отправился к консигнатору, чтобы сговориться с ним, но тот предложил ему прежде всего посетить судно и самому убедиться, что он найдет там все обещанные преимущества, Эусеб согласился с ним; похвалы оказались не преувеличенными, он нанял две каюты и маленький салон на корме, казавшиеся устроенными нарочно для Эстер и него самого. Он возвращался очень довольный своей прогулкой и собирался уже спуститься в лодку, которая привезла его на борт, когда — в ту самую минуту, как он ставил ногу на первую перекладину трапа правого борта — ему померещился маленький дымок, тонкий, как стержень пера, примерно на уровне главного бимса выбивавшийся из-под палубы.
Он указал на него консигнатору. Шедший за ними капитан услышал замечание, бросился на нос и приказал поднять крышку большого люка; но, прежде чем матросы успели дотронуться до нее, оттуда вырвался язык пламени и окружавший его густой черный дым в одно мгновение окутал фок-мачту.
Это был пожар на борту.
Эусеб поспешно покинул судно, но, вместо того чтобы вернуться на Вельтевреде, остался стоять на краю мола, на том самом месте, где с ним простился малайский капитан. Безотчетно он уверял себя, что несчастье, случившееся на "Сиднусе", как и то, что обрушилось на "Рюйтер", было вызвано не случайной причиной, но тяготевшим, над ним роком.
Он хотел увидеть, уничтожит ли огонь этот корабль, так же как море поглотило тот.
"Сиднус" был всего в двух кабельтовых от мола, и Эусеб не пропустил ни одной подробности душераздирающей и вместе с тем величественной драмы пожара на море.
Суровый и спокойный, стоя на корме с рупором в руках, капитан отдавал приказы; матросы и пришедшая к ним на помощь команда военного корабля (его стоянка оказалась поблизости) всеми доступными человеку средствами сражались против грозной стихии; но, несмотря на их мужество, хладнокровие и расторопность, несмотря на царивший во время спасательных работ порядок, стихия одерживала верх над всеми усилиями людей.
Казалось, что невидимая рука разносит огонь, неведомое, но мощное и яростное дыхание оживляет его всякий раз, как команде почти удается с ним справиться; казалось, что несчастное судно обречено роком на гибель.
Матросы завалили крышку люка мокрыми тюками, наглухо закрыли порты, задраили иллюминаторы, надеясь, что из-за недостатка воздуха огонь под палубой погаснет. Экипаж сразу пустил в ход помпы на носу и в трюме корабля и даже насос, предназначенный подавать воду для стирки. Но фок-мачта, подточенная огнем у основания, рухнула, задавив двух человек; ее падение открыло доступ воздуху и выход огню, тотчас же охватившему реи и такелаж.
Капитан и его команда на этой горящей палубе каждую минуту могли провалиться в огненную пучину, ревевшую у них под ногами, но сдаваться не желали: они решили защищать корабль до тех пор, пока от него останется хоть одна щепка.
Они собирались прорубить отверстие в дне "Сиднуса", наполнить судно водой и потопить его, если понадобится; но, пока капитан отдавал необходимые распоряжения, огонь распространился по мачтам, и, треща, запылали привязанные к реям паруса; капитану пришлось уступить настояниям, более того — приказу консигнатора и покинуть судно.
Удивительно, но Эусебу, который молча, неподвижно, словно окаменев, стоял на молу, чудилось, что он играет какую-то роль в этой ужасной сцене. Он следил за ней в мучительной тоске: преследуя его, рок преследовал и злополучное судно. Разве не ему предназначался удар судьбы, обрушившийся на невинных жертв чудовищного бедствия, которое происходило у него на глазах?
Он видел гибель "Рюйтера", однако не мог поверить, что и "Сиднус" обречен.
Но когда "Сиднус", представ перед ним в виде огромного костра посреди океана, окрасив пурпуром и золотом синие водны, бьющиеся о его обугленные борта, превратился затем в обломки и со стоном ушел на дно; когда от прекрасного! корабля осталось лишь несколько легких облачков дыма, гонимых ветром, и хлопья пены на поверхности водоворота, образовавшегося над затонувшим судном, Эусеб глубоко вздохнул и отер пот, заливший ему лоб.
Вдруг он, задрожав, обернулся. Ему послышался пронзительный смех доктора Базилиуса. Он в страхе оглянулся кругом.
Но на молу были только честные негоцианты, с такими же, как у него самого, растерянными лицами взиравшие в оцепенении на катастрофу.
Ни одно из этих лиц не походило на то, которое принял Базилиус в своем последнем воплощении.
Но отсутствие демона ничего не доказывало. Для Эусеба было очевидным, что его борьба с дьяволом-малайцем началась: он чувствовал на своей голове тяжесть гигантской руки и вернулся домой более подавленным и удрученным, чем был когда-либо в своей жалкой хижине в китайском квартале или в новом дворце на Вельтевреде.
Эусеб был так напуган, что скрыл от Эстер случившееся, так же как утаил от нее появление трех трупов в доме доктора на Гронингенской дороге, как утаил встречу с малайцем, уверявшим, что он и есть Базилиус.
Но на этот раз, в противоположность другим происшествиям, ужас, вызванный пожаром на "Сиднусе", произвел на его дух благотворное воздействие, оказался целительным: Эусеб краснел за свою слабость и трусость. Необходимо было проверить, не оказался ли он игрушкой собственного воображения, — в таком случае будущее развеет его заблуждения.
Он принял вызов.
Молодой и отважный, Эусеб был наделен волей и упорством; мы видели, как он любой ценой пытался спасти жену — и спас ее; он решил не уступать привидениям, если имеет дело с привидениями, и демонам, если против него демоны; наконец, если зло идет от его воображения — он будет бороться со своим воображением; не желая больше подвергать посторонних и невинных людей опасности сделаться жертвами преследовавшего его рока, Эусеб купил у одного торговца небольшое судно, окрестив его именем "Надежда"; на нем вполне можно было плыть вместе с Эстер до Бомбея, где доктор Базилиус, как думал Эусеб, не сможет до него добраться.
Из Бомбея они вернутся в Голландию.
Эусеб оснастил и вооружил небольшое судно, никому, даже Эстер, об этом не сказав; набрал команду, на силу и храбрость которой можно было рассчитывать, и нанял опытного капитана.
Каждое утро он спускался в Батавию, чтобы управлять работами на борту, и каждое утро, спускаясь по склону, перед тем как прийти в Кампонг, оглядывал море и мачты судов на рейде. Он ожидал, что буря разобьет его корабль, что пожар поглотит его, однако с радостью и удовлетворением неизменно находил его грациозно покачивающимся на швартовых с сохнущими на ветру парусами и развевающимся на мачте флагом.
Однажды он вернулся на Вельтевреде совершенно счастливый и объявил Эстер одновременно о причине и результатах своих ежедневных прогулок, предложив готовиться на следующий день отплыть с вечерним отливом.
Молодая женщина изумилась:
— Что ты говоришь! Ведь до завтрашнего дня ты не успеешь повидаться с метром Маесом.
— А зачем мне видеться с метром Маесом?
— Да для того, чтобы уладить наши дела.
Эусеб покачал головой.
— Подумай, ведь мы оставляем здесь имущества на миллион флоринов! — настаивала Эстер.
— Что мне в том!
— Друг мой, мы приняли это наследство.
— Нет, — решительно возразил Эусеб. — Нет, эти деньги принесут нам несчастье, я не хочу их!
— И все же, милый Эусеб, эти деньги достались нам от моего дяди и имеют вполне честное происхождение.
— А я тебе говорю, что я их не желаю! — повторил Эусеб с новым для Эстер нетерпеливым жестом. — Если ты хочешь сохранить это богатство, которое в самом деле, как ты говоришь, досталось от твоего дяди, оставайся здесь! Мое сердце будет истекать кровью, но я уеду и докажу тебе свою любовь тем, что откажусь от этих денег. Решай, предпочтешь ли ты их мне.
— О Эусеб! Как ты можешь говорить так!
— Я говорю как христианин.
— Я не из-за себя самой жалею об этих деньгах.
— Так из-за кого же?
— Эусеб, — произнесла молодая женщина, краснея и опуская глаза, — если у нас когда-нибудь будут дети…
— Дети! — Эусеб задрожал.
— Разве это невозможно? — спросила Эстер.
— Ну что ж, если у нас будут дети, они поступят как мы, они станут работать! — сказал Эусеб.
— О, прости меня, мой друг, прости, — со вздохом ответила его жена, — но я узнала нищету, я видела, как ты боролся с нуждой, стараясь спасти меня от страшной болезни, и во мне сохранился с тех пор глубокий ужас.
Эусеб стал задумчив, но не сдался.
— По крайней мере, — продолжала Эстер, надеясь, что совещание с метром Маесом сделает ее мужа менее непримиримым к этому богатству, отвращение к которому Эусеба было ей непонятно, — если ты не хочешь этих денег, давай отдадим их бедным, и, если мы проживем скудную жизнь, пусть хоть доброе дело поможет нам заслужить место одесную Господа.
— Нет, — в последний раз произнес ван ден Беек, — что пришло от сатаны, пусть вернется к сатане.
Эстер вздохнула и молча стала собираться.
На следующий день, в час отлива, карета доставила их на мол, где уже ждал ялик "Надежды".
Минуты казались Эусебу веками, между портом и судном на рейде словно лежал весь мир, и он боялся никогда не достичь корабля.
Но вот ялик и корабль встали борт о борт.
Эусеб легко прыгнул из ялика на трап, прикрепленный к корпусу "Надежды", уверенный в том, что с минуты на минуту узнает о каком-то происшествии, которое сделает отплытие невозможным. Стоя на трапе, он протянул руку Эстер.
Но стоило молодой женщине поставить ногу на первую ступеньку, как она побледнела, запрокинула голову, вздохнула и лишилась чувств.
Эта слабость была такой внезапной, что Эусеб едва успел подхватить жену, не то бедняжка упала бы в море.
Сбежались матросы с судна и вместе с теми, что приплыли на ялике, помогли Эусебу перенести Эстер в салон на корме; тем временем от борта отошла по направлению к другому судну шлюпка, которая должна была привезти врача.
Прибыв на "Надежду", врач пощупал пульс Эстер, начинавшей приходить в себя, ободряюще улыбнулся окружающим и, как только молодая женщина открыла глаза, попросил разрешения тихонько переговорить с больной.
Эусеб отступил на несколько шагов, не сводя глаз с жены.
Видя ее бледной, безмолвной, безжизненной, он вспомнил ту ночь, когда счел ее умершей.
Но от слов доктора Эстер слегка покраснела.
— Сударь, — спросил врач, — вы рассчитываете совершить долгий переход?
— Я рассчитываю идти отсюда в Бомбей, сударь, — ответил Эусеб, — а из Бомбея — в Европу.
Врач покачал головой:
— Подобное путешествие невозможно, сударь.
— Невозможно! — воскликнул Эусеб. — Но почему?
— Потому что, как я предполагаю, вы дорожите жизнью этой дамы.
— О, более, чем своей собственной!
— Так вот, подобное путешествие подвергает ее опасности.
— Но почему?
— Через несколько месяцев вы станете отцом.
Эусеб выслушал эту весть, которая в другое время переполнила бы его радостью, почти с криком боли.
Десятью минутами позже лодка оставила г-на и г-жу ван ден Беек на молу, на том же месте, откуда взяла их; коснувшись земли, Эусеб вскричал:
— О да, это был он — демон! Что ж, будем бороться, раз нам предстоит борьба.
X ЯСНОВИДЯЩИЙ
Эусеб ван ден Беек вернулся в свой дом печальным, но смирившимся.
Он понял, что прикован к Яве более могущественной волей, чем его собственная; скажем точнее — сверхъестественной властью.
Усилия, которые он предпримет, стараясь вырваться из-под этой власти, окажутся бесплодными — он заранее это чувствовал.
Но понемногу уверенность к нему вернулась.
Он сказал себе, что в конце концов исход завязавшейся между ним и доктором Базилиусом борьбы зависит лишь от его собственной твердости и постоянства, что только он сам может управлять движениями своего сердца, слишком полного любовью к жене, чтобы зловещие предсказания доктора могли осуществиться; он решил больше доверять своим чувствам, своей любви и, крайне удивив Эстер, вечером того самого дня, в который испытал третье по счету разочарование, казался более оживленным, чем когда-либо в течение многих месяцев.
Видя, что он решил остаться на Яве по меньшей мере до тех пор, пока она не оправится после родов, Эстер хотела, следуя советам метра Маеса, довести до конца так удачно начатое лечение Эусеба и стала говорить с ним о том, каких забот требует сохранение их богатства, и о том, что ему необходимо найти себе занятие, способное отвлечь его от мрачных мыслей (несмотря на все его старания скрыть их от жены, она видела тучи, набегавшие на лоб мужа).
Очень удивив этим Эстер, Эусеб без протестов выслушал те самые слова, что накануне вызвали его досаду и гнев.
Дело в том, что после возвращения Эусеба с "Надежды" у него появились новые мысли.
Глубокое и властное чувство отцовства полностью овладело им и совершенно изменило его взгляд на мир.
Этот человек ради себя был готов легко и охотно расстаться с роскошью, окружившей его благодаря миллионам дяди Базилиуса, покинуть все это и вернуться к серому и безвестному существованию мелкого служащего, но мгновенно ощутил невозможность подобного самопожертвования, поняв, что не одному ему придется переносить его последствия: он увлечет за собой тех, для кого ему уже заранее казалось недостаточно всех земных радостей, богатства и великолепия, направит удар на будущее существа, трепещущего в чреве его обожаемой Эстер, существа, уже любимого им той же беспредельной любовью, какую испытывал он к его матери.
Он долго беседовал с женой и в результате нашел способ примирить требования, возникшие вместе с любовью к ожидаемому ребенку, и долг, к которому призывала его совесть.
Он будет считать наследство доктора Базилиуса отданным ему на хранение и когда-нибудь либо раздаст деньги бедным, либо вернет самому доктору, если правда то, что он, Эусеб не стал жертвой галлюцинации и Базилиус действительно остался в живых. Но он оставил за собой право приобрести собственное состояние с помощью чужого богатства, временно оказавшегося в его руках.
Приняв решение, каким бы оно ни было, Эусеб не допускал больше никаких уверток; на следующий же день после того, как намерения его определились, он отправился в свое поместье в округе Бейтензорг, осведомился о способах возделывания кофейной плантации, покрывавшей большую часть его владений, и об улучшениях, какие можно было там произвести; еще два дня спустя он снял контору и склад в нижнем городе, нанял шесть приказчиков, и через месяц торговый дом Эусеба ван ден Беека сделался одним из самых крупных не только в Батавии, но и во всей колонии.
Но, в то время как люди завидовали его, как им казалось, счастью, Эусеб ван ден Беек не чувствовал себя счастливым. Рабски прикованный к своей работе, поглощенный навязчивой идеей создать собственное прочное состояние как можно скорее, он, сам того не замечая, лишил Эстер своих забот о ней, к которым она привыкла.
Возможно, в глубине души он любил ее больше прежнего, но, чтобы понять это, надо было уметь разом читать в сердце и в мыслях Эусеба.
Он буквально осуществил то, что в устах нотариуса казалось Эстер утопией, и посвятил делам не только свои дни, но и ночи. С рассветом он покидал Батавию и отправлялся надзирать за работой своих негров в Бейтензорге; вечером он возвращался так стремительно, как только могла мчать его коляску запряженная в нее шестерка лошадей; против обычая яванских негоциантов, рискуя подхватить лихорадку, он еще долго оставался в нижнем городе после захода солнца, пока не заканчивал все торговые дела.
Но, как ни старался он, как ни напрягал силы своего ума, Небо не благословило его труды, и уже в седьмой раз, подводя в конце месяца приблизительный итог, Эусеб убеждался, что состояние, доставшееся ему от доктора Базилиуса, не увеличилось.
Все было странно в жизни молодого голландца: он мог сколько угодно продавать, покупать, перепродавать, рисковать, быть осторожным или полагаться на волю случая, даже отдавать товар за бесценок, и все же разница прихода и расхода в конце каждого месяца оказывалась одной и той же и всегда равной сумме начального капитала.
По мере того как успех все больше обманывал надежды Эусеба, жажда наживы, охватившая его, росла вследствие легко объяснимого упрямства. Он хотел подчинить себе удачу и сражался с ней врукопашную. Его деятельность обратилась в своего рода ярость, рвение — в ожесточение. Он отнимал время у сна, стараясь изобрести новые комбинации, способные дать ему вожделенное богатство и помочь избавиться от тех денег, что таким тяжким грузом легли на его совесть.
Под влиянием этой сжигавшей его лихорадки здоровье Эусеба вновь ухудшилось, и Эстер во второй раз пришлось испытать сильную и глубокую тревогу.
Однажды, умоляя мужа отдохнуть, она позволила себе высказать несколько замечаний. Но тот, всегда такой добрый к ней, тоном, не допускавшим возражений, ответил: "Так надо!" — и несчастная женщина, более всего озабоченная тем, чтобы нравиться любимому, на мгновение испугалась его недовольства ею и поклялась в будущем молчать и смириться.
Тем временем беременность Эстер подходила к концу, близился день, когда она должна была стать матерью. Эусеб, поглощенный делами, не мог так часто, как того требовало состояние жены, вывозить ее на прогулки, и, к большому своему огорчению, Эстер вынуждена была выезжать одна.
Как-то в конце месяца Эусеб, более обычного сосредоточенный и обеспокоенный, уехал в нижний город; госпожу ван ден Беек, откликавшуюся на все чувства мужа, охватили печальные мысли, и она приказала подать коляску, чтобы развеяться и подышать прохладным вечерним воздухом в тени прекрасных деревьев на Королевской площади.
Сначала ее экипаж двигался в веренице других карет, столь многочисленных в этом городе, где они представляют собой предмет первой необходимости. Но удивительная красота Эстер привлекла внимание; смущенная вниманием, произведенным ею на молодых людей яванской колонии, Эстер попросила форейтора свернуть на улицу Парапаттан и, оказавшись на берегах Чиливунга, велела ехать вдоль реки.
Был час, в который молодые яванки предаются целительному отдыху купания и приходят скорее окунуться, чем помыться в желтоватой воде.
В каждой мангровой рощице скрывалась группа туземных женщин, чьи песни и смех оживляли довольно скучные берега батавийской реки.
Экипаж проехал около четверти льё, когда внимание Эстер привлекли громкие крики, раздававшиеся неподалеку от того места, где она находилась.
Приблизившись, она увидела человека в лохмотьях, которого преследовала и осыпала градом камней толпа детей.
Ему могло быть лет пятьдесят; саронг на нем был разорван; он шел с трудом, опираясь на палку; и все же, несмотря на жалкое состояние его платья, лицо старика, обрамленное седеющей бородой, не лишено было своеобразного благородства; он казался равнодушным к крикам, которыми жестокие дети — дети во всем мире жестоки! — оскорбляли его старость и нищету, и довольствовался тем, что уклонялся от настигавших его камней.
Несмотря на то что старику удавалось уворачиваться от ударов, камень, пущенный одним из самых крепких маленьких негодяев, попал ему в лицо. Он глухо застонал и, не сказав ни слова упрека тем, кто так жестоко обошелся с ним, направился к реке и стал смывать льющуюся из раны кровь.
Увидев это, Эстер выскочила из коляски и поспешила к раненому.
Появление белой госпожи заставило детей броситься врассыпную; они разбегались во всех направлениях, продолжая выкрикивать по адресу несчастного оскорбления, раз нельзя было дольше забрасывать его камнями.
Эстер приблизилась к нищему и спросила:
— Бедняга, эти злые дети вас ранили; не могу ли я чем-нибудь вам помочь?
Старик взглянул на нее.
— Белая женщина, — отвечал он, — твоя жалость уже залечила самую жестокую из моих ран; я живу вдали от людей и более всего страдаю от того, что нахожу их такими дурными уже в самом нежном возрасте; твоя рука, протянувшись ко мне, принесла мне утешение. Пусть Батара-Армара, бог любви, вознаградит тебя, и пусть Будда благословит не только тебя, но и дитя, которое ты носишь под сердцем.
— Мне кажется, вы устали, добрый человек? — спросила Эстер.
— Я шел с начала луны.
Этот ответ ничего не говорил Эстер, привыкшей к другому исчислению времени.
Нищий увидел, что она его не понимает, и пояснил:
— Солнце поднималось и садилось семь раз с тех, как я пустился в путь.
— Значит, вы идете издалека?
— Из глубины провинции Батавия.
— Но какая же причина могла заставить вас, в вашем возрасте, решиться на такое долгое путешествие?
— Будда благословил поле, доставшееся мне от отца, и я жил счастливо; но пришли злые люди и прогнали меня с земли, политой потом пяти поколений моих предков. Пусть Будда сохранит плодородие поля и свежесть окружающих его деревьев, но Аргаленка не будет есть их плодов, Аргаленка не уснет больше в их тени.
Старик вздохнул.
— А почему у вас отняли поле? — спросила Эстер.
— Потому что я сохранил веру отцов, потому что сказал: "Исламский пророк, тот, кто велит ударить и убить, — злой дух".
— И вы ищете справедливости?
На этот раз нищий с горечью улыбнулся.
— Справедливость там, наверху, — он показал пальцем на небо. — Чтобы отправиться ее искать, нужны крылья; подобно гусенице, живущей на сладком тростнике, я буду ждать, пока воскрешение даст мне крылья, и я смогу туда подняться.
— Но тогда, — с возрастающим интересом продолжала настаивать Эстер, — зачем покидать ваши леса, ваши поля, где Господь не жалеет ни солнца, ни щедрых даров своих для живущих там? Здесь вас будут преследовать, бесчестить, избивать, как случилось только что, — полиция Батавии не терпит нищих.
— Я пришел, склонившись под рукой Будды, послушный его воле, и буду идти до тех пор, пока он не прикажет мне: "Остановись".
— А как может Будда сообщать вам свою волю? — с недоверием, которого она на сумела скрыть, спросила Эстер.
— Ночью тело спит, — отвечал старик с восторженностью, придавшей еще большее благородство чертам его лица. — Материя впадает в оцепенение, а свободный дух воспаряет к небесам, где его родина; он поднимается и летит, и если не видит Будду таким, как узрит его позже, когда окончательно избавится от своей оболочки, то есть лицом к лицу, то, по крайней мере, чувствует блаженное тепло взгляда божества, и его сердце раскрывается, согревается и трепещет от этого соприкосновения; пока лишь невнятный шепот, но он слышит голос Будды и сохранит в памяти его отзвуки.
— Я понимаю, вы говорите о снах, — Эстер тоже улыбнулась.
— Да, — произнес старик, устремив в небо озаренный взгляд.
— Ну, и что же сказали вам ваши сны?
— Я видел европейский город, и в этом городе золото сыпалось к моим ногам, и с помощью этого золота я мог выкупить родное дитя, которое продали.
— И это все, что сказали вам сны?
— Нет, я видел ту, в которой моя кровь, хоть Бог и отступился от нее и она проклята! Она топтала ногами, душила в руках, раздирала ногтями другую женщину, столь же прекрасную, как она сама, но белую, подобно тебе, и голос свыше воззвал ко мне: "Это несправедливо, встань и иди: ты — отец, ты — судья".
Эстер спрашивала себя, должна ли она смотреть на этого человека как на безумца или как на ясновидящего. Дрожащий голос несчастного, блеск его глаз, когда он произносил загадочные слова, произвели на молодую женщину сильное впечатление.
Она достала свой кошелек и вложил его в руку нищего.
— Возьмите, бедняга, — сказала она ему. — Думаю, я не имею отношения к последним двум вашим снам, но хотя бы в первом сыграю свою роль: вот основа богатства, обещанного вам Буддой.
Нищий не решался принять кошелек из рук Эстер.
— В моем сне рука, давшая мне посланное Буддой золото, была белой, как твоя, женщина, но это была рука мужчины.
— Что ж, так примите это золото от моего мужа, он белый человек, как тот, кого вы видели во сне.
Старик наклонил голову в знак благодарности.
— И потом, вы устали, друг мой, продолжала Эстер. — Моя коляска довезет вас до первых домов предместья, где вы сможете найти приют.
— Спасибо; какими бы слабыми ни казались тебе мои ноги, они отлично донесут меня туда. Я буду не на месте в твоем паланкине, как пальмовая гусеница на плоде гарцинии. Ты спасла меня от рук жестоких детей, ты дала мне золота — все это получил Будда, потому что Будда скрывается под лохмотьями любого бедняка; Будда вознаградит тебя.
Произнеся эти слова, старик знаком простился с Эстер и быстро удалился.
XI ИСКУШЕНИЕ
В течение нескольких минут г-жа ван ден Беек была всецело поглощена мыслями об этом человеке; чтобы ей удобнее было размышлять о странном старике, она пошла дальше пешком, приказав слугам ждать ее, только прогулку свою продолжила под вуалью.
Эстер успела отойти от своих слуг на несколько сот шагов, когда какой-то человек, следовавший за ней, нагнал ее и бросил на нее полный страсти взгляд.
Это было так неожиданно, что Эстер вскрикнула и повернула назад, туда, где оставила слуг, не тратя времени на то, чтобы разглядеть дерзкого или назойливого человека, позволившего себе так на нее смотреть. Но он повторил ее движение и, прежде чем молодая женщина успела добраться до своей коляски, обратился к ней с довольно пошлыми любезностями.
Однако едва г-жа ван ден Беек услышала его голос, едва она взглянула на собеседника, как только что владевший ею страх сменился приступом безумного смеха.
Она узнала нотариуса Маеса.
А он, хотя на ней была вуаль, узнал в одинокой гуляющей даме свою хорошенькую клиентку и, ужасно смутившись, замер на месте.
— Как, это вы, милый господин Маес! — воскликнула Эстер.
— Сударыня, сударыня, — бормотал нотариус, все более теряясь. — Прошу вас простить меня, но я думал, будто узнал походку госпожи Маес.
Эстер улыбнулась под вуалью.
— Не будет ли нескромностью спросить, какие важные дела заставляют вас в такой час искать госпожу Маес на берегу Чиливунга?
— Дела в такой час! — повторил метр Маес. — Но, красавица моя, что вы такое говорите: уже половина седьмого вечера, к черту дела и да здравствует веселье! Я собирался совершить прогулку с госпожой Маес и назначил ей встречу в этом уединенном месте — вот что виной моей ошибке, которой я, впрочем очень рад, сударыня, поскольку она позволяет мне предложить вам руку и проводить вас к вашей коляске. Вы позволите?
И нотариус галантно склонился перед ней.
— Без всякого сомнения, господин Маес, — ответила Эстер. — Более того, если это может доставить вам удовольствие, я предложу вам воспользоваться моим экипажем, чтобы вернуться домой.
Нотариус колебался, то и дело оборачивался в сторону реки, где в быстро наступавших сумерках еще видны были смуглые тела прекрасных яванок, одетых в саронги; с другой стороны, его сильно искушало желание показаться на публике с одной из самых очаровательных европейских женщин в городе; перед этим соблазном он не устоял, и, как только негр опустил подножку и г-жа ван ден Беек уселась в свою коляску, толстый нотариус взобрался следом за ней, накренив экипаж своим чудовищным весом.
— Простите, сударыня, — заговорил метр Маес, прочно усевшись рядом с Эстер, — но я был так изумлен, что совершенно позабыл спросить о господине ван ден Бееке?
— Увы! — отвечала Эстер, которую нотариус заставил вспомнить обо всех ее печалях.
— Да, да, я понимаю вас, — сказал он. — Среди вашего процветания вас гложет червь беспокойства: здоровье вашего мужа оставляет желать лучшего. О, я заметил, — прибавил метр Маес, — что бедный молодой человек убивает себя работой, и совершенно не могу понять, зачем такому богатому человеку жертвовать из-за нескольких несчастных тысяч флоринов такой прекрасной, а главное — счастливой жизнью, какую он мог провести у ваших ног.
— Как, сударь, — Эстер все более удивлялась, открывая в нотариусе прежде незнакомые ей стороны характера, — вы ли, в самом деле, говорите мне это?
— Несомненно, — с самым естественным видом ответил метр Маес, — а что удивительного? Я нотариус, но ведь, в конце концов, и человек, поэтому заявляю вам, что осуждаю самым решительным образом эту жажду наживы, заставляющую забыть о всем том прекрасном и приятном, что Господь поместил для человека на земле под именем удовольствий.
— Но мне казалось, сударь, — и я даже ставила вас в пример, — что дела вашей конторы поглощают все ваше время?
— О, не говорите о моей конторе, сударыня, — с крайне меланхолическим видом произнес метр Маес. — Мне кажется, будто я чувствую тошнотворный запах пересохших пергаментов, исходящий от старых папок, набитых червями и тяжбами. Нет, право же, нет; напротив, дайте мне полностью отдаться счастью кататься среди благоухающих садов рядом с одной из самых прелестных женщин в колонии.
— Право же, господин Маес! — Эстер улыбнулась, наполовину любезности нотариуса, наполовину изменениям, происшедшим в его нравственном облике. — Во время последнего визита, которой я имела честь нанести вам, я не могла оценить вашу беспредельную учтивость.
— Ах, сударыня! — метр Маес еще больше расчувствовался. — Неужели вы могли не заметить моего восхищения прекраснейшей половиной рода человеческого? Женщины, сударыня, женщины! Вот единственная услада, единственное утешение в нашей жизни!
— Ах, как бы это понравилось госпоже Маес, если бы она могла нас услышать! — насмешливо заметила Эстер.
— Бога ради, сударыня! — придав своему лицу самое жалобное выражение, взмолился нотариус. — Заклинаю вас, оставьте госпожу Маес вместе с конторой. Не кажется ли вам, что в такой опьяняющий вечер хорошо быть свободным, избавившись от всех забот и тревог?
— Но вы говорили, что интересы ваших клиентов полностью поглощают вас и днем и ночью?
— К черту клиентов с наступлением ночи! О Боже, почему эти прекрасные тропические ночи не длятся двадцать четыре часа?
— Правду сказать, метр Маес, вы все больше удивляете меня, и я не знаю, как примирить ваш тон и ваши слова с серьезностью вашей профессии.
— Моя профессия, сударыня, моя профессия! — с выражение глубочайшей тоски вскричал метр Маес. — Неужели вы думаете, что мне хочется сделаться тощим, бледным и желтым, как господин ван ден Беек, не давая себе отдохнуть от ее тягот? Моя профессия! Но даже у носильщика в порту есть часы отдыха, когда он, растянувшись на песке, слушает шум волн, ласкающих берег, смотрит, как солнце опускается в лазурные волны и окрашивает их пурпуром; он предается высшему счастью — ничего не делать! А я, метр Маес, королевский нотариус, обладатель нескольких сотен тысяч флоринов, не должен иметь ни часа, ни минуты, чтобы вздохнуть свободно, насладиться тем прекрасным и полезным, что Господь расставил на моем пути: сладостным пением, опьяняющим вином и обществом красивых женщин? В этом нет ничего дурного, сударыня!.. Право же, — продолжал нотариус после этого небольшого отступления, — чаша может переполниться, что будет очень жалко, особенно если через край перельется шампанское. Еще раз повторяю, сударыня, да здравствует веселье! И если хотите, чтобы ваш муж был здоров, посоветуйте ему поступать как я!
Какими бы пошлыми ни были слова нотариуса, они поразили молодую женщину; она готова была пожелать мужу такой же грубой и цветущей физиономии, как у метра Маеса, ибо она чувствовала, что это — расцвет жизни, тогда как печаль и уныние, овладевшие ее мужем, означали смерть, н ей было страшно.
— Да, возможно, вы правы, господин Маес, — произнесла она. — И я должна была бы рассердиться на вас за то, что вы заставили меня толкнуть моего мужа к занятиям торговлей, которые убьют его.
— Я говорил это? Я советовал это? — с превосходно разыгранным изумлением вскричал метр Маес, широко распахнув круглые глаза.
— Разумеется, сударь, разве вы не помните?
— Но в какой час вы приходили ко мне за советом?
— Днем; я думаю, в три или четыре часа пополудни.
— Какого черта! Вот все и разъяснилось, дорогая сударыня; вы видели нотариуса, а о таких вещах надо говорить с господином Маесом; вы должны были прийти к нему, когда он стряхнет с себя пыль этой гадкой конторы, когда из гусеницы он превратится в бабочку, и тогда он сказал бы вам, как говорит сегодня вечером: будем важными и серьезными лишь в часы работы, иначе скука иссушит нас. Но не беспокойтесь — я исправлю то зло, которое причинил ему.
— Каким образом?
— Да, я отправлюсь к нему, к этому милому господину ван ден Бееку! И пусть меня приговорят к двум дополнительным часам в конторе, если я не научу его развлекаться так же, как я!
— Как вы! — воскликнула Эстер, которую начала настораживать легкомысленность метра Маеса.
— Да, как я; но не волнуйтесь, прекрасная дама, и пусть фейерверк моего веселья не пугает вас. Когда я покидаю контору, я уподобляюсь голодному, приглашенному на брачный пир; но позор тому, кто дурно об этом подумает, сударыня! Самые драгоценные для меня развлечения заключаются в беседе, во встречах с несколькими близкими друзьями, такими же веселыми, как я, которым я завтра же собираюсь представить господина ван ден Беека.
— Сударь, — ответила молодая женщина, пряча свою тревогу за улыбкой. — Я привыкла верить любви Эусеба и не стану ревниво относиться к развлечениям, в которых не смогу принять участия.
Коляска остановилась перед особняком, и нотариус, умолкнув, подал руку Эстер; узнав, что Эусеб дома, он последовал за ней в приемную.
Взрывы веселья г-на Маеса поначалу отпугнули мрачно настроенного молодого человека; нотариус тотчас понял, что ему нелегко будет победить отвращение, с каким г-н ван ден Беек относился ко всему, что вынуждало его удалиться из дома или отвлекало от его торговли. Тогда достойный представитель своего сословия, прибегнув к хитрости, воспользовался минутой, пока Эстер вышла, чтобы самой приготовить чай, и поинтересовался:
— Ну, довольны ли вы своими делами, господин ван ден Беек? Цены на кофе падают, это не могло не коснуться вас.
— Да нет, я распродал свой урожай, и мне это безразлично, — ответил Эусеб тоном, опровергавшим эти слова, какие бы усилия ни прилагал он, чтобы привести тон в соответствие со словами.
— Жаль, — сказал нотариус. — Это в самом деле жаль, потому что я помог бы вам выгодно распродать часть вашего товара.
— Я думаю, у меня на складе остается еще несколько сот килограммов, — живо откликнулся Эусеб. — Пришлите ко мне вашего покупателя, и, если дело сладится, вы получите комиссионные.
— Ба! Дорогой господин ван ден Беек, нужны мне ваши комиссионные, как павлину воронье перо. В этот час я оказываю услуги, но не торгую ими; только я не могу сделать того, о чем вы просите.
— Почему же?
— Потому что мой покупатель — чудак, не совершающий сделок ни на бирже, ни в конторе, ни на набережной, но лишь со стаканом и трубкой в руках.
— В таком случае, — возразил Эусеб, — мы с ним не подходим друг другу; не будем больше говорить об этом.
— Ба-ба-ба! — произнес метр Маес. — Пятьдесят тысяч флоринов стоят того, чтобы спуститься за ними на дно бутылки, и я не советую вам, дорогой господин ван ден Беек, дать выпить это вино кому-то другому.
— Пятьдесят тысяч флоринов! — повторил Эусеб, размечтавшись о кругленькой сумме. — Вы думаете, что он может купить достаточно большое количество кофе, чтобы я так много за него выручил?
— Он возьмет все, что вы сможете ему поставить.
— Осторожнее! Мне кажется, вы далеко зашли.
— Я за него ручаюсь.
Эусеб наполовину сдался.
Вопреки тому, что думал об этом метр Маес, Эусебом двигала не скупость; утром того же дня, подводя итог, он был поражен странным результатом, в седьмой раз получаемым в конце месяца: несмотря на все его усилия и на все встретившиеся ему помехи, ему не удалось ни увеличить, ни уменьшить сумму вложенного в дела капитала, он оставался все тем же с точностью до сантима.
Эусеб видел здесь новое проявление того тайного вмешательства, которое помешало ему отплыть в Европу; он хотел снова попытаться бороться против него и уничтожить его действие.
— Хорошо, я согласен, — сказал он. — Где мы можем встретиться с вашим человеком?
Господин Маес понизил голос, как будто боялся быть услышанным.
— Знаете ли вы Меестер Корнелис? — слегка улыбнувшись, спросил он.
— Право же, нет, и признаюсь вам, что я в первый раз слышу это название.
— Что ж, завтра я покажу вам, что за ним скрывается. И вы будете благодарны мне, — продолжал нотариус, — поскольку, клянусь Богом, вы приятно проведете время.
— Но покупатель кофе! Помните, что меня интересует он, а не Меестер Корнелис.
— Покупатель кофе будет там.
— Помните, что я иду туда только ради него.
— Договорились: в половине восьмого я зайду за вами.
— Вечером?
— Да; он занимается делами лишь при свечах — это еще одно из его чудачеств.
Вернулась Эстер; они пили чай, говорили о незначительных вещах, затем Эусеб, провожая метра Маеса, пообещал ждать его на следующий день.
XII ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ
На следующий день, когда начинало темнеть, коляска метра Маеса остановилась у двери Эусеба ван ден Беека.
Никогда еще жизнерадостный нотариус не выказывал такой безумной веселости; глубокое довольство человека, отложившего подобно Горацию на завтра свои дела, расцвело на его длинном лице; он шумно вдыхал вечерний воздух и так же шумно выбрасывал его, как поступают с втянутой ими водой дельфины-великаны.
Эусеб уже сожалел о принятом им вчера обязательстве, но не мог устоять перед нотариусом, настойчиво требовавшим исполнить данное ему обещание. Он уселся рядом с метром Маесом в открытый экипаж, в котором тот приехал за ним.
Лошади пустились во всю прыть: в тех местах они не знают другого аллюра, кроме галопа.
Коляска катилась на запад около часа, затем остановилась перед темной массой — во мраке можно было лишь догадываться о том, что это скопление домов. Оттуда доносились резкие и дикие звуки яванской музыки, к ним примешивались глухие отголоски китайского гонга; все это сопровождалось странными криками, в которых не было, казалось, ничего человеческого.
Это был то рев радости, граничащий с безумием, то отчаянные жалобы и вздохи, напоминавшие предсмертные стоны; то вопли, какие могли бы вырываться из окон дома умалишенных или из тюремных отдушин.
Со своего места в коляске Эусеб ван ден Беек видел поверх низкой стены, вдоль которой они двигались, красноватый отблеск, вспыхивавший посреди огромной картины света и теней; в этом мерцании вырисовывались черные тени, проплывавшие торжественно и безмолвно; другие призраки в сверкавших металлом и алмазами одеяниях, рассыпавших в неверном свете огненные блестки, извивались в судорогах не хуже наших средневековых одержимых диакона Париса.
Эусеб, чье нервное возбуждение, как мы видели, далеко не улеглось, испугался.
Он судорожно схватил нотариуса за руку и спросил:
— Куда вы меня ведете?
— В ад, черт возьми! — ответил законник, и его лицо расцвело в припадке бурного хохота.
— Господин Маес, — произнес Эусеб, к которому под воздействием этих слов, этих фантастических видений, этих незнакомых, неслыханных, непонятных звуков вернулись все его страхи. — Господин Маес, прекратите эту дурную шутку, или — слово человека чести! — я схвачу вас за горло и задушу.
Эти слова Эусеб немедленно сопроводил пантомимой столь выразительной, что нотариусу стало страшно.
— Дьявольщина! — воскликнул метр Маес. — Он ведь сделает то, что говорит.
Затем он с силой, доказавшей Эусебу, что, если тот будет упорствовать в своем намерении задушить его, ему придется иметь дело с сильным противником, оттолкнул руки ван ден Беека и сказал:
— Ну, успокойтесь, приятель! Ад не всегда таков, каким его представляют; а этот, хоть и в другом роде, ничем не хуже и не лучше вашей биржи в Батавии.
— Господин Маес, — решительно продолжал Эусеб. —
Разве вы не говорили мне, что поведете меня встретиться с китайским торговцем, который купит у меня кофе?
— Совершенно верно.
— Ну, так где же ваш покупатель? Покажите его мне, познакомьте меня с ним, и прошу вас поторопиться.
— Ну хорошо, хорошо, — ответил метр Маес, выставив вперед руки, как человек, готовящийся защищаться. — Потрудитесь выйти из коляски и взглянуть на то, что я хотел показать вам, милый мой господин ван ден Беек. Кто знает? В этом чертовом Меестер Корнелисе столько всякого можно встретить, что, возможно, вам повезет и вы найдете то, что ищете.
— Меестер Корнелис, — стараясь понять, повторил Эусеб. — Что такое Меестер Корнелис?
— О, это славная шутка! — отозвался толстый нотариус, и все его тело заколыхалось в припадке смеха. — Скоро уже год, как вы живете в Батавии, и все еще не знаете, что такое Меестер Корнелис? Это незнание делает честь вашей нравственности, молодой человек. Ну, спускайтесь и знакомьтесь с неизвестным, потом вы скажете мне откровенно, что вы об этом думаете… Петерс, друг мой, откройте дверцу пошире, вы же видите — я не могу пройти!
В самом деле, хотя экипаж, как мы сказали, был открытым, проем дверцы был недостаточным для нижней части туловища метра Маеса.
Но Эусеб, напротив, остался на месте.
— Ну что же вы? — спросил нотариус, обернувшись, как только почувствовал, что обеими ногами твердо опирается на землю.
— Сударь, — ответил своему спутнику Эусеб. — Я начинаю понимать, что вам угодно насмехаться надо мной; позвольте мне откланяться.
— Мой юный друг, — произнес нотариус, к которому вернулась вся его величественность. — Взгляните на меня, прошу вас: разве похож я на шутника, разве выгляжу человеком, способным на розыгрыш дурного тона? Нет. Вместо того чтобы сердиться на меня, вы должны, напротив, поблагодарить меня: я просто хотел отвлечь вас от мрачных мыслей, предложить вам кое-какие развлечения, развеять вашу грусть, внушающую самые серьезные тревоги вашей юной жене, достойной госпоже ван ден Беек, и, прибавлю от себя, вполне обоснованные тревоги.
Эусеб понял, что нотариус говорил искренне.
— Благодарю вас за намерение, — сказал он. — Но хочу предупредить об одном.
— О чем же?
— Вы напрасно старались.
— Почему?
— Потому что я этим не воспользуюсь. Я приехал ради дела, но вы меня обманули. Следовательно, я, с вашего разрешения, вернусь на Вельтевреде.
— Какая склонность к коммерции! — с подлинным или наигранным восхищением вскричал нотариус. — Но как вы собираетесь возвращаться на Вельтевреде?
— Пешком, черт возьми!
— Пешком, вы?
— Разумеется, я.
— Что вы говорите! Пешком? Вы хотите опозориться в глазах всей колонии? Господин Эусеб ван ден Беек, набоб, наследник достойного и почтенного доктора Базилиуса, миллионера, передвигается пешком, словно жалкий ласкар или тагал-побирушка! Как бы вам этого ни хотелось, господин ван ден Беек, но я такого не потерплю.
— Тогда разрешите мне воспользоваться вашей коляской и прикажите вашему кучеру отвезти меня домой.
— Это было бы прекрасно, мой юный друг; но кучер должен отвезти домой меня самого; вы ведь не думаете, что я собирался только войти и выйти. Придется мне уехать вместе с вами, но, право же, вы не поступите со мной так жестоко, дорогой господин ван ден Беек, после такого тяжелого рабочего дня, какой был у меня.
Продолжая говорить, нотариус потянул Эусеба к себе, заставив его выйти из коляски, и, подталкивая вперед, вынудил сделать несколько шагов по узкому и темному переулку, ведущему ко входу в заведение.
Молодой человек еще пытался сопротивляться, но звон тамбурина, послышавшийся в десяти шагах от него, привлек его внимание; повернув голову, он заметил в углублении между двумя домами группу из трех индийцев, освещенную факелами.
Двое из них играли на музыкальных инструментах.
Один ударял в своеобразный тамбурин, другой играл на флейте.
Третий опустил руку в тростниковую корзинку конической формы.
Вокруг них уже собрались зрители, явно ожидавшие представления; непонятно, какое именно, но оно должно было вот-вот начаться.
— А, это Харруш, заклинатель змей! — воскликнул нотариус и с детским любопытством устремился в сторону этой группы, бросив спутника на произвол судьбы.
Эусеб именно потому, что его перестали понуждать к этому, без всяких уговоров последовал за нотариусом.
Его движение было совершенно машинальным и не имело ничего общего с проявлением свободной воли, полностью, казалось, утраченной в тот момент молодым человеком.
Два индийца, на которых возложено было музыкальное сопровождение зрелища, старались изо всех сил: один неистово бил в тамбурин, другой яростно дул в свою флейту.
Под звуки музыки тростниковая корзинка двигалась будто бы сама собой.
Харруш концом палочки приподнял крышку корзинки, и над краем показалась плоская треугольная голова очковой змеи.
При виде ее зрители закричали и инстинктивно отступили назад.
Змея обвела все вокруг взглядом маленьких зеленоватых глаз, сверкающих подобно изумрудам, издала свист, гармонирующий с дикой музыкой, которая управляла ее движениями, и, покачиваясь в такт, полностью выбралась из корзины.
Она была около трех с половиной футов длиной, с черной спинкой, прочерченной двумя желтыми линиями, и грязно-серым, усыпанным желтыми пятнами брюшком.
Едва выбравшись из корзины, она стала искать, куда ей броситься.
Но, пока она сворачивалась, чтобы найти точку опоры, Харруш тоже издал свист, приковавший все внимание рептилии.
Ее глаза сверкнули, потом начали переливаться радужными опаловыми оттенками; приподнявшись на хвосте, опираясь лишь на два последних позвонка, змея вытянулась на два фута в высоту.
Тогда свист Харруша превратился в своеобразную модуляцию, которой вторил генерал-бас флейты и тамбурина.
Едва заклинатель начал свистеть, как вторая голова, такая же бледная, как и первая, показалась над корзиной; затем кобра тем же способом, что и ее предшественница, и таким же движением выбралась наружу, вытянулась и принялась раскачиваться на хвосте.
Понемногу звуки, издаваемые Харрушем (несомненно, с помощью какого-то маленького инструмента, зажатого в зубах, сквозь который он втягивал и выдыхал воздух), стали следовать быстрее один за другим и тем самым ускорили движение рептилий. Оттенок опала, который приняли глаза змей, перешел в цвет топаза; из их пасти вырывалось негромкое шипение.
Харруш усилил свои модуляции. Можно было подумать, что каждый звук понятен змеям и означает приказ; выполняя его они сильнее раскачиваются и выбрасывают заостренное жало.
Зрители аплодисментами отозвались на эту грозную игру.
Один Эусеб остался равнодушным или, вернее, недоверчивым.
— Да здесь нет никакой опасности, — заявил он.
— Как? — удивился нотариус.
— Нет, конечно; я думаю, ваш заклинатель змей позаботился о том, чтобы вырвать у них зубы.
Хотя этот короткий разговор происходил на голландском языке, индиец как будто понял, о чем шла речь, потому что схватил одну их своих кобр за раздувающуюся от яда шею, как взял бы за рукоятку пистолет, и протянул змею Эусебу, повернув в его сторону ее разинутую пасть.
Ван ден Беек потянулся к ней рукой.
Но метр Маес поспешно удержал его, воскликнув:
— Дьявольщина, что вы делаете? Вы с ума сошли или устали от своих миллионов? Не правда ли, друг Харруш, — продолжал он, — ваши змеи сохранили зубы? Не правда ли, они вовсе не утратили яда? Не правда ли, они наверняка убьют того, кто неосторожно попытается к ним прикоснуться?
Вместо ответа Харруш, который, казалось, понимал голландский язык, но, как все индийцы, отказывался говорить на нем, приподнял крышку второй корзины, достал из нее живую курицу и приблизил ее к змее.
Кобра подняла голову, зашипела, ее рубиновые глаза сверкнули кровавым блеском — она стрелой бросилась на несчастную курицу и ужалила ее над крылом.
Индиец тотчас же выпустил птицу, та попыталась убежать, но смогла сделать не более двух или трех шагов: она шаталась, лапки отказывались нести ее тело, голова поворачивалась вправо и влево в невыразимой тоске. Наконец курица слабо забила крыльями, вытянула их, потом упала на песок и осталась неподвижной: она была мертва.
— Вот видите! — торжествующе заметил нотариус. — Что, сохранили свои зубы змеи Харруша? Попробуйте теперь сказать, что в Меестер Корнелисе нельзя увидеть любопытных и поразительных вещей! — И с глубоким убеждением он добавил: — О, Харруш — это колдун, великий колдун!
Порывшись в кошельке, нотариус достал из него монетку и подал ее индийцу, очень заботясь о том, чтобы вложить ее в ту руку, на которой не было устрашающего браслета.
Эусеб последовал его примеру, и Харруш, принявший первое подношение без единого слова благодарности, ответил на подарок Эусеба гримасой, которая могла бы сойти за улыбку.
— О-о! — воскликнул нотариус. — Вы в привилегированном положении, господин Эусеб, ваше лицо, несомненно, понравилось Харрушу. Нет такой любезности, какую я бы ему не оказал, а он обращает на меня внимания не больше, чем обезьяна — на понюшку табаку.
— Что это за человек? — спросил Эусеб. — И отчего он возбуждает в вас такой сильный интерес?
— Это один из самых забавных плутов, каких я когда-либо встречал, — ответил метр Маес. — Он знает множество магических фокусов, за которые два столетия тому назад в Европе его непременно сожгли бы, но они чрезвычайно развлекают меня, за это я и люблю его, а вовсе не оттого, поверьте, что придаю хоть какое-то значение его фиглярским проделкам, Да, я верю в яд его змей, но не верю в его колдовство; впрочем, оно всегда помогает скоротать время.
— Но, в конце концов, откуда он, этот человек? — поинтересовался Эусеб, заметив, что заклинатель змей со странной пристальностью уставился на него. — Мне кажется, он не малаец?
— Нет, индиец с берегов Ганга; я сказал "индиец", хотя должен был бы сказать "парс", поскольку он считается потомком гебров — этих огнепоклонников, ускользнувших от мусульманских преследований во время завоевания их страны халифами, найдя убежище у древних братьев, с которыми разлучило их более сорока веков назад древнее соперничество асуров и дева.
— И этот человек сделал чародейство своим ремеслом? — притворяясь глубоко безразличным, спросил Эусеб.
— Да, и должен сказать, я видел, как он проделывал довольно забавные штуки; кроме того, ему приписывают дар предсказывать будущее. Вы прекрасно понимаете, мой юный друг, что я ни одному слову из его предсказаний не верю; но, в конце концов, это забавляет народ, и я уподобляюсь ему. Чего вы хотите! Я всегда говорил, что удовольствия черни — самые основательные.
— А что ему особенно удается? — продолжал спрашивать Эусеб, но старался не показывать своего любопытства.
— Он умеет все, но более всего славится тем, что обладает чудодейственными амулетами, отвращающими колдовство злых духов. Если кто-то наведет на вас порчу, — смеясь, прибавил нотариус, — обратитесь к Харрушу, дорогой Эусеб, и он снимет с вас ее.
Эусеб сделал вид, что ему смешно, но смеялись лишь его губы; сердце билось так, что готово было разорваться; неясные мысли теснились в мозгу с невнятным шумом, с каким море набегает на скалы.
В последнее время его жизнь обратилась в беспрестанную тревогу, и он подумал, что может обратиться к Харрушу, чтобы узнать у него, чего следует опасаться и чего следует ждать от доктора Базилиуса.
Тем временем индиец, не теряя из вида двоих европейцев, кончил собирать подаяние и убрал в корзину своих змей; он приблизился к Эусебу, и в ту минуту как метр Маес, используя пробудившееся любопытство своего молодого друга, подтолкнул его вперед, Харруш, проходя мимо, прошептал ему в ухо:
— Тот, кто закалился в источнике жизни, подобен коршуну, затерявшемуся в тучах; он следит взглядом за бедным бенгальцем, прячущимся среди листьев в джунглях.
Эусеб живо обернулся и хотел схватить индийца за руку.
Но тот уже исчез, будто обладал кольцом Гигеса и ему довольно было повернуть камень, чтобы сделаться невидимым.
— Где он? Где он? — спрашивал Эусеб.
— Кто? Харруш?
— Да, Харруш.
— Он прошел за ограду; но говорил ли он с вами?
— Да.
— Тихонько, на ухо?
— Да.
— И что он сказал вам такого страшного?
— Ничего… — попытался отрицать Эусеб.
— Да? Но вы бледны и бескровны, словно героиня соти!
— Я хочу видеть его, хочу говорить с ним! — воскликнул Эусеб, не отвечая прямо на вопрос метра Маеса, но дрожа, словно лист в бурю.
— Ах, негодник! Он вас околдовал, — сказал нотариус. — Черт возьми! Мой юный друг, вы превзойдете меня в увлечении Харрушем: бегаете за ним, как местные щеголи за нашими хорошенькими китаянками. Давайте войдем: он наверняка там.
— О, войти туда!.. — Эусебом вновь овладели сомнения.
— Ба! — возразил метр Маес. — Но я же туда вхожу, я, королевский нотариус, и лучшие люди Батавии вместе со мной! Впрочем, того, кто вам нужен, вы можете встретить только здесь; бедняга Харруш не появляется на бирже.
Эусеб не сразу решился, но потом, схватив за руку своего спутника, бросился в переулок, явно не желая отступить от принятого решения.
И тогда взгляду его предстало поразительное зрелище.
XIII МЕЕСТЕР КОРНЕЛИС
Труппа танцовщиц исполняла под навесом характерный танец, странность которого ни в чем не уступала причудливости костюмов этих женщин; их тела плотно облегали затканные золотом платья, а гибкую, словно тростник, талию обвивала серебряная лента.
Зрители всех сословий и разного возраста, в разнообразных нарядах, представляли для наблюдателя не менее любопытное зрелище, чем то, что являли его взору рангуны.
Здесь были представители всех народов, населяющих континент и острова Индийского архипелага: знатные яванцы в шелковых саронгах — у каждого за поясом крис со сверкающей алмазами рукояткой; крестьяне, завернувшиеся в кусок дешевого батиста, с островерхой шапкой на голове; китайский банкир, толкающий локтями кули и портовых носильщиков; множество европейских и малайских матросов; колонисты и иностранцы, привлеченные кто любопытством, кто привычкой.
Этот танец казался излюбленным зрелищем туземцев: именно они живее прочих интересовались поэмой, которую с помощью пантомимы изображали перед ними женщины.
Более расчетливые китайцы отдавались своей неистовой страсти к игре: они с жадным и лихорадочным беспокойством следили за движением игральных костей, и медяки так и сыпались, а банкомет безжалостно обирал нищих в лохмотьях.
Метр Маес, как и яванцы, восхищался танцами рангун, но Эусеба ничто не могло отвлечь от его мыслей, и он взглядом искал в толпе странного индийца, чьи слова так сильно возбудили его любопытство и заставили биться сердце.
— Не видите ли вы его? — спросил он у своего спутника.
— Какого черта! Поищите его, мой юный друг; Харруш, Харруш… это забавляло несколько минут назад, но, когда танцуют рангуны и мне скажут, что генерал-губернатор требует меня к себе, что мой дом горит, что яванцы разоряют город, — я даже с места не сдвинусь. Поищите его среди курильщиков опиума: ему, негоднику, знакомы эти наслаждения!
И метр Маес вновь погрузился в созерцание, не в такт качая своей большой головой и продолжая непрерывно следить за всеми движениями рангун, которые извивались, подчиняясь ритму музыки.
Потеряв надежду добиться от него большего, Эусеб направился в сторону курильни.
Она состояла из ряда темных конурок, прилепившихся к стене ограды; многие были закрыты, в других можно было видеть человека, присевшего на корточки на циновке, которая составляла всю обстановку курильни, и проходившего сквозь все стадии головокружения, опьянения, восторга и конвульсий, какие вызывает опиум — этот сильный наркотик.
Увидев своего индийца в одной из конурок, Эусеб вошел и присел к нему на циновку.
Харруш держал в руке маленькую трубку из посеребренной меди, головка которой имела форму и объем самого маленького наперстка; он набивал ее коричневатым веществом, несколько раз вдыхал дым и в исступлении откидывался на циновку.
В ту минуту как Эусеб собирался войти в каморку, кто-то удержал его за полу одежды; обернувшись, он увидел нищего яванца, одетого в рваный саронг.
— Белый ту а н ("господин"), — произнес этот человек, протягивая руку к европейцу, — сжальтесь над несчастным: Будда поразил его безумием, и он оставил свою последнюю монету под лопаточкой китайца.
Столько же из жалости к несчастному, сколько желая избавиться от него, Эусеб дал нищему то, о чем тот просил; яванец набросил на голову уголок тряпки, служившей ему одеждой, и произнес вполголоса в знак благодарности:
— Пусть надежда на спасение сойдет с горы Сумбинг и сохранит туана от злого колдовства.
Харруш находился на половине пути к желанному опьянению и сохранил еще достаточную способность различать звуки, чтобы услышать слова, произнесенные яванцем.
— Убирайся отсюда, пес, сын собаки! — закричал он, обращаясь к нищему, который тотчас же скрылся в темноте. — А вам, сахиб, должно быть стыдно давать деньги этому презренному: он немедленно спустит их жадному китайцу.
Несмотря на то что его собственное положение было сложным, а мысли — очень серьезными, Эусеб не мог сдержать улыбки при виде того, с каким жаром индиец, сам в то же время предаваясь одному из постыднейших человеческих пороков, клеймит пристрастие яванца.
— Но, Харруш, — сказал он ему, — по-моему, ты и сам не лучшим способом тратишь деньги, только что полученные от меня.
Харруш презрительно пожал плечами.
— Я сделаюсь божеством и, подобно богам и вместе с ними, стану смотреть, как вечно танцующие перед ними бедайя, грациозно свиваясь, опускаются с небес на землю и вновь поднимаются в небеса.
С этими словами он вновь наполнил свою трубку табаком, перемешанным с опиумом, и протянул ее Эусебу.
— Делайте как я, и вы увидите то, что открыто лишь зрению духов.
Эусеб мягко оттолкнул трубку.
— Скажи мне, Харруш, — попросил он, дрожа от страха, что опьянение индийца достигнет такой стадии, когда он не сможет уже отвечать на вопросы, которые Эусеб, горевший нетерпением, хотел задать ему. — Ответь мне, и ты получишь награду, соответствующую услуге, какую окажешь мне. — Знал ли ты Базилиуса, белого врача?
— Знание охраняется безмолвием, мудрец — тот, кто умеет молчать, — отвечал Харруш, — а индус считается мудрым среди подобных себе.
— Скажи мне, что тебе известно о докторе, и ты не станешь жаловаться на мою щедрость. Говори, Харруш, умоляю тебя.
— Голландский сахиб сказал, что будет управлять своим сердцем, — нараспев забормотал индус. — Голландский сахиб поклялся сдерживать порывы сжигающей нас любви! Сахиб безумен; только сумасшедший уверяет, что может повелевать огнем, нашим господином; лишен рассудка тот, кто кричит пожирающему джунгли пламени: "Ты сожжешь вот это и не пойдешь дальше".
Эусеб не мог ошибиться, неверно истолковать эти облеченные в форму загадки слова, и они глубоко поразили его; он хотел добиться от индуса более точных объяснений, но пары опиума понемногу заволакивали мозг Харруша, взгляд его блестящих глаз сделался бессмысленным, растерянным, блуждающим; с его пересохших губ сорвался пронзительный стон, в котором не было ничего человеческого; напрасно Эусеб обращался с вопросами к гебру, тот уже не отвечал, его экстаз облекался в какие-то образы, и на подвижном лице отражались все испытываемые им ощущения.
Эусеб собирался покинуть каморку, когда послышался сильный шум за дверью. Переступив порог, он увидел нотариуса Маеса, направлявшегося к нему в сопровождении двоих незнакомцев.
— Ну? — крикнул нотариус своему молодому клиенту. — Что вы скажете о Меестер Корнелисе? Станете ли по-прежнему избегать веселый город? Или согласитесь со мной, что нет лучшего места для того, чтобы закончить среди удовольствий трудный или скучный день?
— Признаюсь вам, метр Маес, мне не слишком по душе все, что я вижу здесь, — ответил Эусеб. — И все же я не покину Меестер Корнелис прежде, чем мне удастся несколько минут поговорить с Харрушем.
— Дьявольщина! Тогда вам придется запастись терпением; если я не ошибаюсь, негодник предается своему излюбленному пороку и пройдет немало времени, пока он вновь спустится на землю с тех облаков, на которые он забрался в данную минуту!
— Сколько времени может длиться его опьянение?
— Час или два; но, выйдя из него, он будет в состоянии подавленности и оцепенения и не сможет ответить вам.
— А где я смогу увидеться с ним завтра? — спросил Эусеб, который, несмотря на желание узнать об отношениях, связывающих Харруша с Базилиусом, не прочь был покинуть Меестер Корнелис.
— Где вы сможете с ним увидеться? — переспросил метр Маес. — Спросите у меня, где вам найти завтра то облачко, что скользит по серебристому диску луны, и я с одинаковым успехом смогу дать вам ответ на оба вопроса; Харруш похож на болотную птицу, он приходит и уходит, и никто никогда не знает, в какой день он исчезнет и какой ветер вновь занесет его к нам. Подождите лучше, пока пройдет несколько часов, и эти часы покажутся вам не такими уж долгими, если вы весело проведете их вместе с нами!
— С вами?
— Да, с нами, господин ван ден Беек, потому что я завербовал двух веселых единомышленников, способных, как никто, подрезать крылья времени. Позвольте, друг мой, представить вам, как если бы мы находились в нашем славном городе Амстердаме, моего близкого друга Ти-Кая, богатого китайца, обосновавшегося по соседству с Меестер Корнелисом.
Китаец протянул Эусебу руку; тот пожал ее довольно неохотно, и нотариус, отступив на шаг в сторону, позволил увидеть второго приведенного им человека.
Это был яванец не старше тридцати лет, одетый в роскошный национальный костюм; его головной убор, бабуши и кинжалы были усыпаны алмазами.
— Не думайте, что я заставлю вас провести ночь в дурном обществе, — продолжал нотариус. — Я уже представил вам Плутоса в образе этого толстого китайца с лицом павиана, с заплетенной косой, в голубой тоге; теперь я хочу познакомить вас с почти полубогом древней яванской земли: перед вами туан Цермай Ариа Карта ди Бантам, подлинный потомок сусухунанов, или султанов Явы, который, за отсутствием бедайя, услаждавших досуги его предков, находит, как и я, что сегодня вечером рангуны не стали менее прекрасными или менее соблазнительными оттого, что всем позволено смотреть на них.
У тридцатилетнего яванца, о котором говорил метр Маес, был высокий лоб, черные курчавые волосы, правильное красивое лицо. Но тонко очерченный орлиный нос и узкие губы, почти постоянно открывавшие ряд мелких, острых, ослепительно белых зубов, придавали ему смутное сходство с хищным зверем.
Он не последовал примеру китайца и, не протягивая руки Эусебу, ограничился тем, что слегка наклонил голову, а затем, нагнувшись к нотариусу, спросил с особенной улыбкой и достаточно тихо для того, чтобы Эусеб едва мог расслышать его слова:
— Это и есть человек с завещанием?
Нотариус с недовольным видом ответил утвердительно; он вспомнил обещание, данное им г-же ван ден Беек — скрыть от ее мужа странное условие, которым доктор сопроводил свое благодеяние.
— О каком завещании говорит этот человек? — встревожился Эусеб; схватив нотариуса за руку, он пропустил впереди себя китайца и яванца.
— Да, черт возьми, о завещании вашего дяди!
— А что в нем такого необыкновенного, что все о нем знают?
— Дьявольщина! Не каждый день такое составляют.
— Господин Маес, — произнес Эусеб, пораженный тем, какое насмешливое выражение появилось на лице нотариуса. — Господин Маес, вы что-то скрыли от меня. Именем благосклонности, которую вы проявили ко мне, именем моих прав, если угодно, я требую сказать мне правду.
— О, клянусь тысячей бочонков сахара! — нетерпеливо ответил нотариус. — То, о чем мы говорим, постыдно звучит в Меестер Корнелисе. Хотите, чтобы эхо этих мест повторяло гадкие слова судопроизводства вместо шума сладких речей, какие оно привыкло слышать! Приходите завтра ко мне в контору, и — слово чести! — если вам так уж хочется все знать, вы все узнаете.
— Нет, вы отправитесь со мной на Вельтевреде и по дороге расскажете мне, в чем дело.
— Покинуть Меестер Корнелис в такое время, когда французское вино охлаждается во льду, когда добрые друзья на меня рассчитывают, — нет, это невозможно, дорогой мой!
— Не ставите ли вы рядом недостаток почтения к жалкому китайцу и мнимому потомку сусухунанов с услугой, которую просит вас оказать соотечественник и друг?
— К дьяволу доктора Базилиуса! — в отчаянии хватая себя за волосы, воскликнул нотариус. — Этому человеку удается даже после своей смерти мучить людей. Но можно все примирить. Собственно говоря, я должен сказать вам правду, потому что рано или поздно вам придется узнать об условиях, на каких приняла наследство госпожа ван ден Беек. Так вот, поужинаем вместе, и я все вам скажу; впрочем, такие странные распоряжения стоят того, чтобы прочитать их под звуки музыки и криков, среди смеха и танцев.
— Но Эстер ждет меня, — возразил Эусеб, чья любовь к жене боролась с желанием вновь увидеть Харруша и услышать, что расскажет ему нотариус.
— Ба, ваша Эстер будет только рада, если вы появитесь дома чуть менее озабоченным, чем всегда. Идемте же, и черт меня подери, если после десерта, приготовленного для вас этим адским доктором под видом завещания, вы по дороге домой не будете смеяться — как сумасшедший или как я.
Нотариус насильно потащил за собой Эусеба; вдвоем они нагнали китайца с яванцем и все вместе направились к ярко освещенному домику, стоявшему на одном из углов площади.
По дороге к Эусебу вновь приблизился тот самый нищий, кому он дал денег, и, казалось, хотел опять с ним заговорить; проходя мимо туана Цермая, он слегка задел его; тот поднял плеть из носорожьей жилы, которую держал в руке, и обрушил на плечи несчастного даяка удар, заставивший беднягу взвыть от боли.
— Зачем вы так ударили этого человека? — спросил взволнованный Эусеб, которому бы по жаль нищего.
— А по какому праву вы требуете у меня отчета в моих поступках? — надменно ответил яванский принц.
— По праву честного человека защищать слабого, угнетенного сильным.
— Трудную задачу вы перед собой поставили! — с глубокой горечью произнес туземец. — И мне кажется, — добавил он, усмехнувшись, — что лучше бы вам защищать самого себя, не заботясь об этом жалком отродье подлой расы.
— Все люди равны, все люди братья, — возразил европеец.
— Нет! — прервал Цермай. — Люди вовсе не равны и не братья. Доказательство тому — то, что ваши соотечественники, европейцы, ограбили здесь, на континенте и островах, свободных и законных владельцев благословенной Богом земли, которую солнце оплодотворяет по три раза в год. Одному из тех людей, что угнетают нашу страну, вполне пристало находить дурным поступок человека, чьи предки почитались великими среди этого народа; туан Цермай покарал одного из своих подданных, которых оставила ему ваша алчность!
— Цермай! Цермай! — закричал нотариус, знавший, как сурово преследуется голландским правительством всякое проявление независимости у туземцев, и сильно испуганный оборотом, какой приняла их беседа.
— Я больше не твой поданный, сын адипати, — сказал нищий. — Я принадлежу Будде. Твои предки избавили моих предков от обязанности повиноваться им, когда отреклись от своего бога для бога ислама. Они продали свою землю людям с Запада; крестьянин следует за землей, своей матерью, и я не принадлежу тебе!.. Несмотря на твои уловки и притворство, известно, что ты вступаешь в соглашения и сделки с властителями; когда древний остров вновь станет свободным, ты не достоин будешь занять на троне место, которое занимали твои родители.
Яванский принц побагровел от гнева и снова собрался броситься на попрошайку; нотариусу Маесу и китайскому торговцу стоило большого труда удержать его. Тогда человек в рубище приблизился к Эусебу.
— Только что ты вложил мне в руку радость и надежду, не задумываясь, хорошее или дурное употребление я найду для них, — произнес он. — Ты встал между моей спиной и палкой раджи; твое великодушие поместило эти две заслуги в моем сердце, они прорастут в нем, и из них взойдет великое светило благодарности.
Собеседник занимал такое жалкое положение в обществе, что Эусеб колебался, не зная, стоит ли ему отвечать. Буддист понял причину его молчания.
— Будда, который не допустит, чтобы пропало зернышко проса и всегда приготовит клочок земли для него, не захочет оставить без награды твое доброе дело. Я верю в могущество Будды и буду готов исполнить его волю, когда он скажет: "Настал день жатвы: тот, кто сеял, явился собрать урожай; верни ему сторицей то, что получил от него".
Закончив эту речь, которую Эусеб выслушал довольно невнимательно, нищий быстро удалился; спутники Эусеба тем временем приблизились к нему.
— Дьявольщина! — сказал нотариус. — Никогда еще вечер не был таким неудачным. Я хотел посвятить его удовольствиям, но похоже, злой дух забавляется тем, что опрокидывает мои праздничные планы. Ну, поспешим! Бокал французского вина поможет нам забыть о всех неприятностях, и под его влиянием мои друзья ван ден Беек и его превосходительство туан Цермай пожмут друг другу руки.
Стол был накрыт в домике, построенном из таких же непрочных материалов, как конура, где мы оставили Харруша, заклинателя змей, пробуждаться после курения опиума; но домик был украшен заботливо и со вкусом, и это доказывало, что он предназначался для европейцев или богатых туземцев, посещающих Меестер Корнелис.
XIV АРГАЛЕНКА
Павильон, уютный, как будуар, и выстроенный в самом изысканном стиле, был разделен на множество небольших помещений ажурными перегородками из бамбуковых решеток тонкого и разнообразного рисунка, перемежающихся с разноцветными стеклышками; вдоль стен шли широкие диваны; его освещали бумажные фонарики, причудливо и фантастически расписанные. В глубине самого большого отделения возвышалась эстрада, служившая подмостками рангунам, если богатым посетителям Меестер Корнелиса хотелось приправить свой ужин любопытным зрелищем.
Стол был уставлен местными и европейскими блюдами: здесь были суп из ласточкиных гнезд, голотурии под красным соусом, нарезанные тонкими ломтиками плавники акул, слоеные пирожки с насиженными яйцами — и рядом с этим великолепное голландское жаркое, превосходные образцы самых вкусных из семисот тридцати восьми видов рыб, населяющих воды острова, не говоря уже о дичи, кишащей в его лесах.
Несмотря на то что стол был роскошным и множество бутылок возвышалось колокольнями среди изобилия съестных припасов, все, кроме метра Маеса, держались холодно и молчали.
Китаец ел; яванец наблюдал за Эусебом, на которого смотрел враждебно после ссоры между ними. Что касается Эусеба, он размышлял о странных событиях этого вечера, поставивших его лицом к лицу с человеком, казалось знавшим страшного доктора Базилиуса, при воспоминании о котором его охватывал леденящий ужас.
— Великий Боже!.. Друзья мои, — произнес нотариус, — похоже, что мы с вами пришли на похороны, а не на пирушку.
Затем, взглянув на Эусеба, он продолжил.
— Собственно говоря, — намек, который он собирался сделать, заставил светиться его физиономию и исторг изо рта столь мощный взрыв смеха, что подвешенные к потолку фонарики замигали, — собственно говоря, в нашем ужине есть нечто загробное, поскольку речь пойдет о завещании.
— Я надеюсь, дорогой господин Маес, — возразил Эусеб, — что вы не собираетесь продолжать эту шутку. Мои дела не интересуют этих господ, и говорить об этом при них, по-моему, мало будет отвечать вашей цели, которая, видимо, заключается в том, чтобы помочь им приятно провести вечер.
— Выслушайте меня, дорогой господин ван ден Беек, — ответил нотариус, — дела делам рознь, как вещь вещи рознь. Лично я уверен, что об этом деле лучше всего побеседовать в компании веселых малых, с бокалом доброго французского вина в руке.
— Впрочем, господин ван ден Беек, — вмешался китаец Ти-Кай, остановив на время движение палочек слоновой кости, с помощью которых отправлял в рот пилав (им был обложен жареный барашек), — сахиб Маес не может сообщить нам ничего нового по поводу этого завещания.
— Каким образом? — удивился Эусеб.
— Разумеется! — подтвердил метр Маес. — Вся колония потешается над последней волей достопочтенного доктора Базилиуса.
— Вся колония! — повторил Эусеб. — Что вы хотите этим сказать? И каким образом, господин Маес, то, что происходит в вашей конторе, может занимать праздношатающихся с Вельтевреде?
— О, Бога ради, не будем говорить о конторе, — взмолился метр Маес, опуская на стол бокал, который подносил к губам. — Видите, из-за вас у меня вся жажда прошла и в горле задохнулись веселые куплеты, готовые вырваться, как шампанское из этой бутылки.
— Хорошо, не будем больше говорить об этом сегодня вечером. Завтра я приду за разъяснениями в тот час, когда буду уверен, что встречу человека.
— А кого вы видите сейчас, господин негоциант? — спросил метр Маес.
— Хотите ли вы, чтобы я ответил откровенно, дорогой мой нотариус?
— Веселье и откровенность ходят рядом, мой юный друг, и вы премного обяжете меня, клянусь вам, если не будете скрывать своих мыслей.
— Что ж, вы производите впечатление пьяницы.
— Пить, не испытывая жажды, и предаваться любви во всякое время, — поучительно заметил нотариус, — единственные способности, отличающие человека от скотины. Это высказывание принадлежит французу по имени, если не ошибаюсь, господин де Бомарше. Вспоминая об этом, я горжусь, что взял в жены женщину, принадлежащую к этой нации… Ну вот! — продолжал нотариус, с силой бросив свой бокал о стену, отчего тот разлетелся на тысячу кусков, — я заговорил о госпоже Маес, и в этом виноваты вы, господин ван ден Беек, вы меня до этого довели.
— Я был бы счастлив, если бы вы могли образумиться.
— Образумиться! — воскликнул метр Маес. — О, дьявольщина, что может быть общего у разума с женщиной? Господин ван ден Беек, не напоминайте мне больше о моей жене, не то я отомщу за себя и скажу вам, что ваша жена несчастлива.
— Во всяком случае, господин Маес, я надеюсь, что госпожа ван ден Беек не изберет вас в наперсники.
— Ошибаетесь, мой юный друг.
— И она призналась вам, что несчастна? Вы удивляете меня! В чем она может меня упрекнуть, кроме разве того, что я однажды уступил вашим настояниям и последовал за вами сюда?
— Для нее было бы лучше, если бы вы чаще сюда приходили.
— Признаюсь, я не понимаю вас.
— В чем, по-вашему, заключается счастье женщины? — спросил нотариус.
— Конечно, в любви и верности мужа.
При этом ответе Эусеба нотариус разразился еще более чудовищным хохотом, чем тот, которым он открыл застолье, и скорчился от смеха на затрещавшем под ним стуле.
— Славная шутка! — завопил он. — Знаете ли вы, дорогой господин ван ден Беек, что, если бы счастье действительно заключалось в этом, Провидение лишило бы такого счастья девять десятых представительниц женского пола. Спросите сахиба Ти-Кая, у которого три жены, спросите туана Цермая — у него их двадцать пять, — есть ли у них хоть малейшее доверие к этому рецепту счастья. Верность подвержена климатическим изменениям, которым невозможно подвергнуть счастье; лично я полагаю его в спокойствии, в безмятежности духа и сердца, и, зная по опыту, насколько заразительны эти покой и безмятежность, скажу: будьте счастливы, будьте только счастливы, и жена ваша будет весела и счастлива, и все окружающие вас станут улыбаться; но как можно обрести радость в сердце при виде мрачной и унылой физиономии? Ну, попробуйте последовать моему совету в течение недели, господин ван ден Беек, и вы увидите, отразится ли это тотчас же на лице вашей милой Эстер.
— Да полно, вы с ума сошли! Эстер умерла бы от огорчения, увидев, что я веду жизнь, подобную вашей.
— Боже правый! Я рад найти вас в таком умонастроении, дорогой господин ван ден Беек, — сказал нотариус. — И, несмотря на то что это идет вразрез с желанием вашей жены, я без дальнейших колебаний готов сообщить вам условия, которыми доктор Базилиус сопроводил свой щедрый дар.
— Пусть ад поглотит доктора Базилиуса! — воскликнул яванец. — Перестаньте расстраивать господина ван ден Беека, господин нотариус, и отложите на завтра сообщение о глупостях этого старого безумца. Смотрите, его лицо уже начинало сиять, словно небо перед восходом солнца, а от ваших слов оно вновь заволакивается тучами.
— Давайте есть, — проговорил китаец.
— Давайте пить, — как эхо, откликнулся нотариус. — Согласен, отложим дела до завтра, но с одним условием: пусть господин ван ден Беек выпьет бокал вот этого французского вина.
Эусеб не привык к такого рода пиршествам, и у него начала кружиться голова; он выпил всего два или три бокала, но предшествовавший этому разговор так взволновал его, что вызвал сильный прилив крови к мозгу и некоторое оцепенение.
Яванский принц, хотя ничто не могло вызвать изменений в его настроении, поскольку он почти не пил, совершенно, казалось, позабыл свою ссору с голландцем и обращался с ним чрезвычайно любезно.
— Оставьте это вино, господин ван ден Беек! — вскричал он. — Оно пучит желудок и вызывает тошноту. Возьмите, — прибавил он, принимая из рук одного из своих слуг яшмовую трубку, покрытую причудливой резьбой, — попробуйте это; если Бог поместил счастье в таком месте, где его может достать рука человека, несомненно, оно находится в сердце белого мака; попробуйте, и ваша душа воспарит с его благоухающим дымом к лазурному своду, населенному самыми прекрасными бедайя.
Эусеб видел действие, произведенное опиумом на Хгруша, и оно внушило ему глубокое отвращение; все же не решился отклонить предложение яванца, сделанное с такой любезностью, принял трубку и поднес ее к губам.
В эту минуту снаружи раздался такой сильный грохот гонгов и прочих инструментов, что все четыре сотрапезника бросились к дверям, желая узнать, что происходит в Меестер Корнелисе.
Они увидели плотную толпу, окружавшую человека, взгромоздившегося на плетеный стул, который несли на плечах четыре яванца, испускавшие, как и все, кто сопровождал их, неистовые вопли победы.
— Что происходит? — спросил метр Маес у китайца, который проходил мимо дома, низко опустив голову и держа в руках все принадлежности банкомета.
— Что происходит, сахиб? — угрюмо переспросил китаец. — Этот объевшийся золотом боров, этот буддистский пес уносит все, что я с таким трудом скопил за год, пока занимался этим ремеслом: мои мадрасские пиастры, мои голландские флорины. Они у него, все до единого, он не оставил мне ни медяка! Пусть рука Шивы настигнет того, кто обобрал меня!
— К счастью для тебя, Шива глух к проклятиям игроков, приятель! — возразил нотариус. — Не то тебя давно бы повесили.
Китаец, ворча, удалился.
— Сюда приближается выигравший, — произнес яванец. — Эти бездельники так рады увидеть банкомета разорившимся, что можно подумать, будто у каждого из них в кошельке оказалась часть его золота.
По знаку игрока, которого несли с почетом, процессия в самом деле направилась в сторону павильона, где ужинал с друзьями метр Маес.
Эусеб смотрел на человека в импровизированном паланкине с изумлением: он узнал в нем того нищего, которому за несколько часов до того дал денег.
Игрок, со своей стороны, казалось, искал Эусеба, потому что, заметив его, соскочил с носилок и побежал к нему с мешком денег в руке.
— Сахиб! — обратился он к Эусебу, без церемоний войдя в пиршественный зал, с роскошью которого совершенно не вязались его лохмотья. — Твое подаяние принесло мне удачу: у меня есть золото.
Произнеся эти слова, он высыпал на стол, посреди блюд и бокалов, содержимое своего мешка, около двадцати тысяч флоринов во всевозможной монете, и разделил его на две кучки, на которые китаец и яванец, не сдержавшись, устремили жадный взгляд, контрастировавший с безразличным спокойствием обоих голландцев.
— Вот твоя часть и моя, — сказал игрок. — Выбирай, какую ты возьмешь.
— Когда мы, христиане, творим милостыню, — ответил молодой голландец, — мы не ждем, что она принесет нам прибыль на земле; там, наверху мы должны получить свою награду.
— Будда дал людям землю не для того, чтобы пренебрегать ею! — возразил игрок. — Он достаточно богат и у него довольно могущества, чтобы дать тем, кого он любит, радости и здесь, на земле, и на небе.
— Не настаивай; даже если бы здесь было в тысячу раз больше золота, чем лежит сейчас на столе, будь я бедным и обездоленным, каким ты мне показался, я не принял бы то, что пришло из подобного источника.
Старик склонив голову.
— Юноша, не спеши осуждать того, в чье сердце не заглянул, — ответил он. — Не торопись судить меня; но, если ты не хочешь взять это золото, отдай его бедным; потому что ты — тот, на кого Будда указал мне во сне, и в этом сне он велел мне поделиться с тем, кто вложит в мою руку монетку, которая принесет мне желанное золото.
— Меня удивляет, буддист, — перебил его Цермай, пока метр Маес, отведя Эусеба в сторону, объяснял ему, как безоговорочно верят снам яванцы, и уверял, что бесполезно противиться желанию игрока в лохмотьях, — меня удивляет, буддист, — продолжал яванский принц, — что ты не разложил деньги на три кучки вместо двух, лежащих сейчас на столе.
— Почему на три?
— Потому что одна принадлежит мне как твоему господину и повелителю. Не забыл ли ты, собачий сын, что я — бупати провинции Бантам?
— Я не забыл об этом, туан Цермай, и так же верно как то, что око Будды освещает мир, верно и то, что не часть этого золота, но все золото предназначалось тебе; я молился Будде долгими ночами лишь о том, чтобы пополнить им твою казну; только ради того, чтобы все сложить к твоим ногам, я принял сначала подаяние белой женщины, а затем протянул руку к этому молодому господину; наконец, только затем вошел в это место, более нечистое в моих глазах, чем болота Каванга.
— А что ты хотел получить от меня в обмен на это золото?
— Свободу для одной из бедайя, живущих в твоем дворце.
— В самом деле! Слышите вы это, господа? — обратился к своим спутникам яванец. — Взывая к имени Будды и к чистоте его последователей, этот седобородый язычник поднял глаза на одну из гурий, населяющих мой рай.
Нищий молча склонился перед яванцем, жадно уставившимся на груду монет, где сверкали золото и серебро.
— Но этого золота не хватит, чтобы купить самую ничтожную бедайя моего дворца в Бантаме, старый безумец!
— И все же я рассчитывал увести одну из самых юных и прекрасных.
— Неплохо сказано, любезный! — воскликнул нотариус. — Люблю откровенность; и, если для того, чтобы удовлетворить господина Цермая, не хватает пары десятков флоринов, я готов выложить их из своего кармана, с условием что мне позволят присутствовать при том, как ты станешь выбирать свою бедайя.
— Если бы ты хотя бы не уменьшил свой выигрыш на ту часть, что отдал этому иноземцу!
— Будда сказал: "Никогда не распоряжайся тем, что тебе не принадлежит", — ответил старик.
— Что ты такое говоришь? — тихо спросил его китаец. — Золото принадлежит тебе, раз этот юный сумасшедший не захотел взять его…
Легко представить себе, с каким любопытством наблюдал эту сцену Эусеб; он не мог понять бескорыстия этого человека, которым двигали в то же время столь низменные инстинкты.
— Подождите, — сказал он, выступив вперед. — Я совершил первую ошибку, дав этому человеку золото, которое должно было послужить постыдной страсти; я не стану продолжать. Это золото принадлежит мне, буддист, и я беру его.
Нищий бросил на Эусеба взгляд, в котором мольба смешивалась с упреком, затем повернулся к яванцу.
— Прошу вас, удовольствуйтесь этим, — произнес он, сложив руки. — Если бы у меня было больше, я отдал бы вам все.
— Нет, — ответил яванец. — Все, что я смогу дать тебе в обмен на это золото, — это твоя свобода.
— Моя свобода! Я сам взял ее, туан Цермай. С тех пор как твой наместник украл у меня землю, сжег мою хижину, похитил у меня драгоценное сокровище — мою дочь, желтую лилию лебака, я разорвал цепь, приковывавшую меня к моему господину. Свобода, которую ты хотел продать мне, завоевана мной, и сегодня надо мной нет никого, кроме тигров и черных пантер джунглей Джидавала.
— Аргаленка! — вскрикнул яванец, смертельно побледнев под слоем бистра. — Ты Аргаленка, отец Арроа. Ах, теперь я понял, почему ты хотел выбрать одну из моих бедайя.
Аргаленка вышел, не слушая его ответа.
— Но возьмите же ваше золото! — крикнул ему Эусеб.
— Что мне это золото, раз я не могу выкупить им свое дитя? — с жестом отчаяния произнес нищий и скрылся в темноте.
Эусеб был подавлен, узнав о том, что этот человек хотел вырвать из гарема Цермая свою дочь. Сотрапезники вновь уселись за стол; перед Эусебом оказалось золото, предназначенное честным Аргаленкой своему благодетелю, и молодой человек резко толкнул его в сторону яванца.
— Возьмите золото, — сказал он Цермаю, — и верните этому несчастному его дочь.
— Ну вот, теперь мы расчувствовались, — вмешался нотариус, у которого за последние несколько минут сильно испортилось настроение. — Черт бы побрал этого буддиста, игру и презренный металл!
— Господин ван ден Беек, — отвечая на обращение молодого голландца, проговорил Цермай, — надеюсь, вы посетите мой дворец в Кенданде; я покажу вам Арроа, и вы решите, можно ли отказаться от обладания ею.
— Но, в конце концов, — спросил китаец, — что делать со всем этим? Господин ван ден Беек возьмет свою долю, но то, что принадлежало буддисту, мы, как мне кажется, можем разделить между собой.
— Тьфу! Эти китайцы и евреям сто очков вперед могут дать! — отозвался нотариус. — Сейчас я покажу вам, как следует поступать и как презренный металл поможет нам позабавиться, господин Ти-Кай.
И метр Маес, зачерпнув две пригоршни монет, бросил их на площадь.
Едва успев осознать жест нотариуса, все те, кто ее заполнял, сбежались и, отцепив фонари, зажигая факелы и пучки соломы, бросились подбирать рассыпанное в пыли золото.
На поднявшийся при этом шум из Меестер Корнелиса высыпали все, кто еще держался на ногах.
Лишь курильщики опиума, поглощенные невыразимым наслаждением, не покинули своих каморок, они одни не явились на нежданный праздник, устроенный нотариусом для завсегдатаев этого заведения.
Игроки покинули столы, музыканты бросили свои инструменты, даже танцовщицы прибежали в своих сверкающих нарядах.
Метр Маес во второй раз наполнил монетами свои широкие ладони и отправил деньги вслед первым пригоршням; и тогда суматоха превратилась в драку: удары сыпались дождем со всех сторон и каждый, в соответствии со своим возрастом, полом и силами, сражался кулаками, ногами, ногтями или зубами; земля была усеяна клочьями саронгов, обрывками золотой и серебряной парчи, цветами, вырванными из волос танцовщиц, и не замедлила окраситься кровью.
Чем более резкими и пронзительными делались крики, доносившиеся из этого адского водоворота, тем больше наслаждался метр Маес. Он в неистовстве разбрасывал монеты, выбирая для этого те места, где толпа распалилась сильнее, откуда слышались самые дикие вопли. Следует признаться, это отвратительное зрелище очень забавляло достойного нотариуса, и на каждое доносившееся до него извне проклятие он откликался взрывом хохота или веселым словцом. Обернувшись, чтобы пополнить запас своих необычных снарядов, он, к большому своему изумлению, обнаружил, что полностью исчерпал не только золото, отвергнутое буддистом, но и то, что принадлежало Эусебу.
— Ну вот, ничего не осталось, — сказал он. — Как жаль! Я, кажется, немного забрался в ваш карман, господин ван ден Беек, но вы не станете на меня сердиться: лучшее применение, какое вы могли бы найти для этих денег, — позабавить с их помощью этих бедняг.
— Вы называете это забавой, — с досадой заметил Ти-Кай, горько сожалевший о том, что забота о сохранении достоинства помешала ему присоединиться к борьбе, за превратностями которой он жадно следил.
— Черт возьми! Взгляните на меня; я так смеялся, что весь взмок. О, одна осталась! — продолжал метр Маес, схватив монетку, что закатилась под тарелку.
Нотариус собирался с ее помощью вновь разжечь пламя раздора между посетителями Меестер Корнелиса, но Эусеб остановил его руку.
— Простите, — сказал он. — Оставьте это мне; я хочу сохранить ее и увидеть, принесет ли мне счастье то, что послано Буддой.
— Ну что же, — произнес китаец Ти-Кай. — Мне кажется, самое меньшее, что должны сделать рангуны в благодарность за то, что вы для них устроили, — это прийти сюда и развлечь вас.
Метр Маес изо всех сил захлопал в ладоши, и вскоре несчастные девушки, кое-как поправив разорванные в драке костюмы, вошли в павильон и расположились на устроенных в глубине его подмостках.
Вместе с ними в пиршественный зал вошел Харруш и уселся среди музыкантов.
Пока метр Маес забавлялся ссорой простонародья, Эусеб с удвоенной настойчивостью добивался от туана Цермая, чтобы тот вернул Аргаленке его дочь. Яванец, ничего не обещая, отвечал столь любезно, что возможность сделать доброе дело привела молодого голландца в такое веселое настроение, в каком он не был за весь вечер, и, хотя готовящееся представление было не совсем в его вкусе, он больше не думал о том, чтобы уйти.
Танцовщицы уселись в кружок на маленькой сцене, ожидая сигнала начать пантомиму.
Эусеб рассеянно скользил глазами вдоль сверкающего ряда девушек; его взгляд остановился на той, чье бело-розовое лицо и золотистые волосы, контрастируя с медной кожей ее подруг, привлекли его внимание.
Лицо этой женщины ему показалось знакомым; он старался припомнить, где видел ее прежде, когда Цермай, поднявшись с места, подозвал к ним Харруша.
XV БЕЛАЯ РАНГУНА
— Пейте, Ти-Кай, — обратился метр Маес к сидевшему рядом с ним китайцу. — Будет ли это вино или цион, результат хорош в любом случае. Господин Цермай, ваше сердце откликается на упреки вашего имама и вы поклялись не нарушать более закон вашего святого пророка? Я нахожу вашу трезвость сегодня вечером удивительной и опасной. Диван, на котором вы восседаете вместе с этим несчастным господином ван ден Бееком, похож на увенчанную снеговиками глыбу льда, какие встречаются в южных морях.
— Не занимайтесь нами, господин Маес, — ответил Эусеб. — Лучше следите за тем, что сами собираетесь делать.
— К черту! Я совершенно не собираюсь следить за своим поведением и хочу двигаться наугад, как летят птицы в бурю; я наслаждаюсь тем, что непредсказуемо и странно.
— Вы правы, мудрый мандарин! — эхом отозвался Ти-Кай. — Нет ничего более веселого, чем каскады; но почему же тот, что в моем саду в Камгонге, не извергает волны циона вместо вредной для здоровья воды! Цион дали нам боги, чтобы мы на огненных крыльях переносились к ним на небеса.
— Да, пока не свалимся в грязь, — сказал нотариус. — Но это уже кое-что — хоть на минуту заглянуть в спальню к господам ангелам. Достойная статуя Мудрости, присутствовавшая при наших сумасбродствах, — продолжал метр Маес, обращаясь к Эусебу, — неужели вы откажетесь от этого стакана вина, если я предложу вам выпить его за вашу вечную любовь?
— Лучший способ не подвергать ее опасности, господин Маес, — это отклонить ваш тост.
— Дьяволом клянусь, этот человек сделан из мрамора’ И я все больше успокаиваюсь насчет последствий завещания. Но вино налито и надо выпить его! — воскликнул нотариус. — Ти-Кай, я поручаю вам это сделать.
Китаец отказался; как и все его соотечественники, он пренебрегал продуктами европейского виноделия и предпочитал им водку из зерна.
— Это лучше! — произнес он, указывая на свой наполненный ционом стакан.
— Несчастный, можно ли вслух произносить такую ересь? И все же это вы, господин ван ден Беек, причиной тому, что мои уши выслушали подобное богохульство. Но, черт возьми, если я не могу опьянить ваш мозг, я все же заставлю захмелеть ваши глаза! Ну, рангуны, пляшите так, чтобы этот человек упал к вашим ногам, упрашивая, умоляя и лепеча, словно ребенок, который хочет получить игрушку.
Как видим, ужин, на который метр Маес пригласил Эусеба и двух азиатов, неожиданно принял довольно непристойный характер.
Именно амфитрион напрягал все силы, чтобы придать ему подобную окраску.
Зрелище, которое он устроил себе при помощи денег Аргаленки, сильно разогрело его; чтобы освежиться, он не придумал ничего лучшего, как вылить бутылку шампанского в громадную японскую чашу и одним духом проглотить ее содержимое; но это целебное питье произвело совершенно не то действие, на какое рассчитывал нотариус: едва он выпил, как из румяного его лицо сделалось кирпично-красным, подстегнутая алкоголем кровь быстрее побежала по жилам, отчего болтливость его еще возросла.
В то время как рангуны, исполняя приказ метра Маеса, делали первые движения, сам он помогал музыкантам, затянув голландскую застольную песню, внушенную, без сомнения, некоему нидерландскому поэту тяжелыми и унылыми парами пива; ее жалобные и однообразные звуки так же мало соответствовали выражению лица метра Маеса, как и легкому живому ритму инструментов оркестра.
В такт музыке нотариус дергал длинную косу, висевшую за спиной у китайца, и движение, которое сообщалось тем самым широкой соломенной шляпе, покрывавшей голову Ти-Кая, сильно возбуждало веселость г-на Маеса; никогда еще китайский болванчик не качался так забавно.
При каждом толчке китаец вздрагивал и рисковал свалиться под стол; но излюбленный напиток оказал на него такое действие, что он, казалось, не замечал происходящего: лицо его выражало совершенную тупость и лишь глаза сохранили остаток хитрости и лукавства.
Как выяснилось из упреков, адресованных им нотариусу, только Эусеб ван ден Беек и яванец Цермай сохраняли рассудок.
Оба совершенно воздерживались от питья, хотя это расходилось с привычками яванского принца, обычно предававшемуся, как все люди его расы и ранга, самому беспорядочному разгулу; на этот раз, как ни странно, несмотря на подстрекательства нотариуса, он едва пригубил свой стакан и даже несколько раз отталкивал приготовленную для него слугами трубку опиума, а если и брал ее у них из рук, то лишь для того, чтобы предложить ее молодому голландцу и уговаривать его вновь испытать достоинства наркотика.
Эусеб, занятый появлением Аргаленки, не чувствовал обычного воздействия опиума, но представшее перед ним зрелище и тупое опьянение Харруша возбуждали отвращение, и он вежливо, но достаточно твердо для того, чтобы новый знакомый прекратил настаивать, отказывался.
Невзирая на предсказания метра Маеса, танец рангун оставил Эусеба совершенно равнодушным. Посреди этого празднества, как и среди его дневных забот, его мысль обращалась к фантастическому персонажу, чье появление перевернуло его жизнь, и тайный инстинкт, как и двусмысленные фразы, произнесенные Харрушем, говорил ему, что он находится среди людей, знавших Базилиуса и способных помочь или повредить ему в предпринятой им борьбе против доктора.
Если Эусеб оставался безразличным к чарам рангун, этого нельзя было сказать о г-не Маесе: когда танец подходил к концу и большая часть танцовщиц, совершенно измученных, опустилась на пол и лишь две или три из них с лихорадочной энергией продолжали свои телодвижения, толстый нотариус поднялся, перешагнул перила, отделявшие сотрапезников от забавлявших их артистов, устремился вперед, округлив руки настолько изящно, насколько позволяло ему исполинское сложение, и словно собрался пригласить одну из девушек исполнить пантомиму, которую они в тот момент показывали, вместе с ним.
Та самая белокурая рангуна, которую заметил Эусеб, казалось, была испугана появлением европейца; прыжком невероятной гибкости и силы она отпрянула назад с видом оскорбленного целомудрия.
Нотариус снова направился к той, кому оказал первые знаки своего внимания.
Среди смуглых дочерей Явы в пестрых сверкающих нарядах этот толстый человек в европейском костюме выглядел до невозможности комично; выражение, которое он пытался придать своему побагровевшему лицу, было до того забавным, что даже Эусеб не смог удержаться и, заразившись веселостью нотариуса, присоединил свой голос к крикам, какими зрители и артисты встретили небольшое импровизированное представление метра Маеса.
Это представление завершилось обыкновенной развязкой: метру Маесу удалось настигнуть белокурую танцовщицу; тогда он вытащил из кошелька пригоршню флоринов, дождем обрушил их на голову девушки, откуда они скатились на пол.
— Вина! Вина! — воскликнул он.
На эстраду принесли несколько бутылок вина и циона, и метр Маес сделался виночерпием яванских красавиц.
— Среди всех этих женщин и всех этих мужчин найдется один человек, который — могу в этом поклясться — не прикоснется к напитку, щедро предложенному вашим соотечественником, — обратился Цермай к Эусебу ван ден Бееку.
— Кто же? — спросил тот. — Мне кажется, эти рабы накинулись на питье так же жадно, как их господин.
— Харруш не прикоснется к нему, — ответил Цермай, показав пальцем на заклинателя змей, сидящего на корточках в углу позади музыкантов, разместив рядом с собой гадов, которых использовал для своих представлений.
В самом деле, когда один из музыкантов, державший бокал, протянул его Харрушу, а нотариус предложил наполнить его, огнепоклонник жестом изобразил отвращение.
— Иди, иди сюда, Харруш, — позвал Цермай. — А теперь ответь мне, — продолжал он, попеременно указывая на трубку и стакан, — что лучше, то или это?
— Одно заставляет вас опуститься до уровня животного, другое возвышает до состояния духов; разве может колебаться наделенный умом человек? — возразил заклинатель змей, взяв трубку и с наслаждением вдыхая первые затяжки опиума.
— Да, — подтвердил Эусеб, довольный обстоятельством, позволяющим ему поближе познакомиться с человеком, которого он больше всего хотел расспросить о докторе Базилиусе. — Да, я уже имел случай узнать вкусы Харруша; более того — я удивлен тем, что он уже победил сонливость, овладевшую им у меня на глазах не больше часа тому назад. Но не боишься ли ты, Харруш, что постоянное употребление этого наркотика подорвет в конце концов твое здоровье?
— Жизнь исчисляется не днями, из которых складывается, но теми наслаждениями, какие она доставляет.
— Браво, Харруш! — завопил нотариус. — Хорошо сказано, клянусь честью! Под твоей желтой и блестящей, как кувшины наших амстердамских молочниц, кожей таится больше здравого смысла, чем в мозгах многих философов; в первый раз, как ты окажешься на Вельтевреде, я хочу, чтобы ты вошел в мой дом, и я дам тебе кусок лучшей опиумной массы, какую получали когда-либо с полей Месвара; но остерегись показываться прежде, чем сядет солнце, слышишь, негодяй?
— Да, сахиб; я подожду, пока ночь сделается достаточно черной для того, чтобы нельзя было отличить трезвого человека от пьяного, — самым простодушным тоном ответил Харруш.
— Приходи и ко мне, — перебил его Эусеб, приняв равнодушный вид, хотя ему очень хотелось не упустить возможности устроить себе встречу с Харрушем. — Я не обещаю тебе опиума, но тем не менее ты останешься доволен моей щедростью, клянусь тебе в этом.
— Превосходная идея! — подхватил нотариус. — Вы представите его госпоже ван ден Беек, и он предскажет ей будущее.
— Предскажет будущее! — воскликнул яванец. — Неужели вы считаете, что господин ван ден Беек может придавать значение подобным глупостям?
— Глупостям? Клянусь когтями дьявола! Вот новое слово в устах яванца, когда речь идет о колдовстве; никогда не предполагал, что найдется хоть кто-то среди этих обезьян… нет, я хотел сказать, среди этих господ в саронгах, не имеющий безусловной веры в сны, в предзнаменования, в чары, изобретения и тайны из области кабалистики.
— Вы правы, — с горечью ответил Цермай. — Мы похожи на полосатую лошадь, живущую в больших лесах: ни заботы, ни воспитание не могут смягчить ее нрав; напрасно мой отец старался обучить меня вашим наукам с помощью доктора вашей национальности, он не смог сделать из меня человека, потому что моя кожа не белого цвета.
— Зато ему удалось сделать из вас лжеца, господин Цермай, — произнес нотариус.
— Я лжец? — воскликнул яванец, подскочив на стуле.
— Да, вы! Вы только что хвастались, что не верите в колдовство, а я помню, как в последний раз, когда навещал вас в вашем дворце в Бантаме, видел, как вы бросали о стены вашего жилища землю из свежевырытой ямы, чтобы отвратить от него несчастье на время вашего отсутствия.
— Господин нотариус Маес! — закричал яванец, которому, казалось, более неприятно было упоминание собеседника об этом случае, чем предшествовавшее тому оскорбление. — Господин нотариус Маес, вы оскорбили меня!
— Ба! Уж не хотите ли предложить мне поединок?.. Я принимаю вызов, и, хотя порядком нагрузился, мы будем с вами бороться, кто кого перепьет; есть у нас и свидетели. Правда, вот этого, — прибавил он, расплющив ударом кулака шляпу Ти-Кая, спавшего на столе, — справедливо было бы причислить к мертвым.
— Господин нотариус Маес, — произнес Цермай, в бешенстве сверкая глазами и скривив побелевшие губы, — я позволяю шутить с собой только равным!
— В таком случае, вы должны были оставаться среди тех, кого считаете таковыми; должно быть, на острове нетрудно их найти.
При этой новой обиде яванец схватил крис и попытался перелезть через стол, чтобы броситься на нотариуса.
Харруш, который, с той минуты как завладел трубкой, сидел рядом с Эусебом на тростниковой циновке, покрывавшей пол, и которого Цермай резко толкнул в своем порыве, даже не попытался удержать его, но Эусеб, схватив яванца за руку, сумел его остановить.
— Оставьте его, ван ден Беек, дайте ему проветрить, как он имеет обыкновение делать, этот сверкающий кусок железа; не беспокойтесь, он не имеет желания взглянуть, какого цвета моя кровь. Здесь слишком много свидетелей. А вот если бы мы были одни в лесу или я спал бы под его кровом, положившись на его гостеприимство, тогда другое дело.
При этом новом выпаде раджа смертельно побледнел, на губах у него выступила пена; он сделал усилие, стараясь освободиться из рук Эусеба, но почувствовал, что не может вырваться, и закричал:
— Запомните, господин Маес, это произойдет не под моим кровом, где вы будете спать, защищенный законом гостеприимства; нет, я нанесу вам удар на том месте, которое вы называете Konings plaats[10], при свете дня и в присутствии гораздо большего количества людей, чем в этой комнате!
Вместо ответа нотариус вновь затянул свою вакхическую песнь, затем, внезапно прервав ее, воскликнул:
— Тысяча бочек чертей! Этот вечер начался неприятными предзнаменованиями. Сначала этот юный безумец стал мне говорить о госпоже Маес, и дело не могло не кончиться ссорой: эта женщина всегда приносит мне несчастье. Видите, наша ночь испорчена к тому времени, когда начала становиться приятной, и наши рангуны прячутся под саронгами, как испуганные газели. Черт возьми! Господин Цермай, спрячьте ваш жестяной крис, пока не опозорили его: им хорошо только женщин пугать.
Яванец действительно продолжал стоять с угрожающим видом.
В эту минуту один из слуг, старик в темном саронге, какой носят яванские ученые, с тюрбаном на голове, падавшим ему на глаза крупными складками, с лицом, скрытым густой белой бородой, приблизился к молодому туземному принцу и произнес несколько слов на малайском языке, но так тихо, что только тот мог слышать их.
Цермай ответил на том же наречии, сверкнув глазами на голландцев и деля между ними свою ненависть; затем, проявив невероятную подвижность лица, снова сделался спокойным и уселся на подушки.
— В самом деле, вполне безумен тот, — обратился он к Эусебу, — кто придает значение словам человека, пропитанного вином.
— Простите, ваше превосходительство, — насмешливо перебил нотариус. — Вы, несомненно, хотели сказать: человека, выпившего вина.
Яванец не отвечал.
— Займитесь вашими рангунами, — вмешался Эусеб, надеясь, что зрелище танца развлечет ссорящихся и заставит их забыть о еще не угасшей злобе.
— Вы, черт возьми, правы, ван ден Беек! Ну, рангуны, исполните для нас танец джиннов, чтобы достойно завершить сегодняшний вечер!
Пока Эусеб разговаривал с г-ном Маесом, а затем нотариус голосом и жестами подбадривал рангун, Цермай обратился к Харрушу на том же языке, которым воспользовался седобородый слуга, успокаивая гнев господина.
— Харруш, — сказал он. — Сети расставлены во мраке; тебе остается лишь подтолкнуть добычу, чтобы она запуталась в них.
Произнося эти слова, яванец показал на Эусеба ван ден Беека, объясняя тем самым Харрушу, о ком идет речь.
— Смелый охотник никого не зовет на помощь, — угрюмо ответил Харруш. — Он идет твердо и неустрашимо и один нападает в джунглях на черную пантеру.
— Ты нужен нам, Харруш. Голландец не доверяет туа-ну и ничего не примет из его рук; будь с нами сейчас, чтобы быть и тогда, когда пробьет час расправы и дележа добычи.
— Харруш живет плодами, зреющими для него на придорожных деревьях, водой, что течет по белым камням в ручье; пиры, где человек, подобно тигру, рвет когтями и дробит зубами трепещущую плоть, не его удел.
— Харруш очень изменился с той ночи, когда в джунглях Джидавала правоверные поклялись убить людей с Севера, укравших у них древнюю землю.
— Харруш не повторял клятвы, которую слышал той ночью, о какой вы напоминаете, туан Цермай; не все ли равно Харрушу, кто будет владеть землей, где ему не достанется ни клочка? Он радуется лучу солнца, что веселит его глаза и согревает его по утрам под бедным саронгом; сыны ислама и приверженцы Христа еще не додумались присвоить себе право на солнечные лучи.
— Харруш, твои уста говорят неправду, у тебя есть причина защищать голландца: он соблазнил тебя золотом.
Цермай хотел продолжать, но человек в темном саронге, тот, кого мы видели тихо говорящим с ним, приблизился к огнепоклоннику, за которым уже несколько минут наблюдал.
Отвечая яванцу, Харруш не сводил глаз с рангун, и, проследив за его взглядом, человек в темной одежде смог узнать, какая из них привлекла внимание заклинателя змей.
Он коснулся плеча Харруша кончиком пальца.
От этого прикосновения Харруш вздрогнул, как будто взял в руки одну их тех огромных электрических рыб, что встречаются в южных морях.
— Не думает ли фокусник со змеями, — обратился к нему человек на малайском наречии, — что прекрасная танцовщица с белой кожей, у которой в волосах цветы малатти, — сестра голландского торговца, сидящего рядом с ним?
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
— Потому что ты обращаешься как с братом с тем, у кого кожа того же цвета, что у белой рангуны.
— Кто научил вас читать в моем сердце? — произнес Харруш, и глаза его затуманились, как заволакивались дымкой золотые зрачки его змей, когда он проявлял над ними свою колдовскую власть.
— Читать в твоем сердце — игра для того, кто повелевает духами и правит стихиями.
— Ты говоришь о себе?
— Ты сам это сказал.
Эусеб в это время пытался вызвать в памяти образ Эстер, перенестись мысленно в дом на Вельтевреде, где она среди волн кисеи, охраняющей ее от укусов насекомых, казалась ангелом в облаках и где она, без сомнения, ждала его.
— Мне кажется, вы начинаете входить во вкус этого развлечения, господин ван ден Беек? — голос Цермая вывел Эусеба из задумчивости.
— Вы ошибаетесь, господин Цермай; лишь мои глаза смотрят, но сердце не видит.
— Все такой же, вечно занятый своей женой; хотел бы я узнать ее, чтобы выразить ей свое восхищение.
— Если бы вы узнали ее, то все, что кажется вам удивительным, сделалось бы для вас естественным.
— Ну, я вижу, — продолжал Цермай, встав с места, — что приписка в завещании доктора Базилиуса не найдет применения.
— Уже завтра, к счастью, — улыбаясь, ответил Эусеб, — я не должен буду слышать, не понимая их, разговоры об этой злосчастной приписке в завещании, если, конечно, наш уважаемый господин Маес к завтрашнему дню вновь сделается нотариусом в достаточной степени, чтобы познакомить меня с ней.
— О, я не сомневаюсь, что завтра вы будете знать, в чем дело; но, поверьте мне, господин ван ден Беек, не стоит слишком часто подвергать себя чарам этих чертовок в пестрых саронгах: это небезопасно для вашего спокойствия и для ваших денег.
Договорив, яванец, как это сделал нотариус Маес, перешагнул через перила и уселся на корточки в том углу, где фокусник оставил свои корзины.
Эусеб, не желая смотреть на танцовщиц и в то же время стараясь воспользоваться моментом, пока он был наедине с Харрушем, чтобы договориться с ним о встрече, повернулся к нему.
— Не забыл ли ты моего обещания? — спросил он.
Харруш не отвечал; едва сделав первые затяжки из трубки, которую дал ему человек в темной одежде — без сомнения, в этой трубке был гораздо более сильный наркотик, чем опиум, — он впал в странное состояние. Жизнь мало-помалу покинула его тело и сосредоточилась в мозгу.
Он едва мог удержать в пальцах трубку, ему стоило труда сложить губы, чтобы вдохнуть дым, но глаза его сверкали необычайным блеском и с выражением счастья и восторга следили за душистыми облаками, медленно поднимавшимися к потолку, словно его воображение придавало им милые для него формы.
Не получив ответа, Эусеб повторил свой вопрос. Наконец фокусник медленно повернулся в его сторону, как человек, с- трудом оторвавшийся от соблазнительного зрелища.
— Чего хочет от меня европейский торговец? — едва слышно спросил он.
— Чтобы ты не забыл в своем опьянении, в которое сейчас погружаешься: я обещал тебе более драгоценный подарок, чем тот, что ты получишь от нотариуса.
— Раз европеец дает, значит, хочет получить, — ответил фокусник, вернувшись к созерцанию дымных спиралей; он говорил монотонно, словно мурлыкал песню. — Люди его расы продают и покупают; они покинули свою родину, чтобы торговать в чужих краях; они не делают напрасных подарков. Кто знает, чего потребует европеец от Харруша?
— Кое-каких сведений о докторе Базилиусе.
— Доктор Базилиус — великий дух, он носится в пространстве, а мы ползаем по земле. У него в руках ключи к сердцам, он даст Харрушу тот, что отворяет сердце белой женщины, в чьих волосах сверкают золотые лучи солнца, а глаза синее синих цветов мантеги.
— Что он хочет этим сказать, черт возьми? — воскликнул Эусеб, которому на мысль немедленно пришла Эстер, и он решил, что Харруш описывает его жену. — Этот проклятый дал тебе такое обещание? Значит, он жив, гнусный Базилиус и пристань Чиливунга не приснилась мне? Говори, Харруш, говори! — просил он, взяв безвольные руки фокусника в свои. — Что бы он ни пообещал тебе, если только ты захочешь помочь мне, — ты, кто, по твоим словам проник в тайну загадочного мира духов, — я дам тебе золото, много золота, как только ты решишься заговорить.
Харруш сделал над собой усилие, стараясь справиться с оцепенением, все сильнее охватывавшим его и оставлявшим ему лишь способность следить за полетом легких призраков, вызванных его воображением.
Он пристально посмотрел на Эусеба и пробормотал:
— Силен только тот, кто не доверяет другим и самому себе.
— Я понимаю тебя, Харруш, ты хочешь сказать, что напрасно я последовал за этим безумным Маесом.
— Зеленые листья сменяются желтыми, потом ветер уносит их и гонит вдоль дорог. Можно ли назвать мудрым того, кто клянется сохранить весенний наряд в сезон дождей, остаться на любимом стебельке, несмотря на зимние бури?
— Да, ты осуждаешь мою веру в неизменность моей любви.
— Позолотив равнины земли и моря, оплодотворив поля и обласкав своими лучами цветы и плоды, солнце ложится в свою туманную постель, и ночь приходит ему на смену. Назовут ли мудрым того, кто восстанет против ужаса тьмы и захочет увидеть день раньше того часа, в который хозяин мира назначил свету вернуться?
— Я должен был смириться с разлукой, которой требовало Небо, помня о том, что она не вечна и наступит день, когда я найду в лучшем мире ту, кого Господь на время отнял у меня.
— Бохун-упас приносит смерть, — продолжал фокусник. — Разве мудрый уснет спокойно в его смертоносной тени, видя лишь золотые плоды среди листьев?
— Теперь я перестал понимать тебя, Харруш. Хочешь ли ты сказать, что напрасно я оставил себе полученное от этого негодяя богатство? Перестань говорить притчами, Харруш, умоляю, объясни мне твои слова.
— Харруш сказал все что мог, — возразил фокусник; оцепенение его заметно усиливалось, и он впадал в экстатический сон под действием опиумного препарата.
— Нет, ты будешь говорить, ты должен! — кричал Эусеб, яростно встряхивая огнепоклонника. — Ну, Харруш, не бросай дело на половине, помоги мне расстроить козни этого демона!
Старания Эусеба и его настойчивость оказалась тщетными: рука Харруша разжалась, трубка упала на землю и разлетелась на множество кусков, а сам он опустился на циновку и остался лежать, словно лишился чувств; лишь глаза его оставались открытыми и, отражая все, что испытывала в те минуты его душа, свидетельствовали о жизни.
Эусеб ван ден Беек выпрямился и, к своему большому удивлению, заметил, что комната, сотрапезники, танцовщицы — все завертелось вокруг него.
Состав, наполняющий трубку фокусника, имел настолько сильное действие, что голландец, лишь вдохнувший его испарения, ощутил это действие на себе.
У него так сильно кружилась голова, что он решил выйти из павильона, надеясь подышать свежим воздухом.
Но, пытаясь подняться, он почувствовал, будто свинцовая рука давит ему на плечо и заставляет вновь опуститься на стул.
Он подумал, что прохлада воды поможет ему привести свои чувства в равновесие. Эусеб схватил стакан, но графин танцевал перед ним такую легкую и стремительную сарабанду, что никак не удавалось поймать его за горлышко; каждый раз, как он протягивал руку, графин подпрыгивал и ускользал от него.
Один из яванских слуг Цермая пришел к нему на помощь и наполнил его стакан.
Как только Эусеб его осушил, туман в его мозгу рассеялся; ему показалось, что опьянение имеет очертания: он видел, как оно тихо приоткрывает его черепную коробку и выскальзывает наружу; на мгновение он испытал наслаждение, почувствовал блаженство.
Но глаза его сами собой вернулись к зрелищу, столь отвратительному для его ума и сердца, — к тому, что происходило на эстраде.
Подходила к концу пантомима джиннов.
Вдруг позади Эусеба раздался глухой, гортанный, словно сдавленный крик.
Обернувшись, он взглянул на Харруша.
Как и за несколько мгновений до того, глаза фокусника жили, но они утратили исступленное и радостное выражение; обезумев от ужаса, он уставился на эстраду.
Эусеб проследил за направлением его взгляда и увидел трех или четырех отвратительных гадов — выбравшись из корзины, они ползали среди танцовщиц.
Он увидел, как белая рангуна, выполняя одно из движений, наступила ногой на огромную очковую змею, и та, подняв голову, раздуваясь от ярости, бросилась на танцовщицу.
Девушка смертельно побледнела и осела на пол, как будто яд, которым ей угрожала змея, уже тек в ее жилах.
Артисты, музыканты и гости устремились к дверям, крича от страха, и разбежались кто куда; в зале остались лишь бесчувственная танцовщица, лежащий на циновке Харруш и Эусеб.
Эусеб вскочил на эстраду, схватил змею, обвившуюся вокруг руки девушки, раскрутил ее в воздухе, словно пращу, так энергично, что она не успела свернуться и ужалить его, а затем разбил ей голову о стену.
Танцовщица молча показала пальцем на небольшую рану, видневшуюся у нее на плече.
В глазах Эусеба танцовщица приняла облик Эстер — ее лицо, ее стан.
Ему показалось, что Эстер лежит почти умирающая у. него на руках.
— Ты не умрешь, — поддавшись галлюцинации, произнес он. — Я не хочу видеть, как ты умираешь. Потому что люблю тебя, Эс…
Он не договорил.
Его прервал отрывистый смех, раздавшийся в другом конце комнаты.
XVI МАЛАЕЦ НУНГАЛ
Система управления огромными владениями голландцев — одна из самых простых и вместе с тем хитроумных.
Губернаторы сохранили или восстановили в главных точках острова власть яванских господ, правивших некогда при туземных государях.
Эти правители по праву рождения или по своему положению с незапамятных времен имеют огромное влияние на крестьян, но в обмен на горстку золота они предоставили всю власть в распоряжение завоевателей и сделались послушным орудием в их руках.
Сегодня в их обязанности входит передавать приказы колониальных властей и следить за их исполнением, распределять среди земледельцев натуральные налоги, с помощью которых Ява превратилась в огромную ферму, работающую на голландцев, — система, достойная Макиавелли, позволяющая спрятаться той руке, что выжимает, и избегнуть последствий непосредственного соприкосновения с порабощенным народом.
Предки Цермая со времени завоевания острова правили провинцией Бантам. Его отец сумел своей преданностью в эпоху великого кризиса 1811 года завоевать полное доверие голландцев, и они осыпали его почестями и богатствами.
Раджа Адифрати, утра-натта-сусухунан, верховный правитель деревень провинции Бантам, совершил путешествие в Голландию и был представлен королю Вильгельму. Он вернулся исполненным глубокого восхищения европейской промышленностью и цивилизацией.
Хоть яванцы и сделались мусульманами еще в XIV веке, они вовсе не разделяют исключительного и ревнивого фанатизма, отличающего приверженцев ислама, так что правителю Бантама не пришлось бороться ни с отвращением, ни с предрассудками, чтобы доверить христианину воспитание своего единственного сына.
Это был известный в Батавии врач, тот самый, кого мы видели в начале этой истории играющим в ней столь важную роль.
К несчастью, то ли выбор отца оказался неудачным, то ли ученик был наделен глубоко порочными влечениями, но бедный правитель Бантама перед смертью с отчаянием увидел, что сын обманул все возложенные на него надежды.
Самым явным результатом европейского воспитания Цермая был тот, что к порокам его расы прибавились новые — те, что являются уделом развитых культур, старых обществ с разложившейся нравственностью.
Злобный, завистливый, очень скрытный, суеверный и доверчивый, как все туземцы, он был к тому же распутным и жаждал денег и власти, как голландские колонисты; ради удовлетворения своих страстей он не остановился бы и перед преступлением.
Выйдя из рук гувернера, Цермай через несколько месяцев потерял отца, унаследовав его положение и звания. Первой его заботой было призвать к себе человека, поощрявшего его дурные склонности, вместо того чтобы бороться с ними, и поселить его в своем дворце в качестве советника.
У Цермая была многочисленная свита, великолепные экипажи, роскошные дворцы; во всей провинции Бантам и до самого Бейтензорга только и говорили, что об огромном кордебалете из лучших бедайя, который он содержал.
И все-таки, какими бы большими ни были доходы молодого принца, их не хватало на оплату его бесконечных пышных развлечений и сменяющих одна другую прихотей. Чтобы удовлетворить эти потребности, он прибегал к бесчисленным поборам; ради того, чтобы наполнить свои сундуки, он разорял крестьян; множество жалоб на него стекалось к правительству; но в память о его отце к нему относились так снисходительно, что колониальный совет на все закрывал глаза.
Осмелев от безнаказанности, подталкиваемый советами бывшего воспитателя, Цермай, не довольствуясь тем, что обобрал тех, на кого его отец смотрел как на своих детей, попытался обмануть доверие голландцев и присвоить часть налогов, которые собирал для казны.
Здесь правительство сделалось безжалостным, и за этим новым преступлением принца последовало отрешение его от должности. Советнику Цермая, сильно скомпрометированному, угрожали преследования, и он избежал конфискации значительного состояния, которое собрал на службе у юного правителя Бантама, частью занимаясь контрабандной торговлей с пиратами острова Борнео, лишь потому, что умер как раз в тот момент, когда обсуждался вопрос о суровом наказании.
Все еще испытывая признательность за услуги, оказанные колонии отцом принца, генерал-губернатор острова Ява не захотел, чтобы сын совершенно нищим расстался с верховной властью, переходившей в его семье по наследству, и постановил, что назначенный им преемник должен выплачивать принцу солидное содержание.
Ни бесконечное терпение, ни этот последний акт щедрости, ни сказанные при этом добрые слова не могли успокоить глубокого возмущения Цермая суровостью примененного к нему наказания.
Он считал, что происходит из королевского рода Панджаджарана; последний сусухунан из этого рода управлял северными и западными частями острова Ява и отрекся от престола в 1749 году в пользу голландцев.
Цермай смотрел на оставшуюся у его семьи верховную власть в провинции Бантам как на необходимое вознаграждение за это отречение от престола, как на неотъемлемое и неотчуждаемое право, которое никак не мог утратить, которого никто не мог у него отнять, и поклялся люто ненавидеть тех, кто обездолил его.
Долгое время эта ненависть проявлялась лишь проклятиями и угрозами; но, поскольку с тех пор как его отстранили от власти, иссяк самый щедрый источник его доходов и он не мог больше позволять себе любимые им разорительные фантазии, Цермай старался забыться в гнусном разврате. Наперсников своей злобы он выбирал обычно в тавернах Батавии или в притоне Меестер Корнелиса, и колониальное правительство не обращало на это обстоятельство никакого внимания и нимало этим не огорчалось.
Во время одной из почти ежедневных оргий в китайском Кампонге он встретил малайского матроса, чье упорное желание следить за всеми его движениями, всеми жестами, показалось ему странным; Цермай приблизился к нему, и малаец тихо произнес несколько слов; к огромному удивлению всех его соратников по разврату, принц покинул дом китайца вместе с моряком задолго до того, как достиг опьянения.
С этой минуты его поведение полностью изменилось.
Никто больше не слышал, чтобы бывший верховный правитель Бантама выступал против тирании завоевателей и требовал возвращения прав туземцам; он больше не обличал распутство голландских колонистов, не осмеивал их пошлость, их расчетливую жадность, не выражал вслух надежду, что пробьет для них час искупления.
Насколько прежде его недовольство было шумным, а слова — легкомысленными, настолько же, благодаря таланту притворства, доставшемуся ему с древней яванской кровью, он сумел теперь скрыть в себе все чувства, быть осторожным в поступках, сдержанным на язык.
Он сделал больше того.
Он порвал с мерзкими спутниками своих оргий, казалось, отвернулся от разврата, и хотя сохранил при себе наложниц и свиту, что дозволялось его рождением и обширным состоянием, ограничил свои безумные траты и, похоже, вступил в пору мудрости и здравого смысла. Поведение Цермая стало столь образцовым, что губернатор и члены колониального совета начали сожалеть, что обошлись с ним сурово и намекнули на возможность восстановления его в должности.
Правда, в то же время как Цермай сделался одним из частых гостей дворцов Вельтевреде и резиденции в Бейтен-зорге, он стал посещать нескольких китайцев, чья враждебность по отношению к колониальному правительству, хоть и скрытая, была широко известна; правда, он стал близким другом Ти-Кая, китайского торговца (мы видели его во время ужина в Меестер Корнелисе), прадед которого был одним из предводителей знаменитого китайского восстания, поставившего в минувшем веке голландское владычество на Яве на грань гибели.
Мы должны прибавить к сказанному, что после внезапного обращения Цермая пошли неясные разговоры о ночных сборищах недовольных в лесах Джидавала, в провинции Батавия, и в огромном лесу Даю-Лонхура, расположенном на юге провинции Черибон, у границы Преанджера, неподалеку от той части Явы, что осталась в памяти первоначальных властителей края как наиболее плодородная.
Примерно в тридцати милях от Бейтензорга, у первых вершин пересекающей остров вулканической цепи, Синих гор, три ее ветви: Гага, Сари и Саджира — образуют охватывающий ложбину треугольник, основание которого — шесть миль, а высота — не менее трех.
Эта ложбина, настоящий оазис благодаря тому, что расположенные по соседству пики, возвышаясь на три тысячи метров, сохраняли здесь прохладу в самый разгар лета, принадлежала туану Цермаю.
Именно там мы видим его на следующий день после ужина в павильоне Меестер Корнелиса, закончившегося таким роковым образом.
Жилище Цермая располагалось в южной части этой великолепной долины, на самом близком к равнине склоне горы Сари.
Отец молодого принца не стал строить дворец по примеру большинства яванских знатных людей — рядом с деревнями, среди возделанных полей; к нему вела дорога, извивающаяся по лесу, что покрывал основание горы.
В этом лесу можно было встретить все образцы тропической растительности: заросли тиковых деревьев с узловатыми стволами, ликвидамбары, даммары, палаглары в сто пятьдесят футов высотой, колоссальные папоротники, рощи гигантского бамбука, лавровые деревья, арековые пальмы, равеналы, камедные деревья; лианы, падавшие зелеными цветущими каскадами с самых гордых вершин к самым незаметным стебелькам, делали лес еще более густым и укрывали в непроходимых чащах кабанов, оленей, косуль, диких павлинов и тетеревов, а на верхних ветках резвились попугаи тысячи разновидностей, и над полянами с пронзительным криком носились райские птицы в золотом и пурпурном оперении.
Дворец Цермая, если бы не укрывавшие его великолепные сады, можно было бы с некоторого расстояния принять скорее за город, чем за жилище принца.
Главное здание было выстроено в мавританском стиле: с белыми, словно алебастр, куполами; тонкими, словно иглы, минаретами, устремленными вверх, как ростки кокосовой пальмы; пестрыми аркадами с ослепительной росписью; резными мраморными галереями; внутренними двориками под изящными навесами. Вокруг этого здания, рядом со всем феерическим, что только способно изобрести арабское и персидское искусство, китайский архитектор разместил беспорядочно и непоследовательно, с капризной непредсказуемостью все, что нашел в своем воображении странного и причудливого; там были изрезанные, словно кружево, павильоны из гипса, фарфоровые домики, бамбуковые хижины, то помещенные на двадцать футов над землей, то сделанные в виде животных или предметов; эти фантастические строения казались существовавшими независимо одно от другого, но в действительности были связаны сводами, коридорами и подземными ходами, такими же своеобразными по замыслу и формам, как и сами здания.
С тех пор как Цермай впал в немилость, он покинул мавританский дворец и парадные помещения и жил в китайских постройках.
Во время дневной жары он любил укрываться в гроте, украшенном лучшими образцами мадрепор, кораллов и раковин южных морей.
С потолка этого грота струилась вода, защищая его от дневной жары и закрывая от нескромных взглядов слуг непроницаемым занавесом.
В этом гроте мы и найдем Цермая.
Он лежал на расшитых серебром подушках зеленого шелка, очень подходивших к опаловым переливам раковин; Цермай вдыхал не прохладные испарения персидского наргиле или индийского кальяна, не сладкий аромат восточного табака, но терпкий дым сигары, как мог бы это делать какой-нибудь голландский торговец рисом в своей конторе в Батавии.
Рядом с ним присел на корточках человек в темной одежде, тот, кто накануне в Меестер Корнелисе дал Харрушу наркотик, вдыхание паров которого так подействовало на мозг Эусеба ван ден Беека; сейчас этот человек был одет в костюм малайского моряка и странным образом напоминал того, кто разговаривал с Эусебом на молу Чиливунга на следующий день после смерти доктора Базилиуса.
— Зачем уезжать завтра, Нунгал? — спросил его Цермай.
— Так надо.
— Куда ты направляешься?
— Я иду к исполнению наших замыслов.
— Но не боишься ли ты, что я могу отступиться, как только ты покинешь меня?
— Дух мой останется с тобой.
Яванец опустил голову и на несколько минут погрузился в безмолвное размышление.
— Нунгал, — наконец, заговорил он. — Ты напомнил мне о секретах, которые я считал скрытыми в могиле; ты рассказал мне то, что мог знать один Базилиус, который уже почти год назад стал добычей червей; ты дал мне доказательства сверхчеловеческой власти, поработившей мой дух; в то же время ты проявил ко мне участие и приковал к себе мое сердце; но, прежде чем осуществить планы, которые могут стоить мне головы, позволь мне задать тебе один вопрос и пообещай, что ответишь на него. Кто ты?
— Разве я не сказал тебе этого, Цермай? — с насмешливой улыбкой ответил малаец. — Меня зовут Нунгал, я тог, кто правит морскими бродягами; несмотря на свой жалкий вид, я командую флотом, какому позавидовали бы самые могущественные государи этого мира, и самое лучшее в нем не бездушные соединения досок и веревок, а страшные люди, чья единственная родина — бескрайний простор океана; они с детства привыкли играть с морем и не знают даже слова "опасность". Покоряясь моей воле, словно рабы, они по моему знаку придут к тебе на помощь. Чего еще недостает, чтобы сделать Цермая королем Явы?
— Я не это хотел узнать, Нунгал, — продолжал Цермай. — О свирепости и храбрости твоих людей говорит тот ужас, который одно только их имя внушает обитателям Индонезийского архипелага; мне известно, что перед ними европейские солдаты разлетелись бы, словно туча саранчи; ты обещал мне их поддержку не для того, чтобы я мог вернуть себе тот клочок власти, что достался мне от щедрот наших хозяев и несправедливо был отнят у меня: нет, я должен вновь занять то положение, какое было в этой стране у моих предков; я поблагодарил тебя и повторяю, что моя признательность будет не меньше полученного благодеяния. Но это вовсе не то, что я хотел бы знать.
— Так говори же.
— Нунгал подчинил своим законам не только морских разбойников, он имеет власть над таинственными духами, что существуют меж небом и землей; христиане называют их демонами, а мы — дэвами и джиннами. Если бы это было не так, откуда Нунгал мог узнать то, что было сказано много лет назад между старым голландским доктором и его учеником? Кто мог рассказать ему то, что умерло, как умер тот, кто это слышал, если не скитающийся дух Базилиуса? Вот тайны, которые я хочу узнать, Нунгал.
— Твое пожелание высказано как раз вовремя, Цермай, потому что и у меня к тебе есть одна просьба.
— Скажи, и если в моей власти удовлетворить ее, клянусь, ты получишь то, чего желаешь.
— Среди твоих бедайя есть одна, которая мне нравится; я хочу, чтобы ты дал мне ее.
— Нунгал, ты опустошишь мой дворец! Ради твоего удовольствия я пожертвовал белой девушкой из Голландии; ее ужалила змея Харруша, и она обязана тем, что еще жива, лишь противоядию от укусов рептилий, которое ты дал ей; но, несмотря на твои снадобья, она умрет; ты хочешь, чтобы танцы больше не услаждали мой досуг, а песни не разгоняли скуку?
— Слово Цермая весит мало, как пух из коробочки хлопка: довольно одного дуновения и одной секунды, чтобы развеять его белые нити.
— Нет, Нунгал; слово сказано, и я не пойду против него. Выбирай себе наложницу; будет ли она темной, словно кожура граната, или белой, как цветок гардении, ты можешь взять ее, она уйдет с тобой к твоим людям. Есть лишь одно исключение.
— И этого слишком много, если именно ее я хочу.
— Так опиши мне ее, Нунгал, чтобы я не тратил слов напрасно.
— Та, которую я хочу, вовсе не смугла, словно кожура граната, и не белее цветка гардении; она желтая, как лилия, что растет на берегу ручья, и все же это самая прекрасная твоя бедайя.
— Арроа, дочь Аргаленки! — воскликнул Цермай; его смуглое лицо побледнело до синевы, а глаза налились кровью.
— Ты сам назвал ее, Цермай, — совершенно спокойно ответил Нунгал. — Но почему ты так изменился в лице?
— Нунгал, проси у меня все что угодно! — дрожащим и прерывающимся голосом закричал Цермай. — Потребуй у меня всех других бедайя из моего дворца; проси мою черную пантеру, что лижет мои сандалии, словно щенок; возьми мои поля и леса, чтобы сделаться богатым; бери мой дворец — я ни в чем не откажу тебе, только не говори мне об Арроа, нет, нет, я не смогу отдать тебе ее!
— Зачем мне твои богатства? Что я буду делать с дворцами? Цермай, я хочу желтую девушку с черными, как у газели глазами.
— Я тебе отказываю, Нунгал.
— Не объяснишь ли ты мне, по какой причине?
— Я не знаю, не могу объяснить, что во мне происходит, но, с тех пор как она поселилась в моем дворце, я забыл ради нее всех ее подруг. Два дня, что я провел вдали от Арроа, показались мне веками; поистине, я думаю, что люблю ее.
— А если бы тебе сказали, что трон, о котором ты мечтаешь, можно получить, лишь пожертвовав ею?
— Я буду в нерешительности, Нунгал!
— Дитя, — ответил малаец с улыбкой, в которой сочувствие мешалось с презрением. — Дитя, которое хочет управлять стихиями и потусторонними силами, но не может заставить умолкнуть собственные страсти!
Яванец, поняв урок, опустил голову; и все же в горечи этих упреков было нечто сладкое: ему показалось, что он сможет сохранить Арроа.
— Послушай, Цермай, — продолжал малаец. — Минуты драгоценны, мы не можем терять их; сегодня вечером я должен покинуть этот берег, завтра я буду в море, через месяц ты вновь увидишь меня.
— Что я буду делать в это время?
— Ты будешь продолжать начатое, будешь раздувать пламя раздора между туземцами и завоевателями, сжалишься над угнетенными и в случае нужды придешь им на помощь, воспользуешься недовольством, ненавистью, жаждой мести; в этой несчастной стране лишь эти струны мы сможем затронуть; их вера в Бога умерла с верованиями в Брахму, а что касается патриотизма — они даже слова такого не слышали. Рассыпай золото, рассыпай беззаботно и без опасений, и, когда придет время жатвы, ты вновь увидишь меня: я помогу тебе собрать урожай.
— Золото! — с беспокойством произнес Цермай. — Ты же знаешь, как мало его оставили мне колонисты.
— Завтра Ти-Кай передаст тебе на эти цели шестьсот тысяч флоринов.
— Шестьсот тысяч флоринов! Но ненависть Ти-Кая к европейцам не так велика, чтобы он пожертвовал такую сумму.
— Эти деньги не из кошелька китайца.
— Так откуда они возьмутся?
— Два дня тому назад ты подарил мне белую бедайя, которую я у тебя просил; сегодня я возвращаю ее тебе, Цермай.
— Увы! — воскликнул яванец. — Бедная девушка, может быть, сегодня же вечером отдаст Богу душу.
— Нет, она умрет только завтра к вечеру, в час, когда солнце скроется за вершиной горы Сари; а утром, в третий час дня, Ти-Кай принесет ей деньги, о которых я говорил тебе. Смело войди в комнату, где будут лежать ее останки; ты не боишься мертвых, раз хочешь беседовать с духами, а значит, сможешь завладеть золотом.
— Но все же, откуда это золото?
— Это доля, принадлежащая девушке из наследства ее прежнего хозяина, доктора Базилиуса.
— Чье завещание…
— …чье завещание предназначало треть состояния, оставленного его племяннице, той из трех женщин, живших в его доме, которая добьется слов любви от мужа этой самой племянницы.
— С какой целью он сделал такое странное распоряжение?
— Доктор Базилиус ничего не делал без оснований. Дай юному побегу банана сменить старые листья, согнувшиеся и пожелтевшие под тяжестью гроздьев, и, если знание человеческого сердца не подвело его, ты кое-что узнаешь о том, какова была его цель.
— Но, — продолжал Цермай, возвращаясь к милым его сердцу шестистам тысячам флоринов, — могу ли я таким образом завладеть тем, что принадлежит девушке, являющейся подданной голландского короля?
— Цермай, в Голландии и по всей Европе, как и на Яве, бедные, проходя по земле, оставляют следов не больше, чем птица в небе. Твоя белая бедайя родилась во Фрисландии, ее жалкие родители продали ее прежде, чем она достигла брачного возраста. Доктор Базилиус привез ее на Яву. Доктор Базилиус умер. Кто, по-твоему, станет беспокоиться об исчезновении бедной девушки? Возьми это золото и используй его так, как я сказал тебе. Теперь прикажи, чтобы Арроа приготовилась сопровождать меня.
— Арроа! Ты не отказался от своего намерения отнять ее у меня?
— Не только для того, чтобы приказывать духам, но и для того, чтобы управлять людьми, надо уметь обуздывать движения своего сердца, Цермай; учись быть властелином, вели умолкнуть своей страсти.
— На что мне трон Явы? Я уступаю, оставляю, отдаю его тебе, Нунгал, если Арроа останется со мной.
— Остерегись, безумец! — почти угрожающе крикнул малаец.
— Нунгал, я знаю, что твоя власть безгранична; с тех пор как мы познакомились, ты устрашаешь меня зрелищем своего могущества, доказательствами твоей сверхъестественной науки; и все же ради того, чтобы сохранить эту девушку, я готов бросить вызов и твоей власти и твоей науке.
— Ты не можешь сделать этого безнаказанно, Цермай, подумай об этом, не сопротивляйся моей воле.
Эти слова, произнесенные властным тоном, заставили Цермая подскочить на диване; все бушевавшие в яванце страсти отразились на лице его.
— Твоей воле! — вскричал он. — Жалкий главарь шайки разбойников, в моем собственном дворце ты осмеливаешься говорить мне о своей воле и ставить ее над моей!
Малаец не пошевелился и по-прежнему оставался невозмутимым.
— Да, — ответил он. — И это будет не первый раз, когда ты похвалишь себя за то, что поступил не по своей воле.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Старый бапати, твой отец, разгневанный твоей распущенностью, просил колониальное правительство распорядиться заточить тебя в крепость; он угрожал передать управление провинцией одному из твоих родственников. Внезапно бапати Бантама тяжело заболел. Тот, кто обучал его европейским наукам, доктор Базилиус, ухаживал за ним и самоотверженно проводил все ночи у постели больного, не позволяя ему принимать лекарства из других рук.
— Клянусь святым пророком! Малаец, не говори ничего больше.
— Успокойся, не выдергивай крис из ножен и выслушай меня до конца. Несмотря на старания доктора, состояние бапати ухудшалось. И все же оно ухудшалось не так быстро, как нетерпеливо желал этого его сын. Однажды ночью он проник в комнату, где его отец, под влиянием наркотика, который дал ему европейский врач, забылся тяжелым сном. Цермай держал в руке такой же крис, каким ты размахиваешь, и хотел вонзить его в грудь старика; доктор Базилиус умолял его не делать этого, поклялся, что болезнь справится без его помощи, что к завтрашнему дню она прикончит старика; поскольку молодой человек сопротивлялся, поскольку, лишенный возможности подойти к постели бапати и ударить его, он ударил бывшего своего наставника, тот приказал ему выйти и сказал…
— Довольно, Нунгал, — Цермай побледнел от страха и так дрожал, что у него стучали зубы, — довольно, я знаю все остальное. Огни внезапно погасли, нечеловеческая сила, на какую не способен был старый и тщедушный Базилиус, подхватила сына и выбросила его вон.
— Да; но поскольку на следующий день предсказание Базилиуса исполнилось, поскольку старый бапати умер до заката, поскольку никто не искал яда в его желудке, а кинжала в сердце у него не было, — сын без всяких споров унаследовал богатства и власть своего отца. Теперь ты видишь, Цермай, что когда-то ты преуспел, послушавшись не своей воли?
Цермай был подавлен: он молча сел и провел рукой по залитому потом лбу, как будто хотел стереть пятно крови.
— Приди в себя, — продолжал Нунгал, — и скажи мне теперь, станет ли моей Арроа?
— Нет, — отвечал Цермай голосом более слабым, чем раньше.
— Пусть будет так; но правосудие отдаст мне то, в чем ты отказываешь мне.
— Правосудие! — воскликнул Цермай.
— Разумеется, потому что я докажу, что желтая девушка принадлежит мне. Эта девушка, как и белая танцовщица, жила у доктора Базилиуса, который купил ее у своего управляющего; в тот вечер Аргаленка кое-что говорил нам об этой истории. Каждый раз, приходя в старый город повидаться с бывшим наставником, ты бросал жадные взгляды на женщину, жившую в его доме. Доктор умер; ты поспешил завладеть женщиной, но она уже исчезла вместе со своими подругами; на следующий день человек, одетый в лохмотья, пришел к тебе и сказал, что он хозяин девушки с бархатными глазами и ее белокожей подруги; ты предложил ему золото, если он уступит их тебе; человек отказался и поступил лучше: он предложил поместить обеих среди твоих танцовщиц с условием, что ты отдашь девушек тому, кто предъявит тебе половину сломанного кольца. Вот она, эта половина кольца! А теперь в третий раз спрашиваю тебя: отдашь ли ты мне желтую девушку?
— Да, если сможешь ее взять! — вскричал Цермай, прыгнув, как пантера, и нанеся Нунгалу страшный удар крисом, который он предательски вытащил из сандаловых ножен.
Малаец пошатнулся, и Цермай подумал, что убил его; но Нунгал выпрямился и распахнул саронг, обнажив грудь и показав покрывавшую ее тончайшую стальную кольчугу. Лезвие криса не повредило доспехов, и сквозь сетку просочилось всего несколько капелек крови.
— Я обзавелся ею, помня о моих врагах, — язвительно произнес малаец. — Но я забыл о тебе, Цермай.
Цермай был удручен своей неудачей и пребывал в глубоком оцепенении.
Он отступил на шаг назад и на всякий случай приготовился защищаться.
Но Нунгал покачал головой.
— Послушай, — произнес он со странной улыбкой, вздернувшей губу и позволявшей видеть белые и острые, как у леопарда, зубы, — будь в твоем сердце хоть один тайник, куда я не мог бы проникнуть, сейчас ты показал бы мне, какую меру благодарности можно ждать от души, подобной твоей.
— Благодарности? Что я получил от тебя, чтобы благодарить? Обещания, только и всего. Где ты видел, чтобы благодарили за обещания?
— Я думал, что сделал больше, Цермай; когда мы встретились в Батавии, ты прозябал в самом постыдном разврате, твоя ненависть и планы мести улетучивались, как дым сигары, тлеющей у твоих ног. Я дал всему этому плоть, я научил тебя, как насытить первое и осуществить вторые, удовлетворив в то же время твое честолюбие; я подстегивал тебя, пока ты не решился променять плетеные скамьи кабака, где ты обитал, на престол Явы, алмаза Южного моря; я нашел для тебя стихию мятежа, который сделает тебя королем; я собрал вокруг тебя ядро армии недовольных, способной принести тебе славу и богатство; я указал тебе, как управлять этим подспудным движением до того дня, когда голландцы, почувствовав, как земля горит у них под ногами, тщетно попытаются бежать и погибнут среди руин, — значит, все это — ничто?
— Ничто, пока успех не подкрепит твоих обещаний; до сих пор это только грезы.
— Да, но грезы, которые мы сделаем явью.
Цермай сделал движение.
— Да, — продолжал Нунгал, — тебя удивляет, что, после того как ты попытался убить меня, я еще расположен тебе служить! Так вот, знай, что я глубоко презираю людей, пренебрегаю их чувствами по отношению ко мне, независимо от того, хороши они или дурны, сердечны или враждебны. Моим планам, моей ненависти, которую я, подобно тебе, возможно, питаю в сердце, отвечает желание уничтожить тех, кто правит и владеет этим островом. Так что всегда можешь рассчитывать на помощь Нунгала; но в то же время у меня есть свое дело, я непоколебимо иду к цели, исполненный сознанием собственной силы. Никогда не пытайся препятствовать ей, Цермай! Не то, несмотря на мое к тебе расположение, ты будешь разбит, как это стекло.
С этими словами Нунгал подтолкнул пальцем хрустальную чашу с шербетом — она скатилась со столика на пол и разлетелась на мелкие осколки.
— Поверь мне, Цермай, — продолжал Нунгал, — что не пустой каприз заставляет меня требовать эту бедайя; я так же равнодушен к чарам ее глаз, как к туману на вершинах гор, который принимает облик человека и в котором взгляд обольщенного путешественника старается узнать то высшее существо, кого человеческая гордыня поставила посредником между людьми и Богом. Нет, та, кого я прошу у тебя, кого добиваюсь, кого требую, — всего лишь колесико в том устройстве, над которым я тружусь, и пусть лучше погибнут все бедайя и рангуны острова, чем разрушится мое творение! Я повторяю тебе: вот половина кольца, Арроа принадлежит мне, я хочу ее.
— Бери ее, — ответил Цермай удрученным и смиренным тоном, странно контрастировавшим с той яростью, какую вызвала у него первая просьба Нунгала, и в особенности — с поступком, который он пытался совершить.
— Ну, будь мужчиной, — произнес малаец, — и не удостаивай это огорчение своей слезой: она стоит куда дороже.
И, поскольку Цермай дал этой слезе скатиться по щеке, не вытирая ее, Нунгал продолжил:
— Что ж, хоть твоя скорбь и недостойна мужчины, она тронула меня. Дочь Аргаленки понадобится мне для исполнения моих планов только через месяц; оставь ее у себя на это время, чтобы отдать затем тому, кто от моего имени передаст тебе эту половину кольца.
— Спасибо, Нунгал.
— И ты клянешься исполнить то, что я требую от тебя?
— Я клянусь тебе в этом.
— Хорошо! Впрочем, у меня есть порука в том, что ты сдержишь слово.
— Какая, Нунгал?
— Я знаю твои секреты, ты моих не знаешь. А если ты попытаешься сопротивляться, как сделал сегодня, колониальный совет будет осведомлен о том, что произошло у смертного одра твоего отца между доктором Базилиусом и тобой.
Цермай покачал головой и сказал:
— Поверь мне, Нунгал, мое слово весит больше твоих угроз. Каким образом ты проник в тайну, о которой упоминал, это секрет между тобой и адом; но он наверняка мало что тебе даст, потому что ты не сможешь подкрепить доказательствами твое сообщение.
— Ба! — насмешливо возразил Нунгал. — Доктор Базилиус был человеком благоразумным, осторожным и слишком расчетливым для того, чтобы дать пропасть такому бесценному сокровищу, как эта тайна. Ну, так встретимся через месяц, а сейчас простимся, Цермай!
Договорив, малаец выбежал сквозь завесу воды, закрывавшую грот.
В течение секунды вокруг него кипел водопад, покрывая его одежду брызгами пены; затем вода побежала по-прежнему и сквозь ее радужные оттенки Цермай мог видеть Нунгала, удалявшегося по одной из дорожек сада.
Но яванец, казалось, совершенно не заметил его ухода. Он был погружен в свои размышления.
— Каким образом доктор Базилиус мог оставить улики преступления, за которое сам расплатился бы вместе со мной? — произнес он наконец, говоря сам с собой. — А если он оставил доказательства, как попали они из рук ван ден Беека, наследника доктора, в руки Нунгала? Этот малаец способен на все! — помолчав минуту, продолжал он. — Но все равно, я должен увидеться с ван ден Бееком.
Затем лезвием криса он ударил в гонг, находившийся рядом с ним.
По этому сигналу вода перестала струиться как по волшебству.
Несколько капель, переливаясь, словно опалы, под лучами солнца, просочились между камнями и упали в опустевший бассейн; затем у входа в грот появился один из слуг Цермая.
— Приведи мою черную пантеру, — приказал Цермай.
Через несколько минут великолепный зверь, с бархатной шкурой, с глазами цвета топаза, гибкий и грациозный в движениях, словно котенок, но еще более грозный оттого, что притворялся кротким и ласковым, стремительно примчался к хозяину.
XVII ПРИПИСКА ДОКТОРА БАЗИЛИУСА
Солнце уже давно поднялось, когда на следующий день после ужина в Меестер Корнелисе Эусеб ван ден Беек вернулся на Вельтевреде.
Что бы ни говорил нотариус Маес о постыдности такого способа передвижения, но Эусеб пешком проделал несколько километров, отделявших его от города.
Слуга, отворивший ему дверь особняка, попятился в страхе: такое бледное и потрясенное лицо было у хозяина. Он спросил Эусеба, что с ним. Тот, не отвечая, направился к своему кабинету и, едва войдя в него, собрался там запереться.
— Но разве господин не хочет видеть госпожу? — мягко придержав дверь, спросил слуга.
— Не твое дело! — в ярости воскликнул Эусеб. — И кто дал тебе право обсуждать мои действия?
— Дело в том, что госпожа уже много раз спрашивала о господине.
— Хорошо, хорошо, позже!
Слуга продолжал стоять у двери, изумленно глядя на хозяина.
— Чего ты ждешь? — в бешенстве закричал Эусеб.
— Чтобы господин дал мне адрес врача, которого надо привести к госпоже; нам трудно выбрать его, но господин, раз он племянник покойного доктора Базилиуса, должен знать их.
Эусеб, в оцепенении выслушавший первые слова, внезапно очнулся и, схватив слугу за воротник, заорал:
— Никогда не смей произносить при мне этого гнусного имени, если не хочешь, чтобы тебя немедленно выгнали!
Затем, после паузы, во время которой, казалось, он должен был задохнуться, Эусеб продолжил:
— Что ты имел в виду, спросив о враче? Говори! Госпожа больна?
Эусеб произнес последние слова резко, что было совсем не в его привычках, особенно, когда речь шла о его жене.
Если имя Базилиуса напоминало о печальных событиях прошлого и страхе перед будущим, то имя Эстер связывалось для него лишь с долгом.
Значит, его совесть была не вполне чиста, раз мысль об этом долге вызывала раскаяние?
— Сударь, — лепетал совершенно растерявшийся слуга, — дело в том, что это, наверное, произойдет сегодня.
Эти слова развеяли все мысли, заставлявшие Эусеба опасаться встречи с женой; он бросился по лестнице, вбежал в спальню Эстер и нашел жену в постели, улыбающуюся, несмотря на страдания.
— Спасибо, друг мой! — воскликнула молодая женщина, раскрывая мужу объятия. — Спасибо тебе! Я бы так расстроилась, если бы первый взгляд твоего ребенка был обращен не к тебе.
Эусеб, позабыв обо всем, осыпал жену нежнейшими поцелуями.
Любовно поговорив несколько минута о ребенке, который вскоре должен был родиться, Эстер сказала мужу:
— Как поздно ты вернулся! Это первый раз, Эусеб, когда ты всю ночь провел вдали от меня.
Эусеб, до этого бледный, сделался багровым; он опустил глаза под спокойным и ясным взглядом жены.
— Этот гадкий господин Маес насильно утащил тебя с собой, — продолжала она. — Но я не сержусь на него, потому что сама просила его об этом.
— Ты, Эстер! Это ты просила нотариуса повести меня туда, где мы были?
— Конечно; я надеялась, что веселость этого толстяка сообщится тебе, его распорядок дня прогонит с твоего лба заботы и ты поймешь наконец: заполненный делами день должен завершаться удовольствиями.
— Эстер! — ответил Эусеб. — Ты совершила большую ошибку! Дай Бог, чтобы тебе не пришлось когда-нибудь сожалеть о ней!
— Ах, Боже мой, ты пугаешь меня! Что случилось? Но, в самом деле, радость оттого, что вновь тебя вижу, помешала мне заметить, как ты бледен, в каком беспорядке твоя одежда. Говори, говори, мой Эусеб! Я так люблю тебя, что не стану ревновать, лишь бы ты был счастлив.
Эусеб отступил перед откровенностью признания.
Ложь, к которой ему предстояло прибегнуть, усилила его недовольство собой.
Он не мог излить это недовольство, не выдав себя, и обрушился на Эстер:
— Вот они, женщины! — вспылил он. — Ничего не замечают, кроме своей любви, и во всем видят для нее угрозу!
— Эусеб, ты никогда так не говорил со мной! — воскликнула Эстер.
— Зачем произносить слово "ревность", такое смешное, по-моему, и глупое?
— Но, друг мой, я, напротив, уверяла тебя, что не ревнива.
— Ну да! Это только предлог, чтобы заговорить о ревности.
— В самом деле, друг мой, я не узнаю тебя, и, если бы всецело не доверяла тебе, твои речи, к каким я совершенно не привыкла, могли бы вызвать у меня подозрения.
— Какие подозрения? Я требую, чтобы ты объяснила мне! — вне себя кричал Эусеб. — Разве то, что я провел ночь за делами и что этот мерзкий Маес втянул меня в невыгодную сделку, дает тебе право надоедать мне твоими несправедливыми предположениями?
— Да что я такого предполагала, Господи! — спросила несчастная женщина, и, увидев, что беспокойство ее мужа не уменьшается, а усиливается, постаралась переменить разговор. — Ну, Эусеб, — продолжала она, пытаясь улыбнуться сквозь слезы, медленно катившиеся по ее щекам, — ты прекрасно знаешь, что я полностью, совершенно полагаюсь на твои слова, что верю в тебя, как веруют в Бога; если ты говоришь: "Я сделал то-то, был там-то" — я всегда считаю, что так оно и есть, клянусь ребенком, который заново свяжет нас. Никогда мне и в голову не приходила мысль сомневаться в правдивости того, что ты говорил мне. Ну, Эусеб, прости, если я чем-то обидела тебя! — закончила Эстер, подставив мужу белый чистый лоб, увенчанный белокурыми волосами, которые шелковистыми локонами выбивались из-под чепчика.
Эусеб оставался по-прежнему мрачным и надутым.
— Хочешь ли ты, — снова заговорила Эстер, — чтобы я дала тебе новое доказательство моего к тебе доверия, хочешь ты этого?
— Говори, — ответил молодой человек, взяв жену за руку.
— Ну так вот: несмотря на настояния метра Маеса, я воспротивилась тому, чтобы он сообщил тебе содержание оскорбительной приписки, которую сделал наш дядя к своему завещанию.
— Приписка! Приписка в завещании существует! — растерянно воскликнул Эусеб. — Господи, я в этом хотел усомниться! Раз она существует, значит, то, что произошло этой ночью, не сон, как я старался в том уверить себя!.. Заклинатель змей, эта странная галлюцинация, когда я видел Эстер умирающей, рангуна, сны… все это было реальным и Базилиус одержал надо мной первую победу!
Эусеб кричал в исступлении, и Эстер, воскликнув: "Боже мой, он сошел с ума!" — уронила бледную головку на подушку.
Вид жены, оказавшейся в опасности, привел Эусеба в чувство; он бросился к постели Эстер, целовал ее холодные руки, пытался помочь ей и, не преуспев в этом, позвонил служанкам, тотчас прибежавшим на зов.
За врачом послали, и он явился. В двух словах Эусеб объяснил ему происшедшее. Доктор объявил, что состояние Эстер весьма тяжелое, что сильное потрясение, которое она, вероятно, испытала, непременно вызовет кризис, в результате чего мать или дитя в ее утробе, а возможно, и оба, могут лишиться жизни.
Стремясь уберечь Эстер от потрясения, которое она непременно испытала бы, если, придя в себя, увидела бы мужа у своего изголовья, он настоял на том, чтобы Эусеб позволил ему самому ухаживать за больной.
Эусеб покинул комнату в отчаянии, но черпая силы в самом избытке скорби.
На пороге его встретил слуга и объявил, что некий господин ожидает его в кабинете и настойчиво требует встречи.
Вначале Эусеб хотел ответить, что никого не желает видеть; затем, подумав, что именно дела помогут ему прогнать невыносимую тревогу ожидания, спустился.
Этим господином оказался наш старый знакомый, нотариус Маес.
Напрасно было искать на лице нотариуса следы вчерашней оргии, так глубоко отпечатавшейся на чертах Эусеба.
Метр Маес был розовым, свежим, спокойным и улыбающимся; на нем был безукоризненной белизны галстук; ни на его черной одежде, ни на лице его ни одна складка не выдавала его вчерашних вакхических и хореографических излишеств в Меестер Корнелисе.
Увидев Эусеба, он протянул ему руку, сопроводив этот жест почтительным приветствием.
Он отделял клиента от соучастника оргий.
— Что вам здесь нужно? — почти угрожающе воскликнул Эусеб. — Разве вам мало глупостей, какие вы заставили меня совершить этой ночью?
— Я позволю себе заметить моему дорогому господину ван ден Бееку, — ответил метр Маес любезно и вместе с тем важно, — что я имею честь быть его нотариусом и явился сюда по его делам, а не по своим. Но если мой клиент спрашивает моего мнения о том, что он изволил назвать глупостями этой ночи, признаюсь господину ван ден Бееку: их было много, слишком много!
Произнося эти слова, метр Маес похлопывал ладонью одной руки по сложенному вчетверо листку гербовой бумаги, который он держал в другой.
— Да, — произнес Эусеб. — И разве не вправе я обвинить вас в сообщничестве, в том, что вы помогали расставить мне ловушку, вы, кого я должен был считать своим другом?
— Я и был им, господин ван ден Беек. Если в этот час я являюсь всего лишь вашим нотариусом, то тогда, когда происходили упоминаемые вами события, меня связывали с вами узы подлинной дружбы.
— Хороша же ваша дружба! Она заключается в том, что вы выдаете меня связанным по рукам и ногам страшному человеку, который меня преследует.
— Правду сказать, господин ван ден Беек, я перестал понимать вас.
— Если вы не были его сообщником, почему же вы ушли без меня из Меестер Корнелиса?
— Господин ван ден Беек, — почти торжественно начал метр Маес, — нотариус Маес никогда не имел привычки осведомляться о действиях и поступках частного лица — господина Маеса, и я призываю вас присоединиться к этой благоразумной сдержанности; мы только выиграем оттого, что не станем примешивать серьезные дела к тем, которые таковыми не являются. Если вы в самом деле хотите высказать господину Маесу то ужасное обвинение, которое только что слетело с ваших губ, идите к нему, он вам ответит; нотариусу достоинство не позволяет ответить вам; впрочем, он действительно ничего не помнит о том, на что вы ссылаетесь.
— Охотно верю, вы были мертвецки пьяны!
Метр Маес пропустил мимо ушей это замечание, он слегка прикрыл веками выпуклые глаза, как случается с человеком, смакующим воспоминание о наслаждении, только и всего.
— Перед вами только ваш нотариус, который говорит вам, своему клиенту: "Как мне поступить с этим документом, по которому от вас требуют шестьсот тысяч флоринов, в соответствии с припиской, добавленной к завещанию доктора Базилиуса, вашего дяди, в пользу девицы Джейн Трумпер, упоминаемой в указанной приписке?"
Эусеб, не отвечая, бросился на диван и закрыл лицо руками.
— Этот документ был доставлен в мою контору, как сказал направивший его судебный исполнитель, для того чтобы избежать огласки и примирить необходимость судебных мер с предосторожностями, каких требует состояние госпожи ван ден Беек; вот, посмотрите.
Нотариус протянул бумагу Эусебу; тот издал вздох, напоминавший рыдание, взял документ и смял его в руках.
— Простите! — вскричал метр Маес. — Но эту бумагу нельзя рвать; подумайте, ведь мы, возможно, будем вынуждены показать ее госпоже ван ден Беек, поскольку наследницей является она, а не вы.
Бледное лицо Эусеба стало совершенно бескровным.
— Сообщить Эстер обо всем этом, сударь? Что же, вы хотите убить ее? Не пытайтесь этого сделать, если ваша жизнь вам дорога!
Несмотря на то что Эусеб сопроводил эти слова грозным взглядом, нотариус нимало не смутился; он уселся рядом со своим клиентом и безмятежно втянул носом понюшку табаку.
— Ну, — продолжал он, кончиками пальцев стряхивая несколько крошек, запачкавших его ослепительную сорочку, — теперь мне нужна составленная по всем правилам доверенность, которую я поручаю вам под каким-нибудь предлогом получить от госпожи ван ден Беек; затем мы вместе рассмотрим возможность отказать истице в ее требованиях; мы поищем какое-нибудь нарушение формы в документе, упоминаемом в требовании об уплате; мы заведем тяжбу и, — если только государство не вмешается на основании статьи завещания покойного Базилиуса, назначающей в случае возникновения спора его наследником правительство, — что ж, возможно, нам удастся пощадить и чувства госпожи ван ден Беек, и ее кошелек, в котором изъятие суммы в шестьсот тысяч флоринов неминуемо проделает значительную брешь.
Странная вещь! Эусеб, который, пока безмятежно пользовался богатством доктора Базилиуса, нимало его не ценил, много раз пытался избавиться от него, внезапно, но очень объяснимо, переменил мнение и ощутил потрясение, когда увидел, что помимо его воли у него хотят отнять значительную часть этого состояния.
Золото подобно женщинам: только тогда, когда они от вас уходят, можно понять, любите ли вы их и как сильно любите.
— Но это невозможно, чтобы меня заставили выплатить такую сумму, — в волнении расхаживая по комнате, сказал Эусеб. — С помощью не знаю какого колдовства они сделали со мной что хотели.
— Я думаю, что, вы, дорогой господин ван ден Беек, как многие мои знакомые, зачерпнули это колдовство со дна бутылки. Какого черта! Здесь есть и ваша вина! Вы не привыкли пить, и это подвело вас.
— Нет, нет, я докажу, что стал жертвой дьявольских происков, что те, кто преследует меня, — существа из потустороннего мира и что сила и добродетель не могут победить злых чар.
— Господин ван ден Беек, — возразил нотариус. — Если вы станете говорить нашим славным голландским судьям о колдовстве и злых чарах, боюсь, вы совершенно испортите дело. Нам же нужна хорошая опора, на которой мы сможем основывать нашу защиту, а это легче найти в пандемониуме крючкотворства, чем в обрядах оккультных наук. Но, поскольку, как мне кажется, вы не расположены исполнить требование девицы Джейн Трумпер, я не могу скрыть от вас, что процесс вызовет огромный скандал.
Это замечание привело Эусеба в отчаяние: как ни огорчала его возможность утраты шестисот тысяч флоринов, он в первую очередь думал об Эстер и не мог без ужаса представить себе, какое горе причинит ей.
Его печаль была такой глубокой, что обезоружила метра Маеса, строго исполнявшего свои обязанности.
— Ну, дорогой господин ван ден Беек, не надо так расстраиваться, какого черта! — сказал он. — Многие из тех, кто станет осуждать вас, поверьте мне, пожалеют, что не были на вашем месте. Испугавшись этих проклятых змей, я убежал и вовсе не слышал признания, упомянутого в документе.
Здесь метр Маес приступил к бесконечному изложению общих мест, к каким всегда сводятся запоздалые упреки; он излил на Эусеба целую литанию несвоевременных замечаний, подобно тому деревенскому учителю, что таким же образом отвечал на отчаянные призывы тонущего ребенка. Однако это похвальное красноречие доказало Эусебу добросовестность нотариуса, и он понял, что порицания заслуживала лишь легкомысленность поведения метра Маеса и его неразборчивость в знакомствах, — то есть свойства, о которых ван ден Беек знал и проявлению которых, увы, напрасно не смог воспротивиться.
В заключение своей речи нотариус, дружески взяв клиента за руку, сказал ему:
— Ну же, одна строчка, написанная на хорошей гербовой бумаге, больше продвинет наши дела, чем все ваши вздохи, даже такие мощные, что могли бы гнать трехмачтовое судно от Батавии до Амстердама. Расскажите мне все, ничего не скрывая; нотариус, вместе с врачом и священником, входит в число трех исповедников, необходимых человеку в жизни.
Эусеб колебался, стоит ли полностью открыться нотариусу и рассказать ему обо всем, что произошло с того дня, как доктор Базилиус вошел к нему в дом; несколько минут он пребывал в молчании и нерешительности.
С одной стороны, он, как все несчастные люди, испытывал потребность излить душу и облегчить этим тяжесть своего горя; с другой — ему казалось, что, поверив чужому человеку свои тревоги, он облечет их в плоть, даст жизнь тому, что сам мгновениями хотел считать только призраком; ему претило постороннее свидетельство существования Базилиуса, он надеялся, отвергая реальность, убить воспоминание.
В результате этой борьбы и пережитого потрясения, Эусеб утратил присущую ему твердость характера; он больше не чувствовал в себе, как накануне, решимости искать сведений о странном человеке, которому был обязан своим богатством; он начал терять неколебимое мужество, до сих пор позволявшее ему смотреть опасности в лицо.
Наконец, насмешливая фраза, которой нотариус отозвался на его слова о злых чарах и колдовстве, внушала ему опасения, что метр Маес сочтет этот странный рассказ результатом умственного расстройства, и это соображение, перевесив все остальные, остановило его.
Он ограничился тем, что рассказал о тех происшествиях ночи в Меестер Корнелисе, какие мог вспомнить.
— Здесь есть, — сказал метр Майес, — только одна небольшая западня, к устройству которой может оказаться причастным мой друг Цермай.
— Цермай? Но Цермай богат!
Нотариус пожал плечами.
— Никогда нельзя быть достаточно богатым, если хочешь устроить для себя на земле рай Магомета.
— Но он был со мною крайне предупредителен и любезен.
— Еще одно подтверждение. Если бы у меня оставались сомнения, то ваши слова рассеяли бы их. У Цермая не было никаких оснований так кидаться вам на шею. Это был простой расчет знатного туземца — он, должно быть, подмешал вам в вино какой-то наркотик. Вот видите, если здесь и была порча, — но не в том смысле, какой вы в это вкладываете, — то, по крайней мере, о колдовстве речь не идет.
Заключение нотариуса принесло Эусебу облегчение.
Расстроившись из-за необходимости выбора между скандальным процессом, огорчением, какое он принесет Эстер, и утратой трети состояния, он утешался тем, что влияние доктора Базилиуса здесь ни при чем, что он оказался жертвой человеческой алчности, а не злобности демона.
Эта мысль успокоила его страхи.
Она позволила ему надеяться на то, что он легко сможет сохранить две другие трети состояния, которым ничто не угрожает.
С большей ясностью в мыслях он рассмотрел вместе с метром Маесом те возможности, которые оставляло ему судебное дело.
Нотариус придерживался мнения, что, прежде чем предъявлять иск, следует рассказать обо всем Эстер, без ее помощи и помимо нее трудно было бы вести процесс, где она окажется одной из сторон.
Он посоветовал Эусебу положиться на мягкость и снисходительность женщины, всецело ему преданной, и объяснил, что та незначительная ошибка, какую ему придется признать, не является виной, поскольку совершилось помимо его воли.
Эусеб ван ден Беек оставался непреклонным; необходимость признаться в своей слабости оскорбляла его гордость, и, хотя он только что убедился в человеческом непостоянстве, его вера в себя (несмотря на то что она и погубила его) оставалась такой же абсолютной. Как мы уже говорили, метру Маесу не слишком хотелось предавать огласке это дело, но он полагал свой долг в том, чтобы с истинно спартанской самоотверженностью сопротивляться решению клиента.
Все было напрасно; необходимость предварительного признания склонила Эусеба к жертве, тяжелой для его сердца, в котором уже начала пробиваться скупость.
Он проводил метра Маеса до его дома и со вздохом подписал документы, необходимые для выплаты суммы, предназначенной для выполнения одной из статей приписки в завещании доктора Базилиуса.
Часть вторая
XVIII ИНДИЙСКИЙ ДОКТОР
Эусеб вернулся домой совершенно удрученным.
Он сильно беспокоился об Эстер, которую оставил в тяжелом состоянии, но, к большому удивлению, ему не удавалось сосредоточить непокорные мысли на той, кого он любил, и, отгоняя печальные предчувствия, терзавшие его мозг подобно черным призракам, он размышлял о финансовых возможностях заделать огромную прореху, образовавшуюся в его богатстве, и заглушал подсчетами тревоги сердца.
Напрасно он старался отделаться от этой постыдной озабоченности: казалось, она росла вместе с теми усилиями, что он предпринимал против нее, и в воображении молодого человека заняла место у изголовья постели умирающей жены.
Как у большей части богатых особняков на Вельтевреде, перед домом Эусеба был двор с посыпанными песком дорожками и беседкой, стоявшей среди цветущих деревьев. На полу беседки Эусеб увидел лежавшего там человека.
Лицо этого человека было слишком выразительным, чтобы можно было забыть его, однажды увидев.
Эусеб узнал Харруша.
Он подошел поближе и пнул его ногой — не для того, чтобы разбудить, но желая вырвать из своего рода экстатического состояния, в каком тот постоянно пребывал.
— Чего ты хочешь? — спросил заклинателя змей Эусеб.
— С каких это пор тот, кто звал, спрашивает того, кто явился: "Зачем ты пришел?"
Эусеб вспомнил о встрече, назначенной им заклинателю змей; но, как мы уже сказали, ему тяжело было говорить о Базилиусе, и это нежелание еще усилилось с тех пор, как он убедился (или думал, что убедился) в том, что его злой гений не подстроил происшествие в Меестер Корнелисе.
— Сейчас я не могу выслушать тебя, — ответил он Харрушу. — Я поговорю с тобой в другой раз.
— Дорожная пыль иссушила гортань Харруша, камни изранили ему ноги; неужели ты заставишь его вновь пуститься в дорогу в час, когда тьма вот-вот окутает землю, и он не сможет убежать, если встретит тигра, не сможет призвать на помощь своего Бога, если зверь нападет на него? Позволь мне провести ночь в прихожей твоего дворца; вели дать мне немного воды; завтра я избавлю тебя от своего присутствия.
Эусебу было отвратительно все, что напоминало Меестер Корнелис, и, хотя фокусник, чьи притчи-советы пришли в ту минуту ему на память, никак не мог быть заподозренным в причастности к заговору, какой Эусеб приписывал Цермаю, присутствие Харруша было ему неприятно. И все же он не мог ответить отказом на столь скромную просьбу.
— Ты прав, — ответил Эусеб. — И я не только прикажу позаботиться о тебе, но и пришлю обещанный подарок.
Харруш молча вернулся на прежнее место на полу беседки; казалось, он в самом деле смертельно устал. Эусеб вышел и торопливо поднялся в спальню Эстер.
Там царил беспорядок, слышались крики и рыдания; состояние больной не только не улучшалось, а, напротив, ухудшалось и стало таким тяжелым, что доктор объявил служанкам: он не отвечает за жизнь их госпожи.
Несмотря на то что он прибегал к возбуждающим средствам, Эстер все еще не пришла в сознание.
Невозможно описать отчаяние Эусеба, увидевшего свою возлюбленную в таком состоянии.
Купив ей жизнь ценой покоя своего собственного существования, теперь именно он станет причиной ее смерти!
Он спрашивал себя, не настала ли предсказанная доктором Базилиусом развязка, конец его вечной любви к Эстер. Он обращался к своей совести, перебирал воспоминания, терзал память, добиваясь ответа: не мог ли он, совершая проклятую ошибку, каким-то образом содействовать исполнению чудовищного замысла, который отнимет у него ту, кого он чудом сохранил. И находил в своем сердце лишь безусловную любовь, лишь полную преданность; но он обвинял и любовь и преданность, находя их не такими беспредельными, как ему того хотелось; он разражался рыданиями, прерывая их бранью по адресу сверхъестественного существа, чья зловещая рука чувствовалась во всем, что с ним случилось.
Так прошел весь вечер.
Наступила ночь; пульс Эстер все слабел.
Опечаленный доктор призвал Эусеба быть мужественным и объявил, что всякая надежда спасти молодую женщину потеряна, что его долг — сосредоточить все усилия на спасении жизни ребенка.
Охваченный скорбью, Эусеб отклонил эту крайнюю меру, и врач, ничего не добившись, покинул больную.
Видя, что он уходит, и решив, что все кончено, Эусеб кинулся к жене и поклялся умереть вместе с ней.
В эту минуту дверь отворилась и на пороге показался Харруш.
При виде его странного темного лица, обрамленного тюрбаном из грубого серого полотна, его фигуры в длинном коричневатом рубище служанки Эстер в ужасе закричали.
Эусеб поднял голову, но он был в таком отчаянии, что не удивился и не упрекнул огнепоклонника за его дерзость; ему казалось совершенно естественным, что весь мир вместе с ним облекся в траур; впрочем, большое горе уравнивает людей, они принимают слезы бедняков как драгоценный дар.
Но Харруш пришел вовсе не для того, чтобы оплакивать Эстер.
Он направился прямо к ее постели и легонько дотронулся пальцем до Эусеба.
— Что тебе? — спросил тот.
Вместо ответа Харруш показал на больную рукой.
Эусеб не понял его жеста; позади Харруша ему померещился призрак Базилиуса.
— Отнять ее у меня?… Никогда! — закричал он. — Живая или мертвая, эта женщина принадлежит мне!
— Я не собираюсь отнимать ее у вас, я пришел сохранить вам ее.
— Ты? — с презрительным удивлением переспросил Эусеб.
— Да, я, жалкая трава, которую прохожие попирают ногами, драгоценнее золота, подбираемого ими за его блеск.
— Значит, теперь ты, — Эусеб зловеще рассмеялся, — теперь ты назначишь цену за услугу, какую окажешь мне. Ну, чего ты хочешь? Говори, но будь поскромнее в своих желаниях, потому что, если тебе нужна моя жизнь, я не смогу дать ее тебе, я уже отдал ее твоему другу Базилиусу.
— Тот, кого вы называете Базилиусом, вовсе не был моим другом. Я не прошу никакого вознаграждения за спасение вашей жены; преступно назначать цену человеческой жизни: разве солнце, которому мы обязаны существованием, торгует своими лучами?
— Нет, — уныло отвечал Эусеб. — Довольно с меня чар и колдовства! Несчастье пришло в этот дом через вмешательство демона; пусть оно уйдет отсюда вместе с нашими душами, ее и моей; мне все равно, пусть и я умру, но у меня нет больше желания прибегать к роковому искусству злых духов и просить их совершить для меня еще одно чудо.
— Отчего вы не всегда были так рассудительны, так смиренны? Но успокойтесь, я не из тех, кто отталкивает соль, символ мудрости и бессмертия; мое искусство принадлежит этому миру, и, должен ли я творить добро или совершать зло, мне его довольно, — прибавил Харруш, бросив на Эусеба взгляд, полный столь плохо скрытой ненависти, что тот почувствовал, как усиливается его отвращение к заклинателю змей.
— Нет, — сказал он. — Я не хочу пользоваться твоими услугами, уходи.
— Ты не имеешь права сказать мне: "Уйди".
— Почему?
— Человек срезает стебель мантеги, оставляющей после себя только легкий пух, уносимый ветром, — пусть будет так, Бог создал ее роскошную окраску лишь для того, чтобы на мгновение порадовать твои глаза, развлечь тебя; но срубить банановое дерево, когда ствол его клонится под тяжестью желтеющих гроздьев, готовых стать вкусными и полезными плодами, — преступление.
Точность этого образа поразила Эусеба.
Приблизились служанки Эстер; ужас, внушенный им появлением Харруша, уже рассеялся.
Они увидели в нем всего-навсего одного из туземных лекарей, популярных на Яве даже среди самых богатых колонистов, и, будучи на его стороне, стали упрашивать Эусеба, чтобы он доверил ему лечение Эстер, и подкрепляли свои мольбы самыми невероятными примерами.
— Хорошо, — согласился Эусеб. — Но, поскольку я не желаю, чтобы этот человек для ее спасения воспользовался другими снадобьями, кроме тех, что поставляет наука или природа, он будет действовать лишь в присутствии европейского врача.
К изумлению женщин, знавших, как неохотно дикари открывают свои секреты, Харруш примирился с этим требованием.
Одна из служанок побежала за голландским врачом, и тот, пожав плечами, принял сделанное ему предложение; впрочем, он находил состояние больной безнадежным и решил, что можно позволить эту бесполезную попытку спасти ее.
Харруш во время этих предварительных переговоров сохранял достойный и холодный вид; он составил список лекарственных растений, и их поспешили доставить.
Он не требовал, чтобы ему позволили самому обработать травы, он давал указания служанкам; те приготовили питье и силой влили его сквозь сжатые зубы несчастной женщины. Убедившись, что она приняла достаточно снадобья, огнепоклонник спокойно и невозмутимо покинул комнату, как человек, уверенный в успехе, и вернулся на прежнее место в беседке.
К великой радости Эусеба и крайнему изумлению врача, эффект лекарственных трав был мгновенным и решительным: едва начали действовать первые капли целебного напитка, как глаза больной открылись и на ее лице не осталось следа страшного потрясения, только что испытанного ею. Она искала взглядом Эусеба и протягивала к нему руки.
Признаться ли? Эусеб, приняв с глубокой радостью заверения врача, что жизнь его жены совершенно вне опасности, бросил холодный и почти безразличный взгляд на ребенка, так дорого ему доставшегося. Теперь, когда он получил его, ему казалось что никогда ребенок не даст того счастья, какого он ожидал, строя в течение девяти месяцев планы будущего.
До своего пробуждения Эстер оставалась спокойной, хотя была бледна и улыбалась во сне. Окончательно уверившись в том, что злополучная вчерашняя сцена не будет иметь никаких досадных последствий, что ничто не мешает выздоровлению жены, Эусеб, когда возбуждение его улеглось, вернулся в то самое состояние, в каком накануне покинул нотариуса. Он вновь был поглощен прежними заботами и теперь, видя Эстер перед собой, держа ее руку в своей, больше не думал об опасностях, каким она подверглась, о новом чуде, сохранившем ей жизнь; он был занят огромным убытком, с которым вынужден был смириться, и рассматривал представлявшиеся его уму возможности восполнить ее.
Он приказал подать лошадей, взял шляпу и, не дав жене, только о нем и думавшей, хоть что-то сказать, отправился в свою контору в Батавии; он и не поинтересовался, куда делся Харруш.
Впрочем, ничто не могло заставить его пожалеть о своем решении, поскольку в первый раз его дела представились ему в благоприятном свете; в первый раз ему удалось со значительной прибылью совершить сделки, которые еще вчера, казалось, могли принести лишь отрицательный результат.
Он вернулся домой очень веселым; впервые он узнал опьянение успехом, овладевающее самыми сильными натурами, смущающее самые уравновешенные умы, тревожащее самые праведные сердца.
Эстер тоже была весела; но, увидев мужа, молодая женщина притворилась, будто дуется, что придало еще большее очарование ее смеющемуся личику.
— Друг мой, — произнесла она, — у меня к тебе много упреков.
— Они будут желанными; я испытываю потребность в огорчении, меня пугает радость, вызванная твоим счастливым разрешением, — ответил Эусеб, совершенно забывая присовокупить к нежданному выздоровлению жены удачную продажу большой партии кофе. — Говори.
— О! У меня, если ты не возражаешь, имеется длинный список; прежде всего скажу тебе, что нахожу очень дурным бросить меня в такой день, как сегодня.
— Каюсь, — сказал Эусеб, запечатлев на лбу Эстер поцелуй.
— Затем, — продолжала она, — как же тебе не пришло в голову привести ко мне этого бедного человека, который своими травами, тем, что вы называете народными средствами, не только спас мне жизнь — я дорожу ею лишь ради тебя, — но и дал ее нашему дорогому ангелочку?
— В самом деле, я совершенно забыл о бедняге Харруше! Где он?
— Он ушел.
— Ушел прежде чем я успел поблагодарить его, вознаградить за оказанную услугу и бескорыстие так, как он того заслуживал?
— Пока тебя не было, мне рассказали о том, что произошло; я подумала, что могу взять заботу о благодарности на себя, и велела позвать его.
— Сюда? — покраснев, спросил Эусеб; он испугался, что заклинатель змей мог рассказать Эстер о первой их встрече. — И что он тебе ответил?
— На мои изъявления благодарности — почти ничего, и решительное "нет", когда я заговорила о вознаграждении, умоляя его принять.
— Странно.
— Тем более странно, что он не захотел ничего из той пищи, что предложили ему слуги, выпил лишь немного воды и отказался покинуть беседку, где обосновался, чтобы спать под нашим кровом.
— Я найду его, Эстер, будь спокойна, и, надеюсь, нам удастся доказать ему нашу признательность.
— Но я не закончила, — продолжала молодая женщина.
— Что еще? — забеспокоился Эусеб.
— Вот что: я дарю вам самое прелестное маленькое существо, о каком может мечтать отец, ангелочка такого же белокурого, свежего, розового, такого же очаровательно пухленького и так же усеянного ямочками, как те, что окружают Пресвятую Деву, чей образ помещен в главном алтаре той церкви, где нас обвенчали, а этот жестокий и бесчеловечный отец сразу же оставил умирать от голода чудесный подарок, что я ему сделала.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Увы! — отвечала молодая женщина, по щеке которой тихо покатились две слезинки. — Ты сам знаешь, Господь дважды отказал мне в высшем счастье быть матерью: по мнению врачей, я не должна питать свое дитя собственной кровью и жизнью, и мне приказано уступить это сладкое преимущество чужой женщине!
— Ах, Боже мой! В самом деле, кормилица! — воскликнул Эусеб. — Господи! Прости меня, но я был так взволнован, до того потрясен сегодня утром, что уже не помнил себя.
— Вы прощены, — ответила Эстер. — И тем более прощены, что ваше безразличие совершенно не мешало нам обзавестись самой очаровательной в мире кормилицей.
— Ах так! И кто же позаботился о том, чтобы найти ее для нас?
— Кто! Да наш добрый гений.
— Не понимаю тебя.
— И все же я достаточно ясно выражаюсь; разве не стал для нас добрым гением тот бедный человек, который в своей простоте оказался более сведущим, чем врач, — одним словом, индиец.
— Харруш! Харруш привел тебе кормилицу? — изумился Эусеб. — Но надо же знать, что это за женщина, выяснить, где он ее нашел, откуда она, кто она!
— Уж не думаете ли вы, что бедняга, выхаживавший меня, захочет отравить нашего ребенка? Врач осмотрел ее и полностью одобрил этот выбор, так что я совершенно не боюсь вашего неодобрения; взгляните на нее, если хотите.
С этими словами г-жа ван ден Беек отодвинула одну из занавесок, окружавших ее постель, и показала ему молодую женщину, сидевшую с ребенком на руках и утопавшую в складках камки.
Это была негритянка; необычная ее красота поражала, хотя ее кожа цветом и глянцем напоминала эбеновое дерево; на вид ей было не больше шестнадцати лет.
Овал ее лица был совершенным; орлиный нос, тонкий у изгиба, слегка расширялся к ноздрям, вырезанным, как у породистой лошади, и таким же красноватым; рот несколько круглый, но алые, словно цветок граната, губы не портили правильности ее черт, будто позаимствованных у греческой статуи.
Раннее материнство не отняло гибкости и изящества у ее стана.
Голова ее была покрыта сеткой из золотых и серебряных монеток и коралловых бусин, сквозь которую видны были ее слегка вьющиеся волосы, блестящие, черные как смоль;
одежду ее составлял саронг из белого в красных цветах батиста.
Эусеб остался равнодушным к ее появлению.
Она ничего не напоминала ему, не вызывала никаких опасений.
Секрет его спокойствия был в том, что утром он удачно заключил несколько жалких сделок.
Денежные успехи отличаются тем, что тот человек, кому они достались, немедленно обретает полное доверие к тому, что зовет своей звездой, и, каким бы опытным он ни был, до нового переворота в судьбе верит в собственную неуязвимость.
Ему показалось несколько странным, что у Харруша, заклинателя змей, такие знакомства; но ему сказали, что юная негритянка принадлежала богатой даме из колонии и огнепоклонник купил у нее девушку от имени Эстер; поскольку его жену она устраивала, поскольку доктор одобрил этот выбор и цена за нее была не слишком высокой, он не стал возражать, позволил ей войти в число домочадцев и не обращал на нее более никакого внимания.
XIX ТВЕРДОСТЬ ВЕРЫ
Перед тем как вновь в нашей истории появится Аргаленка, мы испытываем необходимость сказать несколько слов о его происхождении.
Невозможно назвать точную дату, когда яванцы (некоторые ученые считают их потомками египетских колонистов, изгнанных из своей страны) получили из Индостана веру в Брахму и Будду; местные рукописи говорят лишь, что к 76 году нашей эры религия жителей большого полуострова Индостан стала и религией островитян Явы.
Около 1400 года Мулана-Ибрагим, знаменитый арабский шейх, узнав, что многочисленное население обширной страны принадлежит к идолопоклонникам, решил обратить их.
Скудость средств не позволяла ему воспользоваться способами, восхваляемыми Пророком, но он решил, что с Божьей помощью пара прекрасных глаз не меньше поможет ему возвыситься, чем лезвие самой острой сабли. У него была дочь удивительной красоты; вместе с ней и довольно большим числом слуг он отплыл на корабле и высадился в Диза-Леране, где немедленно построил мечеть и вскоре обратил в свою веру множество людей.
Но цель Мулана-Ибрагима не была достигнута; он хотел приобщить к культу истинного Бога одного из властителей острова, надеясь, что его примеру последует весь его народ; он послал сына к королю Маджапахита с сообщением о своем приезде и сам отправился в резиденцию яванского монарха.
Король Маджапахита вышел навстречу шейху и принял его с великими почестями; но, поскольку этот последний преподнес властителю один-единственный гранат в простой корзине, король оскорбился скудостью дара и преисполнился глубоким презрением к человеку, способному подарить другу лишь такой заурядный для яванской земли плод.
Мулана-Ибрагим увидел, что происходит в душе государя, простился с ним и вернулся в Диза-Леран.
Едва он уехал, как король Маджапахита почувствовал жесточайшую головную боль; машинально собрался он съесть лежавший подле него гранат, но с удивлением обнаружил под его кожурой вместо сочных прохладных зерен великолепные рубины. Он послал за Муланой-Ибрагимом, умоляя его вернуться, но смирение, являющееся одной из христианских добродетелей, напротив, мало ценится мусульманами, и новый миссионер, оскорбленный приемом, наотрез отказался повернуть назад.
Прибыв в Диза-Леран, Мулана-Ибрагим застал свою дочь больной; через несколько дней, несмотря на заботы, какими он ее окружил, она умерла у него на руках.
Узнав о горе, постигшем несчастного отца, король Маджапахита отправился к нему.
Уже три дня юная арабка лежала бледная и холодная на своем ложе, три дня ангел смерти простирал свои темные крылья над прекрасным телом; но королю так расхваливали эту удивительную красавицу, что, едва сказав старику несколько слов соболезнования, он захотел взглянуть на то, что оставалось от нее на земле.
Его настояниям уступили, и, когда одна из служанок юной мусульманки приподняла покрывало с тела, король Маджапахита, ослепленный, несколько минут пребывал в безмолвном восхищении; затем он упал на колени и вслух стал просить Брахму позволить душе девушки вновь поселиться в прекрасном теле.
— Перестань взывать к своим богам из золота и слоновой кости: они не услышат тебя; один только мой бог может исполнить твою просьбу, — сказал ему Мулана-Ибрагим.
Но монарх испытал небесное воздействие и с жаром воззвал к богу правоверных и к Магомету, пророку его; к большому удивлению присутствующих, темные круги около глаз умершей постепенно исчезли, губы порозовели, на щеках появился легкий румянец, длинные загнутые ресницы медленно поднялись, открыв ее огромные черные глаза, которые уже считали сомкнувшимися навеки. Она протянула руки к королю Маджапахита; тот стал мусульманином и женился на ней.
К 1421 году ислам основательно распространился на Яве, потеснив брахманизм и буддизм, роскошные храмы которых стояли пустыми и заброшенными.
И все же на Яве от первоначальной религии туземцев остались не только величественные руины храмов Брамханана, Боро-Бодо, Чанди Севу и многих других. Как и все преследуемые религии, культ Будды сохранил своих верных последователей, наделенных сердцами из золота и бронзы; эти люди, несмотря на гонения, пронесли сквозь века веру, доставшуюся им от прадедов.
В провинции Бантам обитало целое племя буддистов (как называли их приверженцы ислама), или последователей Будды.
По большей части это были бедные земледельцы, кроткие, спокойные, трудолюбивые и честные; однако рука правителя, которой не чувствовалось, когда требовалось защитить их от притеснений низших чиновников, делалась тяжелой, если надо было ввести налог или натуральную подать; спиритуализм их веры поддерживал этих несчастных и позволял терпеливо сносить печальное существование в надежде на лучшую жизнь; эта добродетель обезоруживала злую волю мусульманских правителей или верховных властителей, из поколения в поколение направленную против буддистов.
Цермай, которого воспитание должно было бы сделать более терпимым, оказался, напротив, более жестоким, чем его предшественники.
Они только притесняли буддистов, а он их преследовал.
Не довольствуясь увеличением налогов вдвое, он разорял их поля, прогоняя по ним своих собак, лошадей и слонов; кроткая и смиренная добродетель этих людей словно служила ему упреком, и он торопился от него отделаться.
Буддисты долго держались. Подобно муравьям, чье хрупкое строение разрушено злым ребенком, они с удвоенной расторопностью и прилежанием возводили его заново.
Без жалоб и протеста, даже не думая о мести (это не было в их обычае), они заново строили хижины, преданные огню по прихоти их господина, засевали поля, опустошенные его забавами, отнимая время у сна, если дня не хватало, и просили Будду воздать врагу добром за зло, как могли бы просить христиане.
Но понемногу стойкость покинула их, они падали один за другим, как плоды слишком спелой кисти: одного уносила лихорадка, другого убивала усталость, прочие, лишившись всего и не желая быть обузой для собратьев по вере, уходили в леса.
Таким образом за год маленькая колония сократилась наполовину.
Один из принадлежавших к этой касте провел половину своей жизни (что для буддиста редкость) вдали от родных мест и привез из Индостана, где женился, маленькую девочку, на которой после смерти жены сосредоточил всю свою нежность; он любил ее безумно, как скупой — свое единственное сокровище.
В двенадцать лет эта девочка обещала сделаться такой же красавицей, как ее мать, иначе говоря — одним из великолепнейших образцов афганской расы.
Однажды вечером девушка в обычный час не вернулась в хижину.
Отец вспомнил о тиграх, многочисленных в этой части острова.
Он не дал своему беспокойству разрастись; он взял для защиты одно их своих земледельческих орудий и, с факелом в руке, не опасаясь вместо растерзанных останков дочери, которые искал, встретиться с самим свирепым зверем, обшарил лесные заросли.
Утром он все еще продолжал свои поиски; в это время, оглядевшись кругом, он понял, что находится в окрестностях далама — дворца Цермая.
Внезапная мысль вспыхнула в его мозгу.
Он оклеветал тигров: не в их логовищах, не в джунглях найдет он свое дитя, но в жилище своего господина.
Направившись к нему, он встретил одного буддиста; тот вел своих буйволов на поле и рассказал ему, что накануне вечером, возвращаясь с работы, встретил наперсника Цермая, уводившего девушку.
Отец решился сделать то, что не осмеливался ни один из его братьев по вере: он вошел в далам Цермая, как вошел бы в логово тигра, — не бледнея и без трепета.
Обратившись к первому встретившемуся слуге, он со слезами умолял вернуть ему дочь. Тот рассмеялся ему в лицо, и сбежавшиеся слуги присоединились к нему; на каждую жалобу отца они откликались насмешкой; затем, поскольку шум мог помешать отдыху господина, старика избили до бесчувствия и выбросили за ограду дворца.
Придя в себя, старик и не подумал возвращаться в свою хижину: опустевшая, лишенная света и радости, она казалась ему более страшной и ненавистной, чем пустыня; поднявшись на ноги, он простился с долиной, где родился, бросил последний взгляд на дворец, откуда доносились звуки тамбурина и других инструментов, и отправился на поиски братьев, нашедших приют в безлюдных местах.
Наши читатели уже догадались, что этот отец, этот старик был Аргаленка, просивший у капризной фортуны дать ему то, чем можно возбудить алчность яванского принца и заплатить выкуп за дочь.
Только он ошибся, предположив, что Арроа сразу же попала в гарем Цермая.
Наперсник властителя похитил ее для себя.
Лишь после того как девушка провела около двух лет в доме доктора Базилиуса, в Батавии, она, как мы уже знаем, перешла к яванскому принцу.
Вечером того дня, когда г-жа ван ден Беек стала матерью, Аргаленка брел по дороге, что вела из Танджеранга в Джазингу.
Наступила ночь, одна из тех теплых, напоенных ароматами ночей, какие бывают только в тропиках.
Морской ветер делал воздух чуть прохладнее и проносился над Явой, впитывая сладкое благоухание душистых деревьев ее лесов и прогоняя обжигающие испарения, которые поднимались от обуглившейся под палящим зноем земли.
Кругом царило безмолвие.
Лишь вой шакала, ищущего добычу на краю рисовой плантации, и пронзительный крик геккона нарушали величественный покой природы.
В красноватом свете, даже в отсутствие луны наполовину освещающем эти прекрасные ночи, виднелись неясные очертания деревьев в долине, серые покрывала кофейных плантаций, и на горизонте, на фоне неба, вырисовывались черные гребни Пандеранго и горы Салак.
Аргаленка, равнодушный к великолепию и красоте сумрачной панорамы, разворачивавшейся перед ним по мере того, какой продвигался, казалось, сосредоточил все внимание на неприступных вершинах этих гор, беспрестанно обращая к ним взгляд и направляясь к ближним склонам.
Разбитый усталостью от ходьбы, что было видно по тому, как он сгорбился, и по судорожным движениям ног, он словно подкреплял силы, созерцая цель, которой хотел достичь; но дорога была долгой, склоны — крутыми, а возбуждение, поддерживавшее его, в конце концов истощило его силы.
И все же он не останавливался; он продолжал идти, глядя на гору Салак, когда споткнулся о камень и упал. Пытаясь подняться, старик почувствовал себя таким измученным, что, не переставая упрекать себя за это, так как торопился пройти путь до конца, решил немного отдохнуть.
Аргаленка не сразу примирился с необходимостью прервать путешествие; много раз он пытался двинуться дальше, но, поняв бесполезность своих усилий, воздел руки к небу и горестно воскликнул:
— Царь мироздания! Господин богов и великих людей, я взываю к тебе, Будда! Протяни ко мне руку, и пусть она поддержит меня в пути, который мне осталось пройти до встречи с теми, кто ждет меня!
Не успел Аргаленка договорить, как услышал хорошо знакомое шипение очковой змеи и увидел черный шнур, который полз, извиваясь, через дорогу.
Он не вздрогнул и не сделал движения, чтобы скрыться от страшной рептилии.
Но змея не искала жертвы, она убегала и вскоре исчезла в кустах.
Почти в ту же минуту заколыхались побеги маиса, окаймлявшие дорогу с той стороны, откуда появилась очковая змея; их них вышел человек и остановился на обочине.
Это был Харруш.
Разглядев Аргаленку, он на минуту застыл в неподвижности, стараясь узнать того, кто сидел перед ним в пыли.
— Что ты здесь делаешь? — наконец спросил он.
— Я жду, пока мое воззвание к Будде будет услышано и он пошлет мне либо недостающие силы, либо человека, которому приятнее сделать доброе дело, чем стяжать богатство.
Харруш слушал ответ Аргаленки рассеянно, казалось, он старается отыскать след, оставленный в пыли змеей. Прежде чем ответить буддисту, он, склонив голову к земле, проследил ее путь до того места, где кобра уползла с дороги, и только тогда приблизился к тому, кто взывал о помощи.
— Но невозможно достичь Синих гор сегодня ночью, — сказал он. — Ты не подумал о том, что за Джазингой войдешь в леса Лебака, где водится столько свирепых хищников, что и Магомет с Буддой не вышли бы оттуда живыми.
— Если бы даже леса были заполнены разъяренными людьми, желающими моей гибели, что куда опаснее свирепых хищников, я пошел бы туда, куда мне надо идти.
— Какая важная причина заставляет тебя пренебрегать такой опасностью? Я сам поколебался бы — я, любимец Дадунг-Аву, покровителей охотников, я, чье ремесло — искать зверей в самых тайных, в самых мрачных логовах.
Аргаленка не ответил.
Харруш не обиделся на сдержанность буддиста.
— Это твой секрет, — только и прибавил он.
— Нет, — возразил Аргаленка. — У просящего нет секретов, его сердце принадлежит тому, у кого он вымаливает жизнь; да и для чего мне скрывать свои намерения? Мое сердце чисто, как вода, которую Господь поместил в ствол равеналы, дерева путешественников.
— Хорошо, — прервал его Харруш. — Твое доверие не будет обмануто; клянусь, что сделаю для тебя то, чем бедный человек может помочь тому, кто еще беднее, чем он сам, — я предоставлю тебе все, чем обладаю, свою силу и свое мужество; но избавь себя от труда рассказывать мне свою историю, я знаю ее, — продолжал Харруш, уже в течение нескольких минут смотревший на Аргаленку с самым пристальным вниманием.
— Ты знаешь меня? — спросил тот.
— Да, тебя зовут Аргаленка, ты покинул свою хижину, потому что наперсник Цермая похитил твою дочь; два дня тому назад ты приходил в Меестер Корнелис; ты разорил китайца, а его золото предложил своему господину, чтобы он вернул твое дитя; он отказал тебе, и ты ушел; ты отправился на Вельтевреде, а на следующий день прогуливался на Губернаторской площади, ожидая, когда откроются двери дворца. Все так и было?
— Все это правда, — ответил Аргаленка.
— Хорошо; теперь выслушай окончание. В тринадцатый день месяца катиго люди, собравшиеся в лесу Джидавала: яванцы, китайцы и мавры — договорились там убить хозяина острова; буддист Аргаленка прятался в источенном червями стволе ликвидамбары, уже год служившем ему убежищем, и все слышал; и Аргаленка ждал в тот день на Губернаторской площади, когда откроют дом белого султана, чтобы рассказать ему, о чем говорили эти люди.
— Это правда, — подтвердил Аргаленка. — Моя вера велит мне всеми силами препятствовать кровопролитию: все живые существа вышли из рук Будды.
— Да, — продолжал Харруш. — Но ты так спешил исполнить заповедь своей веры еще и оттого, что в лесу Джидавала узнал Цермая. Но ведь Будда произнес и другие слова: "Ты не сделаешь зла тому, кто причинил тебе зло".
Аргаленка опустил голову и не отвечал.
— Более того, тебе довольно было одной минуты, чтобы. забыть вторую заповедь твоего бога, как забыл первую; пока ты смотрел на солдата в сине-желтой одежде, расхаживавшего перед дворцовыми аркадами, за тобой наблюдал человек, малаец в костюме моряка. Он подошел к тебе и спросил: "Аргаленка, хочешь ли ты вновь увидеть свою дочь?" Ты содрогнулся в точности так, как сейчас, и ответил: "Я отдал бы жизнь за один поцелуй моей девочки". Ты уже не думал о соблюдении заповеди Будды, и желал предотвратить кровопролитие не больше, чем я хочу остановить течение Чиливунга.
Аргаленка не обратил внимания на последнюю фразу огнепоклонника; он слушал его, задыхаясь от тревоги.
— Да, — произнес он. — Да, он обещал, что я снова увижу мое дитя; ты слышал это, ты можешь подтвердить. Как же ты хочешь, чтобы я думал о чем-то, кроме моей нежной Арроа, кроме ласк, которыми она вновь осыплет старого своего отца? Теперь, когда ты это знаешь, знаешь, что именно ее я найду на горе Саджира, что она там, она, может быть, будет ждать меня… Боже! Если я не приду, она подумает, что я больше не люблю ее. Ты не откажешься отвести меня туда: отец, который жаждет вновь увидеть свое дитя, — это свято для всех людей, для всех народов, для всех богов! Ну, скорее, помоги мне подняться, помоги справиться с этими непокорными ногами; поддержи меня, и, если это тело снова предаст меня, брось его на дороге, но прежде разрежь мне грудь, возьми мое сердце и отнеси его той, что целиком заполняет его.
— Аргаленка, — медленно произнес заклинатель змей, — Арроа не ждет тебя на горе Саджира.
— Ты ошибаешься, человек, это невозможно; малаец сказал мне: "Жди свою дочь на горе Саджира, у стойла Гоганга-Бадака, там, где начинаются крутые пики; прежде чем солнце пять раз окрасит в пурпур синие вершины, Арроа будет в твоих объятиях; жалоба старика тронула меня, и я добьюсь, чтобы Цермай поступил так, как хочу я". Так он говорил; он не стал бы обманывать меня. Как только Арроа узнает, что ей позволено снова обнять старого отца, она не откажется прийти! Может быть, ты думаешь, что моя дочь не любит меня! О Боже! — разгорячившись, воскликнул старик. — Как можно вообразить такое? Если бы ты видел нас в нашей хижине вечером, когда она просила у меня благословения! Это были бесконечные ласки и поцелуи, а утром все повторялось вновь! Она была такой красивой, моя Арроа, такой прекрасной, что ты скорее принял бы ее за дочь духа, чем за дитя бедного буддиста! Нет, не говори так, человек; лучше скажи, что она, как и я, провела ночь, вслушиваясь в удары собственного сердца, и ей казалось, будто она различает в них звучание моего имени; я тоже, покинув Вельтевреде, в биении моего сердца все время слышу имя Арроа; скажи это, скажи, что она придет, скажи, что она меня любит; тебе это нетрудно, потому что это правда, ты должен верить этому… Но даже если ты не веришь, все равно скажи из жалости к несчастному, на коленях умоляющему тебя об этом! Доказать мне обратное значило бы убить меня, и я также умру, если после стольких надежд у меня похитят счастье, от которого вот уже шестнадцать часов я почти что обезумел.
Мольба Аргаленки пробила грубую оболочку сердца огнепоклонника; он с большим волнением, чем выказывал обыкновенно, схватил старика за руку.
— Я не говорю, что она больше не любит того, кто дал ей жизнь, — сказал он. — Но я не стану утверждать, что она по-прежнему нежно любит его. А вот в чем я уверен, в чем готов поклясться, — не ее ты найдешь на свидании, которое назначил тебе малаец.
— Что же я там найду?
— Два криса, которые похоронят в твоем сердце тайну собраний в лесах Джидавала!
— Моя дочь! Моя дочь! — с раздирающим душу отчаянием воскликнул несчастный отец, словно в показанном ему Харрушем зрелище нависшей над его головой смерти его поразила лишь мысль о разлуке с дочерью.
— Твоя дочь у раджи; Базилиус похитил ее у тебя, а после его смерти ее взял Цермай.
Аграленка закрыл лицо руками.
— Но, — продолжал огнепоклонник, голос которого теперь не выдавал ни малейшего волнения, — разве зло, причиненное тебе, не возбуждает в тебе другого чувства, кроме напрасной скорби?
— Что ты хочешь сказать?
— Разве месть не исцелила бы твое раненое сердце, как даджах исцеляет от укусов змеи?
— Увы! — ответил старик. — Все, что я могу, — это любить свою дочь, и мое сердце так полно этим чувством, что для другого не остается места.
— Отец, твой лоб увенчан седыми волосами; если ты жил среди людей, ты должен хорошо знать их. Что же, твой взгляд не покидает пределов твоего зрачка? Ты беден, а твоя дочь живет в роскоши; ты лежишь на дороге, а она обитает во дворце; как и у меня, половина твоего саронга осталась в лесу на кустарниках, а одежда Арроа сверкает, как волны под лучами солнца. Что может быть общего между тобой и ею?
— Не говори так: ты богохульствуешь, оскорбляешь любовь детей к тем, кому они обязаны жизнью.
— Нет, я буду говорить так. Тебя раздавили — а я хочу, чтобы ты выпрямился; тебя ударили — но я хочу, чтобы ты поднял голову. Если любовь дочери больше не принадлежит тебе, подумай о тех, кто отнял ее у тебя, и в своей ненависти, как и в своей нежности, найдешь невыразимую сладость.
— Будда поселил нас на земле для того, чтобы любить, а не для того, чтобы ненавидеть.
— Будда — только слово, — продолжал убеждать огнепоклонник. — Покажи мне твоего бога, как я покажу тебе моего; истинный бог — это солнце, давшее нам огонь. Взгляни на этот вулкан, — говорил Харруш, указывая буддисту на вершины Пандеранго, гребни которого краснели, возвышаясь в темноте. — Взгляни на вулкан: он горит лишь для того, чтобы разрушать и уничтожать; но это Бог зажег огонь в полости горы! И он хочет, чтобы страсти, вложенные им в нашу душу, уподобились этому огню.
— Но я сказал тебе, что, сколько ни ищу, не могу найти ненависти в душе, которую дал мне Будда.
Харруш в нетерпении топнул ногой:
— Аргаленка, малаец, обещавший вернуть тебе дочь, солгал.
— Если он так поступил, мне жаль его и я буду просить Будду научить его ценить искренность.
— Аргаленка, я уже сказал тебе, что из дома франкского доктора Арроа перешла в гарем раджи.
— Любовь отца сможет очистить ее.
— Аргаленка, этот человек похитил у тебя сердце твоего ребенка; разум твоей дочери стал добычей демона.
— Будда всемогущ: его дыхание изгоняет демонов, как ветер гонит листья в долине.
— Так иди же, безумный старик, поднимись на гору Саджира! Твои глаза не увидят ничего, кроме стен старого заброшенного стойла и зеленеющих рощиц дынных деревьев и гарциний; до твоих ушей донесутся лишь крики обитателей пустыни, почуявших легкую добычу. Тогда ты слишком поздно пожалеешь о том, что не слушал человека, протянувшего тебе честную руку, единственного, кто мог если не вернуть тебе сердце твоей дочери, то, по крайней мере, насытить взгляд отца радостью созерцания той, кого он произвел на свет.
— Ты, ты! — вскричал Аргаленка, забыв о своей слабости и вскочив, как будто в ногах у него были стальные пружины. — Благодарю тебя, Будда, что услышал меня, что послал мне этого человека! Я увижу ее! Ах! Радость душит меня; слезы, только что лившиеся так легко, замирают на веках и обжигают их! Это тебе я буду обязан своим счастьем, я сразу увидел, что ты добр!
Темнота помешала Аргаленке увидеть зловещую улыбку, промелькнувшую на губах Харруша после этих слов.
— Да, — продолжал тот. — Если она не придет к тебе, мы попробуем дойти до нее.
— Когда же мы отправимся в путь? — спросил старик. — Мне кажется, мы теряем время. О! Я снова становлюсь таким, каким был, когда ты встретил меня и когда я находил, что утренняя птица медлит издать крик, которым она приветствует день. Арроа, дитя мое, я снова увижу тебя!
— Да, но я ставлю одно условие.
— Какое? Скажи; надо ли отдать тебе мою кровь? Надо ли отдать мою жизнь? Должен ли я пробираться к ней сквозь огонь? Только скажи, я сделаю все, что захочешь; должно быть, ты знаешь, что значит быть отцом, если сжалился над моим горем.
— Послушай, я, как и ты, жертва, но вовсе не унылая и смиренная жертва, как ты, и, если Харруша оскорбили, он внимает лишь своей ненависти, подобно голодному тигру, что слышит лишь крик своей утробы; он уверенно идет к своей добыче, ползет, если вынужден, прячется в чаще, пока не пробил час, но он всегда готов броситься и разорвать стальными когтями неосторожных, возбудивших его гнев.
— Это невозможно, чтобы моя Арроа не узнала своего отца! — с неизъяснимой улыбкой произнес старик.
— Почему же ты не решаешься дать клятву, ни к чему не обязывающую тебя?
— Но чего ты хочешь от меня?
— Человек, каким бы сильным и отважным он ни был, — всего только человек; он может умереть, и с ним умрет его месть; а я не хочу, чтобы моя месть умерла. Так вот, поклянись храмом Боро-Бодо помогать мне в моем деле, поддерживать изо всех твоих сил, если то, что я сказал тебе, это правда, если твоя дочь увидит в тебе чужого, презренного попрошайку.
— Будда отвергает такую клятву; я не осуждаю тебя, Харруш, но у нас с тобой разные намерения; ты был прав, сравнивая себя с тигром джунглей, если, подобно ему, можешь утолить жажду лишь кровью; я верю в справедливость того, кто поместил меня на земле; я делал все возможное, стараясь исполнить его закон, и надеюсь, что он вступится за меня, покарает, если надо будет покарать, отомстит, если надо будет мстить, и я отдаю заботу об этом в его руки. Но разве мой отказ делать то, что запрещает мне делать мой бог, — причина лишить меня обещанного счастья и ты для того лишь поднес к моим губам радостную чашу счастья, чтобы заставить меня сильнее почувствовать муки жажды?
— Нет, — резко ответил Харруш. — Я предложил тебе свои условия, но ты не захотел их принять, и я покидаю тебя, безумный старик; попроси Будду вернуть тебе дочь, и ничего больше не жди от Харруша.
— Так я и поступлю, — со скорбным смирением произнес старик. — Я жалок и одинок, все оставили меня; у меня нет больше сил приподнять слабые руки, но мое дело в руках моего бога, и я надеюсь, что он накажет злодеев.
— А я надеюсь только на себя, — возразил Харруш, подобрав складки саронга, чтобы снова пуститься в дорогу. — И моя рука поразит тех, кто ударил меня. Прощай.
Сказав это, Харруш быстро ушел, оставив Аргаленку на том месте, где нашел его, то есть стоящим на коленях в дорожной пыли.
После ухода малайца Цермай не переставал думать об угрозе, что тот бросил ему на прощание.
Он был далек от того, чтобы смириться с разлукой, которую Нунгал заставлял его рассматривать как неизбежную; с каждым днем он все сильнее поддавался чарам Арроа и спрашивал себя, каким способом избавиться ему от несносной опеки человека, пробудившего в нем честолюбивые мечты; он не собирался отказываться от них, но не хотел жертвовать прекрасной индианкой.
Все время, оставшееся свободным от увеселений, посвящал он размышлениям о том, какими средствами этого достичь; но Нунгал казался ему не тем человеком, кому можно дерзить безнаказанно; он не мог без ужаса подумать об удивительном могуществе этого сверхъестественного существа, о грозной тайне, которой тот обладал, и, несмотря на свое воспитание, суеверный, как все яванцы, Цермай в страхе отгонял мятежные мысли, теснившиеся в его голове, дрожа от того, что глаз малайца мог так же читать в его сердце, как проникал в секреты его прошлого.
Однажды, когда Цермай был рассеяннее, чем обычно, лоб его омрачился, взгляд сделался тревожным, а у губ залегли складки и ни танцы, ни улыбки женщин не могли отвлечь его от забот, он сошел в сады, окружавшие его далам, и стал прогуливаться под их сенью.
С ним была черная пантера, уже появлявшаяся в нашем рассказе, — великолепный зверь с шелковистой и лоснящейся шерстью, с глазами желтыми и блестящими, словно топазы. Она следовала за хозяином по пятам как собачонка, и время от времени терлась чудовищной головой о его ногу, мягко разворачивая длинные кольца хвоста, с женской грацией и кокетством добиваясь ласки.
Проходя по дорожке вдоль бамбуковой решетки, отделявшей парк от леса и преграждавшей доступ набегам диких зверей, Цермай заметил в конце этой дорожки человека, перелезавшего через хрупкую ограду.
Печальные мысли, которым яванец предавался в ту минуту, совершенно не располагали его к снисходительности; обернувшись к пантере, он показал ей человека и отдал приказ: зверь поднял голову, шумно втянул воздух широкими ноздрями, на секунду присел, а затем устремился вперед быстро, как молния, и легко, словно ветер, пробегающий по гребням волн. Но, к большому удивлению Цермая, пантера бросилась вовсе не для того, чтобы, как он ожидал, разорвать неосторожного когтями и зубами: она расточала пришедшему ласки, какими осыпала лишь хозяина, вытягивалась, прижимала голову к его лицу, прыгала вокруг него и наконец улеглась у его ног.
Яванец в бешенстве выхватил крис и помчался к ним — человеку и животному, — колеблясь в ревнивой ярости, кого убить: одного, другого или же обоих. И только когда его отделяли от тех, к кому он бежал, всего двадцать шагов, он узнал Харруша.
Огнепоклонник спокойно ласкал пантеру, играл с ней как с кошкой, доверчиво вкладывая свою руку в мощные лапы с убранными на время когтями; увидев, что яванский правитель идет к нему, он дружески ему улыбнулся.
Но эта улыбка не обезоружила гнева Цермая.
— Что, в этом даламе дверей уже нет? — закричал он. — Почему ты проникаешь сюда, как вор, рискуя тем, что моя пантера разорвет тебя в клочья?
— Маха забыла, что я разлучил ее с матерью и со свободой, но она еще помнит руку, вначале заботившуюся о ней; она скорее бросится на вас, туан, чем вцепится зубами в Харруша.
Животное, казалось, подтверждало слова гебра; оно сопровождало их мощным мурлыканьем и устремило на прежнего хозяина взгляд, полный любви; это до предела усилило гнев Цермая.
— Ты не ответил на мой вопрос, собака! Сделай это, если не хочешь, чтобы мой крис отправился искать слова в твоей глотке.
— Харруш побоялся, что, если он войдет в твой двор, слугам покажется постыдной его изорванная одежда и они не захотят отвести его к господину и повелителю.
— Скажи лучше, что явился сюда подсматривать за тем, что происходит в моем дворце, проклятый Богом огнепоклонник!
Оскорбления Цермая не производили никакого впечатления на Харруша; поведение индийца было скорее смиренным, чем безразличным, и, когда яванец закончил говорить, Харруш протянул к нему руки в знак мольбы и словно выпрашивая прощение.
— Скажи, наконец, чего ты хочешь? Говори; может быть, ты пришел потребовать цену, какую Нунгал назначил в Меестер Корнелисе за твою услужливость, — прекрасную европейскую рангуну?
Харруш не отвечал и оставался невозмутимым; только широкие веки медленно опустились на его глаза, словно желали избавить их от вида Цермая.
— Если дело в этом, — продолжал яванец, — я готов удовлетворить твою просьбу: она более чем справедлива.
И, указав на маленький холмик под лавровым кустарником, где земля казалась недавно разрыхленной, сказал:
— Та, кого ты ищешь, здесь; раскопай землю своим крисом, и ты найдешь ее.
— Значит, она умерла, — совершенно равнодушно произнес огнепоклонник.
— Клянусь Магометом! Должно быть, опиум, который ты тогда принял, до сих пор туманит твой мозг, Харруш; иначе как ты мог предположить, что такой нищий, как ты, может получить что-то, кроме трупа белой девушки?
— Я совсем не из-за белой девушки пришел сюда, господин; я пришел, потому что меня послали к тебе.
— Кто?
— Адапати людей с длинными косами, китаец Ти-Кай.
— А! — мгновенно смягчился Цермай. — И что ты принес мне от китайца?
— Весть, что твои опасения были неосновательны; все формальности, соблюдения которых требовали хозяева острова, выполнены, и ты можешь свободно пользоваться золотом белой рангуны, которая лежит там; воля хозяина исполнена.
— Хорошо, — произнес Цермай. — И, чтобы вознаградить тебя, Харруш, я обещаю тебе ночь, населенную всеми любимыми тобой грезами. Но, — невольно побледнев, продолжал он, — видел ли ты Нунгала, того, кого китаец называет хозяином?
— Да, — ответил Харруш.
— И что он сказал тебе? — спросил Цермай голосом, выдававшим волнение.
— Не будем пока говорить о Нунгале.
— Гебр, почему ты говоришь: "Пока не будем"?
— Потому что я еще не знаю, человек ли Нунгал или один из тех бакасахамов, что живут в могилах и выходят оттуда лишь затем, чтобы принести несчастье сынам земли.
— И ты хочешь рассеять свои сомнения?
— Да, — ответил Харруш.
Цермай несколько минут молча размышлял; наконец он повернулся к заклинателю змей.
— Харруш, — произнес он, — несмотря на твое ремесло шарлатана, ты всегда казался мне умным и отважным человеком; пойдем со мной, я дам тебе богатые одежды, и ты станешь жить в моем дворце.
— Харруш всегда жил на свободе в горах, из него выйдет плохой слуга, клянусь тебе, Цермай.
Яванец улыбнулся.
— Я вовсе не собираюсь причислить тебя к моим слугам, Харруш, ты сохранишь свою независимость; приди в мой дворец, и ты будешь наслаждаться моим богатством.
Собираясь последовать за яванцем, Харруш повернулся в ту сторону, где покоилась юная голландка; возможно, он хотел проститься с той, чьи чары победили его суровость; и тогда он увидел отталкивающее зрелище: пока он беседовал с Цермаем, пантера, привлеченная трупными испарениями, доносившимися до нее из могилы, проскользнула среди кустов, разбросала землю сильными когтями, быстро вытащила на поверхность тело несчастной рангуны и, играя, рвала на ней саван.
— Ко мне, Маха, ко мне! — закричал Цермай, который еще несколько минут назад, возможно, остался бы совершенно нечувствительным к этому гнусному осквернению могилы.
И, поскольку зверь оставался глухим к его голосу, он подбежал к нему и ногой опрокинул на край ямы.
Когда Харруш сквозь прорехи савана увидел посиневшее тело прелестного существа, которому мечтал подарить свою любовь, он судорожно передернулся и, как ни владел собой, не смог удержать две слезы, и они медленно скатились по его щекам.
Цермай слишком был занят тем, чтобы призвать Маху к повиновению, и не заметил переживаний огнепоклонника; и все же он решил, что не в его интересах позволить бедняге слишком долго видеть это зрелище, и поспешил увести его.
Несколько слов, оброненных Харрушем о Нунгале, покончили с нерешительностью Цермая.
Несмотря на его заверения в обратном, благодарность менее всего отягощала сердце яванца, и, с тех пор как Нунгал заявил о своем желании отнять Арроа, Цермай только о том и мечтал, как бы избавиться от докучливого друга.
Единственное, что смущало его, — трудность исполнения этого замысла.
Будь Нунгал обычным человеком, сам Харруш за несколько пиастров избавил бы от него Цермая; если не Харруш, так нашлись бы другие руки, менее щепетильные и более послушные.
Но яванец чувствовал: от человека у Нунгала только внешность, и опасался, что покушение наемных убийц окажется таким же бессильным и бесполезным, как тот удар кинжала, который он сам попытался ему нанести.
Для победы над Нунгалом надо было искать соперников ему и оружие в его же мире, и пока Цермай не находил никого лучше Харруша, о котором из-за шарлатанства, примешиваемого им к ремеслу фокусника, в народе ходили слухи, будто он пристрастился к оккультным наукам.
Упоминание о фантастическом мире духов у нас вызывает улыбку; но не то на Яве: Ява — Арморика Океании, яванцы, подобно бретонцам, всему происходящему вокруг них, всему, что поражает их взгляд, приписывают суеверное предание (нет ни одной деревни, ни одной дороги, ни одного пустынного перекрестка, ни одного дерева, не наделенного им), и — странное сходство! — некоторые из этих легенд в этих двух странах совпадают; как и бретонские лавандьеры, яванские виви принимают облик прекрасных женщин, чтобы завлечь путника в воду. Только на Яве мистические верования не окрашены мягкой, печальной и простодушной поэтичностью, отличающей бретонские поверья, — здесь они суровы и дики, как подмостки, на которых они разыгрываются, как этот вулканический край, где природа словно беспрестанно пытается восстать против создавшей ее руки.
Время от времени происходит какое-нибудь странное событие, необъясненное и необъяснимое, подобное тому, что мы описываем; оно, словно метеор, пронизывает века, оставляя за собой огненный след и поддерживая в народах убеждение, что наука, которая дает человеку сверхъестественные возможности и принесена их предками с берегов Нила или Ганга, не утрачена, и в каждом веке появляется некий высший дух, возрождающий ее.
Да и сами мы разве не пребываем до сих пор в нерешительности; разве некоторые нервные, экзальтированные, может быть, высшие умы не уверяют, будто вошли в сношения с таинственным и непознанным сегодня миром, непреложные доказательства существования которого пока не найдены? Явление тени Самуила, освященное Библией, и призрака Цезаря, описанное Плутархом, — благочестивая легенда и мирское предание, — не подтверждают ли они слова тех, кто говорит: "Мы живем меж двух миров: мира мертвых и мира бессмертных"?
Что знали о бесконечности в начале XVI века, до изобретения телескопа, позволившего Галилею взглянуть вверх, и микроскопа, с помощью которого Сваммердам посмотрел вглубь?
Ничего.
Ничего о бесконечно великом.
Ничего о бесконечно малом.
Сваммердам мельком увидел живую беспредельность, бездну жизни, миллионы миллиардов неведомых существ, каких не осмелилось бы представить себе воображение Данте — человека, глубже и пристальнее всех прочих всматривавшегося в подземное царство.
До сих пор мы полагались на наши чувства, но оказалось, что они обманывали нас или, вернее, оказались бессильны.
Перед беспредельностью неба Галилей издал радостный крик и устремился вперед.
Перед низшей беспредельностью Сваммердам испустил вопль ужаса и отступил назад.
Для бесконечно большого придумали телескоп, для бесконечно малого — микроскоп.
Кто может поручиться, что не придумают инструмент для бесконечно прозрачного и мы не увидим наяву ту ангельскую лестницу, поднимающуюся с земли в небо, которую Иаков видел во сне?
Цермай был убежден в этом; именно намерение использовать выгодно для себя то положение, которое мог занимать Харруш среди посвященных в магию, и склонило его к тому, чтобы оказать фокуснику столь сердечный прием.
— Харруш, — сказал он, идя с ним рядом и видя, как тот задумчив, — готов биться об заклад, что тебе очень хотелось бы в эту минуту обладать такой властью, чтобы вернуть жизнь той, что рассталась с нею?
— Зачем? — притворившись безразличным, спросил Харруш. — Когда ветер обнажит ветви тикового дерева, разве солнце не дарит ему тотчас же новый убор, радующий наши глаза?
— Веришь ли ты, что во власти некоторых людей оживлять мертвую плоть?
— Нет, — резко ответил Харруш.
— И все же говорят, что с помощью науки можно управлять духами, дающими жизнь.
— Только огонь может сделать то, о чем ты говоришь, притом за счет материи: он освобождает душу из ее оболочки и посылает ее в другое тело, но не может вернуть ей облик, уничтоженный им, когда он очищал ее.
— Значит, — сказал Цермай, желая навести огнепоклонника на разговор о Нунгале, — духи, которых в этой стране называют бакасахамами, более могущественны, чем огонь; говорят, они могут совершить то, что не в силах бога, которому ты поклоняешься.
— Так пусть они осмелятся бороться с отцом Ормузда! — презрительно возразил Харруш.
— Встречал ли мой друг Харруш, который так много знает, на своем пути бакасахамов?
— Да.
— В самом деле? — притворившись удивленным, воскликнул Цермай. — Но где и когда?
— Господин не откровенен с тем, кого называет своим другом; подобно маленькой гадюке бидудаке, он совершает тысячу извивов, прежде чем прийти к тому, куда направляет его желание.
— Что ты хочешь сказать?
— Что господин Цермай, — отвечал Харруш с уверенностью, подтверждавшей если не его искусство гадателя, то, по крайней мере, глубокую проницательность, — господин Цермай протянул руку Харрушу лишь для того, чтобы он избавил его от бакасахама, который хочет причинить ему вред.
— Как зовут этого бакасахама? — продолжал яванец, чье доверие к фокуснику возросло, когда он увидел, как верно тот угадал его мысль.
— Сегодня имя этого бакасахама Нунгал; но у бакасахама не одно имя, у него их десять, не считая тех, что он приберегает на будущее.
— Нунгал — мой друг, Нунгал — брат мне, я не верю в то, что ты говоришь. Расскажи мне о бакасахамах, назови мне способности этих духов.
— Нет, мне остается лишь умолкнуть; птица, указывающая на присутствие тигра, перестает петь, когда видит, что перед ней всего лишь охотник за павлинами или цесарками.
— Так говори, Харруш, говори! — воскликнул Цермай, останавливая его, потому что они приближались к дворцовым постройкам. — Если ты захочешь служить мне, вместо жалкого фокусника в тебе будут видеть могущественного господина и мудрого исполнителя воли хозяина.
— Тот, кто проник в тайну смерти, кто держит в правой руке ключи Шломоха, а в левой — цветущую ветвь миндаля, выше всех печалей и всех страхов; ему известен смысл прошлого, настоящего и будущего; когда ему угодно, он заставляет природу открыться; именем Аримана он повелевает стихиями и делает их своими рабами — вот что может бакасахам.
— А проник ли ты в тайну их существования?
— Да. Бакасахам, как те призраки, что питаются кровью мертвых, бесконечно продлевает свою жизнь, прибавляя к своим дням те, что похищены им у других людей.
— Объясни.
— Своими адскими советами, своим знанием страстей, бакасахам заставляет человека погасить небесный огонь, зажженный в нем рукой Ормузда, и посягнуть на собственную жизнь. Тогда Ормузд позволяет ему взять себе те часы, которые этому проклятому предстояло еще прожить и от которых он отказался.
— Но в чем секрет их могущества? Нельзя ли овладеть им, разделить с ними эту высшую власть, ведь она больше, чем у всех земных царей?
— Если бы я знал, я не сказал бы вам этого.
— Значит, всякая борьба против этих страшных созданий бессмысленна, всякая попытка сопротивляться им безумна?
— Нет, человек может многое, когда хитрость объединяется с силой.
— Я понимаю тебя, ты — хитрость, а я — сила, и ты предлагаешь нам объединиться против общего врага.
Харруш повел плечами так, что это равно могло означать подтверждение и выражать безразличие.
Тогда Цермай ввел Харруша внутрь своего дворца.
XX ОТЕЦ И ДОЧЬ
Вечером в охваченном радостью даламе был праздник. Казалось, надежда сохранить Арроа вернула Цермая к жизни.
Сады блистали тысячами огней, а горное эхо повторяло аккорды гамбанга и шалемпунга.
Раскинувшись на мягком ковре, Цермай медленно втягивал дым персидского наргиле, шар которого был украшен эмалью, черненым серебром и золотом.
Прекрасная Арроа склонила головку на грудь адипати.
В нескольких шагах от принца и его любимой наложницы расположился фокусник Харруш, смотревший на них рассеянным взглядом, в котором временами вспыхивал огонь ненависти и гнева. Он не уступил настояниям хозяина, склонявшего его к излюбленному наслаждению опиумом, и словно решил отказаться от сильных ощущений, доставляемых наркотиком. Боясь, что, опьяненный, он снова увидит труп, вырытый утром пантерой, он довольствовался тем, что жевал бетель, приправляя его, по туземному обычаю, негашеной известью и арековыми орехами.
В момент, когда танцы стали особенно оживленными, из дворца донесся сильный шум, перекрывший звуки музыки.
Цермай осведомился о его причине, и слуги привели к нему старика, которого застали, когда он пытался проникнуть в покои, где жили бедайя.
При виде Арроа он издал крик, в котором равно слышались боль и радость; он протянул к ней руки и бросился было, чтобы обнять ее, но люди адипати его удержали.
Узнав в старике буддиста, приходившего в Меестер Корнелис требовать свою дочь, Цермай нахмурился.
Что касается Арроа, то вид ее отца, старика в бедной и рваной одежде, кровь, запекшаяся на его ладонях и коленях, тревожное выражение его лица не произвели на нее никакого впечатления. Ни одна складка не нарушила совершенства ее прекрасного лица, ни одна жилка на бледных щеках не наполнилась кровью. Можно было подумать, что в этом создании умерло всякое дочернее чувство; она оставалась безмолвной и холодной, словно статуя, и только сделала служанкам, колыхавшим перед ней огромные опахала из павлиньих перьев, знак ускорить их движение.
— Подумал ли ты, буддист, — сказал Аргаленке Цермай, — что побег из моих владений стал твоим приговором? Подумал ли, что, проникнув в этот дворец, найдешь смерть?
— Я думал о том, что здесь мое дитя, и ни о чем другом; шестнадцать часов я полз на четвереньках, чтобы добраться до нее.
— Так посмотри на нее хорошенько, старик, потому что — клянусь Магометом! — ты не увидишь ее больше, разве что и в могиле глаза человека сохраняют свет.
— Пусть совершится твоя воля, господин! Ты прав, видеть ее такая большая радость для меня, что, взглянув на нее, я не стану сожалеть о жизни.
Говоря эти слова, Аргаленка плакал, и его слезы падали на белую бороду; взглядами, полными любви и мольбы, он пытался привлечь внимание Арроа, но она не замечала их.
— Ты не узнаешь меня, Арроа? — спросил он. — Увы! Нищета, голод и пребывание в лесу сильно изменили меня! Ты тоже не та, что прежде, но, хотя на тебе золотые и шелковые одежды и бриллиантовая диадема, совершенно не похожие на простой саронг из лури, какой ты носила в нашей хижине, и на цветы, которыми ты украшала свои волосы, мое сердце сразу сказало мне: "Вот она!" Но ты все еще любишь меня, Арроа, ты еще любишь того, кто качал тебя, маленькую, на коленях, чьей гордостью и счастьем ты была в течение четырнадцати лет! Разве можно разлюбить своего отца?
— Что сейчас у Арроа общего с тобой, ничтожным буддистом? — грубо спросил яванец.
Услышав, как адипати исполняет предсказание человека, встреченного им на дороге прошлой ночью, Аргаленка был поражен в самое сердце, колени у него подогнулись, он молитвенно сложил руки и протянул их к дочери.
— Арроа! — позвал он. — Поспеши уличить во лжи своего господина; скажи ему, что, куда бы ни вознесла тебя судьба, в твоих жилах по-прежнему течет кровь Аргаленки. Скажи ему, что между нами двоими существуют неразрывные узы, сотворенные Богом, и не в силах людей их разорвать. Силы небесные! Сам того не желая, не оскорбил ли я тебя чем-нибудь? Ты же помнишь, что, пока мы жили на равнине, угодить тебе было моей единственной заботой, я думал только о том, как сделать тебя счастливой! Но, я знаю, когда хотят сделать слишком много, часто не попадают в желанную цель; ты ведь простишь меня, Арроа, если это так, ты простишь меня прежде чем я умру. У тебя еще найдется для меня нежная улыбка, одна из сладких ласк, какие ты некогда дарила мне; ты оставишь мне утешение думать, что придешь иногда помолиться Будде на могиле, где навеки успокоится тот, кто был твоим отцом!
Рыдания заглушили голос несчастного старика; он взглядывал поочередно на Арроа, Харруша и Цермая.
Видя, что дочь остается бесчувственной и ничего не отвечает ему, он впал в состояние безумия.
— Господи! — вскричал он. — Неужели мое отчаяние не трогает ее? Как может она позволить своему отцу плакать и даже не сказать ему: "Я вижу твои слезы!"
И буддист, внезапным движением оторвавшись от державших его, бросился к дочери и схватил ее за руку.
Эта рука показалась ему холодной и твердой, словно мраморная; Аргаленке почудилось, будто он дотронулся до трупа.
Старик попятился с криком ужаса.
— Это не она, это не Арроа, хоть и в ее облике! Ты был прав, Харруш. Я благодарю Будду, потому что, если бы моя дочь, живая, отвергла бы сердце своего отца, я проклял бы день, когда он дал мне ее. Это Арроа, но она мертва.
— Схватите его! — крикнул Цермай.
— Господин адипати, ты хочешь отнять у меня жизнь, которую дал мне Будда, как прежде украл мое имущество, как похитил мою дочь; я не проклинаю тебя, это сделает бог, он все видит; он скажет лучше и громче, чем я. Оставляю тебя в его руках; будь у тебя столько же могущества, как у государя Срединной империи, он нашел бы тебя на пылающих склонах Пандеранго. Он сумеет настичь тебя. Я ни о чем не сожалею и благословлю минуту, которая избавит меня от вида этого мерзкого призрака, — закончил он, указав на свою дочь.
— Исполняйте мой приказ! — произнес Цермай.
— Господин, — перебил его Харруш, — ты сам видишь, этот человек безумен, раз не узнает свое дитя! С каких пор дни блаженных, у которых Бог отнял разум и избавил от тягостей этого мира, перестали быть священными для мусульманина?
Цермай задрожал от гнева.
Ему очень хотелось, несмотря на то что Харруш освятил сейчас таким образом Аргаленку, насытить свой гнев и уничтожить буддиста, но он был в эту минуту окружен мусульманами и нуждался в слугах для исполнения своих честолюбивых замыслов.
Он решил пожертвовать гневом ради осторожности и приказал бросить старика в темницу.
Арроа оставалась совершенно безучастной к этой сцене; но, когда люди Цермая увели Аргаленку и он скрылся в тени, она повернулась к господину и показала ему на неподвижных и словно окаменевших от страха рангун, грациозным и шаловливым жестом выразив нетерпение.
Цермай сделал знак, и танцы возобновились.
XXI КОРА
В первые дни после того как негритянка поселилась в доме Эусеба ван ден Беека, он даже не замечал ее присутствия.
Он был целиком поглощен заботами о своей торговле, удачей, которой по-прежнему оборачивались все его сделки; с радостью, похожей на исступление, он подсчитывал, сколько месяцев ему потребуется, чтобы восполнить значительную потерю, которую теперь, когда счастье было на его стороне, он более твердо, чем когда-либо прежде, решил скрыть от Эстер, так же как и невольную свою вину.
Как и в начале предпринятой им борьбы против рока, он возвращался в свой дом лишь затем, чтобы немного отдохнуть и вновь покинуть его на рассвете. Эстер теперь была более заброшенной, чем когда-либо; но сейчас она видела. мужа почти всегда веселым и смеющимся и, хотя ее удивляло то, с какой жадностью он стремится разбогатеть, ей больше не хотелось жаловаться.
И все же счастье Эусеба не было безоблачным.
Подчас внезапная мысль леденила ему душу среди порыва радости, охватывавшей его при подсчете прибыли, и он замирал в совершенном унынии.
Он спрашивал себя, не утратил ли он с тех пор, как им овладела денежная горячка, той безраздельной любви к жене, какую испытывал прежде; ему казалось, что в звоне золотых монет, когда он перебирал их в пальцах, было нечто от адского смеха Базилиуса. Он видел на каждой из них отчеканенным профиль доктора.
Но Эусебу слишком хотелось успокоиться, и он не поддавался видениям; он говорил себе, что жажда обогащения, которая принесет Эстер не меньше радостей, чем ему самому, — еще один способ доказать ей свою любовь, что он так сильно желает этого лишь для того, чтобы одарить жену, и отгонял мрачные призраки, отравившие ему первые дни обладания этим богатством.
Чем дальше, тем легче ему было выполнять эту задачу; после нескольких сражений с самим собой он уверил себя, что Эстер безраздельно царит в его сердце; он так далеко отогнал воспоминание о докторе Базилиусе, что думал о нем теперь не иначе как о мучительном кошмаре, оставившем после себя неясную боль, и порой сомневался в реальности происшедшего между ними.
И все же, хотя ничто в лице и в поведении Эстер не указывало Эусебу на нетерпение, с каким переносила она долгие часы одиночества, на которые он ее обрекал, иногда ему не удавалось совершенно заглушить упреки своей совести; но он старался смягчить их, развлечениями возмещая жене то счастье, что он у нее отнимал.
Чтобы доставить мужу радость, молодой женщине пришлось привести свою домашнюю жизнь, некогда такую мирную, в соответствие с его душевным состоянием, забыться в вихре встреч и праздников, делавшем воспоминание о прошлом еще более горьким.
Однажды ночью, после большого обеда, во время которого Эусеб, мало-помалу перенимавший привычки колонистов, пил с несвойственной ему невоздержанностью, он дремал в комнате, отделенной от спальни жены небольшим коридором; внезапно среди глубокого оцепенения, в которое он был погружен, ему почудилось, будто чье-то дыхание коснулось его губ.
Мгновенно проснувшись, он протянул руку, но никого не схватил, только услышал легкие шаги по циновке, покрывавшей пол, и шорох шелковых драпировок на двери, ведущей в комнату Эстер.
Вскочив, Эусеб побежал в спальню жены: Эстер спала тихим, безмятежным сном; перед ее постелью стояла колыбель с ребенком — следовательно, она не могла прийти в комнату мужа.
Постояв в задумчивости, Эусеб решил, что все ему пригрезилось.
На следующее утро, перед тем как спуститься в старый город, Эусеб вошел к жене проститься и нашел рядом с ней юную кормилицу, которую Эстер мягко бранила. Он спросил, какой повод жаловаться дала ей Кора, и услышал в ответ, что с некоторых пор и без видимой причины юная негритянка, казалось, изнемогала под тяжестью какого-то тайного горя; Эстер обратила внимание мужа на то, как заострились черты Коры, в каком упадке сил она находилась в ту минуту; в то же время Эстер нежно упрекала Кору в недостатке доверия к хозяйке, которая так скоро и так сильно полюбила ее.
Кора ничего не отвечала; она укачивала на руках вверенного ее заботам ребенка и время от времени горячо целовала его.
Эстер удивительно привязалась к той, кому поручила уход за своим ребенком; она проводила с ней те долгие часы, когда муж оставлял ее в одиночестве. Это было вдвойне полезно Эусебу, и он тем более остерегался разрушить согласие между хозяйкой и рабыней, что это согласие служило его интересам.
Сможет ли он заменить кем-нибудь Кору? Не потребует ли Эстер, лишенная общества девушки, чтобы муж оставил контору и находился при ней?
В последующие дни Эусебу так или иначе не раз приходилось обращать внимание на юную кормилицу.
Проходя по двору, саду или комнатам своего дома, он без конца встречал ее на своем пути.
Казалось, она множилась, чтобы оказываться всюду, где находится Эусеб.
Иногда он видел, как она бродит среди кустов жасмина и рододендрона в цветнике, свесив голову на грудь, с покрасневшими от слез глазами.
Иногда он из-за занавески замечал, что она сидит на камне под палящими лучами солнца напротив его окон: она смотрела, не видя, слушала, не слыша, и казалась перенесенной душой и телом в совершенный мир грез.
Случалось, он входил в какую-нибудь комнату, чтобы проделать подсчеты, занимавшие его день и ночь, и, думая, что он один, вдруг позади себя слышал нежную монотонную песню на незнакомом языке; обернувшись, в одном из углов он обнаруживал эту фигуру будто из черного камня, в красивых белых шерстяных одеждах: девушка убаюкивала младенца колыбельной своего народа.
В другой раз, проходя по коридору, он слышал крадущиеся шаги, едва касавшиеся пола, — это была Кора; когда он проходил мимо, она вжималась в стену.
Если ему нужна была какая-то вещь или требовалась какая-либо услуга, негритянка всегда оказывалась рядом, чтобы выполнить его желание.
Однажды вечером Эусеб работал: сидя за маленьким столиком в спальне жены, он подсчитывал прибыль, как делал каждый день, словно следить за увеличением своего богатства был для него самым сладким отдыхом, какой он мог найти после дня утомительных трудов.
Эстер укачивала на коленях ребенка, стараясь добиться от него первой улыбки; рядом с ней на циновке сидела Кора.
Позади них в различных позах располагались служанки Эстер.
Внезапно, подняв глаза на жену, Эусеб увидел, что в ее руках что-то блеснуло огненным лучом, словно золото.
Это был камень с металлическими отблесками; негритянка дала его хозяйке, и та сверканием его развлекала ребенка.
Эусеб вырвал камень из рук Эстер так резко, что испугал ее, и, ни слова ей не сказав, принялся с любопытством его изучать.
— Где ты взяла этот камень? — спросил он наконец дрожащим от волнения голосом.
— Кора дала мне его, — ответила молодая женщина. — Но что в этом осколке кремня так сильно заинтересовало тебя, друг мой?
Эусеб знаком велел служанкам Эстер удалиться, а кормилице остаться.
— Кора, — спросил он, — желала ли ты когда-нибудь свободы?
— Да, — отвечала она. — Пока жив был ребенок, которого заменил мне ваш, я мечтала о ней как о самом прекрасном наследстве, какое мать может завещать сыну; теперь я больше не хочу ее.
— Бедная Кора! — произнесла Эстер, видя в словах негритянки объяснение привязанности, которой она ответила на ласковое отношение к ней хозяйки.
— Кора, — продолжал Эусеб, — я предлагаю тебе вовсе не бедную и полную лишений свободу, если только осуществятся надежды, родившиеся во мне при виде этого камня, — я предлагаю богатство, то есть обладание всем, что может пожелать на земле твое сердце, всем, что составит в этом мире твое счастье.
— Нет, — сказала Кора, покачав головой. — Бедной Коре не на что надеяться в этой жизни. Сам Бог не дал бы ей того, чем хотелось бы обладать ее сердцу.
— Разве ты не видишь, что бедная девушка постоянно оплакивает своего ребенка? — наклонившись к мужу, прошептала Эстер. — Не пробуждай же в ней эти мучительные воспоминания.
— Хорошо, — согласился Эусеб, но не смог не покраснеть. — Но ведь Кора еще молода, и горе, сдавившее ей сердце, может изгладиться.
Хотя Эусеб говорил вполголоса, Кора услышала его.
— Нет, — возразила она. — Кора умрет раньше, чем ее горе.
— Но, может быть, у тебя есть еще какие-нибудь привязанности в этом мире? — спросил Эусеб.
— Да, да! — с глубоким чувством ответила Кора.
— Не будет ли тебе приятно, например, способствовать счастью хозяев, которые обращались с тобой скорее как с дочерью, чем как с рабыней?
— Чем я могу услужить им? Скажите! Хотите ли, чтобы я отдала свою кровь?
— Добрая Кора! — сказала Эстер.
— Нужно гораздо меньше, — ответил Эусеб. — Только попытайся вспомнить. Где ты нашла этот камень? Знаешь ли ты это?
— Я помню об этом, словно только вчера он попал мне в руки, хотя это случилось очень давно.
— Рассказывай, Кора, мы слушаем тебя.
— Моим первым хозяином был белый человек, купивший мою мать, когда я была не старше, чем белое дитя, которому я даю свое молоко. Мы жили в Преанджере, у подножия горы Галунгунг. Однажды ночью — я видела к тому времени десять жарких сезонов и десять сезонов дождей, сменивших их, — нас разбудили крики всех обитателей домов и долгий глухой рев. Моя мать вскочила, подняла меня на руки и выбежала из хижины; земля тряслась у нас под ногами; за нашей спиной обрушились стены жилища; за ними нас ожидало страшное зрелище. Густой дым окутывал гору, и время от времени его прорезали высокие столбы пламени, поднимавшиеся до облаков; воздух был пропитан горячим паром с примесью грязи — его невозможно было вдыхать; потоки кипящей воды с грохотом обрушивались стеной со скалы на скалу; в зловещем свете пламени, вырывавшегося из горы, мы видели, как исчезают дома, деревья, холмы, сожженные или унесенные этим потоком. Вихри пара, которые он оставлял позади себя, отмечали его путь. Оставалось не больше льё до того места, где мы находились.
Все убегали, женщины, как и моя мать, несли на руках самых слабых детей; мужчины были нагружены наиболее ценными вещами и гнали перед собой скот. Чудовищный шум преследовавшей нас воды все приближался; каждый старался ускорить бег; однако ноша, которую взвалила на себя моя мать, отягощала ее и замедляла ее шаги; вскоре те, с кем мы вместе покинули жилище, опередили нас; походка же моей матери становилась тяжелой, ноги у нее подкашивались. В это время мимо нас пронесся человек на скакавшей галопом лошади; это был наш хозяин. "Бросай ребенка, — сказал он моей матери. — Это для тебя единственная возможность спасти свою жизнь!" Моя мать вместо ответа только крепче прижала меня к груди. Хозяин, взбешенный неповиновением, из-за которого мог потерять двух рабынь вместо одной, осыпал мою мать бранью и угрозами и хотел ударить ее оружием, которое он держал в руке. Эта новая опасность придала ей сил, она бросилась бежать от хозяина, как только что убегала от кипящей грязи, которой Галунгунг покрывала равнину; чтобы двигаться свободнее, она посадила меня к себе на спину. Я уже чувствовала на своих плечах горячее дыхание лошади хозяина, когда моя мать бросилась на скалу, мимо которой пробегала, и взобралась на нее со скоростью, казавшейся невозможной для нее, выбившейся из сил. Крик ярости, что издал наш хозяин, увидев, как она ускользнула от него, сменился тотчас же другим, полным тревоги и ужаса: повернув коня, он обнаружил, что поток догнал его; пришпорив свое верховое животное, он пытался заставить его совершить невероятный прыжок и преодолеть овраг, в который этот поток направлялся; но конь, задыхаясь среди исходивших оттуда серных испарений, не достиг противоположного берега — оба упали в пропасть, заполненную грязью, и она поглотила добычу.
Камень, на котором нашла пристанище моя мать, находился на склоне горы Текоекуа, стоящей рядом с Галунг-Гунг; если бы ей удалось подняться на гору, мы обе были бы спасены; но позади нас возвышалась отвесная каменная стена, а кипящая вода у наших ног не позволяла и думать о том, чтобы подняться в каком-то другом месте. Моя мать застыла в неподвижности на камне, надеясь, что грязевой поток, может быть, не поднимется туда, где мы стояли. Его испарения грозили задушить нас, но, к счастью, рядом с нами с горы бежал ручей, и моя мать дала мне из него напиться. Падая с высоты, он выточил в камне углубление; мать погрузила меня в прохладную чистую воду. В это время она с ужасом заметила, что опасность возрастает с каждой минутой: обжигающая грязь приближалась и вскоре, оказавшись всего в нескольких шагах от нас, стала биться у подножия откоса, на котором мы укрывались. Мать снова взяла меня на руки, крепко обняла, стараясь успокоить, и ей это так хорошо удалось, что вскоре я уснула, как спала бы в нашей хижине.
— Когда я проснулась, — продолжала Кора, — солнце стояло высоко над горизонтом. Мать, прислонившись к камню, продолжала сжимать меня в объятиях; мне показалось, что она тоже спит; осторожно, чтобы не разбудить ее, я высвободилась из ее рук и ступила на площадку; она еще была горячей, но грязь отступила и осталась только в овраге, где нашел смерть хозяин. Только теперь я заметила страшные ожоги на ступнях и ногах моей матери. Я позвала ее, но она не отвечала, я стала ее трясти, но она не шевелилась; меня пугало и ее молчание, и одиночество, в котором я оказалась; я заплакала, но в моем возрасте горе не могло быть долгим: мое внимание привлекли камни, подобные этому, — они лежали в том углублении, куда моя мать погружала меня прошедшей ночью; вода, бежавшая со скалы, совершенно освободила его от черной грязи, забившей его, как и остальную часть площадки, и камни сверкали всеми огнями под лучами солнца. Я играла с ними, пока люди, разыскивавшие жертв бедствия, не нашли нас; они унесли мою мать и увели меня, но я успела спрятать под одеждой самый красивый из тех камней, что показались мне такими забавными. Некоторое время я считала его игрушкой; потом я поняла, что моя мать умерла, защищая меня от всех опасностей, принесла себя в жертву, спасая мне жизнь, и этот сверкающий камень напоминал мне о ней.
— Бедная Кора! — произнесла Эстер, поглаживая своими тонкими белыми пальцами густые волосы юной негритянки. — Ты много страдала, ноя постараюсь, чтобы остальная часть твоей жизни была менее трудной, чем ее начало.
Кора опустила глаза и не ответила. Что касается Эусеба, ничто не могло заставить его забыть о цели, к которой он стремился.
— Но раз в то время тебе было всего десять лет, — спросил он, — может быть, сегодня ты не сумеешь найти место, где происходили события, о которых ты только что рассказала?
— Скажите мне, что вам этого хочется, потом завяжите мне глаза, и в самой темной ночи я приведу вас туда, — с уверенностью заявила Кора.
— Боже мой! — перебила Эстер. — Зачем так мучить эту бедную девочку из-за того, что может оказаться всего лишь ребячеством? Что за ценность для тебя представляет этот камень?
— Эстер, — сказал Эусеб, понизив голос, словно боялся, что его услышат за стенами, — этот камень — алмаз!
— В самом деле? — удивилась молодая женщина, с детским любопытством рассматривая драгоценность.
— Да, алмаз, и, если, как все заставляет предполагать, он не один в этом месторождении, если, поднявшись по ручью, увлекающему их в своем течении, можно добраться до того места, где они залегают, — суди сама, какое богатство принесет обладание подобным сокровищем!
Пока Эусеб говорил, лицо его разгорелось, глаза сверкали необычным блеском. Эстер испугалась этого.
— Друг мой, — сказала она Эусебу. — Где оно, то время, когда ты хотел отказаться от нашего богатства? Где они, твои планы избавиться от этого тягостного благосостояния, как только оно обеспечит нашим детям то, что некогда составляло предел наших желаний, — скромный, но честный достаток?
Этот упрек, возможно впервые адресованный Эусебу, нисколько его не затронул, но — и это тоже было впервые — восстановил его против жены.
С тех пор как сердце, к которому вы обращаетесь, уже не влюблено безумно, непростительной ошибкой становится справедливо укорять его; вы его задеваете, вы его унижаете, вы раните его, не убеждая; подобно всем тиранам, страсть глуха ко всему, что не льстит ей.
В этой ситуации приводить свои доводы мягко и ласково означает усугублять ошибку: к первой обиде прибавляется вторая.
Слова Эстер только подлили масла в огонь горячечной алчности, пылавшей в душе ее мужа; они не только не успокоили, но и возбудили его.
Он отвечал с досадой, он яростно защищал то, что называл любовью к семье, заботой о благе родных, и слезы, струившиеся из глаз Эстер, когда она попросила прощения, не трогали его.
Хотя покорность Эстер любому желанию мужа не давала никакого предлога для его гнева, примирение супругов было долгим. Сколько она ни отказывалась от неосторожных слов, из-за которых разразилась гроза, Эусеб цеплялся за них, как гладиатор хватается за обломок меча, стараясь отразить нападение хорошо вооруженного врага. Он никак не мог забыть их, и его злоба так долго не утихала, что после холодных и сухих слов прощания, с которыми обратился к ней муж, бедная женщина еще должна была завидовать милой и приветливой улыбке, какой Эусеб ответил Коре, когда негритянка заверила хозяина, что он может, раз ему хочется, подержать у себя несколько дней драгоценный камень — первопричину семейных разногласий.
XXII ТЕКОЕКУА
На следующий день Эусеб поднялся на рассвете и, вопреки своему обыкновению, вместо того чтобы спуститься прямо в Батавию, оказавшись на Стеенен-Оверласт, повернул влево и вошел в китайский Кампонг.
Час был ранний, но трудолюбивое население квартала уже заполнило улицы; во всех направлениях сновали бродячие торговцы, нагруженные продовольствием, и в сопровождении оглушительных инструментов на разные голоса предлагали овощи, рыбу, мясо, всякую живность, которые они носили в больших корзинах, перекинутых через плечо, словно чаши весов; приказчики прибирали у порога лавок, смахивали пыль с красивых вывесок, укрепленных вертикально таким образом, чтобы показать публике обе их стороны и на них написанные золотыми буквами имена торговцев; затем появлялся в свою очередь сам хозяин, звеня шариками суан-панн, чтобы привлечь богатство и отогнать неудачи.
Магазины ломились от всевозможных товаров из Небесной империи.
Здесь были предметы из слоновой кости, на которые мастер истощил все искусство, каким Создатель наделил руки человека; веера из перламутра, из сандалового дерева и черепаховые; ширмы; расписанные акварелью свитки; бамбуковая и ротанговая мебель; шелка всех цветов и видов, от великолепных тяжелых затканных золотом материй до самых скромных; затем горы съестного, в том числе — ласточкины гнезда, голотурии, плавники акул и иногда женьшень — эта панацея китайцев.
Эусеб был слишком озабочен, чтобы обращать внимание на живописное зрелище.
Он искал гранильщика и, найдя, вошел в его лавочку, показал ему камень Коры, и попросил осмотреть его.
Китаец поскреб им о свой точильный камень, осмотрел под лупой каждую грань и отдал его с тяжелым вздохом сожаления, который и без слов доказал Эусебу, что это черный алмаз, и алмаз огромной ценности.
Эусеб бросил на прилавок серебряную монету, чтобы утешить китайца в досаде, которую тот испытал, не имея возможности получить в собственность такую дорогую вещь, и, очень веселый, отправился в свою контору в Батавии, откуда вышел вечером раньше обычного.
Возвратившись домой, он заметил Кору: она сидела в беседке на том самом месте, где некогда лежал Харруш.
Эусеб был так счастлив обретенной уверенностью, что испытывал потребность излить свою радость, поэтому, вместо того чтобы равнодушно и высокомерно пройти мимо негритянки, как делал всегда, он направился прямо к ней и сказал:
— Кора, ты нашла алмаз, и самый ценный из всех алмазов — черный.
— Сердце любящей женщины — тоже алмаз, — вполголоса откликнулась Кора. — Но, менее счастливое, чем этот камень: оно утрачивает цену из-за своего темного цвета!
Эусеб не счел нужным отвечать на это горестное восклицание; он был охвачен восторгом.
— Когда все в доме заснут, приходи ко мне, Кора, мне надо дополнить те сведения, что ты дала мне вчера вечером.
— Господин может приказывать, он всегда найдет свою преданную и покорную рабыню, — едва слышно произнесла Кора.
И в самом деле, когда все в доме затихли, когда дыхание г-жи ван ден Беек, рядом с которой помещалась негритянка, убедило ее в том, что хозяйка спит, Кора встала с постели и по маленькому коридору — мы о нем уже упоминали — проскользнула в комнату Эусеба.
Ее хозяин лежал на покрывавших пол циновках перед огромной картой острова Ява, начерченной инженером ван де Вельде. Рядом с ним была стопка книг, сверху лежал алмаз, отражая в своих гранях огоньки двух свечей.
Эусеб был так поглощен своими топографическими исследованиями, что прошло несколько минут, прежде чем он заметил Кору. Наконец он поднял голову, увидел ее и воскликнул:
— Право же, ты пришла как раз вовремя, Кора! Я не мог выбраться из этого лабиринта гор, более запутанного, чем кудель на прялке старухи в моей стране.
Кора не поняла его, однако через несколько минут она смогла точно указать Эусебу место, где разыгралась сцена, последовавшая за извержением Галунгунга.
По ее мнению, это должно было быть на северном склоне горы Текоекуа, между городком Гавое и деревней Саоеджи.
Карта сообщала, что доступная для носилок дорога ведет к первому из этих поселений; оттуда до того места, где, как говорила негритянка, был найден алмаз, оставалось лишь небольшое расстояние, и проехать его можно было верхом на лошади.
Эусеб отослал молодую женщину. Он считал, что его обезоруживает смиренное и почтительное поведение рабыни, но в действительности он не был в состоянии повелевать потому, что между ним и ею был секрет, и, каким бы маловажным он ни был, его сообщница полностью господствовала над ним.
Эусеб нетерпеливо ждал момента, когда он сможет совершить путешествие к месторождению алмазов.
Госпожа ван ден Беек едва оправилась от родов, и, как ни уверен он был в своих силах, каким бы равнодушным ко всему, кроме дел, ни казался, его довольно сильно пугала мысль о том, что он целые дни, недели, возможно, месяцы проведет наедине с красивой рабыней, и он не хотел предпринимать эту поездку без Эстер. Впрочем, Кора кормила ребенка, и лишать бедное маленькое существо той, что была необходима ему, было бы жестокостью, на которую Эусеб не был пока способен, несмотря на сжигавшее его нетерпение.
Его добрая и нежная жена, читавшая на лице мужа все переживания его души, отгадала, что с ним происходит, и пошла навстречу самым заветным его желаниям.
Однажды, когда Эусеб в сотый, наверное, раз осведомлялся, когда же мальчика отнимут от груди, она ласково улыбнулась мужу и сказала ему, что думает, будто путешествие в горы окажется полезным и для ее здоровья, и для здоровья ребенка.
— Путешествие в горы! — воскликнул Эусеб, не зная, что и подумать об этом намерении, так тешившем все его грезы.
— Разумеется! Не правда ли, воздух там свежий и чистый? Не правда ли, мы сможем там отдохнуть от тяжелого зноя, который так мучает меня уже два месяца? К тому же, — продолжала Эстер, не желая, чтобы муж стыдился алчности, в которой она однажды упрекнула его, — поскольку мне безразлично, в какие именно горы мы отправимся, мы можем поехать к горе Текоекуа; для тебя это будет случай проверить, остались ли собратья у алмаза Коры.
— А Кора? — задыхаясь от надежды, спросил Эусеб.
— Кора? Мы возьмем ее с собой; я не собираюсь расставаться с моим ребенком, а он не может обойтись без нее.
Эусеб бросился к жене и радостно расцеловал ее.
Увы! Эти восторги адресовались уже не Эстер, они относились к слепившим ему глаза алмазам: в своем воображении он видел огромные их груды, рассыпавшиеся под его пальцами сверкающим фейерверком.
Эусеб с таким жаром торопил приготовления к отъезду, что через три дня после предложения Эстер маленький караван направился во внутреннюю часть острова.
Они передвигались на почтовых, как путешествуют на Яве богатые колонисты — эта служба там достаточно хорошо организована, — в просторной берлине, запряженной двенадцатью местными лошадьми, маленькими, но чрезвычайно резвыми и сильными; туземцы пешком следовали за лошадьми, как бы те ни бежали, подбадривая их жестами и голосом, призывая к себе земледельцев, работавших в полях по обочинам дороги; с их помощью, в которой никогда здесь не отказывают, они тащили и подталкивали тяжелую карету, когда дорога делалась трудной и маленькие лошадки отказывались двигаться дальше.
Таким образом они пересекли Бёйтензорг и Джанджое и добрались до Бандунга, где дорога стала непроходимой для кареты; пришлось оставить берлину в этом городе, и женщины продолжали путь в носилках, а мужчины — верхом.
В тот день, когда они прибыли в Гавое, вечером, Эусеб, устроив жену в заранее снятом им доме, поспешил на террасу, выходившую на южную сторону, чтобы посмотреть на гору Текоекуа, у которой видна была лишь покрытая снегом вершина.
К большому его удивлению, Кора уже опередила его: опершись на бамбуковую балюстраду, служившую перилами, она устремила взгляд на темную громаду гранитной скалы, основание которой тонуло в однообразной лиловой дымке, и лишь вершина еще была освещена заходящим солнцем, обагрившем ее своими лучами.
Негритянка так погрузилась в созерцание, что не слышала, как сзади подошел Эусеб; приблизившись, он легко коснулся ее плеча; вздрогнув, она обернулась и, узнав хозяина, вскрикнула от страха.
— Что с тобой, дитя? — спросил ван ден Беек.
— Господин, вы хотите, чтобы я со спокойным сердцем смотрела на те места, которые вызывают во мне такие мучительные воспоминания?
— Мы никогда не скрывали от тебя, в какую сторону собираемся направиться; для того чтобы начать огорчаться, тебе незачем ждать, пока мы приблизимся к цели нашей поездки: мы уже на месте. Так вот она, эта гора, что скрывает в своих склонах несметные богатства, которые станут нашими!
— Господин, господин! — воскликнула Кора. — Подумайте хорошенько перед тем, как протянуть к ним руку; дух горы жаден, как люди, и, подобно им, охраняет и упорно защищает свои сокровища.
Мысль овладеть неиссякаемым источником богатства, на который он позарился, так ослепила Эусеба, что угроза столкновения со сверхъестественным духом, от которой он содрогнулся бы после своей встречи с Базилиусом, теперь не произвела на него ни малейшего впечатления.
Он пожал плечами.
— Господин, — продолжала Кора. — Разве мы не были счастливы в большом доме на Вельтевреде: вы — теми бесчисленными благами, каюте послал вам Бог, и любовью вашей жены, я — тем, что иногда ловила сочувственный взгляд, брошенный вами на свою рабыню? Ах, почему мы покинули Вельтевреде!
В голосе негритянки, когда она произносила эти слова, звучали слезы, а тон выдавал глубокое волнение.
— Рабыня, — почти угрожающе обратился к ней Эусеб. — Несмотря на все твои хитрости, я отгадал правду: ты обманула меня.
— Я! — в отчаянии вскрикнула Кора.
— Ты меня обманула, признайся в этом! История находки этого алмаза — сказка, существование впадины, наполненной такими же камнями — легенда; ты посмеялась надо мной и над моей глупой доверчивостью.
— Нет, господин, я не солгала; о, не думай так, заклинаю тебя духом моей матери, которая умерла, чтобы спасти мне жизнь, я сказала правду, клянусь тебе.
— Хорошо, — согласился Эусеб, почти убежденный твердостью, с какой говорила Кора. — Завтра, когда будет светло, мы тронемся в путь и, когда проделаем два льё, когда окажемся на склоне Текоекуа, одна сторона которой обращена к морю, другая — к равнине, увидим, не лгала ли Кора, поклявшись духом той, что дала ей жизнь.
— Нет, не завтра, нет, не пойдем на Текоекуа, откажись от твоих планов, господин!
— Никогда! — закричал Эусеб. — Я не позволю провести себя! И хотя бы для того, чтобы уличить тебя в наглой лжи, мы поищем завтра площадку, примыкающую к каменной стене, с высоты которой падает ручей, увлекающий в своем течении алмазы. Ты видишь, Кора, я все помню!
— Если только эти блестящие камни могут тронуть твое сердце, господин, скажи, и я обойду все ручьи на других горах, обыщу их ложа, израню пальцы о камни на дне и принесу тебе весь мой улов, ничего себе не оставив, клянусь тебе.
— Безумная! Как будто на всем острове может существовать хотя бы еще одно месторождение, подобное тому, о каком ты мне рассказала! Ну, Кора, повторяю тебе: должна ли эта поездка обогатить нас или всего лишь уличить тебя во лжи, приготовься совершить ее завтра на рассвете и послужить мне проводником.
— Нет, ищите другого проводника, — ответила негритянка, качая головой. — Кора не сможет отвести вас на Текоекуа.
— Несчастная! — уступив порыву гнева, Эусеб замахнулся на нее.
Но он тотчас же устыдился своей вспышки и добавил уже мягче:
— Так вот, значит, та безграничная признательность, которую Кора якобы испытывает к своему господину!
— Пусть рука, которую ты занес, опустится на меня! — воскликнула Кора. — Бей свою рабыню, топчи ее ногами, но не клевещи на нее, господин!
Здесь Кора остановилась, издав глухой крик, словно страшное видение сдавило ей горло и заставило замолчать; она судорожно дрожала всем телом, ей трудно было дышать; блуждающий взгляд ее был устремлен в сторону горы Текоекуа.
Проследив за его направлением, Эусеб увидел столб красноватого дыма, поднимавшийся у основания горы из-за опоясывавших ее деревьев.
Он решил, что это обыкновенный костер какого-нибудь охотника, и не подумал связать с ним внезапный ужас, охвативший Кору.
— Ну что? — спросил он, повернувшись к ней.
— Вы этого хотите, господин, — ответила она еще сдавленным от волнения голосом. — Вы этого хотите, и я пойду, я отведу вас туда, где алмазы спят под толщей жидкого хрусталя.
Эусеб был слишком возбужден для того, чтобы уснуть.
Не прошло еще двух третей ночи, как он встал с постели и с самыми большими предосторожностями, чтобы не разбудить Эстер, направился к дивану, служившему ложем негритянке.
Он слегка задел колыбель, где спал его сын; но, к своему изумлению, не увидел на циновках молодой женщины.
Эусеб испытал мучительную тревогу; он предположил, что Кора, поддавшись выказанному ею накануне чувству отвращения к этой экспедиции, сбежала.
Он поспешно спустился расспросить о ней.
Направляясь через тростники, окружавшие его жилище, к дому, где разместил слуг, Эусеб услышал глубокий вздох и остановился.
В двух шагах от себя он разглядел в тени черную фигуру.
— Это ты, Кора? — спросил Эусеб.
— Кто, кроме Коры, станет бодрствовать оттого, что вы не спите?
— Бедная Кора! Знаешь ли ты, что на минуту я испугался, не вернулась ли ты на Вельтевреде?
— Кора всего лишь рабыня, и дороги не открыты ее воле.
— Кора, вторая мать моего сына, всегда была другом нашего дома, и я не хочу, чтобы другие узы, кроме привязанности, соединяли ее с нами; я даю ей свободу.
— К чему перерезать веревку из кокосовых волокон, раз на ноге остается тяжелая железная цепь, сжимая ее? Кора всегда будет рабыней — твоей и еще кого-то другого, более могущественного, чем ты.
— Кто этот другой хозяин, Кора?
Негритянка несколько секунд колебалась и наконец сказала:
— Судьба, которая говорит мне: "Иди!" — и заставляет меня идти, даже если я вижу бездонные глаза подстерегающей меня смерти.
Эусеб пожал плечами.
— Так ты не образумилась со вчерашнего вечера!
— Я готова отвести тебя на склоны Текоекуа, — заявила молодая женщина; она встала и отошла от бамбукового столба, прислонившись к которому сидела.
— Хорошо; тогда я разбужу моих слуг, чтобы они сопровождали нас.
— Нет, — возразила Кора. — Дух горы не только жаден, но и недоверчив; один мужчина и одна женщина вызовут у него меньше подозрений.
— Хорошо! — согласился Эусеб, решив, что может в этом уступить суевериям бедной негритянки. — Но дай мне взять хотя бы лошадей.
— К чему? Какими бы проворными ни были их ноги, они не унесут нас от опасности, если она встанет перед нами, а на склонах гор они будут бесполезны для нас. Если мольбы моего сердца не тронули тебя, если любовь к этим блестящим камням заставляет тебя пренебречь опасностями, о которых я тебе говорила, как и слезами, что катятся из моих глаз, — возьми меня за руку, и пойдем.
Эусеб схватил руку юной негритянки: сухая и горячая, она лихорадочно дрожала.
— Идем, — ответил он, увлекая за собой Кору, — идем!
Оставив слева сады Гавое, они направились к югу через равнину, засаженную цветущими фруктовыми деревьями, разлившими в воздухе сильные и сладкие ароматы.
Ночь была тихой и ясной, одни лишь звезды слабо освещали двух путешественников.
Так они шли в течение часа.
Понемногу последние признаки цивилизации остались позади; невысокие, с круглыми вершинами манговые, лимонные и дынные деревья сменились вырезанными в звездном куполе высокими и плотными силуэтами тамариндов, ликвидамбаров, тиковых и других лесных деревьев.
Поднявшийся ветер с сильным шумом заколыхал широкие листья кокосовых и гибкие стрелки арековых пальм, что склонялись и волновались на пути ночных странников, словно огромные султаны.
Приближался рассвет; Эусеб и кора вошли в лес, покрывавший основание горы Текоекуа.
Громоздившиеся друг на друга обломки базальта и лавы, пепел и шлак покрывали землю и затрудняли передвижение; посреди огромной поляны возвышалась пирамидальная скала, брошенная туда, возможно, каким-нибудь чудовищным извержением вулкана.
Эусеб остановился у подножия этой скалы, поджидая немного отставшую Кору; он позвал ее, и девушка прибежала на зов.
Она держала в руках охапку веток гардении и стеблей малатти, только что собранных ею, и плела из них венок, в который ловко, хотя было темно, вставляла белые чашечки первых и пурпурные трубочки вторых.
— Что ты делаешь? — спросил Эусеб.
— Мы не можем идти дальше, пока я не принесу жертву духу огня, хозяину горы.
— Так сделай это, и сделай поскорее, — ответил Эусеб, не дав себе труда скрыть жест досады.
— Будь милостивым и добрым, господин; своды деревьев удваивают темноту ночи, и мы не сможем до рассвета двигаться дальше; позволь твоей рабыне сделать дух благосклонным к твоим намерениям; она сейчас охвачена таким же, как ты, нетерпением оказаться там, где сверкающие камни огненными волнами заструятся у тебя в пальцах.
Успокоенный словами Коры, Эусеб сел на ствол упавшей пальмы.
Молодая негритянка покрыла голову сплетенным ею венком, продолжая держать в руке довольно большой букет, собрала ветки для костра; разгоревшееся пламя озарило красноватым светом лицо и одежду Коры, вставшей на гребень монолита.
Один за другим она брала из букета, который держала в руке, белые цветы гардении и бросала их в костер, напевая тягучую однообразную мелодию, напоминавшую жалобы наших европейских пастухов.
Мрачная и величественная декорация, поза и фантастическая красота негритянки (освещенная отблесками умирающего костра, Кора казалась жрицей ночи), взволнованный, несмотря на однообразие речитатива, голос — все должно было поразить воображение Эусеба.
Допев свое заклинание, Кора сняла с головы венок и тоже бросила его в костер; затем, склонившись к пламени, с тревогой следила за тем, как он горит.
Внезапно, когда последние вспышки заставили затрещать темные листья малатти, она радостно вскрикнула, выхватила из огня наполовину сгоревший венок и поспешно сбежала со скалы.
— Смотри, смотри, — сказала она Эусебу, показывая ему почерневшие ветки. — Видишь, этот цветок гардении вышел из испытания нетронутым: пламя пощадило его и он такой же белый, такой же чистый, каким был, когда мои пальцы сорвали его стебель.
— И что же?
— Это доброе предзнаменование; дух на твоей стороне, ты вернешься из этого путешествия живым и здоровым.
— Но ты, Кора?
— Это неважно, — ответила Кора, смяв пальцами благоухающие трубочки малатти, вероятно изображавшие ее в этом обряде; огонь скрутил, обуглил их и заставил почернеть.
— Нет! — воскликнул Эусеб. — Я скорее откажусь от алмазов, даже если их так же много и они весят столько же, как те, что содержатся во всех копях Визапура, чем пожертвую ради них одним-единственным твоим волоском!
Вырвав, наконец, у Эусеба это восклицание, Кора, казалось, ослабела.
— Ну, дитя мое, вставай, — продолжал Эусеб. — Постараемся к утру вернуться в Гавое.
— Вернуться в Гавое? Но почему? — в недоумении переспросила негритянка.
— Потому что незачем продолжать это долгое испытание.
— О каком испытании ты хочешь говорить, господин?
И она пальцем указала Эусебу на фосфоресцирующий огонек, летевший к горе, то скользя над самой землей, то поднимаясь к вершинам самых высоких пальм.
— Но куда идти в ту сторону?
— На Текоекуа. Прежде чем солнце пройдет половину своего пути, ты погрузишь руки в чашу, содержащую чудесное богатство, о котором я говорила тебе. Я сказала тебе правду, господин, клянусь тебе. Пойдем, он хочет этого, так надо.
Несмотря на неразрешимую загадку, содержавшуюся для него в этих последних словах, Эусеб без колебаний, с новым пылом последовал за Корой: ориентируясь на подвижный огонь, который она показывала хозяину, молодая женщина взбиралась на первые откосы Текоекуа и прокладывала путь среди лиан, превративших лес в непроницаемую массу зелени.
Вскоре Эусеб и Кора покинули область больших лесов и вступили туда, где земля, тощая от покрывших ее поверхность пепла и лавы, может вскормить лишь невзрачные мимозы и малорослые пальмы. С приближением утра звезды побелели, ночь стала темнее, и Кора продолжала путь, следуя за блуждающим огоньком, прихотливо двигающимся перед ней и ее спутником.
Эусеб осмелился высказать несколько замечаний; но, хотя Кора судорожно вздрагивала всем телом, словно все еще не могла оправиться от испытанных ею треволнений, она твердо настаивала на том, чтобы не отступать от пути, начертанного перед ними огнем, который им послал, по ее словам, сам Ракшаса, и ее хозяин, видевший, что они продолжают подниматься в гору, больше не решался возражать.
Понемногу последние мимозы остались позади; земля, по которой они шли, становилась все более неровной.
Иногда им приходилось взбираться на груды остывшей лавы или базальта, расставленные по земле, словно исполинские дольмены; иногда они до колен проваливались в рыхлый пепел, покрывший землю слоем в несколько футов толщиной.
— Судя по твоему рассказу, Кора, — произнес Эусеб, — мне кажется, что мы совершенно напрасно взбираемся на все эти скалы; отвесная скала и несущий алмазы ручей должны находиться на этой высоте Текоекуа, но правее; они должны находиться на том склоне горы, что смотрит на Папандаян, ее соседа.
Вместо ответа Кора показала хозяину бледный огонек, продолжавший порхать над кучами шлака; Эусеб, оглядев темную громаду возвышавшейся перед ним горы, увидел, что они поднялись не более чем на треть ее высоты, и признал, что, возможно, права негритянка.
— Все равно, — произнес он. — Думаю, лучше нам здесь дождаться утра; я больше доверяю твоим воспоминаниям, чем доброй воле, которую проявляет по отношению ко мне Ракшаса.
Эусеб кончал говорить, когда, запутавшись в чем-то ногами, покачнулся; потрогав это рукой, он в ужасе закричал: препятствие оказалось человеческим скелетом.
На его крик эхом откликнулась Кора; только что негритянка увидела, как погас, словно унесенный мощным дыханием, язык пламени, что привел их к этому месту.
В то же время резкий смрадный запах проник в мозг обоих путешественников и вызвал у них головокружение.
Эусеб не сразу понял, что происходит кругом, но Кора, 19-435 выросшая в этой стране, не могла ошибиться и тотчас воскликнула:
— Мы погибли, неминуемо погибли! Дух горы заманил нас в Гуево-Упас.
— Гуево-Упас? Что это? — спросил Эусеб.
— Это страшная долина, из которой не вышел ни один из тех, кто в нее вошел; оглянись, земля вокруг нас побелела от костей всех, кто нашел здесь свою смерть.
— Это легенда, — возразил Эусеб. — Бохон-упас никогда не убивал тех, кто уснул в его тени; его сок опасен только в том случае, если проникнет в кровь.
— Кто тебе говорит о бохон-упасе? — нетерпеливо перебила Кора. — Я сказала, что мы в Гуево-Упас, долине яда, что нас убьет не тень проклятого дерева, а испарения, поднимающиеся от земли, — Ракшаса посылает их своим врагам, чтобы они задохнулись.
Эусеб понял, что негритянка права: они оказались в одной из погасших сольфатар, где скопившиеся в атмосфере пары углекислоты душат живые существа, осмелившиеся проникнуть в отравленную среду.
На каждом шагу по этой проклятой земле он наталкивался на остов человека или животного; он чувствовал, как под ногами у него, хрустя, рассыпаются иссохшие кости, и холодный пот струился по его лбу.
Кора растерянно металась по сторонам, словно пыталась найти проход, отыскать средство к спасению.
— Ракшаса не постыдился объединиться с бакасахамом. Дух огня подчинился воле того, кто, как отвратительный червь, находит в могилах пищу, продлевающую его существование. Но ведь и сам он, гнусный бакасахам, поклялся мне, что удовольствуется одной жертвой! Если ты обманул меня, когда я на коленях умоляла тебя пощадить того, кто мне дороже жизни, будь проклят, о Базилиус!
Это имя вырвало Эусеба из расслабленности, в которую он начинал впадать то ли от страха, то ли под воздействием смертоносного газа. Он бросился к Коре и схватил ее за руку в ту минуту, когда она только что поднялась на огромную глыбу базальта, что одна возвышалась над зловещей равниной.
— Женщина! — вскричал он. — Ответь мне, как отвечала бы твоему Богу! Что за имя ты только что произнесла?
— Пощади! Пощади! — взмолилась Кора, обнимая колени хозяина.
— Ах, теперь мне все понятно. Я вижу, что попал в адскую ловушку! Я считал тебя доброй, любящей, преданной, но ты подослана им, чтобы погубить меня. Что ж, призрак ты или женщина, возвращайся к тому, кто научил тебя разыграть эту позорную комедию, и скажи ему, что я презираю его старания и его ярость.
Негритянка завладела крисом, висевшим на поясе Эусеба, и нанесла себе несколько жестоких ударов.
— Я хочу умереть прежде чем получу от тебя проклятие! К тому же духу горы требовалась жертва. Я предложила ему себя — и он успокоился!
Кора упала на камень и соскользнула по пологому его склону, противоположному тому, по которому она, как и Эусеб, поднималась.
Эусеб слышал, как катится по откосу тело молодой женщины, увлекая за собой камни, затем — последнее прощание негритянки, и вновь воцарилась тишина.
Каким бы справедливым ни казалось Эусебу это самопожертвование, почти сразу же после того, как преступление совершилось, он почувствовал угрызения совести; забыв разом и свою обиду на Кору, и собственное положение, он принялся оплакивать судьбу несчастной молодой женщины, принесшей себя в жертву его алчности.
Испытываемая им боль заставила его обратить внимание на себя самого: дыхание его становилось все более затрудненным, мозг все больше отуманивался с каждой минутой, ему казалось, что во всех направлениях его тело пронизывают тысячи огненных стрел.
Он пытался идти, но у него подкашивались ноги; он шатался как пьяный, и каждое сделанное им движение причиняло ему невыносимые страдания.
Он сел на глыбу базальта.
Перед ним расстилалась равнина; он слышал шум ветра, пробегавшего по лесам, видел, как здесь и там на темном покрывале, лежавшем между ним и горизонтом, вспыхивают огоньки, — они горели в домах, и, может быть, один из них светился у изголовья Эстер.
Он попытался сосредоточить мысли на той, кого любил, отогнать сожаление о богатствах, омрачающее его последние минуты.
В это время морской ветерок, быстрый и прохладный, пробежав по лбу Эусеба, немного привел его в чувство; ему показалось, что негритянка зовет его со дна пропасти, в которую упала у него на глазах.
Почувствовав, как пробуждается в нем инстинкт самосохранения, который так трудно заглушить в человеке, он попытался встать, но скованные члены отказались повиноваться ему.
Призывы усиливались, голос Коры молил Эусеба прийти к ней, заклинал всем, что было у него драгоценного в этом мире, именем его жены и его ребенка.
19*
Среди тьмы, начинавшей окутывать мозг Эусеба, вспыхнула внезапная мысль; он дал тяжести своего тела увлечь себя по склону пропасти.
Но это последнее усилие поглотило весь остаток его энергии, и, коснувшись выступов скалы, он потерял сознание.
Этот обморок длился всего несколько мгновений; сильное ощущение приятной прохлады привело его в чувство; открыв глаза, он обнаружил, что лежит поперек ручья, бежавшего по дну ущелья, а голова его покоится на коленях Коры; сама негритянка прислонилась к стене ущелья и казалась близка к смерти.
— Спасен! Спасен!… — молитвенно сложив руки, повторяла негритянка. — Прости, Ракшаса, что я усомнилась в правдивости твоего предсказания.
— Да, я спасен, — ответил Эусеб. — Твой голос внушил мне решение спуститься в эту пропасть, защищенную от ядовитых испарений вулкана. Кора, моя благодарность тебе будет вечной.
— О, теперь я могу умереть, когда уверена, что не унесу с собой твоих проклятий!
— Умереть, сказала ты? Но ты ошибаешься. Если ты не погибла от ран, ты будешь жить.
— Нет, нет, — возразила Кора. — Через несколько мгновений я вернусь к тому, кто простирает к нам руки, не различая цвета кожи. Твои заботы напрасны, но будь благословен за сострадание, которое облегчает мои последние мгновения. Может быть, награда за эту жалость не заставит себя ждать.
— Что ты хочешь сказать?
— Ракшаса справедлив, Ракшаса велик: могущественный дух горы не мог вступить в союз с мерзким бакасахамом.
— К чему ты ведешь?
— Ракшаса не насмехается над теми, кто с пылким сердцем взывает о помощи.
— Не могу тебя понять.
— Должно быть, он направил наши шаги к тому месту, куда ты хотел идти; я предложила ему мою жизнь, если он позволит тебе отнять у склона горы тот камень, что ты хочешь; я умру, и Ракшаса не сможет обмануть нас. Мы должны быть поблизости от того уголка, где покоятся под водой камни, что принесут тебе счастье.
— Несчастная! Опять эти алмазы! Мы в ущелье, из которого нет выхода, и, если только не сумеем подняться по склону Гуево-Упас, если не решимся вновь пересечь ядовитую равнину, кто знает, сможем ли мы выбраться отсюда! Приди в себя, Кора, и перестань, умоляю тебя, забавляться моей доверчивостью, продолжая говорить об этих сказочных богатствах.
— Кора вовсе не забавлялась твоей доверчивостью, господин.
— Боже, Боже мой! — Эусеба охватило волнение, близкое к помешательству. — Не бредит ли она? Это правда?
— Мне кажется, моя память видела уже это страшное место; ах! если бы только силы не покинули меня, хоть ночь и темна, я уверенно провела бы тебя по этому лабиринту и смогла бы направить к желанному сокровищу.
— Нет, каждое усилие, которое ты совершишь, отнимет у тебя силы и приблизит последнюю минуту. Кора, Кора! Но я могу идти! Говори, говори! Скажи мне, в какую сторону мне направиться.
Стараясь оживить Кору, дыхание которой угасало, Эусеб смочил в ручье свой платок и освежил ей лицо.
— Кора, приди в себя! — позвал он. — Постарайся собрать свои воспоминания. Ах, если бы я обладал этими богатствами, я мог бы бросить вызов Базилиусу! Кора, здесь везде расставлены сети, куда я должен идти?
— Простил ли ты меня, господин? — спросила Кора.
— Да; но можешь ли ты собраться с мыслями и сказать мне, в какой стороне я должен продолжать поиски?
— Веришь ли ты теперь, что я не солгала тебе?
— Сокровище существует, но минуты драгоценны. Ты должна дать мне несколько указаний, чтобы я мог ориентироваться, и не только для того, чтобы найти его, но и для того, чтобы выбраться из этой пропасти, которая, возможно, всего лишь один из кратеров вулкана. Нескольких минут мне хватит, чтобы собрать то, что сделает нас навеки богатыми и сильными. Я понесу тебя на руках. Наука принадлежит тому, кто платит за нее, а я заплачу столько, что она отведет от твоей головы нависшую над ней угрозу смерти. Ты можешь жить долго и счастливо; скажи, разве ты не хочешь этого?
— Разве я не счастлива? — ответила негритянка; слушая Эусеба, она впала в своего рода экстаз. — Ах, смерть это или жизнь, но я счастлива, и другого счастья не прошу.
— Приди в себя, Кора, расскажи мне о сокровище.
— Да, — негритянка все больше возбуждалась. — Когда ты пройдешь по земле, в которой я буду спать, мои кости вздрогнут, как сегодня.
У Эусеба кружилась голова, безумие овладевало его мозгом, уже поврежденным теми потрясениями, что он испытал в последние несколько часов.
Слова Коры пробудили в нем жестокую, неумолимую алчность. Он больше не сомневался. Интуиция подсказывала ему, что клад в нескольких шагах о него; он ощущал его, он его видел, и ему казалось, что одно слово Коры заставит клад попасть к нему в руки.
Нетерпение завладеть им мешало Эусебу размышлять; стоило ему только подумать о том, что, оказавшись так близко к цели, он все же может не достичь ее, как его охватила безумная ярость против негритянки:
— Кора, Кора, заклинаю, ответь мне. Где ручей? Где алмазы?
— Прости, прости, господин, у меня туман перед глазами.
Эусеб ясно видел, что ничего больше не добьется от умирающей; он выпустил из рук голову негритянки, с глухим тяжелым звуком упавшую на камень, и сел у ручья, тревожно оглядываясь кругом.
Как мы сказали, этот ручей бежал по дну ущелья, меж двух огромных каменных стен, разошедшихся при каком-то страшном содрогании горы.
В сотне шагов от того места, где он находился, одна из гранитных стен соединялась с горой, образуя один из ее пластов, а вторая, подняв к небу зубец вершины, опускалась и растворялась в тенях равнины.
Но до сих пор Эусеб не мог в темноте понять, что на этом расстоянии кончается ущелье.
Теперь он заметил между двумя рядами гигантских черных камней, сквозь зияющее отверстие, огненную линию, от которой исходили розовые лучи и, распускаясь снопом, оживляли небесную лазурь над горизонтом.
Это была заря.
Он слышал шум потока, водопадом обрушивавшегося с края ущелья.
Это был выход из пропасти.
Он побежал к этой расщелине и в двадцати шагах под собой увидел маленькую площадку, так хорошо описанную Корой, и на этой площадке — чашу, которую выточила вода, падая на скалу.
— Алмазный ручей! — закричал он.
В ту же минуту огненный луч восходящего солнца, проскользнув между склонами двух гор, упал на воду, кипевшую у ног голландца, и отразился в тысяче сверкающих граней под хрустальным слоем.
Волнение Эусеба было таким сильным, что он пошатнулся, колени у него подогнулись — казалось, он вот-вот упадет.
Но вид сокровищ, с каждым мгновением открывавшихся ему, привел его в чувство, и он устремился к драгоценным камням, как будто боялся, что они вновь ускользнут от него.
Несколько минут Аусеб поднимался по ручью, черпая полные пригоршни камней и испуская радостные вопли каждый раз, когда, найдя новый алмаз, он присоединял его к тем, что уже держал в руках.
Его остановила темная масса, преграждавшая ложе ручья; подняв глаза, он узнал Кору.
Негритянка больше не двигалась, голова ее лежала на камне, губы побелели и приоткрылись.
Он бросил на нее полный сострадания взгляд; но в эту минуту он увидел глаза молодой женщины.
Казалось, и в смерти эти глаза следят за ним.
На застывшем лице трупа лишь взгляд сохранял жизнь.
Эусеб попытался отвернуться, но нечеловеческая сила помимо воли возвращала его к этому зрелищу, и, вопреки своему желанию, он чувствовал, как взгляд негритянки проникает в его душу.
Тогда сердце его растаяло; он почувствовал, что его охватывает нежная жалость; он выронил алмазы, которыми наполнена была его рука.
— Кора! — вскричал он, бросаясь к ногам негритянки. — Кора, теперь моя очередь просить у тебя прощения! Пусть какой-нибудь знак твоего тела, покинутого душой, скажет мне, что ты не уносишь с собой ни ненависти ко мне, ни злобы.
И несчастный, подняв неподвижное тело рабыни, тщетно старался согреть его.
— Боже мой! Только что я еще слышал ее голос!
И, охваченный сильнейшими угрызениями совести, он воскликнул:
— Кора! Кора! Приди в себя и услышь мой голос, который говорит: "Я люблю тебя!"
Эусеб не договорил этих слов, как над его головой послышался взрыв пронзительного смеха; он слышал этот смех в таких мучительных обстоятельствах, что понял, чьи уста издают его, прежде чем поднял глаза и увидел Нунгала, одетого малайским пиратом, как в тот день, когда он говорил с ним в устье Чиливунга.
— Ты! Снова ты! — закричал Эусеб.
— Да, — ответил малаец. — Я не поручаю другим заботу убедиться в том, что шаг за шагом возвращаюсь в права собственности. На этот раз, Эусеб ван ден Беек, я надеюсь, ты не заставишь просить тебя исполнить волю твоего дорогого дяди Базилиуса.
Эусеб уже не слушал; полуобезумев от страха, он подбежал к выходу из ущелья, спрыгнул на площадку, где мать Коры нашла такую ужасную смерть, и торопливо спустился на равнину. Он не заметил, что в руке негритянки, ухватившейся за его пальцы, осталось серебряное колечко, близнец того, что носила его жена, того, что однажды она с такой гордостью показала нотариусу Маесу.
XXIII МОРСКИЕ БРОДЯГИ
Мы оставили Аргаленку в руках слуг Цермая.
Приказ хозяина привел их в сильное замешательство.
С тех пор как этот принц утратил титул правителя провинции Бантам, помещения дворца, служившие темницами, получили другое назначение, и, какой бы незначительной ни была особа постояльца, ни одно их этих помещений не могло принять его.
Пересекая главный двор, те, кто вел пленника, остановились, чтобы посовещаться, и тогда один из них заметил: перед ними находится именно то, что они искали.
В самом деле, в этом дворе были две железные клетки.
В одной из них жила Маха, пока не закончилось ее воспитание; в другой Цермай долгое время держал тигра.
Несколько месяцев тому назад тигр счел за благо дать себе умереть от истощения; его место теперь должен был занять Аргаленка, и слуги Цермая сообщили бедняге, что ему оказана большая честь.
Его втолкнули в узкое отверстие; он безропотно позволил, чтобы его заперли, и вытянулся на деревянном полу клетки, сохранившем тот резкий, тошнотворный запах, что отличает жилища хищников.
Он не пролил ни одной слезы, не издал ни единой жалобы, его остановившиеся, непомерно расширенные глаза смотрели не видя; казалось, скорбь унесла душу из этого неподвижного тела, оставив в нем жизнь.
Всю ночь он провел без сна.
В середине следующего дня один из дворцовых слуг просунул сквозь прутья решетки рисовую лепешку и кувшин воды.
Аргаленка не повернул головы и не притронулся ни к чему из того, что ему принесли.
Слуги приходили во двор и уходили, не обращая на пленника ни малейшего внимания; все же на третий день вечером, в часы праздности, один из них остановился перед клеткой и заметил, что три рисовые лепешки и три кувшина с водой, поставленные перед Аргаленкой за эти дни, остались нетронутыми.
— Буддист, ты болен? — спросил этот человек. — Почему ты не притронулся к пище?
Аргаленка не ответил.
— Клянусь Аллахом, я думаю, он мертв, — обратился слуга к подошедшему товарищу.
— Нет, собака еще дышит. Когда ты заговорил с ним, я видел, как дрогнули его веки; но, если он будет упорствовать в своем намерении, Дайон вскоре избавится от труда приносить ему его порцию еды.
— Бедняга! Говорят, это отец Арроа; дочка правит сыном сусухунанов Бантама, а отец умирает от голода в одном из уголков этого дворца.
— Так было предначертано.
— Может быть, предупредим хозяина?
— Я поостерегусь рисковать своей шкурой мусульманина ради того, чтобы спасти этот остов неверного. Разве ты не слышал, какой шум поднялся сегодня в даламе?
— Нет, я водил кобылиц господина на пастбища в горах Гага.
— Пришел малаец.
— Малаец?
— Да, этот человек со смуглым лицом, которого никто из нас не знает и перед которым господин, такой гордый и надменный, трепещет и склоняется, словно ребенок.
— Так что же произошло?
— Только этот нечестивый огнепоклонник мог бы тебе ответить, поскольку он один присутствовал при их разговоре. Вот, что мне известно: когда малаец ушел, адипати был в ярости, достойной Иблиса, и я не больше хотел бы попасть под огненную лаву Пандеранго, чем под гнев Цермая. Вот, слышишь, как он произносит хулу на имя Аллаха?
Действительно, из покоев Цермая доносились странные и страшные звуки: глухое и грозное рычание рассвирепевшего зверя смешивалось с человеческими криками и бранью.
Вскоре бамбуковый ставень, прикрывавший один из входов, разлетелся в куски, и Маха, черная пантера яванского принца, устремилась в сделанный ею пролом.
Казалось, животное в ярости, но вместе с тем оно охвачено страхом; Маха сделала два круга по двору, передвигаясь скачками среди перепуганных слуг; затем, увидев открытую дверь бывшей своей клетки, бросилась туда и забилась в самый темный угол; шерсть на ней была взъерошена, усы дрожали, она поочередно открывала и закрывала свои большие глаза цвета топаза с выражением злобы и испуга, издавая угрожающее ворчание.
За ней последовал Цермай; его лицо хранило следы борьбы: пять когтей пантеры оставили пять ран на щеке яванского принца; кровь струилась по голому торсу и исчезала в складках завязанного вокруг пояса саронга, испещряя его большими пятнами багрового цвета.
Увидев его, Маха подобралась, словно готовилась кинуться на врага; глаза ее расширились и ярко заблестели; хвост лихорадочно задвигался и, как цеп жнеца на молотильном току, бил по полу; ее ворчание временами переходило в рев.
Цермай, вооружившись плетью из кожи носорога, собирался войти в клетку; взглянув на пантеру, он испугался и отступил.
— Ружье! Ружье! — сдавленным голосом воскликнул он. — Проклятые псы, вы что, позволите этому свирепому зверю растерзать меня? Ружье, и пусть она умрет!
Один из слуг побежал во дворец и вернулся с оружием, инкрустации и оправа которого из перламутра, черепахового панциря и коралла делали его в равной мере и произведением искусства; он протянул его потомку сусухунанов, и тот, даже не проверив, можно ли из него произвести выстрел, поспешно схватил ружье и прицелился в пантеру.
Но когда он уже спускал курок, какой-то человек, с трудом пробившийся сквозь плотные ряды слуг и рабов, чтобы добраться до хозяина, резко приподнял ствол ружья, и пуля, вместо того чтобы поразить Маху, ушла к верхушкам деревьев, окружавших дворец.
Цермай, вне себя из-за того, что пантера избежала наказания, бросил ружье, вновь схватил плеть и, заставив ее просвистеть в воздухе, ударил этого человека по лицу.
Страшный ремень оставил на его теле синеватый и кровоточащий след; только тогда Цермай узнал того, кто посмел встать между его гневом и вызвавшим этот гнев животным.
— Харруш! — воскликнул он.
Это в самом был Харруш, в тех же отрепьях, которые с одинаковой гордостью выставлял напоказ среди окружавшего его великолепия и среди гостей Меестер Корнелиса.
Получив удар, он остался спокойным и невозмутимым, и, если бы не след на его лице, можно было бы подумать, что яванец ударил бронзовую статую.
— Чем Маха навлекла на себя гнев своего господина? — холодно спросил он.
Цермай показал пальцем на рану; затем, словно устыдившись того, что перед слугами унизился до объяснений, ответил:
— Какое тебе дело? Разве Маха не принадлежит мне? Когда ты, гебр, принес мне ее, не заплатил ли я тебе сполна условленную между нами цену? Я купил право убить ее и хочу, чтобы она умерла. Насколько мне известно, наши возлюбленные хозяева, голландцы, не распространили на пантер этого острова преимуществ своих законов о рабах; нам не запрещено распоряжаться их существованием, как запрещено посягать на жизнь невольников.
— Ты напоминаешь о полученных мной деньгах, Цермай? Но думал ли ты когда-нибудь о трудах, об опасностях, каким я подвергался, чтобы заслужить их? Послушай; знаешь ли ты, как для того, чтобы найти Маху, я семь дней шел по лесу Дживадала, куда без дрожи не войдет и самый смелый охотник, где из каждого куста, цепляющегося за вашу одежду, когда вы проходите мимо него, с каждой лианы, раскачивающейся над вашей головой, из-за каждого едва видного в темноте ствола дерева, из-под каждого сухого листа, хрустнувшего под вашими ногами, может вылететь, выползти, выскочить нечто ревущее, свистящее и визжащее, нечто имеющее тысячу имен, но для одинокого путника, каким был я, означающее лишь одно… смерть? Знаешь ли ты, что с того часа, как равенала открывает свои спасительные коробочки измученному жаждой путешественнику, и до того, как она закрывает их, я, притаившись, сидел на ветке, ненадежно укрывшись за стволом бендуба, подстерегая минуту, когда мать покинет свое логово; что в течение этих шести смертельных часов я был во власти грозного зверя; что, если бы ветер переменился, если бы он занес в пещеру запах врага, — ни крис, ни отвага, в которой ты не сомневаешься, не спасли бы Харруша? Знаешь ли ты, что в логове, куда он вошел, с каждым шагом под ногами перекатывались кости; что, когда, положив трех детенышей пантеры в подол саронга, он убегал, словно вор, не прошло и получаса, как позади него раздался грозный рев? Это был не крик голодного льва, не глухое рычание тигра, которому помешали охотиться. Этот отдаленный гром, раскаты которого раздавались под священными сводами Дживадала, был душераздирающим воплем материнской утробы, голосом, кричавшим в воздух: "Ты отнял у меня детей! Горе тебе!"
В лесу царил такой ужас, что олени, лани, кабаны и газели перестали бояться человека и бежали рядом со мной. Змеи скользили во мхах, птицы прятались в листьях; казалось, и сами листья дрожали в испуге.
Я бежал, задыхаясь.
Вскоре все лесные жители исчезли, потому что рев приближался. Я остался один.
Ах, Цермай! Я помню все, словно это было вчера, и, стоит мне об этом подумать, чувствую, как волосы на моей голове встают дыбом. Позади меня ветки трещали, как будто сквозь чащу продиралось стадо неприрученных буйволов. Страх леденил мою кровь, красный туман застилал глаза, я шатался как пьяный, мне казалось, что горячее дыхание могучего зверя обжигает мне плечи! Инстинктивно я вытащил крис из ножен. Затем, не желая умереть неотомщенным, я взял одного из детенышей и собирался размозжить ему голову о ствол дерева; малыш заскулил от боли, и мать ответила ему воплем, от которого все мои мускулы задрожали, как струны гитары под рукой бедайя; пальцы мои разжались, и маленькая пантера упала на траву!
Ормузд отнял у смерти одного из своих детей, благословенно будь его имя!
Вместо того чтобы броситься на меня, пантера подобрала своего детеныша и, даже в ярости оставаясь матерью, хотела поместить его в безопасное место, прежде чем отнять у похитителя двух других. Я бросился в лес, продолжая свой безумный бег, но чутье зверя вело его по моему следу вернее, чем по следу оленя ведет охотника его глаз, каким бы острым он ни был; вскоре она снова стала преследовать меня, мне пришлось пожертвовать добычей во второй раз; и, если бы на моем пути не встретилась река Чиливунг, если бы я не сумел, бросившись в волны, обмануть проницательность матери, быть может даже бросив Маху, последнего из ее детенышей, я не уберег бы себя от гнева пантеры! Что же, Цермай, ты и теперь считаешь, что несколько золотых монет, брошенных тобой, оплатили мои труды и за мной не сохранилось право сказать: "Не убивай несчастное животное, за которое я едва не заплатил жизнью?"
— Если плата, которую ты получил тогда, кажется тебе недостаточной, назначь сам цену, которую ты желаешь: сын сусухунанов не хочет быть ни у кого в долгу.
— Я прошу у тебя жизнь Махи.
— Нет.
— Цермай, ты ударил меня по лицу, меня — не одного из твоих робких и трусливых яванцев, меня — свободного сына Ормузда; пощади Маху, и я все забуду.
Цермай с глубоким презрением взглянул на гебра.
— Нет, — ответил он. — Маха пролила кровь своего хозяина, Маха должна умереть, и она умрет, клянусь священной гробницей Мекки!
— Маха, играя, задела твою щеку, Цермай, — понизив голос, произнес заклинатель змей. — Прибереги твой гнев для того, кто не позволяет закрыться в твоем сердце ране куда более глубокой, чем та, которую Маха оставила на твоей щеке.
Брови Цермая сошлись, на лбу появились складки; задумавшись, он жестом отослал всех слуг.
— Ты имеешь в виду Нунгала! — сказал он гебру. — Да, он вернулся сегодня, как обещал месяц тому назад; он вернулся с более наглыми, чем когда-либо, угрозами; напрасно я предлагал ему все, что осталось от сокровищ сусухунанов, моих предков, — он пренебрег моими дарами, он хочет, чтобы я отдал ему цветок моего гарема, прекрасную желтую девушку с черными глазами.
— И Цермай, верно соблюдая клятву, сделает то, чего хочет Нунгал, — расстанется с жемчужиной Индостана?
— Возможно, — сказал яванский принц; казалось, он о чем-то размышлял; помолчав несколько минут, он продолжил: — Харруш, ты сказал мне, что тот, кто сегодня зовется Нунгалом и командует морскими бродягами, — бакасахам, один из тех нечистых духов, которые с помощью демона похитили у Создателя луч его великого могущества, один из тех вампиров, что черпают в крови своих жертв вечность посвященного злу существования; но в то же время ты сказал мне, что сила, соединившись с хитростью, может одолеть проклятого бакасахама. Харруш, хочешь ли ты помочь мне в этой борьбе?
— Ты ненавидишь Нунгала, но ты боишься его: у тебя нет силы.
— Нет, я его не боюсь; он угрожал мне, и ты сам видел, что он ушел с пустыми руками.
— Не все ли равно Нунгалу! Сегодня ты сказал ему "нет", а завтра будешь умолять его принять от тебя то, в чем накануне отказал ему. Время работает на повелителя морских бродяг.
Лицо Цермая стало смертельно бледным.
— Никогда! — вскричал он. — Я предпочту увидеть Арроа мертвой у моих ног.
При имени Арроа в клетке, соседней с той, в которой была пантера, послышался легкий шум: это Аргаленка поднял голову, уже отяжелевшую в ожидании близкой смерти.
— Будь на моей стороне, Харруш, — взмолился яванский принц, — и мы вернем Нунгала в край нечистых духов, и я сделаю тебя богатым господином, которому станут завидовать все яванцы.
Огнепоклонник странно улыбнулся.
— Нет, — насмешливо возразил он. — Я не хочу нападать на Нунгала: он всемогущ и в этом мире, и в том; Харруш — земляной червячок в траве, и бакасахаму достаточно наступить на него ногой, чтобы раздавить.
— Мы победим, говорю тебе.
— Ба! Ормузд ослепил Цермая.
— Что ты хочешь этим сказать?
— В момент битвы он хочет бросить в пропасть, которая никогда ничего не возвращает, единственное оружие, способное принести ему победу.
— Не понимаю.
— Разве ты не поклялся недавно, что этот день станет последним для бедной Махи? — продолжал огнепоклонник, указывая на пантеру.
— Да; и что же?
— Черная дева одна способна победить сына тьмы. Напрасно ты станешь пронзать грудь баркасамаха, напрасно вольешь в его жилы весь сок бохон-упаса, какой есть на нашем острове, напрасно завалишь его тело камнями наших гор и напрасно станешь прятать его труп в недрах земли: сверкающее лезвие притупится, яд потеряет силу, исполинские камни сами собой вернутся на место, земля извергнет то, что ты доверишь ей хранить, как уста Пандеранго извергают кипящую лаву, заполнившую его кратер. Здесь, здесь! (Произнося эти слова, гебр ласкал черные бока пантеры, которая, словно догадавшись, что говорят о ней, приблизилась и терлась головой о просунутую сквозь прутья руку Харруша.) Здесь гробница, предназначенная Ормуздом для проклятых созданий, которые опустошают мир, пока длится гнев Всевышнего.
— Спасибо, спасибо тебе, Харруш! — лицо Цермая осветилось бешеной радостью. — Если будет угодно Магомету, Арроа не сменит хозяина; запри получше Маху, я возьму оружие, прикажу седлать коней, и мы пустимся по следу Нунгала с живой могилой, в которой он должен быть погребен.
— А твои клятвы?
Цермай пожал плечами и ушел во дворец.
Харруш смотрел ему вслед, затем, повернувшись, открыл железную клетку и тихо позвал пантеру.
Маха послушалась этого зова, как собака повинуется свистку хозяина.
Гибкая, словно уж, она скользнула на землю и стала тереться о ноги гебра, выгибая спину, как кошка.
— Секрет не принесет тебе пользы, — прошептал он. — Когда ты соберешься пуститься в погоню, ты не найдешь своей ищейки; вот твое золото, я забираю то, что завоевано мной. Ко мне, Маха!
С этими словами он бросил в клетку несколько монет и собирался уйти вместе с пантерой, следовавшей за ним по пятам, когда услышал, как его окликнули.
Это Аргаленка протащился по своей тюрьме и прижался к прутьям решетки.
— Брат, брат, — говорил старик. — Не помутило ли страдание мой разум? Приснилось ли мне это? Но мне кажется, только что здесь говорили о смерти и об Арроа. Ей угрожает опасность. О, я слаб, я бессилен! Но ты силен и крепок; защити ее, умоляю тебя, спаси Арроа, и я стану твоим рабом.
— Мы пошли разными путями, Аргаленка, я трудился над своим кровавым замыслом, ты ждал в скорби и смирении; Ормузд привел нас обоих к той цели, какой мы хотели достичь. День мести, какую я жажду, близок, и вскоре твое дитя снова станет ласкать тебя.
— Моя дочь! Моя девочка!
— Сегодня ночью ты снова увидишь ее.
— Ты насмехаешься над моей любовью? Харруш, не говори так; моя бедная голова ослабела от голода и может расколоться. Как ты можешь знать, что губы Арроа должны еще прикоснуться к губам ее старого отца?
— Тот, кто умеет слушать, многое знает. Спрятавшись под золотыми украшениями дворца, скорпион подслушивает тайны султанов.
— Но она больше не любит меня, она не узнаёт того, кто дал ей жизнь.
— Не все ли тебе будет равно, если она притворится, что любит тебя, если сделает вид, что тебя узнаёт? Даже если ты должен обрести лишь видимость счастья, довольствуйся тем, что посылает тебе Ормузд; обнимай мечту, не заботясь о том, что существует в действительности.
— О мое дитя, бедное мое дитя, почему Будда бросил нас духам тьмы?
— Подкрепи свои силы этой пищей, они понадобятся тебе, потому что этой ночью ты отправишься в путь и дорога будет долгой.
— С моей дочерью?
— С твоей дочерью. Прежде чем луна поднимется к вершинам деревьев, окружающих дворец, она будет в твоих объятиях.
— Харруш, как мне благодарить тебя, ты возвращаешь мне мое дитя!
— Увы! — с глубоким состраданием ответил гебр. — Это не я возвращаю ее тебе.
— Но кто он, назови мне его, чтобы я мог пасть к его ногам, поклоняться ему как живой эманации Будды.
— Если бы я назвал тебе его имя, твое сердце содрогнулось бы от ужаса, вместо того чтобы затрепетать от благодарности; это тот человек, которому каждый вздох, исходящий из твоей груди, несет проклятие.
— Ты ошибаешься, гебр; я никого не проклинаю, даже того человека, чьи злые чары превратили мое дитя в отвратительное создание; один Будда имеет право проклинать.
— К чему мне называть тебе его имя? — с глубоким презрением произнес Харруш. — Бог создал вас, тех, кто пришел с берегов реки, омывающей большую землю, робкими и слабыми, словно женщины, так плачь и молись молча, как женщина; ты считаешь, что у тебя есть долг по отношению к этому человеку, я выплачу его, когда настанет для меня день сведения счетов. Но, если мне понадобится помощь, какую может оказать столь малодушное существо, не забывай: я пожал протянутую тобой руку. Прощай! Маха предупреждает меня, что пора бежать.
В самом деле, уже несколько минут золотые глаза пантеры и ее подвижные уши были повернуты в сторону дворца; по ее шелковистой шкуре пробегала легкая дрожь; острые когти, выйдя из бархатных ножен, царапали землю.
Она чувствовала приближение хозяина, плохо с ней обращавшегося, и все выдавало ее беспокойство.
Харруш подобрал на бедрах саронг и так же легко, как следовавший за ним зверь, перепрыгнул ограду, отделявшую сад от двора.
В эту минуту во дворе показался Цермай в полном боевом облачении: на нем были штаны и куртка из белой в золотую полоску ткани; широкий алый саронг, пестревший ослепительными цветами, опоясывал его; на голове у него был кулук — обшитый позументом шелковым колпак цилиндрической формы; на поясе, как полагалось, висели три малайских криса, а в руке он держал копье.
С первого взгляда он увидел, что клетка, в которой он оставил Маху, пуста, и почти сразу заметил Харруша и пантеру: они уже достигли первых склонов гор и скрывались за кустами, покрывавшими дикие их бока.
Яванский принц минуту стоял в неподвижности, как будто искал причину этого бегства. Он позвал Харруша — тот не откликнулся; тогда в его уме впервые зародилась мысль о том, что гебр мог пожелать отнять у него месть или помешать ей свершиться; он издал крик ярости, на который сбежались все его слуги.
— Лошадей, лошадей! — ревел Цермай. — Гебр украл пантеру; все вооружайтесь, и пускаемся по его следу.
В течение нескольких минут двор представлял собой подмостки, на которых происходила сцена невероятного беспорядка; перепуганные слуги Цермая носились взад и вперед, хватая все, что попадало им под руку, и пытаясь исполнить приказ хозяина; кони, испуганные этой суматохой, вставали на дыбы, сталкивались, опрокидывали и тащили за собой конюхов; женщины высунулись в окна дворца и присоединили свои стенания к доносившимся со двора крикам.
Яванский принц попытался перекрыть весь этот шум.
— В седло! — приказал он. — Но ни один из вас, если вам дорога жизнь, не тронет и волоска на шкуре Махи! Что до головы гебра, я ценю ее на вес золота. А тому, кто принесет мне голову малайца Нунгала, которого вы видели здесь сегодня утром, я подарю мой дворец.
С этими словами он сжал мавританскими стременами бока своего коня; но в ту же минуту из-за кустов, зеленым поясом окружавших дворец, послышался выстрел; конь Цермая встал на дыбы, забил по воздуху передними ногами и упал, содрогаясь в агонии.
Одновременно с этим из-за банановой рощицы у ограды вышел человек в одежде малайского моряка, с еще дымящимся европейским карабином в руке и направился к Цермаю и его слугам.
При виде этого человека, явно того самого, кто совершил только что нападение и лишил хозяина лучшего скакуна, все люди яванского принца взялись за оружие, раздались выстрелы, в воздухе засвистели стрелы, но град стрел и пуль, не задев малайца, взрыхлил землю и обломал ветки бамбука вокруг него.
Он выступал гордо и спокойно; ничто ни в его лице, ни в поведении не говорило даже о малейшем страхе; рабы расступились, и он смог приблизиться к еще оглушенному своим падением Цермаю.
— Раджа, — произнес он. — Только что ты требовал моей головы, я принес тебе ее и хочу получить ее цену.
— Нунгал! — воскликнул яванский принц.
— Да, Нунгал сам явился за своим имуществом, которое ты хочешь удержать; Нунгал, не опустившийся до того, чтобы выдать тебя голландцам, как угрожал поступить, потому что твоя жизнь нужна для успеха дела, которому он служит, и потому что располагает способами вынудить тебя склониться перед его волей. Цермай, верни мне желтую рабыню, которую я доверил тебе.
— Безумец, я восхищаюсь тобой! — ответил Цермай. — Нас сотня, а ты один, и ты угрожаешь! Ты вошел в логово тигра и требуешь у него недостающую в твоем стаде овечку! Эй вы, закройте выходы, хватайте его, и посмотрим, сотворил ли его ад неуязвимым для пыток.
Нунгал в ответ рассмеялся тем пронзительным смехом, каким некогда пугал Эусеба. Ему откликнулся оглушительный крик, и из всех кустов, из-за колонн веранд, из-за каждого угла, отовсюду, где только могло прятаться человеческое тело, выскакивали смуглые люди в отвратительных лохмотьях; потрясая оружием, они бросились на людей Цермая.
— Морские бродяги! — закричали слуги.
Ужас, который страшные малайские пираты внушали жителям острова, был так велик, что все люди Цермая, побледнев, дрожа и утратив дар речи, побросали оружие и обратились в бегство, словно стая ворон при виде ястреба.
Яванский принц хотел удержать их; он просил, заклинал, угрожал, взывал к наследственной верности радже; но они не узнавали его голоса, они в смятении опрокинули его и истоптали ногами, а затем бросились врассыпную.
Оставшись один, Цермай попытался вернуться во дворец, он хотел убить Арроа; но по знаку главаря четыре крепких малайца бросились на него, связали ему, несмотря на сопротивление, руки и ноги и оттащили в сторону садов.
Когда он скрылся с глаз, главарь пиратов вышел на середину.
— Чтобы склонить вас последовать за мной далеко от тех морей, где мы властвуем, — произнес он, — я пообещал вам богатства. Этот дворец назначен был за голову Нунгала; Нунгал отдает вам его; вперед, ребята!
Разбойники ответили воплем, какой могла бы издать шайка демонов; затем они напали на древнее жилище сусухунанов и в одно мгновение превратили его в подмостки, где разыгрались чудовищные сцены насилия и убийства.
Аргаленка следил за происходящим с глубокой тревогой. Его крики отчаяния, когда длинная цепочка морских бродяг втянулась во дворец, смешались с победными кличами разбойников; он уже видел сотню кинжалов, занесенных над его дочерью, видел ее дрожащей в руках пиратов; в каждом женском голосе, полном леденящего ужаса, ему чудился голос Арроа, зовущей его на помощь. Он тряс железные прутья клетки, однако она была рассчитана на более сильного пленника, чем несчастный старик: решетка не поддалась. Он старался привлечь внимание пиратов, отвратить их удары от Арроа, но все было напрасно.
Вскоре легкие спирали дыма вырвались из-за бамбуковых ставней и заскользили вдоль веранд; лакированная черепица затрещала, и над крышей показались маленькие язычки пламени.
Дворец горел.
Аргаленка бился в своей клетке, как рассвирепевший лев, и в исступлении отчаяния даже не заметил, что два человека приблизились к месту его заключения.
Один из них был Нунгал, второй — Цермай, освобожденный от пут, но хмурый и беспокойный.
— Буддист, — обратился Нунгал к Аргаленке, дотронувшись до него пальцем. — Я велел тебе ждать твою дочь на горе Саджира; как получилось, что я встречаю тебя здесь?
— Моя дочь! Моя дочь! Она там, в руках этого человека, она погибнет в огне! Откройте, откройте эту клетку, умоляю вас, чтобы я мог спасти мое дитя!
Нунгал бесстрастно повторил свой вопрос.
— Как я могу ответить вам, когда моя дочь умирает? Ее не было на горе Саджира, раз она здесь.
— Буддист, пять дней истекают лишь сегодня вечером.
— Ах, если правда то, что мое горе тронуло вашу душу, спасите ее, молю вас! Когда она оттолкнула меня, я думал, что большего горя на земле для меня нет; но видеть, как она погибает такой ужасной смертью!.. Ах, у отца нет сил вынести этой мысли!
— Выходи из этой клетки и иди туда, куда я тебе сказал; твоя дочь окажется там одновременно с тобой.
Повинуясь знаку Нунгала, Цермай покорно отворил клетку; Аргаленка выбежал вон, но, вместо того чтобы направиться в сторону гор, чьи синие вершины указывал ему палец малайца, он попытался войти во дворец.
Между тем огонь со страшной скоростью охватывал легкое сооружение, целиком построенное из бамбука; пираты торопливо выскакивали из всех дверей, одни были нагружены добычей, другие тащили за собой невольниц. Изнутри доносились предсмертные крики, смешиваясь с треском пожираемых огнем перегородок; когда Аргаленка оказался перед дверью, превращенной вырывавшимся из нее пламенем в непреодолимую преграду, крыша обрушилась с чудовищным грохотом.
Старик упал на колени и закрыл лицо руками. Нунгал поднял его.
— Буддист утратил разум? — уже не так сурово спросил он. — Разве он не слышал, что его дочь сейчас двигается вдоль склонов горы Саджира? Значит, он хочет, чтобы она, одинокая и покинутая, стала в этой пустыне добычей тигров Джидавала? Аргаленка больше не испытывает к дочери отцовской любви?
Несчастный старик так волновался, что не мог ответить; он встал и так быстро, как могли его нести нетвердые ноги, направился в ту сторону, куда указывал Нунгал.
Малаец вернулся в яванскому принцу, в угрюмом молчании созерцавшему развалины, возникшие у него на глазах.
— Ну что, раджа, — сказал он. — Видишь, я не обманул тебя; не глупая любовь подсказала мне решение, когда я требовал желтую невольницу! Пусть Арроа, с целью, которой ты не можешь понять, выполнит службу, к какой я ее предназначил, и вскоре, если твой каприз не пройдет, ты вновь приведешь ее в свой дворец.
— Мой дворец! — с горькой насмешкой повторил Цермай, глядя на охваченное огнем сооружение: стены рушились, колонны горели, как факелы, крыши с треском ломались.
— Дворцом властителя Явы может быть только тот, в котором сейчас живут хозяева острова. Когда ты войдешь с победой в Бейтензорг, раджа, ты поблагодаришь меня: я избавил тебя от этой лачуги.
И Нунгал издал клич, созывая своих пиратов.
XXIV ХРАМ
Наши читатели помнят, что дворец Цермая был выстроен в ложбине, образованной основаниями трех самых высоких гор острова: Саджира, Сари и Гага.
В сторону первой из этих гор и направился Аргаленка, как только вышел за бамбуковую ограду, отделявшую сады далама от поросших лесом склонов гор, у подножия которых они были разбиты.
Слова Нунгала, и в особенности тон его голоса, произвели на Аргаленка такое сильное впечатление, что в его душе поселилась вера, и на каждом перекрестке, на каждой опушке, за любым кустом он ожидал увидеть любимую дочь.
Эта вера была так глубока, что старик, ослабленный перенесенными лишениями еще больше, чем возрастом, казалось, обрел силу и гибкость молодости.
Он шел быстро, перебираясь через источенные червями стволы деревьев, загораживавшие тропинку, проскальзывая между лианами, что тянули с ветки на ветку косматые руки и сплетали свод над его головой.
Быстрота, с которой он двигался, не помешала ему услышать грохот, раздавшийся в долине. Повернув голову, он увидел, что это рухнул у подножия горы дворец Цермая.
Хрупкое строение, упавшее в очаг пожара, оживило пламя, и оно потянулось острыми язычками сквозь поднимавшиеся к облакам клубы густого дыма, а ветер приносил и рассыпал вокруг буддиста горящие кусочки легкого дерева.
От этого зрелища колени у Аргаленки подогнулись, сердце сжалось, а все тело судорожно затрепетало, как дрожат под дыханием ветра листья дынного дерева.
Чудовищная мысль пришла ему в голову: не обманул ли его малаец? Не стала ли эта пылающая груда могилой Арроа? Не были ли эти огненные венки, летящие над черными вихрями, что вставали над объятым пламенем даламом, недолговечным надгробием несчастной девушки?
С криком отчаяния старик упал на колени и воздел руки к небу, призывая Будду.
Но острая тоска лишь ненадолго завладела душой бедняги; надежда, заставившая его, как мы видели, проявить энергию, вновь вернулась к нему, и, поскольку больше у него ничего в мире не осталось, он яростно вцепился в нее, ухватился, словно тонущий за ветку, что удерживает его над пучиной.
Он встал и, задыхаясь, снова пустился бежать, время от времени останавливаясь и так душераздирающе выкрикивая имя Арроа, что и деревья заплакали бы, будь у них сердце.
Вскоре он пересек огромный лес тиковых деревьев, укрывавший гору Саджир, как туникой; над ним поднимались печальные остроконечные вершины.
Ночь спустилась с неба; в умирающем свете пожара, огни которого кровавыми отблесками ложились на окрестные деревья, еще можно было различить долину, но вершина горы Саджир теперь казалась лишь темным пятном на куполе звездного неба.
В исступлении боли Аргаленка вскоре потерял тропинку, по которой шел; теперь его ноги спотыкались о куски базальта, лавы, всевозможных шлаков, покрывающих склоны горы Саджир, как и всех погасших вулканов этого острова. Он понял, что заблудился, и решил найти дорогу, но пройдя десять шагов, наткнулся на огромную глыбу камня, несомненно давным-давно выплюнутую кратером и упавшую стоймя, словно монолит, — исполинский часовой посреди пустыни.
Аргаленка попытался вернуться назад, но тени сгустились так быстро, что он ничего не различал вокруг себя и не мог сделать ни шага, не споткнувшись.
Тогда отчаяние во второй раз овладело буддистом; он упал лицом в землю, и, казалось, благочестивое смирение перед волей бога покинуло его; он катался в пыли, наносил руками удары по лицу и телу; жалобные призывы к Арроа смешивались с яростной бранью: он обвинял малайца, обвинял людей, обвинял Будду.
Внезапно среди окружавшего его зловещего молчания послышался глухой рокот, словно далекий гром катился от скалы к скале, от эха до эха.
Среди этой пустыни, так напоминавшей царство смерти, любой шум означал надежду, и всякая надежда связывалась для буддиста с его дочерью; он поднял голову, затем встал на ноги и стал ждать.
Вскоре ветер снова донес до Аргаленки шум, подобный первому.
Этот звук, брошенный в пустыню, был еще более отчетливым. Аргаленка не мог ошибиться: он слышал рев дикого зверя.
Увидев, как рушатся все его иллюзии о судьбе дочери, Аргаленка испытал такое потрясение, что постепенно его боль переросла в безумие.
Вместо того чтобы содрогнуться от донесшегося к нему на крыльях ветра послания смерти, он воскликнул в горячечном восторге:
— Благословен будь ты, кто возвещаешь мне избавление, благословен будь ты, кто положит предел моим страданиям! Те, что стали твоими жертвами, приучили тебя к жалобным стенаниям страха, к яростным проклятиям, к предсмертным судорогам; приблизься и увидишь грудь, беззащитно открытую когтям, что разорвут ее!
И Аргаленка направился в ту сторону, откуда доносился рев; он шел, когда мог идти, полз, когда ноги отказывались нести его, продвигался вперед, несмотря на все встречавшиеся на его пути препятствия, и пыл его удваивался, когда громкое рычание хищного зверя доказывало ему, что расстояние, разделявшее их, уменьшилось.
Так он вышел на западный склон горы Саджир, с той стороны, которая обращена к округу Преанджер; здесь ему показалось, что камни, усеявшие склон горы, приняли колоссальные размеры и правильную форму; он продолжал идти вперед и понял, что находится рядом с одним из тысячи храмов, воздвигнутых на острове Ява благочестием его предков. Последователи Магомета, победив и изгнав с острова приверженцев Будды, разрушили все эти чудесные памятники скульптуры и архитектуры, свидетельствующие о том, что построивший их народ был не менее могущественным и не менее развитым, чем народы Египта и Индостана.
Рев явно исходил из храма.
Несомненно, зверь устроил себе логово в одном из залов, некогда предназначавшихся для молитвы.
Этот контраст укрепил Аргаленку в принятом решении; он находил высшее утешение в том, что умрет среди руин культа предков; ему казалось, что божество одобряет его намерение, раз позволяет осуществить его в том самом святилище, где ему поклонялись.
Старик прокладывал себе проход среди поваленных колонн, разбитых статуй и барельефов, которыми усыпаны были окрестности храма и вокруг которых тысячу раз обвивались чужеядные растения; так он добрался до перистиля здания.
Храм, как большинство тех, обломки которых на каждом шагу встречаются путешествующим по внутренней части острова, был приспособлен к форме холма; множество его террас, пристроенных к горе, следовали за неровными очертаниями ее; эти террасы опирались на длинные ряды колонн, покрытых причудливыми скульптурными изображениями, и больших каменных глыб с выдолбленными огромными нишами; в некоторых из них еще сохранились изуродованные статуи.
Над верхней террасой поднимался просторный купол, отмечавший место, где прежде находилось святилище Будды; двойной ряд более легких и низких куполов окружали этот, служивший им венцом.
По мере того как Аргаленка приближался к храму, где должен был встретить смерть, его возбуждение и смятение рассеивались; понемногу религиозные чувства побеждали в нем скорбь, дошедшую до своего предела; его решимость не слабела, но он успокаивался, и его губы уже могли прошептать обращение к Будде.
В ту минуту, когда он проходил в широкий пролом, оставшийся на месте двери, рев зверя, на который он до сих пор ориентировался в ночи, стал более оглушительным и грозным под отражавшими его сводами, но в то же время глазам буддиста предстало нечто странное.
В верхней части здания, казавшегося вдвое длиннее из-за ступенчатого построения его, сквозь лес обломанных колонн и обезглавленных статуй, что тянулся от основания до святилища, он разглядел красноватый свет, отражавшийся в гладких камнях большого свода.
Аргаленка знал, какую неприязнь к огню испытывают дикие животные; и все же для него было очевидным, что тигр или пантера, чей рев он слышал, должны были находиться вблизи от того места, где горел огонь; это странное явление изумило его.
Он прошел среди всевозможных обломков, усеявших храм внутри, и, поднявшись по ступенькам, где каждая плита, изъеденная пробивавшейся из всех швов травой, дрожала под его ногами, отважно продолжал восхождение.
По мере того как он продвигался вперед, свет делался ярче; Аргаленка следил по теням на куполе за капризными движениями пламени; но увидеть то, что происходило в самом святилище, можно было лишь поднявшись по склону к последней террасе, возвышавшейся над куполом.
Святилище было эллиптической формы и завершалось гигантской нишей, в которой находилась статуя Будды, чудом оставшаяся невредимой среди всеобщего разрушения.
Бог восседал со скрещенными ногами на пьедестале в виде огромного цветка лотоса; поза его выражала состояние созерцания и молитвы; легкий передник прикрывал его бедра; одна рука приподнимала край передника, другая опиралась на колено; на шее у него было тройное ожерелье и священный шнур, на голове — индийская шапочка с широкими отворотами, немного напоминающая фригийский колпак. Стена ниши была покрыта символами и надписями из яванских букв.
В любых других обстоятельствах Аргаленка набожно преклонил бы колени перед изображением своего бога, но сейчас его внимание полностью поглощали находившиеся здесь живые люди.
В двадцати шагах от священной ниши горел большой костер, сложенный из хвороста и тонких поленьев; в человеке, поддерживающем огонь, Аргаленка узнал Харруша.
Позади гебра лежала пантера Цермая: вытянув лапы, она прятала голову за телом нового хозяина, стараясь уберечь, насколько возможно, от блеска огня свои чувствительные зрачки.
Но прежде чем буддист увидел пантеру, Харруша и статую Будды, он заметил фигуру женщины, сидевшей на корточках у стены настолько неподвижно, что, если бы ветер, колебавший пламя, не приподнимал иногда складки окутывающего всю ее прозрачного покрывала, можно было принять ее за одну из каменных статуй, украшавших древний храм.
Она склонила голову на колени и казалась спящей; Аргаленка не мог различить черты ее лица, но он уже узнал под прозрачной тканью наряд молодой девушки из народа — ослепительно яркие цветы на саронге из грубой хлопчатобумажной ткани, темно-зеленую кофточку с короткими рукавами; он заметил, что вместо диадемы и заколок с драгоценными камнями или стеклами, какие носят мусульманки, та, что была у него перед глазами, украсила свои волосы цвета эбенового дерева лишь несколькими пурпурными цветами мантеги и двумя-тремя веточками жасмина.
Ему казалось, что он спит, что находится под воздействием какой-то галлюцинации: в этом наряде, как и в стане, и в повороте фигуры, он узнал наряд, стан и поворот фигуры Арроа — той Арроа, когда она была лишь дочерью беднейшего из живущих во владениях Цермая.
Старик был бледен и дрожал; ледяной пот выступил у него на лбу; огонь, зажженный Харрушем, колонны, весь храм кружились вокруг него; он хотел заговорить, но голос застрял в пересохшем горле; задыхаясь, он протягивал руки к видению, похожему на его дочь, но не мог сделать ни шага вперед.
Мелкий гравий негромко хрустнул у него под ногами.
Пантера приподняла голову, насторожила уши, полузакрытые глаза ее расширились, чудовищная морда вытянулась в том направлении, откуда раздался настороживший ее шум; она сильно втянула воздух. Затем Маха выпрямилась с угрожающим видом, словно приведенная в действие стальной пружиной, и снова опустилась на землю, приподняв круп чуть выше остальной части тела, прижав голову к передним лапам, молотя по воздуху хвостом, собирая всю силу и подвижность мышц и приготовившись к прыжку.
Но буддист, после того как увидел похожую на его дочь женщину, хотел жить; теперь он боялся больше самой смерти умереть прежде, чем получит еще один поцелуй своего ребенка; страх и любовь придали ему немного сил.
— Ко мне, гебр! — крикнул он.
Харруш в свою очередь поднялся.
— Спокойно, Маха! — сказал он. — Если это друг, не тронем его; если же это враг, твои когти успеют прийти на помощь моему кинжалу, когда я позову тебя.
Продолжая говорить, Харруш взял из костра головню, достал крис из ножен и, держа одно в правой, другое в левой руке, пошел туда, откуда его окликнули.
Узнав Аргаленку, он вложил в сандаловые ножны сверкающее лезвие и взял буддиста за руку.
— А, это ты, Аргаленка! Подойди, не бойся, этот зверь — друг, более верный, чем те, для кого было придумано это слово. Маха любит только тех, кого люблю я, но и ненавидит она лишь тех, кого я ненавижу.
В самом деле, увидев, что хозяин дружески беседует с вновь пришедшим, Маха, широко зевнув, смирно улеглась.
Но Аргаленка не мог отвечать гебру; как только он освободился от страха, им вновь овладели тревога и неуверенность; показав пальцем на недвижную фигуру под покрывалом, он в лихорадочном возбуждении обратился к Харрушу:
— Вот, вот!
Харруш угрюмо опустил голову и не ответил на вопрос буддиста.
— Сжалься, гебр, во имя твоих верований, во имя страданий, перенесенных мною ради моего ребенка! Скажи мне, это моя дочь?
— Когда ветер дождей задует на благоуханных берегах Чиливунга, — зашептал Харруш, — воды реки покрываются белыми и розовыми лепестками, что выросли и увяли на прибрежных кустах; это все еще цветы, но утратившие прелестные краски и нежный аромат, за которые их любили.
— Что ты говоришь? Моя дочь умерла? Они вернули мне лишь ее тело?
И, не дожидаясь ответа огнепоклонника, Аргаленка бросился к дочери и хотел сжать ее в объятиях.
Но, услышав крик буддиста, Арроа подняла голову; глядя на отца, она, казалось, не узнавала его, и глаза ее оставались равнодушными и смотрели тупо.
Буддист в ужасе попятился.
— Арроа, Арроа! — вскричал несчастный старик. — Я твой отец! Здесь нет господина, никто не встанет между твоими ласками и этим лысым лбом, к которому столько раз в детстве прижимались твои губы; отец пришел сюда не для того, чтобы заставить тебя скрыть в твоем сердце такую естественную любовь дочери к тому, кто дал ей жизнь; ты можешь любить меня, Арроа, мы свободны.
Девушка оставалась безмолвной; она не сделала ни одного движения, какое позволило бы предположить, что она поняла слова отца.
— Арроа, Арроа, — продолжал он, — если надо, я откажусь от твоих ласк; если ты потребуешь, я смирюсь с тем, что больше твои уста не назовут меня отцом; я стар, безобразен, я беден, увы! Ты теперь привыкла к богатым одеждам раджей, и лохмотья, покрывающие мое тело, вызывают у тебя отвращение. Я смирюсь, я стану просить Будду забыть твою вину и не наказывать тебя; но скажи хоть что-нибудь, чтобы я услышал твой голос и чтобы другие чувства, как и зрение, могли, подтвердить мне: "Твоя дочь не умерла".
Арроа запела.
Харруш продолжал сидеть, серьезный и молчаливый, поднимаясь лишь для того, чтобы оживить умирающий огонь, бросив в него охапку сухих веток.
Пение Арроа не производило на гебра никакого впечатления, но время от времени он останавливал взгляд на Аргаленке с выражением сострадания, так непохожим на его обычную жесткость.
В течение нескольких часов он позволял буддисту свободно предаваться своему горю, затем подошел к нему, схватил за руку, увел в самую дальнюю от Арроа часть святилища и силой заставил сесть.
Впрочем, Аргаленка не выказывал никакого сопротивления: он, словно ребенок, покорился воле Харруша и машинально послушался его.
— Ну что, — сказал Харруш со зловещей улыбкой на губах, — они строго сдержали слово, они вернули тебе твое дитя?
— Да, — отвечал буддист; упадок сил помешал ему заметить насмешку в тоне, каким спрашивал его гебр. — Да, они не обманули несчастного отца. Пусть Будда, чья рука жестоко покарала меня, простит им зло, что они причинили мне, ради жалости, которую они в конце концов испытали к моему горю.
Огнепоклонник пренебрежительно пожал плечами, и сочувствие, читавшееся в его чертах, сменилось презрительной улыбкой.
— Мидуджак, дерево, вершиной касающееся облаков, которое было уже большим, когда рука Ормузда зажгла огни на всех этих горах, не узнало ли больше, чем папоротник у его подножия, родившийся, проживший и умерший в течение одного сезона? Твоя голова увенчана короной мудрости, а лоб отмечен печатью преклонных лет. Неужели ты никогда не слышал, что человек почти так же преуспел в науке зла, как Ариман, что он раскрыл секрет страшных напитков, которые вызывают помрачение разума и, оставляя жить тело, изгоняют из него оживляющее его божественное дыхание?
— Что ты хочешь сказать, гебр?
— Я хочу сказать, что твоя дочь выпила одно из этих снадобий.
— Кто мог налить его ей? Кто этот человек, покинутый Богом и способный совершить омерзительное преступление, причинить зло без цели?
— А я не говорю, что он действовал без цели.
— Я тебя не понимаю.
— Слушай. Если я раскрою тебе окружающий ее заговор; если укажу тебе руку, измельчившую растения и насекомых, составившую и налившую яд; если я назову тебе, чья воля два раза находила послушных рабынь, а на этот раз, боясь неудачи, с помощью колдовского напитка подготовила третью к тому, чтобы стать послушной исполнительницей его намерений; если я скажу тебе, кто этот человек, дух ада, принявший наш облик, чтобы истязать нас, отвратительный земле и небу, неумолимо следующий к своей цели, тот, кто продолжает свое ненавистное существование, не обращая внимания на слезы и кровь, не спотыкаясь о трупы, которыми усеян его путь, — если я докажу тебе все это, скажи, поймешь ли ты, наконец, что месть может быть внушением свыше, святым делом, и, видя перед собой то, во что превратилось твое дитя, не потребуешь ли ты у меня уступить тебе половину моего отмщения?
— Два раза ты задавал мне этот вопрос, и оба раза я одинаково отвечал на него; сегодня ты увидишь, что моя возросшая боль ничуть не уменьшила моей веры в святые заповеди моей религии. Если этот человек совершил те преступления, что ты назвал, он не скроется от руки Будды, каким бы сильным и гордым ни был. Если Будда захочет, он может своим дыханием развеять по ветру самые высокие горы острова, как морские песчинки, и я не хочу оскорбить его, присвоив его права; люди могут наполнить мое сердце болью, но не заставят проникнуть в него и капле желчи; они могут заставить меня выплакать глаза, но не исторгнут проклятия из моих уст, не имеющих власти проклинать.
Харруш встал.
— Несчастный безумец! — проговорил он. — Судьба решительно не хочет оградить твое сердце от тревог. Два раза она ставила меня на твоем пути, два раза она заставляла меня сжалиться над твоей участью, два раза я пытался спасти тебя, но оба раза ты остался глухим к моему голосу, более непреклонным в твоей робкой слабости, чем я — в моей ненависти. Может быть, это к лучшему, потому что ты был бы неспособен на самопожертвование, необходимое для исполнения моих планов, ты помешал бы мне отомстить, вместо того чтобы помочь, как я хотел. Прощай! Как и на дороге к Вельтевреде, я говорю тебе: расстанемся; следуй своим путем, как я пойду своим, ты прощаешь, а я сменил свое имя на другое, более грозное, я назвался возмездием, я не жду, что Будда, Ормузд или Магомет возьмут на себя труд покарать троих оскорбивших меня людей, я не сойду с пути, ибо близится день, когда я смогу воздать злом за зло и горем за горе.
Аргаленка оставался задумчивым; бедняга спрашивал себя, где ему найти пристанище для своей несчастной дочери.
Харруш прочел в душе буддиста все, что происходило в ней.
— Послушай, я окажу тебе последнюю услугу, — сказал он. — Не оставайся здесь, не искушай Бога, спускайся в провинцию Преанджер, на западный склон горы Гага, к подножию холма, на котором построен этот храм; ты найдешь бьющий из скалы родник, а из него бежит на равнину небольшой ручей; иди вдоль берега ручья в том направлении, куда садится солнце, и вскоре ты увидишь, как он вырастет, словно ребенок, из отрока ставший взрослым, превратится в поток, а затем — в реку такую же широкую и быструю, как Чиливунг у Вельтевреде. Не отходи от берега, а когда увидишь перед собой зеленую полоску моря, поищи место, с которого гора Кавоган, что окажется напротив тебя, полностью закроет вторую гору, видимую на горизонте. Пройди в этом направлении тысячу шагов и справа, в арековой роще не более чем в получасе ходьбы от деревни Занд, давшей свое имя заливу, обнаружишь покинутую хижину; это я построил ее, когда охотился на очковую змею в долине Кавогана. Входи без страха в мое жилище, как птица использует попавшееся на ее пути брошенное гнездо; в углу, под кучей подстилок, ты найдешь циновки и необходимую утварь, а леса, поля и море вполне смогут прокормить тебя. Там ты будешь больше защищен, чем здесь; возможно, что нависшая над твоей головой и над головой твоей дочери опасность еще минует вас.
— Увы! — отвечал буддист. — Отсюда до берега моря пять дней пути; как я, жалкий, слабый старик, могу отвести туда несчастную, которая не слышит и не понимает меня?
— Когда я увидел твою дочь поднимающейся по тропинке, она ехала верхом на одной из лошадей Цермая; тот, кто не побоялся похитить у нее разум — самое драгоценное из всего, чем она обладала, — испугался, что его жертва собьет ноги о камни; этот конь здесь, в первом из помещений храма.
— Окажи мне последнюю услугу, Харруш: помоги мне посадить Арроа на коня.
Гебр исполнил то, о чем просил Аргаленка, и тот, разбудив свою дочь, с помощью заклинателя змей вывел ее из храма. Когда конь был оседлан и Арроа, безмолвно следовавшая за отцом и машинально повиновавшаяся ему, уже сидела в седле, буддист взял в руки уздечку и сказал гебру, посторонившемуся, чтобы дать им дорогу:
— Спасибо, Харруш. Будда вознаградит тебя за жалость, которую ты испытал ко мне, и за оказанные мне услуги; я каждый день стану просить его об этом в моих молитвах.
Харруш не ответил. Он сурово и пристально смотрел на Арроа. Внезапно, не простившись с Аргаленкой, он позвал Маху и быстро, как всегда, удалился в сторону восточного склона, к провинции Батавия.
Старик тоже тронулся в путь и стал спускаться по склону в округ Преанджер, следуя вдоль ручья, как и сказал ему огнепоклонник.
XXV ЛЕКАРСТВО ХУЖЕ САМОЙ БОЛЕЗНИ
После смерти негритянки Коры, после появления Нунгала на подмостках драмы, в которой Эусеб ван ден Беек сыграл такую мрачную роль, молодой голландец бросился бежать к равнине.
Мысли его были в таком беспорядке, что, даже не думая о том, не повернулся ли он спиной к деревне Гавое, где оставил Эстер, он, вне себя, бежал так быстро, как только позволяли его силы, подставлял лоб дыханию ветра, стараясь освежить пылающий мозг. Он пересекал возделанные поля, проносился через долины, взбирался на горы, избегая жилья и людей, потому что после встречи с Нунгалом в каждом видел врага.
Этот безумный бег продолжался до тех пор, пока усталость, а еще больше отвесные лучи солнца не истощили сил Эусеба; задыхаясь в изнеможении, он упал на землю и потерял сознание.
Когда он пришел в себя, день клонился к вечеру; золотой диск светила опускался к горизонту сквозь завесу краснеющих облаков и обагрял своими лучами вершины Текоекуа.
Эусеб с трудом собрал мысли; он едва мог припомнить, что происходило прошлой ночью, и его отчаяние превратилось в болезненное оцепенение; он нетвердо, словно пьяный, стоял на ногах, голова казалась ему пустой, и самый легкий звук и малейшее движение отдавались в ней, причиняя ему острое страдание; его терзала жгучая жажда и сильная лихорадка.
Инстинктивно он стал искать воду.
Блуждая взглядом вокруг себя, он заметил травы и папоротники, зеленый цвет которых резко выделял их на фоне высохших растений и указывал на ложе ручья; Эусеб поплелся туда.
Полдневный зной осушил ручей, но земля осталась влажной; добравшись до истока, Эусеб мог надеяться на удачу.
Призвав на помощь все силы и все мужество, он пополз в ту сторону.
Вскоре он заметил скалу, из которой по капле сочилась вода и падала в углубление, защищенное от солнечных лучей.
Вместо того чтобы броситься к этому источнику жизни, Эусеб замер в неподвижности и безмолвии, пораженный и остолбеневший.
Поднявшись на ноги, он осмотрелся кругом и убедился, что случай вновь привел его к алмазному роднику, ставшему роковым для бедняжки Коры.
Волосы на его голове встали дыбом, все тело сотрясала дрожь; он боялся увидеть у своих ног труп негритянки и инстинктивно закрыл глаза.
Затем, победив свой страх, обследовал взглядом окрестность.
Тела Коры нигде не было.
Он мог бы подумать, что стал жертвой чудовищного кошмара, если бы в двух шагах перед ним на земле не было большого коричневого липкого пятна.
Это явно была кровь негритянки.
Эусеб с облегчением перевел дух, счастливый хотя бы тем, что не оказался рядом с телом своей жертвы.
Потом им овладел безумный бред.
20-435
Утром, в смятении, он упустил возможность приобрести несметные богатства, посмеяться над кознями Базилиуса; теперь случай возвращал ему эту возможность.
Он забыл о своих страданиях, о лихорадке, о жажде; прежде чем унять одну и утолить другую, он упал на колени у источника и погрузил руки на самое дно, ловя драгоценные камни, которые видел и к которым притрагивался за несколько часов до того.
Но камни, что он держал в руках сейчас, ничем не отличались от тех, какими усеяны были склоны горы.
Он раскрошил один из них: это оказался обычный кремень.
В мучительной тревоге он, трепеща, десять раз повторил этот опыт, и все десять раз получил один и тот же результат.
Сердце его не выдержало — он сел на выступ скалы и зарыдал.
Только что испытанное им жестокое потрясение внезапно вернуло ему ясность мысли: он опомнился.
Первая слеза была пролита им над его безумными надеждами. Но душа, смягченная болью, быстро проникается нежными чувствами; теперь он плакал над самим собой, над своей жалкой участью, а более всего — об Эстер.
Как он был далек теперь от прежнего самодовольства! Теперь он сознавал свою слабость, видя, как одно за другим сбываются зловещие предсказания доктора Базилиуса, и спрашивал себя, достанет ли у него сил выстоять в последнем испытании. Охватывая мыслью заговор, втянувший его, перед лицом сверхъестественной власти того, кто был его противником в этой борьбе, он готов был сдаться.
Он хотел вернуться к Эстер, признаться ей во всем, что с ним было, вымолить у нее прощение и предложить ей в общей смерти обрести победу взаимной любви и убежище от дьявольских происков страшного Нунгала.
Короткая передышка и принятое решение влили в него новые силы: он встал и пустился в дорогу.
Но глубокой ночью он боялся забрести в отравленную долину и продвигался вперед неуверенно.
Так он шел около часа, когда в тишине раздался глухой нестройный шум.
Такой шум производят лошади, стуча копытами по пересохшей земле; он быстро приближался, и Эусеб, бросившись на кофейную плантацию, спрятался за листвой одного из кустов.
В нескольких шагах от молодого человека проехали двенадцать туземных всадников из тех, что составляют охрану губернатора и выполняют обязанности полиции в провинциальных округах.
Во главе отряда на неоседланной лошади скакал человек, у которого не было, как у его спутников, треугольного вымпела на длинном древке в руках.
Казалось, он служит проводником остальным.
Эусеб в темноте разглядел, как он указывает пальцем на вершины Пандеранго и, как ему показалось, узнал в этом проводнике Нунгала.
Кровь застыла у него в жилах, на лбу выступил ледяной пот.
Без сомнения, малаец донес на него властям провинции и, кроме того, взял на себя поимку виновного.
Первым порывом Эусеба было искушение покинуть укрытие, сдаться солдатам, доверить решение своей участи правосудию подобных себе.
Но время мужественных решений для голландца прошло; с тех пор как Эусеб дал соблазнить себя демону алчности, его душа утратила юношескую стойкость и прямоту.
Иногда неприметного пятнышка бывает довольно, чтобы испортить хороший плод.
Мысленно представив себе, каковы могли быть последствия этого решения, он испугался; пытаться убедить судей XIX века в том, что ты сделался жертвой сверхъестественных козней, было безумием.
Не убедит ли, напротив, характер его откровений судей в низкой хитрости преступника, притворившегося безумным, чтобы спасти свою жизнь?
Он видел себя опозоренным, обесчещенным, осужденным провести остаток жизни в заточении, по меньшей мере, в доме умалишенных.
Тогда он подумал об Эстер и постарался спрятать свою трусость за нежностью к жене.
Он не верил, что Эстер сможет выдержать испытание; ему казалось невероятным, что любовь жены, самое ценное из всего, что у него осталось, не ослабнет, когда на того, чье имя она носит, обрушится человеческое правосудие, когда к предательству, в котором она имела право упрекнуть его — и в чем он надеялся оправдаться, ссылаясь на вмешательство Нунгала, — прибавится скандальная огласка публичного процесса.
Потеряв спокойствие совести, он утратил веру — основу всякой силы; усомнившись в себе, он стал сомневаться в других.
Он решил увидеться с Эстер, прежде чем подвергнется риску ожидавшего его суда.
Но если его разыскивают в окрестностях Текоекуа, вероятно, не забыли окружить и гостиницу в Гавое: его должны там ждать.
20*
Эусеб решил покинуть эти места, с тем чтобы позже отправить гонца к Эстер и позвать ее присоединиться к мужу.
Ориентируясь по звездам, он старался приблизиться к берегу моря, находившемуся, насколько ему было известно, в нескольких льё к западу.
Добравшись до берега к рассвету, он направился на север, надеясь таким образом оказаться в цивилизованной части округа Преанджер, где он найдет убежище и откуда ему легко будет дать Эстер знать о своем положении.
Он шел в этом направлении четыре дня, ночуя на камнях, питаясь моллюсками, подобранными на берегу моря, и плодами, сорванными с прибрежных деревьев.
Но Эусеб ван ден Беек переоценил свои уже пошатнувшиеся силы; лихорадка, сжигающая его, усилилась, рваная одежда уже не предохраняла его тело от палящего солнца, плохо защищенные изодранной обувью ноги кровоточили от ходьбы по острым камням и обломкам ракушек, которыми был усыпан его путь.
Вскоре ноги отказались нести его, он почувствовал удушье, закружилась голова, и перед глазами стали проплывать тысячи фантастических вспышек.
Им овладело отчаяние, внушив ему презрение к страху, которому он уступил, когда бежал от предводительствуемых Нунгалом всадников. Смерть, ожидавшая его в этой пустыне, где он не найдет ни помощи, ни утешения, казалась ему ужаснее, чем та, на какую закон осуждает убийц. Он решил приблизиться к жилью, которого до сих пор избегал.
В это время он находился на голом песчаном берегу, превращенном лучами солнца в бескрайнее огненное полотнище; справа от себя он увидел зеленеющий оазис и — среди устремленных ввысь стволов пальм — бамбуковые кровли нескольких домов; он попытался добраться до них.
Но, по мере того как он приближался, островок зелени, казалось, удалялся от него: вот до него было рукой подать, и вдруг он оказывался на расстоянии в пол-льё, а рядом с собой Эусеб находил лишь невзрачные обожженные кусты, высохшие растения, бесплодные скалы.
Тогда его отчаяние переросло в ярость; он обрушился с бешеными проклятиями на Нунгала, на ту, что послужила последним орудием этого демона; он клял свою судьбу, поносил покинувшее его Провидение; катаясь по песку, он бил себя сжатыми кулаками и испускал крики, в которых не было уже ничего человеческого.
Понемногу его чувства утратили остроту, между глазами и тем, что его окружало, появился туман, из пересохшего горла с трудом вырывалось свистящее дыхание; можно было подумать, что у несчастного Эусеба начинается агония.
Это состояние было так мучительно, его охватила такая страшная тоска, что он стал призывать смерть, она одна способна была положить конец его страданиям.
В то же мгновение, словно его последняя мольба была услышана, он ощутил на своей ноге странный холод; взглянув туда, он увидел маленькую змейку, обвившуюся вокруг его лодыжки.
Это была одна из тех гадюк, которых на Яве называют бидудакой, самая маленькая из многочисленных змей острова, но и наиболее опасная.
Эбеновые и золотые чешуйки рептилии сверкали на солнце, кровавые глаза были прикованы к глазам Эусеба; змея с грозным шипением высунула раздвоенное жало.
Эусеб настолько обессилел, что не нашел достаточно энергии, чтобы избавиться от угрозы; он упал на землю и потерял сознание.
В эту минуту на поляну вышел человек с вязанкой сухих веток; он сразу же заметил Эусеба и бидудаку: успокоенная неподвижностью жертвы, она проползла по одежде голландца и добралась до его шеи, как будто искала место, где ее укус подействует вернее.
Человек бросил свою ношу, схватил гибкую ветку дикого коричного дерева, оборвал с нее листья, тихонько приблизился к Эусебу и так ловко ударил бидудаку своей палкой, что превратил ее в два куска; некоторое время они еще извивались, словно желая соединиться, затем упали на песок.
Тогда человек, в котором наши читатели не замедлят узнать Аргаленку, более пристально рассмотрел того, кого только что отнял у смерти; слеза увлажнила ему веки, он упал на колени и, воздев руки к небу, воскликнул:
— Твой слуга благодарит тебя, Будда! Тот, кто находится здесь, раскрыл бедному буддисту щедрую руку, и ты не захотел, чтобы один из твоих детей предстал перед тобой с отягощенной долгом признательности совестью.
Стараясь разбудить Эусеба, которого считал спящим, Аргаленка заметил, что молодой человек лежит без чувств; он понял, что дело не закончено, и позвал Арроа на помощь.
Пока старик обламывал с кустов сухие ветки, необходимые для хозяйства, юная индианка, лениво сидя на берегу ручья, развлекалась с тем серьезным вниманием, с каким предаются своим забавам дети и безумцы — смотрела, как вода бежит по ее погруженным в ручей ступням.
— Дочка! Дочка! — кричал Аргаленка. — Вот человек, который в проклятый день не побоялся встать между твоим отцом и его мучителями. Он лежит без чувств в этом лесу. Будда сказал, что память о благодеянии должна жить до четвертого поколения. Не поможешь ли ты мне воздать добром за его добро? Принеси воды освежить ему губы… Ах, Боже мой! — продолжал несчастный старик, — я все забываю, что злой дух оставил от моего ребенка лишь оболочку, что ее разум блуждает в потемках, которые предшествуют местопребыванию избранных. Если она меня и слышит, то не понимает, чего я у нее прошу.
Но, к большому удивлению буддиста, когда он поднимался, чтобы самому направиться к ручью, на поляне появилась Арроа; она держала в руке свернутый лист латании, с которого капала вода.
Она подошла прямо к Эусебу, присела рядом с ним на корточки, тихонько приподняла ему голову и положила ее себе на колени; раздвинув его бледные губы, она влила ему в рот оставшееся в ее импровизированном сосуде прохладное питье.
— Арроа! Арроа! — воскликнул Аргаленка, в смятении, вызванном этим проявлением разума у его дочери, забывая Эусеба. — Арроа, неужели ты возвращена мне?
В течение нескольких минут девушка ничего не отвечала; ее взгляд, устремленный на молодого человека, лежавшего без чувств, стал странно пристальным; она продолжала расточать ему самые усердные заботы.
— Старик! — вскричала она, наконец, дрожащим и отрывистым голосом. — Значит, вся добродетель заключается в пустых словах? Твоя признательность не подскажет тебе ничего из того, что надо сделать, чтобы помочь тому, кто помог тебе? Ты даже не подумал о том, что Будда сотворил кожу белого человека для тени и прохлады, как и сияющий шелк цветка розы; самый главный враг обоих — палящее солнце наших мест; так подумай прежде всего о том, как уберечь того, кого ты назвал своим другом, от действия жгучих лучей, истощающих в нем источники жизни.
Аргаленка кротко повиновался дочери: он взял Эусеба на руки и перенес на берег ручья, в тень рощицы гигантских латаний.
Арроа снова заняла прежнее положение рядом с молодым человеком, но ни тень, ни прохлада, ни вода, которой индианка смачивала лицо голландца, не могли оживить его.
Возбуждение Арроа возрастало с каждым новым бесплодным усилием.
— Пусть падет на меня проклятие злых духов, — вскричала она с необъяснимой горячностью, — если дыхание его жизни угаснет в моих руках! Старик, ты ждешь, что мне на помощь придут бидудаки или тигры из джунглей? Беги в дом, возьми лошадь, может быть, ты найдешь в деревне сострадательную душу, которая даст тебе несколько капель забродившего пальмового сока, и он подействует сильнее, чем эта вода. Иди, отец, — продолжала она внезапно изменившимся тоном, с выражением ласки, контрастирующим с воодушевлением, которое выражали черты ее лица. — Иди, отец, и возвращайся скорее. Будда не простит нас, если мы позволим смерти уплатить твой долг этому молодому человеку.
Аргаленку так глубоко взволновали столь разумные речи его дочери, что он упал перед ней на колени и, обняв юную индианку, прижал ее к сердцу с восторгом, достаточно ясно выражавшим то, что творилось в его душе.
Арроа нетерпеливо высвободилась из его объятий.
— Да иди же, старик! — жестко приказала она.
— Я иду, — ответил Аргаленка, — и приведу лошадь; мы положим белого человека к ней на спину и перевезем его в нашу хижину — она станет его домом.
— Да, да, отец, ты хорошо сказал, — произнесла Арроа. — Но иди же, умоляю тебя!
Буддист встал и ушел, дважды возблагодарив своего бога за то, что тот поместил европейца на его пути, поскольку признательности за оказанное благодеяние оказалось довольно, чтобы вернуть рассудок его дочери.
XXVI ЛЮБОВЬ В ПУСТЫНЕ
Аргаленка без труда отыскал хижину, на которую Харруш указал ему как на возможное убежище.
Эту хижину гебр построил годом раньше, когда надеялся, что она послужит пристанищем его любви. Он выбрал для нее самый дикий уголок в соответствии со своим вкусом; прежде всего он старался, насколько возможно, избежать соседства с себе подобными, и с этим намерением разместил свое будущее жилище в самой безлюдной части провинции Преанджер.
В Арроа произошла внезапная перемена; конечно, она не обрела вновь невинную и простодушную веселость тех лет, что предшествовали ее похищению доктором Базилиусом, тех лет, воспоминание о которых сделало действительность такой тягостной для буддиста.
Он видел иногда, как на лице дочери появляется то мрачное и озабоченное, то зловещее выражение, каким отличалось оно во время помрачения рассудка; но ее безумие, по крайней мере, рассеялось, как ему казалось, и к юной индианке, особенно когда она находилась рядом с Эусебом, вновь возвращались ее умственные способности.
Чтобы как следует понять радость Аргаленки при виде такого внезапного выздоровления дочери, надо вспомнить о том, сколько он выстрадал, когда вместо радостной девушки, которую надеялся сжать в объятиях, нашел неподвижное, холодное, почти немое, словно покинутое душой существо, неспособное взволноваться ни от чего, даже от поцелуев и ласк отца.
Расставшись с Харрушем и идя по пустынным местам, Аргаленка, который вел на поводу лошадь, несущую на себе призрак прекрасной Арроа, восстал против мысли о том, что дыхание жизни могло покинуть плоть от плоти и кровь от крови его; он не мог допустить, что это безумие неизлечимо; он боролся с болезнью, проявляя то упорство нежности, какое только отец может почерпнуть в беспредельности своей любви; он пытался пробудить в Арроа чувство, воспоминание, старался заставить ее любоваться местами, похожими на провинцию Бантам, где прошло ее детство.
Если он находил любимый ею цветок или плод, он протягивал ей его со словами, от каких смягчилось бы и самое очерствевшее сердце.
Все его усилия были напрасными.
Если девушка обращала хоть какое-то внимание на слова старика, глаза ее оставались безумными и неподвижными или же до того рассеянными, что могло показаться, будто он обращается к ней на чужом языке; но большей частью голос буддиста оставался для нее всего лишь звуком, на который она должна была ответить другим звуком.
Тогда она затягивала строфу какой-нибудь песни, слова которой глубоко оскорбляли религиозные чувства старика.
Иллюзии Аргаленки еще продолжались в первые несколько дней после того, как он и его дочь обосновались в хижине Харруша; но мало-помалу неудачи открыли глазам буддиста очевидность совершившегося.
С тех пор как они забрались в глушь Преанджера, помешательство Арроа сделалось еще более пугающим.
Целыми днями она сидела на корточках в углу своей узкой комнаты, завернувшись в покрывала, отказываясь принимать пищу, избегая света, казалось раздражавшего ей глаза.
Только магометане рассматривают безумие как дар небес и блаженное состояние; последователи Будды видят в нем проявление злых сил.
Связывая состояние дочери со сверхъестественными событиями, происходившими во дворце Цермая, истолковывая несколько фраз, произнесенных гебром, Аргаленка пришел к убеждению, что телом Арроа завладел демон; он оплакивал ее и целые часы проводил, глядя на нее в мрачном отчаянии и суеверном ужасе.
Буддист был в такой тревоге, в его мыслях царило такое смятение, что он считал себя проклятым Буддой и больше не решался призывать своего бога.
Именно в это время на его пути встретился умирающий голландец.
С появлением молодого человека в Арроа произошла мгновенная перемена.
Она заговорила, она проявила разум в заботах, оказываемых ею Эусебу, и в душе буддиста крайнее горе мгновенно сменилось высшей радостью: его дитя воскресло.
Когда Эусеба перенесли в хижину, выздоровление индианки сделалось более заметным; к ней не вернулись ни веселость, ни нежность, отличавшие ее в детстве, она была по-прежнему молчаливой и дикой, и отцу приходилось много раз повторять один и тот же вопрос, чтобы добиться ответа, но она была внимательна и услужлива по отношению к посланному Небом гостю.
Реакция Аргаленки была бурной: его счастье было слишком искренним, чтобы не излиться наружу; он плакал и смеялся одновременно, когда эти уста, так долго остававшиеся для него немыми, роняли несколько слов; в упоении он прижимал к сердцу Арроа, затем, отпустив ее, обнимал голландца, словно не был уверен, кого должен любить сильнее — свое дитя или человека, благодаря которому оно, казалось, было возвращено отцу.
Аргаленка не пытался ни объяснить, ни понять это невероятное исцеление: никто не исследует чудо, приносящее ему пользу; он наслаждался своим счастьем, и оно было так велико, что он не замечал глубоких изменений, происшедших в голландце, и противоположных тем, что совершились в юной индианке.
В самом деле, несмотря на свою молодость, на нежные заботы Арроа и услужливую дружбу ее отца, Эусеб, казалось, далеко не оправился от испытанного им потрясения.
Его лицо не было таким бледным даже тогда, когда Аргаленка подобрал его, бесчувственного, в кустарнике на прибрежных скалах; щеки запали, губы посинели.
Проявления глубокого душевного беспокойства затронули не только внешность Эусеба: удивительно изменился характер его. В худшие дни, во время жестокой бессонницы, которой он был обязан преследованиям Базилиуса, его настроение было лишь печальным и тревожным; с тех пор как он попал в хижину буддиста, нрав его сделался диким и угрюмым; голландец выказывал себя грубым, раздражительным по отношению к хозяину дома и часто принимал его заботы с холодным пренебрежением.
Хотя с того рокового вечера, когда он покинул Гавое в обществе негритянки, прошло много дней, ни одним словом он не упомянул о том, что прошлое живо в его памяти, ни одним словом не показал, что думает иногда об Эстер и о своем ребенке; все же порой он уходил в глубокие размышления, и тогда вздохи, вырывавшиеся из его груди, выражение его изменившегося лица доказывали, что безразличие давалось ему, возможно, не без жестокой борьбы.
Эусеб уже две недели находился в хижине Аргаленки и слабел так быстро, что можно было подумать: смерть уже отметила свою жертву.
Со своей стороны и Арроа уже меньше заботилась об Эусебе; часто она оставляла его одного на целые часы, чего никогда не случалось в начале их знакомства.
Ее отсутствие удивительным образом действовало на Эусеба.
Стоило индианке покинуть хижину, казалось, молодого человека покидали все еще оставшиеся в нем жизненные силы, он впадал в глубокое уныние; иногда он предавался отчаянию, причины которого как будто были неизвестны и ему самому.
XXVII НЕОЖИДАННОЕ ИЗВЕСТИЕ
Проснувшись на рассвете, Эстер ван ден Беек очень удивилась, не обнаружив Эусеба рядом с собой.
Предположив, что ее муж решил воспользоваться утренней прохладой, чтобы прогуляться по окрестностям, она позвала Кору и велела принести малыша.
Кора не ответила; на зов явились другие служанки и сообщили госпоже, что Коры нет на постоялом дворе, что циновка, на которой она должна была спать, осталась нетронутой.
Изумление молодой женщины не переросло в подозрение, ее сердце не искало связи между исчезновением Коры и ранним уходом мужа.
Но часы шли, а голландец и черная кормилица не возвращались в Гавое.
Эстер, снедаемая тревогой, направилась к управляющему округом, но тот был болен и не мог ее принять; однако через несколько минут в дом г-жи ван ден Беек явился один малаец и сказал, что, если ему заплатят, он возьмет на себя все поиски, какие она хотела бы произвести в окрестностях.
Молодая женщина согласилась на его условия и вскоре увидела, как под окнами ее дома во весь опор пронеслась, направляясь к горам, толпа хорошо вооруженных туземных всадников во главе с малайцем.
Эстер была полна надежд; ей казалось вполне вероятным, что г-н ван ден Беек и негритянка заблудились в диких лесах, покрывавших склоны горы Текоекуа; малаец отрекомендовался ей с искусством завзятого балаганного актера, и нельзя было представить себе, как след европейца может ускользнуть от его опытного глаза.
Он вернулся поздно ночью и, объявив Эстер, ожидавшей его появления с вполне понятным беспокойством, что ничего не нашел; он высказал свое мнение: белый и африканка стали добычей тигра или одной из больших змей, каких много в здешних лесах.
Молния, ударив у ног Эстер, поразила бы ее не больше, чем это сообщение; она побледнела, зашаталась и упала бы, если бы одна из служанок не подхватила ее.
Малаец собирался воспользоваться слабостью молодой женщины, чтобы уйти, но она, найдя в себе силы, бросилась к ногам этого человека и со слезами умоляла его раздирающими сердце словами продолжить поиски на следующий день.
При виде этого проявления горя г-жи ван ден Беек на лице малайца появилась злобная ухмылка; он холодно ответил Эстер, что дальнейшие усилия ни к чему не приведут, он уверен в завтрашней неудаче, к тому же, личные дела отзывают его далеко от Гавое; она может обратиться к другим, но он предупреждает ее: там, где он потерпел поражение, никто не может надеяться преуспеть; он оставил ее погруженной в беспросветное отчаяние.
Госпожа ван ден Беек слишком любила мужа, чтобы отказаться от мысли найти его, и она снарядила для дальнейших поисков охотников и окрестных крестьян.
Они устраивали облавы, обшарили все кусты, не пропустив ни одного, но, как и предсказал малаец, много дней подряд напрасно вопрошали горы и равнины.
Эстер была удручена, раздавлена горем, но в настоящей любви всегда присутствует непобедимое упорство: искавшие нигде не обнаружили следов борьбы, нигде не нашли клочьев одежды и обломков костей, какие оставляет расправа хищного зверя; она по-прежнему была убеждена в том, что не здесь кроется тайна исчезновения Эусеба, и настаивала на продолжении поисков. В это время к ней явился управляющий округом.
После нескольких сочувственных фраз по поводу несчастья г-жи ван ден Беек он осведомился о подробностях события, лишившего ее мужа; но с первых же слов, сказанных молодой женщиной о малайце, на лице чиновника выразилось живейшее удивление; он засыпал Эстер вопросами о фигуре, лице, одежде этого человека, затем в конце концов объявил своей собеседнице, что не знает его, никогда не направлял его к ней и согласился с ее мнением: ему казалось вполне вероятным, что ни Эусеба, ни негритянку не растерзали тигры и что ни один из них не стал обедом боа; но в то же время он признался, что не думает, будто их положение более завидное: похоже на то, что г-на ван ден Беека и его рабыню Кору похитили пираты.
Вот на чем основывалось его мнение. За несколько дней до исчезновения Эусеба морские бродяги предприняли дерзкую вылазку в провинции Бантам: они зашли довольно далеко в глубину острова, подожгли, разграбили и разорили дворец одного из самых значительных людей острова Ява, раджи Цермая.
Это предположение подкреплялось и тем, что накануне приезда Эусеба в Гавое малайские проа крейсировали в открытом море у мыса Канджора, всего в десятке миль от горы Текоекуа. Тот факт, что описание главаря морских бродяг в точности совпадало с описанием малайца, приходившего накануне к г-же ван ден Беек, превращал предположение в уверенность; без сомнения, малаец, сам направляя поиски, хотел дать своей шайке время уйти далеко в море или добраться до одного из портов, где они укроются со своей добычей.
Управляющий добавил, что, по всей вероятности, это похищение имело целью лишь одно: потребовать выкуп за богатого голландского торговца; он уговаривал г-жу ван ден Беек как можно скорее вернуться в столицу острова, где ей проще будет собрать сумму, в которую пираты оценят свободу ее мужа, или же направить по их следам крейсера Компании.
Эстер очень не хотелось покидать Гавое: ей казалось, что она в таком случае еще больше удалится от мужа; она ссылалась на то, что пираты, если захотят отправить ей сообщение, наверняка сделают это по тому адресу, где их главарь расстался с ней; она опасалась, что, если сообщение не застанет ее в Гавое, освобождение Эусеба, ради которого она готова была пожертвовать всем своим состоянием, может задержаться и тем самым жизнь ее мужа будет подвергаться опасности.
Чтобы склонить ее уехать, управляющий доверительно сообщил Эстер: пребывание в этом удаленном от столицы поселке в данный момент небезопасно.
Среди туземцев поднимался глухой ропот, таинственные гонцы появились в провинции Преанджер и пересекли ее, распространяя во всех слоях населения идеи мятежа и независимости.
Ночью в горах видели большие костры: несомненно, в лесах центральной части острова происходили собрания заговорщиков; яванские правители сделались высокомерными и наглыми с европейцами.
Все это позволяло предсказать грядущее восстание.
Оставаясь в Гавое, Эстер подвергает себя всевозможным опасностям.
Бедная женщина в это время совершенно не дорожила своей жизнью, но подумала, что существование Эусеба зависит от ее собственного: если она умрет, некому будет освободить его; она подумала о своем ребенке и решила, последовав совету управляющего, на следующий же день отправиться в дорогу.
Как ни торопила она погонщиков мулов, с которыми перебиралась через Пандеранго, лишь к вечеру третьего дня она оказалась в окрестностях Батавии. Со времени ее разлуки с мужем прошло восемнадцать дней.
Приближаясь к столице острова, г-жа ван ден Беек могла убедиться в том, что метрополия разделяет опасения, которые поверил ей управляющий округом Гавое: конные пикеты бороздили поля и повозка Эстер много раз встречалась с патрулями ополчения.
Возница стал расспрашивать какого-то отставшего солдата, и жена Эусеба услышала, как тот отвечает, что уже несколько дней пожары разоряют окрестности Батавии и многие дома Вельтевреде сделались жертвами бедствия, которое можно приписать лишь злому умыслу.
О беспокойстве губернатора говорила не только необычная демонстрация военной мощи; когда остались позади первые дома предместья, г-жа ван ден Беек увидела, что и население охвачено тревогой: жители города собирались группами у домов. Губернаторская площадь утратила оживленный вид, какой раньше у нее был по вечерам; экипажи попадались реже; теперь площадь была заполнена колонистами — они с жаром делились своими опасениями, спрашивали о новостях, истолковывали полученные известия; на всех лицах читалась тревога, и в воздухе носились признаки мятежа.
Было слишком поздно для того, чтобы Эстер, знавшая неизменность привычек метра Маеса, могла отправиться, как хотела сделать, немедленно просить у него совета и помощи.
Вернувшись домой, она заперлась в своих комнатах, чтобы немного отдохнуть и приготовиться к утомительным хлопотам, предусмотренным ею на следующий день.
Но стоило бедной женщине вновь оказаться в этом доме, полном воспоминаний об Эусебе, как раны ее раскрылись, боль сделалась более острой, и слезы потекли обильнее.
Только к двум часам ночи ей удалось забыться сном.
С тех пор как она уснула, прошло не более получаса, когда Эстер внезапно разбудили громкие крики, доносившиеся из внутреннего двора.
Она вскочила, подбежала к окну и распахнула его.
Голландцы в колониях привили свои обычаи и национальные вкусы к привычкам величественной роскоши, свойственной лишь Востоку.
Архитектура просторных и пышных домов Вельтевреде сохранила воспоминания о родине; пропорционально увеличив те здания, что послужили им образцом, вы найдете тот же весьма примечательный облик, которым отмечены частные дома Соединенных провинций.
Те же тщательно подметенные дворы, вымощенные в шахматном порядке кирпичом и тесаным камнем, те же сады с правильными четырехугольными грядками — чередующимися квадратами цветов; только в Батавии эти шахматные доски тянутся подчас на сотни метров, только садики превратились в парки, только вместо гиацинтов, тюльпанов и анемонов в яванских цветниках распускается вся тропическая флора.
Жилище Эусеба ван ден Беека представлял собой большой дом, к которому можно было пройти через сад; позади этого здания, во дворе, где росли деревья, располагались конюшни, каретные сараи и службы.
Все это размещалось на углу улицы.
Открыв окно, г-жа ван ден Беек увидела, что через стену напротив нее перелезает какой-то человек, и пронзительно вскрикнула.
Услышав крик, человек быстро направился к ней, одним прыжком перескочив клумбу пурпурных рододендронов.
Увидев, что он приближается, Эстер хотела укрыться в комнате, но, прежде чем она успела сделать движение, он схватил ее за руку.
— Без того, кто говорит с тобой, ребенок никогда не увидел бы свет Ормузда! — глухим и суровым голосом произнес он. — Неужели мать выдаст такого человека палачам?
Договорив и не дав растерявшейся Эстер помешать ему, человек с удивительной ловкостью взобрался на подоконник и спрыгнул в комнату; только тогда, при свете горевшего в ее комнате ночника, г-жа ван ден Беек узнала гебра, чье лекарство таким чудесным образом исцелило ее.
— Что случилось? О чем вы просите? Чего требуете? — в изумлении воскликнула она.
— Слишком много вопросов, — возразил Харруш. — Мой язык устал, как и мои ноги. Меня преследуют, и, если настигнут, меня предадут смерти… Хочешь ли ты, чтобы я умер? Хочешь ли, чтобы жил? Говори!
— Но, Боже мой! Что же вы сделали? Какое преступление совершили?
— Когда тигр днем выходит из джунглей, крики шукари и дронго, преследующих его, перелетая с дерева на дерево, указывают на него охотнику; я не стану ждать, пока твой голос укажет, где я укрылся, тем, кто с воем несется по моему следу. Я сдамся им и избавлю тебя от преступления, а себя — от благодарности, которую тяжело нести.
Эстер хотела удержать Харруша.
— Гебр, — сказала она. — Моя религия, как и твоя, велит тем, кто следует ей, помнить об оказанной услуге; в этом доме ты в безопасности — ты принес в него радость.
— Слова женщин твоего народа напоминают сок гамбира: вытекая из дерева, он белый, но стоит ребенку подуть на сосуд, куда его собрали, и он становится красным, как кровь… Если хочешь, чтобы я поверил тебе, поклянись тем, чье отсутствие оплакиваешь, поклянись тем, в ком ищешь черты бросившего тебя человека.
Произнеся последнюю фразу, Харруш показал пальцем на колыбель, в которой лежал маленький сын Эстер.
Но из всех слов, сказанных гебром, лишь одно, казалось, поразило г-жу ван ден Беек.
— Бросившего! — вскричала она. — Ты сказал, бросившего?
В эту минуту ворота дома затряслись от бешеных ударов.
Эстер поспешно проговорила клятву, которой требовал Харруш, и торопливо спрятала его за драпировкой.
Она успела вовремя; складки драпировки еще колыхались, когда, прежде чем слуги ответили ночным посетителям, ворота подались под многочисленными и непрерывными ударами и в сад устремилась толпа вооруженных людей.
— Поджигатель! Поджигатель! Смерть поджигателю! — ревели они. За этой толпой, пыхтя и изнемогая в тщетных усилиях победить свое волнение, показался огромный человек; казалось, он командовал этой толпой.
— Минутку, господа! Минутку! — кричал человек, увешанный поверх белого канифасового костюма целой коллекцией всевозможного оружия (саблей, пистолетами, кинжалами и большим мушкетоном), что делало его похожим на ходячий арсенал. — Погодите, тысяча возов чертей! Желая подавить преступление, вы силой вламываетесь в жилище гражданина; это тоже преступление, предусмотренное кодексом колонии. Этот гражданин — мой клиент, что усугубляет вашу вину и заслуживает…
Метр Маес не закончил фразу, решив, что сомнение, когда речь ведется на криминальную тему, как нельзя более подходит для устрашения преступников.
— Наконец, — продолжал он все более громовым голосом, — вы не выполняете приказов, — что я говорю "приказов"? — вы не выполняете просьбы вашего командира. Знаете ли вы, господа, что совет ополчения выносил приговор и за меньшую вину?
К несчастью, воздействию заключительной части этой речи метра Маеса помешала г-жа ван ден Беек.
— Господин Маес! — закричала она. — Идите ко мне, господин Маес!
При звуке женского голоса в грозной позе начальника патруля произошла перемена: одной рукой, а именно правой, он попытался вложить в ножны страшное оружие, которым размахивал, в то время как левая, скрестившись с правой, собиралась взять украшенную огромной кокардой голландских национальных цветов шляпу и описать ею самую изящную дугу.
Нотариус хотел было направится к той, что обратилась к нему, но тщетно старался преуспеть в первом из упомянутых нами маневров: содержащее отказывалось принимать содержимое, ножны — впустить широкую саблю в предназначенную для нее утробу.
— Да помогите же мне, болваны! — завопил нотариус, обращаясь ко всему патрулю в целом.
Один из ополченцев, наделенный хорошим характером, согласился принять это требование на свой счет; он зажал кончик сабли в пальцах, придержал ножны, и оружие скользнуло в них словно по волшебству, а г-н Маес, избавившись от этой заботы, сменив свою развязность на самые изящные манеры, смог приблизиться к своей собеседнице.
Лишь в нескольких шагах от окна он узнал Эстер.
— Вы на Вельтевреде! Но когда же вы приехали, великий Боже? — воскликнул нотариус.
Госпожа ван ден Беек собиралась ответить, но один из ополченцев вышел вперед и резко перебил ее.
— Если вы были у окна, — сказал он, — вы должны были сейчас видеть, как тот, за кем мы гонимся, перелез через стену вашего сада как раз напротив того места, где вы теперь находитесь.
Эстер не решалась ответить; метр Маес избавил ее от необходимости лгать, яростно закричав:
— Тысяча бочек чертей! Уважаемая Компания, которая платит сержанту-инструктору за то, что он обучает этих славных лавочников обращению с оружием, должна была бы, в сущности, прибавить этому преподавателю хороших манер. Как! Красивая женщина благосклонно снизошла до беседы с вашим командиром, а вы! Вы, словно невоспитанный пекари на поле маиса, бросаетесь между нами! На следующем заседании совета я предложу за вашу дерзость применить к вам телесное наказание; погодите, сейчас я избавлюсь от этого отродья, испросив для вас у госпожи разрешения обыскать ее сад; именно там вы найдете субъекта, который, как вы уверяете, бросал горящую паклю на здания, примыкающие к этому дому; конечно, если мозг у вас не повредился от тафии, арака и страха.
Госпожа ван ден Беек ответила согласием на просьбу метра Маеса, патруль рассыпался по саду, но в ту же минуту другие крики вновь его собрали.
Эти крики раздавались позади дома; тревога была не напрасной: слуги г-жи ван ден Беек предупреждали, что начинался пожар в службах, там где щипец крыши примыкал к наружной стене.
Господин Маес отважно выхватил свою большую саблю; он объявил, что идет сражаться с огнем и пламенем, тем самым тоном, какой употребил бы паладин, объявляя своей даме, что победит или погибнет ради нее; к этому он прибавил, что у него есть важные сообщения для г-жи ван ден Беек и он вернется к ней через несколько минут.
После ухода метра Маеса и патруля, устремившихся в ту часть двора, где была замечена опасность, сад на несколько минут остался безлюдным.
Эстер, дрожа оттого, что ее служанки могут войти в комнату и обнаружить Харруша или же что это сделает метр Маес, выполняя данное обещание, решила воспользоваться беспорядком и замешательством, царившими в доме и на улице, для того чтобы спасти гебра.
Она поспешила поднять драпировку и обнаружила гебра на том самом месте, где оставила.
Он выглядел спокойным и почти безразличным к тому, какая судьба его ожидает.
— Бегите, — сказала ему Эстер. — Слышите, на улице бьют в барабан; может быть, через несколько мгновений сад заполнят прибежавшие на пожар люди, и я не смогу обеспечить вам убежище.
— Знаете ли вы, кто устроил этот пожар? — спросил Харруш.
— Не желаю этого знать; уходите отсюда с убеждением, что христианка может быть столь же верной клятве, как идолопоклонница, и пусть нас рассудит ваша совесть!
Лицо Харруша приняло мрачное и угрюмое выражение; можно было подумать, что это проявление душевного величия вызывает у него досаду и гнев.
— Уходите же, — настаивала Эстер. — Но, прежде чем вы уйдете, если вы считаете, что чем-то обязаны мне…
— Ах, вы хотите получить плату за благодеяние?
— Нет, нет, — возразила Эстер, качая головой. — Я не смогу заставить умолкнуть тревогу, снедающую мою душу; вы не из тех, кто может понять горе женщины, оплакивающей единственное любимое ею в мире существо. Уйдите, уйдите…
— Женщина, — произнес гебр, — не спеши осуждать того, о ком говоришь, пусть нас рассудит Ормузд. Ты узнаешь то, что хотела знать: твой муж жив.
— Жив! Жив! Ах! Вы не обманываете меня?
— Он жив, говорю тебе, но он попирает ногами то, в чем поклялся тебе.
— Не все ли мне равно! — в порыве восторга воскликнула Эстер. — Он жив! Господь и моя любовь сделают все остальное. Хочешь ли золото, хочешь ли все, что у меня есть, за то, что отведешь меня к нему?
Харруш мгновение поколебался, затем с мрачным и жестоким выражением, показавшим Эстер, что настаивать бесполезно, ответил:
— Нет.
И бросился к окну, через которое вошел, снова перелез через подоконник, ловко смешался с толпой работников, бежавших со всех сторон, и исчез из поля зрения молодой женщины.
XXVIII ПОХИЩЕНИЕ
Тревога была недолгой: пожар захватили в самом начале, с ним мужественно боролись, и он не успел распространиться; его задушили почти сразу же, как заметили.
Понемногу сад при доме ван ден Бееков опустел, и метр Маес лично явился сообщить Эстер о том, что все закончилось.
Лицо толстого нотариуса, когда он вошел в комнату Эстер, было багровым; его белый плащ с широкими рукавами, совершенно мокрый и забрызганный грязью, свидетельствовал о том, что его владелец деятельно участвовал в спасении особняка; он задыхался и скорее упал, чем сел в кресло.
Он принялся обмахиваться шляпой, а тем временем г-жа ван ден Беек, жаждавшая услышать обещанные новости, поскольку предчувствовала, что они имеют отношение к ее мужу, торопила его объясниться.
— Ах, пощадите, прекрасная дама, дайте мне отдышаться и избавиться от этой проклятой сбруи, которая меня душит. Хоть бы черт унес этих проклятых туземцев, — продолжал он, бросая на паркет один из пистолетов, торчавших у него за поясом, с яростью, заставившей вздрогнуть Эстер и служанок (после ухода Харруша они спрятались у нее). — Не беспокойтесь, сударыня, — сказал нотариус, заметив их испуг, — они не заряжены, это предмет роскоши вроде тех мешков, что наши прокуроры приносят на судебное заседание. Понимаете ли, сударыня, эти демоны во плоти вынуждают нас заниматься проклятым ремеслом ночных сторожей под нелепым предлогом яванского патриотизма и независимости, когда было так удобно и приятно с бокалом в руке брататься в китайском Кампонге! Черт меня побери, если я когда-нибудь отказался чокнуться с одним из этих дурней цвета шафрана! Чего им надо, чего они хотят?
Эстер подумала, что лучше дать толстому нотариусу время излить душивший его гнев, прежде чем навести его на больше всего интересовавший ее предмет.
Она обратилась к метру Маесу с несколькими вопросами о политическом положении на Вельтевреде; куда более общительный, чем управляющий округом Гавое, он сообщил г-же ван ден Беек, что у губернатора колонии давно уже появились сомнения в том, так ли смиренно яванцы терпят ярмо иноземцев.
Анонимный донос подтвердил эти сомнения, а сообщения агентов из внутренней части острова превратили их в уверенность.
На малайца Нунгала, раджу Цермая и китайца Ти-Кая указывали как на главарей заговора, имевшего целью изгнать европейцев и восстановить в правах туземных государей.
Удалось задержать китайца, который со свойственными его соотечественникам трусостью и слабостью сделал признания, как говорили, чрезвычайно важные; но малаец и яванский принц держались: один — на море, другой — в горах, и, пока их не арестуют, можно было опасаться, что они осуществят свои планы восстания.
Какими бы интересными ни были эти новости, г-жа ван ден Беек слушала их с некоторым нетерпением.
— Но Эусеб! Есть ли у вас известия о моем муже? — спросила молодая женщина, как только нотариус произнес проклятие как заключительную часть своего рассказа.
Метр Маес подмигнул своей клиентке в сторону негритянок, оставшихся в комнате, и Эстер поспешно их отослала.
— Сударыня! — взорвался нотариус, как только скрылась последняя из этих женщин. — Сударыня, мне тяжко оскорблять память о человеке, который принес большие деньги моей конторе; при исполнении моих обязанностей я не позволил бы себе подобных высказываний; но эта одежда свободы и откровенности дает мне право объявить вам: ваш дядя Базилиус был страшным негодяем.
— Сжальтесь, господин Маес, расскажите мне о Эусебе!
— Отъявленным негодяем, сударыня, я не отступлюсь от своих слов; нельзя обогатить человека для того, чтобы обобрать его. Наконец, сударыня, — продолжал метр Маес, который начал запутываться в своей фразе, — одним словом, я оправдываю вашего мужа: на его месте, в его положении, я, королевский нотариус, сам, быть может, оказался бы не разумнее его.
— Правду сказать, господин Маес, я не понимаю, о чем вы говорите.
— Дьявольщина! — ответил нотариус, на чьем лице все сильнее проявлялось смущение. — Дело в том, что я боюсь… я опасаюсь… мне кажется… требуется вся деликатность нотариуса, чтобы сделать такое сообщение даме… Конечно, госпожа ван ден Беек, — прибавил он, вскочив с места, — завтра вы придете в мою контору, и мой белый галстук вдохновит меня.
— О сударь! — молодая женщина умоляюще протянула к нему руки, — уже две недели я страдаю, две недели ожидаю слова надежды. Вы не можете наказать меня еще одной мучительной ночью.
Метр Маес вновь сел и стал играть концами платка из Мадраса, повязанного в виде юношеского галстука; он громко откашлялся, закрыл свои большие глаза, словно хотел избавить себя от созерцания того зрелища, что вызовет его сообщение; затем важным голосом произнес:
— Речь идет о приписке в завещании, сударыня.
. — О приписке в завещании?
— Увы, да! О приписке, — подтвердил нотариус, голос которого заимствовал у произносимых им слов все более мрачные оттенки. — Однажды я позволил и помог господину ван ден Бееку скрыть от вас первую брешь в вашем состоянии; теперь, несмотря на все исповедуемые мной чувства товарищества, это невозможно, поскольку речь идет о шестистах тысячах флоринов, добавившихся к уже утраченным другим шестистам тысячам.
— Ну что ж, господин Маес, — ответила Эстер, чьи переживания больше выражались в страдальческом выражении ее лица, чем в тоне голоса, оставшегося твердым, — надо платить.
— Платить! — нотариус даже подскочил в кресле. — Ах, сударыня! Позвольте мне выразить восхищение вашей снисходительностью и вашим смирением. Дай Бог, чтобы пример такого проявления двух этих добродетелей пошел на пользу достойной госпоже Маес… Платить!.. Но позвольте заметить, сударыня, вы немного поспешили. Когда я отдал шестьсот тысяч флоринов этой девице, недостойной зваться фризкой, от имени и по поручению которой их потребовали у меня, я имел разрешение вашего мужа; на этот раз я видел некое подобие капитана судна, но он был похож на пирата больше, чем на кого-либо другого. Он объявил мне, что осуществилось второе предусмотренное припиской в завещании предположение, и в доказательство своих слов принес вот это серебряное кольцо, на котором действительно стоят имена вашего мужа и ваше, но которое, по-моему, не является документом.
С этими словами метр Маес достал из жилетного кармана маленькое серебряное колечко и протянул его Эстер.
Та взяла его из рук нотариуса и стала внимательно рассматривать.
Это было то самое кольцо, что она дала Эусебу во время их помолвки, скромный залог, одновременно напомнивший несчастной женщине, как они были тогда бедны и как любили друг друга.
Она сама носила на пальце такое же кольцо.
Эстер поднесла то, которое протянул ей нотариус, к губам, и две большие слезы тихо покатились по ее щекам.
Метр Маес шумно высморкался; им начинала овладевать растроганность, так же мало сочетавшаяся с его привычками весельчака, как и с достоинством законника.
— Собственно говоря, — произнес он тоном убежденного моралиста, — чтобы вернуться к занимающему нас предмету, я скажу вам, сударыня, что вы напрасно придаете такое значение видимости; возможно, нас пытаются одурачить; возможно, ваш муж так же невинен, как ваш покорный слуга.
— Надо заплатить, — тоном высшего смирения произнесла Эстер. — Я солгала бы, если бы стала уверять вас, что то, о чем вы сейчас мне сообщили, не внесло смятения в мою душу; но можете поверить мне, господин Маес: потеря этой части наследства моего дяди Базилиуса не внушает мне ни малейших сожалений; я с радостью откажусь от нее, если буду знать, что это принесет счастье и покой моему дорогому Эусебу. Повторяю вам: вы выплатите эту сумму тому, кто ее требует; но я оставлю себе это кольцо.
— Прежде чем решать, я на вашем месте, сударыня, подождал бы встречи с господином ван ден Бееком.
— Увидеть Эусеба! Значит, это возможно! — воскликнула Эстер, перейдя от тихой скорби к крайнему возбуждению. — Так меня не обманули, он жив?
— Черт возьми! Неужели выдумаете, сударыня, что морские бродяги зарежут акулу, приносящую им звонкие флорины? Поймите, как понял это я: ваш муж представляет для них возможность получить огромный выкуп, и будьте, подобно мне, уверены в том, что в эту минуту те, кто держит в заточении вашего мужа, окружают его заботами и услугами.
— Но этот выкуп, назначена ли его сумма? — воскликнула Эстер. — Надо немедленно начать собирать его.
— Успокойтесь, сударыня, и выслушайте меня. Сумма выкупа не названа, но мы не замедлим это узнать. Недавно я виделся с Ти-Каем (толстяк-китаец еще не был под замком); он поделился со мной общим мнением, утверждающим, что господин ван ден Беек — пленник морских бродяг; я возвращался после этого разговора к себе сильно взволнованный, и один из моих учеников передал мне пергамент, найденный им под дверью конторы; я переслал эту бумагу вам в Гавое, поскольку считал, что вы еще там; на ней было написано: "Пусть госпожа ван ден Беек не ложится спать в ночь, следующую за днем ее приезда в Батавию; она должна одна последовать за человеком, который три раза постучит в дверь ее дома; жизнь ее мужа будет зависеть от ее смелости и решительности".
— В ночь после моего приезда на Вельтевреде?
— Да, в эту самую ночь, и никто не упрекнет вас в том, что вы не выполнили в точности предписания, данного в этом таинственном письме; но пираты оказались менее точными, чем мы: через несколько часов рассветет, а вы еще не получили от них известий.
В эту минуту, как будто кто-то дожидался слов нотариуса, чтобы ответить на них, камень разбил одно из стекол окна, пролетел в нескольких дюймах от лица метра Маеса и упал на покрывавшие пол циновки.
Наклонившись, Эстер подобрала этот метательный снаряд, завернутый в клочок пергамента, который был привязан кокосовым волокном; на пергаменте было написано лишь одно слово: "Антгол".
— Антгол! Что это такое? — удивилась г-жа ван ден Беек.
— Это деревня, построенная позади складов Батавии; на ее территории помещалось жилище вашего дяди Базилиуса.
— А что общего у этой деревни с пиратами?
— Возможно, они хотят сказать, что в Антголе вы найдете того, кто будет вас ждать.
Услышав предположение метра Маеса, г-жа ван ден Беек взяла длинную накидку и набросила ее на плечи.
— Что вы собираетесь делать?
— Идти в Антгол, — просто ответила Эстер.
— Что вы говорите? Антгол находится на берегу моря, в руках этих демонов; возможно, там для вас расставлена ловушка, сударыня.
— Но это может быть и спасением для Эусеба, и колебания мне не позволены; во всяком случае, если мне суждено стать пленницей, как и он, я буду рядом с ним, чтобы разделить и смягчить его участь.
Метр Маес воздел руки к небу жестом, выражавшим одновременно восхищение и изумление.
— Разрешите мне, по крайней мере, сходить в караульное помещение и взять с собой моих храбрых ополченцев; с их помощью мы можем схватить лазутчика этих дерзких негодяев, может быть, даже несколько пиратов, и, когда они будут в наших руках, уважаемая Компания сможет обеспечить спасение вашего мужа, не подвергая опасности вашу жизнь.
— Берегитесь, потому что вы, возможно, рискуете своей.
— Но позвольте хотя бы мне проводить вас.
— Вы не подойдете к деревне Антгол ближе чем на сто шагов. Вы сами сказали, господин Маес, что те, кто меня зовет, требуют, чтобы я пришла одна; мне слишком во многом приходится рассчитывать на их добрую волю, я не могу ослушаться их приказаний.
— Но это бред! — воскликнул метр Маес, подбирая один за другим все образцы товаров оружейной лавки, которыми был нагружен.
— Нет, сударь, это осторожность; судя по тому, что я слышала о нравах и привычках тех, кого вы называете морскими бродягами, правительство — если предположить, что оно сочтет освобождение частного лица достойным труда снаряжать флот, — будет бессильно диктовать свою волю разбойникам, захватившим море и способным найти тысячу надежных убежищ на рифах Индийского океана. Лишь своей покорностью я смогу обезоружить наших врагов. Что они могут потребовать от меня, чего я не была бы готова отдать им, только бы вырвать Эусеба у них из рук? Мое имущество я сама предложу им, а что до моей жизни — достаточно одного моего поступка, чтобы доказать им: я готова пожертвовать ею.
Пораженный этой великодушной самоотверженностью и твердой волей, метр Маес склонил голову и не отвечал.
— А теперь, господин Маес, — продолжала Эстер, — если вы хотите оказать мне услугу и быть моим проводником до Антгола, приготовьтесь идти со мной; дайте мне только поцеловать моего бедного малютку, и отправимся.
И Эстер склонилась над колыбелью, где спало невинное создание.
В эту минуту мысль о том, что этот поцелуй может оказаться последним, какой Господь позволит ей подарить в этом мире нежному залогу ее любви к Эусебу, возобладала над всей решимостью, которую ей удалось собрать в своем сердце; женская и материнская слабость проявилась вновь: глухие рыдания вырывались из ее судорожно вздымавшейся груди и жгучие слезы дождем падали на личико ребенка.
Она протянула к ребенку руки, желая прижать его к себе, но подумала о том, что ее объятие, пылкость которого она уже не в силах охладить, вырвет из мирного сна маленькое существо; у нее хватило присутствия духа потребовать от своей любви этой последней жертвы; она коснулась губами лобика ребенка, позвала служанок, поручила их заботам бесценное сокровище и, не оглядываясь, бросилась из комнаты.
Метр Маес последовал за ней, но Эстер шла так быстро, что он вынужден был бежать; если бы молодой женщине не приходилось иногда ждать его, чтобы спросить дорогу, он отстал бы от нее с первых же шагов.
Они пересекли площадь Ватерлоо, прошли по улицам Ристевельдена и выбрались на насыпную дорогу — самый прямой путь на Антгол.
По дороге, изо всех сил стараясь не остаться позади, метр Маес удвоил свои мольбы, пытаясь отговорить г-жу ван ден Беек от ее намерений.
В ответ она поручала ему своего ребенка, отдавала распоряжения на тот случай, если ни она, ни Эусеб не вернутся.
Так они двигались около четверти часа; шум волн, набегающих на песчаный берег, до сих пор еле слышавшийся, сделался более различимым.
Вскоре они увидели минарет мечети Антгола, вырисовывающийся черным силуэтом на фоне неба, которое на востоке уже начало окрашиваться в рыжевато-серый цвет.
Они приблизились к цели; г-жа ван ден Беек решительно обернулась к своему спутнику.
— Здесь мы должны расстаться, господин Маес, — сказала она ему. — Примите мою благодарность прежде всего за проявленное ко мне сочувствие и еще за труд, который вы на себя взяли — идти со мной сюда.
— Покинуть вас? Если я посмею это сделать, пусть мне не придется в жизни пить что-либо, кроме воды! — ответил метр Маес, присовокупив к этому проклятие. — Вы не знаете того, с кем говорите, если думаете, что он бросит женщину в таких обстоятельствах; может быть, нотариус должен так поступить, даже если дама его клиентка, но мне не стоит и предлагать подобных вещей.
— Господин Маес, умоляю вас, не делайте напрасным самопожертвование, которым вы только что изволили восхищаться более, нежели оно того заслуживает.
Госпожу ван ден Беек прервали послышавшиеся на дороге шаги; оба обратили взгляд в ту сторону, откуда раздавался шум, и увидели белую фигуру, выступившую из мрака и направлявшуюся к Антголу.
— Кто идет? — вскричал отважный нотариус, не обращая внимания на мольбы его спутницы.
Тень не отвечала и продолжала идти вперед.
Метр Маес правой рукой выхватил свою саблю, левой — вытащил из-за пояса пистолет и прицелился так решительно, словно этот пистолет заключал в себе все молнии Юпитера.
— Ни шагу, пока вы не ответите мне! — снова вскричал он. — Эта дама — госпожа ван ден Беек, ее муж в плену у морских бродяг; я — метр Маес, королевский нотариус, ее советник и друг; теперь ваша очередь, приятель, сообщить ваше имя и познакомить нас со своими намерениями.
При имени Эстер незнакомец, до сих пор продолжавший продвигаться вперед, резко остановился.
— Пусть подойдет! — сказал он по-голландски, но с сильным яванским акцентом.
Госпожа ван ден Беек шагнула вперед, но метр Маес, схватив за руку, остановил ее и заставил стоять рядом с ним.
— Простите, милейший господин, — продолжал он, — но нельзя так же легко похищать голландских дам в Батавии, как их мужей — в пустынях Текоекуа. Госпожа ван ден Беек отправится туда, куда вы пожелаете ее отвести, но она надеется, что вы позволите вашему покорному слуге стать третьим спутником, который не меньше, чем она сама, будет вам признателен за честь, какую вы соблаговолите оказать ему.
— Невозможно! — резко ответил незнакомец. — Возвращайтесь назад.
— Тысяча головешек! — ответил метр Маес, громко расхохотавшись. — Вы совершенно меня не знаете, дорогой мой. Я упрямее десяти мулов; я забрал себе в голову совершить прогулку во владения морских бродяг и убедиться, стоит ли их арак того, что продает нам в Меестер Корнелисе папаша Торнипп. Госпожа оставляет одну вашу руку свободной, и вы отказываетесь предоставить ее мне! Что ж, милейший, я приму меры, чтобы навязать вам свое общество.
С этим словами г-н Маес отпустил Эстер и посоветовал ей удалиться; он взял пистолет за дуло, собираясь использовать его в качестве дубинки, взмахнул саблей и смело, с безрассудной горячностью, доказывавшей, что у почтенного нотариуса достаточно вспыльчивости, чтобы сделать из него героя, бросился на противника.
Незнакомец ждал его без боязни; когда метр Маес оказался всего в десяти шагах от него, что-то вроде белого облачка пронеслось по воздуху и обрушилось на голову нотариуса, крепко сдавив ему горло; издав приглушенный стон, он рухнул на землю как подкошенный.
Незнакомец накинул на него легкую сеть, какими пользовались ретиарии, когда выходили в цирке сражаться с галлами. Через гебров эта традиция перешла к некоторым народам Индии и Малайзии.
Как только его враг упал на землю, этот человек бросился на него, и в рождающемся свете дня Эстер увидела блеснувшее лезвие кинжала.
— Пощадите, пощадите его! — в тревоге закричала она. — Если вы хотите, чтобы я доверчиво следовала за вами, не окрашивайте кровью первый шаг, какой я сделаю с вами вместе.
Человек колебался: казалось, ему трудно подавить свои кровожадные инстинкты.
— Хорошо, — согласился он наконец. — Я исполню твою просьбу.
Оставив в покое голову голландца, окутанную сетью, он стал связывать его руки и ноги веревкой, с помощью которой бросал свое грозное оружие.
Метр Маес яростно сопротивлялся; напрасно пытался он освободиться от опутавших его тысячи узлов: его усилия были подавлены превосходящей силой и лишь туже были стянуты путы, вскоре совершенно лишившие его возможности двигаться.
Тогда победитель приподнял его, оттащил на обочину дороги и без особых церемоний бросил в постоянно наполненный водой ров (вода просачивалась из заболоченной почвы), тянувшийся вдоль всей дороги на Антгол.
— Дожидайся здесь рассвета, — сказал он несчастному нотариусу, — и поблагодари свою соотечественницу; если бы не она, я по-другому отомстил бы за полученные от тебя в Меестер Корнелисе оскорбления, за которые обещал тебя наказать.
— Цермай! — воскликнул метр Маес, при последних словах узнавший раджу; до сих пор он не мог ясно различить его черты. — Берегитесь, госпожа ван ден Беек, этот человек — предатель, за его голову назначена цена; не доверяйте его словам — это самый хитрый негодяй, какого я знаю.
Но Эстер не могла услышать его: складки сети заглушали голос метра Маеса, к тому же Цермай, схватив молодую женщину за руку, быстро увлекал ее в сторону деревни.
В тридцати шагах от первого дома он перешагнул через ров и, протянув руку г-же ван ден Беек, знаком показал, что ей следует перебраться на другую сторону.
Эстер колебалась; то, что произошло между метром Маесом и этим неизвестным ей человеком, наполнило смятением и тревогой ее душу; ее решимость оставалась прежней, но, оказавшись во власти этого вооруженного до зубов туземца, с горящими диким огнем глазами, она, краснея за страх, охвативший ее сердце, не в силах была его подавить.
Увидев ее колебания, Цермай отнял руку.
— Вы можете свободно выбирать, сударыня, следовать ли вам за мной или вернуться назад… Только, если вы остановитесь на этом последнем решении, не обвиняйте никого, кроме себя, в том, что вам придется проливать слезы.
Эта угроза, столь ясная под той любезной формой, в какую ее облекли, победила сомнения молодой женщины: она доверилась руке яванца и с его помощью перебралась на противоположный от дороги откос.
Они стояли перед густыми зарослями тамариска, гибкие ветви и шелковистые листья которого волновались под ветром.
Цермай раздвинул ветви с галантностью, какая не вызвала бы неодобрения и у самого учтивого завсегдатая Королевской площади, и попросил Эстер углубиться в чащу.
В тени тамариска были спрятаны две оседланные и взнузданные лошади, нетерпеливо рывшие землю копытами.
Одна из них явно предназначалась Эстер, поскольку была под дамским седлом.
— Позволите ли, сударыня, подсадить вас на вашего коня? — спросил у своей спутницы Цермай.
И тут же, не дожидаясь ответа, словно опасался новых колебаний, он приподнял молодую женщину, посадил ее на лошадь и сам с удивительной ловкостью вскочил в седло.
— Можете ли вы сказать мне, сударь, куда мы едем? — спросила Эстер.
— Не вижу к этому никаких препятствий, сударыня, кроме того, что светает, приближается час отлива, а нам надо проделать много миль по очень плохой дороге, чтобы добраться до лодки, которая отвезет вас к господину ван ден Бееку, и к тому же мы теряем драгоценное время в напрасных разговорах.
— Я больше не стану досаждать вам, сударь, и, не рассуждая, последую за вами туда, куда вам будет угодно.
— Так в путь! — ответил Цермай, схватив повод лошади Эстер.
И, сжимая бока своего коня мавританскими стременами, погнал вперед обоих животных.
XXIX МЕСТЬ
Эстер, внезапно охваченная страшным сомнением в намерениях своего проводника, попыталась соскочить с коня, но Цермай с восточной ловкостью направлял его с помощью коленей и шпор.
Она хотела закричать, позвать на помощь; но, хотя море окрасилось пурпурными огнями зари, солнце еще не встало, поля были безлюдны, и всадники пересекли всего несколько рисовых плантаций, где ее крики могли бы быть услышаны. Повернув коней влево, Цермай поскакал в болота, которые, окружая Батавию, тянутся на много льё к югу; лишь некоторые смелые охотники и бедные китайцы, зарабатывающие плетением тростниковых циновок, осмеливаются испытать на себе действие смертельных испарений, но только весной, то есть в то время, когда долгие зимние дожди ослабляют их тлетворное влияние.
Сейчас же начинались самые жаркие дни сезона, и вряд ли можно было встретить в болотах кого-нибудь, кроме уток, зуйков и бакланов, тяжело и шумно взлетающих из-под копыт, или рептилий, скользящих по вязкому илу, чтобы свить свои кольца где-нибудь подальше.
Цермай хорошо понимал, что все усилия, которые может предпринять Эстер с целью уйти от него, будут теперь напрасными, и, проделав около льё по болотам, он замедлил необузданный бег коней; впрочем, продолжать его было бы опасно.
Они находились на узкой дороге, проложенной в трясине теми, кого ремесло вынуждало посещать эти печальные места; для этого были использованы ветви и фашины, набросанные друг на друга поверх этой зыбкой почвы.
С каждым шагом коней всадники чувствовали, как дрожит и прогибается хрупкий мост над пропастью, глубина которой тем более устрашала, что человеческий глаз не мог проникнуть в бездну. Казалось, эта бездна, над которой они двигались, старается приоткрыться, чтобы не упустить добычу.
Справа и слева двух путников окружала двойная стена всевозможных тростников и бамбука; их стволы выходили из серой солоноватой воды или из тины, казавшейся не менее прозрачной, но более опасной, поскольку в ней нельзя было плыть; верхушки их, начавшие желтеть от зноя, качались, образовывая свод в двадцати футах над тропинкой.
Путники двигались под этим сводом около двух часов.
Цермай продолжал молчать.
Первый испуг г-жи ван ден Беек прошел, она понемногу привыкла смотреть в лицо грозящим ей опасностям; ее мысли, поначалу сбивчивые, прояснились, и она стала обдумывать свое положение.
С каждым шагом она приближалась к Эусебу. Мечта увидеть вскоре мужа давала ей силы преодолеть страх; она повторяла себе, что у нее всегда останется выбор между смертью и тем посягательством, опасаться которого заставляло поведение Цермая.
В надежде узнать от него какие-нибудь подробности о судьбе Эусеба, она решилась заговорить первой.
— Долго ли нам еще двигаться таким образом? — спросила она.
Хмурое лицо яванца, увидевшего, что молодая женщина внезапно успокоилась, просияло.
— Через час, — отвечал он, — мы будем в бухте Пальван, где встретимся с моряками. Солнце мешает вам, — продолжал он, заметив, что Эстер опускает голову под косыми лучами, острыми, словно огненные стрелы. — Как и мы, оно не любит людей с Севера. Но в лодке вы найдете чем защитить лицо от его слепящего взгляда.
— Так это правда, что я снова увижу моего Эусеба? Вы не обманываете меня, сударь? — спрашивала Эстер со счастливым видом, поразившим яванца.
Цермай пожал плечами и не ответил.
В эту минуту его конь, двигавшийся умеренной рысью, внезапно остановился и отпрянул назад; его скачок был таким резким и неожиданным, что Цермай покачнулся, хотя и крепко сидел в седле.
Он поискал глазами препятствие, вызвавшее страх животного, и на щеках яванца выступила краска.
Он заметил, что дорога отрезана: кто-то убрал фашины на участке длиной в десять метров, и обнаружилась черная тина — проехать было невозможно.
— Пусть черные ангелы настигнут того, кто сделал это! — с горячностью воскликнул он. — Нам придется повернуть назад, и, если эти люди не увидят нас в час отлива, они способны уйти в открытое море.
И Цермай, как человек, умеющий ценить минуты, повернул вначале своего коня, затем коня Эстер, затем пустил их аллюром и направил на ту тропинку, по которой они только что скакали.
Но вскоре Цермай сам остановил коней.
Эстер увидела, что он встал на стременах и старается проникнуть взглядом за тростники.
— Что случилось? — спросила г-жа ван ден Беек, заметив необычное волнение на лице своего проводника.
— Подождите меня здесь минуту, — ответил Цермай. — И главное — не двигайтесь! Помните, что всюду — справа и слева — смерть и только я один могу провести вас к тому, кого вы хотите увидеть.
С этими словами Цермай погнал своего коня вперед так уверенно, словно передвигался по твердой земле.
Через несколько минут Эстер увидела, что он возвращается, по-прежнему несясь во весь опор; его смуглое лицо сделалось смертельно бледным: позади него начал показываться густой дым.
— Огонь! Огонь! — крикнул он молодой женщине.
— Огонь в этих тростниках! — воскликнула она, тоже побледнев. — Но этого не может быть!
— Смотрите, — коротко возразил Цермай, показав пальцем на большие клубы дыма, несколько минут назад плывшие над вершинами бамбука, а теперь поднимавшиеся огромными спиралями к небу.
Затем, насторожившись, он прибавил:
— Слушайте.
И в самом деле, Эстер начала различать в шуме ветра, в гуле пожара треск еще зеленых листьев тростника, корчившихся в объятиях пламени.
Сердце молодой женщины бешено колотилось, со лба по лицу катился холодный пот; смерть не страшила ее, но. погибнуть в ту минуту, когда возрождались все ее надежды вновь оказаться рядом с Эусебом, казалось ей ужасным.
— Кто зажег этот огонь? — спросила она у яванца.
— Несомненно не дружеские руки, — ответил Цермай; он так истово кусал губы, что в отпечатках его зубов показывалась кровь. — И вот доказательство этого.
Действительно, справа, в нескольких шагах от них, начал подниматься в воздух еще один столб дыма.
— Назад! — крикнул яванец. — Через пять минут ветки, по которым мы едем, превратятся в костер, и тогда адское пламя покажется детской игрушкой. Назад!
И, подкрепив слова делом, он снова бросился в сторону, где дорога была перерезана.
Он больше не вел коня Эстер, забота о самосохранении отвлекла его от всех прочих мыслей; молодая женщина последовала за ним и нашла его на краю болота: он вглядывался в пустое пространство, которое преграждало им проход.
Опасность все более грозила им, но яванец выглядел нерешительным, его глаза перебегали от пропасти, которую предстояло преодолеть, к надвигавшемуся пожару; он много раз вытирал лоб, залитый потом, много раз подбирал поводья, словно собирался что-то предпринять, много раз снова бросал их болтаться на шее коня.
— Требовать такого усилия от животного — значит искушать Магомета! — воскликнул он наконец.
Но в эту минуту огонь взревел, словно ураган, и ветер пригнал облако дыма, покрывшее тесное пространство, на котором разыгрывалась эта страшная сцена.
Эстер вскрикнула в отчаянии, спрыгнула с коня и бросилась к человеку, который за несколько минут до того возбуждал в ней такой сильный страх.
— Спасите меня, спасите меня, во имя Неба! — просила она.
— Прочь! Прочь! — грубо и жестоко оттолкнул ее Цермай. — Прочь! Если будет угодно Пророку, ты встретишь своего мужа в аду.
И, взяв разгон, он с непобедимой властью заставил коня прыгнуть через пропасть, сдавив ему бока широкими стременами.
Благородное животное было таким сильным и энергичным, что бешеным прыжком смогло бы преодолеть препятствие и достичь противоположного берега; но в ту минуту, как конь устремился вперед, нога несчастного животного запуталась в веревке: одним концом заранее привязанная к бамбуку и тщательно спрятанная в тине и под обломками стеблей тростника, она внезапно натянулась, движимая с другой стороны невидимой рукой. Конь и всадник покатились в тинистую пропасть.
Цермай в отчаянии испустил такой вопль, что перекрыл рев пожара.
На его крик отозвался другой голос — победный, и какой-то человек с забрызганным тиной лицом и одеждой раздвинул ряд тростников, окаймлявший тропинку, прыгнул на эту тропинку и, не обращая ни малейшего внимания на Эстер, вперил горящий взгляд в пропасть, где бились злополучный яванец и его скакун.
— Цермай! Цермай! — закричал он.
Всадник, погрузившийся в тину еще только по пояс (в то время как его тяжелый конь почти скрылся), не теряя, как казалось, надежды выбраться на твердую землю, повернулся в ту сторону, откуда слышался зов, возможно решив в смятении, что Провидение послало ему неожиданную помощь.
— Харруш! — пробормотал он.
Его лицо стало таким же серым, как тина, в которой он видел надвигающуюся смерть, и он безнадежно протянул руки в сторону, противоположную той, где находился гебр.
Но это движение оказалось для него роковым, и прожорливая бездна почти целиком поглотила его.
На поверхности судорожным усилием держались только руки и голова.
— Да, Харруш, — ответил огнепоклонник со смехом, в котором было нечто от гортанного воя гиены. — Харруш пришел насладиться зрелищем твоей смерти, раджа, как насладится, когда издохнут двое других.
— Харруш, Харруш, спаси меня!
— Спасти тебя? А ты проявил милосердие к рангуне из Меестер Корнелиса? Ты обещал гебру женщину — и дал ему труп. Я отплачу тебе тем же; ты гнался за троном Явы — и найдешь смерть в самой зловонной ее грязи.
— Харруш, Харруш, — голос несчастного сделался отрывистым и глухим, — протяни мне руку, Харруш, и будешь выбирать в моем гареме!
— Пощадите его, — в свою очередь попросила Эстер; охваченная леденящим ужасом при виде этой сцены, она и не думала о том, что и ее, возможно, вскоре настигнет смерть. — Во имя Бога милосердного, пощадите его!
— Пощадить? — воскликнул Харруш, встав перед г-жой ван ден Беек словно для того, чтобы она могла яснее разглядеть зловещее выражение его лица. — Разве я похож на человека, у которого просят пощады?
Эстер опустила голову и замолчала.
Харруш повернулся к яванцу.
— Взгляни на солнце, потомок сусухунанов, взгляни на пылающий золотой шар, заставляющий жизнь течь по нашим жилам, посмотри на него, прежде чем сойдешь в бесконечную тьму!
Харруш медленно выговаривал каждое слово, будто хотел, чтобы они отчетливо дошли до слуха его врага и удвоили его мучения; но Цермай, казалось, не слышал их, а если и слышал, то не мог уже понять их значения.
Смерть поднималась к нему, поднималась медленно, но неумолимо, и ее приближение уже парализовало его ум; на губах его выступила пена, из глаз падали кровавые слезы, лишенная воздуха грудь могла издавать лишь глухие, нечленораздельные крики, в которых уже не было ничего человеческого.
Откровение, какое дается в преддверии последней минуты, подсказывало ему мысль попытаться отсрочить эту минуту, вытянувшись горизонтально на поверхности тины: но соприкосновение с этим смертоносным для него илом внушало ему непобедимое отвращение, он резко откинулся назад, и от толчка погрузился еще глубже.
Нижняя часть головы была уже в плену ужасной стихии, поглощавшей свою жертву, словно большая змея, с медлительностью, казавшейся рассчитанной на то, чтобы доставить адское наслаждение гебру.
Цермай еще раз попытался воззвать к милосердию врага, но зловонная грязь уже проникла ему в глотку; дыхание, вырываясь из нее, подняло пузыри, заставило тину разлететься брызгами, и затихло со странным всхлипом.
Теперь были видны лишь налитые кровью, непомерно расширенные глаза; они вращались в орбитах и заменяли голос и жест, поражая молящим и смертельно испуганным взглядом — вид их был ужасен.
Затем глаза, лоб, волосы в свою очередь погрузились — и бездна сомкнулась.
Из груди Харруша вырвался глубокий вздох; возможно, он сожалел о том, что отвратительное зрелище так быстро закончилось, и находил, что смерть слишком поторопилась прийти.
Но для несчастного раджи не все было кончено.
Его конвульсии еще волновали тину, принимавшую в свое лоно человеческую жизнь, слегка морщили поверхность, которую недавно приподнимали; вдруг из бездны возникла и выпрямилась черная рука: сжимаясь и разжимаясь, она, как прежде голос и взгляд, еще молила о жалости и пощаде!
Харруш во второй раз издал свой отвратительный смех, вырвавший Эстер из оцепенения, в которое погружал ее ужас.
Она отняла от лица руки, которыми закрывалась от этих мерзостей, открыла глаза и увидела руку Цермая; не выдержав этого зрелища, Эстер упала без чувств к ногам гебра.
Она пришла в себя уже не в болотах: лежа на возвышавшейся над морем скале, она открыла глаза и увидела сидящего в нескольких шагах от нее Харруша.
Насытившись своей местью Цермаю, огнепоклонник утратил устрашающее выражение лица; он хладнокровно смешивал свой бетель с негашеной известью и ядром ореха; его спокойствие ужаснуло Эстер почти так же сильно, как и та недавняя сцена, что разыгралась на ее глазах.
Не удержавшись, она вздрогнула от отвращения; затем, подумав о том, что преступление Харруша разбило ее последнюю надежду приблизиться к Эусебу, она опустила голову и заплакала.
Полная горечи улыбка скользнула по губам гебра; поднявшись, он подошел к г-же ван ден Беек, легко дотронулся до нее пальцем и спросил:
— О чем эти слезы, женщина?
Эстер указала ему на лодку, только что отчалившую от песчаного берега, над которым они сидели; четыре крепких гребца заставляли лететь по воде легкое суденышко; на корме стоял человек в черно-красном саронге, развевавшемся на ветру, словно знамя.
Хотя гебра и молодую женщину отделяло от лодки огромное расстояние, Харруш узнал Нунгала; его глаза засверкали, грудь расширилась, и он что-то глухо проворчал.
— Увы! — произнесла г-жа ван ден Беек. — Без сомнения, те, к кому я шла, устали ждать нас! Совершенное вами убийство помешало мне добраться до них; кто может теперь сказать, что станет с моим бедным Эусебом?
Казалось, Харруш делает над собой усилия, стараясь подавить чувства, вызванные в нем видом главаря морских бродяг.
— Слушай, — сказал он, — это Ормузд говорит моим голосом; те, кого ты видишь стремительно убегающими по гребням волн, словно крикливая морская птица, — твои враги и враги человека, которого ты любишь, и в то же время это враги Харруша; Харруш не принял их благодеяний, Харруш поможет тебе: он едва начал утолять свою жажду мести. Они бегут, летят, будто стая хищных птиц за добычей, но стрела охотника найдет птицу в воздухе, и Нунгал не ускользнет от Харруша, как не ускользнул от него Цермай.
Произнося последние слова, гебр, казалось, забыл, что обращается к Эстер.
Он приблизился к краю скалы, отвесно обрывавшейся над океаном и, протянув руку к лодке, теперь черной точке на воде, бросал слова вслед ей, словно надеялся, что ветер донесет их до Нунгала.
Эстер в изумлении слушала его; точный смысл этого образного языка ускользал от нее, она не могла уловить связи, которую ненависть гебра установила между ее мужем, жалко сгинувшем в болотах яванцем и тем, кого сам Харруш называл главарем морских бродяг; но она понимала, что гебр не только обещает помиловать Эусеба, но готов помочь ей освободить того, кого она считала пленником, сам в то же время надеясь выместить на пиратах сжигавшую его злобу.
— Но Эусеб, Эусеб? — воскликнула она, пытаясь вернуть Харруша к тому, кто интересовал ее больше всего на свете.
— Прежде чем солнце встанет и зайдет четыре раза, ты увидишь его.
— Свободным?
— Узы, опутавшие и удерживающие его, прочнее, чем если бы они были сделаны из стали и алмаза; я ничего не могу тебе обещать.
— Но что я должна делать?
— Следовать за мной.
Харруш и Эстер, спустившись со скалы, направились к внутренней части острова.
Они прошли мимо болот, оказавшихся роковыми для первого проводника г-жи ван ден Беек; обломки тростника, обожженные огнем, еще дымились; время от времени пламя, казалось, оживало, но оно уже поглотило все, кроме сочной зелени, сохранившейся в прохладной воде, и гасло, оставляя черный след вокруг уцелевших стволов бамбука.
Проходя мимо той части болота, которую пощадил пожар, Харруш издал особый свист.
На этот звук из кустарника выскочила Маха и бросилась к гебру.
При виде грозного зверя г-жа ван ден Беек содрогнулась, но Харруш взглядом успокоил ее; он провел рукой по вздрагивающей шкуре пантеры — та последовала за ним с собачьей покорностью, и все трое продолжали путь.
XXX ВОСТРЕБОВАНИЕ ДОЛГА
— Мне страшно! — произнесла Эстер.
— Разве здесь нет меня, чтобы тебя защитить? — возразил Харруш. — И потом, кого тебе бояться? Того, кто звался Базилиусом и кого сегодня зовут Нунгалом? Он единственный, кто действительно опасен, но он не придет.
— Он пришел, — послышался громкий голос.
Тотчас же Харруш стремительно бросился к морю.
Видя, что он убегает, Нунгал испустил боевой клич пиратов.
После этого пустынное место мгновенно заполнилось: из каждого куста, из-под каждой кучи листьев выскочил человек, и прежде чем гебр успел сделать десять шагов, он оказался окруженным пиратами, которые угрожали ему своими дротиками или ружьями.
— Хватайте этого человека, — приказал Нунгал.
Но, увидев хозяина в опасности, Маха, до сих пор сидевшая в тени за папоротниками, под которыми пряталась Эстер, вскочила; по ее шкуре побежали быстрые волны, морда собралась в глубокие складки, хвост заколотил по земле, взрыхленной когтями пантеры. В тот момент, когда один из пиратов, усердно исполняя приказ главаря, протянул руку к Харрушу, Маха совершила невероятный прыжок, обрушилась на плечи нападавшего и, разбитого, швырнула его на землю, угрожающе обведя врагов хозяина горящими глазами; устрашенные этим нападением, они не решались пошевелиться.
— Пусть падет на вас проклятие пророка, трусы! — вскричал Нунгал. — Вы дрожите перед презренной тварью.
С этими словами он выхватил из-за пояса пистолет и старательно прицелился в пантеру.
Но в миг, когда искра достигла пороха, Харруш бросился перед Махой и закрыл ее своим телом; пуля ударила у него над бедром и так глубоко вошла в тело, что в одну секунду саронг окрасился кровью.
— Маха, Маха, — говорил он; между тем на лице его не отразилось ни волнения, ни боли. — Маха, час еще не настал, беги далеко в лес, укройся от их выстрелов; беги, Маха, я приказываю тебе.
Пантера проследила глазами за жестом, каким Харруш сопроводил эти слова; она все поняла и исполнила с удивительной покорностью.
Когда пираты, возбужденные упреками главаря, двинулись к ней, чтобы поразить ее, когда Нунгал направил на нее ствол второго пистолета, она стремительнее молнии вскочила, пронеслась над головами разбойников и бросилась в реку.
Несколько стрел просвистело в воздухе над ее головой, но они не задели ее; она выбралась на противоположный берег и в несколько прыжков преодолела расстояние, отделявшее ее от леса.
Тогда лицо Харруша, до сих пор мрачное и встревоженное, стало спокойным; он свободно вздохнул, на его губах появилась торжествующая улыбка, теперь он с гордым и безразличным видом стоял перед Нунгалом, с ненавистью глядевшим на него.
— Гебр, — спросил этот последний, — что ты сделал из Цермая?
— Немного тины, Нунгал.
— Ты признаешься в твоем преступлении?
— Я горжусь своей местью: Ормузд был со мной.
— Гебр, — продолжал малаец. — Ты срезал цветок надежды, которую питали наши братья, — надежды увидеть правителем независимой Явы потомка древних властителей.
— Не все ли равно рабам, каким именем зовется тот, кто их наказывает? — насмешливо возразил Харруш. — Если кнут, который бьет их, будет зваться не Цермаем, он станет именовать себя Нунгалом, но останется кнутом.
Малаец побледнел и закусил тонкие губы.
— Ты исполнил желание белых людей, наших врагов, предав смерти того единственного человека, кто мог объединить малайцев и привести их к победе; ты поднял святотатственную руку на сына султанов; знаешь ли ты, какую кару законы острова назначили за твое преступление?
— Да, — коротко ответил Харруш.
— Это кара огнем. Свяжите этого человека, — продолжал малаец, обращаясь к своим пиратам, — этой ночью вы будете готовить ему костер.
Харруш протянул руки навстречу веревкам.
— Теперь, — произнес Нунгал, повернувшись к Эстер, — обещаешь ли ты мне побыть немного неподвижной, спрятавшись под этим покрывалом, если я покажу тебе твоего мужа?
— Клянусь! — ответила Эстер.
— Хорошо! Пусть приведут ко мне Эусеба.
Эусеба привели.
— Эусеб ван ден Беек, — произнес предводитель морских бродяг. — Я считаю, что достойный доктор Базилиус, ваш дядя и мой друг, удовлетворился совершенными вами ошибками и может рассматривать себя как законного наследника существования, которое вы поставили в зависимость от вечности ваших чувств. Я не буду более привередлив, чем он. В какой час вам будет угодно позволить мне вступить во владение тем, что положено мне по праву передачи, сделанной в мою пользу доктором Базилиусом?
— Когда захотите, — отвечал едва слышным голосом Эусеб.
. — Ну-ну! Кое в чем капитан пиратов не отличается от негоцианта. Впрочем, я унаследовал принципы этого превосходного Базилиуса и не стану выходить из рамок коммерческих традиций, в каких заключено было ваше взаимное обязательство: я даю вам двенадцать часов, чтобы вы предоставили мне то, чего я вправе потребовать, а также избавились от последней трети вашего состояния в пользу Арроа.
Пираты собирались увести Харруша, но на звук его шагов Эстер подняла голову.
— Гебр, — произнесла она, понизив голос, — настало время выполнить последнее из полученных мною от тебя обещаний.
— Все будет сделано, как ты желаешь; я обещал тебе помочь спасти твоего мужа, и Ормузд свидетель: выполняя эту клятву, я рисковал больше чем жизнью; я обещал еще, что, если Нунгал окажется сильнее меня, ты получишь из моих рук средство, которое избавит тебя от страданий, слишком хорошо мне знакомых, чтобы не вызвать у меня сочувствия; да будет над тобой рука Бога, пусть он рассудит нас.
Продолжая говорить, Харруш, хотя его руки стягивали веревки, сумел поднести ко рту шнур, на котором висел у него на груди маленький мешочек из грубой ткани, перегрыз этот шнур зубами, и мешочек упал к ногам Эстер.
Схватив его, она разорвала ткань и поднесла к губам его содержимое — несколько красноватых зерен.
Почти мгновенно по ее лицу разлилась смертельная бледность, под глазами появились широкие темно-синие круги, глаза затуманились; казалось, силы покинули ее, тело отклонилось назад, и она упала на землю.
Взгляд Эстер был направлен в сторону мужа.
— Эусеб, Эусеб, — она умоляюще протянула к нему руки. — Я нарушу свою клятву, я откину покрывало. Эусеб! Это я, твоя Эстер!
Это зрелище вывело Эусеба из оцепенения, колени у него подогнулись, дрожащими руками он потянулся к молодой женщине.
— Эусеб, — вновь заговорила Эстер. — Я умираю; откажешь ли ты мне в последнем утешении проститься с тем, кого я так любила?
Эусеб стоял неподвижно, но две слезы выкатились у него из глаз и поползли по щекам.
Эстер увидела эти слезы, и лицо ее озарила улыбка.
— Бог тебя простит, — сказала она, — как и я прощаю тебя!
Затем ее рот приоткрылся в последнем вздохе, глаза застыли; больше она не шевелилась.
Тогда Эусеб яростно оттолкнул тех, кто хотел увести его; он бросился к безжизненному телу Эстер, обливал его слезами и осыпал поцелуями, пытался согреть уже ледяные руки молодой женщины и исступленно предавался своему горю.
Внезапно, словно ревниво желая скрыть от всех взглядов свою скорбь, он поднял тело жены на руки, пробежал сквозь плотные ряды пиратов, и исчез в зарослях со своей ношей.
Разбойники пытались преградить ему путь, но Нунгал произнес, вытянув руку:
— Дайте ему уйти. Где бы он ни был, отныне он принадлежит мне.
XXXI ХИТРОСТЬ ПОБЕЖДАЕТ СИЛУ
С наступлением темноты, несмотря на суровые приказы, отданные Нунгалом, берег зазвенел от криков, засверкал тысячами огней. Но в его отсутствие ни один из главарей не пользовался достаточным влиянием, чтобы справиться со строптивостью разбойников, и в лагере царили суматоха и беспорядок.
Расставив на высотах нескольких часовых для наблюдения за равниной, так же как Нунгал устроил посты для наблюдения за морем, они сочли себя избавленными от необходимости соблюдать какие-либо предосторожности и предавались своим шумным развлечениям, искали опьянения в водке или опиуме.
Только пираты, составлявшие часть того отряда, каким Нунгал командовал обычно во время своих набегов, сохранили некоторую дисциплину.
Именно им была доверена охрана Харруша.
Тонкая веревка, крепко стянувшая запястья гебра, спускалась вдоль его тела и обвивала ступни, делая таким образом невозможным для пленника какое-либо движение.
Его уложили на небольшом возвышении, чтобы те, кому было поручено следить за ним, ни на минуту не теряли его из вида.
Вокруг песчаного холмика теснились многочисленные группы людей; веселье здесь было менее шумным, чем в остальной части лагеря; малайцы в этих группах были лучше одеты и лучше вооружены, чем их товарищи; одни из них молча жевали свой бетель, другие точили оружие, которым собирались воспользоваться на следующий день; десять-двенадцать разбойников сидели кружком около музыкантов, один из которых пел, а второй аккомпанировал ему на флейте; большинство же в несколько рядов, возвышаясь друг над другом, окружили рассказчика: они слушали одну из тех сказок, что так милы восточному воображению; но ни один из них не нарушил приказа Нунгала, считавшего своим долгом запретить своим людям употребление опиума и алкогольных напитков при серьезных обстоятельствах, в каких они находились сейчас.
Ближе всех к Харрушу располагалась как раз та группа, что слушала импровизатора.
Харруш оставался спокойным и твердым; казалось, он относился к повествованию с тем же вниманием, как если бы был на свободе, и не замечал, что на небольшом расстоянии от того места, где он находился, рабы собирают обломки дерева, тростник и стволы, из которых должны были сложить костер для него.
И все же его внешняя беззаботность и очарование сказок, которые он слышал, не мешали ему наблюдать за тем, что происходило вокруг.
Уже в течение нескольких минут он с беспокойством следил глазами за человеком, в темноте пробиравшимся сквозь плотные ряды пиратов.
Казалось, этот человек беспокойно разыскивает кого-то в толпе малайцев; он вошел в световой круг, отбрасываемый одним из костров, и Харруш узнал Аргаленку.
Подождав, пока старик приблизится к нему, лежавший на возвышении Харруш издал свист, подражая кобре.
Иллюзия была настолько полной, что многие малайцы, вздрогнув, оглянулись.
Харруш снова напустил на себя равнодушный вид, но Аргаленка услышал его; приблизившись, он в свою очередь узнал гебра и сел рядом с ним.
Рассказчик в это время начинал новую чудесную историю; этот момент был благоприятным для гебра: любопытство слушателей возобладало над осторожностью, и Аргаленку оставили сидеть рядом с ним.
— Приблизься ко мне, — обратился Харруш к старику, воспользовавшись малабарским диалектом. — И отвечай мне на языке, на каком говорят по берегам большой реки: эти собаки не поймут нас.
— Значит, настал твой последний час?
— Мой последний час! — презрительно ответил гебр. — Что ты называешь моим последним часом? Не тот ли, что отмечает мой переход в иную форму, которая будет, возможно, лучше, чем эта? Бог создал наши тела такими же бессмертными, как заключенные в них души; Ормузд не пожелал, чтобы самый сильный из людей мог уничтожить травинку; чего же бояться мне этих?
— Но этот костер?…
— Этот костер превратит Харруша в горстку пепла; но глаз Ормузда взирает на пепел так же, как на великолепие султана.
— Гебр, — взволнованно произнес Аргаленка. — Два раза ты помог мне; если я могу сделать что-то для тебя, скажи. Хотя у нас с тобой разная вера, я исполню все предписания религии Зенда, которую ты исповедуешь.
— Оставь эти пустые обычаи женщинам, детям и жрецам. Бог не нуждается в помощи людей, чтобы узнавать избранных. Ты можешь сделать для меня больше, старик; ты можешь помочь мне заснуть спокойным и веселым; ты можешь сделать так, что я покину этот мир с безразличием путника, выходящего из караван-сарая, где нашел временное пристанище.
— Чего ты хочешь? Скажи.
— Слушай, — продолжал Харруш; глаза его сверкали в темноте, и, как ни старался он сдержаться, голос его стал взволнованным и дрожащим. — Слушай! Главарь пиратов считает, что я у него в руках, но, если ты захочешь, он окажется в руках у меня; если же ты согласишься взять на себя мою месть, то не только от этих проклятых псов, воющих вокруг нас, завтра останутся косточки и их выбелит морской ветер, потому что белые люди, которых я предупредил, истребят их всех до одного, — но еще и сам Нунгал понесет наказание за свои злодейства.
— Харруш, — отвечал буддист. — Вот уже в третий раз ты искушаешь меня, и сегодня, как и на дороге в большом городе, как и во дворце Цермая, ты увидишь, что я верен законам Будды.
— Но ведь я сказал тебе, что тот, кого должно настичь возмездие, — бакасахам, один из тех нечистых духов, что соблазняют людей, поощряют их пороки и добиваются своего бессмертия, сея кругом себя отчаяние и стыд?
— Ты сказал мне это.
— Знал ли ты, что тот, кого сегодня называют Нунгалом, недавно был доктором Базилиусом? Знаешь ли, что это он похитил твою дочь? Знаешь, что он продал ее Цермаю?
Буддист встал; все его тело сотрясала судорожная дрожь.
— Что ты собираешься делать? — спросил Харруш.
— Гебр, — глухо произнес Аргаленка. — Оставив за собой правосудие, Будда сделал одно исключение для отцов; на лице того, кто дал жизнь, лежит отсвет лика Создателя; подобно ему, он должен судить и наказывать.
Харруш с жалостью смотрел на него.
Но когда старик поднес руки к лицу, Харруш заметил на рукавах его платья большие темные влажные пятна.
— Буддист, — сказал он. — У тебя кровь на саронге.
Услышав это, Аргаленка словно проснулся; его глаза расширились и обвели все кругом блуждающим взглядом; казалось, мертвец вышел из своей гробницы.
Внезапно взгляд его упал на кинжал, который он выронил, приближаясь к Харрушу; Аргаленка испустил страшный вопль, закрыл лицо руками и бросился бежать с криком:
— Я убил свое дитя! Я убил свое дитя!
Бегство и крики буддиста привлекли внимание малайцев; они с шумом вскочили и устремились к пленнику.
Но он уже успел, извиваясь по-змеиному, скользнуть к кинжалу, указанному ему взглядом Аргаленки, и улечься на оружие, которое могло дать ему не только свободу.
— Что ты сделал с этим стариком? — спросил один из малайцев у Харруша, сопроводив свой вопрос пинком, пока другие пираты внимательно осматривали его путы.
— Я попытался подражать вашему рассказчику; только у меня получилось лучше, чем у него, потому что моя история наполнила ужасом душу старика, а тот, кого слушаете вы, заставляет вас только зевать.
— Значит, и ты в свою очередь должен показать нам свое умение, — произнес рассказчик, несколько уязвленный в своем самолюбии импровизатора.
— Я только этого и хочу, но что взамен я получу от вас?
— Скажи, чего ты хочешь.
— Чтобы вы приблизили час моей смерти. Костер готов, и я тоже; едва история, которую я собираюсь рассказать вам, будет закончена, ведите меня на казнь, потому что ожидание страшнее пытки.
— Твоя просьба будет исполнена, — ответил один из пиратов. — Как только твоя сказка кончится, мы подожжем кучу дров, что станет твоим смертным ложем, и, как только ты произнесешь последнее слово, ты увидишь: то, что заставляет тебя трусливо дрожать, на самом деле пустяк.
— Хорошо, — согласился Харруш.
Малайцы столпились вокруг него.
Харруш повернулся на бок так, чтобы быть к ним лицом, но при этом иметь возможность прижать к острому лезвию кинжала веревки, связавшие ему руки.
Гебр начал говорить:
— Среди первых правителей Инда и Синда никто не мог сравняться властью с раджой Сураном.
Все раджи Востока и Запада платили ему дань, кроме китайского.
Это исключение очень не нравилось монарху и заставило его поднять десять бесчисленных армий и отправиться завоевывать эту страну.
Он всюду входил победителем, своей рукой убил многих султанов, взял в жены их дочерей и быстро приближался к желанной цели…
— Как называется твоя сказка? — спросил прежний рассказчик-импровизатор.
— "Хитрость побеждает силу", — ответил Харруш и продолжал прерванный рассказ. — Когда в Китае стало известно, что раджа Суран уже дошел до Тамсака, китайский раджа впал в глубокое уныние, созвал своих мандаринов и полководцев и сказал им: "Раджа Суран грозит разорить мою империю; какой совет дадите вы мне, чтобы я мог противиться его продвижению?"
И тогда выступил вперед один мудрый мандарин.
"Повелитель мира, — сказал он. — Твоему рабу известен способ это сделать".
"Так воспользуйся им", — отвечал раджа Китая.
И мандарин приказал снарядить корабль, нагрузить его множеством тонких, но совершенно ржавых иголок и посадить на нем деревья каама и бирада.
Он взял на борт одних стариков, и поплыл к Тамсаку, и вскоре пристал к берегу…
— На этом твоя сказка кончается? — насмешливо спросил импровизатор, видя, что гебр прервал свой рассказ.
— Нет, — отвечал тот, — но веревки, связывающие мне ноги, врезаются в тело и причиняют жестокие страдания; вскоре вам придется развязать меня, чтобы вести на костер; не могли бы вы принести сейчас небольшое облегчение моим наболевшим конечностям?
Один из малайцев отделился от группы и оказал гебру услугу, о которой тот просил.
Харруш продолжал:
— Когда раджа Суран услышал, что прибыл корабль из Китая, он отправил гонцов, желая узнать, на каком расстоянии находится эта страна.
Гонцы расспросили китайцев, и те ответили: "Когда мы вышли в море, мы были молодыми людьми. Тоскуя по зелени наших лесов, посреди моря мы посадили семена. Сегодня мы стары и немощны и семена превратились в деревья, которые принесли плоды задолго до нашего прибытия в эти края".
Затем они показали несколько ржавых иголок и сказали:
"Смотрите, это были железные бруски толщиной в руку, когда мы покинули Китай; теперь ржавчина источила их почти полностью. Не знаем, сколько лет протекло с тех пор, как мы отправились в путь, но вы можете сосчитать это по тем событиям, о коих мы вам только что рассказали"…
Харруш снова замолчал.
— И как же поступил раджа Суран? — вскричало десять голосов в нетерпении.
— Увы! — сказал Харруш. — Приближается миг, когда моя сказка, как и моя жизнь, подойдет к концу; пора вам исполнить обещание.
Несколько слушателей, не вставая с места, подали рабам знак зажечь костер.
С того места, где находился Харруш, он мог слышать потрескивание веток и тростника, положенных вокруг кучи дров, чтобы усилить горение…
Он продолжал, и голос его не обнаружил ни малейшего волнения:
— Гонцы передали то, что услышали, радже Сурану.
"Если правда то, что говорят китайцы, — произнес завоеватель, — должно быть, их страна находится неизмеримо далеко. Когда же мы достигнем ее? Благоразумнее отказаться от этого похода…"
На этом месте Харруша прервал глухой шум, словно отдаленный гром, катившийся с океана.
Малайцы, все одновременно, вскочили; тревога, вызванная услышанным ими шумом, победила их страсть к историям, подобным той, что рассказывал Харруш; все взгляды повернулись в сторону моря.
Пламя костра несколько минут извивалось, затем высвободилось из дыма и теперь поднималось в высоту на двадцать футов, бросая на воду кровавые отблески.
Еще один звук, похожий на первый и тоже пришедший со стороны горизонта, раздался посреди тишины.
Все затаили дыхание, и тогда стал слышен голос одного из помощников Нунгала, кричавшего:
— Голландцы захватили наши корабли! Почему зажгли этот костер, несмотря на наши приказы? Он указывает белым наше расположение. Погасите огни!
Тем временем Харруш, воспользовавшись тем, что внимание пиратов отвлечено, придавил кинжал грудью и перерезал веревки, связывавшие ему запястья; освободив руки, он с легкостью избавился от пут на ногах.
— К оружию! — призывал голос. — К оружию! Добейте гебра ударом криса.
Малайцы, обернувшись, чтобы исполнить приказ главаря, застали пленника, к крайнему своему изумлению, стоящим с кинжалом в руке.
— Хитрость еще раз побеждает силу, — грозно произнес гебр. — Ваша собственная рука, разбойники, навлекла на вас гибель!
С этими словами Харруш приготовился броситься на первого же, кто захочет напасть на него; но пираты, в страшном смятении, испугавшись приближавшегося шума, в беспорядке побежали к лодкам.
Огнепоклонник направился к хижине Аргаленки; собираясь ступить на бамбуковую лестницу, он споткнулся о распростертое на земле тело; наклонившись, Харруш узнал отца Арроа; он потрогал его: старик не шевелился и казался бездыханным.
Харруш в бешенстве выкрикнул проклятие, но послышавшееся в ту минуту ржание усмирило его гнев; он пошел по направлению к банановой плантации и обнаружил там коня, доставившего Арроа от дворца Цермая к заливу Занд; отвязав его, гебр вскочил ему на спину, погнал к реке, заставил переплыть ее, а затем войти в лес, где утром скрылась пантера.
Харруш издал знакомый Махе призывный крик.
К большому его удивлению, никто не отозвался.
Он повторил сигнал; Маха не показывалась.
Подумав, что доносившийся с залива шум — ужасный шум: боевые крики малайцев, треск выстрелов, рокот пушки — покрывает его голос, он пустил коня вперед, перебрался через холм и вновь стал звать Маху.
Как и первые призывы, они остались безответными.
Харруш взорвался гневом; этот человек, так владевший собой перед лицом смерти, сейчас впал в неистовое возбуждение: он рвал на себе волосы, раздирал одежду, ревел в отчаянии.
Наконец он увидел черную пантеру: проскользнув меж двух кустов, она на животе подползала к нему.
Он позвал ее, и конь со страха встал на дыбы.
Бросив поводья, Харруш предоставил коню мчаться во весь опор, уверенный в том, что пантера, вновь обретя хозяина, непременно последует на ним; но, обернувшись через несколько минут, он не увидел ее.
Пришлось возвращаться назад; Маха была на том месте, где он ее оставил.
Взбешенный непривычной строптивостью Махи, Харруш бросил в нее крис, что был у него за поясом; он не задел ее, но перед этим свидетельством гнева хозяина пантера перевернулась на спину и жалобно заскулила, обращаясь к кому-то в чаще леса.
У Харруша каждая минута была на счету; любой ценой он хотел довести дело до конца; спрыгнув с коня, он поднял кинжал и, сдерживая верховое животное, судорожно дрожавшее в подколенках от запаха пантеры, сумел схватить ее за загривок и втащить в седло; потом, вскочив позади Махи и придерживая ее, он позволил лошади, обезумевшей от страшного соседства, нестись бешеным галопом: таким образом она надеялась избавиться от грозной ноши.
Глухой и жалобный рев Махи разнесся далеко, и ему ответил другой, похожий, но более мощный и звучный крик, раздавшийся в глубине леса.
Харруш, державший пантеру, почувствовал, как она задрожала под его рукой.
Через несколько минут гебру почудилось, что на кустах вдоль тропинки, по которой несся он в своей безумной скачке, шевелятся листья; скосив глаза в ту сторону, он увидел огромного зверя с пестрой шкурой, бежавшего рядом с конем, и разглядел в этом животном более крупную пантеру.
При всей своей неустрашимости гебр содрогнулся; схватив крис, он стал колоть им коня, заставляя его бежать быстрее.
Но и большая пантера ускорила свой бег. Ее глаза сверкали в темноте, словно два карбункула, но ее взгляд не был устремлен ни на коня Харруша, ни на самого гебра — словом, не на добычу; свирепое животное смотрело на черную пантеру и жадно втягивало запах, который та оставляла за собой.
Маха тоже, казалось, внимательно следила за всеми движениями обретенного ими попутчика; если бы не страх перед хозяином и не мощное объятие, прижавшее ее к шее лошади, она соскочила бы на тропинку; но она довольствовалась тем, что тихонько скулила и время от времени прерывала свои жалобы глухим рычанием, притягивавшим к ней животное ее породы.
Каждый раз, как из трепещущей груди Махи вырывалось это рычание, на него эхом откликался другой голос, то вдали, то совсем рядом.
Вскоре Харруш заметил впереди себя в темноте два новых ожидавших его светящихся огонька; конь вихрем промчался мимо этих горящих углей, но, обернувшись, гебр увидел, что огоньки несутся следом за ними.
Их преследовала вторая пантера.
Тогда Маха удвоила свои жалобы, или, вернее, страстные призывы, и хищники, казалось, выскакивали из-под земли у ног коня — из каждой ложбины, из-под каждого куста, из-за каждого камня выскальзывал, вылетал, выскакивал зверь одной с Махой породы и, заняв свое место в грозной свите, присоединял свое рычание к реву прибывших первыми.
Страх и волнение Харруша совершенно улеглись.
Его лицо осветилось адской радостью: расширившаяся грудь, казалось, с трудом вмещала сердце; его взгляд с невыразимой гордостью окидывал следовавшее за ним чудовищное войско; он пытался пересчитать его и присоединял свои крики к любовным воплям Махи; каждый раз как новая пантера увеличивала ряды войска, ночной ветер разносил раскаты жестокого смеха гебра.
— Спасибо, Маха, — говорил он, проводя рукой по выгнувшейся спине черной пантеры. — Спасибо тебе за то, что ты пригласила своих лесных братьев на праздник, который я устроил для тебя. Ура! Ура! Дети ночи, ускоряйте бег, мчитесь со всех ног! Там, на горизонте, сияет тысячами огней лес Джидавала, и там ожидает вас достойный пир. Ура! Скачите вокруг меня, и точите тем временем зубы одни о другие, ваши острые зубы! Никогда мой слух не услаждала музыка, прекраснее этой!
И они неслись, неслись быстрее урагана; они неслись, оставляя позади черный свод леса; они неслись мимо полей, долин и рек; они неслись, одолевая горы; они неслись, и огненное их дыхание оставляло позади светящийся след.
Они приближались к лесу Джидавала.
Именно там Нунгал собрал раджей, участвовавших в заговоре.
Он нашел их подавленными, утратившими все свои надежды из-за мер, уже принятых голландским правительством.
В их памяти всплыли воспоминания о китайских и туземных восстаниях 1737 и 1825 года, захлебнувшихся в крови виновных; они уже видели, как у них отнимают имущество и назначают цену за их головы.
Нунгал пытался поднять их дух; он объявил им, что платящие дань султаны Джокьякарты, Сурабаи и Мадуры решились сбросить европейское иго и уже привели в движение свои войска; он указал на то, что, если в окрестностях столицы их сторонники немногочисленны, зато провинции Бантам, Черибон, Самаранг и Преанджер готовы подняться как один человек; что эта масса людей, даже безоружных, способна раздавить кучку властителей острова.
Он красочно изображал гнусную алчность, наглую тиранию и грабительство завоевателей; перед глазами яванцев засверкала слава победы и предстали материальные выгоды, какие принесет им независимость.
Самые нерешительные, ссылаясь на то, что правительство знает о заговоре, хотели отсрочить его исполнение.
Нунгал резко отбросил эти советы, продиктованные слабостью и страхом, и заявил, что лишь смелость может их спасти, что все замешаны в равной мере и все станут жертвами мести со стороны колонистов, что нельзя безнаказанно угрожать тиранам, что раскрытие их планов не оставляет им другой возможности, кроме выбора между победой и смертью.
Ему удалось вернуть заговорщикам утраченный ими боевой дух.
Они должны были расстаться: Нунгал собирался встретиться со своими малайцами, чтобы вести их на Бейтен-зорг, который решено было захватить в первую очередь, а раджам предстояло вооружить своих подданных и бросить их против европейцев. В это время в толпе пробежал шум, напоминавший глухой рокот волн перед грозой.
В воздухе повис страх. Издалека слышались странные звуки и, не отдавая себе отчета в том, кто мог производить их, заговорщики испытывали безотчетный леденящий ужас; они дрожали, вытирая залитые потом лбы, и в тревоге прислушивались.
Зловещий шум прекратился, и теперь стал стал слышен только стук копыт коня, быстро скакавшего по камням горы.
Внезапно в десяти шагах от поляны, на которой собрались заговорщики, послышался чудовищный хор нестройных криков и свирепых завываний.
И в ту же минуту на поляне появился Харруш.
Вначале раджи увидели только белую от пены лошадь с кровавыми ноздрями, с взъерошенной гривой и черного всадника, который размахивал в воздухе сверкающим Крисом и был похож на привидение.
Пантеры, удивленные тем, что перед ними такое множество людей, остались позади.
Но в миг, когда гебр, с первого взгляда увидевший в этой толпе Нунгала, хлестнул коня, чтобы направиться к нему, Маха испустила один из тех жалобных стонов, которые имели, казалось, неотразимое воздействие на ее свирепых лесных товарищей.
Услышав этот стон, они, опьяненные любовью к прекрасной черной пантере, забыли страх, обычно испытываемый ими при виде человека, и утратили чувство опасности; преодолев отделявшее их от Махи расстояние, грозные звери сначала высунули из всех кустов свои ужасные морды, и в разных углах поляны засверкали их огненные глаза, а затем показались сами; они прижимались к земле, но готовы были устремиться вперед.
Обезумевшие от испуга раджи бросились бежать через лес, во все стороны.
Нунгал остался один.
Харруш остановил коня прямо перед малайцем, так резко потянув повод, что разбитые ноги несчастного животного, измученного быстрым бегом, отказались держать его, и он упал на бок к ногам Нунгала, который, мгновенно поняв по виду Харруша, какая опасность ему угрожает, обернул руку саронгом, сделав из него щит, и вооружился длинным крисом, что был у него на боку.
— Нунгал, Нунгал! — взревел гебр, устремив на врага свой пылающий взгляд. — Ты приговорил меня к казни огнем; Ормузд приговорил тебя к казни, которую создал для бакасахамов; вспомни о рангуне из Меестер Корнелиса, Нунгал! Перед тобой твоя живая могила.
И гебр мускулистой рукой схватил черную пантеру и, с нечеловеческой силой приподняв ее над головой, бросил на малайца.
Маха зарычала, словно поняв, чего ждет от нее хозяин, и свирепая орда, присоединив свой рев к вою черной пантеры, сплотила свои ряды, окружив группу тройным кольцом и угрожающе оскалив зубы.
Но Маха не бросилась немедленно на Нунгала, как хотелось охваченному нетерпением Харрушу.
Холодная решимость главаря морских бродяг внушала ей некоторую робость; распластавшись среди сломанных папоротников, устилавших землю, подобрав дрожащие лапы, устремив глаза на добычу, она ждала движения Нунгала, чтобы напасть.
Харруш, казалось, не вынес сдавившей ему грудь тревоги.
— Маха, Маха! — закричал он. — Неужели ты покинешь хозяина, который возложил на тебя все свои надежды? Ну же, Маха, вперед, на вампира! Вонзи в его бока свои острые когти, раздроби его кости твоими мощными челюстями! Маха, любимая, отомсти за белую женщину, которую я любил!
Возбужденная голосом хозяина, Маха больше не колебалась и прыгнула.
Но Нунгал увидел ее движение, и в ту минуту, когда она должна была обрушиться ему на голову, он отскочил назад, подставив лапам пантеры свой плащ, а другой рукой вонзил кинжал в ее бок.
Оружие ушло по рукоятку, мускулы зверя ослабли, и бросок потерял силу; умирающая пантера рухнула к ногам Харруша.
Нунгал издал торжествующий крик и замахнулся кинжалом, угрожая гебру.
Однако в это же мгновение самая крупная из следовавших за Харрушем пантер, та, что первой была привлечена запахами тела Махи, придя в бешенство из-за удара, нанесенного черной пантере, в свою очередь бросилась на Нунгала, ударом чудовищной лапы опрокинула его и раздробила ему череп своими страшными челюстями.
И тогда, словно это был сигнал делить добычу, все свирепые хищники накинулись на бакасахама, и больше ничего не было слышно, кроме непередаваемого звука разрываемой плоти и хруста костей.
В это время на горизонте начал заниматься рассвет.
XXXII БОГ ПРОЩАЕТ
Тем временем Эусеб долго шел, неся на руках Эстер; он хотел, чтобы его подруга и он сам упокоились в вечности как можно дальше от людей.
Он взбирался на поросшие лесом склоны гор, окружавших основание Занда, преодолел все препятствия и вскоре оказался на площадке, возвышавшейся над опоясывающим ее лесом.
Собрав несколько веток тамаринда и лежавшие неподалеку листья, он расстелил их на скале и уложил Эстер на это зеленое ложе так бережно и заботливо, словно молодая женщина была жива.
Затем он отделил от стеблей несколько чашечек камбасы, цветка мертвых, и положил их на тело Эстер.
Ему трудно было поверить, что все случившееся не было сном; он старался изгнать из памяти бедайя, Кору и индианку, олицетворявших его угрызения совести; но вид окоченевшего безжизненного тела и мертвенно-бледного лица неизменно возвращал Эусеба к действительности и напоминал о вине его еще более сурово, чем это могла сделать совесть.
Он встал на колени перед Эстер, умоляюще протянул к ней руки и, возвысив голос, словно она могла услышать его, сказал:
— Эстер, моя слабость и моя самонадеянность погубили нас; я забыл, что Бог сотворил наши сердца, как и наши тела, из праха и лишь образ Создателя, запечатлевшийся в сердцах у нас, может уберечь их от соблазна. Ты меня простила, но он, мой судья, простил ли и он меня?
Помолчав, он продолжил:
— Нет, та любовь, какую показывают нам наши грезы, не принадлежит этому миру; мы предчувствуем ее, но не познаем; здесь, на земле, существуют предательства, неблагодарность, непостоянство! И только когда наша душа освободится от своей жалкой оболочки, когда осуществятся стремления, несколькими вспышками осветившие наши потемки, и на нас хлынет поток подлинной нежности, тогда, наконец, я смогу любить тебя так, как ты заслуживаешь быть любимой, моя Эстер. О, я клянусь тебе! Умирать с этой мыслью будет для меня легко.
Отдавшись своему отчаянию, он рыдал словно дитя, и бился головой о камни, жалобно призывая Эстер.
Ни шум из долины, достигший этих вершин, ни подхваченный эхом рокот пушки, ни треск выстрелов, ни крики малайцев, которых голландцы обратили в бегство и преследовали во всех направлениях, ни зловещие отблески пламени, охватившего подожженный флот, — ничто не могло отвлечь Эусеба от его горя.
Мир для него ограничивался пятью футами каменной площадки, на которой лежало тело его жены.
Тем временем ночь прошла.
Утренняя звезда ярко засияла на прозрачном своде; сноп розовых лучей, поднявшись от огненной черты, показавшейся на горизонте, оживил небесную лазурь.
Это была заря — последний срок, назначенный Нунгалом.
Эусеб почувствовал, как по его телу пробежала дрожь и волосы на голове зашевелились.
Несколько минут назад он призывал смерть, но теперь, когда призрак Нунгала встал перед ним, голова у него закружилась; в миг, когда у его ног приоткрылась беспредельность неведомого, он отступил в страхе и нерешительности.
Его взгляд был прикован к востоку, где небо понемногу освобождалось от дымки, где светящиеся дуги ширились с каждым мгновением.
Ему казалось, что солнце, которое должно было своим появлением возвестить его смерть, поднималось с головокружительной быстротой, и все же каждая минута длилась для него целый век.
Он закрыл лицо руками и заплакал.
Эти слезы остудили его сердце и дали недостававшую ему покорность.
Он подумал о том, что произойдет, если он нарушит договор с Базилиусом; он видел руку Нунгала, протянувшуюся к нему, разлучающую его останки с останками Эстер, и больше не колебался перед уплатой страшного долга — самоубийства.
Взяв свой нож, он обнажил грудь и приставил острие к телу; он лег рядом с Эстер, повернувшись к молодой женщине лицом, чтобы испустить последний вздох, глядя на ту, кого так любил.
Он вознесся сердцем к Богу, молил его о милосердии к нему, вынужденно совершившему преступление, просил оставить его тело одному из духов ада, чтобы это послужило искуплением для его души, и ждал, продолжая молиться, когда первый луч светила упадет на гору: тогда можно будет вонзить лезвие в грудь.
Вскоре все небо обагрилось, и лицо Эстер, обращенное к восходящему солнцу, казалось, окрасилось отсветом жизни.
Эусеб забыл обо всем — о своей клятве, о Нунгале, о смерти.
Все его мысли, каждая частица его души сосредоточились на Эстер.
Ему почудилось, будто рука Эстер легонько пошевелилась, но он сдержал готовый вырваться крик, словно боялся вспугнуть чудо, совершающееся на его глазах.
Тем временем на щеках молодой женщины выступила легкая краска, губы ее порозовели, и длинные темные ресницы затрепетали на перламутре щек.
Эусеб, бледный и задыхающийся, поднялся и вновь упал на колени.
— Эстер! Эстер! — закричал он.
При звуке его голоса глаза Эстер медленно открылись, и она с непередаваемым выражением нежности взглянула на мужа.
— Жива! Жива! — почти обезумев, воскликнул Эусеб.
Вместо ответа Эстер раскрыла мужу объятия.
— Но яд? Яд? — кричал Эусеб.
— Яд? — отвечала Эстер. — Похоже, огнепоклонник дал мне всего лишь снотворное. Мы должны доказать ему свою благодарность; как хорошо жить, если над миром сияет солнце, а сердце любимого возвращено тебе.
Резко обернувшись, Эусеб взглянул на горизонт.
Светило уже поднялось над горами, его лучи достигли самых темных углублений в долинах.
Тогда он бросился в объятия Эстер.
Они спасены!
Их выкупила смерть Нунгала.
ЭПИЛОГ
Два месяца спустя Эусеб ван ден Беек и его жена поднялись на борт судна: они возвращались в Европу.
Они могли бы сохранить часть наследства доктора Базилиуса (потребовать которую не явились ни Арроа, ни Нунгал), как уговаривал их поступить нотариус Маес, но они отвергли советы этого превосходного человека, раздали все, что у них оставалось, больницам Батавии и покинули остров такими же бедными, какими были, прибыв туда.
Но зато их возвращение в Голландию не было отмечено никакими происшествиями, и судно, на котором они плыли, доставило их живыми и здоровыми к причалу Роттердама, того города, где они и теперь живут.
Перед тем как покинуть Яву, Эусеб разыскивал Харруша, желая оставить ему что-нибудь в доказательство своей признательности; но все усилия обнаружить его оказались бесплодными, хотя некоторые охотники уверяли, будто видели в лесах центральной части острова смуглого человека, избравшего, казалось, своими спутниками самых свирепых хозяев джунглей и остававшегося среди них таким же гордым и невозмутимым, каким был, живя среди людей.
КОММЕНТАРИИ
Предводитель волков
Роман "Предводитель волков" ("Le Meneur de loups") основан на народных легендах, которые А.Дюма ребенком слышал в окрестностях своего родного города Виллер-Котре. Роман печатался в газете "Le Siecle" ("Век") со 2 по 30 октября 1857 г. Первое отдельное издание во Франции: Paris, Cadot, 1857.
Время действия романа: осень 1780 — весна 1781 гг.
Настоящий перевод сделан по изданию: Paris, Calmann-Levy, 1860 и сверен с оригиналом Г.Адлером.
7… в течение первых двадцати лет моей литературной жизни, то есть с 1827по 1847год… — Первые литературные опыты Дюма — стихи и драмы — относятся к 1820–1821 гг., первая публикация его поэзии состоялась в январе 1823 г.; драматургическую деятельность он начал в 1825 г. одноактным водевилем "Охота и любовь", поставленным в театре Амбигю-Комик 22 сентября того же года; в 1827 г. было опубликовано несколько его поэтических произведений.
… городок, где родился… — Дюма родился 24 июля 1802 г. в городе Виллер-Котре, расположенном неподалеку от Парижа в северо-восточном направлении.
Колумб, Христофор (1451–1506) — испанский мореплаватель, по происхождению итальянец, руководитель нескольких экспедиций, пытавшихся найти морской путь в Индию с Запада; во время своих плаваний открыл ряд островов Карибского моря и часть побережья Южной и Центральной Америки.
8… оглянувшись на прошлое, я рассказал историю Бернара и его дяди Бертелена… — Бернар и Бертелен — герои повести Дюма "Бернар", основанной на его детских впечатлениях; опубликована в 1844 г.
… другие истории: Анжа Питу, его невесты Катрин и тетушки Анжелики, Консьянса Простодушного и его невесты Мариэтты и, наконец, Катрин Блюм и папаши Ватрена. — Имеются в виду следующие романы Дюма: "Анж Питу" (1851 г.) и "Графиня де Шарни" (1852–1855 гг.) из серии "Записки врача"; "Консьянс Простодушный" (1852 г.) и "Катрин Блюм" (1854 г.).
Все эти произведения объединены тематикой Великой Французской революции и последовавших за ней наполеоновских войн; их герои, как и сам Дюма, происходят из окрестностей Виллер-Котре… мои "Мемуары"… — Имеются в виду "Mes memoires" — воспоминания Дюма, вышедшие в свет в 1852–1854 гг. и охватившие период 1802–1833 гг.
… помните ли друга моего отца… — Отец Дюма Тома Александр Дюма Дави де ла Пайетри (1762–1806) — мулат с острова Сан-Доминго (современного Гаити), сын французского дворянина-плантатора и рабыни-негритянки; с 1789 г. — солдат королевской армии, с 1792 г. — офицер армии Французской республики, с 1793 г. — генерал; горячий республиканец; прославился своим гуманным отношением к солдатам и мирному населению, легендарными подвигами и физической силой.
… моя мать… — Мари Луиза Элизабет Лабурэ (1769–1838), дочь трактирщика из Виллер-Котре.
… жили в небольшом замке Фоссе… — Замок Фоссе (или Ле Фоссе) находился в 4 км от Виллер-Котре, в деревне Арамон, описанной
Дюма в романах "Джузеппе Бальзамо" и "Анж Питу"; семья Дюма жила там с 1804 г. по 20 июня 1805 г..
… на границе департаментов Эна и Уаза… — Департамент — единица административно-территориального деления Франции, введенная во время Революции вместо прежних провинций; обычно департаменты получали название от важных ландшафтных объектов на своей территории — гор, рек и т. д. Департамент Эна расположен в Северной Франции у границы с Бельгией, департамент Уаза расположен к западу от департамента Эна.
… получил свое название от окружавших его огромных рвов… — По-французски Фоссе (les fosses) — "рвы".
… О сестре я не говорю… — Сестра Дюма, Мари Александрина Эме Дюма де ла Пайетри (1793–1881), получила прекрасное образование в пансионе г-жи Моклерк в Париже.
9 Жокрисс — традиционный персонаж французских народных фарсов, простак, которого дурачат его друзья.
… коллекцию забавных историй, которую мог с успехом противопоставить глупостям Брюне. — Под именем Брюне на французской сцене выступал известный актер-комик Жан Жозеф Мира (1766–1851).
10 Линия — единица измерения малых длин до введения метрической системы; в разных странах имела различное значение; во Франции равнялась 2,2558 мм.
… мой генерал… — Местоимение "мой" употребляется во французском военном обиходе при обращении к старшему по званию.
11 Шабаш — в средневековых поверьях ночное сборище ведьм.
14 Сабо — башмаки, вырезанные из целого куска дерева; во Франции еще в XIX в. обувь крестьян и городских бедняков.
15 Льё — единица длины во Франции; сухопутное льё равно 4,444 км, морское — 5,556 км.
…За это время мы переберемся в Антийи… — Дюма жили в деревенском доме в селении Антийи (кантон Бе, департамент Уаза) с 20 июня до середины сентября 1805 г.
16… мы жили в Виллер-Котре… — Дюма жил там с 1814 по 1822 гг. Боргезе, Мари Полетт (Полина), герцогиня де Гуасталла, княгиня (1780–1825) — младшая сестра Наполеона I; была дружна с генералом Дюма.
Фут — старинная мера длины, в разных странах имела различное значение; распространенный во Франции старый парижский фут имел около 32 см.
18 Офир — упоминаемая в Библии легендарная страна; славилась золотом и драгоценными камнями.
19 Кюре — приходский католический священник.
20 Ар пан — старинная французская поземельная мера; варьировалась от 0,2 до 0,5 га.
27 Потерна — подземная галерея (коридор) для сообщения между сооружениями крепости.
Орлеанский, Луи Филипп, герцог (1725–1785) — принц французского королевского дома, представитель младшей линии династии Бурбонов; один из самых просвещенных людей своего времени.
… четвертого по счету из носивших это имя… — Начиная с середины XIV в. титул герцога Орлеанского обычно предоставлялся младшим сыновьям королевской семьи. Здесь речь идет о так называемом четвертом Орлеанском доме. Основателем его был младший брат Людовика XIV герцог Филипп I Орлеанский (1640–1701) (персонаж романа Дюма "Виконт де Бражелон"). Ему наследовали его сын Филипп II (1674–1723), регент Франции во время малолетства Людовика XV (герой романов Дюма "Шевалье д’Арманталь" и "Дочь регента"), и внук герцог Луи (1703–1752), отец упомянутого выше герцога Луи Филиппа.
28… в 1773 году женился вторым браком на г-же де Монтессон… — Имеется в виду Шарлотта Жанна де Лаэ де Риу, маркиза де Монтессон (1737–1806), французская писательница, вторая жена герцога Луи Филиппа Орлеанского, с которым она была обвенчана тайно. Доезжачий — старший псарь, заведующий сворой охотничьих собак и обучающий их.
Метр (мэтр) — учитель, наставник; почетное обращение к деятелям искусства, адвокатам и вообще выдающимся лицам; здесь употреблено в ироническом смысле.
29 Нимрод — персонаж Библии, царь Вавилона и других земель, "сильный зверолов перед Господом".
Экю — старинная французская монета; до 1601 г. чеканилась из золота, с 1641 г. — из серебра и стоила 3 ливра; с начала XVIII в. в обращении также находились экю, стоившие 6 ливров.
… Дайте мне… Матадора и Юпитера… — Первая собака сеньора де Веза названа в честь главного действующего лица корриды (боя быков), который наносит животному смертельный удар шпагой. Вторая — по имени верховного бога в античной мифологии, повелителя грома и молний, древнегреческого Зевса.
30 Инки (правильнее: инка) — первоначально — название индейского племени, жившего в XI–XIII вв. на территории современного Перу в Южной Америке; позднее — господствующий слой образованного ими государства, которое в XVI в. было завоевано испанскими колонизаторами.
Мармонтель, Жан Франсуа (1723–1799) — французский писатель, романист и драматург, с 1771 г. — королевский историограф. В романе "Инки" (1777 г.) Мармонтель подверг критике религиозный фанатизм и жестокости испанских завоевателей в Перу. Абенсераджи (Абенсераги) — известный феодальный род в мусульманском государстве Гренада в Испании в VIII–XV вв.; благородство, подвиги и трагическая гибель его членов, истребленных во дворце Альгамбра одним из последних властителей Гренады, многократно воспеты в исторических хрониках и средневековой литературе.
Здесь, по-видимому, идет речь о романтической повести "История последнего из Абенсераджей" (1810 г.; издана в 1826 г.), рассказывающей о любви мавританского рыцаря и девушки-испанки, которых разделяет религия и вражда предков. Однако эта повесть принадлежит перу не Флориана, как сказано у Дюма, а французского писателя и политического деятеля Франсуа Рене де Шатобриана (1768–1848). Флориан, Жан Пьер Клари де (1755–1794) — французский писатель, поэт и переводчик.
31 Аббат Фортье — дальний родственник Дюма, священник в селении близ города Компьень; послужил прототипом аббата Фортье — персонажа романов "Анж Питу" и "Графиня де Шарни".
Капитан фрегата — офицерское звание во французском флоте, соответствующее чину капитана второго ранга.
32 Пистоль — старинная испанская монета XVI–XVIII вв.; обращалась также в ряде европейских стран. Во Франции с 1640 г. по ее образцу чеканилась монета в 10 ливров.
Ливр — старинная французская серебряная монета; основная счетная денежная единица, в конце XVIII в. замененная франком. Жига — старинный английский народный танец, парный или одиночный; к XVII–XVIII вв. стал также салонным.
34 Вьен — город в департаменте Изер в Дофине.
Дофине — историческая провинция на юго-востоке Франции.
… есть ли у него мозоли… — В оригинале непереводимая игра слов, основанная на созвучии сочетаний: dix-cor — "олень-семилеток" и dix cors — "десять мозолей".
36… был одержим лихорадкой святого Губерта. — То есть увлечен пре следованием дичи. Святой Губерт, епископ Льежский (ум. в 727 г.), считался покровителем охотников.
41… со стоицизмом спартанца… — т. е. со стойкостью спартанцев, граждан города-государства Спарта в Древней Греции, отличавшихся храбростью и суровостью.
42 Вельзевул — имя главы демонов в Новом Завете.
45… с таким именем тебя волк непременно утащит. — В оригинале каламбур: Аньелетта (Agnelette) по-французски означает "ягненок".
47… если вы станете исполнять Божью заповедь и не будете желать чужого добра! — Имеется в виду одна из библейских заповедей, изреченных Богом древнееврейскому пророку Моисею: "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего" (Исход, 20:17).
48 Амур (Эрот, Купидон) — одно из божеств любви в античной мифологии; часто изображался в виде шаловливого мальчика; в некоторых мифах — сын богини любви и красоты Афродиты (древнеримской Венеры).
Обол — здесь: старинная мелкая французская монета, стоившая половину денье, одной двенадцатой части су. В переносном смысле что-либо очень малое, мелочь.
50 Донжон — главная башня средневекового замка-крепости; служила местом последней защиты и убежища при нападении неприятеля.
53 "Ave Maria" (в православной традиции — "Богородице, Дево, радуйся") — христианская молитва, обращенная к Богоматери. Манна небесная — крупитчатое сладковатое вещество, которое Бог посылал в пищу древним евреям во время их странствий по пустыне после исхода из Египта; в переносном смысле — нечто очень редкое и ценное.
… монастырь Сен-Реми… — назван в честь святого Реми (ок. 487 — ок. 533), христианского просветителя Франции, архиепископа Реймсского, убедившего короля франков Хлодвига I принять христианство (в 496 г.).
Аббатиса (аббат) — почетный титул настоятельницы (настоятеля) католического монастыря.
54 Мессир (от фр. шоп sire — "мой господин") — в средние века, с XII в., форма почтительного обращения к лицам дворянского и рыцарского звания; позднее — обращение к священникам, адвокатам и врачам.
56 Сфинкс — здесь: дух-охранитель и воплощение царской власти в Древнем Египте; изображался в виде статуи фантастического существа с телом льва, лежащего с вытянутыми вперед лапами, и с головой человека (обычно портретом фараона) или какого-либо священного животного.
60… сделали губернатором провинции Пуату. — Пуату — историческая провинция в западной части Франции. Здесь у Дюма, по-видимому, неточность. Губернатором Пуату был граф, затем герцог Франсуа V де Ларошфуко (1588–1650), отец знаменитого французского писателя-моралиста и политического деятеля Франсуа VI де Ларошфуко (1613–1680), до смерти отца носившего имя принца де Марсильяка, героя романов Дюма "Двадцать лет спустя" и "Женская война"… не прошу в уплату фунт твоего мяса, как потребовал у своего должника один мой знакомый еврей. — Имеется в виду эпизод из романтической комедии "Венецианский купец" английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира (1564–1616): ростовщик Шейлок требует от несостоятельного должника уплаты залога в виде фунта мяса из его тела (I, 3).
62 Су — мелкая французская монета, одна двадцатая часть ливра.
63 Кларнет (от лат. clarus — "ясный [звук]") — духовой инструмент, имеющий форму трубки с цилиндрическим каналом.
Полишинель (фр. polichinelle от ит. pulcinella) — один из персонажей итальянской комедии масок, перешедший в XVI в. во французский народный театр, а оттуда в XVII в. в литературную комедию, веселый задира и насмешник. Здесь, возможно, имеется в виду Полишинель — персонаж интермедии первого действия комедии-балета "Мнимый больной" французского драматурга и театрального деятеля Мольера (настоящее имя — Жан Бастист Поклен; 1622–1673). В этой сцене изображен гнев Полишинеля, которому мешают петь любовную серенаду.
Луидор (луи, "золотой Людовика") — французская монета XVII–XVIII вв.; в XVHI в. равнялась 24 ливрам.
64 Изенгрин (или Изергим) — имя волка в "Романе о Лисе", памятнике французской городской литературы XIII в., оказавшем заметное влияние на фольклор и литературу других стран. Тридцать отдельных частей романа объединены сатирическим изображением борьбы хитрого горожанина Лиса-Ренара с глупым дворянином Волком-Изенгрином.
66 Макон — сорт красных бургундских вин среднего класса.
72… Был ли он отмечен той печатью, которой Господь заклеймил пер вого убийцу? — Имеется в виду Каин, персонаж Библии, сын первого человека Адама; угрюмый и злобный, он убил из зависти своего брата Авеля, за что был проклят Богом, который обрек его быть "изгнанником и скитальцем на земле" (Бытие, 4:12).
… как в самом лучшем зеркале Сен-Гобена. — Имеется в виду зеркальная мануфактура в городе Сен-Гобен в Северной Франции, существующая и поныне как завод по производству стекла.
75… действовавшие в то время законы против роскоши запрещали это. —
Под этим собирательным названием со времен древности известны законодательные запреты на предметы быта, пользование которыми не вызывалось нравственно-экономическими интересами общества, налоги на производство и торговлю ими, а также сословные ограничения на приобретение таких предметов. Во Франции законы против роскоши издавались с раннего средневековья до середины XVIII в.
Возможно, что здесь речь идет не о юридических нормах, а об обычаях различных сословий. Так, пудрой во Франции XVIII в. обычно пользовались лишь представители состоятельных слоев населения.
79 Першероны — порода крупных лошадей-тяжеловозов, выведенная в области Перш во Франции и от нее получившая свое название. Однако в данном случае у Дюма неточность — эта порода появилась только в начале XIX в.
… все твари ковчега, от ревущего осла до поющего петуха… — Речь идет об одном из эпизодов библейского предания о всемирном потопе, который Бог наслал на землю, чтобы истребить за грехи род людской. Согласно этой легенде, праведник Ной, спасшийся с семьей в построенном им судне (ковчеге), взял с собой, следуя повелению Бога, по паре всех земных животных и птиц (Бытие, 6–8).
82… встретил… вербовщика и в припадке отчаяния поступил на военную службу. — В XVIII в. французская армия, как и войска почти всех других европейских государств, в основном комплектовалась наемниками. Для этого по стране рассылались вербовщики, которые зачастую завлекали людей на службу обманом, угощая и спаивая их.
83… поставил правую ногу в третью позицию… — При стойке фехтовальщика в третьей позиции (терс) его ноги широко расставлены и слегка согнуты, носки развернуты в стороны, а ступни ног находятся почти на одной линии.
84 Французская гвардия — гвардейский пехотный полк, одна из старейших частей французской регулярной армии; был сформирован в 1563 г. и принадлежал к так называемой внешней гвардии, предназначенной для участия в боевых действиях. В 1789 г. солдаты полка перешли на сторону Французской революции и 14 июля участвовали в штурме Бастилии. В августе того же года указом короля Людовика XVI полк был распущен.
90 Мулине — в фехтовании удар, при котором шпага, палка или копье движется вокруг корпуса нападающего.
92 Ноэль — народная рождественская песня.
94 Амазонки — в древнегреческой мифологии легендарный народ женщин-воительниц, по преданию живших в Малой Азии или на берегах Азовского моря. В переносном смысле — женщины-всадницы. Пудра а-ла-марешаль (a la marechale — "на манер маршалыии"), особый сорт душистой пудры.
95 Мануфактура (от лат. manus — "рука" и factura — "изготовление") — одна из ранних форм промышленного производства, предшествовавшая крупной машинной индустрии: фабрика, основанная на ручном труде с широким разделением производственных операций. В Западной Европе существовала примерно в XVI–XVIII вв. Бальи — в северной части дореволюционной Франции королевский чиновник, глава судебно-административного округа.
96 Марсово поле — плац для парадов и военных учений в Париже на берегу Сены перед военной школой, созданный в 1770 г.; получил свое название по имени Марса (древнегреческого Арея, или Ареса), бога войны в античной мифологии. В начале XIX в. — место первых в Париже скачек; ныне парк.
Шантийи — небольшой город неподалеку от Парижа; известен своим замком-дворцом, построенным в середине XVI в. и принадлежавшим нескольким знатнейшим семействам Франции. В Шантийи также находится известный ипподром (место для состязания лошадей).
97 Опера (Гранд-Опера — Большая Опера) — французский музыкальный театр, основанный в XVII в.
98 Драгуны — род кавалерии, появившийся в европейских армиях в XVII в. и предназначенный для действия как в конном, так и пешем строю. Название получили от изображения дракона (лат. draco) на их знаменах или шлемах, а по другим сведениям — от короткого мушкета (фр. dragon), которым были вооружены.
Кирасиры — род тяжелой кавалерии в европейских армиях с конца XVI в.; имели в качестве защитного вооружения кирасы и каски; в бою предназначались для нанесения решающего удара.
Коллеж де Франс (College de France — Французский коллеж) — одно из старейших высших учебных заведений страны; основан в 1529 г. под влиянием идей гуманизма в противовес религиозному духу французских университетов.
99… к современной неваляшке прислонилась античная Кибела. — Здесь в оригинале непереводимая игра слов: употребленное Дюма слово ро-ussah означает "кукла-неваляшка", а также "толстяк", "коротышка". Кибела — фригийская богиня, "Великая Мать", богиня материнской силы и плодородия — мать богов и всего живущего на земле, возрождающая умершую природу. Культ Кибелы в древности проник из Фригии в Древнюю Грецию и Рим, где слился с культами аналогичных богинь Реи и Опс.
Фригия — древняя страна в северо-западной части Малой Азии; в X–VIII вв. до н. э. — царство.
100 Скарабей — жук из подсемейства навозников.
101 Золотое руно — в древнегреческой мифологии шкура волшебного барана, которая хранилась в священной роще в Колхиде (так древние греки называли черноморское побережье Закавказья); после многих подвигов и приключений было добыто героем Ясоном, который отправился за ним во главе отряда воинов. Этот поход стал популярной темой античной литературы и позднейшей живописи.
102 Давид — библейский герой, царь Израильско-Иудейского государства (ок. 1010 — ок. 970 до н. э.); поэт и музыкант, в молодости был пастухом; победил в единоборстве богатыря Голиафа из племени извечных врагов древних евреев — филистимлян; автор библейской книги "Псалтирь".
103 Месса — католическое богослужение, обедня.
… причудливый, как нюрнбергская механическая игрушка… — Город Нюрнберг в Баварии (Юго-Западная Германия) в течение многих веков славился производством игрушек.
104 Силлери — одна из лучших марок шампанского.
Шамбертен — высококлассное красное бургундское вино. Эрмитаж — высокий сорт красных вин, производимых в долине реки Рона в юго-восточной части Франции.
Кардинал — следующее после папы звание в иерархии католической церкви.
Валтасар (ум. в 539 г.) — сын Набонида, последнего царя Вавилонии; погиб при взятии Вавилона персами; выражение "пир Валтасара" (или "Валтасаров пир"), восходящее к Библии, где описано его последнее пиршество (Даниил, 5), стало нарицательным для определения какого-либо роскошного угощения.
105 Арльская колбаса — изготовленная в Арле, городе в юго-восточной части Франции, известном со времен античности.
106… из благочестия сжег картины Альбана и Тициана… — Альбан — офранцуженная фамилия итальянского художника Франческо Альбани (1578–1660).
Тициан (Тициано Вечеллио; ок. 1476/77 или 1489/90 — 1576) — итальянский художник; глава венецианской школы Высокого Возрождения.
Приказав сжечь картины Альбана и Тициана, герцог поступил как религиозный ханжа: в произведениях первого из этих художников часто изображается обнаженное женское тело, а в картинах второго встречаются образы, полные чувственности.
… герцогу Филиппу Орлеанскому, сыну Луи. — См. примеч. к с. 27. Ришелье, Луи Франсуа Арман, герцог де (1696–1788) — французский военачальник, маршал Франции, придворный короля Людовика XV; герой романов Дюма "Шевалье д’Арманталь", "Джузеппе Бальзамо" и "Ожерелье королевы".
… застрянет, как ласка из басни Лафонтена… — Лафонтен, Жан де (1621–1695) — французский писатель и поэт, автор басен; герой романа Дюма "Виконт де Бражелон". Здесь имеется в виду басня "Ласочка в амбаре". Ее героиня, забравшись в амбар, так наелась и растолстела, что, уходя, не смогла пролезть в щель, через которую проникла внутрь.
Рента — регулярный доход с капитала или какого-либо имущества, не требующий от получателя предпринимательской деятельности.
107 Мюид — старинная французскам мера объема; величина ее значительно варьировалась; наиболее употребительный мюид равнялся приблизительно 270 л.
… подобно Кандавлу, посвятил Тибо, словно нового Гигеса, во все скрытые совершенства г-жи Маглуар… — Согласно преданию, рассказанному древнегреческим историком Геродотом (ок. 484 — ок. 425 до н. э.), Кандавд, полулегендарный царь Лидии (государства, расположенного в древности в Малой Азии), был убежден, что женат на самой красивой женщине в мире. Чтобы доказать это, он показал ее обнаженной своему телохранителю и любимцу Гигесу. Разгневанная царица предложила Гигесу выбор: или он будет тотчас же задушен, или убьет Кандавла и станет царем и ее мужем. Гигес предпочел второе ("История", I, 8-12).
108 …то редкое достоинство, какого требовал Пифагор от своих учеников. — Пифагор Самосский (IV в. до н. э.) — древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, математик. В основанном Пифагором в городе Кротоне союзе — одновременно свободной религиозной общине и политической партии — к его членам предъявлялось требование быть сдержанным в словах. Некоторые пифагорейцы, по преданию, были изгнаны из союза за болтливость. Аи — общее название группы сортов лучших шампанских вин из винограда, произрастающего в окрестностях города Аи в Северной Франции.
115… питавшиеся тимьяном и чабрецом… — Тимьян и чабрец — два названия рода ароматических растений из семейства губоцветных, полукустарника с лежачими стеблями. По-видимому, здесь подразумеваются два вида этого семейства: тимьян обыкновенный, который в диком виде растет во Франции; и тимьян ползучий, или чабрец. Возможно также, что под чабрецом имеется в виду чабер, или богородская (богородичная) трава, широко распространенное в странах Средиземноморья растение того же семейства.
Аперитив — слабый спиртной напиток, употребляемый перед едой для возбуждения аппетита.
Вермут — алкогольный напиток, приготовляемый из вина и различных растительных настоев, главным образом полынных.
116 Шабли — сорт белых столовых бургундских вин.
Канитель — очень тонкая золотая или серебряная нить для вышивания.
118… в таком же состоянии, что и Ной, когда его оскорбили сыновья… — Имеется в виду библейский эпизод. Когда всемирный потоп прекратился, Ной с семейством вышел из ковчега, стал обрабатывать землю и насадил виноградник. Выпив вина, он опьянел и лежал обнаженным в шатре. Второй сын Ноя Хам увидел отца и рассказал об этом братьям. Тогда два другие сына Ноя, Сим и Иафет, взяли одежду отца и, отвернувшись, прикрыли его. Проснувшись, Ной проклял потомство Хама (Бытие, 9:20–27).
119… уселась перед зеркалом своего туалетного столика Помпадур… — т. е. выполненного в стиле дорогой мебели, названного так в честь маркизы Помпадур.
Помпадур, Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764) — фаворитка Людовика XV; оказывала большое влияние на политику страны; покровительствовала ученым и деятелям искусства.
121… не стала искать… ссоры вроде той, что произошла у Клеантиды с
Созием… — Служанка Клеантида и ее муж Созий — герои комедии Мольера "Амфитрион". Интрига этой пьесы состоит в том, что бог Юпитер (древнегреческий Зевс), влюбившись в жену Амфитриона, является к ней во время отсутствия мужа в его облике, а спутник Юпитера, вестник богов Меркурий (древнегреческий Гермес), появляется в образе тоже отсутствующего Созия, и от этого происходит всяческая путаница. Здесь Дюма имеет в виду две сцены комедии: в первой из них Меркурий в облике Созия отбивается от Клеантиды, обвиняющей его в невнимании к ней, а во второй сцене Клеантида обрушивается на вернувшегося настоящего Созия, отказываясь уступить его домогательствам.
Неофит — новый сторонник какой-либо религии или учения.
123… После сигнала тушить огни… — Имеется в виду сигнал, запрещающий покидать свои дома и зажигать в них свет; в средние века подавался в населенных пунктах колокольным звоном как мера полицейской и противопожарной безопасности.
124 Мелисса — травянистое растение, содержащее эфирное масло с запахом лимона, используемое в парфюмерии и как пряность.
126… порождение змей! — Это отзвук восклицания Карла Моора, главного героя драмы "Разбойники" немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства и историка Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759–1805). В русских переводах: "Люди! Люди! Лживые, коварные ехидны!", или (что точно соответствует немецкому оригиналу): "порождения крокодиловы!"
… бедная Сюзанна, которую можно назвать целомудренной Сусанной… — Сюзанна и Сусанна — два написания одного и того же имени. Сусанна — персонаж библейской Книги пророка Даниила, верная жена, которая отвергла домогательства двух старейшин, была ложно обвинена ими в прелюбодеянии и спаслась от смерти благодаря божественному вмешательству (Даниил, 13).
127… подобно пастуху Парису, ваш гость хотел сделать из вас нового Менелая… — Парис — герой древнегреческой мифологии и эпиче-
22-435 ской поэмы Гомера "Илиада", сын царя города Троя в Малой Азии, в ранней молодости был пастухом. Приехав в гости к царю греческого города Спарта Менелаю, он похитил его жену Елену, прекраснейшую женщину своего времени. Похищение Елены стало причиной Троянской войны — походу героев Греции против Трои.
129… Гамлет, считая, что поражает убийцу отца, убил Полония… —
Гамлет — главный герой трагедии Шекспира "Гамлет, принц Датский". Здесь имеется в виду сцена четвертая третьего акта трагедии: Гамлет, думая, что убивает короля Клавдия, убийцу его отца, пронзает мечом ковер, за которым прячется ближний вельможа Полоний.
134… Время… концом своей косы выточило в стволе дупло… — Вероятно, имеется в виду аллегорическое средневековое изображение, символизирующее бренность всего сущего: смерть в виде человеческого скелета с косой в руках и рядом песочные часы — символ бегущего времени.
Вольтеровское кресло — большое глубокое кресло; свое название получило, по-видимому, от изваяния работы французского скульптора Жана Антуана Гудона (1741–1828), изображающего Вольтера сидящим в таком кресле.
Вольтер (настоящее имя — Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) — французский писатель и философ-просветитель; сыграл большую роль в идейной подготовке Великой Французской революции.
135 Омела — род вечнозеленых полупаразитических кустарников. Гобой — духовой музыкальный инструмент, по высоте звука средний между кларнетом и флейтой; появился в XVII в. во Франции. Шутиха (швермер) — пиротехнический снаряд, оставляющий за собой зигзагообразный огненный след; употребляется в фейерверках.
136 Флёрдоранж (фр. fleur d’orange) — белые цветы померанцевого дерева или их искусственное воспроизведение; в ряде европейских стран — принадлежность свадебного наряда невесты, символ девственности.
Муслин — мягкая тонкая ткань, хлопчатобумажная, шерстяная или шелковая; название получила от города Мосул (в современном Ираке).
138… Спросите у Мильтона, о чем думал Сатана после своего падения. — Мильтон (Милтон), Джон (1608–1674) — английский поэт, публицист, переводчик и историк; принимал участие в Английской революции, был сторонником республики. Здесь речь идет о его главном произведении — поэме "Потерянный рай". Сатана, потерпевший поражение в борьбе с Богом и низвергнутый с неба, не хочет признать себя побежденным и стремится к новым битвам.
… историю с тем ученым, что потребовал удвоенного количества пшеничных зерен за каждую следующую из шестидесяти четырех клеток шахматной доски… — Имеется в виду рассказ (по-видимому восточного происхождения) из области занимательной математики, иллюстрирующий возможности геометрической прогрессии. Герой этой истории потребовал указанную плату в награду за изобретение шахмат.
139 Доктор Фауст — историческое лицо, ставшее героем немецкой средневековой народной легенды (ее запись впервые опубликована в 1587 г.), ученый, по преданию заключивший союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских наслаждений. Легенда о докторе Фаусте стала сюжетом многочисленных литературных произведений, из которых наиболее известна трагедия "Фауст"
основоположника немецкой литературы нового времени, писателя, поэта, мыслителя и естествоиспытателя Иоганна Вольфганга Гёте (1749–1832). Мефистофель — в средневековых легендах и в литературе средних веков и нового времени имя одного из духов зла, дьявола, которому человек продает свою душу; герой трагедии Гёте "Фауст".
Валентин — герой первой части трагедии Гёте "Фауст", молодой солдат; пытался отомстить за Маргариту, свою сестру; был убит Фаустом с помощью Мефистофеля.
Маргарита (Гретхен) — героиня первой части трагедии Гёте "Фауст", образ поэтической и нежной девушки, возлюбленная Фауста; соблазненная им с помощью Мефистофеля, она убила своего ребенка и покончила с собой.
Елена — героиня второй части трагедии Гёте, воплощение любви, жена Фауста; трансформация образа мифологической Елены (см. примеч. к с. 127).
140 Матлот — кушанье из кусочков рыбы в соусе из красного вина и различных приправ.
141… еще один серый… — В оригинале grison — "человек в сером", то есть посыльный или доверенный слуга, которые в конце XVIII в. во Франции обычно одевались в серое.
142 Шампань — историческая область в Северо-Восточной Франции; лакей здесь назван по имени этой области, уроженцем которой, по-видимому, являлся.
144 Ризничий — священник, заведующий в монастыре или церкви облачениями, священными сосудами и другими предметами культа. 146 Субретка — в комедиях XVII–XIX вв. бойкая находчивая служанка, поверенная секретов госпожи.
Кюлоты — короткие верхние панталоны до колен в обтяжку, которые в конце XVIII в. носили дворяне и богатая буржуазия; служили определенным знаком сословной принадлежности.
Плис — получившая распространение с XVII в. хлопчатобумажная материя с ворсом, так называемый "бумажный" бархат.
Редингот — длинный сюртук особого покроя; первоначально — одежда для верховой езды.
Лувье — небольшой город на севере Франции; известен предприятиями текстильной промышленности.
Бранденбуры — отделка одежды военного покроя, нашитые на нее шнуры, галуны или петлицы различной формы.
148 Нарцисс — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, гордившийся своей красотой; отверг любовь нимфы Эхо, за что был наказан богиней любви Афродитой: увидев в воде собственное изображение, он влюбился в него и, терзаемый неутомимой страстью, умер. В переносном смысле Нарцисс — самовлюбленный эгоистичный человек.
Двойное су — бронзовая монета стоимостью 10 сантимов, десятая часть франка.
153 Мансарда — чердачное помещение под крутым скатом крыши; получило название от имени французского архитектора Франсуа Мансара (1598–1666), использовавшего устройство мансард для достижения декоративного эффекта.
154 Тафта — плотная хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелкими поперечными рубчиками или узорами на матовом фоне.
22*
Валансьенские кружева — изготовленные в Валансьене, городе на севере Франции, известном кружевным производством.
Буше, Франсуа (1703–1779) — французский художник и гравер, автор портретов, живописных панно, театральных костюмов и декораций; любимыми сюжетами его были любовные истории античной мифологии.
… на ней был только пояс. — Чудесный пояс, в котором скрыты чары ее обаяния, — постоянный атрибут Венеры-Афродиты; в Древней Греции вытканные пояса часто были приношениями Афродите от женщин, вступающих в брак.
Книд — город в Древней Греции; его именем названа знаменитая статуя Афродиты работы Праксителя (ок. 390 — ок. 330 до н. э.). Пафос — город на острове Кипр, один из общегреческих центров культа Афродиты.
Амат — древний финикийский город на острове Кипр к востоку от современного Лимасола; был известен своим святилищем Афродиты.
155 Коромандельский лак — т. е. индийский лак с Коромандельского берега, восточного побережья полуострова Индостан.
… По такому благоуханию герой "Энеиды" догадывался о присутствии матери. — Эней — герой древнегреческой мифологии, "Илиады" Гомера и героического эпоса "Энеида" древнеримского поэта Вергилия (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.), сын Афродиты; участник Троянской войны, легендарный прародитель основателей Рима. Здесь имеется в виду эпизод из "Энеиды" (I, 403–404), в котором Венера-Афродита является сыну, источая от своих волос запах амбросии.
Амбросия (амброзия) — в древнегреческой мифологии пища богов, поддерживавшая их бессмертие и вечную юность.
Гипюр — тонкие кружева из крученого шелка.
158 Контрданс — английский народный танец (буквально: country dance — "деревенский танец"); в качестве бального получил распространение в других странах Европы, в частности во Франции, где назывался англез — "английский танец".
160 Сен-Жорж, шевалье де (1745–1799/1801) — капитан гвардии герцо га Орлеанского; по другим сведениям, королевский мушкетер; мулат с острова Гваделупа, сын местного откупщика и негритянки; спортсмен и музыкант; участник войн Французской революции.
171 Плюмаж — украшение из перьев на головном уборе или конской сбруе.
175 Севрский фарфор — изделия известной привилегированной фарфоровой мануфактуры, основанной в 1756 г. в городе Севре, ныне пригороде Парижа.
182 Кондотьер — предводитель наемных военных отрядов в Италии в XIV–XVI вв.
183 Ландскнехты — в XV–XVII вв. немецкая наемная пехота.
184… Бояр разбил ноги… — Конь назван в честь французского военачальника Пьера де Терайля, по прозвищу Баяр (ок. 1475–1524), прославленного современниками как образец мужества, благородства и прозванного "рыцарем без страха и упрека".
… Танкред повредил сухожилие… — Этот конь назван в честь одного из героев первого крестового похода, сицилийского принца Танкреда (ум. в 1112 г.).
185… Подобно благородным римлянам, применявшим против постоянно возрождающихся карфагенян всевозможные военные хитрости… — Имеется в виду борьба за господство в западной части Средиземного моря и прилегающих территориях, которую Древний Рим вел против государства Карфаген в Северной Африке. Несмотря на поражения в двух войнах (264–241 до н. э. и 218–201 до н. э.), Карфаген неизменно восстанавливал свое экономическое и военное могущество и был окончательно сокрушен только в третьей войне (149–146 до н. э.). В ходе этих войн военное искусство и военная техника римской армии и флота значительно усовершенствовались.
204 Химера — в древнегреческой мифологии чудовище с телом льва, головой козы и хвостом-драконом. В переносном смысле — фантазия, неисполнимая мечта.
Гиппогриф — сказочное животное, наполовину лошадь, наполовину хищная птица гриф.
207 Стихарь — вид священнического облачения.
210… пока Революция не упразднила монастыри… — По-видимому, име ются в виду следующие декреты французского Национального собрания: декрет от 2 ноября 1789 г. упразднял церковное землевладение и передавал имения церкви (в том числе и монастырей) государству; декреты от 13 февраля 1790 г. и 18 августа 1792 г. уничтожали монашество. Монахи-мужчины могли покинуть монастыри, получив от властей пенсию, а желающие остаться в монашеском звании могли объединяться в мужских обителях, сохранившихся в небольшом количестве. Женские монастыри сохранялись в неприкосновенности.
Премонстранцы (иначе — премонстранты, или норбертины) — члены привилегированного католического духовного ордена так называемых регулярных каноников, в который входили священники, вышедшие не из монахов; был основан в начале XII в. во Франции священником Норбертом; название получил от своего главного монастыря Премонтре (фр. — Premontre, лат. — Pratum monstratum) около города Реймса.
Женитьбы папаши Олифуса
Повесть Дюма "Женитьбы папаши Олифуса" ("Les manages du рёге Olifus"), в которую автор включил несколько отрывков мемуарного и очеркового характера, впервые была опубликована отдельными частями в парижской "Конституционалистской газете" ("Le Constitutionnel") с 11.07. 1849 по 30.08. 1849. Первое отдельное издание: Paris, Cadot, 1849.
Время действия повести: с 20 сентября 1823 по 18 августа 1829 г.; второй ее план: путевые очерки и воспоминания автора — относятся к 1848 г.
Перевод, выполненный по изданию Calmann-Levy, сверен с оригиналом Г.Адлером.
На русском языке повесть публикуется впервые.
213 Вивъе, Эжен (1817–1900) — французский композитор, известен также как виртуоз-исполнитель музыкальных произведений для духовых инструментов.
"Мадемуазель де Бель-Иль" — пятиактная драма Дюма; 2 апреля 1839 г. поставлена с большим успехом в Театре французской комедии; в том же году выпущена отдельным изданием.
"Амори" — роман Дюма, опубликованный в 1844 г.
214 Вильгельм, принц Оранский (1817–1890) — с 1849 г. король Нидерландов под именем Вильгельма III; великий герцог Люксембургский и герцог Лимбургский.
… датированное 22 февраля 1848года, то есть днем, когда в Париже разразилась революция… — 22 февраля 1848 г. в Париже началось вооруженное восстание, которое переросло в революцию, в результате которой была свергнута монархия и (25 февраля) провозглашена республика.
…я едва не был убит по той причине, что был другом принцев… — Кроме упоминаемых в настоящей повести герцога Фердинанда Орлеанского и принца Жерома Бонапарта, Дюма был дружен еще с одним членом дома Орлеанов — герцогом Антуаном Мари Филиппом Луи Монпансье (1824–1890).
Д'Артаньян — главный герой "мушкетерской" трилогии, прототипом которого был Артаньян Шарль де Батц-Кастельморо, граф д’ (1610/1620 — 1673), французский генерал, приближенный Людовика XIV, капитан королевских мушкетеров;.
Бекингем, Джорж Вилъерс, герцог (1592–1628) — английский государственный деятель, фаворит и министр английских королей Якова I (1566–1625) и Карла I (1600–1649); герой романа Дюма "Три мушкетера".
Орлеанский, Фердинанд, герцог (1810–1842) — французский военачальник, сын и наследник короля Луи Филиппа, царствовавшего в 1830–1848 гг.; погиб в результате несчастного случая.
Принц Жером Наполеон — Бонапарт, Жозеф Шарль Поль, принц Наполеон (1822–1891) — французский военачальник и политический деятель, племянник императора Наполеона I, сын его младшего брата Жерома; в 1847 г. после смерти своего старшего брата принял имя Жером; известен также под прозвищами Плон-Плон и Красный принц. Дюма познакомился с принцем Жеромом в июне 1842 г. во Флоренции и совершил с ним поездку на Эльбу (с 27 июня по 1 июля того же года).
Офорт — вид произведения изобразительного искусства, оттиск с медной или цинковой доски, на которой углубленные печатающие элементы получены путем травления азотной кислотой. Акватинта — вид гравюры, отпечатанной с металлической доски; рисунок на нее наносится травлением сквозь асфальтовую или канифолевую пыль.
Матильда Бонапарт, принцесса (по мужу Демидова, 1820–1904) — племянница императора Наполеона I, дочь его брата Жерома и сестра принца Жерома Наполеона; хозяйка великосветского салона в Париже.
Елизавета I Тюдор (1533–1603) — королева Англии с 1558 г. Христина Августа (1626–1689) — шведская королева в 1632–1654 гг.; одна из образованнейших женщин своего времени; в 1654 г. отреклась от престола и покинула Швецию, после чего жила преимущественно в Италии; героиня драматической трилогии Дюма "Христина, или Стокгольм, Фонтенбло и Рим" (1830 г.). Севинье, Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626–1696) — французская писательница; получила известность своими письмами к дочери, являющимися ценным историческим источником. Сталь (Сталь-Гольштейн), Анна Луиза Жермена, баронесса де (1766–1817) — французская писательница, теоретик литературы.
… принц Оранский должен был сменить своего отца… — Вильгельма II (1792–1849), короля Нидерландов и великого герцога Люксембургского с 1840 г.
215 … 3 октября 1846 года, когда я выезжал в Мадрид. — Это путешествие описано Дюма в книге "Путевые впечатления. Из Парижа в Кадис" (1847–1848 гг.).
Биар, Франсуа Огюст (1798–1882) — французский художник-жанрист и путешественник; написал много картин по впечатлениям своих поездок.
Лапландцы (самоназвание — саами) — устаревшее наименование лопарей, северной народности, обитающей в Норвегии, Швеции, Финляндии и России.
… каждый в своей пироге… — Пирога — вид лодки у индейцев и народов Океании: челнок, выдолбленный из ствола дерева или сделанный из древесной коры, обтягивающей легкий каркас из прутьев. Здесь же, скорее всего, имеется в виду байдара, или каяк, — лодка народов Севера. Состоит из деревянной основы, сплошь обтянутой кожей; имеет лишь небольшое отверстие, в которое садится человек.
216 Фиакр — наемный экипаж; получил свое наименование от особняка Сен-Фиакр в Париже, где в 1640 г. была открыта первая контора по найму карет.
… провел прекрасную ночь… с моим сыном. — То есть с Александром Дюма (1824–1895), французским романистом, драматургом и поэтом.
Дилижанс — большой крытый экипаж XVI–XIX вв. для регулярной перевозки по определенному маршруту пассажиров, почты и багажа. Леопольд I Саксен-Кобургский (1790–1865) — король Бельгии с 1831 г. (после бельгийской революции 1830 г. и провозглашения независимости); ставленник Англии, проводил проанглийскую политику.
… меня сделали королем против моей воли. — Это утверждение не совсем точно. Леопольд был избран на царство в июне 1831 г. высшим представительным учреждением Бельгии после революции — национальным конгрессом, после того как по дипломатическим соображениям отпало несколько других претендентов. Он согласился принять престол лишь с одобрения великих держав Европы, выставив при этом некоторые выгодные для себя условия. Собравшаяся в октябре 1830 г. в Лондоне для решения бельгийского вопроса конференция послов держав в конце июня 1831 г. утвердила кандидатуру Леопольда и определила порядок урегулирования территориальных споров Бельгии и Нидерландов.
217 Парк — находится перед дворцом герцогов Брабантских в Брюсселе; украшен большим количеством статуй, в числе которых — бюст Петра Великого у бассейна, сооруженного в честь посещения города русским царем.
Ботанический сад — одно из любимых мест прогулок жителей Брюсселя.
Дворец принца Оранского — старинный дворец герцогов Брабантских; с 1829 г. до провозглашения независимости был резиденцией принца Вильгельма Оранского (см. примеч. к с. 214), наследника престола королевства Нидерландов, в которое в 1815–1830 гг. входила и Бельгия.
Церковь святой Гудулы (полное название — церковь святой Гудулы и святого Михаила) — одна из самых больших приходских церквей Брюсселя; построена в XII–XVII вв.
Бульвар Ватерлоо — назван в честь окончательного разгрома армии Наполеона I в битве при Ватерлоо (близ Брюсселя) войсками Англии, Пруссии и Голландии в 1815 г.
Мелин и Кан — издательская и книготорговая фирма в Брюсселе, выпускавшая, в числе прочих, и сочинения Дюма.
Дворец принца де Линя — очевидно, имеется в виду дворец старинного бельгийского рода принцев де Линь. Из них наиболее известны: принц Шарль Жозеф (1735–1814), дипломат, писатель и военачальник, фельдмаршал, служивший в Австрии и России; его сын Шарль Жозеф Эммануэль (1759–1792), австрийский полковник; оба — персонажи романа Дюма "Таинственный доктор".
219 Коппелиус — герой фантастического рассказа Гофмана "Песочный человек", зловещий убийца, адвокат, перевоплотившийся в мастера-оптика.
Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776–1822) — немецкий писатель-романтик, композитор и музыкальный критик.
Олимпия — героиня рассказа "Песочный человек", девушка-автомат, для которой Коппелиус сделал искусственные глаза. Кабалистические фигуры — т. е. таинственные, непонятные; их название происходит от слова "кабала" (или каббала): так называлось средневековое мистическое течение в иудейской религии, проповедовавшее поиск основы всех вещей в цифрах и буквах еврейского алфавита.
Чилибуха (рвотный орех) — тропическое растение, содержащее ядовитые вещества бруцин и стрихнин.
Бас — музыкальный инструмент низкого регистра.
220 Орфей — в древнегреческой мифологии замечательный музыкант, певец и поэт, укрощавший, по преданию, звуками своей музыки диких зверей.
222 Арабески — сложный орнамент из геометрических фигур, цветов, листьев и т. д., перешедший в европейское искусство от арабов и поэтому получивший такое название.
Блюхер — по-видимому, кот получил свое имя в честь прусского полководца генерал-фельдмаршала Гебхарда Леберехта Блюхера (1742–1819) князя Валыитаттского, одного из победителей Наполеона при Ватерлоо.
Карл Великий (772–814) — франкский король из династии Каролингов; с 800 г. — император.
223 Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — французский император в 1804–1814 и 1815 гг.; полководец, реформатор военного искусства. Вольные стрелки Карла VII— одно из первых формирований французской регулярной армии, созданное в конце Столетней войны в 1448 г. вместо отрядов наемников, которые своими грабежами и недисциплинированностью представляли значительную опасность для Франции; формировалось и вооружалось за счет общин, насчитывавших не менее 50 домов. Однако эта попытка создать регулярную армию осталась неудачной, так как роты вольных стрелков, включавшие в себя отбросы общества, оказались весьма небоеспособными и были распущены в царствование Людовика XI, преемника Карла VII.
Карл VII (1403–1461) — король Франции с 1422 г.; успешно завершил изгнанием захватчиков Столетнюю войну (1337–1453) с Англией.
Венсенские стрелки — род французской легкой пехоты; были вооружены винтовками и предназначались для колониальной войны в Алжире; получил свое название потому, что первая рота этих стрелков была сформирована герцогом Фердинандом Орлеанским в 1838 г. в Венсене под Парижем.
Селим /7/(1761–1808) — турецкий султан в 1789–1807 гг.; противниками проводимых им реформ был свергнут с престола и позднее задушен.
Некрополь (от гр. nekros — "мертвый", polls — "город") — буквально: город мертвых, т. е. кладбище, могильник.
224… сойти на берег в Авиньоне или продолжать плыть до Арля? — Авиньон — старинный французский город в Юго-Восточной Франции в нижнем течении Роны неподалеку от ее впадения в Средиземное море; расположен по реке несколько выше Арля (см. примеч. к с. 105).
… нет другого путеводителя, кроме Ришара. — По-видимому, имеется в виду один из двух путеводителей по Франции, составленных инженером Ришаром в начале XIX в. и выдержавших в течение этого столетия множество изданий: "Путеводитель путешественника по Франции" ("Guide du voyageur en France") или "Классический путеводитель путешественника по Франции и Бельгии" ("Guide classique du voyageur en France et en Belgique").
"Путевые впечатления" — имеется в виду книга очерков Дюма "Новые путевые впечатления: Юг Франции" ("Nouvelles impressions de voyage: Midi de la France"), печатавшаяся в газете "Век" (Le Siecle) с 28.04. 1840 по 27.05 1840 и вышедшая в свет в Париже в 1841 г.
225 Камарга — остров в устье реки Роны неподалеку от Арля.
Марий, Гай (157—86 до н. э.) — древнеримский политический деятель и полководец, защищал интересы торгового сословия, неоднократно избирался консулом; провел военную реформу, способствовавшую превращению римской армии в наемную.
Кро — равнина по берегам нижнего течения Роны.
Иванов день — т. е. 7 июля, день христианского праздника рождества святого Иоанна Крестителя; в этот день, совпадающий со старинным дохристианским земледельческим праздником, обычно проходят народные гулянья, во время которых исполняются обряды, сохранившие древние языческие элементы.
… в Арле мы осмотрели амфитеатр… — Имеется в виду сохранившаяся в Арле с древних времен громадная эллипсообразная арена для публичных зрелищ, вмещавшая 25 тысяч человек.
Мери, Жозеф (1798–1866) — французский литератор, поэт и романист, друг Дюма.
… во Флоренции мы увидели состязания колесниц… — Соревнования колесниц, запряженных четверками лошадей, с возницами, одетыми в костюмы эпохи Древнего Рима, с 1563 г. проводились во Флоренции накануне праздника Иоанна Крестителя, покровителя города, на площади перед церковью Санта Мария Новелла.
Финци — знакомый Дюма житель Флоренции.
Арно — река в Италии, на которой расположена Флоренция. Корсини — старинный знатный флорентийский дворянский род. Во время пребывания Дюма во Флоренции здравствовали несколько представителей этого семейства. По-видимому, автор наблюдал иллюминацию из старинного дворца Корсини, одного из памятников архитектуры города.
Декан, Александр Габриель (1803–1860) — французский художник и график романтического направления; автор исторических и жанровых картин, пейзажей, изображений животных; карикатурист. Дюпре, Жюль (1811–1889) — французский художник-пейзажист, реалист.
Руссо, Теодор (1812–1867) — французский художник, мастер национально-реалистического пейзажа.
Шеффер, Анри (1795–1858) — французский художник романтического направления; автор картин на жанровые и исторические темы. Диас дела Пенья, Нарсис Виржиль (1807/1808—1876) — французский художник, по происхождению испанец; автор пейзажей и картин на исторические и мифологические сюжеты.
226 Жакан, Клаудиус (1805–1878) — французский художник.
… со своей картиной "Вильгельм Молчаливый продает евреям посуду, чтобы поддержать войну за независимость". — Вильгельм I по прозвищу Молчаливый, граф Нассауский, принц Оранский (1533–1584) — лидер Нидерландской революции XVI в., политический деятель и полководец; с 1572 г. штатгальтер (наместник) Голландии, Зеландии и Утрехта.
Евреи Западной Европы, которые в средние века не имели права владеть землей и, следовательно, заниматься сельским хозяйством, а также вступать в ремесленные цехи и корпорации, в основном вынуждены были обращаться к коммерческой деятельности. Среди них значительную роль играла прослойка золотых дел мастеров, ростовщиков и банкиров, занимавшихся всевозможными денежными операциями, в том числе кредитованием крупных феодалов и целых государств.
Войной за независимость Дюма называет Нидерландскую буржуазную революцию 1566–1609 гг., во время которой антифеодальная борьба сочеталась с борьбой за национальную и религиозную свободу против владычества Испании. В результате народного восстания и длительной борьбы северные области страны добились независимости и образовали республику Соединенных провинций, называемую часто Голландской, предшественницу королевства Нидерландов. В 1609 г. новое государство получило официальное признание. Шельда (французское название — Эско) — река, протекающая в Северной Франции, Бельгии и Нидерландах.
Поттер, Паулюс (1625–1654) — голландский художник; автор реалистических картин из сельской жизни.
Хоббема, Мейндерт (1638–1709) — голландский художник-пейзажист.
Вельде, ван де — семейство голландский художников. Здесь, возможно, имеется в виду Адриан ван де Вельде (1635–1672), пейзажист и автор жанровых картин.
… пробрались сквозь лес мельниц Дордрехта… — Дордрехт — город на западе Нидерландов.
Ветряные мельницы, имевшие издавна распространение в стране, являются неотъемлемой частью голландского пейзажа.
… рядом с которыми мельницы Пуэрто Лаписе выглядят пигмеями. — Имеется в виду эпизод из главы VIII первого тома романа испанского писателя Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547–1616) "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Подъезжая к ущелью Пуэрто Л аписе, Дон Кихот, вообразивший себя странствующим рыцарем, видит несколько огромных мельниц, которые он принимает за великанов, и вступает с ними в бой.
Кармелитки — монахини католического женского монашеского ордена с очень строгим уставом. Название получили от горы Кармель (в Палестине), на которой, по преданию, была основана первая община мужского ордена монахов-кармелитов.
Бриг — парусное двухмачтовое судно, торговое или военное, с прямыми парусами.
Шлюп — трехмачтовое парусное судно XVIII–XIX вв. с прямыми парусами.
Пакетбот — название почтово-пассажирского судна в XIX в. Гюден, Жан Антуан Теодор (1802–1880) — французский художник-маринист; известен серией картин на темы истории французского военно-морского флота.
228 Фризский костюм — т. е. национальный костюм фризов, германской народности, населяющей историческую область Фрисландия на побережье Северного моря. Часть Фрисландии с конца XVI в. вошла в республику Соединенных провинций (современные Нидерланды), другая часть с середины XVIII в. — в состав Германии. Казакин — здесь: женский корсаж.
Баядерка (точнее: баядера; от порт, bailadeira — "танцовщица") — индийская танцовщица в религиозных церемониях и праздничных увеселениях.
229 Монникендам — город в Нидерландах на берегу залива Зёйдер-Зе. Иссельмонд — остров в нижнем течении реки Маас (французское название — Мёз) в Нидерландах в округе Дордрехт.
230 Король Жером Наполеон — младший брат Наполеона I Жером Бонапарт (1784–1860); французский военачальник, маршал Франции; король вассального Вестфальского королевства (1807–1813), созданного его братом из земель в Западной Германии; после падения Империи, до 1847 г., когда он получил разрешение вернуться во Францию, жил в эмиграции. Дюма познакомился с ним в 1842 г. во Флоренции.
Голландская королева — принцесса София Вюртембергская, жена Вильгельма III; родственница короля Жерома, женатого на одной из принцесс Вюртембергского дома.
231 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) — великий голландский художник, автор портретов и картин на бытовые, библейские и мифологические темы.
Ван Дейк, Антонис (1599–1641) — фламандский художник; с 1632 г. работал в Англии; мастер портретной живописи.
Нереиды — в древнегреческой мифологии морские богини, дочери морского старца Нерея.
… Это дочери Партенопы, Лигеи и Левкосии. — Партенопа (Парфенопа), Лигея, Левкосия — имена сирен, сказочных существ древнегреческой мифологии, полуптиц-полуженщин, которые своим чарующим пением завлекали мореходов на скалы.
Смит, Джон (1579–1631) — английский мореплаватель; исследовал часть восточного побережья Северной Америки, составил подробные карты и описания открытых им земель.
Новая Англия — исторический район на северо-востоке Соединенных Штатов Америки, один из первых начал с 20-х гг. XVII в. заселяться английскими колонистами. Штаты Новой Англии сыграли ведущую роль в Войне за независимость северо-американских колоний в 1775–1783 гг. и в образовании США. Название было предложено капитаном Смитом в 1614 г.
Вест-Индия (Западная Индия) — общее название островов Атлантического океана, расположенных между Северной и Южной Америкой. При их открытии европейцами в конце XV в. были ошибочно приняты за часть Азии и получили название Западной Индии, так как мореплаватели Европы пытались достичь этой страны, плывя в западном направлении.
Кирхер, Атанасиус (1601–1680) — немецкий ученый, естествоиспытатель, математик, лингвист, богослов и антиквар; в его многочисленных трудах вместе с достоверными сведениями содержатся разного рода фантастические измышления.
Зёйдер-Зе (буквально — Южное море, Южное озеро) — залив Северного моря, глубоко вдающийся в территорию Северных Нидерландов; ныне отделен от моря плотинами, опреснился и частично осушен; современное название — Эйеселмер.
232 Тритоны — в древнегреческой мифологии (приблизительно с IV в. до н. э.) второстепенные божества, олицетворяющие бурный характер морской стихии. (Первоначально Тритон — сын бога моря Посейдона; изображался в виде чудовища, имеющего черты человека, рыбы и дельфина.)
Абелинус (Абелин), Иоганн Филипп (вторая половина XVI в. — ок. 1634/1637 гг.) — немецкий историк; под именем Иоганна Людвига Готфрида (или Готофредуса) основал повременное историческое издание "Theatrum Europaecum" ("Европейский Театр"), выходившее с начала XVII в. в Страсбурге.
… советники датского короля… — Христиана IV (1577–1648), короля Дании с 1596 г.
… Джонстон рассказывает… — По-видимому, имеется в виду Джордж Джонстон (1798–1855), шотландский естествоиспытатель и врач, автор многих трудов по зоологии.
Манар — небольшой остров у северо-западного побережья острова Шри-Ланка (Цейлона).
… "Историю Азии" Бартоли… — По-видимому, речь идет об изданной в трех томах в Риме в 1660–1663 гг. книге "Азия, Япония и Китай". Ее автор — итальянский ученый, монах-иезуит Даниело Бартоли (1608–1685), много лет проповедовавший христианство в азиатских странах. В этой книге, между прочим, содержится биография упоминаемого ниже святого Франциска Ксаверия.
Иезуит — член Общества Иисуса, важнейшего из католических монашеских орденов, основанного в XVI в. Орден ставил своей целью борьбу любыми способами за укрепление церкви против еретиков и протестантов. Имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели.
233… Голландский резидент… — Резидент — здесь глава колониальной администрации.
Остров Цейлон в 1658 г. был завоеван Голландией и оставался под ее властью до конца XVIII в., когда был захвачен англичанами. Ласарильо с Тормеса — главный герой плутовской, направленной против духовенства испанской анонимной повести "Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения", изданной в 1554 г. Каде Руссель-Эстюржон — герой французской народной песни, популярной в армии в начале 90-х гг. XVIII в.; наивный молодой человек.
Ахелой — в древнегреческой мифологии речной бог, который по желанию мог принимать любой облик; некоторые легенды называют его отцом сирен.
… и нимфы Каллиопы… — Нимфы — в древнегреческой мифологии божества, олицетворяющие силы и явления природы.
Каллиопа — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, богинь поэзии, искусств и наук, покровительница эпической поэзии. Здесь у Дюма, по-видимому, неточность, и он имеет в виду не Каллиопу, а дочь Ахелоя речную нимфу Каллирою.
Делфт — старинный город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия; с конца XVI в. — центр керамического производства. Жерар, Балтазар (1562–1584) — католик-фанатик, застреливший из пистолета принца Вильгельма Оранского Молчаливого; был казнен. Утрехтская уния — заключенный в городе Утрехте в 1579 г. союз сначала пяти, а затем семи северных провинций Нидерландов с целью совместной борьбы за освобождение от испанского господства. Условия союза предусматривали создание общей армии, валюты и налогов на нужды обороны. Утрехтская уния, к которой примыкали также некоторые города южных провинций, способствовала освобождению от власти Испании северных Нидерландов и созданию там республики Соединенных провинций.
… вдова Телинъи… — Луиза де Колиньи (1553–1620), дочь Гаспара де Колиньи, герцога Шатильонского (1519–1572), вождя французских протестантов (гугенотов), погибшего во время Варфоломеевской ночи — массового их избиения во Франции (Гаспар де Колиньи — персонаж романа Дюма "Королева Марго"); ревностная протестантка; с 1583 г. жена принца Вильгельма Оранского Молчаливого.
Телиньи, Шарль де (ум. в 1572 г.) — один из вождей гугенотов, первый муж Луизы де Колиньи; погиб в Варфоломеевскую ночь. 234 Равальяк, Франсуа (1578–1610) — фанатик-католик, в 1610 г. заколовший кинжалом короля Генриха IV.
Дюйм — единица длины в системе мер некоторых стран; равняется 2,54 см.
Унция — здесь: единица массы в некоторых системах мер; в разных странах составляла приблизительно от 28 до 31 г.
Сфинкс — здесь: в древнегреческой мифологии крылатое чудовище с телом льва и женской головой, жившее близ города Фив; Сфинкс предлагал людям загадку и не разгадавших ее убивал; когда герой Эдип дал правильный ответ, Сфинкс бросился со скалы.
Фавн — в древнеримской мифологии бог лесов и полей, покровитель стад и пастухов.
Вампир — в поверьях многих европейских народов мертвец, который выходит из могилы и сосет кровь живых людей.
Караибы (точнее: карибы) — группа индейских племен, живущих в Южной Америке к северу от реки Амазонка.
236 Тенирс, Давид, Младший (1610–1690) — фламандский художник, ав тор пейзажей, отличающихся мягким колоритом, и жанровых сцен, идеализирующих крестьянский и городской быт.
Терборх (Тер Борх), Герард (1617–1681) — голландский художник, автор картин на темы быта зажиточных горожан.
237… Прошла неделя с четвертого мая — того дня, когда я видел подобный праздник в Париже. — Дюма сравнивает с коронацией Вильгельма III состоявшееся 4 мая 1848 г. открытие Учредительного собрания французской республики, провозглашенной в феврале того же года… мы шли под сводами трехцветных флагов… — Национальные цвета Франции (начиная с Великой Французской революции) и Нидерландов одинаковы: синий, белый и красный.
… несколько саксонских фигурок… — т. е. изделий знаменитой фарфоровой мануфактуры, основанной в 1710 г. в немецком городе Мейсене (Саксония). Мейсенская мануфактура была известна не только своей посудой, но и скульптурными изделиями — небольшими реалистическими фигурками людей и животных.
238 Национальная гвардия — гражданское ополчение, возникшее в Париже в 1789 г. во время Французской революции. В XIX в. существовала также в ряде других европейских государств; комплектовалась главным образом из зажиточных слоев населения.
239 Принц Оранский — по-видимому, кронпринц (наследник престола) Александр (ум. в 1884 г.), сын короля Вильгельма III.
… когда короли… отмечены роковым "тау"! — Согласно Библии (Иезекииль, 9: 4), Бог повелел пророку Иезекиилю: "Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак". Знак этот послужил защитой праведникам от Божьего гнева, обрушившегося на Иерусалим. "Знак" на др. — евр. — "тав", но так называется и последняя буква евр. алфавита, поэтому возможны различные толкования этой библейской цитаты. Некоторые комментаторы расшифровывают "тав" как букву "тау" греческого алфавита, соответствующую латинской букве "Т", символ трехконечного креста святого Антония. Как бы то ни было, знак этот был спасительным, а не роковым, как у Дюма.
Карл I (1600–1649) — король Англии с 1625 г.; казнен во время Английской революции XVII в.; герой романа Дюма "Двадцать лет спустя".
Людовик XVI (1754–1793) — король Франции в 1774–1792 г.; казнен во время Великой Французской революции; герой серии романов Дюма "Записки врача".
… Реставрация 1660 года… — То есть восстановление монархии в Англии, упраздненной во время революции, и провозглашение королем Карла И, сына казненного Карла I. Эти события описаны Дюма в первой части романа "Виконт де Бражелон".
… Революция 1848года обвиняет королей. — В 1848 г. революционное движение охватило практически всю Западную, Центральную и часть Восточной Европы. Во многих государствах (в Пруссии, Австрии, Венгрии, Франции и др.) оно имело антимонархический характер. Нордкап — самая северная точка Европы, мыс на острове Магерё в Норвегии.
240 Флорин — старинное название немецкой золотой монеты гульдена (от нем. Gold — "золото"); происходит от обращавшейся в Германии флорентийской монеты флорино. Гульдены затем передали свое название денежным единицам XIX в. в некоторых странах, в том числе и Нидерландах. В Нидерландах в качестве краткого обозначения гульденов до сих пор используют буквы "А".
"За родину умрем…" — припев из патриотической песни "Жирондисты" времен Великой Французской революции. Эту песню Дюма включил в пьесу "Шевалье де Мезон-Руж", написанную им на основе одноименного романа и поставленную в 1847 г. Жирондисты — политическая группировка периода Французской революции, представлявшая интересы республиканской торгово-промышленной и землевладельческой буржуазии. Получила название от департамента Жиронда в Юго-Западной Франции, откуда происходили многие ее лидеры. В середине 1792 — середине 1793 гг. жирондисты сформировали правительство. В результате народного восстания 31 мая — 2 июня 1793 г. они были отстранены от власти, а многие их вожди были казнены.
241 Тафия — водка на Антильских островах, получаемая путем перегонки патоки сахарного тростника.
Арак (аррак) — очень крепкая водка, производимая в Индии, на Цейлоне и в других странах Среднего Востока.
243… придется следить за плотиной. — Значительная часть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря и ограждается от затопления многочисленными плотинами и дамбами. Наблюдение за состоянием этих плотин, морскими течениями и ветрами издавна было важным элементом повседневной жизни нидерландского населения.
244… Мы говорим о святом Иоанне, который крестил Господа нашего в реке Иордан… — Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, — христианский пророк, родственник и предшественник Христа, предвещавший его пришествие; в своих проповедях обличал пороки современного ему общества; установил обряд крещения — погружение в воду и омовение в ней как знак покаяния и духовного очищения; свершил этот обряд над Иисусом (Матфей, 3:13–17; Марк, 1:9-11). Иордан — река на Ближнем Востоке, протекает в Израиле и Иордании.
245 Бордо — вино из группы бордоских, производимых близ города Бордо в Юго-Западной Франции.
Людовик АТК(1638–1715) — король Франции с 1643 г.; герой романов Дюма "Двадцать лет спустя", "Виконт де Бражелон" и "Женская война".
246… служил при императоре… — т. е. во флоте Наполеона I, который в 1810 г. присоединил Нидерланды, называвшиеся тогда Голландским королевством, к Франции.
… схватили и отправили в Англию… — В царствование Наполеона I Франция вела постоянную войну против Англии.
Блокшив — старый корабль, с которого снято вооружение и оборудование и который используется в качестве склада, плавучей казармы или тюрьмы.
248 Куртиль — квартал в рабочем районе Бельвиль на северо-восточной окраине Парижа; в XIX в. был известен своими увеселительными заведениями.
253 Стерн, Лоренс (1713–1768) — английский писатель-сентименталист, по профессии священник; особенность его стиля: многочисленные отступления, беседы с читателем, повествование от имени героя.
255… делал не меньше тридцати узлов. — Узел — расстояние между двумя узелками на лаглине, тросе лага — прибора для определения скорости судна. Оно равняется 1/120 морской мили, составляющей 1852 м. За время, пока трос вытягивается на длину между этими двумя узелками, корабль проходит одну милю. Количество узлов, отсчитываемых на лаглине за пол минуты, означает скорость корабля (миль в час). Следовательно, папаша Олифус бежал со скоростью тридцати морских миль (то есть свыше 55 км) в час.
260 Фалреп — трос, заменяющий перила у трапов, спущенных с борта корабля.
Перлинь — толстый трос из растительного волокна.
Индийская компания — здесь речь должна идти, по-видимому, о монопольной Нидерландской (Голландской) Ост-Индской компании, основанной в 1602 г. Являясь одновременно и коммерческой и политической организацией, Компания имела право содержания войск, крепостей, чеканки монеты и судопроизводства; сыграла большую роль в завоевании Индонезии и в создании нидерландской колониальной империи в Юго-Восточной Азии. Однако в 1798 г. Компания прекратила свое существование и упомянута здесь как бы по инерции.
261 Мадейра — самый крупный из одноименной группы островов Атлантического океана, расположенных к северо-западу от побережья Африки; принадлежит Португалии.
Фуншал — главный город и порт острова Мадейра.
… пик Тенерифе… — Имеется в виду вулкан Тейде (Пико-де-Тей-де) — высшая точка острова Тенерифе из группы Канарских островов в Атлантическом океане, принадлежащих Испании.
… в зеленых водах, напоминающих огромные плантации салата… — т. е. в Саргассовом море в центральной части Атлантического океана. Это море расположено в застойной зоне между несколькими течениями, и поэтому на его поверхности плавают большие скопления саргассовых водорослей, от которых оно получило свое название.
262 Фок-мачта — первая от носа мачта корабля.
Кабестан — лебедка с вертикальным валом.
… лег в дрейф… — т. е. остался неподвижным; образное моряцкое выражение, происходящее от маневра парусного корабля. "Лечь в дрейф" означает расположить паруса таким образом, чтобы одни сообщали судно движение вперед, а другие — назад. Таким образом корабль, попеременно двигаясь в противоположные стороны, в итоге остается на одном месте.
… пробили склянки… — То есть был дан сигнал времени и смены вахты. Склянкой называется получасовой промежуток времени на корабле. Название это происходит от старинных стеклянных песочных часов, употреблявшихся в парусном флоте, в которых песок пересыпался за 30 минут. Около часов постоянно стоял матрос, отмечавший каждый их переворот одним, двумя, тремя и т. д. ударами колокола — пробитием склянок. Отчет времени велся с полуночи и с 4 часов дня.
Вахта — круглосуточное посменное дежурство на корабле, а также подразделение матросов, несущее это дежурство.
Линёк — здесь: короткий отрезок просмоленной веревки для корабельных снастей; на судах парусного флота служил для наказания матросов; линьком пользовались преимущественно старшины команды.
263 Бризы — ветры, дующие с суточной периодичностью по берегам морей и крупных озер.
Бом-брамсель — третий снизу прямой парус, брамсель. Приставка "бом" добавляется здесь к названию паруса для указания, что он крепится на бом-брам-стеньге, одной из частей мачты.
Лисель — добавочный парус у судов с прямым вооружением; ставится при слабом ветре.
Римская свеча (помпфейер) — пиротехнический снаряд, фигура фейерверка, которая взрывается последовательно, при каждом взрыве выбрасывая в воздух цветные бумажные шарики или звездочки. Эпилепсия — хроническое заболевание головного мозга; протекает преимущественно в виде припадков, сопровождающихся судорогами, потерей сознания и нарушениями психики.
264 Саламандра — в средневековых поверьях и магии дух огня. Бизань-мачта — третья от носа мачта корабля.
"De profundis" — название христианской заупокойной молитвы на текст библейского псалма 129, начальные слова которого: "De profundis clamavi ad te, Domini…" ("Из глубин я воззвал к Тебе, Господи…").
266 Фалы — снасти для подъема деревянных деталей парусного вооружения корабля.
Шкоты — снасти для постановки парусов в нужное положение относительно ветра.
"Держаться к ветру" — морской термин, означающий сохранение курса корабля по направлению ветра.
Гафель — деревянная часть парусного вооружения корабля, прикрепленная к мачте одним концом, а другим — подвешенная под углом к ней.
Тали — приспособление для подъема тяжестей.
Полуклюз — открытое отверстие в фальшборте (сплошном ограждении верхней палубы) для пропуска троса или якорной цепи. Шлюпбалка — балки с талями по бортам корабля; служат для спуска и подъема шлюпок.
267 Принайтовить — привязать один или несколько предметов, обвив их тросом.
268… трехмачтовое судно "Ян де Витт"… — Корабль назван в честь правителя провинции Голландия в 1650–1672 гг. Яна де Витта (1625–1672), оказывавшего решающее влияние на политику всей республики Соединенных провинций и направлявшего борьбу с ее торговыми соперниками Англией, Португалией и Францией. Таматаве — порт на восточном берегу Мадагаскара; современное название — Туамасина.
Сент-Мари — небольшой остров у восточного побережья Мадагаскара; современное название — Нуси-Бураха.
269 Тинтинг — город на восточном побережье Мадагаскара напротив острова Сент-Мари.
Эль — светлое крепкое английское пиво.
270 Равенала — древовидное тропическое растение семейства банановых; получило название "дерева путешественников"; в углублениях и у основания его листьев накапливается вода, которую можно использовать для питья.
Сингальцы (сингалы, иногда неправильно — сингалезы) — основное население острова Цейлон (Шри-Ланка).
Зангебарский берег — название части восточного побережья тропической Африки.
Радама I (1791–1828) — король государства Имерина на Мадагаскаре с 1810 г.; вел борьбу против захвата острова французами; создал сильную армию; поощрял развитие торговли и ремесел.
271 Коломбо (Каламбу) — город и порт на острове Цейлон, ныне столица государства Шри-Ланка.
Манарский залив — находится на южной оконечности полуострова Индостан напротив острова Манар.
272 Имам — светский и духовный глава мусульманской общины. Здесь: глава государства Оман на юго-востоке Аравийского полуострова. Маскат (Мускат) — столица государства Оман (иногда называвшегося по ее имени Маскатом), в то время фактически находившегося под властью Англии.
273 Бретонцы — народность во Франции, основное население полуострова Бретань в западной части страны; потомки кельтов, переселившихся туда из Британии в V–VI вв.
274 Морская сажень — старинная мера длины, приблизительно 1,62 м (5 футов).
276 Кобра де капелло ("шляпная змея") — старинное португальское название кобры, или очковой змеи.
Будру-пам — малайское название зеленой куфии, ядовитой змеи, обитающей в Южной и Юго-Восточной Азии.
277 Коричные деревья — деревья или кустарники рода коричник, из коры которых приготовляют пряную приправу корицу.
278 Цистра (цитоля) — старинный струнный щипковый музыкальный инструмент, по форме напоминающий мандолину.
Тамтам — ударный музыкальный инструмент, разновидность гонга.
279 Каре (фр. сагге — "квадрат") — боевой порядок пехоты, построение в виде квадрата или прямоугольника, каждую сторону которого составляет строй солдат, развернутых по направлению к противнику… в день святого Иоакима. — День святого Богоотца Иоакима (Иоахима), родителя Пресвятой Богородицы, празднуется церковью 22 сентября.
282 Гоа — центр одноименной области на юго-западном побережье полуострова Индостан; с начала XVI в. — колония Португалии. Аутодафе (порт, autoda-fe — "акт веры") — в ряде католических стран церемония оглашения и приведения в исполнение приговора над еретиками — обычно их сожжение.
283 Опиум (опий) — застывший на воздухе сок опийного (снотворного) мака; лекарственное вещество, преимущественно болеутоляющее, и одновременно сильный наркотик. На Востоке употреблялся главным образом при курении в специальных трубках наподобие табачных. Бетель — смесь пряных листьев одноименного кустарника из семейства перечных, разводимого в тропической Азии; употребляется на Востоке в виде жвачки как возбуждающее средство.
284 Малабарский берег — западное побережье полуострова Индостан. Рупия — здесь: старинная индийская серебряная монета; чеканилась с середины XVI в.; см. также примеч. к с. 486.
285 Паланкин — носилки в форме кресла или ложа; средство передвижения состоятельных людей на Востоке, главным образом в Индии и Китае.
Святая Екатерина — по-видимому, имеется в виду великомученица Екатерина Александрийская (IV в.), известная своей ученостью и считавшая себя невестой Христа.
Лукреция (VI в. до н. э.) — древнеримская патрицианка (знатная женщина); была обесчещена сыном последнего царя Рима Секстом; рассказав об этом своему мужу и отцу, она взяла с них клятву отомстить, после чего заколола себя кинжалом. Этот событие послужило поводом для свержения царской власти и установления в Древнем Риме республики.
Франциск Ксаверий (настоящее имя — Франсиско де Хазо; 1506–1552) — испанский монах-иезуит; проповедовал христианство в португальских владениях в Индии и в Японии.
286 Пагода (пагоде) — старинная индийская золотая монета; в различных областях региона имела разную стоимость.
… в день святого Доминика, покровителя инквизиции… — Доминик де Гузман (1170–1221) — испанский церковный деятель, епископ, основатель католического монашеского ордена доминиканцев, причисленный к лику святых; Олифус называет святого Доминика покровителем инквизиции — тайной судебно-полицейской организации католической церкви для борьбы против еретиков и протестантов, так как это судилище было передано папством в ведение доминиканского ордена.
288 Дуэнья — в средние века пожилая женщина, наблюдавшая за поведением молодой дворянки и повсюду ее сопровождавшая; здесь — доверенная прислужница.
289 Бернарден де Сен-Пьер, Жак Анри (1737–1814) — французский писатель; в ряде его книг содержатся красочные описания природы и жителей мест, которые он посетил.
291… с кожей цвета флорентийской бронзы… — Имеются в виду литые художественные изделия из бронзы, которыми в XV–XVI вв. славилась Италия, и, в частности, изделия скульпторов и мастеров города Флоренции. Цвет бронзы в зависимости от содержания в этом сплаве олова может быть различным: красноватым, желтым, серым и даже белым. Однако от времени изделия из бронзы покрываются налетом и темнеют.
295… мускат из Санлукара… — Возможно, имеется в виду вино, произведенное в окрестностях города Санлукар-де-Баррамеда на юге Испании. Однако эта местность известна производством не сладкого ликерного муската, а другого сорта вин — хереса.
Нектар — в древнегреческой мифологии напиток богов, поддерживающий их бессмертие и вечную юность; иногда в литературе отождествляется с амбросией (см. примеч. к с. 155).
Фуэте (от фр. fouetter — "хлестать") — фигура классического балетного танца с характерным маховым движением ноги, помогающим повороту или вращению танцовщика.
296 Кафры (от арабск. "кафир" — "неверный", "немусульманин") — устаревшее название некоторых народов Юго-Восточной Африки.
298… на первом представлении драмы "Шевалье дАрманталь". — Имеется в виду пятиактная драма Дюма по мотивам его романа "Шевалье д’Арманталь"; премьера ее состоялась в Историческом театре в Париже 26 июля 1849 г. В том же году драма была опубликована отдельным изданием.
299… лишает… возможности… курить акцизные сигары… — т. е. сигары, обложенные акцизом, одним из видов налога на предметы первой необходимости.
300 Лоретки — девушки легкого поведения. Это прозвище появилось в начале XIX в. и произошло от названия церкви Лоретской Богоматери (Notre-Dame-de-Lorette) в Париже, рядом с которой они селились. У Дюма есть книга "Девки, лоретки и куртизанки" (1843 г.). Ангажемент (от фр. engager — "предлагать", "приглашать") — приглашение артиста на определенный срок для участия в спектаклях или концертах.
Маке, Огюст (1813–1888) — французский прозаик и драматург, соавтор многих романов и пьес Дюма.
… эти люди говорят просто… "Исторический"… — Имеется в виду Исторический театр, основанный Дюма в Париже в 1847 г. с финансовой помощью герцога Монпансье главным образом для постановки своих пьес; первое представление (пьеса "Королева Марго") состоялось 20 февраля 1847 г. Театр прекратил свое существование примерно в 1849 г. из-за денежных затруднений.
Клакёры — зрители, специально нанятые для создания своим поведением в театре (шумной овацией или криками и освистыванием) успеха или провала артиста или всей постановки. Группа таких наемников называется клакой.
Ареопаг — высший судебный и контрольный орган власти в Древних Афинах; в переносном смысле — какое-либо авторитетное собрание или судилище. Получил такое название, так как заседал на холме Арейос, названного так в честь древнегреческого бога войны Арея (Ареса). Предания возводят учреждение ареопага и просхождение названия холма к мифологическим временам, связывая их с рядом древнегреческих сказаний.
Бриарей — в древнегреческой мифологии прозвище одного из трех гекатонхейров, сторуких и пятидесятиголовых великанов, олицетворявших подземные силы.
301 "Генрих III" — имеется в виду историческая драма Дюма "Двор Генриха III", примыкающая по своему содержанию к созданным позднее романам "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять"; премьера ее с огромным успехом состоялась на сцене Французского театра (Ко-меди Франсез) 11 февраля 1829 г.
Генрих III (1551–1589) — король Франции с 1574 г., последний из династии Валуа; герой романов "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять".
"Антони" — романтическая пятиактная драма Дюма; первое ее представление состоялось 3 мая 1831 г. в театре Порт-Сен-Мартен. "Анжела" — пятиактная драма Дюма; первое ее представление состоялось в Париже 28 декабря 1833 г. в театре Порт-Сен-Мартен. "Мадемуазель де Бель-Иль" — см. примеч. к с. 213.
Джеймс Руссо — псевдоним французского драматурга и поэта-пе-сенника Пьера Жозефа Руссо (1797–1849).
Марс, Анна Франсуаза Ипполита (настоящая фамилия — Буте; обыкновенно ее называли мадемуазель Марс; 1779–1847) — знаменитая французская драматическая актриса, известная исполнением ролей классического и романтического репертуара.
Жоанни, Жан Батист Бернар (настоящая фамилия — Брисбарре; 1775–1849) — французский актер-трагик.
Су лье, Мелъкиор Фредерик (1800–1847) — французский писатель, романист и драматург, принадлежал к демократическому крылу французского романтизма; республиканец; заложил основу жанра романа-фельетона (то есть публикации произведения небольшими частями с продолжением), являясь в этом предшественником Дюма. Дорвалъ, Мари (настоящая фамилия — Делоне; обыкновенно ее называли госпожой Дорваль; 1798–1849) — французская драматическая актриса, прославилась исполнением ролей романтического репертуара, в том числе и в пьесах Дюма.
302 …Я служил младшим клерком у провинциального нотариуса… — В 1816 г. Дюма служил в Вилле-Коттре клерком у друга его семьи нотариуса Манессона, о котором он очень тепло отзывается в своих "Мемуарах".
Баронесса Каролина Капель — знакомая Дюма; жена барона Гийома Франсуа Капеля (1775–1843), французского политического деятеля, роялиста.
303 Анкарстрём, Якоб (1762–1792) — офицер шведской гвардии; участник заговора аристократов, недовольных политикой короля Густава III (1746–1792; правил с 1771 г.); его убийца; был казнен.
Хурн (Горн), Фредерик, граф (1763–1823) — шведский политический деятель и поэт; фаворит, а затем противник короля Густава III, участник его убийства.
Риббинг де Лёвен, Адольф Людвиг, граф (1764–1843) — шведский политический деятель; участник убийства Густава III.
Лёвен, Адольф де (1802–1887) — имя, под которым был известен сын графа Риббинга; французский драматург-комедиограф; Дюма познакомился с ним 27 июня 1819 г.
Комическая опера — музыкальный театр демократического оперного жанра, противопоставлявшегося классической придворной опере; возник в Париже в 1725 г.; в течение XVIII в. объединялся с несколькими театрами аналогичного направления.
Водевиль — музыкально-драматический театр легкого жанра; основан в Париже во время Революции.
304 …по распоряжению старшей ветви Бурбонов. — То есть королевской династии, царствовавшей во Франции в 1589–1792 гг., 1814–1815 и 1815–1830 гг. Во второй половине XVII в. возникла и младшая ветвь этого рода — дом Орлеанов, основателем которой был младший брат Людовика XIV герцог Филипп I Орлеанский (персонаж романа "Виконт де Бражелон").
Жимназ (полное название — Жимназ-Драматик) — французский драматический театр; открылся в Париже в 1820 г.
Перле, Адриен (1795–1850) — французский актер, комик.
… девушку, чье имя — Флёрье — распускалось словно роза… — В оригинале здесь игра слов: фамилия Флёрье (Fleurier) происходит от фр. fleur — "цветок".
"Поль и Виргиния" — знаменитый роман Бернардена де Сен-Пьера (см. примеч. к с. 289), вышедший в свет в 1787 г.; повествует об идеальной любви на лоне природы двух молодых людей, свободных от развращающего влияния общества и сословных предрассудков. Здесь речь идет об инсценировке романа.
Франциск /(1494–1547) — король Франции с 1515 г.
Этамп, Анна де Пислё, герцогиня д’( 1508–1580) — фаворитка Франциска I.
… буки, в тени которых отдыхали Генрих IV и Габриель… — Генрих IV (1553–1610) — король Франции с 1589 г.; герой романов "Королева Марго", "Графиня де Монсоро" и "Сорок пять".
Габриель д’Эстре (1571–1599) — фаворитка Генриха IV.
Демустье, Шарль Альбер (1760–1801) — французский литератор; уроженец Виллер-Котре.
Парни, Эварист Дезире де Форж, виконт де (1753–1814) — французский поэт; известен своей любовной лирикой, антицерковными поэмами, памфлетами и выступлениями против рабства и деспотизма. Легуве, Габриель Мари Жан Батист (1764–1812) — французский поэт и драматург, один из последних представителей классицизма.
305 …Я уже рассказывал в другом месте, как осуществлялось это жгучее желание, как я…прибыл в Париж… — Дюма окончательно переехал в Париж в начале 1823 г. Об этом он пишет в главе СХХ своих "Мемуаров".
Аладин — герой одной из сказок памятника средневековой арабской литературы "Тысяча и одна ночь"; творил чудеса с помощью волшебной лампы, образ которой вошел в поговорку.
… У меня было тысяча двести франков жалованья. — Эту сумму Дюма получал, работая в 1823–1824 гг. писцом в канцелярии герцога Луи Филиппа Орлеанского (1773–1850), будущего короля Франции в 1830–1848 гг.
306 Дезожъе, Марк Антуан (1772–1827) — французский поэт-песенник и драматург, автор комедий и злободневных водевилей; монархист… читали его в Порт-Сен-Мартен… — т. е. в драматическом театре Порт-Сен-Мартен в Париже, который помещался на Больших бульварах у ворот (фр. — porte) Сен-Мартен и отсюда получил свое название; открылся в 1814 г.; принадлежал (вместе с упоминаемыми в настоящей повести театрами Амбипо-Комик и Жимназ) к группе так называемых "театров бульваров", которые в первой половине XIX в. конкурировали с государственными привилегированными театрами и находились под влиянием прогрессивных, оппозиционных правительству общественных направлений.
Ворота Сен-Мартен — триумфальная арка в честь Людовика XIV; построена на месте старых крепостных ворот Парижа в 1675 г.
… получили шесть черных шаров и два белых. — То есть шесть голосов против и два — за. Это одна из форм тайного голосования, когда вместо бюллетеней в урну опускаются шары различного цвета. Амбигю-Комик — один из старейших французских драматических театров; возник в 1769 г. как театр марионеток; после разрушения здания в 1827 г. открылся на бульваре Сен-Мартен; известен постановкой мелодрам.
307 Порше, Жан Батист Андре (1792–1864) — парижский парикмахер, глава клаки и торговец театральными билетами; оказывал денежную помощь многим нуждающимся писателям-современникам. Ларошфуко, Состен, маркиз де, герцог Дудовиль (1785–1864) — французский политический деятель, один из лидеров крайних монархистов; публицист.
Блан, Огюст Александр Шарль (1813–1882) — французский художественный критик, профессор эстетики.
"Охота и любовь" — одноактный водевиль на сюжет из эпохи Генриха IV, поставленный впервые 22 сентября 1825 г. в Амбигю-Комик. В первом издании (Paris, Duvemois, 1825) вместо фамилий двух соавторов — Лёвена и Дюма — были указаны только их имена: имя первого — Адольф и часть полной фамилии второго — Дави… начало XVIIIвека с его Регентством… — Имеется в виду регентство герцога Филиппа Орлеанского в 1715–1723 гг., во время малолетства Людовика XV; этот период отличался известным оживлением общественной жизни и легкостью нравов, наступивших после жесткой диктатуры царствования Людовика XIV.
Герцогиня Беррийская — Мария Луиза Елизавета Орлеанская (1695–1719), дочь регента, жена внука короля Людовика XIV; персонаж романа "Дочь регента".
При де Вертело, Агнесса Жанна, маркиза де (1698–1727) — придворная дама Людовика XV, любовница регента герцога Филиппа Орлеанского, затем герцога Луи Анри Бурбон-Конде (1692–1740), принца французского королевского дома, первого министра в 1723–1726 гг.; в эти годы фактически направляла всю французскую политику; отличалась крайней расточительностью за счет казны; покровительствовала темным финансовым дельцам, но также поэтам и художникам.
Шатору, Мари Анна де Майи-Нелъ, маркиза де ла Турнелъ, герцогиня де (1717–1744) — фаворитка Людовика XV.
Ришелье — см. примеч. к с. 106.
Маршал Саксонский — принц Мориц Саксонский (1696–1750), побочный сын курфюрста Саксонии и короля Польши Августа Сильного; французский полководец и военный теоретик, маршал Франции.
Ловендаль, Ульрик Фредерик Вольдемар, граф де (1700–1755) — французский военачальник, маршал Франции; отличился во время войны за Австрийское наследство (1740–1748).
Шевер, Франсуа де (1695–1769) — французский генерал; участник войны за Австрийское наследство.
… битвы при Фонтенуа и Року… — В сражении при Фонтенуа в Бельгии в 1745 г. французские войска под командованием Морица Саксонского одержали победу над англо-голландско-ганноверскими войсками; этот успех значительно поднял военный престиж Франции.
В сражении при Року в 1746 г. Мориц Саксонский нанес поражение австрийской армии.
… унылая старость, начавшаяся канадскими войнами, Парижским договором, королевской гангреной, захватившей все королевство, и закончившаяся убийствами в Аббатстве, эшафотами на площади Революции и оргиями времен Директории. — Дюма подразумевает назревавший во время царствования Людовика XV, которое длилось с 1715 по 1774 гг., кризис королевского абсолютизма во Франции, приведший к Великой Французской революции 1789–1794 гг. Конкретно он, по-видимому, имеет в виду паразитизм и огромные траты двора и высшего дворянства, разорявшие страну, фаворитизм, некомпетентность и коррупцию (фр. gangrene, употребленное им, имеет и такое значение) в государственном аппарате, королевский произвол, полицейские гонения на свободомыслие, развращенность самого короля и т. д. Кроме того, здесь содержится намек на то, что Людовик XV умер от оспы, заразившись ею во время одного из своих любовных похождений.
Канадские войны — имеются в виду военные действия между французскими и английскими войсками (подкрепленными отрядами американских колонистов) в пограничных районах современных США и Канады во время войны за Австрийское наследство и Семилетней войны (1756–1763). На стороне обеих воюющих армий выступали также союзные им индейские племена. Во время войны за Австрийское наследство боевые операции велись в 1744–1745 гг. и обе стороны удержали свои владения. Во время Семилетней войны боевые действия начались в 1755 г., еще до ее официального начала, и закончились в 1760 г. полным завоеванием англичанами и американцами французских владений в Канаде.
Парижский договор — имеется в виду Парижский мирный договор от 11 февраля 1763 г., заключенный между некоторыми участниками Семилетней войны: Францией и Испанией, с одной стороны, и Англией — с другой. По его условиям Франция уступала Англии Канаду и большую часть своих других владений на североамериканском континенте, некоторые острова, лежащие между Северной и Южной Америкой, часть африканских и почти все индийские владения. Парижский мир означал полное поражение Франции в колониальном соперничестве с Англией и закрепление английского господства на морях.
Аббатство — одна из тюрем Парижа, названная так потому, что ранее она принадлежала старинному монастырю (аббатству) Сен-Жермен-Пре и использовалась для заключения непокорных крестьян из монастырских имений.
В сентябре 1792 г. в Аббатстве, как и в других тюрьмах Парижа, произошли массовые избиения заключенных там аристократов, священников и других противников революции, а также фальшивомонетчиков, спровоцированные угрозой Французской революции со стороны внешнего врага.
Площадь Революции (ныне — Согласия) — называлась при монархии площадью Людовика XV, в 1793–1794 гг. служила местом казней контрреволюционеров, в частности короля Людовика XVI; а также лиц, принадлежавших к различным республиканским группировкам, потерпевшим поражения в политической борьбе. Директория — здесь: режим власти контрреволюционной буржуазии во Франции в 1795–1799 гг… Назван по имени его руководящего органа, состоявшего из пяти лиц, избиравшихся представительными учреждениями страны. Отличался террором против революционных элементов, завоевательными войнами и открытым роскошным образом жизни состоятельных слоев общества, обогатившихся во время Революции.
308 Реставрация — режим восстановленной после падения имерии Наполеона I королевской власти во Франции в 1814–1815 и 1815–1830 гг.; характеризовался возвращением к власти старой аристократии, реакцией и попытками восстановления дореволюционного королевского абсолютизма.
Каво (от фр. caveau — "погребок"; полное название — "Новейший погребок") — сообщество французских поэтов-песенников, получившее такое название потому, что его собрания проходили в парижских кабачках; образовалось в 1805 г. и имело прогрессивное направление; в 20-х гг. XIX в. выпустило несколько сборников произведений своих участников.
Шансонье (от фр. chanson — "песня") — исполнитель и автор песен, ставших во Франции важным элементом общественной жизни. Гуффе, Арман (1775–1845) — французский шансонье и водевилист. Ружмон, Мишель Никола Балиссон, барон де (1781–1840) — французский писатель, романист и драматург.
Рошфор — по-видимому, имеется в виду маркиз Клод Луи Мари де Рошфор Люсе (1790–1871), более известный под именем Армана де Рошфора; французский драматург-водевилист.
Ромъё, Огюст (1800–1855) — французский писатель, автор водевилей и публицист; бонапартист (то есть сторонник потомков Наполеона I Бонапарта).
Потъе, Шарль (1775–1838) — французский драматический актер, играл комические и героические роли, выступал в пьесах Дюма; куплетист; участник войн Французской революции.
Тьерселен (1763–1837) — знаменитый французский актер-комик. Брюне — см. примеч. к с. 9.
"Жокрисс-хозяин и Жокрисс-слуга" — комедия французского литератора, поэта и драматурга-водевилиста Шарля Огюста Севрина (1771–1853). Жокрисс — см. примеч. к с. 9.
Брийа-Саварен, Ансельм (1755–1826) — французский юрист и писатель; известный гастроном, автор кулинарной книги "Физиология вкуса".
Гримо де Ла Ренъер, Лоран (1758–1838) — французский публицист, редактор театральных периодических изданий; писал также по вопросам гастрономии, наиболее известное его сочинение — "Альманах гурманов".
Конде, Луи II де Бурбон, принц (1621–1686) — французский полководец, прозванный современниками Великим Конде; одержал много побед в войнах середины и второй половины XVII в.; персонаж романов Дюма "Двадцать лет спустя" и "Виконт де Бражелон". Ватель — дворецкий принца Луи Конде; в 1671 г. в замке Шантийи заколол себя шпагой, увидев, что не доставлена рыба, заказанная для приглашенного туда Людовика XIV.
Камбасерес, Жан Жак Режи, герцог Пармский (1753–1824) — французский государственный деятель, юрист; участник Великой Французской революции, затем один из ближайших сотрудников Наполеона I, великий канцлер империи; при Реставрации был некоторое время в изгнании.
Эгрефёй, маркиз де (1745–1818) — известный французский гурман. Монье, Анри (1799–1877) — французский писатель, актер и рисовальщик-карикатурист; в своих пьесах осмеивал мещанские нравы. Пуи — сорт белых столовых вин, производимый в центральной части Франции в долине реки Луары.
Божанси — сорт луарских вин, производимых недалеко от Орлеана. Шамбертен — см. примеч. к с. 104.
309 Квартал Одеон — по-видимому, квартал Парижа на южном, левом берегу Сены неподалеку от реки, прилегающий к театральному зданию Одеон (построено в конце XVIII в.), в котором играли различные драматические труппы.
"Фигаро" ("Figaro") — французская консервативная газета; основана в Париже в 1826 г.; получила свое название от имени умного и плутоватого слуги, главного героя трилогии французского писателя Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799): комедий "Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Преступная мать, или Новый Тартюф". "Пандора" ("Pandore") — политическая и литературная газета, находилась в оппозиции к правительству Реставрации; выходила в Париже в 1823–1828 гг.
Названа по имени героини древнегреческой мифологии, женщины, сотворенной богами в наказание людям; Пандора открыла в доме своего мужа сосуд, в котором были заключены все человеческие несчастья, пороки и болезни. В переносном смысле сосуд (ящик) Пандоры — вместилище бед, опасный подарок.
Июльская революция — французская революция, начавшаяся 27 июля 1830 г. в Париже. В результате Июльской революции был свергнут режим Реставрации, покончено с попытками восстановления абсолютной монархии: к власти пришла династия Орлеанов, представлявшая главным образом интересы финансовых кругов. Супрефект — помощник префекта, правительственного чиновника, главы администрации в крупной территориальной единице. Мономотапа — местность в Восточной Африке в бассейне реки Замбези на территории современного Мозамбика. Здесь это название употреблено в смысле "где-то, очень далеко", аналогично русскому "за тридевять земель".
Фаблио (или фабльо; от ст. — фр. fabel — "побасенка") — короткая стихотворная комическая или сатирическая повесть, в большинстве случаев анонимная, получившая распространение во французской средневековой литературе.
310 "Судебная хроника" ("Gazette des Tribuneaux") — французская ежедневная консервативная газета; была основана в Париже в 1825 г.; в ней публиковались протоколы судебных заседаний.
Нёйи — название многих населенных пунктов Франции; здесь, вероятно, имеется в виду Нёйисюр-Сен, городок у западной окраины Парижа.
Омнибус (от лат. omnibus — "для всех") — общедоступный экипаж, совершавший регулярные рейсы. Омнибусы появились во Франции в 20-х гг. XIX в. и затем распространились во всем мире.
… Принц погиб… — Герцог Фердинанд Орлеанский (см. примеч. к с. 214) разбился, выскочив на ходу из коляски, лошади которой понесли.
Сальванди, Нарсис Ашилъ, граф де (1795–1856) — французский писатель и государственный деятель; орлеанист (сторонник династии Орлеанов); министр просвещения в 1837–1839 и 1845–1848 гг. Вильмен, Абель Франсуа (1790–1870) — французский писатель и ученый, историк литературы; сторонник Июльской монархии; министр просвещения в первой половине 40-х гг. XIX в.
Кузен, Виктор (1792–1867) — французский философ-идеалист, профессор Парижского университета; орлеанист; министр просвещения в 1840 г.
311 Февральская революция — см. примеч. к с. 214.
312… вам дадут за него семь франков в Медицинской школе… — т. е. в анатомическом театре.
Медицинская школа — высшее учебное заведение в Париже, основанное в 1768 г. как школа медицины и хирургии на базе старинного коллежа (среднего общего учебного заведения), существовавшего с 1332 г.; помещалась в богато украшенном доме на одноименной улице, рядом с монастырем кордельеров, в котором впоследствии находилась ее клиника.
313 Каликут (Кожикоде) — город и порт в Южной Индии на побережье Аравийского моря.
Гаты (Гхаты) — горы на полуострове Индостан в Индии.
Мыс Коморин — самая южная оконечность полуострова Индостан. Мангалур — город в Индии на берегу Аравийского моря; находится значительно севернее мыса Коморин.
314 Пагода — храм в виде павильона или многоярусной башни в Индии и других странах Юго-Восточной и Восточной Азии.
Васко да Гама (1469–1524) — португальский мореплаватель; проложил путь из Европы вокруг Африки в Юго-Восточную Азию. Миткаль (от перс, "меткал") — суровая тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения; используется в производстве клеенки, дерматина и др.; в результате соответствующей отделки из миткаля делают также ситец и бельевые ткани.
315 Брамин (точнее: брахман) — жрец одной из древнейших индийских религий — брахманизма, а также представитель высшей из каст Индии.
Хинди — один из основных литературных языков Индии, ныне государственный язык этой страны; относится к индоевропейской языковой семье.
Литания (от гр. litaneia — "просьба", "моление") — католическая молитва, которая поется или читается во время торжественных религиозных процессий.
318 Пария — человек, принадлежащий к одной из самых низших каст в Южной Индии, так называемый "неприкасаемый". В переносном смысле — человек бесправный, отверженный.
319 Раджа — княжеский титул в средневековой и современной Индии, царский — в древней.
Шудры — низшая неполноправная каста Индии (так называемые "слуги"): потомки древнейшего населения страны.
Синдик — должностное лицо, ведущее судебные дела какого-либо учреждения.
320 Кардамон — многолетняя трава из семейства имбирных, произрастающая в Южной и Юго-Восточной Азии; используется как пряность.
322 Индуистская религия (индуизм) — одна из самых распространенных и древнейших религиозных систем мира. В ее основе: учение о перевоплощении душ и неизбежности воздаяния за грехи или добро, сотворенные в предыдущей жизни; строгое соблюдение кастовых различий; почитание священных животных и растений, реки Ганга; признание универсальности и всеобщности верховного божества; распространена преимущественно в Индии.
Брахма — один из трех высших богов в индуизме, творец Вселенной и всего сущего.
324 Вишну — благожелательный к людям солнечный бог-охранитель в древнейшей индийской ведической религии; в индуизме один из трех высших богов.
Лакшми Шри — богиня счастья и красоты в индуизме; олицетворение творческой силы Вишну.
Шива — один из трех верховных богов в индуизме, связанный с древнейшим культом плодородия.
Парвати — в индуизме жена Шивы; чтобы завоевать его любовь, прошла множество испытаний.
Сарасвати — богиня одноименной реки на северо-западе Индии; в древнеиндийской мифологии называется женой нескольких богов, в том числе Вишну и Брахмы; покровительница поэзии, пения, красноречия и мудрости; целительница, дающая жизненную силу и бессмертие.
Индра — царь богов и наиболее почитаемое божество в ведической религии, громовержец и владыка "Мира Индры" — атмосферы.
Дерево Кальпа — дерево-гигант, символ плодородия.
Корова Камадеру — по-видимому, Камадхену, большей частью называемая Сурабхи; волшебная корова, исполняющая желания своего владельца.
Птица Гаруда — в древнеиндийской мифологии царь птиц; одно из олицетворений солнца; изображалась как фантастическое существо с туловищем человека и с головой, крыльями и когтями орла. Восемь великих богов Индии — так называемая "васу", группа богов в индуистском пантеоне; в разных мифах имена их различны.
325 Маргарита Антиохийская (иногда называется Мариной; III в. н. э.) — мученица, христианская святая; в XX в., признав ее существование недостоверным, католическая церковь вычеркнула ее имя из своего списка святых.
326… в Писании сказано: "Ищите, и найдете". — Имеется в виду наставление в Нагорной проповеди Иисуса (Матфей, 7:7).
Тринкомали (Тирикунамалая) — город и порт на восточном берегу острова Шри-Ланка (Цейлона).
Батавия (ныне Джакарта — столица Индонезии) — голландская крепость на северо-западном берегу острова Ява; основана в начале XVII в. на месте разрушенного колонизаторами индонезийского города Джаякерта (Сундакелопа); морской порт.
… я подобна Магомету, и если гора не идет ко мне, я сама к ней иду. — Измененная поговорка: "Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе". Распространенное выражение, по-видимому восточное; о его происхождении известно большое количество преданий. Магомет (Магомед) — частое в европейской литературе написание имени пророка Мухаммеда (ок. 570–632), основателя религии ислама, в 630–631 гг. главы первого исламского государства в Аравии.
328 Улисс (или Одиссей) — в древнегреческой мифологии и эпической поэме "Илиаде" Гомера один из храбрейших героев Греции, осаждавших Трою; мудрый и хитрый советчик; его десятилетние скитания при возвращении домой стали сюжетом поэмы Гомера "Одиссея", название которой стало нарицательным как наименование долгого, полного приключений путешествия.
Ачем — город на северо-востоке индонезийского острова Суматра.
329 Твиндек — межпалубное пространство на многопалубных торговых судах.
330 Джонка — китайское двух- или трехмачтовое судно с парусами из циновок (по одному на мачте); может ходить и на веслах.
… дал залп по адресу подданных великого императора. — То есть китайцев; Китай до начала XX в. был монархией, главу которой европейцы называли императором.
Левиафан — в Библии большое морское животное; в европейских и средневековых преданиях — демоническое чудовище.
Макао (Аомынь) — с 1680 г. португальская колония на побережье Южно-Китайского моря.
Фалреп — см. примеч. к с. 260.
332… взяли на гитовы все паруса… — Гитовы — снасти, служащие при уборке прямых парусов для подтягивания к реям их нижних углов; "взять на гитовы" — подтянуть углы паруса вверх, уменьшить его площадь и тем ослабить давление ветра.
Манила — город и порт на острове Лусон; ныне фактическая столица Филиппин, до конца XIX в. испанской колонии.
Корреспондент — здесь: лицо или фирма, выполняющие чьи-либо коммерческие поручения в другом городе, в другой стране. Малаккский пролив — находится в Юго-Восточной Азии между полуостровом Малакка и островом Суматра; путь из морей Индийского океана в Тихий.
Острова Анамбас — небольшой архипелаг в Южно-Китайском море на пути от Малаккского пролива на Филиппины; в настоящее время принадлежат Индонезии.
Коррехидор — небольшой остров из группы Филиппинских; находится при входе в Манильскую бухту на острове Лусон.
Пасиг — небольшая река на острове Лусон, в устье которой находится Манила.
333 Безоар — арабское название одного из натуральных веществ, образующихся во внутренних органах различных животных; на Востоке считалось сильнодействующим лекарственным средством.
Голконда — в XVI–XVII вв. государство в Индии на плоскогорье Декан; его столица (того же названия) славилась обработкой алмазов, которые, однако, добывались в других местах.
Росный ладан — ароматическая смола, добываемая из некоторых видов деревьев, растущих в Восточной Азии; употребляется в медицине, парфюмерии и в качестве ароматического вещества для воскурения во время религиозных церемоний.
Мускус — пахучий продукт животного или растительного происхождения, используемый в парфюмерной промышленности; здесь, по-видимому, имеется в виду растительный мускус из корня дягиля, семян гибискуса и некоторых других растений.
Ликейские острова (Лиу-Киу, или Рюкю) — несколько групп островов в западной части Тихого океана.
Тагалы (самоназвание — тагалог) — народ, живущий на Филиппинах, главным образом на острове Лусон.
Кастильцы — жители исторической области Кастилия в центральной части Испании; в XI–XV вв. — королевства.
Дон Кихот Ламанчский — обедневший дворянин, вообразивший себя странствующим рыцарем, главный герой знаменитого романа (см. примеч. к с. 226), человек, чье стремление к справедливости и жажда подвигов приходят в непримиримое противоречие с действительностью; этот образ приобрел нарицательное значение.
334 Креолы — потомки первых европейских колонизаторов в Латинской Америке, преимущественно испанцев-аристократов; здесь Дюма распространяет это название на испанское население Филиппин. Прао (прау) — в древности общее малайское название судов Индонезии; позднее — небольшое одно- или двухмачтовое судно, открытое или с помещением на корме; употребляется для рыболовства и торговли.
Корвет — здесь: небольшой парусный военный корабль, употреблявшийся для разведки, посыльной службы и крейсерских операций. Мальгаши — название коренного населения острова Мадагаскар. Колен — имя молодого влюбленного поселянина во многих французских комедиях и комических операх XVIII–XIX вв.
335 Карбункул — старинное название густо-красных драгоценных камней (рубина, граната и др.).
336 Страз — сорт стекла для имитации драгоценных камней; здесь: фальшивый бриллиант.
Упас — здесь: растительный яд, добываемый из различных растений, произрастающих на островах Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. Туземцами Явы использовался для отравления боевого и охотничьего оружия.
Минданао — остров на юге Филиппинского архипелага.
338 Идальго — испанский рыцарь, мелкопоместный дворянин.
339 Боа — большая неядовитая змея, удав; водится в тропических странах.
341 Тореро (тореадор) — участник боя быков.
347 Кохинхина — название в европейской литературе Южного Вьетнама (во время французского колониального господства); вьетнамское название — Намбо.
348 Мандарин — европейское название крупного чиновника в феодальном Китае.
351 Кавите — город на берегу Манильской бухты неподалеку от Манилы.
352 Сиам — старое официальное название государства Таиланд. Английская компания — имеется в виду английская Ост-Индская компания, основанная в 1600 г. и получившая от правительства монопольное право на торговлю со всеми странами Индийского и Тихого океана. Помимо многочисленных опорных пунктов в районах своих операций, Компания имела собственную армию и флот и из коммерческой превратилась к середине XVIII в. в силу военную; захватила обширные территории, активно участвовала в колониальных войнах Англии и была главной силой завоевания англичанами Индии. Ост-Индская компания была ликвидирована в 1858 г.
353… я напоминаю себе… персонажа французской комедии… — Имеется в виду учитель пения дон Базиль, герой комедий Бомарше "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро"; указанный здесь эпизод содержится в третьем действии первой из них, явление одиннадцатое.
356 Бобы святого Игнатия — плоды ядовитого дерева, содержащие стрихнин.
358 Бонза — европейское название буддийских священнослужителей в Японии.
361 Святой Симон и святой Иуда — имеются в виду апостолы Симон и Иуда, "братья Господа во плоти", дети мужа Богоматери, Иосифа Обручника, от первого брака.
363 Мыс Финистерре — северо-западная оконечность Пиренейского полуострова.
Шербур — город и порт в Северо-Западной Франции на полуострове Нормандия.
Огненный остров
Роман "Огненный остров" ("1Л1е de feu"), так же как и "Женитьбы папаши Олифуса", отражает интерес к Юго-Восточной Азии, который возник у Дюма под влиянием книг о Яве, принадлежащих перу Жозефа Мери (см. примеч. к с. 225).
Впервые роман опубликован под названием "Доктор с Явы" ("Le medecin de Java") в Брюсселе в 1859 г. Настоящее заглавие впервые использовано в издании: Paris, Cadot, 1869.
Время его действия — ноябрь 1847 г. — май 1849 г.
Перевод, выполненный по изданию Calmann-Levy, сверен с оригиналом Г.Адлером. На русском языке роман издается впервые.
369 Муссоны — ветры, периодически изменяющие свое направление в зависимости от времени года: зимой дуют с материков на океаны, летом — в обратном направлении.
Рейд — часть водного пространства перед морской гаванью; служит местом для якорной стоянки судов.
Банка — отмель, часть морского дна, над которой глубина значительно меньше окружающей.
Рифы — ряд подводных или слабо выдающихся над уровнем моря скал, препятствующих судоходству.
Кампонг (кампунг) — в Юго-Восточной Азии название городского квартала или деревни, населенных китайцами и сохраняющих структуру селения Южного Китая.
Мангровые заросли — прибрежная растительность мелководных илистых заливов в тропиках и субтропиках; состоит из деревьев и кустарников, которые дают многочисленные воздушные корни, врастающие в ил и образующие как бы подпорки.
Бечевник (от "бечевы", каната, при помощи которого тянут суда) — прибрежная полоса суши, обнажающаяся в низкую воду.
370 Фактория — здесь: торговая контора в колонии или отдаленном районе страны.
372 Сапфир — драгоценный камень синего или лазоревого цвета.
Фризка — женщина из народности фризов (см. примеч. к с. 228). Зондские острова — группа островов Малайского (Индонезийского) архипелага в Юго-Восточной Азии; до середины XX в. находились в составе колониальных владений Голландии, ныне принадлежат республике Индонезия. Остров Ява, на котором развертывается действие романа, входит в группу Больших Зондских островов. 376 "Калькуттская газета" — английская газета, издававшаяся в Бенгалии с 1784 г.; официальный орган английского правительства в Индии.
Харлем (Гарлем) — город в Нидерландах, знаменитый своими текстильными фабриками.
380 Сатиры — в древнегреческой мифологии низшие лесные божества, духи плодородия; изображались с козлиными или лошадиными ногами, хвостами и рожками.
381 Тик — плотная ткань с продольными широкими пестроткаными или печатными цветными полосами; вырабатывается из льняной или хлопчатобумажной пряжи; используется для матрацев, мебельных чехлов, занавесей и т. п.
Мадрас — хлопчатобумажная ткань с цветными и белыми полосами; используется для платьев, шалей, косынок.
384 Схидам — джин, голландская можжевеловая водка, получившая название по месту своего производства — городку Схидам в Нидерландах.
Констанс — высококлассное вино из винограда, произрастающего в местности Констанс в Южной Африке; другое название — капское вино, от имени английских южноафриканских владений — Капской колонии.
Джаггернаут (Джаганнатх) — воплощение одного из божеств религии индуизма — Вишну. Культ Джаггернаута отличался чрезвычайной пышностью ритуала, а также крайним религиозным фанатизмом, проявлявшимся в самоистязаниях и самоубийствах верующих.
Ласкар — индийский моряк.
… спускались по священной реке. — То есть по крупнейшей реке Индии Ганг, которая считается священной и играет важную роль в индийской мифологии.
385 Доктор Фауст — см. примеч. к с. 139.
387 "Ночной дозор" — полотно великого голландского художника Рембрандта (см. примеч. к с. 231): групповой портрет офицеров амстердамской гильдии стрелков; создано в 1642 г. Написанная в духе свободной композиции, картина была отвергнута заказчиками; ныне находится в Государственном музее в Амстердаме.
… Фу, как говорил Гамлет. — С этим словом Гамлет кладет на землю череп покойника (V, 1).
Тициан — см. примеч. к с. 231.
Рубенс, Питер Пауэл (1577–1640) — фламандский художник, портретист и автор картин на религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты.
388 Метрические книги — предназначаются для регистрации актов гражданского состояния, записи браков, рождения и смертей.
A parte ("В сторону" — ит.) — ремарка в тексте пьесы, указывающая на то, что произносимые слова условно не должны быть услышаны другими действующими лицами данной сцены.
389 Сироп Фаулера (или Фаулеров раствор) — раствор мышьяка и калия арсенита; лекарственный препарат, предложенный в 1786 г. английским врачом Фаулером. Применяется внутрь в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства при некоторых формах малокровия, истощении, нервных и других заболеваниях.
Пандора — см. примеч. к с. 309.
Туберкул — туберкулезный очаг в организме.
Каверна (лат. caverna — "пещера") — полость, возникающая в органах тела при разрушении и омертвении тканей в результате какой-либо болезни, в том числе и туберкулеза.
393 Крис — колющий малайский кинжал с волнистым клинком.
Кураре — яд, смесь сгущенных экстрактов нескольких ядовитых растений; при попадании в кровь вызывает расслабление и паралич мышц; в течение многих веков использовался туземцами Южной Америки в качестве яда для стрел.
397 Бёйтензорг — в 1745–1948 гг. название современного Богора, города в Индонезии на острове Ява неподалеку от Батавии; с 1745 г. — резиденция голландского генерал-губернатора Явы.
… откуда ни один странник еще не возвращался… — Доктор перефразирует здесь слова монолога Гамлета (III, 1).
Гурии — в мусульманской мифологии вечно юные красавицы, услаждающие праведников в раю.
Елисейские поля (также Элизиум, Элизий, Элисей) — в древнегреческой мифологии поля блаженных, красивая долина на Крайнем Западе земли, местопребывание праведников после смерти. Алкестида — в древнегреческой мифологии и античных трагедиях жена Адмета, царя города Фер в Фессалии, добровольно отдавшая свою жизнь ради спасения мужа от гибели. Однако величайший из героев Геракл (Геркулес), восхищенный ее любовью и супружеской верностью, вырвал Алкестиду из рук бога смерти и возвратил ее мужу.
400 Люцифер ("Светоносец") — одно из имен дьявола в раннехристианской литературе.
… это не пахнет серой… — В средневековых поверьях запах серы считался одним из признаков присутствия дьявола.
Гербовый лист — специальный бланк с изображением государственного герба для составления коммерческих и гражданско-правовых документов; путем их продажи государство собирает специальную пошлину (гербовый сбор) с отдельных лиц и организаций за оформление соответствующих документов.
402… уколол Эусеба в срединную вену. — По-видимому, речь идет о сре динной вене предплечья (или локтевой), расположенной с внутренней стороны сгиба локтя.
411 Делфт — см. примеч. к с. 233.
Доу, Герард (или Геррит; 1613–1675) — голландский художник, жанрист и портретист; учитель Мириса.
Мирис, Франс ван (1635–1675) — голландский художник-жанрист; писал небольшие красочные картины со сценами из жизни богатых горожан.
Саржа — хлопчатобумажная или шелковая ткань с мелким диагональным переплетением нитей; употребляется главным образом на подкладку.
Букс (или самшит) — вечнозеленый декоративный кустарник.
415 Бельведер — вышка, надстройка на крыше здания, или беседка на возвышении.
416 Венера (древнегреческая Афродита) — богиня любви и красоты в античной мифологии.
417 Фисташковое дерево — род древовидных или кустарниковых растений; возделываются ради употребляемых в пищу орехов и смолы — сырья для лакокрасочной промышленности.
Камфарное дерево (или камфарный лавр) — вечнозеленое лавролистное дерево, содержащее в древесине камфарное масло; распространено на Дальнем Востоке.
418 Гермафродит — в древнегреческой мифологии сын вестника верховного бога Зевса Гермеса и Афродиты, юноша необыкновенной красоты; по просьбе нимфы Салмакиды, любовь которой Гермафродит отверг, он был слит с нею богами в одно существо. В переносном смысле гермафродит — двуполое животное или растение.
Теогония (от гр. theos — "бог" и goneia — "рождение") — представления, мифы о происхождении богов и вселеной.
Этруски — древние италийские племена, населявшие в I тысячелетии до н. э. северо-запад Апениннского полуострова и создавшие свою самобытную и развитую цивилизацию. В V–III вв. до н. э. были покорены римлянами.
Визапур (Биджапур) — город в Индии, недалеко от Бомбея.
420 Дату — у различных народов Юго-Восточной Азии местный старейшина, правитель, знахарь; на Филиппинских островах — феодал. Здесь — предводитель пиратов.
Прао — см. примеч. к с. 334.
Ют — часть верхней палубы на корабле у его кормы.
Руслени — площадки на верхней палубе корабля с внешней стороны борта; служат для крепления снастей.
Шестифунтовые пушки — небольшие орудия, калибр которых (как и всей артиллерии до последних десятилетий XIX в.) определялся весом чугунного ядра, размер которого равен по диаметру каналу ствола.
422 Карронада — короткоствольное морское орудие, применявшееся в ближнем бою. Карронады начали производиться в 1779 г. на заводе Каррон в Шотландии, от которого и получили свое название. Ахтерштевень — часть каркаса корабля, поддерживающая корму; является продолжением киля; в парусном флоте изготовлялся из нескольких деревянных балок и назывался старн-постом.
Ротанг (ротан) — род ползучих пальм, стебли которых употребляются для различных поделок.
Румпель — рукоятка руля шлюпки или небольшого парусного судна. Муслин — см. примеч. к с. 136.
423 Бетель — см. примеч. к с. 283.
424 Стационер — цитадель (наиболее укрепленная часть) Батавии, резиденция генерал-губернатора голландских владений в Индонезии.
425 Заемное письмо — документ, служащий доказательством произведенного займа.
… Дурак Шейлок просил всего два фунта плоти… — См. примеч. к с. 60.
426 Ариман — греческое наименование Анхра-Майнью, бога, олицетворяющего злое начало в древнеперсидской религии.
… Тифоном египтян… — В классической древнегреческой мифологии Тифон — сын Тартара (преисподней) и Геи (земли), чудовище с сотней драконьих голов, изрыгающих пламя, с человеческим телом и со змеями вместо ног; вечный враг богов-олимпийцев, олицетворение подземных сил и вулканического огня. В более поздних мифах боги были побеждены Тифоном и бежали от него в Египет. Накануне нашей эры греки отождествляли Тифона с Сетом, древнеегипетским божеством смерти и бедствий.
Пифон (Питон) — в древнегреческой мифологии чудовищный змей, порождение Геи; был убит богом Аполлоном.
Сатана Мильтона — см. примеч. к с. 138.
Мефистофель — см. примеч. к с. 139.
Змей Висконти — геральдический (гербовый) знак: чудовищная змея, пожирающая человека.
Висконти — старинный итальянский аристократический род; известен с XI в.
Тамплиеры (или храмовники, рыцари Храма — от фр. Temple — "храм") — военно-монашеский орден, основанный французскими крестоносцами в Палестине в 1118 или в 1119 г. Получил свое название от храма Соломона в Иерусалиме, близ места которого находилась орденская резиденция. Целью ордена была борьба с мусульманами; устав его был очень строг: рыцари приносили обеты послушания, бедности, целомудрия и т. д. И вместе с тем орденом были собраны огромные богатства, он занимался ростовщичеством, а его члены были известны своим беспутством и занятиями восточной магией. В XIII в. после изгнания крестоносцев с Востока орден переместился в Европу, где в начале XIV в. был разгромлен французским королем Филиппом IV Красивым, стремившимся захватить его богатства. Однако тайная организация тамплиеров существовала еще очень долгов время, предположительно даже в XX в. Поводом для преследований тамплиеров были их склонность к еретическим учениям и занятия колдовством. В число обвинений входило якобы общение с неким таинственным существом по имени Бафомет. На суде каждый рыцарь описывал Бафомета по-своему: одни — как демона, другие как чудовище, третьи — как бога. Грауилли (или Граули) — изображение чудовищного животного, которое носили в средние века в городе Мец во Франции во время религиозных процессий, сопровождавших молебствия об урожае. Тараска — в мифологии и фольклоре Южной Франции ужасное чудовище (полузверь-полурыба), обитавшее в лесу близ реки Роны и пожиравшее путников и моряков с проплывавших мимо судов. По преданию, его усмирила святая Марта при помощи знака креста и святой воды. Изображения Тараски до настоящего времени фигурируют в местных карнавальных процессиях.
… средневековой химерой… — Здесь, по-видимому, имеются в виду фантастические существа и чудовища, изображения которых украшали в средние века европейские здания.
Vide pedes, vide caput ("Посмотри ноги, посмотри голову") — намек на евангельский эпизод. Когда апостол Фома отказался верить в воскресение Иисуса, Христос явился к ученикам и сказал Фоме: "Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим" (Иоанн, 20:27). Кабалистика — см. примеч. к с. 219.
428 Бризы — см. примеч. к с. 263.
Площадь Вельтевреде (правильно — Вельтевреден) — располагалась, по-видимому, в жилом европейском квартале Батавии Вельтевреден, строительство которого было предпринято в начале XIX в. Роксолана (ок. 1505 — ок. 1558/1561) — любимая жена турецкого султана Сулеймана (Солимана) I Кануни (Законодателя, или Великолепного; 1494–1566; правил с 1520 г.); по некоторым сведениям происходила из России; пользовалась неограниченным влиянием на своего мужа и совершила много преступлений.
Тамбурмажор — старшина команды полковых барабанщиков в европейских армиях XVII–XIX вв.; как правило, подбирался из унтер-офицеров высокого роста.
430 Меестер Корнелис — квартал увеселительных заведений; возможно, был назван в честь погибшего в 1599 г. голландского торговца Корнелиса де Хутмана; современное название — Джатинегара. Меестер (гол. meester) — господин, хозяин.
Площадь Ваянг-Чайна — т. е. китайская площадь Ваянг (от англ. China — Китай).
Ваянг — старинный театр кукол в китайских кварталах городов Индонезии.
Небесная (Поднебесная) империя — старинное название китайского государства.
433 Квинт Гораций Флакк (65-8 до н. э.) — древнеримский поэт.
434… когда валлонские провинции были французским департаментом. — Речь идет о южной части территории современной Бельгии, населенной валлонами, народностью, говорящей на французском языке.
Бельгия, оккупированная французской армией в 1794 г., до крушения в 1814 г. наполеоновской империи входила в состав Франции. Департамент — см. примеч. к с. 8.
Эпикуреец — последователь древнегреческого философа-материа-листа Эпикура (341–270 до н. э.), учившего, что целью философии является обеспечение безмятежности духа, свободы от страха перед смертью и явлениями природы. В переносном смысле эпикуреец — человек, выше всего ставящий личные удовольствия и чувственные наслаждения.
435 Янус — древнеримское божество начала и конца всякого дела, дверей и ворот, входов и выходов; изображался двуликим, одно из его лиц было обращено вперед, другое — назад. Согласно поверьям римлян, двери его храма должны были закрываться только во время мира. От имени Януса происходит название месяца январь.
Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — первый римский император (с 27 г. до н. э.; до этого носил имя Гай Юлий Цезарь Октавиан).
436… бриллиант Великий Могол. — Имеется в виду драгоценный камень, считавшийся в XIX в. одним из красивейших и крупнейших в мире; после обработки имел вес 279 каратов — несколько больше 57 г.; был найден в XVII в. в Индии, украден у владельца и подарен правителю Дели в 1627–1658 гг. Великому Моголу Шах-Джехану (ум. в 1666 г.) — этим и объясняется его название. Предполагают, что еще два известных бриллианта являются отколотыми частями этого камня, который первоначально весил около 800 каратов. Великий Могол — титул, данный европейцами властителям образовавшегося в начале XVI в. мусульманского государства в Северной Индии.
440 Эскулап (греческий Асклепий) — бог врачевания в античной мифологии.
Cardius benedictus ("чертополох благодатный") — целебный чертополох, считавшийся в средние века хорошим средством при сердечных заболеваниях.
442 Индиго — род многолетних трав или полукустарников; распространен в тропических и субтропических странах; культивируется для изготовления синей краски того же названия.
443 Набоб (наваб) — титул индийских князей; в Англии и во Франции в XVIII в. так называли людей, разбогатевших в колониях; в переносном смысле — богач.
447… взял каюту на трехмачтовом корабле "Рюйтер"… — Корабль назван в честь голландского адмирала Михаила Адриана Рюйтера (Рейтера; 1607–1676), известного своими победами над английским флотом и сыгравшего большую роль в развитии военно-морского искусства.
… Дрейфуя на якорях… — См. примеч. к с. 262.
448 Консигнатор — морской агент, который представляет интересы судовладельца и помогает судну во время его пребывания в порту. Бимс — балка, поддерживающая палубу корабля и служащая связью между его ребрами — шпангоутами.
Фок-мачта — см. примеч. к с. 262.
Кабельтов — мера длины на море, десятая часть морской мили — 185,2 м.
450 Порты (от англ, port-hole) — герметически закрывающиеся вырезы в борту корабля; на пассажирских судах служат для прохода пассажиров и погрузки товаров на нижние палубы, на парусных военных — амбразурами для стволов орудий.
Такелаж — снасти корабля, служащие для крепления мачт и реев корабля и управления парусами.
451 Гронингенская дорога — названа, по-видимому, в честь города Гронинген в северо-восточной части Нидерландов.
452… поможет нам заслужить место одесную Господа. — То есть заслужить прощение своим грехам. Согласно христианскому учению о Страшном суде, когда явившийся вторично Иисус будет судить дела и мысли людей, праведные станут одесную (по правую руку) его, а грешники — по левую.
456 Чиливунг — река, на которой стоит Батавия.
457 Саронг — род юбки из сшитого полотнища; традиционная одежда индонезийцев и малайцев.
Батара-Армара — вероятно, здесь какая-то опечатка или неточность Дюма. Батара — главное божество яванцев, иногда отождествляемое с Буддой или Шивой индуистов. Под именем Армара, возможно, имеется в виду бог Луны Арма.
Будда ("Просветленный") — имя, данное основателю буддизма Сидцхартхе Гаутаме (623–544 до н. э.).
… с начала луны. — То есть с новолуния данного месяца.
458… сохранил веру отцов… — т. е. приверженность буддизму, который появился в Индонезии в первые века нашей эры, однако с XVI в. стал вытесняться исламом.
459 Гарциния — иначе мангустан, вечнозеленое дерево; разводится по всей тропической Азии и дает вкусные плоды.
463… позор тому, кто дурно об этом подумает… — Метр Маес пересказывает девиз высшего английского ордена Подвязки, учрежденного в 1350 г.
464 Сантим — мелкая французская монета, сотая часть франка. Однако скорее всего здесь имеется в виду голландский цент — сотая часть гульдена.
465… отложившего подобно Горацию на завтра свои дела… — Намек на известное выражение Горация (Оды, I, 11) "Сагре diem" — "Лови день" (точнее: "хватай день"); смысл его — надо пользоваться быстро проходящей жизнью. Подобные мысли встречаются у Горация также в других одах, сатирах и трактате "Наука поэзии".
466… извивались в судорогах не хуже наших одержимых диакона Париса. — Франсуа де Парис (1690–1727) — французский священнослужитель и богослов, янсенист; на его могиле на одном из кладбищ Парижа собирались его поклонники-фанатики и, уверяя, что там совершаются чудеса, впадали в экстаз и бились в конвульсиях. Янсенисты — сторонники голландского католического богослова Корнелия Янсена (Янсения, Янсениуса; 1585–1638), воспринявшего некоторые идеи протестантизма. Во Франции его учение преследовалось властями и церковью.
Диакон (дьякон) — священнослужитель низшей ступени священства, помогающий при богослужении, но не имеющий права совершать его самостоятельно. Первоначально диаконы заведовали также хозяйственными и организационными делами христианских общин, в средние века в Европе обратились в помощников епископов по управлению епархиями. В католической церкви они удержали эти функции до нового времени.
468 Тагалы — здесь, по-видимому, жители провинции Тагал на севере острова Ява.
Тамбурин — большой цилиндрический двухсторонний барабан или музыкальный инструмент типа бубна.
469 Модуляция — смена тональности в музыке.
Генерал-бас — здесь: басовый голос музыкального инструмента, на основе которого строится аккомпанемент; тип музыкального сопровождения.
Опал — здесь, по-видимому, благородный опал, драгоценный камень; может быть различного цвета — желтого, бурого и др.
Топаз — драгоценный камень; может быть бесцветным, а также иметь цвета: желтый разных оттенков, голубой и розово-фиолетовый.
472 Парсы (иначе гебры) — в Индии и Иране члены общины приверженцев религии зороастризма, распространенной в древности и в средние века в странах Ближнего и Среднего Востока; главную роль в ритуалах зороастризма играет огонь.
… во время завоевания их страны халифами… — Халиф (калиф) — в мусульманских странах правитель, соединяющий в своих руках духовную и светскую власть.
Здесь речь идет о начавшихся в XI в. вторжениях в Северную Индию мусульманских владетелей сопредельных стран, завоеваниях ими ряда индийских земель и создании там в 1206 г. первого самостоятельного исламского государства — Делийского султаната.
… древнее соперничества асуров и дева. — Имеются в виду божества ведийской, индуистской, древнеиранской и некоторых других религий Востока. В индийской мифологии демоны асуры противостоят богам — дева.
473 Гигес (716–678 до н. э.) — царь Лидии, государства в Малой Азии; добился престола в результате дворцового переворота, совершенного, по преданию, с помощью волшебного перстня-невидимки. Соти (фр. — sotie, от sot — "глупый") — жанр комедийно-сатирической пьесы французского средневекового театра; героями сотй обычно являлись глупцы.
474 Рангуна — малайское название танцовщицы.
Кули (на Яве — "гогол") — индонезийский крестьянин, владеющий полем и домом с земельным участком.
475 Туан — господин, хозяин; почтительное обращение на Яве; европейцами иногда воспринималось как феодальный титул.
… спасение сойдет с горы Субминг… — Субминг — гора на юго-востоке Явы, называемая моряками "Два брата", так как имеет несколько вершин; считалась священной.
Сахиб (саиб, сагиб) — первоначальное название всех мусульман на Востоке; в средневековой Индии — обращение к крупным феодалам в значении "господин"; позднее — почтительное обращение индийцев к европейцам.
476 Бедайя — на Яве девущка-танцовщица аристократического происхождения, исполняющая одноименный старинный придворный танец.
478 Бабуши — восточные туфли без задников.
Плутос — бог богатства в древнегреческой мифологии.
Тога — длинная белая накидка, верхняя одежда граждан Древнего Рима.
479 Бантам (или Бантем) — до захвата острова голландцами султанат на Западной Яве; существовал в XVI–XIX вв.
Сусухунан ("тот, кому все подвластны") — титул феодального государя на Яве; был равен титулу султана.
480 Даяки (или дайаки) — название малайского племени, живущего на индонезийском острове Борнео.
481 Адипати — туземный губернатор области на Яве, подчинявшийся непосредственно правительству колонии, а также наследственный феодальный титул.
482 Будуар — небольшая гостиная богатой женщины для приема близких знакомых.
Голотурии (морские огурцы) — беспозвоночные морские животные; высушенные, употребляются в Китае в пищу.
484… Пить, не испытывая жажды, и предаваться любви во всякое вре мя… единственные способности, отличающие человека от скотины. — Маес повторяет здесь реплику пьяницы-садовника Антонио из комедии Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро (II, 21).
486… мадрасские пиастры… — По-видимому, имеется в виду старинная индийская монета рупия, которая с 1677 г. стала чеканиться также и английскими колонизаторами. Серебряные рупии, чеканившиеся в городе Мадрасе на юго-востоке Индии, одном из колониальных центров, и несколько отличавшиеся от других монет того же названия по содержанию в них серебра, стали с 1635 г. валютой всех английских владений в этой стране. Индийские рупии имели также хождение в других колониях европейских государств в Азии и Африке.
488 Бупати — в Индонезии правитель, пользовавшийся доходами с управляемой им области и обязанный за это платить дань и предоставлять верховной власти военную силу, а также вассальный князь — держатель пожалованного ему владения.
489 Лебак — яванское название болота.
Бистр — краска коричневого цвета.
492 Имам — здесь, по-видимому, главный мулла в мечети, высший местный авторитет в религиозных вопросах.
493… вино налито и надо выпить его! — Перефразированная французская пословица "Вино откупорено, его надо выпить"; смысл ее: начатое дело надо доводить до конца.
Амфитрион — в древнегреческой мифологии и античных трагедиях царь города Тиринфа, приемный отец Геракла; благодаря трактовке образа Мольером, имя этого Амфитриона стало синонимом гостеприимного хлебосольного хозяина.
494 Китайский болванчик — восточная статуэтка с непропорционально большой головой.
498… затянул свою вакхическую песнь… — Название происходит от имени Вакха (Бахуса, древнегреческого Диониса) — бога виноделия и вина в античной мифологии; празднества в его честь обычно сопровождались разгулом и пьянством.
Джинны — многоликие духи огня в мифологии и фольклоре мусульманских народов.
499 Малатти — индонезийская разновидность жасмина.
502… Бохун-упас приносит смерть. — Бохун-упас (или просто упас) —
дерево из семейства тутовых, произрастающее в тропических частях Азии и Африки; более известно под названием "анчар". Распространенное в XIX в. и нашедшее отражение в поэзии мнение о губительности испарений и прикосновения к анчару — неверно. Однако сок одного из азиатских видов бохун-упаса может вызывать нарывы на коже и в старину использовался туземцами для отравления стрел.
503 Сарабанда — старинный испанский народный танец, исполняемый в очень быстром темпе; в XVII в. на его основе во Франции был создан парный бальный танец, исполнявшийся в величественной манере.
504 Макиавелли, Никколо (1469–1527) — итальянский политический деятель и писатель; считал возможным применение любых средств ради блага государства, поэтому его имя стало нарицательным для политика, пренебрегающего нормами морали.
Кризис 1811 года — имеется в виду нападение английского флота на Яву в августе этого года. Местные султаны не оказали поддержки голландскому генерал-губернатору, и в сентябре 1811 г. он капитулировал, сдав англичанам все колониальные владения Голландии, которая была в те годы включена в империю Наполеона.
Вильгельм /(1772–1843) — принц Оранский-Нассауский, великий герцог Люксембурга, король Нидерландов в 1815–1840 гг.
507 Паджаджаран — феодальное государство на Яве; до конца XVI в. сохраняло приверженность к доисламской культуре; в начале XVII в. было разгромлено соседними княжествами.
508… знаменитого китайского восстания… — Речь идет о восстании китайцев в Индонезии в 1740–1743 гг. В конце 30-х гг. XVIII в. власти Ост-Индской компании, обеспокоенные большим количеством иммигрантов из Китая и их торговой конкуренцией, начали преследование китайцев. Эти гонения вылились в 1740 г. в кровавый погром в Батавии. Ответом было восстание, к которому стало присоединяться и коренное население. Эти выступления были с трудом подавлены Компанией с помощью местных феодалов только к 1743 г. Черибон (Чиребон) — провинция на северном берегу острова Ява.
509 Тиковое дерево (тековое дерево, тик) — произрастает в лесах Южной Азии; разводится ради ценной поделочной древесины. Ликвидамбары — высокие лиственные деревья, кора которых при повреждении выделяет ароматический бальзам — стиракс.
Даммар (даммара) — хвойное смолистое дерево.
Арековая пальма — культивируется в тропических странах ради семян, употребляемых для изготовления жевательной массы. Равенала — см. примеч. к с. 270.
Камедные деревья — деревья, выделяющие при повреждениях коры или при некоторых заболеваниях камедь (гумми) — густой сок, который используется в промышленности и медицине.
510… образцы мадрепор… — т. е. низших морских животных класса кораллов.
Наргиле — сходный с кальяном восточный прибор для курения, в котором табачный дым при помощи мягкой трубки пропускается через сосуд с ароматической водой.
512 Гардения — кустарник с белыми сильно пахнущими цветами; произрастает в Южной Азии и Африке; в Европе культивируется в оранжереях как декоративное растение.
517 Шербет — на Востоке прохладительный напиток из сока фруктов и сахара.
526 Пандемониум (пандемоний) — в поэме Мильтона "Потерянный и возвращенный рай" название столицы ада; в средневековой магии — местопребывание демонов; в переносном смысле — сборище дурных людей, вместилище зла.
Оккультные науки (от лат. occultus — "тайный", "сокровенный") — общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, познание которых доступно лишь "посвященным".
Литания — см. примеч. к с. 315.
… подобно тому деревенскому учителю, что таким же образом отвечал на отчаянные призывы тонущего ребенка. — Имеется в виду басня Лафонтена (см. примеч. к с. 106) "Учитель и ученик", высмеивающая болтунов. В ней учитель, вместо того чтобы спасать тонущего мальчика, читает ему нравоучение.
528… спартанской самоотверженностью… — См. примеч. к с. 41.
535 Камка — шелковая цветная ткань с узорами.
536… Около 1400года Мулана-Ибрагим, знаменитый арабский шейх… — По-видимому, здесь отождествляются два проповедника ислама в Индонезии, носившие одинаковые имена. Арабский шейх Мулана-Ибрагим (ум. в 1334 г.) основал центр ислама в Диза-Леране на восточной Яве в 1300 г.; Мулана из Черибона, местный уроженец, проповедовал ислам на западе Явы в 1400 г.
Шейх — здесь: представитель высшего мусульманского духовенства, богослов и правовед.
… воспользоваться способами, восхваляемыми Пророком… — т. е. распространять ислам силой оружия, как советовал основатель этой религии пророк Мухаммед.
538 Маджапахит — государство с центром на острове Ява, со столицей того же названия. Образовалось в 1293 г. после отражения нападения войск монгольских императоров Китая и было самым крупным в истории Индонезии. Власть его королей простиралась и на другие индонезийские острова. В 1527 г. Маджапахит был разгромлен союзом мусульманских султанов северного берега Явы.
539 Брамханан (точнее: Брамбанан, или Прамбанан) — архитектурнохрамовый комплекс на Яве в округе Матарам; в XIX в. уже был разрушен.
Боро-Бодо — по-видимому, имеется в виду Боробудур — грандиозное буддистское святилище на Яве, построенное в конце VIII — начале IX вв. Представляет собой холм, обработанный в виде ступенчатой пирамиды и облицованный камнем. Многочисленные прекрасно выполненные статуи и рельефы на каменных плитах представляют собой иллюстрации к буддистским легендам и мифам. Чанди Севу — ансамбль буддийских святилищ, сооруженный в первой половине IX в. в округе Прамбанан на острове Ява. Представляет собою четыре концентрических квадрата из 240 небольших храмов-часовен с главным храмом в середине.
Спиритуализм — философское воззрение, которое рассматривает дух в качестве первоосновы действительности, как особую бестелесную субстанцию, существующую вне материи и независимо от нее. Спиритуалистическими являются все религии и верования, признающие бога и бессмертие души.
540… одним из великолепнейших образцов афганской расы. — То есть девушка принадлежала к одной из населявших Афганистан народностей. Эта страна была тесно связана с Северной Индией общей религией местных феодалов и торговыми отношениями (в том числе и торговлей рабами). Государи обоих регионов часто совершали военные походы во владения соседей.
Долам — устаревшее название дворца индонезийского феодала.
541 Гекконы — род ящериц субтропических и тропических стран; имеют присоски на пальцах, с помощью которых они свободно бегают по отвесным поверхностям.
543 Мавры — общее название арабов-мусульман Северной Африки (кроме Египта), начиная с XV в.
546… из дома франкского доктора… На средневековом Востоке франками называли всех европейцев.
Дынное дерево (папайя) — дерево или крупный кустарник с плодами, похожими на дыню.
552 Арморика (Ареморика; от кельт, armour — "взморье") — старинное название Северо-Западной Галлии, преимущественно морского побережья между устьями Сены и Луары. С VII в. эта часть современной Франции получила название Малой Бретани, а позднее — Бретани. Океания — общее название островов в центральной и юго-западной части Тихого океана, расположенных в тропических и субтропических широтах. В данном случае у Дюма неточность: Ява к островам Океании не относится.
Лавандъеры (фр. lavandieres) — местное название злых волшебниц во французских провинциях Нормандия и Бретань.
… Явление тени Самуила, освященное Библией, и призрака Цезаря, описанное Плутархом… — Самуил — знаменитейший из судей народа израильского. Здесь имеется в виду эпизод из библейской Первой книги Царств (28:11–20): царь Саул, возведенный некогда на царство Самуилом, вызывает его дух, чтобы испросить совета. Цезарь, Гай Юлий (102/100 — 44 до н. э.) — древнеримский политический деятель, полководец и писатель, диктатор; был убит заговорщиками-республиканцами.
Плутарх (ок. 45 — ок. 127) — древнегреческий писатель и историк, автор "Сравнительных жизнеописаний" знаменитых греков и римлян. В своих биографиях Цезаря и главы заговора против него Марка Юния Брута (85–42 до н. э.) Плутарх пишет, что накануне решающей битвы во время гражданской войны между республиканцами и сторонниками Цезаря, последовавшей после его убийства, тень диктатора явилась убийце ("Цезарь", 69; "Брут", 36).
Галилей, Галилео (1564–1642) — итальянский ученый, физик и астроном, один из основателей точного естествознания; построил первый телескоп.
Сваммердам, Ян (1637–1680) — нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.
553 Данте, Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка, автор поэмы "Божественная комедия", в первой части которой ("Ад") описал путешествие в преисподнюю, мучения грешников и различные фантастические существа, живущие там.
… ту ангельскую лестницу, поднимающуюся с земли в небо, которую Иаков видел во сне… — Имеется в виду эпизод из библейской книги Бытие (28:12–15). Патриарх Иаков, прародитель древних евреев, увидел во сне лестницу, по которой ангелы сходили с неба на землю. С этой лестницы Бог изрек Иакову пророчество о судьбах народа израильского.
554 Ормузд — греческая транскрипция имени Ахурамазда, верховного бога в древнеиранской религии зороастризме; олицетворение доброго начала, вечный противник Аримана (см. примеч. к с. 426).
Отцом Ормузда считается бог времени и судьбы Зерван, также олицетворение сил добра.
555 Гамбанг — музыкальный инструмент, состоящий из 16–17 тарелок, деревянных или металлических; характерен отрывистым резким звучанием.
Шалемпунг — струнный яванский музыкальный инструмент.
558 Срединная империя — еще одно древнее название Китая.
567 Панацея (Панакея) — богиня-целительница в древнегреческой мифологии. В современном языке — универсальное средство для исцеления всех недугов; термин этот часто употребляется иронически.
570 Берлина — дорожная двухместная коляска, изобретенная в Берлине; отсюда ее название.
Джанджое — по-видимому, имеется в виду Джанджор, княжество в западной части Явы южнее Батавии.
Бандунг — крупный город на западе острова Ява.
574 Тамаринд — вечнозеленое дерево с кистями белых цветов. Плоды его употребляются в пищу и для приготовления из них напитков.
577 Ракшасы — название демонов, великанов и людоедов в индийских и индонезийских поверьях.
Дольмен — погребальное сооружение древности, состоящее из огромных камней, покрытых каменной плитой; дольмены встречаются в приморских областях Европы, Северной Африки и Азии. Папандаян — вулкан в центральной части Явы.
578 Сольфатара — состояние замирающего вулкана, когда прекратились извержения, а из кратера и трещин выходят струи пара и газов. Название дано по имени итальянского вулкана Сольфатарим, на протяжении 2000 лет выделяющего только пары серы.
586 Иблис — в мусульманской мифологии дьявол, бывший ангел, наказанный за ослушание бога и обреченный жить среди людей и совращать их.
588 Бендуб — вид кустарника на Яве; его древесина используется для изготовления факелов и ударных музыкальных инструментов.
589 Мекка — священный город мусульман в Аравии, место паломничества.
590 Вампиры — см. примеч. к с. 234.
592 Эманация (лат. emanatio — "истечение", "распространение") — понятие идеалистической античной философии: переход от высшей и совершенной ступени бытия к низшей. Здесь — мистическое истечение творческой энергии божества.
600 Перистиль — в архитектуре внутренний прямоугольный двор какого-то здания, площадь или зал, окруженные крытой колоннадой.
601 Фригийский колпак — шапка малоазиатских греков в древности: красный колпак с загнутым назад верхом. Служил своего рода символом свободы, так как этот головной убор носили в Древнем Риме получившие свободу рабы. По этой же причине фригийский колпак был моден во время Великой Французской революции.
614 Латания — род пальмовых растений.
620 Боа — см. примеч. к с. 339.
… направить по их следам крейсера Компании. — См. примеч. к с. 260.
622 Соединенные провинции (точнее: республика Соединенных провинций) — название государства Нидерландов в 1579–1795 гг., федерация семи северных нидерландских провинций, сложившаяся во время Нидерландской революции (см. примеч. к с. 226). По имени провинции, занимавшей в этом союзе руководящее положение, часто называется Голландией.
Дронго — семейство птиц отряда воробьиных.
Гамбир — лазающий кустарник; из его листьев и молодых побегов получают дубильный экстракт.
624 Канифас — легкая хлопчатобумажная ткань с рельефным тканым рисунком; в старину — полосатая.
Мушкетон — ручное огнестрельное оружие облегченного веса.
626 Пекари — род небольшой дикой свиньи; в данном случае у Дюма неточность: пекари водятся в Америке, но не в Индонезии.
Щипец — верхняя треугольная часть торцовой или фасадной стены здания, охватываемая двускатной крышей.
Паладин — доблестный рыцарь, преданный королю или дамам.
628 Шафран — краска желто-оранжевого цвета; получается из одноименного небольшого растения в Азии и Южной Европе; дает также эфирное масло.
635 Ретиарии — в Древнем Риме вид гладиаторов (рабов или преступников, осужденных сражаться между собой для развлечения зрителей): обычно бились в легкой одежде, вооруженные сетью, в которую должны были поймать противника, и трезубцем.
Галлы (точнее: мурмилии) — гладиаторы, часто выступавшие противниками ретиариев. Имели щит, меч и шлем, подобные вооружению галльских племен, населявших в древности территорию современных Северной Италии, Франции, Швейцарии и Бельгии.
638 Фашины — связки веток, тростника или соломы; употребляются для укрепления стенок канав, оборонительных сооружений и дня форсирования крепостных рвов.
651 Религия Зенда — по-видимому, верования зороастризма, распространенные в древности и начале средних веков на Ближнем и Среднем Востоке. В основе этой религии лежит борьба злого и доброго начал, а в ритуалах большую роль играет огонь. Очевидно, Аргаленка называет зороастризм религией Зенда потому, что более поздняя редакция его священного канона Авесты написана на одном из древних иранских языков — зенд и иногда называется Зендавеста.
653 Инд — река в северо-западной части полуострова Индостан, протекающая на землях современных Пакистана, Индии и Китая. Здесь, по-видимому, имеется в виду вся территория Индостана.
Синд — провинция на юго-востоке Пакистана в нижнем течении реки Инд.
657… воспоминания о китайских и туземных восстаниях 1737 и 1825 года… — Речь идет о двух восстаниях против голландских колонизаторов на Яве. О китайском восстании — см. примеч. к с. 508. Под восстанием 1825 г. имеется в виду так называемая "яванская война" — освободительное движение местного населения, проходившее под исламскими лозунгами борьбы с "неверными". Оно было вызвано усилением колониального грабежа и приняло большой размах. К нему присоединились даже части войск из индонезийцев и некоторые яванские феодалы. С большим трудом и с чрезвычайной жестокостью восстание было подавлено к 1830 г. Джокьякарта, Сурабая — города на острове Ява.
Мадура — остров у восточного побережья Явы.
Примечания
1
См. мои "Мемуары". (Примеч. автора.)
(обратно)2
Превосходно! (лат.)
(обратно)3
Стихи здесь и далее в переводе Г.Аддера.
(обратно)4
"Из глубин" (лат.).
(обратно)5
Бог ты мой! (гол.)
(обратно)6
В сторону (ит.).
(обратно)7
Посмотри ноги, посмотри голову (лат.).
(обратно)8
"Спеши к конечной цели" (лат.). — Гораций, "Наука поэзии", 148.
(обратно)9
Чертополох благодатный (лат.).
(обратно)10
Королевской площадью (гол.).
(обратно)
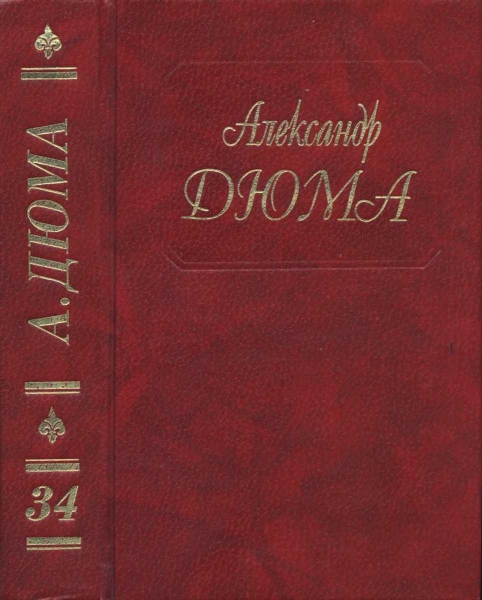

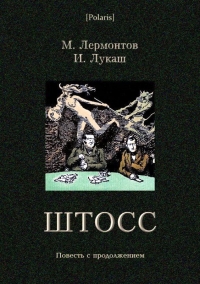
Комментарии к книге «Предводитель волков. Женитьба папаши Олифуса. Огненный остров», Александр Дюма
Всего 0 комментариев