Элиза Ожешко
Очерк жизни и творчества
I
Более восьмидесяти лет тому назад (1866) читатели тогдашнего польского журнала «Тыгодник Иллюстрованы» («Иллюстрированный Еженедельник») прочли маленькую незатейливую новеллу никому дотоле не известной писательницы Элизы Ожешко — «В голодный год».
На Западе в то время такой мастер художественной прозы, как Флобер, проповедовал «безличное искусство», а поэты-парнасцы отгораживались от народных масс пресловутой теорией «искусства для искусства», полной буржуазного самодовольства и самолюбования.
Что касается Польши, то здесь разгром восстания 1863 года, не поддержанного крестьянством, заставил многих горько призадуматься. В шестидесятых годах тут возродилась начатая еще некоторыми романтиками пропаганда сближения верхних слоев общества и интеллигенции с народными массами. В те времена в Польше не было еще почвы ни для «безличного искусства», ни для «искусства ради искусства».
«Послушайте, прекрасные дамы и господа, я расскажу вам коротенькую повестушку…»
Как голос совести прозвучали среди трагической тишины тех лет эти слова молодой женщины, настойчиво звавшей «прекрасных дам я господ» спуститься со «сверкающих вершин» и «заглянуть пониже, в глубь тех общественных слоев, которые во тьме, в нужде, отторгнутые от красоты, трудятся так тяжко».
Потрясти совесть высших классов, пробудить в них сознание своей вины и своего долга перед прекрасным, мужественным, трудолюбивым народом, — будь это поляки, белоруссы или литовцы, — вот к чему стремилась молодая писательница.
Ее призыв к высшим классам оказался «„гласом пророка“ вопиющего в пустыне». Ибо польская аристократия и польская шляхта всегда отличались своей особенной кастовой спесью и своим презрением к народу, в первую очередь к крестьянству, которое представители высших классов часто называли «быдло» (скот) и «хамы».
Зато к голосу писательницы, крепнувшему из года в год, все внимательнее прислушивалась польская интеллигенция. И этот полный искренней печали о судьбе народа голос, усиливаемый хором сочувственных голосов интеллигенции, несомненно, будил народные массы. Однако (и это надо подчеркнуть) развивавшееся сознание последних уже к началу двадцатого века увело их на самостоятельные пути, притом революционного действия. А перед этими путями робела мысль писательницы.
Уже первое, еще очень несовершенное произведение Элизы Ожешко («В голодный год», 1866) интересно чертами, характерными для всего ее творчества: прямым вмешательством искусства в жизнь, искренним, полным сердечного участия народолюбием, горячим сочувствием к судьбе обездоленного люда и, как прямое следствие, оценкой роли тех или иных социальных слоев по их участию в национальном труде, а также — нескрываемым презрением к социальному паразитизму.
Крестьянская хата, где люди умирают от голода, все время противопоставляется в этой первой новелле Элизы Ожешко панскому двору, где, — даже в голодные годы ни в чем себе, не отказывая, — живут и развлекаются просвещенные, красивые, изящно одетые, остроумные паны и пани. Идиллическая любовь двух юных существ — белоруссов Василька и Ганки — заканчивается их гибелью. И от начала до конца этой трагической идиллии о мужицкой хате и помещичьем дворе лейтмотивом звучат слова:
— Вот вам два мира… Два мира, две любви…
Судьба угнетенного, обездоленного народа — это первое, что волновало писательницу.
А народ на ее родине, — в имениях ее отца и мужа, — был представлен в первую очередь крестьянством: белоруссами по национальности, православными или (значительно реже) католиками, либо униатами по религии.
Место действия многочисленных произведений Элизы Ожешко — это, главным образом, принеманская Белоруссия.
И недаром эту выдающуюся польскую писательницу часто называют певцом Белоруссии.
Кстати сказать, почти все произведения Элизы Ожешко, печатаемые теперь Гослитиздатом в двух томах ее избранных произведений, посвящены Белоруссии и охватывают жизнь последней со всем сложным социальным составом ее населения: тут и батраки, и деревенская беднота, и зажиточные крестьяне; тут и сельские кузнецы, рыбаки, паромщики; тут целая деревня однодворцев-шляхтичей, давно утративших свои дворянские грамоты и обрабатывающих землю собственными руками; тут мелкая и средняя шляхта рядом с несколькими представителями высшей аристократии края; тут же и еврейская беднота и богатые еврейские купцы, раввин, меламед, ученые еврейские схоласты — знатоки агады и талмуда. Огромно количество персонажей в этих произведениях Ожешко. А во всех четырех-пяти десятках томов сочинений Элизы Ожешко дан в художественной форме, порой высокого эстетического значения, обширнейший и исключительный по своей многосторонности познавательный материал. Но это уже итог ее творчества. А та маленькая новелла (1866 год), о которой говорилось выше, была еще только его началом.
II
Спустя три года (1869) Элиза Ожешко выступила с большой повестью «Пан Граба». Писательница показала в ней недостатки воспитания девушек из «хороших домов» и шляхетскую «золотую молодежь». После четырех-пяти лет домашнего обучения или светского пансионата при монастыре девицы некоторое время «выезжают в свет», а затем обычно выходят замуж. При этом они, за отсутствием жизненного опыта, лишены возможности поглубже разобраться в характере своего будущего мужа, подчас человека, уже успевшего пожить в свое удовольствие. Замужняя женщина в богатых шляхетских или буржуазных Домах обречена на роль игрушки, куклы. Ее одевают и балуют, ею развлекаются. Она — предмет условного поклонения. Но даже и это поклонение — только мишурная эстетизация печальной сущности такого брака: порабощения женщины.
Молодая писательница вложила в повесть «Пан Граба» тяжелый личный опыт.
Она и сама происходила из богатой помещичьей семьи Павловских, воспитывалась дома, а затем в монастыре (1852–1857), выезжала в свет, пользовалась в нем успехом и, не засидевшись в девушках, рано, когда ей не было еще и шестнадцати лет, вышла замуж за крупного белорусского помещика, поляка Петра Ожешко.
Но, несмотря на обычность, мы бы теперь выразились стандартность, и ее воспитания и всего начального этапа ее жизненного пути, в ней как-то незаметно даже для нее самой стали появляться ростки какого-то нового, непривычного в ее среде отношения к жизни, новые, еще неясные запросы и стремления.
Быть может, вопреки полученному воспитанию, на ней стало сказываться очень отдаленное влияние ее рано умершего отца; вернее, того образа его, который постепенно складывался в душе осиротевшей дочери под воздействием разговоров о нем родных и близких, а позже и под впечатлением знакомства с библиотекой этого незаурядного человека.
Бенедикт Павловский (1788–1843), по образованию юрист (умер председателем гродненского уездного суда), был воспитан на французской литературе эпохи «Просвещения», литературе, столь блестяще охарактеризованной Энгельсом. «Великие мужи, — говорил Энгельс, — подготовившие во Франции умы для восприятия грядущей могучей революции, сами выступили в высшей степени революционно. Они не признавали никакого авторитета. Религия, взгляд на природу, государственный строй, общество, — все было подвергнуто беспощадной критике. Все должно, было оправдать свое существование перед судилищем разума или же от своего существования отказаться. Мыслящий ум был признан единственным мерилом всех вещей».
Павловский, идейно выросший на литературе «великих мужей» Франции — сочинениях Вольтера, Руссо, Дидро и многих других, вовсе не был революционером. Но он был полон «вольнодумных» стремлений, считался вольтерьянцем председательствовал в масонской ложе.
Он открыто проповедовал необходимость всестороннего коренного обновления жизни Польши.
По своим политическим убеждениям Бенедикт Павловский чуждался реакционного высокородовитого барства — тех собственников колоссальных земельных богатств («латифундий»), могущественных польских магнатов, которые под вывеской «республики шляхетского равенства» правили в конце XVIII века Польшей, используя голоса и сабли пролетаризованной мелкой шляхты.
Он примыкал к политическим традициям наиболее прогрессивной части польского среднего дворянства; в союзе именно с этой политической силой передовые элементы польских городов создали «конституцию 3 мая 1791 года», в ответ на провозглашение которой аристократическая олигархия предательски призвала иноземные войска для третьего и последнего (1795) раздела страны. Возрождение Польши на новых началах, прояснению которых весьма содействовал вдохновляющий пример французской революции конца восемнадцатого века, остановилось за политической смертью государства. Но активность политического блока, создавшего конституцию 3 мая 1791 года, не иссякла. Она проявила себя отчасти в восстании 1830 года и, особенно, в необычайном расцвете польской литературы в период романтизма (Мицкевич, Словацкий, Красинский и мн. др.).
Таким образом, отец писательницы (по отзывам знавших, его, «человек великого ума и сильной воли») принадлежал к тем представителям родовитой средней шляхты, которые идейно были связаны с лучшими гуманистическими традициями периода европейского и польского «Просвещения».
В доме Павловских оставалась собранная им ценнейшая библиотека, и она тоже говорила о его убеждениях, Здесь была «почти вся французская литература восемнадцатого столетия», рассказывала писательница. Было в доме и собрание редких картин. Все это оказывало свое, пусть незаметное, но бесспорное влияние на духовное формирование будущей писательницы.
Лет девяти девочку отдали в светский пансион при женском монастыре в Варшаве. Здесь было до ста учениц в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Обучение было поверхностное и носило светский характер, как об этом заявляла писательница.
«Религиозных книг для чтения не давалось никаких. И вообще не делалось ничего, чтобы нас оставить в монастыре. Вербовка в монастырь была бы для пансиона невыгодной».
Главное внимание обращалось на языки (французский и немецкий), на музыку и танцы; к остальным предметам относились равнодушно.
«Несколько роялей, — вспоминала потом Элиза Ожешко, — с утра до вечера бренчали в различных залах пансиона и даже в часовнях».
Однако здесь оказался хороший учитель польского языка и литературы, превосходный лектор и декламатор, развивший у некоторых учениц вкус к поэзии.
За пять лет пребывания в этом пансионе Эльжбета прочла не только значительное число французских книг, как это было принято в такого рода учебных заведениях (тайком сюда проникли и некоторые сочинения Жорж Санд), но она познакомилась также и с основными произведениями выдающихся старых и новых польских писателей.
«Во мне, — говорила писательница, — зарождался тогда культ великих людей и дел».
На пятнадцатом году Эльжбета простилась с «паннами сакраментками» и вернулась домой.
Ее сразу же стали вывозить в «свет», в кипящую весельем среду белорусской шляхты в городе Гродно, на Немане.
«Выйдя в „свет“, я некоторое время была какой-то легкомысленной, — говорила на склоне своих лет писательница. — Шум ли светской жизни меня ошеломил, мое ли положение самой богатой и пользовавшейся наибольшим успехом барышни сделали меня такой поверхностной, не знаю. Знаю только, что из мечтаний в монастыре о бедном и благородном молодом человеке, об освобождении моих крепостных, о каких-то неопределенных, но красивых подвигах, в это время во мне ничего не осталось… Психический мир мой как-то сузился, уменьшился».
И она добавляла при этом:
«На новую жизнь я смотрела, как на игрушку, и будущее казалось мне игрушкой. Я хотела как можно скорее стать замужней только для того, чтобы иметь право распоряжаться своим домом, экипажем, слугами и быть самостоятельной, не ограниченной в своих желаниях волей матери, человека деспотического…»
Мать Эльжбеты, давно уже вторично вышедшая замуж, по-видимому, непрочь была поскорее «пристроить» дочь. А та, от природы очень чуткая и наблюдательная, чувствовала это даже в свои пятнадцать лет.
«Физическая сторона моего существа глубоко спала, нравственная и умственная — на некоторое время тоже погрузились в сон. Мне кажется, что если бы тогда из куска дерева сделали мужчину и сказали мне, что, когда я выйду за него замуж, я буду самостоятельно распоряжаться собой и всем моим имуществом, что он будет возить меня по различным местам и балам, я согласилась бы выйти замуж за дерево».
Она считалась одной из самых богатых невест края, и у нее оказалось достаточно поклонников из среды провинциальной «золотой молодежи», выуживавшей в водовороте всевозможных развлечений девушек с хорошим приданым.
Вспоминая тогдашнее настроение привилегированного польского общества, писательница потом говорила:
«Кажется теперь поразительным и непонятным без подробных объяснений тот факт, память о котором, однако, свежа у многих еще живых людей, что накануне, должно быть, наименее веселой эпохи нашей истории для целой весьма влиятельной группы людей — одним девизом и самой яркой и привлекательной целью жизни было: веселье!»
И писательница рассказывает:
«Забавлялись везде и всюду, в любое время, всевозможными способами, под всякими предлогами. Визиты, обеды, вечера, танцы, псовая охота, карты, пикники, маскарады — все это било ключом по деревням, городам и местечкам. Дни тишины, сосредоточения и хоть какой-либо работы иной раз и выпадали, но уже недели — крайне редко, а месяцы — никогда!»
А какое при этом равнодушие к народу было у всей этой веселящейся шляхты, мечтавшей в те дни о победе над царизмом. Это равнодушие разделяла тогда и невеста-подросток Эльжбета Павловская со своими ровесницами:
«Диву я даюсь теперь, как мы — ну ничего-ничего не знали об окружавшем нас на улице народе, как мы были к нему совершенно равнодушны! В городе, довольно людном и довольно богатом, люди всевозможных состояний двигались по улицам, толпились, обгоняли друг друга, торопились. Но мы будто не слышали их и не видели — они не вызывали в нас ни любопытства, ни участливого внимания. Кто не принадлежал к кругу наших знакомых и, завидя наш экипаж, не кланялся нам, тот для нас вовсе и не существовал. У нас не было ни малейшего представления о том, чем все эти люди занимаются на свете, как они живут, что думают и чувствуют, страдают ли они, и даже искорки желания что-либо узнать об этом не было».
И вот панна Эльжбета Павловская, подобно сотням панн ее круга, выходит замуж за помещика Петра Ожешко, высокого, красивого блондина с вьющимися волосами, как у пана Грабы, лет тридцати пяти.
Она могла судить о нем только, как о хорошем танцоре.
Он сделал предложение после двух визитов, «из которых один длился четверть часа», и получил согласие.
III
В феврале 1858 года пан Петр Ожешко прибыл с молодой женой пани Элизой Ожешковой в свое родовое имение Людвинов, находившееся в отдаленном, пограничном с Волынью, Кобринском уезде Гродненской губернии.
Помещичий дом был большой и комфортабельный, а имущество, привезенное Элизой Ожешко из отцовской Мильковщизны, очень его украсило.
Два года прошли в пустейших развлечениях и забавах. Жена-подросток «вырастала из своих платьев, становившихся ей короткими и тесными, прежде чем она успевала их износить».
Кругом по деревням с забитым белорусским людом, в стороне от покрытых прогнившей соломой хат, белели, утопая летом в зелени садов и парков, шумные «дворянские гнезда» польской шляхты. Одних только родственников было у Петра Ожешко в губернии до сорока домов — есть куда поехать, есть, кого принять, есть, где повеселиться.
Пан Ожешко был жуир, бонвиван, игрок.
Промотав свое состояние, он стал проматывать приданое своей молоденькой жены. Картинная галерея, значительная часть библиотеки отца, состоявшей из нескольких тысяч названий, часть обстановки отцовского дома, крупные денежные средства — все кануло будто в бездну.
И вот жена-подросток, под ударами первых бед в жизни, начала и духовно «вырастать из своих платьев». И сказалось это не только на ее отношениях с мужем, но и в быстром росте всей личности этой выдающейся польской женщины.
В деревне Элиза Ожешко стояла несколько ближе к народу, чем в Гродно. Ей случалось тут видеть людей бедных, замученных непосильным трудом, страдающих. И она уже начинала отдаленно понимать, что это значит. Ее прежние, как она их метко характеризовала, «инертные симпатии и жалости к народу» стали оживать и становиться все сознательнее.
А тут подоспело время подготовки крестьянской реформы во всей Российской империи, включая и «Царство Польское».
Поневоле прислушиваясь к горячим спорам, вспыхивавшим везде и всюду и неизменно касавшимся жгучего вопроса об освобождении крестьян, и притом с землей, а не без земли, Элиза Ожешко все решительнее стала склоняться на сторону более радикальной, вышедшей, частью, из университетов молодежи, собиравшейся среди прочих гостей в Людвинове у супругов Ожешко.
«Это течение захватило меня, главным образом, со стороны чувства, но этот крючок потянул меня дальше, по направлению чувства, просветленного мыслью».
А это значило, что в ней продолжало расти и обостряться чувство ее отличия от мужа, родовитого шляхтича, беспечно жившего на доходы от барщины и третировавшего белорусских крестьян, как «быдло».
Испытав ряд личных разочарований в муже, теряя к нему уважение, молодая женщина почувствовала, что их разделяют и взгляды на внешний мир, на общество и на историю — на прошлое и настоящее Польши.
Но что она могла противопоставить взглядам своего мужа?
Пани Элизе Ожешковой было всего еще только семнадцать лет.
У нее не было знания жизни и не было никакого образования — она это ясно чувствовала, когда вокруг спорили студенты и лица, окончившие университеты.
По временам она сравнивала себя, как одна из ее будущих героинь, с камнем, занимающим место на засеянном пшеницей поле. «Она чувствовала в себе протест молодости, здоровья и сил, который всецело овладевал ею, нес куда-то, навстречу живому, настоящему делу. Ей хотелось куда-то идти, бежать, помогать кому-то, иметь какую-то цель в жизни. Но в ее положении не к чему было приложить силы».
IV
Тогда-то для нее начался период интенсивных духовных исканий, совпавший с порою великого социального и политического кризиса в истории Польши, отмеченного годами 1860–1864.
Эти пылкие искания не прекращались всю ее жизнь.
Она жадно набрасывалась на современную польскую прессу.
Помогала уцелевшая часть доставшейся ей в приданое отцовской библиотеки, состоявшей из сочинений французских просветителей, откуда на нее хлынул такой благотворный поток идей, какого вообще человечество не знало со времен Возрождения.
Из всех «великих мужей, просветивших Францию», ей ближе всех оказался демократический гений Руссо с его «евангелием природы», с его проповедью естественности и сближения с народом.
Философия эпохи «Просвещения» помогла кристаллизации в мировоззрении Элизы Ожешко идей светской морали. Влиянием великих французских просветителей отчасти объясняется и ее пусть сдержанный, но все же несомненный антиклерикализм. В противоположность многим другим польским писателям Ожешко очень редко вводила в свои произведения духовных лиц и совершенно чуждалась мистики.
Всю жизнь ее не покидал также и особенно характерный для польской и русской интеллигенции шестидесятых-семидесятых годов интерес к естествознанию, горячей пропагандисткой которого она стала после нескольких лет занятий им без всякой живой помощи знающих людей, да еще при тогдашнем недостатке пособий по самообразованию.
«В своих мыслях, — вспоминала потом Элиза Ожешко, — я привыкла называть эту эпоху моим университетом… Я так много читала, что, как вспомню теперь, так удивляюсь, как я могла прочесть такую уйму книг. Все это было без складу и ладу, без выбора и без системы, но это наполняло мою голову массой знаний, вызывало во мне много новых мыслей и стремлений, определило новый взгляд на мир и жизнь. Так зарождался и все ярче выступал, все сильнее меня захватывал идеал жизни, с которым действительная жизнь находилась в безусловном и остром противоречии. Идеал этот я тогда же определила двумя словами: „любовь и труд“. Вспыхнувшая в 1863 г. катастрофа задержала меня на месте и отодвинула мои личные планы на дальнейший срок. Но весь этот год я жила не для себя».
V
Что же принес ей 1863 год — один из самых трагических годов польской истории?
Поражение царизма в крымской войне, смерть Николая I (1855 г.), а главное, революционная ситуация, которая стала складываться в России с конца 50-х годов, — все это способствовало оживлению польского революционного движения. Борьба Польши за независимость, за отъединение ее от России наносила в те годы тяжелый удар царизму и вызывала горячее сочувствие и прямую поддержку со стороны как русских революционных демократов — Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена и др., так и демократов Европы во главе с вождями рабочего класса Марксом и Энгельсом.
Наряду с вопросом о политической самостоятельности в Польше требовал разрешения и аграрный вопрос. Уже в 1860 году в стране начало сказываться общественно-политическое возбуждение. В деревнях и экономиях Польши, Литвы, Белоруссии растет стихийное крестьянское движение с требованием отмены барщины, чинша (оброка) и раздела всей помещичьей земли. В Варшаве и других городах демократические слои населения все решительнее высказываются за вооруженное восстание. Усиливается революционное брожение в среде офицеров и солдат царской армии.
Восстание началось в ночь на 23 января 1863 года, быстро распространяясь по стране, перекинулось в Литву и Белоруссию, где приняло характер массового крестьянского движения против помещиков, в первую очередь — польских панов.
В восстании участвовали разнообразные социальные слои населения: обедневшая и обезземеленная шляхта, ремесленники, рабочие, интеллигенция, низшее духовенство, но руководящая роль принадлежала революционной шляхте. В руководстве восстанием принимали участие такие выдающиеся деятели польского освободительного движения, как С. Падлевский, Бобровский, Людвиг Мерославский. В Литве руководил повстанцами Зыгмунд Сераковский, последователь Н. Г. Чернышевского и друг поэта-демократа Т. Г. Шевченко; в Белоруссии — революционер Кастусь Калиновский, ученик Герцена. На стороне восставших сражались многие офицеры русской армии, например А. А. Потебня и др.
Повстанцы действовали против царских войск небольшими партизанскими отрядами, вооруженными старинными пистолетами, охотничьими ружьями, пиками, косами. И все-таки 10 тысяч человек в течение многих месяцев вели упорную борьбу против регулярной царской армии численностью в 83 тысячи штыков. Значительное участие в повстанческом движении принимали крестьяне. Они поддерживали восстание тем активнее, чем решительнее проводился декрет Временного национального правительства о наделении крестьян землей.
Но паны цепко держались за землю. Своекорыстная и предательская политика помещичьего класса в корне подрывала успех борьбы. Отрицательно сказывалась нерешительность и непоследовательность шляхетских революционеров. Восстание, сломленное поражениями и репрессиями, резко пошло на убыль весной 1864 года.
Польская буржуазная демократия не оправдала надежд на радикальное уничтожение феодальных отношений, но Маркс и Энгельс оценили восстание 1863 года, как прогрессивное. Ленин высоко оценивал роль польского восстания 1863 года. Он писал: «Пока народные массы России и большинства славянских стран спали еще непробудным сном, пока в этих странах не было самостоятельных массовых, демократических движений, шляхетское освободительное движение в Польше приобретало гигантское, первостепенное значение с точки зрения демократии не только всероссийской, не только всеславянской, но и всеевропейской».
В этот трагический год Элиза Ожешко жила действительно не для себя.
VI
Она была товарищем и другом восставших, помогала им, как только могла, а в дни разгрома лично отвезла в Варшаву одного из военных руководителей восстания, полковника русской службы Ромуальда Траугутта, спасая его от ареста.
Сама она каким-то чудом избежала репрессий. Муж ее был сослан в Сибирь (откуда он, спустя несколько лет возвратился и вскоре умер). Его имение было конфисковано. Пострадало много родственников и ее и мужа. Многие дома опустели, будто по краю прошла, как в иные годы средневековья, губительная «черная смерть» — чума. А среди лесов кое-где появились курганы — братские могилы павших героев восстания.
Эти могилы позже оплакала и воспела Элиза Ожешко в романе «Над Неманом», в цикле повестей и рассказов «Gloria victis!» («Слава побежденным!») и в других произведениях.
Но была ли Элиза Ожешко националисткой, тем более шовинисткой?
На это следует ответить отрицательно.
Ее взгляды на независимость Польши можно вполне охарактеризовать словами Вацлава Вацлавовича Воровского, сказанными им о великих польских романтиках:
«Национализм корифеев польской поэзии того времени вообще был чужд звериных черт: в то время ему, действительно, были чужды всякие завоевательные планы, он носил характер законной и справедливой самообороны, поэтому и отличительными чертами его были идеализм и гуманность».
Этими тенденциями объясняется возвышенный, альтруистический характер мировоззрения Элизы Ожешко, выступавшей значительно позднее этих корифеев романтизма.
Молодая писательница боролась на демократическом фланге восстания.
Не будучи сторонницей экспроприации землевладельческой шляхты, она считала необходимой земельную реформу.
И она видела одну из основных причин поражения этого восстания в отсутствии общего языка у восставших с народом — с крестьянством, прежде всего.
Эта мысль повторяется в ряде ее произведений.
Так, в повести «Гекуба» (из цикла «Слава побежденным!») изображен белорусс-крестьянин Тележук со своей женой Настей; они сердечно привязаны к бедной трудолюбивой, бьющейся как рыба об лед с пятью детьми, шляхтянке пани Тересе; однако, они неодобрительно относятся к тому, что их госпожа не удержала старшего сына от рокового участия в восстании.
После гибели старшего сына пани. Тересы Тележук помогает ей (правда, тщетно) спасать двух ее сыновей-подростков. Но писательница четко показывает, что он это делает только по природному великодушию и из благодарности к хозяйке, самоотверженно спасавшей от черной оспы его детей, а не из сочувствия восстанию, к которому он относится даже с некоторой иронией.
Еще прямее и непосредственнее мысль Элизы Ожешко о разрыве высших классов с народом выражена в повести «Они», из того же цикла «Слава побежденным!» Писательница рассказывает об участии женщин-шляхтянок в восстании (шитье одежды, связь, доставка продовольствия в леса, где засели восставшие, и т. п.):
«Не один раз нас застигали дорогой звездные или пасмурные ночи, не раз в синюю предрассветную пору мы проезжали мимо какого-нибудь низенького дома, перед порогом которого рдели на грядках яркие цветы и из которого к нам неслись знакомые голоса, звавшие нас задержаться, отдохнуть… И какие бывали чудные восходы солнца, какие разгорались на небе розовые зори, когда мы, бывало, пили из глиняных кружек пенистое молоко, после ночи, проведенной без сна, в трудах и заботах, пили возле грядок с яркими настурциями и пионами.»
«И только — увы! — наши возы и повозки никогда не останавливались возле крестьянских хат.»
«Хаты эти были заперты для нас — увы!»
«Их запирали от нас разница в религии, в языке и ошибки наших предков — увы! увы!»
«И это была скала, о которую разбился вышедший в открытое, грозное море наш корабль — увы!»
«Скала, возле которой ветер порвал наш прекрасный парус — увы!»
«Скала, откуда после короткого солнечного дня пала на нас ночь — темная, глухая, холодная, неизбывная — увы!»
«Запертая перед нами мужицкая хата была этой скалой — увы! увы! увы!»
«Та же мысль и та же горечь в коротеньком аллегорическом рассказе „Эхо“.»
Дед-белорус, на морщинистом лице, которого время отгравировало страдания и муки трех мужицких поколений, сменивших друг друга на его памяти, представляется писательнице сфинксом, хранящим загадку многовекового прошлого, тяготеющего над настоящим и не забытого народной памятью.
И другой образ в том же рассказе.
Писательница сбегает вниз, до середины высокого берега Немана, и из-под серебристого тополя, как благостное заклятие, бросает звонкому лесному эху слово: «Любовь!» Но эхо упрямо искажает это слово, и вот, как упрек, несется из глубины далекого темного леса отраженный голубым Неманом отзвук. «А прошлое… прошлое?!» — «Что это? Каприз воображения или отголосок моих собственных мыслей?» — спрашивает себя писательница.
И она еще раз бросает в пространство все то же, кажущееся ей чародейским, всемогущее слово. Но лесное серебряное эхо трижды отвечает ей напоминанием о прошлом.
«— О скорбное эхо!»
Этими словами заканчивает Ожешко рассказ о народном отчуждении, давно заслуженном господствующими классами и так трагически проявившемся, когда они опрометчиво кинулись решать эгоистически понятую ими, — да, эгоистически, несмотря на весь жертвенный пафос многих участников, — великую национальную задачу.
В 1846 году польский романтик граф Зыгмунт Красинский в «Псалме любви», полном ненависти к демократам, говорил:
«Народ один мертв… без шляхты нет народа».
И несколько позднее он же в ответе другому романтику Юлию Словацкому восклицал:
«Верь польской шляхте и могуществу господа!»
В 1864 году, как фатум, явилось возмездие.
VII
Национальное унижение Польши заставляло многих польских писателей обращаться к ее истории и там искать подтверждения исторического и морального права Польши на независимое и достойное национальное существование в настоящем.
Редкий польский писатель девятнадцатого века не обращался к темам из исторического прошлого своей родины.
И это привело к необычайному и очень своеобразному развитию исторического жанра в польской литературе; он стал здесь, как едва ли в какой-нибудь другой стране, поразительно актуальным, — актуальным в свете действительно крупных, острых, животрепещущих задач польской современности.
Но при этом в исторических произведениях польской литературы часто восхвалялись реакционные стороны прошлого, и, например, государственная гибель Польши часто изображалась как следствие грубого внешнего насилия, без указания на внутренние причины, вызвавшие политическую смерть страны.
Правда, такой крупный поэт, как упомянутый выше романтик Зыгмунт Красинский, идеализируя в своих поэтических мечтаниях польскую шляхту, временами в реальной действительности видел ее тунеядство и развращенность, ее классовый эгоизм и с ужасом говорил иногда о кровавом крепостническом гнете и других тяжелых сторонах жизни старой Польши. «Поэзия когда-нибудь покроет все это позолотой», предсказывал он.
И действительно, многие польские писатели занялись позолотой исторического прошлого своей страны.
Элиза Ожешко не принадлежала к их числу. Она не писала произведений на темы из польской истории и не занималась некритическим возвеличением польского прошлого — особенность, весьма характерная для ее общественно-литературных позиций.
Но и она отдала дань увлечению историческим жанром.
Так, «Миртала» Элизы Ожешко — это повесть о древней Иудее вскоре после ее покорения римлянами. Писательница показала еще свежие раны растоптанной, порабощенной страны и в национальной драме Иудеи дала, вольно и невольно, ряд аналогий тому, что пережила Польша после трех разделов и трех последовательных разгромов, повторявшихся чуть ли не каждое поколение (1794, 1830, 1864).
Ее более мелкие произведения на древнеисторические темы собраны в сборнике «Старые картины»; среди них самое значительное — «Почитатель могущества» (1890) с его протестом против культа силы и денежного мешка.
Искусство воскрешения далекого прошлого, а тем более времен античности, оказалось далеко не самой сильной стороной творчества Элизы Ожешко. В ее исторических произведениях попадаются хорошие страницы, но ряд ситуаций надуман, пафос ходулен, язык — напыщен, описания — растянуты и инертны, а в целом эти произведения Ожешко грешат такой модернизацией, которую быстрый прогресс наук об античном мире сделал спустя одно-два десятилетия совершенно явной для широкого круга читателей.
Кроме названных двух книжек на исторические темы, все творчество Ожешко посвящено современности.
В оценке этой современности и во всем вообще мировоззрении Элизы Ожешко два события сыграли определяющую роль: восстание 1863 года и немедленно последовавшая за ним крестьянская и земельная реформа в Царстве Польском.
Оба события, как известно, повлекли за собой упадок средней шляхты. Разгромленная политически, она теряла свои экономические позиции и быстро деклассировалась.
Молодая писательница, многие годы так энергично трудившаяся над своим развитием, выработала целую систему взглядов, которые помогали ей разбираться в окружающей действительности.
Основой их был позитивизм с характерной для него верой в постепенное улучшение жизни людей, достигаемое реформой. С горячностью новообращенной она стала исповедовать культ «троицы» позитивизма: культ науки (естествознания, прежде всего), культ прогресса и культ человечества. К этому присоединилось «евангелие природы»: вечная мелодия Руссо то нежной свирелью, то могучим рокотом органа пронизывает все ее творчество, и — «евангелие труда», ибо труд для нее, честный, святой, всенародный труд, призван объединить все слои польского общества, преобразовать Польшу и создать основную предпосылку для горячо желанной национальной независимости родины.
Так, огромные усилия по выработке мировоззрения привели молодую писательницу после многих лет исканий в лагерь прогрессивных демократических деятелей Польши, лозунгом которых были тоже «позитивизм и органический труд».
Позитивизм появился в Польше в начале второй половины девятнадцатого века. К этому времени, по словам Ленина, «революционность буржуазной демократии уже умирала (в Европе), а революционность социалистического пролетариата еще не созрела». Позитивизм и был там философской основой буржуазного либерализма, быстро освобождавшегося от малейшей тени революционности.
На Западе позитивизм, появившийся после эры демократических революций, стал идейным барьером против революционной материалистической философии и передовых общественных учений. А в Польше буржуазно-демократическая революция была еще далеко впереди, и польский позитивизм сыграл довольно значительную прогрессивную роль. «И если теперь, — писал о нем В. В. Боровский вскоре после революции 1905 года, — это направление выродилось перед лицом других, более прогрессивных, в политический оппортунизм, то в этом отношении оно повторило лишь историю сходных течений в Западной Европе».
Польский позитивизм был проникнут несвойственным западноевропейскому позитивизму народолюбцем, верой в нравственные силы народа, в то, что, только опираясь на народ, можно надеяться вывести Польшу из исторического тупика, в котором она оказалась, вернуть ей независимое национальное существование и повести страну по пути прогресса и демократии. Он быстро стал развиваться с середины шестидесятых годов, как реакция на политику, потерпевшую полное банкротство в 1863–1864 гг.
Один из самых выдающихся вождей этого направления, Александр Свентоховский, в своем манифесте 1871 года прямо говорил представителям старого поколения. «Вы обессилены трудом и годами, ваш взор утратил способность воспринимать новые виды, ваши чувства утратили понимание новых потребностей, ленивая мысль, лишенная жизни, вращается лишь в круге старых целей и бессильна постигнуть новые… Так уйдите же с дороги вы все, — гневно восклицал А. Свентоховский, — которые в состоянии только загромождать ее, а другие — догоняйте тех, что бегут быстрее вас».
«Фантазерству и романтике стариков, — говорит В. В. Воровский, приведя эти слова лидера польского позитивизма, — Свентоховский противопоставил труд, органический труд, их застойной приверженности к старине — прогресс, их патриархальному невежеству — знание».
Замечательная статья В. В. Воровского «Александр Свентоховский», напечатанная в 1908 году по поводу сорокалетия (1868–1908) публицистической деятельности этого польского литератора, содержит превосходную характеристику того литературного направления, под знамя которого стала и Элиза Ожешко, кстати сказать, впервые выступившая в печати почти в одно время со Свентоховским. Ряд тезисов В. В. Воровского о Свентоховском применим и к характеристике важнейших сторон мировоззрения Ожешко.
Оба писателя, Свентоховский и Ожешко, были «глашатаями своего рода мирной революции», и для обоих характерно метафизическое искание «правды».
Оба они, сторонники «широкого просвещения, безусловного прогресса, торжества правды и справедливости, освобождения личности», не могли стать идеологами «верховодящих классов, какими являлись в то время пережившие кризис землевладельческая аристократия и новоиспеченная буржуазия». Их «идеалы складывались под влиянием пробуждения громадной массы мелких собственников, главным образом крестьянства».
Глубокая и меткая характеристика, данная В. В. Воровским целому литературному направлению в Польше, прямо характеризует также и основные общественно-политические взгляды Элизы Ожешко, которая была одним из самых выдающихся деятелей этого направления.
VIII
После разгрома восстания Элиза Ожешко оставила конфискованный Людвинов и переехала (1864) в разоренное отцовское имение, расположенное возле Мильковщизны, на берегу Немана, в сорока двух километрах от Гродно.
Началось одинокое деревенское существование, наполненное материальными заботами и подвижническим литературным трудом, проникнутое скорбью о трагической судьбе Польши.
«Возлюбленная моих детских лет, родина, — вспоминала потом эти годы Элиза Ожешко, — возвратилась ко мне, вступила в меня и наполнила рыданием сердце женщины, которая столько лет была пустой, веселой, праздной. Временами мне казалось, что это меня кинули на землю и тяжелыми сапожищами топтали мое тело и мою душу. Или появлялось такое чувство, точно это я, закинув назад голову, с замирающим сердцем падаю в пропасть, бездонную, без проблеска света и без надежды на спасение».
Переезд в Гродно (1870), где она прожила до самой смерти, внес мало изменений в эту жизнь, целиком отданную литературе.
В личной жизни писательницы событий было немного.
Возвращение и смерть мужа, Петра Ожешко.
Основание писательницей в г. Вильно польского книгоиздательства, просуществовавшего с 1880 по 1882 г. и закрытого властями.
Ее энергичная кампания помощи погорельцам после страшного пожара Гродно в 1885 г.
Счастливое, но очень короткое, позднее второе замужество (1894–1896).
И это почти все.
Зато литературный труд писательницы был огромен.
С «Пана Грабы» (1869) начался цикл произведений по женскому вопросу. Сюда относятся еще: «Дневник Вацлавы» (1869–1870), «Марта» (1872) и др., а также публицистическая работа Ожешко: «Несколько слов о женщинах» (1870).
Политические репрессии, обрушившиеся на шляхту, ее хозяйственное оскудение сильно изменили положение женщины в дворянских семьях. Многие девушки остались без женихов, жены — без мужей и без средств к существованию, многим шляхтянкам пришлось взяться за труд, которого они, праздные посетительницы и хозяйки салонов, не знали и к которому совершенно не были подготовлены воспитанием. На почве этой неприспособленности возникало множество трагедий, одна из которых ярко изображена в «Марте».
Эта простая повесть, не лишенная сентиментальности и мелодраматизма, произвела в то время сильнейшее впечатление, особенно на женщин, и не только на польских шляхтянок. Рост капитализма, вызвавший длительный кризис мелкой буржуазии во всей Европе, разрушал повсюду сотни тысяч семейств. Перед миллионами девушек, молодых женщин, матерей возникали вопросы: «Что делать? Куда деваться самим, как спасать своих детей? Как их готовить к неизбежной, неотвратимой битве жизни?»
«Марта» Элизы Ожешко снискала себе огромную популярность. Некоторые видные польские историки литературы, говоря о впечатлении, произведенном «Мартой», вспоминали, по аналогии, об успехе таких книг, как «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу (1852) и «Эмиль» Руссо (1762).
Еще уместнее указать на имевшую эпохальное значение книгу Чернышевского «Что делать?» (1863). Она была переведена на ряд языков и вызвала большой политический резонанс в Европе. Особенно связывает Элизу Ожешко с мировоззрением Чернышевского выдвинутая им с исключительной силой идея раскрепощения женщины путем приобщения ее к многообразной трудовой деятельности общества.
Множество женщин задумывалось тогда над полными страстного протеста славами Марты: «В силу людских прав и обычаев, женщина — не человек. Женщина — это вещь, женщина — это цветок, женщина — это нуль. Нет для нее счастья без мужчины, если она хочет жить».
В художественном отношении эта повесть, в которой много резонерства, декламации, обнаженной публицистичности, была вскоре превзойдена другими произведениями писательницы.
Положение и роль женщины в обществе не переставали занимать Ожешко всю ее жизнь, начиная с еще более ранней повести «Последняя любовь» (1867), в которой уже выставлен тезис: «Пока женщины не станут выше блесток и безделья, пока они в обществе будут куклами, детьми, „богинями“ и цветками, а не людьми, до тех пор в общественной жизни будет недоставать фундамента добра».
В целом ряде романов, повестей и рассказов Элиза Ожешко разоблачала пустоту, мелочность, тунеядство и эгоизм женщин верхних слоев общества и противопоставляла им женщин другого типа, оберегающих свое человеческое достоинство, не боящихся никакого труда и видящих в нем и в своем семейном призвании свой гражданский долг. Но она и в женском вопросе была реформисткой. Она никогда не связывала его с задачей глубочайшей, радикальной переделки действительности, как этого требует социализм, свидетельницей крупных успехов которого была в последние два десятилетия своей жизни Элиза Ожешко.
Нарицательным типом женщины, созданным Элизой Ожешко, стала «сильфида» — эгоистичная, праздная, кокетливая, салонная, полная кастовых предрассудков пани Жиркевич из повести «Сильфида».
Овдовев и оставшись без средств, пани Жиркевич всю черную, «хамскую» работу взваливает на свою дочь Бригитту и продолжает вести, праздную жизнь, вздыхая о былом светском блеске.
Дочь ее, скромная труженица (она пошла в отца, политического эмигранта), влюбляется в юношу простого происхождения и, следовательно, в глазах матери «хама».
Мать без колебаний разрушает счастье дочери, угрожая Бригитте проклятием, если та осмелится за этого «хама» выйти замуж.
«— Мама, — говорит Бригитта, — это, может быть, единственное счастье, которое встречается мне в жизни. Мне уже двадцать семь лет. Мне хотелось бы жить, как живут другие женщины… Иметь друга до гроба, детей…
— Бригитта, — восклицает мать, возмущенная „неприличием“ последних слов дочери, ведь ты — девушка, как же ты можешь говорить о таких вещах?»
Брак расстраивается. А спустя некоторое время, спасая мать от полной нищеты, Бригитта вынуждена поступить в горничные.
В произведениях Ожешко мы видим целую вереницу таких сильфид, как пани Жиркевич: это — Леонтина Орховская в «Элим Маковере» (1874–1875), Елена Ширская в «Сильвеке-могильщике» (1880), пани Эмилия Корчинская в романе «Над Неманом» (1886) и мн. др. Плебейский вариант сильфиды — Франка из повести «Хам» (1887).
С женским вопросом тесно переплетаются у Ожешко вопросы воспитания детей, особенно девочек. Писательница изображает множество жертв уродливого кастового воспитания женщины, их бесполезно перечислять, ибо «имя им — легион».
Сильфида-мать, как правило, воспитывает и дочерей сильфид, калеча их на всю жизнь. Так пани Эмилия Корчинская постепенно превращает Леоню, живую девочку с добрым, отзывчивым сердцем, в куклу, в эфирное создание, в двуногий пустячок, щебечущий о тряпках, об украшении гостиной, в эгоистку, не замечающую, например, как она несносна со своими легкомысленными приставаниями к разоряющемуся отцу приобрести новую мебель, накупить статуй и пр. И неважно, что Леоня еще подросток. Система воспитания, усвоенная матерями-сильфидами, клонится к тому, чтобы создавать из женщины пожизненного ребенка, которого надо холить и нежить, за которым надо ухаживать, как за тепличным растением.
Несколько реже касается Ожешко проблемы воспитания юношей, хотя эта тема, начиная с того же «Пана Грабы», где выведена шляхетская «золотая молодежь», до романа «Над Неманом» и кончая предсмертным сборником «Слава побежденным!», все же достаточно широко представлена в ее творчестве. В этом отношении интересно отметить рассказ «Милорд» (1877).
Одновременно с «Милордом» вышла «городская картинка» — «Четырнадцатая часть» (1877). Писательница очень простыми изобразительными средствами показывает бесправное положение в те годы женщины, которую обделял закон, отдавая ей лишь четырнадцатую часть отцовского наследства. Она рисует тяжелую действительность, в которой женщине решительно во всем отведено не более одной четырнадцатой части того, что достается мужчине. Так эта дробь — одна четырнадцатая — становится символом унижения и бесправия женщины, математическим выражением несправедливости к ней родной семьи, общества, закона.
IX
Выступления Ожешко в защиту женщины, как уже сказано выше, находили сочувственный отклик. Призыв к человеческому достоинству женщины, пропаганда труда и трудового воспитания женщин, средних и верхних слоев общества, требования (вначале особенно скромные и робкие) реформы семьи, выступления против фактической нерасторжимости католического брака, изображение духовного голода женщины, просыпающейся для широкой жизнедеятельности, — все это, сочувственно встречаемое одними, вызывало ненависть других, особенно тех, кто принадлежал к консервативным кругам общества.
Реакционная пресса стала изображать Ожешко как потрясательницу устоев и врага католической религии.
Но недовольство консервативных и клерикальных кругов перешло в открытую травлю писательницы, когда она выступила со своим уже бесспорным шедевром «Меиром Эзофовичем» (1877), характерным «просветительным романом» с сочувственно изображенным в нем юношей-евреем, рвущимся к свету из мрака религиозного еврейского фанатизма.
А когда вслед за «Меиром» она напечатала еще и несколько новелл из еврейской жизни («Сильный Самсон», 1878, «Дай цветочек», 1878, «Гедали», 1884 и др.), реакционеры и антисемиты из «Католического обозрения» попросту объявили ее во всеуслышание «еврейской судомойкой».
«Меиру Эзофовичу» предшествовали романы Ожешко «Семейство Брохвичей» (1873) и «Элим Маковер» (1874), в которых даны уже широкие картины общественной жизни в Западной Белоруссии.
По этим романам видно, что писательница в значительной степени освободилась от навязчивого морализирования, голого дидактизма и резонерской привычки постоянно комментировать поступки своих героев. Она уже умеет так изображать эти поступки, что они говорят за себя, вызывая непосредственную оценку их самим читателем.
Психология героев становится глубже, их действия мотивируются безупречнее, драматизм повествования приобретает гораздо большую яркость и остроту.
А количество действующих лиц увеличивается, их взаимоотношения делаются сложнее, изолированные прежде портреты теряют свою обособленность и статичность. И люди соединяются в большие, разнообразного общественного состава группы, что позволяет ожидать от писательницы, — все глубже проникающей в сущность общественных отношений, — больших и полных глубокого значения социальных полотен.
В «Меире Эзофовиче» писательница сумела по-новому преподнести старую тему о религиозном фанатизме, столь часто привлекавшую любимых Элизой Ожешко французских просветителей.
Писательница указала, как на «непостижимый анахронизм», на существование в современной ей Польше большого числа мелких еврейских местечек, где население духовно порабощено раввинатом и религиозными фанатиками, представителями «окаменелых верований, чувств и обычаев», отделивших еврейский народ от польского духом враждебной настороженности и «толстыми горными хребтами из мглы и мрака».
Она раскрыла духовное убожество этих схоластов, приверженцев мертвой буквы религиозного закона, препирающихся по поводу нелепых пустяков, как чего-то необычайно важного.
Она забила тревогу, указав на опасность для всей страны морального одичания этих закоренелых фанатиков иудаизма, превративших такие еврейские местечки в островки темного средневековья и не останавливающихся даже перед преступлениями (поджог шляхетской усадьбы в корыстных целях; убийство караимки, возлюбленной Меира, из религиозного мракобесия; ритуально обставленное изгнание Меира и др.).
«Меир Эзофович» — замечательный памятник гуманистической морали польской демократии 70-х годов девятнадцатого века.
В художественном отношении «Меир Эзофович» полон своеобразия, самобытен, оригинален и превосходит все, что было создано в этой области западноевропейской литературой.
X
Но писательницу подстерегал кризис.
На переломе к восьмидесятым годам в Польше выступила молодежь.
Эта молодежь чуждалась националистического обособления, очень заметного у старших, свидетелей ошеломляющего разгрома 1864 года, и все более проникалась идеями интернационального социалистического единения и чувством солидарности с русскими революционерами, у которых был тот же враг, что и у нее, — царизм.
Новые идеи проникали и в глухую провинцию, какой тогда была Гродненская губерния, где безвыездно жила писательница.
Среди отсталого экономического и культурного быта Литвы и Белоруссии эти идеи, доходившие сюда подчас в искаженном, а иногда, быть может, и вовсе в карикатурном виде, казалось, не имели под собой никакой почвы.
Писательница отнеслась отрицательно и к ним и к их носителям. Она видела эту социалистически формировавшуюся молодежь в свете паскивилей на нигилистов. А для последних, уже за несколько лет до того, она не пожалела черной краски (Ильдефонс Порыцкий в «Элим Маковере», 1874).
Она приписывала странным персонажам своих новых повестей идеи наивного коммунизма, находившие выражение якобы в требованиях всеобщего раздела имущества и даже всеобщего грабежа. Она увидела в них людей, для которых понятия долга и самопожертвования смешны, закрывая глаза на то, что представители этого поколения своею кровью запечатлевали верность новым идеям, гнили в царских тюрьмах и крепостях и томились в юртах Якутии, рядом с такими русскими демократами, как Владимир Короленко. Уродство ее оценок только отчасти можно объяснить ее ревнивым страхом, что эта польская молодежь, все более тесно сближаясь на почве социалистических идей с передовой русской молодежью, отвернется от столь дорогого сердцу писательницы дела освобождения родины.
Главное, конечно, было в том, что Ожешко твердо стояла на почве существующего общественного строя, будучи только умеренной реформисткой и не стремясь к коренному преобразованию действительности. Именно в классовой ограниченности ее взглядов — объяснение ее близорукости, причина странной аберрации в оценке всего, что имело отношение к социализму. Уже на склоне своих дней, в 1901 году, она в одном из своих частных писем слагает хвалу своему уходящему из жизни поколению и говорит: «Нам было свойственно глубокое чувство идеала, помогавшее держаться в стороне от моря грязной материи… Превыше всего мы любили родину, любили и стремились служить ей и спасать ее». Тут опять проявляется опасение, что интернационализм, или, как говорила Ожешко, «космополитизм», несовместим с патриотизмом — опасение, заставившее писательницу выступить даже с публицистической работой «Патриотизм и космополитизм» (1880).
Но интересно не столько это опасение и весьма характерная шаблонная идеалистическая фраза о «море грязной материи», интересно то, что Элиза Ожешко говорит дальше: «А сегодняшние люди слепили себе двух идолов, перед которыми они бьют поклоны. Имя одного — фабричный рабочий, с его ненавистью ко всем остальным слоям общества, хотя бы они составляли девять десятых всего народа, и, значит, родины. Имя другого — чистое искусство, с исключением идеи добра, с широчайшей снисходительностью к чувственному элементу»… «вплоть до порнографии», прибавляет она дальше через несколько строк, называя имя Станислава Пшибышевского с его героями, гордящимися своими «нагими душами». А страницей ниже читаем: «Социалисты с их девизом „чем хуже, тем лучше“ (?) ненавидят людей, любящих отчизну (!) и дрожащих при мысли о том, что руки безумцев могут толкнуть ее в новую пропасть. Эстеты же из царства „нагой души“ издеваются над статьями, где указывается цель: возводить святыню Красоты на фундаменте — Добра. Когда эту борьбу наблюдаешь вблизи, то она представляется подлинной драмой, и не одно сердце обливается кровью, глядя на все это. Но каков будет финал этой драмы? — Разве это можно предвидеть?»
Невозможно точнее определить свои идейные координаты, чем это сделала Элиза Ожешко в своем письме, где так ярко и недвусмысленно сказались ее буржуазно-шляхетские предрассудки по отношению к социализму, социалистической демократии и рабочему вопросу. К счастью, она остается в истории польской литературы не благодаря этим близоруким взглядам и неосновательным тревогам (относительно которых история уже сказала свое веское и непреложное слово), а вопреки им. Тут кстати вспомнить частично приведенные выше слова В. В. Воровского, характеризовавшего то направление, к которому примыкала и Ожешко, как сыгравшее «бесспорно, заметную прогрессивную роль в развитии польского общества, главным образом, в деле освобождения его от устарелых, отживших форм мышления. И если теперь это направление выродилось — перед лицом других, более прогрессивных, — в политический оппортунизм, то в этом отношении оно повторило лишь историю сходных течений в Западной Европе».
Когда Элиза Ожешко поддавалась страху перед новыми идеями, она искажала действительность, она давала ее в кривом зеркале своих классовых антипатий и предрассудков.
Непререкаемым доказательством этого является весь цикл «Призраков» (1880), к которому относятся, помимо этой повести, еще и следующие: «Сильвек-могильщик» (1880), «Первобытные люди» (1881), «Зыгмунт Лавич» (1882) и «Мыльные пузыри» (1882).
Все это давно забытые произведения, когда-то на короткое время вызвавшие недоумение и даже боль у друзей писательницы из прогрессивного лагеря, вскоре утешившихся, когда они увидели, что Элиза Ожешко (своевременно справившаяся с кризисом) с середины восьмидесятых годов начинает выпускать одно за другим свои лучшие произведения, которые говорят о расцвете ее творчества и которым лагерь консерваторов и клерикалов не мог ни радоваться, ни рукоплескать.
XI
Прошло уже около двадцати лет с тех пор, как начала печататься Элиза Ожешко.
Она испробовала свои силы в различных жанрах художественной прозы, бралась за самую разнообразную тематику, изображала людей всевозможных общественных положений.
И, наконец, она возвратилась к тому, с чего начала: белорусский крестьянин надолго становится героем ее произведений.
Первым произведением нового цикла была повесть «Низины» (1883).
Польская критика отмечала сухость рисунка, мелодраматизм и обнаженную тенденциозность этой повести Ожешко, но признала ряд ее выдающихся реалистических достоинств, вытекавших из хорошего знания деревни. Сочувственно был принят и общий вывод, напрашивавшийся при чтении, — сдержанный, но полный страсти призыв писательницы: «света — деревне!»
Двумя годами позднее вышла повесть «Ведьма» (1885), в которой мощно зазвучал мотив власти тьмы над деревней (мотив, только намеченный в «Низинах» рядом с основным мотивом власти земли). В новой повести жизнь белорусского села, — первых лет после крестьянской и земельной реформы, — была охвачена гораздо полнее.
Писательница создала в ней привлекательный образ девушки-батрачки, вышедшей замуж за кузнеца и ставшей матерью четверых веселых, здоровых ребят.
Петруся, наконец, счастлива, эта сирота и скиталица, смолоду всегда живая, веселая и жизнерадостная, точно беспрерывно бьющий прозрачный ключ.
Но коротко ее тяжело доставшееся счастье, поздно выстраданное годами бездомной батрацкой жизни.
В деревне она слывет знахаркой.
Помогает она людям бескорыстно, не делая профессии из своего знания лечебных свойств трав.
Но вот засушливый год. У коров пропадает молоко. Кто его отнял? Конечно, ведьма. Если б Петрусю об этом спросили, то она ответила бы тоже, что ведьма отняла у коров молоко.
В деревне заговорили о связи «ковалихи» (кузнечихи) с нечистой силой, и Петруся сама в тревоге: нет ли тут какого-то намека на правду, чиста ли она перед богом?
Она идет в ближайший городок к исповеди и причащается там всенародно, чтобы все видели, что бог не отверг ее.
А на обратном пути четверо подвыпивших Дзюрдзей (точное название повести «Дзюрдзи»), в метель спьяну плутающих в санях по полю и убежденных, что это их «водит» нечистая сила, убивают Петрусю, наткнувшись на нее в снежной мгле.
«Они уничтожили дьявольское наваждение, и нашли дорогу. Они стегнули по лошадям, закричали на них протяжными голосами, быстро двинулись по гладкой дороге и опять исчезли в густой снежной мгле».
«А позади них темнела неподвижным пятном Петруся, жена кузнеца Михаила. Они переломали ей грудь и ребра, обагрили кровью молодое лицо и бросили свою жертву на пустом поле, на широком поле, белому снегу на подстилку, черным воронам на съедение».
Такими фольклорными образами, в ритмах белорусского устного народного творчества заканчивает Элиза Ожешко свою красочную и вместе с тем такую мрачную повесть, овеянную духом народных поверий, преданий, песен, разоблачающую власть тьмы в деревне и кипящую все тем же, но еще сильнее рвущимся из сердца призывом: «света, света — народу!»
Четверых Дзюрдзей судили; картина заседания суда оригинально обрамляет повесть.
И каждого Дзюрдзю приговорили к десяти годам каторги и к вечному поселению в Сибири.
Но разорено гнездо кузнеца.
Но разорены дома и хозяйство Дзюрдзей.
А виноваты ли Дзюрдзи? И кто тут, по-настоящему, виноват?
«Судьи, — между строк гневно взывает писательница, — вынесите свой приговор настоящему виновнику преступления Дзюрдзей, настоящему виновнику смерти счастливой матери четверых детей, виновнику ошеломляющего несчастья кузнеца, умевшего с таким заразительным весельем отплясывать белорусские танцы — метелицу и круцеля!»
Этим уменьем заставить читателя задаться вопросом «кто виноват?» и направить его мысль на поиски самостоятельного ответа были очень ценны для современников многие произведения Элизы Ожешко! А одно из них даже так и озаглавлено. «Кто виноват?».
Кто виноват в невежестве народа и в преступлениях, возникающих на почве этого невежества? («Дзюрдзи»). Кто виноват в нищете деревни? («В голодный год»). Кто виноват в пауперизме городского населения, в том, что этот вот юноша становится вором, а эта девушка вот-вот станет проституткой? («Серенькая идиллия»). Кто виноват в унижениях, которые терпит соблазненная женщина, и в гибели ее «незаконнорожденного» ребенка? («Юльянка»). Всюду «кто виноват». сотни «кто виноват», вплоть до скорбного вопля:, кто виноват в том, что родина моя унижена и порабощена и живет без надежды на скорое освобождение?
Так, от тома к тому, растет, с одной стороны, список мучений, мартиролог народных масс и целых стран, запертых в «тюрьме народов», и, с другой стороны, растет список преступлений существующего общественного строя и злодеяний царизма.
Следующим большим произведением, посвященным белорусской деревне, была повесть «Хам» (1887). Но интерес этой повести, главным образом, психологический; описаний деревенского быта здесь гораздо меньше, чем в «Дзюрдзях».
В «Дзюрдзях» была изображена пореформенная белорусская деревня, в которой уже заметно расслоение. В ней начинают верховодить зажиточные мужики. Так, например, горсточка их, собравшись в местечковой корчме после воскресного базара, обсуждает общественные дела всей деревни и принимает решения, подменяя собой «громаду» (мир); притом у этих зажиточных хозяев уже есть уверенность, что мир не посмеет с ними разойтись. В «Дзюрдзях» писательница вывела и бедняков. Это — многосемейные Яков Шишка и Семен Дзюрдзя. Малоземелье при больших семьях никак не позволяет им свести концы с концами. Ожешко показывает безвыходность положения таких крестьян и деморализующую силу нужды, которая гоняет свою жертву по заколдованному кругу всевозможных, говоря по-белорусски, «недохопов» (недостач), пока мужик не упадет в полном физическом изнеможении, или пока нищета не сломит его с помощью шинкаря и ростовщика. Что же касается положения батраков, то достаточно выразителен в «Дзюрдзях» пример Петруси, которая до ее выхода замуж восемь лет работала у зажиточных хозяев и в панском имении, а «пришла в избу мужа в одной юбке да в порванной кофте», хотя была она на редкость здоровая и сильная девушка, и отличная работница.
В повести «Хам» быт и экономика деревни даны только фоном, на котором разыгрывается драма неманского рыбака, белорусса Павла Кобыцкого.
Зерно идеи этого произведения — в его заглавии.
Наряду с обычным в Польше названием мужика — «хлоп», широкое распространение получило (особенно по отношению к белоруссам и украинцам) гнусное прозвище «хам». На мужика смотрели, как на представителя низшей расы, и в эту бытовую кличку раба вкладывалось презрение людей другой веры, другой, господствующей нации, другого класса.
Даже мещанство — и то смотрело на мужика сверху вниз и, по-своему реагируя на вековое противоречие города и деревни, третировало крестьян как хамов. И как раз в польском мещанстве всегда очень сильно проявлялся этот своеобразный «пафос социальной дистанции», когда дело шло об отношении к мужику. Закоренелость и заскорузлость польского застарелого и застоявшегося, затхлого мещанства не раз получали беспощадную оценку под пером Ожешко и многих других польских писателей.
Элиза Ожешко с первого же своего литературного выступления взяла под защиту забитого белорусского мужика. Она всю жизнь считала крестьянство фундаментом всего здания человеческого общества.
В «Дзюрдзях», пусть риторически, но с глубокой искренностью, она сказала о мужиках, что это — «труженики, чело которых, орошенное потом, по чистоте и величию может равняться с челом, увенчанным лаврами».
В новой повести «Хам» писательница дала образ крестьянина, всем своим существом, своими высокими и вместе с тем простыми душевными свойствами (естественными свойствами здорового духом рядового человека из народа) опровергающего ту гнусную кличку, которая стала у мещан и шляхты бытовым синонимом слова «крестьянин».
Павел Кобыцкий, неманский рыбак — всего лишь простой, неграмотный белорусский крестьянин.
Но в нем есть та ясность духа, которая свойственна людям одиноким, постоянно общающимся с природой.
В нем живо дает себя знать естественное чувство справедливости, и он без малейшего насилия над собой живет по тем вековым представлениям о правде, которые бытуют в народе.
Рано овдовевший, бездетный, он к сорока годам сохранил в сердце столько любви к человеку, что после нескольких встреч с горничной Франкой привязывается всем сердцем к этой видавшей виды женщине с вывихнутой душой, соблазненной когда-то мужем ее хозяйки и развращенной семнадцатилетней жизнью в горничных.
Огромный запас душевных сил, избыток душевного здоровья внушают Павлу бессознательную уверенность в том, что ему удастся спасти ее и, как мы тещ ерь выражаемся, перевоспитать.
Франка с такой правдивостью рассказывает ему свою жизнь, в ее рассказе столько искренней печали, когда она вспоминает о десятках унизительных подробностей своей службы в качестве личной прислуги, — сегодня у одних, завтра у других хозяев, — она так тяготится своим прошлым, так стремится теперь к другой, чистой и просветленной жизни, так восторженно любит Павла, что тот, долго не раздумывая, женится на ней.
Искренняя, увлекающаяся Франка сначала всем сердцем радуется новой жизни, даже ездит с Павлом на рыбную ловлю, живет в каком-то идиллическом сне.
Она прежде не знала природы, она никогда не была предметом такой чистой любви, новый мир широко распахнулся перед нею.
Но ее порыва хватает не надолго.
Та самая необыкновенная душевная подвижность, которая позволила ей так далеко уйти за миражем новой жизни, заставляет ее, спустя некоторое время, искать нового увлечения, и она уходит от Павла с первым подвернувшимся лакеем.
Две причины сыграли здесь решающую роль, помимо болезненной потребности в постоянной перемене обстановки, в постоянном притоке сильных новых впечатлений: она никак не может привыкнуть к систематическому (не очень для нее тяжелому благодаря постоянной мужниной помощи) крестьянскому труду, который она — домашняя прислуга в течение семнадцати лет! — считает недостойным ее, «хамским»; а затем она (еще до замужества заговорившая о неравном браке, о «мезальянсе») все время возвращается к мысли, что, выйдя замуж за Павла, она «омужичилась, охамилась»… И вот тут поражает целый «букет» ее неистребимо стойких представлений, связанных с чувством кастового превосходства мещанства над мужиком.
Происходила Франка из местечкового мещанства.
У отца ее были две лачуги в каком-то глухом переулке захудалого городка, где он служил писарем и где он спился и умер в белой горячке.
Мать Франки вела на глазах подрастающей дочери весьма легкомысленный образ жизни.
Словом, это была мещанская семья, охваченная гнилостным разложением, распадающаяся и гибнущая.
Казалось бы, чем же тут можно гордиться?
Из своего детства Франка вынесла зародыш какой-то тяжелой душевной болезни, сильно развившейся ко времени ее выхода замуж за Павла.
И вот, ни это детство Франки, ни длинная вереница унижений на службе у разных господ, ни ее горькое разочарование после стольких ее любовных историй в лакейских не смогли истребить в ней чувства мещанской спеси.
Видимо, это чувство постоянно поддерживалось в ней не только ее старой мещанской закваской, но и примером панской спеси хозяев, у которых она бывала в услужении.
За семнадцать лет Франка чего только не насмотрелась у бар, и вот, вскоре после выхода замуж, когда порыв прозелитизма стал проходить, он сменился жаждой реванша, и Франка усвоила себе тогда роль плебейской «сильфиды», полной заносчивых предрассудков, нетерпимой, язвительной.
Все, чем она восхищалась прежде в Павле, теперь стало вызывать в ней отвращение.
Она все чаще и злее, и всегда неосновательно, клеймит его прозвищем «хам» и все окружающее считает хамским, недостойным ее, унизительным.
Отзывчивость ее души, ее лиризм, пленявшие нас вначале, сменяются теперь исступленной истерией, соединенной с безудержной манией величия.
Она без конца вспоминает о своем отце, который «в канцелярии служил», о его двух жалких лачугах — «у моего отца два дома было!», и о матери, которая «на фортепиано играла», о каком-то двоюродном братце, адвокате, что в большом городе живет и «такой — богатый, богатый!..»
А вскоре после своего возвращения к Павлу с прижитым ею ребенком она бросает вызов всей деревне, фурией врывается в жизнь односельчан Павла, делает совершенно невыносимой жизнь простившего ее мужа и даже покушается отравить его.
И только тогда, когда он спасает ее от тюрьмы и каторги, она спохватывается, что чересчур далеко зашла.
В конце концов, в ней, изломанной, взбалмошной, анархической и аморальной, побеждает доброе начало, но только затем, чтобы она своими же руками накинула себе на шею петлю и покончила со своей многотрудной, бурной жизнью, зараженной пороками и предрассудками ее среды. Единственным просветом ее жизни была идиллия первых месяцев замужества. И именно в эти месяцы проявились ее лучшие черты — ее правдивость, доброжелательность, щедрость, приветливость — вскоре, однако, смятые и задавленные всем ее фатальным прошлым.
Расставаясь с обоими, Франкой и Павлом, читатель выносит представление, что оба они жертвы. Он — жертва этой женщины, а через нее тех недобрых начал, которые капиталистический город несет деревне, а она — жертва и своего печального детства, которое не дало ей никаких устойчивых нравственных представлений, и своей полной утомительного безделья или изнуряющей сутолоки жизни в горничных, жертва нелепой кастовой мещанской спеси и всех тех условий, которые не дали развиться заложенным в ней добрым началам.
Остановимся еще на одной особенности «Хама».
Элиза Ожешко, воспитанная на идеях французских энциклопедистов, придерживалась основ светской, не нуждающейся в религиозной санкции морали.
Павел Кобыцкий, неграмотный крестьянин пореформенной белорусской деревни, не мог иметь никакого представления о подобной морали, и его понятия о добре и справедливости облекались в традиционные религиозные представления о боге и черте, об адских муках и т. п.
А так как он — фанатик добра и справедливости, маниакально стремящийся к тому, чтобы обеспечить их торжество, то он упорно возвращается к этим привычным традиционным образам.
Эта внешняя церковность его нравственных убеждений заставила, было насторожиться ультра-католический лагерь: уж не намечается ли тут перелом в сознании не по-христиански ненавидимой ими за свободомыслие писательницы?
Пристально вглядевшись в «Хама» и в последовавшие за ним произведения, клерикалы возобновили свою кампанию против Ожешко. В мае 1891 года (спустя четыре года после выхода в свет «Хама») «Католическое обозрение» в статье ксендза Чечотта избрало мишенью своих нападок повесть Ожешко из монастырской жизни «Аскетку».
В 1895 году этот ксендз повторил свои обвинения в частном письме к писательнице.
Он назвал «Аскетку» произведением «не только неудачным в художественном отношении, но и — злым делом».
Он спрашивал писательницу в упор: «Как у вас хватило совести писать пасквили на монастыри и монастырскую жизнь?»
И он без церемонии повторил грязную кличку, которой перед тем краковский католический листок обозвал писательницу, — «помощница Муравьева», того самого Муравьева-Вешателя, который, разгромив восстание 1863 года в Литве и Белоруссии, стремясь искоренить польский национализм и пропаганду ненависти к царизму, стал закрывать католические монастыри.
Ультра-католики спрашивали Ожешко (по их словам, «еврейскую судомойку» и «помощницу Муравьева-Вешателя»):
«Как вы отважились хлестать бичом иронии поверженное в прах монашество?.. И почему вы никогда не касаетесь религиозной струны в сердцах человека?.. Почему в психологии ваших героев, в их битвах и в горе, в трудах и разочарованиях они никогда не испытывают потребности в молитве?.. Неужели в нашем обществе вы нигде и никогда не видели и следов горячей веры, и неужели вы считаете, что можно обходить молчанием господа бога, как бесконечно малую величину, которая ничем не может повлиять на целостность образа?»
Ее упрекали в том, что, изображая церковно-добродетельных особ, она делает их невыносимыми, «невозможными» или чудачками, забавляющимися филантропией («Добрая пани», 1882), или гордыми эгоистками, а не то ханжами и лицемерками, или же доходящими до глупости в своей простоте монашенками.
Приведенного материала достаточно для того, чтобы освободить писательницу от тени подозрения в каких-то клерикальных намерениях при создании «Хама».
Русская исследовательница творчества Элизы Ожешко, известная своими статьями и о Жорж Санд, М. К Цебрикова, говоря об отношении польской писательницы к религии, очень удачно выразилась: «Судя по произведениям Элизы Ожешко, католицизм имел на нее то влияние, которое создало Вольтера, хотя, — прибавляла она дальше, — у Ожешко не встречается таких острых и сильных образов, в которых проявилась вражда Вольтера к Сорбонне, оплоту католического мракобесия».
Та же М. К. Цебрикова, характеризуя героя «Хама» Павла Кобыцкого, очень хорошо сказала и о нем: «Павел из тех не крупных, но стойких сил, которые еще ждут учителя». Сказано это на редкость удачно. Павел так и не дождался своего настоящего учителя, как долго его не могло дождаться и все крестьянство Западной Белоруссии.
А с какой страстью Павел хочет научиться грамоте, с каким трудом он, самоучкой, по единственной ставшей ему доступной книжке, молитвеннику Франки, в течение нескольких лет научился читать, тщетно стремясь достать какую-либо светскую книжку, которая рассказала бы ему о земле, о людях!
При этом Ожешко показывает, как мало способен он понять (да только ли он?) богословско-катехизическую заумь «Службы божьей».
Окончив чтение, Павел обычно целует купидончиков с крылышками, изображенных на вложенных Франкой в молитвенник открытках, которые присылали Франке ее поклонники. Он принимает этих купидончиков за ангелов, как кухарка из «Простого сердца» Флобера принимала чучело попугая за святого Духа и молилась перед ним.
Так Ожешко сближает здесь религию с суеверием, подобно тому, как в «Дзюрдзях» она прибегала к известному приему энциклопедистов, все время, давая и суеверие, и религию в одной плоскости, под общим углом зрения.
Сильнее, чем в двух предыдущих белорусских повестях, в повести «Хам» раздается все тот же призыв: «Света, света, света — народу!»
С «Хамом» тесно связана написанная четырьмя годами позднее «деревенская повесть» Элизы Ожешко, озаглавленная «Bene nati» («благородные», о шляхте). Здесь она переходит к художественному изображению мелкой шляхты, живущей целыми деревнями («околицами», «застенками»), пашущей землю, задыхающейся от малоземелья, во всем похожей на обыкновенных крестьян, но отличающейся от них своей кастовой спесью, чванящейся перед мужиками своим подчас весьма спорным дворянством и проникнутой духом той «беспредметной драчливости», который так хорошо подметил в польской шляхте Энгельс.
Если в «Хаме» изображалась кастовая спесь мещанства, то герой этой новой повести, старший лесник из крестьян, красивый, интеллигентный Ежы (Георгий), обручившись с девушкой из мелкой шляхты, Салюсей, становится объектом дикой травли со стороны «благородных» родственников девушки, мелких шляхтичей, клеймящих его все тем же прозвищем «хама».
В обеих повестях — «Хаме» и «Bene nati» — Элиза Ожешко запечатлела свою ненависть к тому кастовому духу, который был серьезнейшим препятствием на пути роста польской демократии, разделяя самих трудящихся и мешая сплочению их сил для крупных исторических и культурных задач — задач всеобщего, национального значения.
XII
В промежутке между выходом в свет «Дзюрдзей» и «Хама» Ожешко напечатала свой большой роман «Над Неманом» (1886), который представляет собой своего рода синтез двадцати лет ее творчества.
Писательница изобразила здесь провинциальное польское общество начала восьмидесятых годов. Особенно полно и ярко, как ни в одном из своих произведений, она показала здесь польскую шляхту.
Основные моменты в ее оценке людей, изображенных ею в романе, — это их отношение к труду и к родине.
Вот, например, Теофиль Ружиц, один из виднейших аристократов края, промотавший в европейских столицах миллионное состояние. Износившийся физически и духовно, он с апатией смотрит на все окружающее, и только морфий возвращает ему некоторую живость. Он обладает изящным вкусом, образован и достаточно умен, чтобы сознавать: «Я не что иное, как великая бесполезность. Я страдаю от огромного количества поглощенных мною трюфелей и заглядываюсь на черный хлеб». Этот «черный хлеб» — героиня романа Юстина, дочь разорившегося средней руки шляхтича Ожельского, который живет вместе с нею у своего дальнего родственника.
А вот другой аристократ, Дажецкий, надутый, высокомерный, недалекого ума «человек, крепко стоящий на золотых ногах», которые слишком часто уносят его за границу.
К ним примыкает Зыгмунт Корчинский, гораздо менее богатый, чем они, но воспитанный матерью, аристократкой, в сознании своей исключительности, даже гениальности; у него были кое-какие способности художника, но они не оправдали больших ожиданий матери. Он тяготится своим положением помещика, хочет продать наследственное имение, уехать за границу и жить там на ренту. Он винит родной край в своем творческом бессилии художника, говоря, что вдохновение не посещает его здесь, среди амбаров и хлевов да серых, скучных полей Белоруссии. Сын демократа, героя восстания 1863 года, покоящегося в братской могиле среди наследственного занеманского бора Корчинских, Зыгмунт отрекается от дела отца и осуждает его как безумца.
Все аристократы, выведенные в романе, ведут совершенно паразитический образ жизни, не дорожат своими землями, тяготятся хозяйством, все тянутся на Запад и более или менее равнодушны к судьбам родины.
От них резко отличается Бенедикт Корчинский, помещик средней руки, весь поглощенный хозяйственными заботами, с трудом удерживающий хозяйство от разорения. Ожешко в его лице изобразила шляхтича, который крепко держится родной земли и усердно работает на ней не хуже какого-нибудь американского фермера, к которому он близок и по размерам своего хозяйства. Но этому шляхтичу-фермеру приходится туго. Его хозяйство постоянно находится на грани разорения. Притом, говорит Ожешко, «несколько крестьянских деревень и одна шляхетская „околица“ держали Корчин в настоящей блокаде, и если бы пан Бенедикт сопротивлялся менее энергично, — сотни маленьких рыбок в мгновение ока растерзали бы большую рыбу».
Отношения Корчина со шляхетской околицей — основная тема романа. С наибольшей полнотой изображена в нем именно мелкая шляхта, живущая рядом с Корчином целой деревней — Богатыровичами. «Жители этой деревни обладали когда-то документами, удостоверяющими их дворянство, но давно уж их потеряли, и теперь вели убогую, трудовую жизнь мелких хлебопашцев».
В пору восстания между Корчином и Богатыровичами были самые тесные отношения. Андрей Корчинский, старший брат Бенедикта, был убежденным демократом. Он дружил с Юрием Богатыровичем, и оба давно покоятся в занеманском кургане. Бенедикт, в те годы разделявший убеждения брата, потом озлобился, замкнулся, отошел от заветов Андрея.
Вернуться к этим демократическим заветам, завязать прежние дружеские отношения с Богатыровичами побуждает Бенедикта его сын Витольд, студент, представитель демократических убеждений лучшей части современной польской молодежи, как ее понимает и видит Ожешко.
Юстина, племянница Бенедикта Корчинского, все, более сближаясь с населением трудовой шляхетской «околицы», делает решительный шаг: она выходит замуж за Яна Богатыровича, сына того Юрия Богатыровича, который был соратником и другом Андрея Корчинского.
«Возвратная волна» схлынувшего движения 1863 года (в его демократической части) — такое образное определение дается в романе демократизму молодежи типа Витольда и Юстины.
Витольд и Юстина, не боясь никакого труда, «идут в народ». Но они идут с цивилизующими, просветительскими целями, не задаваясь задачами глубокого социального характера. Они целиком остаются на почве существующей действительности, стараясь лишь вносить в нее поправки, улучшения (примеры, взятые из романа: рытье колодцев, усовершенствование методов ведения полевого хозяйства и садоводства, грамотность и т. п.).
Демократический пафос и вдохновляющий пример молодежи приводят к снятию социальных противоречий Корчина и шляхетской «околицы». Заодно происходит примирение двух поколений, представляемых Бенедиктом и Витольдом Корчинскими, возобновляется связь с лучшими историческими заветами давнего прошлого (вставная историческая новелла «Ян и Цецилия») и демократическими заветами вчерашнего дня, заветами, оказавшимися живучими и стойкими, хотя люди, оставившие их новому поколению, трагически погибли.
Роман «Над Неманом», проникнутый критикой паразитизма высших слоев общества, искренним народолюбием и поэзией труда и природы, имел большой успех. Но как программное произведение, он показал слабость положительных целей, которыми задавалась писательница. Уже современная ей польская критика указывала, что поставленные писательницей положительные социальные цели не могут привести ни к какой имеющей сколько-нибудь серьезное значение общественной реформе.
Крестьянский вопрос, в целом, оставлен в стороне. Писательница пропагандирует необходимость всяческого улучшения взаимоотношений средней и мелкой шляхты, союз которых она склонна считать основой национальной жизни Польши, — идея, безнадежно скомпрометированная к середине восьмидесятых годов, ко времени выхода романа «Над Неманом». Расплывчатый демократизм этого произведения, в сущности, сводится к пропаганде сглаживания социальных противоречий следующими путями: облегчение (средствами культурного воздействия и филантропии) положения трудовой, «омужичившейся» мелкой шляхты; трудовое перерождение средней шляхты, хозяйство которой должно из поместного превратиться в фермерское; ликвидация крупного землевладения как хозяйственной основы социально-паразитического магнатства. Притом, реформистские надежды писательницы основываются, частью, на таких исключительных случаях, как выход Юстины замуж за идеализированного Яна Богатыровича, изображенного к тому же и самой писательницей как единичное явление. Ведь во всей людной шляхетской околице нет другого парня, который был бы Юстине под стать, и только поколением ранее на него был похож Анзельм, его дядя, но тогда Марта, тетка Юстины, так и не решилась выйти за Анзельма замуж, испугавшись труда и тягот деревенской жизни. В том, что представительница нового поколения, Юстина, уже не боясь труда, решается на замужество с однодворцем, Ожешко видит обнадеживающий прогресс.
Помимо этих вскользь отмеченных нами проблем, в романе затронут вопрос о роли женщины в семье, об ее отношении к труду (противопоставление двух аристократок: пани Эмилии, «сильфиды», и пани Кирло, урожденной Ружиц, тяжелым трудом отстаивающей существование своих пятерых детей); затронут вопрос о воспитании молодежи, на примере юношей — Витольда и Зыгмунта Корчинских, девушек — на примере Леони Корчинской и Марыни Кирло и др. проблемы.
Несмотря на несостоятельность своей положительной программы, роман «Над Неманом», являющийся одним из лучших реалистических полотен Элизы Ожешко, имеет большое художественно-познавательное значение, и в свое время он сыграл немалую роль в демократизации сознания некоторых общественных слоев в Польше.
XIII
Время с середины восьмидесятых годов почти до середины девяностых — это пора высшего творческого расцвета Элизы Ожешко.
Но и в эту лучшую пору ее творчества она — писательница переломной эпохи — не смогла вполне преодолеть свой идейный кризис. Она только обошла его, обратившись от мало знакомых ей условий городской жизни к изображению деревни.
С середины девяностых годов Ожешко подпадает под влияние толстовской пропаганды, заметное уже на ее романе «Два полюса» (1893) и сказавшееся особенно разительно в повести «Австралиец» (1894). В «Аргонавтах» (1899) критика буржуазной цивилизации, изображение опустошающей ум и сердце погони за «золотым руном» тоже носят черты толстовства.
Первое десятилетие двадцатого века — последнее в жизни писательницы — ознаменовалось обострением в ней идейного кризиса, о чем уже говорилось выше. В творческом отношении оно лишено единства и не отмечено произведениями, которые много прибавили бы к заслуженной писательницей славе.
Весьма положительное значение имела в эти годы ее борьба с польским декадентством, с проповедью «искусства для искусства», с ницшеанством «сверхчеловеков», поворачивавшихся спиной к народу, проповедовавших безудержно циничное отношение к гражданским идеалам, на защиту которых и встала Элиза Ожешко.
Она выступала здесь как «последний из могикан» того времени, которое дорого было ей в его лучших заветах — любви к родине и к народу, заветах, которым она не изменяла всю жизнь и которым посвятила свою последнюю книгу «Слава побежденным!» (1910).
Эта книга тоже возвращала ее к временам ее молодости, когда она, скромная участница восстания, шила конфедератки, добывала продовольствие и доставляла его вместе с подругами в леса, где засели восставшие.
Работая над этой книгой, водя по бумаге пером в уже коснеющей руке, уходящая из жизни писательница вспоминала:
«И какие бывали чудные восходы солнца, какие разгорались на небе розовые зори, когда мы, бывало, пили из глиняных кружек пенистое молоко, после ночи, проведенной без сна, в трудах и заботах, пили возле грядок с яркими настурциями и пионами.»
«И только — увы! — наши возы никогда не останавливались возле крестьянских хат.»
«Хаты эти были заперты для нас — увы!»
«Их запирали от нас разница в религии, в языке и ошибки наших предков — увы! увы!»
Всю свою дальнейшую жизнь она посвятила тому, чтобы исправить эту ошибку предков.
Но время шло. За сорок с лишним лет, прошедших после поражения восстания, вырос польский пролетариат, возник рабочий вопрос, страна пережила революцию 1905 года. Все это прошло мимо писательницы. Она по-новому повторила на другом историческом этапе ошибку своих предков. Она не переступила порога квартиры рабочего, уже начавшего решительную переделку ненавистных ей социальных отношений.
В этом заключалась ее трагедия. Она не смогла идти в ногу со своим временем. Скованная рядом буржуазно-шляхетских предрассудков, Ожешко не смогла указать народу настоящий путь, но все же сумела обнажить многие язвы современного ей польского общества. Голос ее порой «умел сердца тревожить» и заставлял истинных друзей народа еще глубже задумываться над его судьбой и побуждал их искать способы коренного изменения к улучшению его судьбы.
Несчастья ее родины — три раздела и три ошеломляющих поражения — развили в ней такую горячую любовь к родной стране, что она отдала без остатка всю свою жизнь ей и своему народу.
Она могла бы вслед за Мицкевичем сказать о народе: «Я хочу поднять его, осчастливить, хочу удивить им весь мир».
И в каждом своем произведении она хочет людям труда счастливой жизни, где бы оберегалось их человеческое достоинство, где они были бы сыты, обуты, одеты и обладали необходимым досугом для своего развития и для удовлетворения высших потребностей.
Она хочет видеть их детей здоровыми, румяными, веселыми, их сады цветущими весной и одетыми в золото и пурпур плодов осенью.
Всю жизнь она «с верой и энергией стремилась к свету» и завещала это своим соотечественникам, твердо уповая на духовную силу народа, которая, по ее убеждению, несмотря на материальный гнет жизни, приведет его к добру и красоте.
Однажды (в очерках об опустошительном пожаре Гродно в 1885 году) Элиза Ожешко, говоря об одном замечательном труженике, садовнике, сказала:
«В его разговорах чувствовалось много стойкости труженика, гордости независимого человека; в них сверкали искры гражданских чувств и, по временам, вспыхивал огонь той здоровой поэзии, источник которой составляет любовь к родине, людям и свободе».
В этих словах невольно дана эстетика и всего творчества самой Ожешко.
В ее уже несколько обветшавшем «старосветском» стиле скрывается столько привлекательного, в нем столько славянской задушевности, столько огня гражданских чувств, столько «здоровой поэзии, поэзии любви к родине, людям и свободе», что творчество Ожешко, при ее жизни весьма популярное у русского читателя, найдет к нему путь и сейчас.
Ибо постоянная честная озабоченность судьбами народа — в этом, при всех ее заблуждениях, — вся Ожешко.
Она мечтала о возрождении Полыни. Настоящее возрождение ее многострадальной отчизны наступило. Оно осуществляется героическим трудом народной демократии, ведущей страну по пути социалистического преобразования.
Н. А. Славятинский
― МАРТА ―
— Жизнь женщины — это вечно пылающее пламя любви, — говорят одни.
— Жизнь женщины — в самоотречении, — твердят другие.
— Жизнь женщины — в материнстве, — восклицают третьи.
— Жизнь женщины — игра, — шутят некоторые.
— Добродетель женщины — ее слепая вера, — хором соглашаются все.
Женщины веруют слепо; они любят, жертвуют собой, растят детей, развлекаются… следовательно, делают все, чего от них требует общество, и все же на них посматривают как-то косо и время от времени бросают им не то упрек, не то предостережение:
— Неладно вы живете!
И наиболее вдумчивые, разумные или наиболее несчастные женщины, вглядываясь в свою жизнь и в то, что их окружает, твердят:
— Да, неладно мы живем!
Если неладно, значит надо искать выход. Одни видят его в одном, другие — в другом, но все эти рецепты не помогают излечить недуг.
Недавно один писатель, который пользуется заслуженным уважением в нашей стране (Захариасевич), в своем романе «Альбина» пытался доказать, будто женщины страдают физически и нравственно только оттого, что не умеют сильно любить (конечно, мужчину!).
О, небо! Какая вопиющая несправедливость!
Пусть слетит к нам на помощь розовый божок Эрос и подтвердит, что вся наша жизнь — фимиам, который мы непрестанно курим в его честь!
Едва выйдя из детского возраста, мы уже слышим, что наш удел — любить одного из этих «царей природы»; в юности мы мечтаем об этом повелителе и вечерами, когда на небе светит луна или сверкают звезды, и по утрам, когда белоснежные лилии раскрывают навстречу солнцу благоухающие чашечки. Мечтаем и вздыхаем, вздыхаем о том мгновении, когда нам можно будет, как лилиям к солнцу, устремиться навстречу тому, кто встает в нашем воображении, словно Адонис в утреннем тумане или в потоках лунного света… Затем… что же затем? Адонис спускается с облаков, находит себе телесное воплощение, мы меняемся с ним кольцами и выходим за него замуж… Это тоже доказательство любви, и, хотя вышеупомянутый писатель в своих прекрасных романах утверждает, что это всегда и неизменно делается по расчету, мы не можем с ним полностью согласиться. Брак по расчету — обычное явление лишь в определенных кругах и при определенных обстоятельствах. Как правило же, брак — следствие любви. Какой любви? Это уже другой вопрос, сложный, об этом пришлось бы много говорить. Достаточно того, что, когда девушка в подвенечном платье, стыдливо закрыв лицо белоснежной фатой, идет к алтарю, прекрасный Эрос летит впереди, держа над ее головой свой факел, горящий розовым пламенем.
Затем… Что же затем? Мы снова любим… Если и не того царя природы, который девочке-подростку являлся в мечтах, а юной деве надел на палец обручальное кольцо, — так иного; а когда не любим никого, то жаждем любви… сохнем, чахнем; частенько эта неудовлетворенная жажда любви делает нас злыми ведьмами…
И что же происходит? Одни порхают в жизни, осененные крыльями бога любви, они честны, добродетельны и счастливы; другие — и таких больше, гораздо больше — ступают по земле окровавленными ногами, борясь за кусок хлеба, за свой душевный мир, за честь свою; их удел — горькие слезы, безумные страдания, они тяжко грешат, падают в пропасть позора, умирают с голоду…
Итак, рецепт «любите!» не во всех случаях помогает.
Видно, в лекарство следует добавить еще кое-что, тогда оно скорее поможет. Чего же в нем недостает?
На это, быть может, ответит страница из жизни одной женщины…
* * *
Граничная улица — одна из оживленных улиц Варшавы. Несколько лет тому назад, в прекрасный осенний день по этой улице шло и ехало множество людей. Все были поглощены своими делами, спешили, никто не смотрел по сторонам и не обращал ни малейшего внимания на то, что происходило в глубине одного двора на этой улице.
Это был чистый, широкий двор, окруженный с четырех сторон высокими каменными строениями. Дом, стоявший в глубине двора, был меньше остальных, но большие окна, широкая лестница и красивое крыльцо наводили на мысль, что квартиры в нем удобные и нарядно отделаны.
На крыльце стояла молодая, очень бледная женщина в трауре. Бледненькая девочка лет четырех, тоже в трауре, цеплялась за бессильно повисшие руки женщины, словно говорившие о великой печали и усталости.
По чистой, широкой лестнице с верхнего этажа то и дело сходили грузчики в грубой одежде и запыленной обуви. Они выносили всякую мебель и вещи, все, что можно найти в квартире, если и не слишком большой и роскошной, то по крайней мере красиво и комфортабельно обставленной. Были тут кровати красного дерева, диваны и кресла, обитые красным штофом, дорогие шкафы и комоды, какие-то мраморные постаменты, большие зеркала, цветы в кадках — два высоких олеандра и датура, на ветвях которой висело несколько еще не совсем отцветших белых венчиков.
Грузчики проходили мимо женщины на крыльце и, вынося вещи во двор, ставили их на землю или грузили на две телеги, стоявшие недалеко от ворот, а некоторые выносили на улицу. Женщина стояла неподвижно и провожала взглядом каждую вещь. Видно было, что все эти предметы, с которыми она расставалась, дороги ей не только как материальная ценность: она прощалась с ними, как прощаются с чем-то, неразрывно связанным с безвозвратно ушедшим прошлым, как прощаются с немыми свидетелями утраченного счастья. Черноглазая девчурка дернула мать за платье.
— Мама! — шепнула она. — Смотри! Папин стол!
Грузчики снесли с лестницы и поставили на телегу большой письменный стол, крытый зеленым сукном, с красивой резной решеточкой вокруг. Женщина в трауре окинула его долгим пристальным взглядом.
— Мама, — продолжала девочка тихо, — видишь большое чернильное пятно на сукне? Я помню, как это было… Папа сидел за столом и держал меня на коленях. А ты, мама, пришла и захотела меня отнять. Папа смеялся и не отдавал. Я стала шалить и разлила чернила… Отец не сердился… Отец был добрый. Он никогда не сердился ни на меня, ни на тебя.
Ребенок шептал эти слова, пряча личико в складках траурного платья матери и всем своим маленьким телом прижимаясь к ее коленям. Видно, и этим детским сердечком уже овладели воспоминания, сжимая его безотчетной болью. Из сухих глаз женщины выкатились две тяжелые слезы; картина прошлого, вызванная в ее памяти словами дочери, затерявшаяся среди миллионов других подобных ей будничных картин, казалась теперь несчастной женщине горькой и сладостной, как воспоминание об утерянном рае. А, быть может, она подумала, что за беззаботную радость той минуты она сегодня расплачивается потерей чуть не последнего куска хлеба, оставшегося у нее и ребенка, а завтра — заплатит за нее голодом: ведь пятно от чернил, разлитых когда-то под смех ребенка и поцелуй родителей, уменьшит на несколько десятков злотых стоимость письменного стола.
Вслед за столом на дворе появилось красивое фортепиано, но женщина в трауре, посмотрела на него уже равнодушнее. Она, видимо, не была настоящей музыкантшей, и этот инструмент вызывал у нее меньше всего сожалений и воспоминаний. Зато кроватка красного дерева с вязаным пестрым одеяльцем, вынесенная из дома и поставленная на телегу, привлекла взгляд матери и вызвала слезы на глазах ребенка.
— Мама, моя кроватка! — крикнула девочка. — Они забирают мою кроватку! И одеяльце, что ты мне сама связала! Я не хочу, чтобы они их увезли! Мама, отними у них мою кроватку и одеяльце!
Вместо ответа женщина только прижала к себе голову плачущего ребенка; ее глаза, черные, прекрасные, но несколько ввалившиеся, были уже снова сухи, а бледный, нежно очерченный рот крепко сжат.
Изящная детская кроватка была последней вещью, вынесенной из квартиры. Ворота открылись настежь, нагруженные вещами телеги выехали на улицу, за ними вышли грузчики с остальными вещами, а любопытные, наблюдавшие из окон соседних домов, покинули свои посты.
С лестницы сошла девушка в пальто и шляпке и остановилась перед женщиной в трауре.
— Пани, — сказала она, — я все сделала… расплатилась, с кем следовало… Вот что осталось…
Говоря это, она подала женщине в трауре несколько кредиток.
Та медленно повернулась к ней лицом.
— Спасибо, Зося, — сказала она тихо, — ты всегда была добрая девушка.
— Это вы были всегда добры ко мне! — воскликнула девушка. — Я служила у вас четыре года, и мне нигде не было и не будет так хорошо, как у вас.
Она отерла мокрые глаза рукой, на которой видны были следы иголки, и утюга. Женщина схватила эту огрубевшую руку и крепко сжала ее своими белыми маленькими ручками.
— А теперь прощай, Зося! Будь здорова!
— Я вас отвезу на новую квартиру! — сказала девушка. — Сейчас позову извозчика. ……
Через четверть часа обе женщины с девочкой вышли из пролетки у дома на Пивной улице.
Этот узкий, высокий, четырехэтажный дом имел вид дряхлый и довольно мрачный. Маленькая Яня широко открытыми глазами смотрела на его стены и окна.
— Мама, мы здесь будем жить?
— Здесь, детка, — тихо ответила мать и обратилась к стоявшему у ворот дворнику.
— Дайте, пожалуйста, ключ от квартиры, которую я наняла два дня тому назад.
— А! Это, должно быть, мансарда! — отозвался дворник и добавил: — Идите наверх, сейчас открою.
Пройдя квадратный дворик, с двух сторон огороженный глухой кирпичной стеной, а с двух — ветхими дровяными сараями, они стали подниматься по узкой, темной и грязной лестнице. Зося взяла девочку на руки и пошла вперед, а мать медленно следовала за ней.
Комната, которую им отпер дворник, была довольно просторная, но низкая и темная. Одно небольшое оконце, выходившее на крышу, освещало ее плохо, а скошенный потолок, казалось, давил на стены, пахнувшие сырой известкой, — они, видимо, недавно были побелены.
В углу, у грубо сложенной из кирпича печи, была и небольшая плита, а напротив, у стены, стояли шкафчик, койка, кушетка, обитая рваным ситцем, стол, покрашенный черной краской, и несколько стульев с соломенными сиденьями, местами продавленными и продранными.
Женщина в трауре остановилась на мгновение у порога, медленно обвела глазами это жилище и, шагнув вперед, села на кушетку.
Девочка подошла к матери и, неподвижная, бледная, осматривала комнату взглядом, в котором читался испуг и удивление.
Зося между тем отпустила извозчика, внесшего наверх два небольших чемодана, и занялась разборкой вещей.
Вещей было немного, и она быстро управилась с этим делом. Не снимая пальто и шляпки, она уложила в один из чемоданов несколько детских платьиц и немного белья, а второй, пустой, поставила в углу. Потом застлала кровать шерстяным одеялом, положила на нее две подушки, завесила окошко белой занавеской, поставила в шкаф несколько тарелок и кастрюль, глиняный кувшин для воды, такой же таз, медный подсвечник и маленький самоварчик. Сделав все это, она достала из-за печки вязанку дров и развела под плитой веселый огонь.
— Ну вот, — сказала она, наконец, вставая и повернув разрумяненное огнем лицо к неподвижно сидевшей женщине, — я затопила, сейчас тут станет и теплее и светлее. Дрова за печкой, пани. Недели на две вам хватит. Платье и белье в чемодане, а посуда кухонная и столовая — в шкафу. Подсвечник со свечой я тоже поставила в шкаф.
Добрая девушка старалась говорить все это веселым тоном, но улыбка сбежала с ее губ, на глаза навертывались слезы.
— А теперь, — промолвила она тише, сжав руки, — теперь, моя дорогая пани, мне надо идти!
Женщина в трауре подняла голову.
— Да, тебе пора, пора, Зося. — Она взглянула в окно: — Уже начинает смеркаться… тебе страшно будет идти по городу вечером.
— Нет, не в том дело, дорогая пани! — воскликнула девушка. — Для вас я бы в самую темную ночь пошла на край света… Но… мои новые хозяева уезжают из Варшавы завтра рано утром и велели мне прийти до темноты. Мне надо поторопиться, потому что я им нужна еще сегодня…
При последних словах Зося наклонилась и, взяв белую руку своей пани, хотела поднести ее к губам. Но женщина быстро встала и обняла ее. Обе расплакались. Девочка заплакала тоже и ухватилась за пальто служанки.
— Не уходи, Зося! — кричала Яня. — Не уходи! Здесь так страшно и так скучно!
Зося поцеловала свою бывшую хозяйку в плечо и в руку, прижала к груди плачущую девочку.
— Мне нужно, нужно идти! — повторяла она, рыдая. — У меня мать и маленькие сестры, я должна работать, чтобы их прокормить.
Женщина в трауре подняла бледное лицо и выпрямила тонкий стан.
— И я тоже, Зося, буду работать, — сказала она голосом более уверенным, чем говорила до сих пор. — Ведь у меня есть ребенок, которого я должна кормить…
— Благослови вас бог, моя добрая, дорогая пани! — воскликнула молодая служанка, поцеловала еще раз руки женщины и заплаканное личико ребенка и, не оглядываясь, выбежала из комнаты.
После ухода Зоей наступила полная тишина, которую нарушало лишь потрескивание горящих дров да отдаленный, неясный уличный шум, глухо доносившийся в мансарду. Женщина в трауре все сидела на кушетке, а ее дочурка поплакала, потом, прижавшись к матери, утомленная, заснула. Мать, подпирая голову одной рукой, другой обняла уснувшего у нее на коленях ребенка и устремила неподвижный взгляд на мигающее пламя. С уходом преданной и верной служанки она лишилась последнего человеческого существа, бывшего свидетелем ее прошлого, последней опоры, ибо все, в чем она прежде находила поддержку и защиту, исчезло из ее жизни. Теперь она совсем одинока, брошена на произвол судьбы и может рассчитывать лишь на собственные силы. С ней осталось это маленькое, слабое существо, которое у нее одной может искать утешения, только от нее ждать ласки, существо, которое она должна своим трудом прокормить. В дом, некогда обставленный для нее заботливым и любящим мужем и теперь покинутый ею, вошли теперь новые жильцы, а добрый и любимый человек, до сих пор окружавший ее нежным вниманием и заботами, уже несколько дней лежит в могиле…
Все миновало… любовь, благополучие, покой, ясные дни счастья, и единственным следом исчезнувшего, как сон, прошлого были для несчастной женщины горестные воспоминания да этот бледный и хрупкий ребенок, который, проснувшись в эту минуту, обхватил ее шею ручонками и, прильнув губками к ее щеке, прошептал:
— Мама, дай мне поесть!
В этой просьбе пока еще не заключалось ничего такого, что могло бы вызвать тревогу или печаль в сердце матери. Вдова опустила руку в карман и достала кошелек, в котором лежало несколько кредиток — все богатство ее и дочки.
Набросив на плечи платок и наказав девочке спокойно дожидаться ее, она вышла из комнаты.
На лестнице она встретила дворника, несшего вязанку дров в одну из квартир второго этажа.
— Послушайте, голубчик, — попросила вдова вежливо и несмело, — не можете ли вы принести из какой-нибудь, соседней лавки молока и булок для моего ребенка?
Дворник выслушал ее, не останавливаясь, отвернулся и ответил с плохо скрытой досадой:
— Как же, есть у меня время ходить за молоком да за булками!.. Я здесь не для того, чтобы носить жильцам продукты.
С этими словами он исчез за поворотом лестницы. Вдова пошла дальше.
«Не хочет оказать мне услугу, — подумала она. — Видно, догадался, что я бедна. А тем, кто ему может хорошо заплатить, он несет тяжелую вязанку дров».
Она вышла во двор и огляделась вокруг.
— Что это вы так озираетесь? — раздался рядом с ней женский голос, хриплый и неприятный.
Вдова заметила женщину, стоявшую у низенькой двери около ворот. Лица ее она в сумерках не могла разглядеть, но по короткой юбке, большому полотняному чепцу и теплому платку, небрежно наброшенному на плечи, а также по ее голосу и тону в ней легко было узнать простолюдинку. Вдова догадалась, что это жена дворника.
— Скажите, дорогая, — обратилась она к ней, — не найдется ли тут кого-нибудь, кто мог бы сходить за молоком и булками?
Женщина задумалась на минуту.
— А с какого вы этажа? — спросила она. — Я что-то вас не знаю.
— Я только сегодня поселилась здесь… в мансарде.
— А, в мансарде! Так что ж вы просите, чтоб вам приносили? Сами-то разве не можете в лавку сходить?
— Я заплатила бы за это, — прошептала вдова, но жена дворника не расслышала или сделала вид, что не слышит, закуталась поплотнее в платок и скрылась за низенькой дверью.
Вдова постояла минутку, вздыхая, бессильно опустив руки. Она не знала, видимо, что делать и к кому обратиться; но через минуту она, подняв голову, пошла к воротам и открыла калитку на улицу.
Было еще не поздно, но уже темно. Немногочисленные фонари слабо освещали узкую улицу, по которой сновало множество людей. Во многих местах тротуар был почти сплошь погружен в темноту. Холодный осенний ветер ворвался в открытую калитку, ударил в лицо вдове, рвал концы ее черного платка. Грохот извозчичьих пролеток и смешанный шум голосов оглушили ее, темнота испугала. Она отступила к воротам и остановилась на мгновение, опустив голову, потом вдруг выпрямилась и двинулась вперед. Быть может, она вспомнила о голодной дочке, ожидавшей еды, или почувствовала, что ей необходимо проявить волю и мужество, что теперь придется проявлять их ежедневно, ежечасно. Накинув платок на голову, она вышла за калитку и, не зная, где искать лавку, прошла довольно большое расстояние, внимательно разглядывая витрины, миновала несколько табачных лавок, какие-то кафе, мануфактурный магазин и повернула обратно. У нее не хватило смелости идти дальше или обратиться к кому-либо с вопросом. Она пошла в другую сторону и через четверть часа уже возвращалась с булками, завернутыми в белый платочек. Молока она не купила, не найдя его в той лавке, где брала булки. Она не хотела, не могла искать дольше и шла домой торопливо, почти бежала, беспокоясь за ребенка. Она была уже недалеко от ворот, когда услышала за спиной мужской голос, напевавший: «Не спеши, постой немножко, ах, зачем так мчаться, крошка?» Она пыталась убедить себя, что это не к ней относится, прибавила шагу и уже коснулась рукой калитки, как пение вдруг оборвалось и она услышала:
— Куда это вы так спешите? Куда? Такой прекрасный вечер! Погуляли бы со мной немного!
Запыхавшись, дрожа от испуга и обиды, молодая вдова вбежала во двор и захлопнула за собой калитку. Через несколько минут Яня, увидев входящую в комнату мать, бросилась ей навстречу и крепко прижалась к ней.
— Как долго ты не шла, мама! — воскликнула она, но вдруг замолкла и внимательно всмотрелась в лицо матери. — Мама, ты опять плачешь! Ты теперь опять такая… такая, как тогда, когда папу выносили в гробу из нашего дома…
Молодая женщина действительно дрожала всем телом, слезы дождем текли по ее пылающим щекам. То, что она пережила, выйдя на четверть часа из дому, — борьба с собственной робостью, быстрая ходьба на холодном ветру, по скользкой улице, в густой толпе, а главное — оскорбление, хотя и нанесенное незнакомым человеком, но испытанное впервые в жизни, все это потрясло ее до глубины души. Но она, видимо, решила отныне взять себя в руки и поэтому быстро успокоилась, вытерла слезы, поцеловала девочку и, раздувая огонь под плитой, сказала:
— Я принесла тебе булок, Яня, а сейчас поставлю самовар и будем пить чай.
Она взяла из шкафа глиняный кувшин и, наказав дочке быть осторожной с огнем, снова спустилась во двор, к колодцу. Вернулась она быстро; усталая, с трудом переводя дыхание, согнувшись под тяжестью кувшина, наполненного водой, однако, не отдохнув ни минуты, принялась ставить самовар. Делать это ей приходилось, должно быть, впервые в жизни: работа не спорилась. Все же через час чай был уже выпит, Яня — раздета и уложена. Ее ровное дыхание показывало, что она спит спокойно. С бледного личика исчезли следы слез.
А молодая мать не спала. Подперев голову рукой, она в своем траурном платье, с распущенными черными косами неподвижно сидела у догоравшего огня и думала. Сперва мучительная душевная боль высекла на ее белом лбу глубокие морщины, глаза наполнились слезами и тяжкие вздохи поднимали грудь. Но скоро она тряхнула головой, словно желая отогнать нахлынувшие воспоминания и тоску, встала и, выпрямившись, тихо промолвила:
— Новая жизнь!
Да, эта молодая, красивая женщина с белыми руками и тонким станом сегодня вступила в новую жизнь. Этому дню суждено было стать для нее началом неизвестного будущего.
Каково же было ее прошлое?
* * *
Марта Свицкая еще немного лет прожила на свете, и ее прошлое было небогато событиями.
Марта родилась в шляхетской усадьбе, не слишком роскошной и богатой, но красивой и уютной.
В имении ее отца, расположенном всего лишь в нескольких милях от Варшавы, было десятка два влук[1] плодородной земли, были и усеянные цветами обширные луга, прекрасная березовая роща, доставлявшая топливо зимой, а летом служившая местом приятных прогулок. Большой плодовый сад окружал красивый домик с шестью окнами по фасаду, выходившими на круглый двор, покрытый ровно подстриженной травой. Зеленые жалюзи и крыльцо с четырьмя колоннами, обвитыми красными цветочками фасоли и большими лиловыми венчиками повилики, придавали домику еще более веселый вид.
Над колыбелью Марты пели соловьи, старые липы задумчиво качали головами, цвели розы и разливались золотые волны зреющей пшеницы. Склонялось над ней и прекрасное лицо матери, покрывавшей горячими поцелуями черноволосую головку ребенка.
Мать у Марты была красивая и добрая, отец — человек образованный и тоже добрый. Их единственное дитя росло в довольстве, окруженное всеобщей любовью.
Первым горем, ворвавшимся в безоблачное до тех пор существование красивой, веселой, жизнерадостной девушки, была смерть матери. Марте было тогда шестнадцать лет. В первое время она предавалась отчаянию, долго тосковала, но юность была целительным бальзамом для первой раны ее сердца; румянец снова заиграл на лице, она повеселела, вернулись надежды и мечты.
Однако вскоре обрушились на нее новые беды. Отцу Марты, отчасти по его собственной неосмотрительности, но главным образом из-за происшедших в стране перемен, угрожала потеря имения. Здоровье пошатнулось. Он предчувствовал разорение и близкую смерть. Впрочем, будущее Марты в то время казалось уже обеспеченным. Девушка любила и была любима.
Ян Свицкий, молодой чиновник, занимавший довольно видную должность в одном из государственных учреждений Варшавы, полюбил прекрасную черноокую панну и вызвал в ней ответное чувство уважения и любви. Свадьба Марты опередила лишь на несколько недель смерть ее отца. Разорившийся шляхтич, когда-то мечтавший, быть может, о более блистательной судьбе для своей единственной дочери, с радостью выдал ее за человека, хотя и небогатого, но трудолюбивого, и, думая, что брак этот будет для Марты достаточной защитой от одиночества и нужды, он умер спокойно.
Так Марту второй раз в жизни постигло большое горе. Однако на этот раз ее боль умерялась не только молодостью, но и любовью к мужу, а вскоре к ребенку. Родительское имение было навсегда для нее потеряно, оно перешло в чужие руки. Но любящий и любимый муж устроил ей в шумном городе уютное, теплое и удобное гнездышко, в котором вскоре зазвенел серебристый голосок ребенка.
Счастливо и быстро прошли для молодой женщины пять лет семейных радостей и обязанностей.
Ян Свицкий работал добросовестно и умело и получал за свой труд столько, что мог окружить любимую женщину всем, к чему она привыкла с колыбели, мог сделать для нее радостной каждую минуту, обеспечить ей мирное благополучие на все дни ее жизни.
Все ли? Нет! Только на ближайшее будущее. Ян Свицкий был недостаточно предусмотрителен, чтобы заботиться о более далеком будущем и хоть в чем-нибудь отказывать себе в настоящем.
Молодой, здоровый и трудолюбивый, он рассчитывал на свою молодость, силы, работоспособность, воображая, что они неисчерпаемы. Между тем они истощились слишком быстро. Мужа Марты неожиданно сразила тяжелая болезнь, от которой его не спасли ни врачи, ни заботы приходившей в отчаяние жены. Он умер. С его смертью кончилось не только семейное счастье Марты — она лишилась также всяких средств к существованию.
Таким образом, брак не навсегда спас молодую женщину от мук одиночества и нужды. Старая, как мир, истина «ничто не вечно на земле» оправдалась в той степени, в какой она верна: ибо истина эта верна не вполне. Да, то, что приходит к человеку извне, не вечно и изменяется под влиянием тысяч всяких обстоятельств, перемен в общественных отношениях и законах и — что самое ужасное — иногда под влиянием слепого случая, которого нельзя ни предвидеть, ни устранять. Судьба человека была бы поистине достойна сожаления, если бы все, чем он силен и богат, зависело от одних лишь окружающих стихий, изменчивых, как волны, покорные власти ветров. Да, на земле нет ничего постоянного, кроме того, что заключено в сердце и в голове человека — знания, которое указывает путь и ведет вас вперед, и любви к труду, который скрашивает одиночество и гонит прочь нужду, опыта, который учит, и возвышенных чувств, охраняющих от всего дурного. Все же и здесь постоянство до некоторой степени относительно, так как его сокрушает мрачная и неодолимая сила болезни и смерти. Но до тех пор, пока неуклонно и закономерно идет тот процесс движения мысли и человеческих чувств, который называется жизнью, человек остается самим собою, сам себе помогает, опираясь на то, что успел приобрести в прошлом, что служит ему оружием в борьбе с трудностями жизни, с изменчивостью судьбы, с жестокостью случая.
Марте изменило, покинув ее, все то, что, приходя извне, защищало ее и оберегало от всяких невзгод. В судьбе ее не было ничего исключительного, причиной ее несчастья был не какой-либо необычайный случай или катастрофа, редкая в истории человечества. До этого времени роль разрушителей спокойствия и счастья в ее жизни играли разорение и смерть. А что может быть обычнее разорения, особенно в нашем современном обществе, и что закономернее и неотвратимее смерти?
Марта столкнулась лицом к лицу с тем, с чем сталкиваются миллионы людей. Кому из нас не приходилось в жизни много раз встречаться с людьми, плачущими на реках вавилонских, омывающих развалины утраченного благополучия? Кто сосчитает, сколько раз в жизни приходилось ему видеть вдовьи одежды, бледные лица, померкшие от слез глаза сирот?
Итак, все то, что до сих пор сопутствовало молодой женщине в ее жизни, исчезло, изменило ей. Правда, она не изменила себе. Однако что могла она сделать, чем помочь себе? Что она сумела накопить в прошлом? Достаточно ли у нее воли и опыта, чтобы они могли служить ей оружием в борьбе с социальной несправедливостью, с нуждой, случайностями, одиночеством? Это было тайной ее будущего, вопросом жизни и смерти для нее — и не только для нее, но и для ее ребенка.
У молодой матери не было никаких или почти никаких средств. Несколько сот злотых, вырученных от продажи мебели, вернее, то, что осталось от них после уплаты мелких долгов и расходов на похороны мужа, немного белья, два платья — вот и все. Особенно дорогих украшений у нее никогда не было, а те, что были, пришлось продать во время болезни мужа, чтобы оплатить бесполезные советы врачей и столь же бесполезные лекарства. Даже убогая обстановка ее нового жилища не была ее собственностью, она принадлежала домовладельцу, и за пользование этой рухлядью, так же как и за мансарду, Марта должна была платить первого числа каждого месяца.
Таково было ее настоящее, печальное, неприглядное, но вполне уже определившееся. Неопределенным оставалось пока будущее. Его надо было завоевать, или, вернее, создать.
Обладала ли нужными для этого силами молодая красивая женщина со стройным станом, белыми руками и шелковистыми волосами цвета воронова крыла? Взяла ли она от прошлого нечто такое, из чего можно было бы создать будущее? Вот о чем она думала, сидя на низенькой табуретке у догоравшего огня. Взгляд ее, полный невыразимой любви, был устремлен на личико ребенка, спокойно спавшего на белых подушках.
— Для нее, — сказала она вслух, — для нее, для себя я буду работать! Чтобы был у нас кусок хлеба, кров, чтобы мы могли спокойно жить.
Она подошла к окну. Ночь была темная, Марта не видела ничего: ни крыш, громоздившихся под ее мансардой, ни темных, закоптелых труб, торчавших над этими крышами, ни уличных фонарей, тусклый свет которых не доходил до ее оконца. Она не видела даже неба, потому что оно было покрыто тучами и на нем не светила ни одна звезда. Но шум большого города, не прекращавшийся даже ночью, шум и оглушительный, хотя и умеряемый расстоянием, достигал и сюда. Час был не очень поздний: по широким нарядным улицам и тесным и мрачным переулкам еще ходили люди — одни в погоне за развлечениями, другие искали наживы, спешили туда, куда влекла их любознательность, страсть или надежда на добычу.
Марта опустила голову на скрещенные руки и закрыла глаза. Она вслушивалась в тысячи голосов, слитые в один мощный голос, хотя и невнятный, монотонный, но полный лихорадочных взрывов, неожиданных пауз, глухих выкриков и таинственных шумов. Большой город представал перед ее мысленным взором в виде огромного улья, где живет, движется, шумит множество человеческих существ. У каждого из них есть свое место для работы и отдыха, есть цель, к которой оно стремится, есть средства, с помощью которых оно прокладывает себе путь в толчее. Какое будет у нее, бедной, одинокой женщины, место для работы и отдыха? Где та цель, к которой она будет стремиться? Как ей проложить себе дорогу, ей, нищей и всеми покинутой? И как отнесутся к ней люди, которые шумят там внизу, люди, чье дыхание жаркими волнами, казалось, доходило до нее? Будут они к ней справедливы или жестоки, встретит ли она сочувствие или только жалость? Расступятся ли перед ней сплоченные ряды людей, которые гонятся за счастьем и благополучием, или сомкнутся еще плотнее, чтобы вновь прибывшая не оттеснила, не обогнала кого-либо из них в этой изнурительной погоне? Какие законы и обычаи общества будут для нее благоприятны, а какие — враждебны, и каких окажется больше — первых или вторых? А главное, главное — сумеет ли она преодолеть все враждебное, использовать все благоприятное? Сумеет ли каждое мгновение, каждое биение сердца, каждую мысль, промелькнувшую в голове, собрать в одну разумную, упорную, неисчерпаемую силу, которая одна лишь сможет отогнать нужду, защитить от унижений ее человеческое достоинство, уберечь от напрасных страданий, отчаяния и — голодной смерти?
На этих вопросах были сосредоточены все помыслы Марты. Воспоминания, приятные и вместе с тем мучительные, воспоминания женщины, которая некогда прелестной, веселой девушкой бродила по цветущим лугам родительской усадьбы, потом, с любимым мужем, проводила счастливые дни без забот и печалей, а теперь сидит во вдовьей одежде у оконца мансарды, закрыв бледное лицо руками, воспоминания, весь день реявшие перед ней сонмом заманчивых видений лишь для того, чтобы терзать и мучить, теперь рассеялись, спугнутые грозной, еще неясной, но уже ощутимой действительностью. Это настоящее поглощало сейчас все ее мысли, но, видимо, не страшило ее. Была ли источником этого мужества материнская любовь, наполнявшая ее сердце? Или Марта отличалась той гордостью, которая презирает трусость? Или… она не знала жизни и самой себя? Как бы то ни было, она не испытывала праха. Когда она отняла руки от лица, на нем видны были следы слез, на нем было выражение горя и тоски, но страха и сомнений не было.
* * *
На следующее утро после переезда в мансарду Марта уже в десять часов вышла из дому.
Видимо, она очень торопилась; словно какая-то неотступная мысль, беспокойная надежда гнали ее вперед. Она шла быстро, пока не очутилась на Длугой улице. Теперь она пошла тише, слабый румянец появился на ее бледном лице, дыхание стало учащенным, как бывает, когда приближается долгожданная и вместе страшная минута, требующая напряжения всех сил, ума и воли, — минута, которой ждешь с надеждой, робостью, быть может, даже с чувством невольного стыда, порождаемого укладом всей прошлой жизни и новизной положения.
У ворот одного из самых красивых домов Марта остановилась, чтобы взглянуть на номер. Должно быть, это и был тот, который она искала: глубоко вздохнув, она начала медленно подниматься по широкой светлой лестнице.
Поднявшись на несколько ступенек, Марта заметила двух сходивших вниз женщин. Одна из них была одета тщательно, даже нарядно; манеры у нее были уверенные, выражение лица спокойное и самодовольное. Другая, помоложе, совсем юная, в темном шерстяном платье и довольно поношенной шали, в шляпке, видавшей уже не одну осень, шла, бессильно опустив руки и не поднимая глаз. Покрасневшие веки, бледность и хрупкая фигура придавали этой молоденькой и хорошенькой девушке грустный и усталый вид. По откровенному разговору, который вели между собой эти женщины, нетрудно было догадаться, что они хорошо знакомы.
— Боже мой, боже, — говорила младшая тихо и жалобно, — что мне, несчастной, теперь делать? Последняя надежда меня обманула. Когда я скажу матери, что и сегодня не получила урока, она расхворается еще сильнее… А нам, можно сказать, уже и есть нечего…
— Ну, ну, — отозвалась старшая тоном, в котором наряду с сочувствием чувствовалось и сознание собственного превосходства. — Не принимай этого так близко к сердцу! Вот позаймешься музыкой…
— Ах, если бы я умела играть так хорошо, как вы! — воскликнула младшая. — Но где уж мне…
— Таланта у тебя нет, милочка! — сказала старшая. — Что поделаешь? Таланта нет!
Беседуя так, женщины прошли мимо Марты. Они были настолько поглощены — одна своей радостью, другая — печалью, — что не обратили ни малейшего внимания на женщину в трауре. Но та вдруг остановилась и посмотрела им вслед. Это, должно быть, были учительницы, и шли они оттуда, куда она направлялась. Одна уходила сияющая, другая — со слезами на глазах. Через какие-нибудь полчаса и она, Марта, будет возвращаться оттуда. С радостью или со слезами? Сердце Марты сильно билось, когда она дернула звонок у двери, на которой сверкала медная табличка с надписью:
«Контора Людвики Жминской по найму учителей и учительниц».
Дверь открылась. Из тесной передней Марта вошла в большую комнату с двумя окнами, выходившими на шумную улицу.
Комната была хорошо обставлена, особенно бросалось в глаза новенькое, очень красивое и дорогое фортепиано.
В конторе находились три женщины, одна из них поднялась навстречу Марте. Это была особа средних лет, несколько чопорная, с волосами неопределенного цвета, гладко зачесанными под изящным белым чепчиком. В ее лице с правильными чертами, так же как в скромном сером платье с серыми же пуговицами на груди, не было ничего приметного. От этой женщины так и веяло официальностью. Быть может, в другом месте и при других обстоятельствах она умела непринужденно улыбаться, смотреть нежно, ласковым движением протягивать руку для пожатия, но здесь, в этой гостиной, где она принимала людей, ищущих у нее совета и помощи, и выступала как официальная посредница между ними и обществом, она была такой, кой ей полагалось быть: любезной, но сдержанной и осторожной. Эта комната, похожая на гостиную, на самом деле была лишь местом сделок, таких же, как всякие торговые сделки: хозяйка давала советы и указания тем, кто к ней за этим обращался, и получала за это соответственную плату. Это было нечто вроде чистилища, через которое проходили человеческие души, попадая оттуда в рай, если они получали работу, или в ад вынужденной безработицы.
Марта остановилась на минуту в дверях и оглядела шедшую ей навстречу женщину. Взгляд ее стал необычайно пытливым и острым, словно она пыталась сквозь внешнюю оболочку проникнуть в мысли того существа, от которого зависела ее судьба. Впервые в жизни Марта обращалась к кому-либо по делу; и дело это было важнейшим в жизни бедных людей — поиски заработка.
— Вы, сударыня, в справочную контору? — спросила хозяйка.
— Да, — ответила вошедшая и добавила: — Меня зовут Марта Свицкая.
— Присядьте, пожалуйста, и подождите минутку, пока я кончу разговор с дамами, которые пришли раньше.
Марта села в указанное ей кресло и теперь только обратила внимание на двух женщин, тоже находившихся в комнате.
Они сильно отличались друг от друга возрастом, одеждой и наружностью. Одна была девушка лет двадцати, очень красивая, с улыбкой на розовых губах, с голубыми глазами, смотревшими на мир ясно, почти весело. На ней было яркое шелковое платье, светлые волосы украшала маленькая шляпка. Очевидно, Людвика Жминская именно с ней разговаривала до прихода Марты, так как теперь, поздоровавшись, сразу обратилась к ней. Они говорили по-английски, и с первых же слов молодой девушки в ней можно было угадать коренную англичанку. Марта не знала этого языка и не понимала, о чем идет речь, но видела, что непринужденная улыбка не сходила с губ прекрасной англичанки, а ее осанка, манеры и выражение лица говорили о смелости человека, привыкшего к успеху, уверенного в себе и в своем будущем.
После короткой беседы хозяйка взяла листок бумаги и стала быстро писать.
Марта, следившая за этой сценой с напряженным вниманием, естественным в ее положении, видела, что Людвика Жминская, писавшая письмо по-французски, указала в нем сумму 600 рублей, а на конверте написала известную всей стране фамилию человека, носившего графский титул, и название одной из лучших улиц Варшавы. Кончив, она с любезной улыбкой вручила письмо англичанке, которая встала, поклонилась и вышла из комнаты легкими шагами, с высоко поднятой головой и радостной улыбкой.
«Шестьсот рублей в год, — думала Марта, — какое же это богатство, боже мой! Какое счастье столько зарабатывать! Если бы мне обещали хоть половину, я была бы спокойна за Яню и за себя!»
Думая так, молодая женщина с интересом и невольным сожалением смотрела на другую даму, с которой хозяйка вступила в разговор после ухода англичанки.
Это была женщина лет шестидесяти, маленькая, худенькая, с увядшим лицом, покрытым множеством морщин, с почти белыми волосами, зачесанными гладко на пробор, в старомодной черной, помятой шляпке. Черное же шерстяное платье и допотопная шелковая накидка свободно висели на тощем теле старушки; ее руки, прозрачные, белые и маленькие, нервно теребили лежавший у нее на коленях носовой платочек. То же нервное беспокойство отражалось и в ее некогда голубых, выцветших и потускневших глазах, которые то поднимались на хозяйку, то скрывались за покрасневшими веками или перебегали с предмета на предмет, выдавая этим тревогу и болезненные усилия измученной души, ищущей какой-нибудь точки опоры и успокоения.
— Вы когда-нибудь преподавали? — спросила по-французски Людвика Жминская, обращаясь к старушке.
Бедная женщина заерзала на стуле, не отводя глаз от противоположной стены, судорожным движением сжала скомканный платок и сказала тихо:
— Non, madame, c'est le premiere fois que je… je…[2]
Она остановилась, очевидно с трудом подбирая слова малознакомого языка, которые ускользали из ее ослабевшей памяти.
— J'avais… — начала она опять через минуту, — j'avais la fortune… mon fils avait le malheur de la perdre[3].
Хозяйка сидела на диване, слушая ее с холодным равнодушием. Ошибки старушки в французском языке, ее неправильное произношение не вызывали у хозяйки усмешки, так же как изможденный вид и волнение бедняжки не вызывали в ней, должно быть, сочувствия.
— Это печально, — сказала она. — И у вас только один сын?
— Его уже нет! — воскликнула по-польски старая женщина, но, вспомнив вдруг, что ей необходимо доказать свое уменье говорить на иностранном языке, добавила: — Il est mourru par désespoir![4]
В выцветших глазах старушки не появилось ни слезинки, когда она произносила последние слова, но бледные, узкие губы, окруженные сетью морщинок, задрожали и тяжелый вздох всколыхнул впалую грудь под старомодной мантильей.
— Вы играете? — спросила хозяйка по-польски, видимо, считая, что короткий разговор со старушкой дает уже достаточное представление о ее знании французского языка.
— Я играла когда-то, но… уж очень давно. Вряд ли я теперь сумею…
— Так вы, быть может, знаете немецкий язык?..
Вместо ответа старушка отрицательно покачала головой.
— Но чему же вы, сударыня, можете обучать?
Этот вопрос был произнесен вежливым, но таким холодным тоном, что мог сойти за явный отказ. Однако старая женщина не поняла или сделала вид, что не понимает. Знание французского языка было, видимо, тем, на что она больше всего рассчитывала, благодаря чему надеялась получить кусок хлеба, избежать нужды в последние дни своей безрадостной жизни. Чувствуя, что почва ускользает у нее из-под ног, что хозяйка конторы не намерена дать ей никакой рекомендации, она ухватилась за этот, по ее мнению, последний якорь спасения и, все сильнее комкая платочек дрожащими пальцами, быстро заговорила:
— La geographie, la histoire, les commencements de l'arithmetique…[5]
Старая женщина вдруг замолчала, неподвижным взглядом уставившись на противоположную стену, так как Людвика Жминская поднялась.
— Весьма сожалею, — медленно произнесла хозяйка, — но у меня нет сейчас ничего подходящего для вас…
Она стояла, сложив руки на строгом лифе серого платья, явно ожидая ухода посетительницы. Но старушка сидела как прикованная к месту; ее беспокойные руки словно замерли, а бледные губы раскрылись и нервно вздрагивали…
— Ничего нет! — повторила она шепотом. — Ничего! — И словно движимая какой-то посторонней силой, медленно встала и выпрямилась.
Однако она все еще не уходила. Только сейчас ее веки набухли и бесцветные глаза подернулись влагой. Опершись трясущейся рукой на спинку стула, она пробормотала:
— Может, в другой раз… Может, когда-нибудь позже… найдется какое-нибудь место…
— Нет, сударыня, ничего не могу обещать, — все так же вежливо и сухо возразила хозяйка.
Несколько секунд в комнате длилось молчание. Вдруг по сморщенным щекам старой женщины ручьем потекли слезы. Однако она не издала ни единого звука, не произнесла ни слова, поклонилась хозяйке и быстро вышла. Быть может, она стыдилась своих слез и хотела их скрыть или спешила с новой надеждой в другое место, где ее ожидало новое разочарование.
Марта осталась вдвоем с женщиной, от которой зависело исполнение ее самых дорогих надежд, самых горячих желаний. Она не робела, но испытывала чувство глубокой грусти.
Сцены, прошедшие перед ее глазами, произвели на нее особенно сильное впечатление потому, что они были для нее чем-то совершенно новым. Она не привыкла видеть людей, ищущих заработка, гоняющихся за куском хлеба, не догадывалась, не предчувствовала, что эта погоня таит в себе столько волнений, мук, разочарований. Прежде труд представлялся Марте чем-то таким, за чем стоит лишь протянуть руку, чтобы взять его. И вдруг, в самом начале этого нового пути, она увидела страшную изнанку жизни. Однако она не содрогнулась и мысленно уверяла себя, что ее, женщину молодую и здоровую, получившую в доме родителей хорошее воспитание, жену человека образованного, зарабатывавшего на жизнь умственным трудом, не может постигнуть судьба, постигшая бедную девушку, с которой она столкнулась на лестнице, и эту только что ушедшую, во сто крат более несчастную старушку.
Людвика Жминская начала с того вопроса, с которого она привыкла начинать разговор с приходившими к ней кандидатками на место учительницы.
— Вы уже занимались преподаванием?
— Нет. Я вдова чиновника. Мой муж умер несколько дней назад. И я хочу стать учительницей.
— Вот как! А у вас есть свидетельство об окончании высшего учебного заведения?
— Нет, пани, я воспитывалась дома.
Разговор велся на французском языке. Марта говорила на нем правильно и бегло. Да и ее произношение, хотя и не безупречное, не резало слух.
— Какие же предметы вы можете и желаете преподавать?
Марта ответила не сразу. Странное дело, она пришла сюда, чтобы получить место учительницы, но толком не знала, чему она хочет и может обучать. До сих пор она считала, что тех знаний, которыми она обладала, вполне достаточно для девушки из дворянской семьи, для жены чиновника. Однако раздумывать было некогда. Марте пришли на ум те предметы, которыми она в детстве больше всего занималась, которые составляли основу женского образования в ее среде.
— Я могла бы давать уроки музыки и французского языка, — сказала она.
— По-французски вы говорите достаточно бегло и произношение у вас неплохое. Хотя это еще не все, что требуется от преподавательницы, но я надеюсь, что вы знакомы и с грамматикой и с орфографией, а может быть, немного и с французской литературой… Ну, а что касается музыки… простите… мне необходимо выяснить степень вашего музыкального образования, раньше чем дать вам рекомендацию.
От смущения на бледных щеках Марты выступил румянец. Она и музыке училась дома, никаких экзаменов никогда не сдавала, ей даже не приходилось играть в присутствии посторонних, так как спустя несколько месяцев после свадьбы она забросила игру и открывала купленное мужем фортепиано очень редко, да и то тогда, когда ее слышали только четыре стены ее нарядной гостиной да маленькая Яня, подпрыгивавшая под музыку на коленях у няньки. Конечно, требование хозяйки справочной конторы не заключало в себе ничего оскорбительного. Это было весьма простое и распространенное в деловом мире правило: прежде чем определить цену и качество товара, надо его сначала осмотреть и решить, на что он годится. Марта понимала это. Она встала с кресла и, сняв перчатки, подошла к фортепиано. На миг она остановилась, опустив глаза на клавиатуру. Припоминая музыкальный репертуар своей юности, Марта не знала, какую же ей выбрать пьесу из тех, за исполнение которых ее некогда хвалили учительницы и родители. Даже и сев за фортепиано, она все еще предавалась воспоминаниям, как вдруг дверь с шумом распахнулась и с порога раздался резкий, пронзительный женский голос:
— Eh bien! madame! La comtesse arrive-t-elle a Varsovie?[6]
С этими словами в комнату вошла или, вернее, вбежала живая миловидная смуглянка среднего роста, в необычайного покроя плаще с красным капюшоном, яркость которого подчеркивала черноту ее волос и смуглость кожи. Черные блестящие глаза женщины быстро обежали комнату и остановились на сидевшей у фортепиано Марте.
— Ah, vous avez du mond'e, madame! — воскликнула она. — Continuez, continuez, je puis attendre![7]
Она села в кресло, откинув голову на его спинку, вытянув изящные ножки в красивых ботинках, и устремила на Марту любопытный пронизывающий взгляд.
Молодая вдова покраснела еще больше; появление новой свидетельницы ее испытания отнюдь не уменьшило ощущаемой ею неловкости. Но Людвика Жминская посмотрела на нее с таким выражением, которое говорило: «Мы ждем!»
Марта начала играть «La priere d'une Vierge»[8]. В ту пору, когда она училась музыке, среди молодых девушек была в моде эта меланхолическая, чувствительная пьеса, звуки которой сплетались в одно целое с льющимся в окна лунным светом и девичьими вздохами. Но «гостиная» пани Жминской была освещена трезвым дневным светом, не располагавшим к чувствительности, а вздохи женщины, исполнявшей «Молитву девы», были не из тех, которые взлетают в «заоблачные выси» или устремляются на «зеленый луг большой», где «мчится скакун вороной»; эти вздохи, которые она пыталась подавить, все поднимали ее грудь, в которой ширился, рос простой, земной, обыденный и вместе с тем трагичный, грозный, настойчивый, душераздирающий вопль: «Хлеба! Работы!»
Узкие брови Людвики Жминской чуть-чуть сдвинулись, и это придало ее лицу еще более холодное и суровое выражение. По смуглому же лицу француженки, развалившейся в кресле, то и дело пробегала лукавая усмешка. Марта и сама чувствовала, что играет плохо. Ее теперь уже не волновали эти нежные звуки, некогда казавшиеся ей ангельской музыкой; пальцы утратили прежнюю гибкость, путали клавиши. Она сбивалась с пассажах, слишком сильно нажимала педаль, пропускала целые такты, останавливалась.
— Mais c'est une petite horreur qu' elle joue lá![9] — воскликнула француженка вполголоса, но все же настолько внятно, что Марта ее услышала.
— Chut! Mademoiselle Delphine![10] — шепнула хозяйка.
Марта взяла последний аккорд и тут же, не отрывая от клавишей рук, стала играть ноктюрн Зентарского. Она сознавала, что ее игра произвела самое невыгодное впечатление на женщину, в чьих руках находилась ее судьба; она понимала, что теряет и этот шанс получить заработок, — что каждый фальшивый звук, выходящий из-под ее пальцев, обрывает одну из немногих нитей, на которых держится судьба ее и ее ребенка.
«Я должна играть лучше!» — сказала она себе мысленно, заиграв печальный ноктюрн. Однако она играла его не лучше прежнего, а, пожалуй, и хуже; пьеса была труднее, и в руках, отвыкших от игры, она чувствовала боль и напряжение.
— Elle touche faux, madame! he! he! comme elle touche faux![11] — снова воскликнула француженка, стреляя смеющимися глазами и положив красивые ножки на рядом стоявшее кресло.
— Chut, je vous en prie, mademoiselle Delphine![12] — повторила хозяйка, с легким неудовольствием пожав плечами.
Марта встала. Легкий румянец на ее щеках теперь запылал уже багровыми пятнами, глаза сверкали от волнения. Свершилось! Из ее рук ускользнуло одно из средств прокормить себя, на которое она рассчитывала. Она уже знала теперь, что не сможет получить уроки музыки; не опуская глаз, она уверенным шагом подошла к столу, у которого сидели обе женщины.
— У меня никогда не было способностей к музыке, — сказала она тихим, но не робким и не дрожащим голосом, — я училась девять лет, но то, к чему у человека нет призвания, забывается. К тому же за пять лет замужества я не играла ни разу.
Она сказала это с легкой улыбкой. Направленный на нее взгляд француженки был ей неприятен, она опасалась увидеть в нем жалость или насмешку. Но француженка не поняла слов Марты, произнесенных по-польски, и зевнула широко и громко.
— Eh bien! madame![13] — обратилась она к хозяйке. — Займитесь мной; мне нужно вам сказать только два слова. Когда приезжает графиня?
— Через несколько дней.
— Вы писали ей о моих условиях?
— Да, и графиня согласна.
— Значит, я могу рассчитывать на четыреста рублей?
— Вполне.
— И мне можно будет взять с собой маленькую племянницу?
— Да.
— И у меня будет отдельная комната, отдельная горничная, лошади для прогулок и два месяца каникул?
— Графиня согласилась на все ваши условия.
— Хорошо, — сказала француженка, вставая, — через несколько дней я снова зайду, чтобы справиться, приехала ли графиня. Но если она на этой неделе не приедет или не пришлет за мной, я отказываюсь от договора. Я не хочу дольше ждать и не нуждаюсь в этом. Я могу найти десяток таких мест. До свиданья!
Кивнув головой хозяйке и Марте, она вышла. У порога надвинула на голову свой красный капюшон и, открывая дверь, запела, фальшивя, французскую песенку. Марта впервые в жизни ощутила нечто вроде зависти. Слушая разговор француженки-гувернантки с хозяйкой конторы, она думала:
«Четыреста рублей и право жить в доме вместе с маленькой племянницей, отдельная комната, горничная, лошади, два месяца каникул! Боже мой, сколько льгот! Какая счастливица! А между тем она не кажется ни образованной, ни особенно привлекательной. Если бы мне обещали четыреста рублей в год и разрешили иметь Яню при себе…»
— Пани! — промолвила она вслух. — Я очень хотела бы получить какое-нибудь постоянное место.
Жминская задумалась на мгновение.
— Не скажу, чтобы это было невозможно, однако и не так это легко. К тому же я сомневаюсь, чтобы это было для вас выгодно. Откровенность с теми, кто обращается ко мне за работой, — мой долг. Поэтому должна вам сказать: при вашем среднем знании французского языка и не парижском произношении, при почти ничтожном музыкальном образовании вы можете учить лишь начинающих.
— Это значит?.. — с бьющимся сердцем спросила Марта.
— Это значит, что вы можете получать шестьсот, восемьсот, самое большее — тысячу злотых[14] в год..
Марта не раздумывала ни одной минуты.
— Я согласилась бы на эту плату, если бы меня приняли вместе с моей маленькой дочкой.
Глаза Людвики Жминской, только что подававшие надежду, стали холодными.
— А! — произнесла она. — Так вы не одиноки, у вас ребенок…
— Четырехлетняя девочка, тихая, она бы никому не доставила никакого беспокойства…
— Верю, — сказала Жминская, — однако вы не можете питать никакой надежды на получение места, имея при себе ребенка.
Марта посмотрела на нее с удивлением.
— Пани! Ведь вот эту даму, только что ушедшую отсюда, приняли вместе с племянницей… И на таких выгодных условиях! Разве она такая образованная?
— Нет, — ответила Жминская, — образование у нее не бог весть какое. Но она иностранка.
На губах суровой хозяйки конторы впервые промелькнула улыбка, а ее холодные глаза взглянули на Марту с выражением, говорившим: «Как! Ты даже этого не знаешь? Откуда же ты явилась?»
Марта явилась из отцовского поместья, в котором цвели розы и пели соловьи, из красивой квартиры на Граничной улице, из уютного, теплого гнездышка, и это заслоняло от нее окружающий мир; сперва наивная и неопытная девушка, потом веселая и неопытная молодая женщина, она жила в том кругу, где у женщины глаза стыдливо опущены, и, следовательно, она ничего не видит, где она ни о чем не спрашивает и, следовательно, ничего не знает… Она, вероятно, и не слыхивала или слышала лишь мельком поговорку: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку»[15]. Глаза Людвики Жминской, умные, холодные, с иронией устремленные на нее, казалось, говорили: «Та женщина в красном капюшоне, дерзкая, крикливая, задирающая ноги на стул, — Юпитер, а ты — бедное существо, рожденное на той же земле, на которой родятся матери всех наших детей, рабочая скотинка — и только».
— Если бы вы могли расстаться с вашей дочуркой и устроить ее куда-нибудь, то, возможно, нашли бы себе место на тысячу злотых в год.
— Никогда! — воскликнула Марта. — Ни за что я не расстанусь со своим ребенком, не отдам его в чужие руки. Мой ребенок — это все, что осталось у меня на свете.
Этот возглас вырвался у нее невольно, и она сразу поняла всю его неуместность и бесполезность. Сделав над собой усилие, Марта заговорила спокойно:
— Если я не могу надеяться на получение постоянного места, то, быть может, вы найдете для меня частные уроки…
— Уроки французского языка? — вставила хозяйка.
— Да, пани, а также и других предметов, например географии, истории, польской литературы… Я когда-то училась всему этому, а потом читала, хотя и немного, но все же читала. Я буду готовиться к урокам, пополнять свои знания…
— Это ни к чему, это вам нисколько не поможет, — прервала ее Жминская.
— Но почему?
— Потому что ни я, ни хозяйки других контор не могли бы вам обещать уроки по всем этим предметам…
Марта глядела на говорившую широко открытыми глазами, а та продолжала:
— Этим занимаются почти исключительно мужчины.
— Мужчины? — изумилась Марта. — А почему только одни мужчины?
Жминская опять посмотрела на нее так, как будто спрашивала: «Откуда же ты явилась?»
А вслух она сказала:
— Да, вероятно, потому, что мужчины — это мужчины.
Марта явилась из страны блаженного неведения, поэтому она призадумалась над словами хозяйки. Впервые в жизни смутно вставали перед ней социальные противоречия и проблемы; они бессознательно волновали и мучили ее, но она еще не могла разобраться в них.
— Пани, — сказала она после некоторого раздумья, — я, кажется, поняла, почему мужчинам отдается предпочтение, когда дело касается преподавания; они получают более полное, более серьезное образование, чем женщины… Однако это играет роль лишь тогда, когда от учителя требуются основательные знания, которые могут удовлетворить умственные запросы учеников. Но я на это и не претендую. Я хотела бы учить малышей…
— Для этого тоже всегда приглашают мужчин… — перебила ее Жминская.
— Они, верно, учат мальчиков?
— И девочек тоже.
Марта задумалась.
— Так что же остается женщинам-учительницам? — сказала она спустя минуту.
— Обучение языкам и изящным искусствам.
В глазах Марты сверкнула надежда. Эти слова Жминской напомнили ей, что у нее есть еще одна возможность, о которой она до сих пор не подумала.
— Искусствам? — сказала она торопливо. — Наверное, не только музыке?.. Я училась рисованию… мои рисунки даже когда-то хвалили.
Жминская задумалась, и это вселило надежду в душу Марты.
— Конечно, уменье рисовать может вам пригодиться, но рисовать детей учат гораздо реже, чем музыке…
— Почему?
— Вероятно, потому, что рисунок молчит, а музыка слышна всем… Во всяком случае, — добавила Жминская, — принесите мне свои рисунки. Если окажется, что вы обладаете незаурядными способностями, я смогу подыскать вам один или два урока…
— Способности у меня не такие уж большие, да и подготовка тоже недостаточная. Но давать уроки начинающим я смогу.
— В таком случае я не могу вам ничего обещать, — ответила Жминская спокойно, скрестив на груди руки.
Марта в тоске судорожно сплела пальцы.
— Но почему же, скажите? — шепотом спросила она.
— Потому что уроки рисования дают мужчины, — ответила хозяйка.
Марта склонила голову на грудь и минуты две просидела молча, погруженная в глубокое раздумье.
— Простите меня, — проговорила она, поднимая голову; на лице ее видно было мучительное беспокойство, — простите меня, что я отнимаю у вас столько времени. Я женщина неопытная, возможно, что я прежде слишком мало обращала внимания на взаимоотношения людей и на дела, не касавшиеся меня лично. Я не могу понять того, что вы мне говорите. Мой разум, которого я, думается, не лишена, не может согласиться с теми ограничениями для женщины, о которых вы говорите, так как я не вижу для них оснований. Получить работу, как можно больше работы — это для меня вопрос жизни, мне нужно вырастить и воспитать моего ребенка… У меня мысли путаются… мне бы хотелось правильно судить о вещах, понять… Но… я не могу… не понимаю…
Пока Марта говорила, хозяйка конторы смотрела на нее сначала равнодушно, потом внимательно, сосредоточенно, и, наконец, ее холодный взгляд потеплел. Она опустила глаза и некоторое время молчала. На лбу ее появилась морщина, грустная улыбка мелькала на губах. Оболочка официальности, в которую она облеклась, словно стала прозрачной: сквозь нее сейчас видна была душа этой женщины, вспоминавшей не одну страничку из собственной жизни, не одну сцену из жизни других женщин. Наконец она медленно подняла голову и встретилась с устремленным на нее взглядом глубоких, блестящих и беспокойных глаз Марты.
— Не вы первая, — заговорила Жминская уже менее сухим тоном, — не вы первая говорите со мной подобным образом. Вот уже восемь лет, с тех пер как я открыла эту контору, сюда постоянно приходят женщины различного возраста, разного общественного положения и разных способностей. Беседуя со мной, они твердят: «Мы не понимаем!» А вот я понимаю то, чего не понимают они, так как я много видела и много сама испытала. Однако я не берусь объяснять неопытным людям то, что им кажется темным и непонятным. Пусть им откроют глаза неустанная борьба, неизбежные разочарования, факты, ясные, как день, и мрачные, как ночь.
Какая-то горькая ирония прозвучала в словах этой немолодой женщины с суровыми чертами лица. Взгляд ее все еще не отрывался от побледневшего лица Марты. В этом взгляде была доля сочувствия, с каким взрослый человек, хорошо знакомый с темными сторонами жизни, смотрит на наивное дитя, у которого впереди еще вся жизнь. Марта молчала. Она сказала правду: мысли путались у нее в голове, она не могла охватить всего того, что вдруг встало перед ней. Одно лишь она хорошо понимала теперь: работа — это вовсе не такая вещь, за которой человеку, а в особенности женщине, достаточно лишь руку протянуть. И еще одно она видела отчетливо: белое личико и большие черные глаза Яни, взгляд которых ранил ей сердце, как неустанное настойчивое напоминание о великом, неизбежном горе…
— Напрасно вы мучаете себя этими мыслями, — продолжала Людвика Жминская, — они вам ничего не подскажут. Ведь вы не жили до сих пор в реальном мире, у вас был свой, сначала девичий, а потом семейный мирок, все остальное вас не касалось. Вы не знаете жизни, хотя вам уже, верно, больше двадцати лет, так же как не умеете играть, хотя девять лет учились музыке. Факты, которые обступят вас со всех сторон и будут управлять вашей жизнью, познакомят вас с окружающим миром, с людьми и обществом. А я хочу, могу и обязана сказать вам лишь следующее: в нашем обществе обеспечить себе существование и оградить себя от больших страданий и нужды может лишь та женщина, которая в совершенстве владеет какой-либо специальностью или обладает подлинным талантом и энергией. Начальные сведения и средние способности не дают ничего или, в лучшем случае, — черствый кусок хлеба, размоченный разве только в слезах и приправленный унижениями. Тут ничего не поделаешь, женщина должна достичь совершенства в какой-либо области, и лишь когда она создаст себе имя, тогда ей успех обеспечен. А той, что стоит одной, двумя ступеньками ниже по своим знаниям и таланту, — дороги не дадут и все будет против нее.
Марта жадно вслушивалась, и чем больше слушала, тем было очевиднее, что и ей приходят в голову те же мысли, те же слова готовы сорваться и с ее уст.
— Скажите, — спросила она, — мужчины тоже должны быть такими учеными и талантливыми, чтобы обеспечить себе жизнь без тяжких страданий и нужды?
Жминская тихонько засмеялась:
— Неужели писцы, переписывающие в учреждениях бумаги, продавцы в лавках, учителя, преподающие в начальных школах географию, историю, рисование, такие уж великие ученые?
— В таком случае, — воскликнула Марта с несвойственной ей живостью, — в таком случае я снова спрашиваю: почему, почему одним всюду дорога, а другим нигде не дают ходу? Почему мой брат, если б он у меня был, мог бы давать уроки рисования при таких же, как у меня, способностях и знаниях, а я не могу? Почему он мог бы переписывать в учреждениях бумаги, а я не могу? Почему ему разрешалось бы применять в жизни все свои знания, а мне разрешается лишь обучать музыке, к которой у меня нет способностей, и иностранным языкам, которыми я не так уж хорошо владею?
Губы Марты дрожали, глаза, щеки горели, когда она произносила эти слова. Марта не была важной дамой, которая, сидя на бархатном диване, глубокомысленно рассуждает о равноправии женщин. Она не была теоретиком, взвешивающим и измеряющим в четырех стенах своего кабинета мозг мужчины и мозг женщины с целью найти сходство и различие между ними. Вопросы, срывавшиеся с ее уст, терзали ее материнское сердце, жгли мозг; она, как щитом, хотела заслониться ими от голодной смерти!
Жминская слегка пожала плечами и медленно произнесла:
— Вот вы все твердите «почему?». Отвечу вам только одно: скорее всего потому, что мужчина — глава семьи, отец.
Марта впилась взглядом в говорившую. Блеск ее глаз, вызванный напором мыслей и чувств, скрыла набежавшая слеза. Невольным движением она заломила руки.
— Пани, а я мать!
Людвика Жминская поднялась. В передней раздался звонок, возвестивший приход новой посетительницы. И хозяйка поспешила закончить разговор с молодой вдовой.
— Я сделаю все возможное, чтобы найти для вас подходящую работу; не надейтесь однако, что это будет скоро. Уроки найти трудно, предложение превышает опрос. Конечно, учительницы, в совершенстве владеющие каким-нибудь языком, очень нужны, они получают хорошую работу, но таких мало, гораздо меньше, чем спрос на них. Что же касается начального обучения, то этим хочет заняться столько женщин! Конкуренция снижает оплату, и очень немногие находят работу. Но, повторяю, я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти для вас уроки. Ведь это не только в ваших, но и в моих интересах. Зайдите через несколько дней, через неделю, — быть может, что-нибудь найдется.
Хозяйка опять стала холодно-официальной и неприступной, так как в комнате появилась новая посетительница.
Марта ушла. Медленно спускаясь с лестницы, она не плакала, как та девушка, которая час тому назад проходила здесь. Она глубоко задумалась. Лишь выйдя на улицу, она подняла глаза и ускорила шаг. В этот день ей еще многое предстояло сделать.
Рядом с домом, в котором она поселилась, находилась столовая. Марта зашла туда и попросила присылать ей обеды на дом. Так как это было близко, то за небольшое вознаграждение ей обещали присылать обеды с мальчиком. Плату за обеды — десять злотых в неделю — с нее взяли вперед. Марте казалось, что это очень дорого — у нее оставалось всего около двухсот злотых.
Открывая кошелек, содержавший все ее богатство, она почувствовала какое-то неопределенное, но весьма мучительное беспокойство. Оно еще усилилось, когда она зашла к управляющему домом и отдала двадцать пять злотых — месячную плату за комнату и мебель. Еще до этого она купила в мелочной лавочке немного сахару и чаю, булок, лампу и керосину. На все это ушла четверть ее состояния.
Яня, запертая все утро в комнатке, вскрикнула от радости, услыхав, что в замке поворачивается ключ. Она бросилась к матери на шею и стала горячо целовать ее.
Ребенок поддается лишь впечатлениям минуты. Будущее для него не существует, прошедшее быстро стирается в памяти. Вчерашний день для него уже далекое прошлое, а то, что было несколько дней назад, исчезает и расплывается в тумане. Яня была весела.
Слабый луч солнца, проникавший в мансарду через маленькое оконце, радовал ее, печь, закопченная внутри, возбуждала любопытство. Она знакомилась с новой мебелью, смеялась над двумя стульями, у которых одна ножка была короче трех остальных, — они напоминали ей хромых старичков, которых она видела на улице. Сидя одна все утро, она накопила в своей головенке некоторый запас мыслей и спешила высказать их матери, торопливо и громко щебеча.
Впервые веселость дочки произвела на Марту тягостное впечатление. Вчера, когда Яня еще ясно помнила лицо отца, когда, огорченная уходом из квартиры, в которой они жили, и исчезновением красивых вещей, к которым она привыкла, девочка со слезами отказывалась от еды и смотрела в лицо матери взглядом, полным мольбы и неосознанного страха, Марта отдала бы все на свете, чтобы вызвать улыбку на детских губках и румянец здоровья на побледневших щечках Яни. А сегодня звонкий смех ребенка пробуждал в ней смутную и тягостную тревогу. Что же изменилось для Марты? Она была одинока, как и вчера, бедна, как и вчера, но между вчерашним и сегодняшним днем встало утро испытаний, заставившее ее, очутившуюся в незнакомом мире, проверить себя. Вчера у Марты была уверенность, что не пройдет и суток, как она найдет заработок и начнет строить свою новую жизнь. Сутки истекли, а будущее оставалось невыясненным. Ей велели ждать, не определив даже срока, ждать чего-то, что во всяком случае будет весьма жалким.
«До чего же я была неопытна, думая, что мне не придется ожидать! До чего я была неразумна, когда надеялась на себя».
Так думала Марта, стоя вечером у окна, за которым нависло черное осеннее небо и шумел большой город.
«Что за столпотворение! Люди всех сословий, всех возрастов, всех наций толпятся там. Проложу ли я себе дорогу в этой толпе и как я ее стану прокладывать, когда я так плохо вооружена для борьбы? А если мне вовсе не дадут вступить на этот путь, если пройдет неделя, другая, месяц, а у меня не будет работы?..»
При этой мысли холодная дрожь пробежала по телу Марты. Она быстро повернулась и посмотрела на спящую Яню таким взглядом, точно вдруг испугалась за нее, точно вдруг заметила нависшую над ней грозную опасность.
* * *
В серый, ненастный ноябрьский день Марта торопливо шла с Длугой улицы на Пивную, из справочной конторы домой.
Тучи проливали потоки слез, но лицо молодой женщины сияло. Люди защищались от дождя зонтами, от холода — пальто, а она, не защищенная ничем, столь же равнодушная к немилостям природы, сколь была бы, вероятно, в эту минуту равнодушна к ее ласкам, легко бежала по грязным тротуарам.
Никогда еще с тех пор, как она поселилась в мансарде, Марта не взбегала с такой легкостью на четвертый этаж по узкой, грязной и темной лестнице; она улыбалась, доставая из кармана тяжелый заржавленный ключ, с улыбкой переступила, вернее, перепрыгнула через порог, опустилась на колени, раскрыла объятия и молча крепко прижала к груди черноглазую дочурку, с радостным криком бросившуюся ей навстречу. Марта поцеловала девочку в лоб.
— Благодари бога, благодари бога, Яня! — шепнула она. Ей хотелось сказать еще что-то, но она не могла: две слезы скатились на ее улыбающиеся губы.
— Отчего ты смеешься, мама? Отчего плачешь? — защебетала девочка, нежно касаясь маленькими ручками разгоряченных щек матери.
Марта не ответила; она вскочила и заглянула в черную глубь печки. Только сейчас она почувствовала, что одежда ее промокла, а в комнате холодно.
— Сегодня мы можем развести огонь, — сказала она, доставая из-за печки последнюю вязанку дров.
Яня даже запрыгала от радости.
— Огонь! Огонь! — воскликнула она. — Я люблю огонь, мама! Ты так давно не топила печку!
Когда желтые языки пламени, поднимаясь вверх, ярким светом осветили черную глубь печки и залили комнату волной приятного тепла, Марта села у огня и посадила дочь к себе на колени.
— Яня, — сказала она, наклоняясь к бледному личику, — ты еще маленькая, но ты должна понять то, что я тебе сейчас скажу.
Твоя мама была очень, очень бедна и очень несчастна. Она истратила все свои деньги, и через несколько дней ей уже не на что было бы купить ни обеда для тебя и себя, ни дров, чтобы топить печку. Сегодня твоей маме дали работу, за которую ей заплатят… Потому-то я, придя домой, и сказала тебе, чтобы ты благодарила бога, поэтому я развела этот яркий огонь — пусть нам будет сегодня тепло и весело…
Марта действительно получила работу. После целого месяца ожиданий, после долгих и бесплодных хождений в контору молодая женщина узнала от Людвики Жминской, что для нее нашелся заработок — урок французского языка. Этот заработок — пятьдесят копеек в день — казался Марте сущим кладом. Теперь она сможет, оставаясь в той же комнате и соблюдая во всем такую же или еще большую экономию, кое-как прожить со своим ребенком. Сможет прокормиться! Эти два слова так много значили для женщины, которая за день до этой радостной вести разузнавала уже, где можно продать что-либо из одежды.
К тому же первая удача открывала перед ней виды на лучшее будущее.
— Если, — сказала ей Жминская, — в доме, куда я вас направляю, вы заслужите себе репутацию добросовестной и знающей учительницы, то, может быть, вас пригласят и в другие дома. Тогда у вас будет не только право выбора, но и возможность потребовать более выгодные условия.
Так сказала Людвика Жминская, кончая свой разговор с молодой вдовой. И в голову Марты глубоко запали слова: «добросовестной и знающей».
Первое не вызывало в ней ни малейших опасений или сомнений, о втором, она, сама не зная почему, ее хотела думать, она старалась о нем забыть, как о чем-то, что может омрачить долгожданную минуту душевного покоя.
Точно в назначенный час Марта вошла в квартиру на Свентоерской улице. В красивой, со вкусом и даже роскошно обставленной гостиной ее приняла еще молодая, очень хорошенькая, нарядно одетая дама, типичная варшавянка, с приятными манерами, лицом, выражавшим живой ум, с речью быстрой, оживленной и изысканной. Это была жена одного из известнейших варшавских литераторов, пани Мария Рудзинская. Следом за ней в гостиную весело вбежала двенадцатилетняя девочка со смышлеными блестящими глазами, в коротеньком нарядном платьице, сшитом по последней моде. Она волокла за собой длинный красный шнур, с помощью которого, должно быть, только что проделывала гимнастические упражнения в удобной и просторной квартире своих родителей.
— Я, вероятно, имею удовольствие видеть пани Марту Свицкую? — сказала дама, протягивая Марте руку и указывая ей на кресло у дивана. — Пани Жминская мне вчера много о вас говорила, и я от души рада познакомиться с вами. Вот моя дочь, ваша будущая ученица. Ядвися! Эта пани любезно согласилась давать тебе уроки французского языка. Смотри же, старайся ничем ее не огорчать и учись так же хорошо, как ты училась у мадемуазель Дюпон!
Девочка, тонкая и гибкая, с умным личиком и непринужденными манерами, грациозно и без тени смущения поклонилась своей будущей учительнице.
В эту минуту в передней раздался звонок. Однако в гостиную никто не вошел, только через несколько секунд портьера, почти скрывавшая дверь в соседнюю комнату, зашевелилась, и из-за тяжелых складок красной материи сверкнула пара черных, как уголь, глаз. Можно было разглядеть и густые, черные, коротко остриженные волосы над смуглым лбом, и уголок черной острой бородки. Но все это было едва заметно, а разговаривавшие в гостиной и вовсе не могли ничего видеть, так как сидели вполоборота к двери. Хозяйка дома продолжала беседу с Мартой.
— Прежняя учительница моей дочери, мадемуазель Дюпон, преподавала очень хорошо, и Ядзя делала большие успехи. Но мой муж считает — он и меня в этом убедил, — что не очень-то хорошо с нашей стороны давать работу иностранке, когда столько полек, достойнейших женщин, ищут работы и с трудом ее находят. Ко всем учителям, обучающим нашу дочь, мы с мужем обращаемся всегда с одной просьбой: мы хотим, чтобы девочка приобрела основательные, широкие знания, чтобы она со временем в совершенстве владела языком, которому ее обучают.
Марта молча поклонилась и встала.
— Если вы желаете начать уроки сегодня, — сказала хозяйка, тоже вставая и указывая на дверь, скрытую портьерой (за складками которой в ту же минуту исчезли черные глаза, усики и бородка), — так заниматься вы можете в кабинете.
Кабинет был обставлен скромнее, чем гостиная, но тоже со вкусом и комфортом; у одной стены стоял большой стол, покрытый зеленым сукном, на нем лежали книги, тетради и письменные принадлежности. Здесь Ядзя чувствовала себя хозяйкой и, подняв красивые глаза на будущую учительницу, с серьезным видом придвинула ей удобное кресло и разложила на столе несколько книг и толстых тетрадей.
Но Марта села не сразу. Ее лицо, осунувшееся и побледневшее за этот месяц ожидания, приняло в эту минуту выражение глубокого раздумья, веки опустились, а руки, которыми она ухватилась за край стола, слегка дрожали. Она стояла так несколько минут. Могло показаться, что она взвешивает слова, сказанные матерью ее ученицы, или сама задает себе какой-то вопрос, ища на него ответа в уме или совести. Подняв глаза, она встретила устремленный на нее взгляд хозяйки. Взгляд этот мгновенно охватил с головы до ног стройную, тонкую, изящную фигуру новой учительницы, отметил широкую белую тесьму, которой в знак траура было обшито ее черное платье, и с выражением сочувствия и некоторого любопытства остановился на бледном, задумчивом лице Марты.
— Вы носите траур, — тихо и мягко промолвила Мария Рудзинская, — по матери или по отцу?..
— По мужу, — ответила Марта, и ее веки снова медленно опустились.
— Так вы вдова! — воскликнула Мария, и в голосе ее прозвучали та грусть и тревога, которые испытывает счастливая женщина, услышав, что другая утратила это счастье, и подумав, что и ее собственное невечно. — А, может быть, у вас и дети есть?
При этих словах глаза Марты просветлели.
— Да, у меня есть дочь! — ответила она и, как будто это слово настойчиво напомнило ей о чем-то, села в придвинутое ей кресло и еще дрожащими руками стала открывать одну за другой лежавшие перед ней книги.
Судя по этим книгам, Ядзя училась уже давно и знала много. О том, что у нее была высокообразованная учительница, свидетельствовали замечания в тетрадях, написанные прекрасным французским языком, — видно было, что писавшая легко справлялась со всеми его трудностями и хорошо разбиралась во всех его оттенках. Марта провела рукой по глазам, словно хотела протереть их или пыталась отогнать какую-то назойливую мысль. Потом она закрыла тетради и книги и задала ученице несколько вопросов. Мария Рудзинская отошла к окну и, взяв рукоделье, приготовилась уже сесть с ним у маленького столика, как вдруг портьера раздвинулась, из-за нее послышался звучный мужской голос:
— Кузина! Выйдите, пожалуйста, на минутку!
Мария тихо прошла по комнате, еще раз дружелюбно глянув на новую учительницу, и тихонько закрыла за собой дверь в гостиную.
Посреди гостиной стоял молодой человек лет двадцати шести, худощавый и хорошо сложенный, одетый с иголочки, со смуглым узким лицом, волосами цвета воронова крыла и черными, как уголь, глазами. Внешность у него была приятная, и, на первый взгляд, даже незаурядная. В нем прежде всего поражала удивительная жизнерадостность, беззаботная, веселая, бьющая ключом. На более внимательный взгляд эта жизнерадостность казалась даже чрезмерной. Глаза так и горели, на полузакрытых усиками губах всегда играла улыбка, то умильная, то полная игривости, то шаловливая. Подвижное лицо выражало ум и лукавство. Сразу видно было, что это был человек веселый и беспечный, а о том, что он ведет легкомысленный образ жизни, свидетельствовал нездоровый цвет лица, никак не гармонировавший с его молодостью, с блеском глаз и беззаботной, почти детской улыбкой.
В тот момент, когда Мария Рудзинская входила в гостиную, молодой человек стоял в очень странной позе: лицом к закрытым дверям кабинета, несколько откинувшись назад, подняв вверх руки и устремив глаза в потолок. Этой театральной позе соответствовало и театральное до комизма выражение восторга на лице.
— Олесь, — строго сказала Мария, — это что еще за дурачества?
— Богиня! — вполголоса произнес молодой человек, не меняя позы и выражения лица. — Богиня! — повторил он и, вздыхая, как герой комедии, опустил голову и руки.
Мария не могла не улыбнуться, но, пожав плечами и садясь со своим рукодельем на диван, сказала с легким укором:
— Олесь, ты забыл со мной поздороваться!
Молодой человек тотчас подбежал к ней и несколько раз поцеловал у нее руку.
— Прости, Марыня, прости! — воскликнул он все же патетическим тоном. — Я в таком восторге, что забыл все на свете!
Он сел рядом с молодой женщиной и, прижав руку к сердцу, снова поднял взор к потолку. Мария смотрела на него, как смотрят на расшалившегося ребенка.
— Что это, опять новая фантазия? — заговорила она, пытаясь сохранить серьезный тон, но с трудом удерживая улыбку. — Должно быть, ты по дороге ко мне встретил какую-нибудь новую богиню, и это она привела тебя в такой восторг? Боюсь, что ты теперь будешь безумствовать целый день!
— Ах, Марыня, как ты жестока ко мне! — с новым вздохом произнес молодой человек. — Ведь эту красавицу я увидел в твоем доме!..
Говоря так, он с преувеличенной торжественностью указал на дверь кабинета. Марию это и рассмешило и удивило.
— Ты говоришь о новой учительнице Ядзи? — спросила она.
— Да, кузина, — принимая вдруг серьезный вид, ответил молодой человек, — я провозглашаю ее королевой всех моих богинь…
— Ах ты, ветреник, да где же ты ее видел?
— Придя к тебе, я узнал, что ты занята разговором с новой учительницей. Я не хотел вам мешать и, пройдя через кухню, заглянул в комнату из-за портьеры… Шутки в сторону — до чего же она хороша! Какие глаза! Что за волосы! Какой царственный рост!
— Олесь! — недовольно перебила Мария. — Это, по всему видно, очень несчастная женщина: она в трауре по мужу…
— Молодая вдовушка! — снова закатывая глаза, воскликнул он. — Ты, кузина, быть может, не знаешь, что нет на земле никого приятнее молодых вдовушек… Конечно, если они красивы… Лицо бледное, в глазах меланхолия… Я обожаю в женщинах бледные лица и сентиментальные взгляды…
— Какой ты вздор городишь! — Мария пожала плечами. — Если бы ты не был моим двоюродным братом и если бы я не знала, что, несмотря на все свое легкомыслие, ты в сущности добрый малый, я могла бы тебя возненавидеть за это странное неуважение к женщинам…
— Неуважение! — воскликнул молодой человек. — Да я ведь обожаю женщин, кузина! Это богини моего сердца!
— Богини, которых ты насчитываешь дюжинами.
— Чем больше у человека предметов любви, тем, значит, он любвеобильнее… Благодаря частым упражнениям, мое сердце приобретает ту силу, тот огонь, который…
— Хватит, Олесь! — теперь уже с нескрываемым неудовольствием перебила хозяйка. — Ты хорошо знаешь, как меня огорчает такое направление твоих мыслей и чувств…
— Кузина! Кузиночка! Бога ради, прекрати это! — воскликнул молодой человек, отодвигаясь вместе со стулом и молитвенно складывая руки. — Прелестному женскому ротику не пристало читать проповеди!..
— Если бы я действительно была хорошей сестрой, я читала бы тебе их с утра до вечера…
— И ничего путного из этого не вышло бы, сестричка! Проповедь должна быть короткой; это — выжимка из правил нравственных, философских, эстетических. Лучше расскажи мне, что ты знаешь об этой черноокой нимфе, которая, право, достойна лучшей участи, чем возня с твоей Ядзей.
— Скажи-ка лучше, — с живостью перебила его Мария, — почему ты в эту пору дня находишься здесь?
— Где же мне быть, кузина, как не у твоих ног?
— В конторе, — коротко отрезала пани Рудзинская.
Молодой человек вздохнул, сложил руки и опустил голову.
— В конторе! — прошептал он. — О Марыня! Как ты жестока! Разве я селедка? Ну, скажи, неужели я в самом деле похож на селедку?
Задавая эти вопросы, молодой человек поднял голову и смотрел на кузину широко раскрытыми глазами с таким комическим выражением обиды, огорчения и изумления, что Мария не могла удержаться от громкого смеха.
Но ее минутная веселость тотчас сменилась серьезностью.
— Ты, Олесь, не селедка, — сказала она, пристально разглядывая лежавшее у нее на коленях рукоделье — вероятно из боязни снова расхохотаться, — ты не селедка, ты…
— Я не селедка! — воскликнул молодой человек, вздыхая с облегчением, словно после пережитого испуга. — Слава богу, я не селедка! А раз я не селедка, дело ясно: я не могу целый день торчать в конторе, как сельдь в бочке…
— Но ты взрослый человек и должен, наконец, серьезно подумать о жизни и ее требованиях. Ну, можно ли вечно бездельничать да волочиться за богинями! Мне тебя искренно жаль, ведь у тебя доброе сердце и ты не лишен способностей. Еще несколько лет подобной жизни — и ты станешь одним из тех бесполезных людей без дела, без будущности, которых уже и так слишком много в нашей среде…
Она умолкла и, видимо, искренно огорченная, склонилась над своей работой. Молодой человек выпрямился и торжественно произнес:
— Аминь! Проповедь длинная и не лишенная некоторой морали; сердце мое, омывшись ею, подобно губке, напитанной слезами, падает к твоим ногам, дорогая кузина!
— Олесь, — сказала Мария, вставая, — ты сегодня еще больше дурачишься, чем обычно… Я не могу говорить с тобой! Ступай в контору, а я пойду на кухню!
— Сестричка! Марыня! На кухню! Fi donc! C'est mauvais genre![16] Жена литератора на кухне! Муж ее, быть может, пишет о том, что женщина должна быть поэтичной, а она отправляется на кухню!
Сказав это, он поднялся и, простирая руки, смотрел вслед уходившей.
— Сестра! — воскликнул он. — Мария! Ах, не покидай меня!
Мария не оглянулась и была уже у двери в переднюю. Тогда молодой человек подбежал к ней и схватил ее за руку.
— Ты рассердилась, Марыня? Ты в самом деле на меня рассердилась? Ну, как тебе не стыдно! Разве я хотел тебя обидеть? Разве ты не знаешь, что я люблю тебя, как родную сестру? Марыня! Ну, погляди на меня! Разве я виноват, что молод! Я исправлюсь, увидишь, дай только немного состариться!
Говоря все это, он целовал руки молодой женщины, а на лице его так быстро сменялись одно за другим выражения раскаяния, легкомыслия, грусти, нежности, угодливости, что, глядя на него, можно было либо рассмеяться, либо уйти, пожав плечами, а сердиться на этого взрослого ребенка не было никакой возможности. Поэтому Мария Рудзинская, не поддававшаяся сначала его нежностям и извинениям, в конце концов не выдержала и рассмеялась.
— Я бы многое отдала, чтобы ты мог стать другим, Олесь…
— Я бы сам многое дал, чтобы стать другим, Марыня! Но… Натуру свою не переделаешь! Как волка ни корми, он все в лес глядит…
При последних словах он жалобно сморщился, как ребенок, который робко просит чего-нибудь, и ткнул пальцем в дверь кабинета.
— Ты опять?.. — сказала Мария, берясь за дверную ручку.
— Не скажу больше ни слова о черноокой богине, которую ты, как я вижу, словно ангел-хранитель, осеняешь своими крылами! — воскликнул Олесь, снова схватив руку Марии. — Но ведь ты познакомишь меня с ней, сестричка? Не правда ли, познакомишь?
— И не подумаю! — возразила Мария.
— Дорогая! Милая! Единственная! Познакомь меня с ней, когда она войдет сюда! Скажи — это мой брат, образец совершенства, славный малый…
— И притом величайший ветреник!
Сказав это, Мария вышла из гостиной. Олесь постоял минуту у дверей, словно колеблясь, остаться ли ему, или идти вслед за сестрой, потом повернулся на каблуках, подошел к зеркалу, поправил галстук и прическу, стал напевать какую-то песенку. Через минуту он, подойдя на цыпочках к двери кабинета, отодвинул портьеру и приложил ухо к скважине.
За дверью слышен был голос маленькой Ядзи:
— L'imparfait du subjonctif! Я забыла, как надо писать в третьем лице. Скажите, пожалуйста, от какого времени образуется l'imparfait du subjonctif?[17]
Ответ последовал не сразу. Послышался шелест перелистываемых страниц. Учительница, видимо, искала в книге ответ, который ей нужно было дать ученице.
— Du passé defini de l'indicatif[18], — оказала Марта минуту спустя…
Олесь выпрямился, возвел глаза кверху и тихо повторил:
— De l'indicatif! Что за ангельский голосок!
В кабинете снова наступила тишина. Ученица, должно быть, писала. Вскоре она опять спросила:
— Bateau![19] Я не знаю, паши, как пишется bateau, что на конце?
Учительница молчала.
— Эге! — прошептал Олесь. — Видно, нелегко приходится моей богине! Не знает, должно быть, что ответить на вопрос этой маленькой плутовки… Или замечталась…
Он отошел от двери, остановился у окна, но, посмотрев на людную, шумную улицу, вдруг воскликнул:
— Что я вижу! Панна Мальвина так рано вышла из дому! Бегу, мчусь, лечу!
С этими словами он действительно бросился к двери и, с размаху открыв ее, столкнулся лицом к лицу с Марией, возвращавшейся в гостиную.
— Боже мой! — воскликнула она, отступая в переднюю. — Куда ты мчишься? В контору?
— Я увидел в окно панну Мальвину, — поспешно надевая пальто, ответил молодой человек. — Она шла по направлению к площади Красинских — должно быть, за покупками. Мне необходимо пойти с нею…
— Уж не опасаешься ли ты, что панна Мальвина истратит слишком много денег, если ты не будешь опекать ее?
— Деньги — чепуха! Но она может потерять по дороге кусочек своего сердца. До свидания, Марыня… Передай от меня привет черноокой богине…
Последние его слова донеслись уже с лестницы.
Час спустя Марта вернулась в свою мансарду. Когда она утром уходила из дому, лицо ее было оживлено, шаг легок. Прощаясь с маленькой дочерью, она горячо целовала ее и весело объясняла девочке, как ей играть с куклой и двумя колченогими стульями, служившими кукле кроватью и колыбелькой. Возвращалась же она медленно, опустив глаза, в мрачной задумчивости. На радостные возгласы и ласки дочки она едва ответила беглым безмолвным поцелуем. Яня взглянула на мать своими большими умными глазами.
— Мама, — сказала она, обхватив маленькой ручкой шею матери, — тебе не дали работы? Ты уже не смеешься, не целуешь меня, ты опять такая, какой была тогда… тогда, когда тебе не давали работу.
Мать и ребенка, несмотря на разницу в возрасте, так сблизило горе и одиночество, что Яня по выражению лица матери и по тому, как та целовала ее, сразу угадала печаль и тревогу Марты. Но на свой вопрос девочка не дождалась ответа. Мать, опершись головой на руку, так погрузилась в свои думы, что даже не слышала ее. Однако она скоро очнулась и встала.
— Нет, — тихо промолвила она, — так быть не может! Я научусь, я должна научиться, должна все знать! Мне нужны книги, — добавила она и, подумав, открыла маленький саквояж, извлекла оттуда какую-то вещь, завернула ее в платок и вышла. Она вернулась, держа в руках три книжки. Это была французская грамматика, хрестоматия и школьный учебник по истории французской литературы.
Вечером в мансарде горела маленькая лампа и Марта сидела над раскрытой книгой. Подперев голову руками, она глотала страницу за страницей. Сложные грамматические правила, тысячи вопросов труднейшей орфографии переплетались у нее в мозгу, как мотки спутанной пряжи. Она блуждала в каком-то лабиринте совершенно неизвестных ей или все равно что неизвестных, ибо давно забытых сведений. Она напрягала свой мозг и всю силу памяти, чтобы в течение одного вечера, одной ночи понять, запомнить, овладеть теми знаниями, усвоение которых требует нескольких лет медленного, кропотливого, систематического труда. Бедная женщина думала, что усиленное, лихорадочное напряжение может возместить годы умственного застоя, что единый миг настоящего перевесит все прошлое, что горячее желание может невозможное сделать возможным. Она заблуждалась. И долго это продолжаться не могло. Лихорадочные усилия утомляли тело и мозг и, таким образом, еще больше мешали ей делать какие-либо успехи: назойливые тревоги каждого дня просачивались неясной еще, но уже мучительной горечью в сердце женщины. Всеми покинутая, она начинала понимать, что обманулась в себе самой, что у нее нет сейчас возможности учиться, ибо для того, чтобы учение принесло плоды, ей необходимо душевное спокойствие, как птице для полета необходим воздух. Самое страстное желание, самые горячие стремления, самые большие усилия воли не могли привести к тому, чтобы непросвещенный ум сразу проникнул в тайны науки, чтобы неразвитые мозг и память стали гибки, как струны, чтобы они молниеносно все воспринимали, чтобы они, как расплавленный воск, впитывали в себя все то, чем их начиняли.
Долго обольщаться Марта не могла. Но, всеми силами заглушая в себе сомнения, она упорствовала, твердя: «Научись!» Так потерпевший кораблекрушение борется с морскими волнами, из последних сил цепляясь обеими руками за единственную доску, и в надежде на эту жалкую опору думает: «Я удержусь на поверхности!»
Теперь, как и прежде, в долгие осенние ночи гудели, подобно бушующему ветру, и нескончаемой гаммой вздымались и опадали таинственные голоса большого города, но Марта уже не слушала их, она боялась слушать, ибо они наполняли ее тем неопределенным ужасом, который охватывает человека, беспомощно погружающегося в могучую и неизведанную бездонную стихию.
Далеко за полночь она ходила по комнате, освещенной тусклым светом лампочки, с лихорадочным румянцем на щеках, с распущенными по плечам черными косами, нервно сжав руки, и шепотом твердила иностранные слова из раскрытой на столе книги, которая, казалось, ощетинилась, как иглами, бесконечными рядами каких-то окончаний, знаков, цифр, обозначающих правила, скобок, обозначающих исключения. Эта книга была известным учебником Шапсаля и Ноэля, посвящающим в тайны французского языка.
И Марта от сумерек до полуночи, от полуночи до рассвета усердно твердила те скучные склонения и спряжения, над которыми ежедневно зевают на всем земном шаре тысячи детей.
Однако Марту не одолевала зевота. Сухие и монотонные слова, наполняющие скукой классы, в ее устах звучали трагически. Она сражалась с ними и с собой, со своим неискушенным умом, неразвитой памятью, с разбегающимися мыслями, она старалась побороть нетерпение, вызывавшее у нее нервную дрожь. Она боролась со всем, что окружало ее, и прежде всего с тем, что было в ней самой. Но эта упорная борьба не помогала или помогала очень мало.
Она подвигалась вперед медленно, очень медленно. То, что с таким упорным трудом ей удавалось усвоить накануне, на другой день улетучивалось у нее из головы. Учение отнимало много сил и времени, а пользы от него было мало. Марта целыми часами неподвижно сидела над книгой. По временам вставала, стремительно бегала по комнате, пила холодную воду, смачивала ею лоб и глаза — и снова садилась за работу. А проснувшись на другой день, говорила себе: «Я еще ничего не знаю!» — «Времени! Хоть немного времени! — нередко мысленно восклицала молодая женщина, подсчитывая, сколько строк можно выучить за день или страниц за неделю. — Если бы у меня было два года, год, хоть несколько месяцев!»
Но время, столь щедрое для нее некогда, в годы праздности и покоя, подгоняло ее теперь угрозой голода, холода, стыда и нужды. Ей хотелось бы иметь в своем распоряжении хотя бы один год, но завтрашний день уже не принадлежал ей. Она уже завтра должна была знать все, что можно усвоить за год, за несколько лет; она обязана, она вынуждена была знать, — иначе от нее ускользнет единственный заработок. Момент, когда она вступала в битву за существование свое и ребенка, не был подходящим для учения — и все же она училась…
Истекал уже месяц с того дня, как молодая вдова впервые вошла в нарядную квартиру на Свентоерской улице. Хозяйка этой квартиры всегда встречала Марту любезно, разговаривала с ней вежливо, даже дружески, но к ее любезному тону все чаще примешивался оттенок скрытого сострадания, озабоченности, порой даже натянутости, и чувствовалось, что у Рудзинской застревали в горле какие-то слова, которые ей трудно сказать вслух. Маленькая Ядзя была с учительницей вежлива, как хорошо воспитанный ребенок. Но в ее быстрых, живых глазах появлялась порой лукавая искорка, на губах мелькала насмешливая улыбка, которая выдавала скрытое удовлетворение, а порою и удивление ученицы, угадавшей печальную тайну своей учительницы и говорившей себе мысленно: «А ведь я знаю больше, чем она!»
Наступил день, когда Марте предстояло получить от матери своей ученицы плату за месяц занятий. Рудзинская сидела в гостиной с вышиваньем, которое она, однако, рассеянно уронила на колени. Всегда безмятежное лицо этой счастливой женщины сегодня было хмуро, в красивых глазах, устремленных на скрытую портьерой дверь кабинета, читалось огорчение.
— Нельзя ли узнать, что привело сегодня мою дорогую сестру в столь мрачное настроение? — послышался мужской голос у окна.
Мария повернулась к говорившему.
— Я в самом деле очень расстроена, Олесь, и, пожалуйста, не надоедай мне своими шутками.
— Ого! — воскликнул молодой человек, опустив газету, заслонявшую его лицо. — Какой трагический тон! Что случилось? Статья, написанная талантливым пером моего зятя, не принята в печать? Или у Ядзи заболел кончик носика? Или яблочный пирог не пропекся?
Молодой человек задавал эти вопросы с обычной своей комической высокопарностью. Но вдруг умолк, — подошел к сестре, сел рядом с ней и с минуту смотрел ей в лицо внимательнее, чем можно было ожидать от такого непоседливого и рассеянного субъекта.
— Нет, — продолжал он, — не статья, и не кончик Ядзиного носика, и не яблочный пирог. Тебя, Марыня, я вижу, расстроило действительно что-то серьезное. Что случилось?
Последние слова были произнесены с неподдельной нежностью в голосе. При этом Олесь взял руку сестры, прижал ее к губам и сказал, глядя ей в глаза:
— Ну, что же так тебя огорчает? Скажи…
Сейчас этот беспечный весельчак производил впечатление доброго малого, искренно привязанного к сестре. И Мария посмотрела на него дружелюбно.
— Я знаю, что у тебя доброе сердце, Олесь, что тебя вправду трогает моя печаль. И я охотно рассказала бы тебе, в чем дело, но боюсь, что ты опять начнешь надо мной потешаться.
Олесь выпрямился и приложил руку к груди.
— Говори смело, сестра! — сказал он. — Я буду слушать тебя серьезнее ксендза в исповедальне и с нежностью брата, которому ты всегда была ангелом-хранителем и добрым духовником… Я тебя выслушаю и готов сделать для тебя все… Если тебе хочется иметь поющее дерево или говорящую птицу, я отправлюсь за ними на край света. Если у Ядзюни ножка или головка болит, я созову немедленно всех врачей Варшавы! Если тебя кто-нибудь обидел, я вызову обидчика на дуэль или… отколочу его палкой. А что я все это исполню, клянусь тебе прекрасными глазами всех моих богинь… и памятью о нашем детстве, Мария, и запыленными стенами моей конторы, и моим сердцем, в котором течет та же кровь, что у тебя.
Что у Олеся была натура изменчивая, как хамелеон, заметно было по всему. В лице его пустое легкомыслие быстро сменялось искренним чувством, готовностью к самоотречению, так что Мария не знала, сердиться ей или смеяться, и хотелось пожать руку этому вертопраху, который напоминал ей о вместе проведенных детских годах и о том, что в их жилах течет одна кровь.
— В сущности это не так уж важно, — сказала она после минутного колебания. — Ничего такого, что могло бы повлиять на мою судьбу или судьбу моих близких. Но мне очень жаль эту бедняжку, которая сейчас находится там, за дверью…
— А! Так это касается черноокой богини? Ну, слава богу, у меня отлегло от сердца. А то я, право, думал, что какое-нибудь несчастье…
— Это несчастье, но не наше, а ее…
— Неужели? Ну, тогда и мне немного жаль эту интересную вдовушку. Но что же с ней? Покойный супруг ей приснился, что ли?
— Брось шутки, Олесь! Эта женщина, видно, еще несчастнее, чем я думала… Она очень нуждается, но, кажется, ничего не умеет делать…
Олесь широко раскрыл глаза:
— Ничего не умеет! И в этом все несчастье? Ха! ха! ха! Beau malheur ma foi![20] Такая молодая и красивая…
Вдруг он замолчал, потому что красная портьера раздвинулась и в гостиную вошла Марта. Она ступила шаг и остановилась, держась рукой за спинку кресла. В эту минуту она была очень хороша. Тяжелые переживания — быть может, последний момент долгой внутренней борьбы — окрасили ее бледные щеки ярким румянцем; она, видимо, только что в припадке отчаяния схватилась руками за голову, и две вьющиеся прядки черных волос упали на бледный лоб, резко отделявшийся от залитого краской лица. Она стояла с поникшей головой и опущенными глазами, но во всем ее облике чувствовалось не колебание, не страдание, а лишь твердое, бесповоротное решение.
Одного взгляда на эту женщину было достаточно, чтобы понять, что она отважилась на нечто, имеющее для нее огромное значение, на какой-то шаг, который она не могла совершить без большого усилия над собой, без огромного напряжения воли. Наконец она подняла голову и подошла к Марии.
— Вы кончили уже? — спросила, вставая, пани Мария, пытаясь непринужденно улыбнуться.
— Да, пани, — тихо, но твердо ответила Марта. — Сегодняшний урок окончен, и я пришла сказать вам, что он последний. Я не могу больше заниматься с вашей дочкой.
На лице Марии Рудзинской можно было прочесть удивление, грусть и замешательство. Последнее было всего сильнее. Этот добровольный отказ помешал доброй женщине сказать то, что она уже давно собиралась сказать.
— Вы не будете больше давать уроки Ядзе? — переспросила Мария, запинаясь. — Но почему?
— Потому, — медленно и тихо ответила Марта, — что я не гожусь в учительницы.
Говоря это, она опустила глаза; мучительное чувство стыда выражалось на ее вспыхнувшем лице.
— Я переоценила свои способности, — продолжала она. — Оставшись без всяких средств, я знала, что должна работать… Я слышала, что большинство нуждающихся женщин дает уроки, чтобы заработать кусок хлеба… Я надеялась этим трудом прожить… Мне сказали, что я могу преподавать только французский язык, и я считала свои знания достаточными, так как говорю по-французски бегло и правильно. Но теперь я убедилась, что хорошо говорить — это еще не значит по-настоящему знать язык. Я никогда не изучала его основательно, а то немногое, что знала в детстве, забыла… Это были отрывочные, поверхностные знания, и не удивительно, что они не удержались в моей памяти. Та иностранка, что обучала прежде вашу дочь, была прекрасной учительницей. У панны Ядвиги гораздо больше знаний, чем у меня…
Марта остановилась на минуту, словно собираясь с силами.
— Конечно, — продолжала она, — я очень нуждаюсь в заработке, но я не хочу поступать против совести… Ведь, когда вы договаривались со мной, вы сказали, что прежде всего требуете от учителей, чтобы они помогли вашей дочери основательно изучить предмет… А я ей этого дать не могу… Вы так хорошо отнеслись ко мне, что я была бы не только недобросовестной, но и неблагодарной, если бы…
Мария не дала ей договорить. Она взяла несчастную женщину за руки и, крепко сжимая их, сказала:
— Дорогая моя! Я не могу, конечно, возражать против того, что вы сами о себе говорите. Но, поверьте, мне очень, очень грустно расставаться с вами. И я хочу быть вам хоть чем-нибудь полезной… У меня знакомства, связи…
— Пани, — сказала Марта, поднимая глаза, — единственное мое желание — это найти работу…
— Но в какой области вы хотели бы и могли работать? — поспешно спросила Рудзинская.
Марта долго молчала.
— Не знаю, — дрожащим от стыда голосом ответила она наконец, — не знаю, что я умею делать и вообще умею ли хорошо делать что-нибудь?
— Не хотите ли давать уроки музыки? Одна моя родственница как раз ищет учительницу музыки для дочери.
Марта отрицательно покачала головой.
— Нет, — сказала она, — в музыке я еще гораздо менее сильна, чем во французском языке.
Мария задумалась. Она не выпускала руки Марты из своих, словно боялась, что та уйдет от нее, не получив совета и помощи.
— Может быть, вы могли бы преподавать естественные науки? Мой муж воспитывает мальчика, которому трудно дается ученье… Ему нужен репетитор, чтобы помогать ему готовить уроки.
— Нет, пани, — перебила Марта, — естественных наук я почти совсем не знаю.
После минутного колебания она прибавила:
— Я немного умею рисовать. Если вы знаете кого-нибудь, кто ищет учительницу рисования…
Мария, подумав с минуту, отрицательно покачала головой.
— Это труднее всего. Мало кто учится рисовать, к тому же рисование преподают обычно мужчины… Так уж принято.
— В таком случае, — сказала Марта, пожимая руку Марии, — мне остается только проститься с вами и поблагодарить за вашу доброту и любезность.
Мария протянула руку, чтобы взять со стола изящный конверт, в котором было несколько кредиток, но в эту минуту кто-то дернул ее за рукав. Это был веселый Олесь, все время скромно стоявший в сторонке с выражением лица отнюдь не веселым. Он с восторгом и искренним состраданием смотрел в упор на молодую вдову, вовсе не замечавшую его присутствия. Быть может, войдя в гостиную, она и видела Олеся, но какое ей было дело до того, что еще один человек станет свидетелем ее унижения, если самым страшным и постоянным свидетелем его была она сама? Какое было дело Марте, что кто-то смотрит на нее в тот момент, когда она сама с ужасом устремляла взор в свое будущее, поняв, как мало она приспособлена к жизни. Поэтому Марта не обращала внимания на молодого человека, а Мария и вовсе забыла о нем и, когда он слегка потянул ее за рукав, обернулась с удивлением. Она еще больше удивилась, увидев лицо Олеся. Его всегда веселые глаза были полны грусти, в складке губ, с которых сбежала беспечная улыбка, было выражение кротости и даже серьезности.
— Марыня! — сказал он вполголоса. — Ведь твой муж работает в редакции иллюстрированного журнала. Может быть, там нужен человек, умеющий рисовать…
Мария захлопала в ладоши.
— Верно! — воскликнула она. — Я спрошу у мужа!
— Но это нужно сделать сейчас же! — настаивал Олесь со свойственной ему живостью. — Сегодня заседание в редакции…
— Да, и он сейчас там…
— А на заседании легче всего узнать…
— Так я ему сейчас напишу…
— Нет, зачем писать, это долго! Я схожу и вызову Адама с заседания…
— Иди, иди, Олесь…
— Бегу, мчусь! — воскликнул молодой человек, схватил шляпу и, забыв попрощаться, выбежал в переднюю. Там он накинул пальто и, крикнув еще раз: — Бегу, мчусь, лечу! — действительно помчался вниз по лестнице, так же как месяц тому назад, когда ему хотелось догнать молодую красавицу, которую он увидел в окно. Мария не ошиблась: у ее двоюродного брата было доброе сердце. Она с довольным видом проводила его глазами до порога и снова обернулась к Марте.
Молодая вдова стояла неподвижно, краска еще сильнее залила ее лицо. Она не могла не видеть, что вызывает жалость не только в этой женщине, только что пожимавшей ей руки, но и в молодом человеке, почти незнакомом, которого она видала мельком всего лишь раза два. Впервые в жизни она внушала людям сострадание. Избежать этого было невозможно, и все же мысль о том, что ее жалеют, подавляла Марту. Она была недовольна собой, своим разговором с Марией, вызвавшим эту жалость к ней… Марта говорила себе, что она должна быть сильнее, больше владеть собой. У нее было такое ощущение, будто в эту минуту она потеряла чувство собственного достоинства, будто она протягивает руку за подаянием. Когда сестра и брат оживленно заговорили о ней, когда молодой человек выбежал из комнаты, чтобы идти куда-то, к чужим людям, которых она никогда не видела, и просить за нее, Марте сильно захотелось уйти, уйти немедленно, заплатить за сочувствие словами благодарности, но милостыню не принять и сказать:
— Надеюсь, что я сама найду выход.
Желание это было так властно, что у Марты перехватило горло, кровь бросилась ей в голову. Но она все же не поддалась ему, не ушла, а стояла неподвижно, с поникшей головой и судорожно сжатыми руками. В глубине души она мрачно твердила себе:
«У меня нет надежды на то, что я выкарабкаюсь сама. Я в себя не верю!»
В ней рождалось сознание своего бессилия, и оно вызывало стыд, неопределенный, но мучительный. «Если бы я была одна!.. — думала она. — Если бы у меня не было ребенка!»
— Скажите, пожалуйста, — обратилась к ней Мария, — как известить вас о результате попыток, которые я и муж мой предпримем, чтобы найти для вас работу? Быть может, вы оставите свой адрес?
Марта подумала.
— Если разрешите, я сама приду за ответом.
Сначала она хотела дать свой адрес, но у нее мелькнула мысль, что эта молодая и счастливая женщина легко может о ней забыть. Ей было неприятно, что ее жалеют, но еще больше пугала ее мысль, что мелькнувшая надежда на заработок снова исчезнет и оставит ее в ужасной неуверенности.
«Заработок! Какая проза, какое будничное, низменное дело!» — воскликнет, быть может, читатель. Если бы речь шла о пылкой любви, сердечной тоске, возвышенных мечтах, то, быть может, чувства и мысли молодой женщины вызывали бы больше сочувствия. Но Марта сознавала, что здоровье и жизнь единственного существа в мире, которое она любила, — ее ребенка — зависит от ее заработка, что спасение от тоски, наполняющей пустые углы ее бедного жилища, — в работе, а не в возвышенных мыслях и мечтах. Возможно, что она ошибалась; ее будущее должно было показать, права она или нет.
Обменявшись еще несколькими словами с хозяйкой, Марта Свицкая попрощалась. Мария снова взяла в руки конверт с лиловой каймой.
— Пани, — сказала она смущенно, — вот то, что вам следует за уроки.
Марта не протянула руки.
— Мне ничего не следует, — сказала она, — ведь я вашу дочь ничему не научила.
Пани Рудзинская хотела настаивать, но Марта схватила ее руку, крепко пожала и торопливо вышла из комнаты. Почему она ушла так поспешно? Быть может, хотела убежать от соблазна? Она чувствовала, что деньги, которые ей предлагали, не заслужены ею, хотя она прилагала к этому все усилия. Она чувствовала, что, приняв деньги, поступила бы нечестно, поэтому и не взяла их. Но когда она, придя домой в сумерках, в комнате, освещенной только тусклым светом уходящего дня (лампу она не зажигала из экономии), открыла кошелек и подсчитала его содержимое — несколько монет, оставшихся от продажи одного из ее двух платьев; когда она подумала, что, кроме этих денег, которых хватит на несколько дней, у нее ничего нет; когда маленькая Яня, прижимаясь к ней, пожаловалась на холод и просила затопить печку, а она вынуждена была отказать, так как дров оставалось очень мало, а о том, чтобы купить новые, она теперь и мечтать не могла; когда ночной мрак еще обострил ее тоску и превратил беспокойство в сильную тревогу, — в ее воображении встал изящный конверт, украшенный лиловой каймой, с тремя пятирублевыми бумажками внутри. Марта вскочила и зажгла лампу. Вместе с мраком исчезло и видение, но оставило в ее душе смутный ужас.
— Неужели, — воскликнула она, — я жалею теперь о том, что поступила честно?
Эта мысль вызвала новый прилив сил.
«Нет, — успокаивала она себя, — напрасно я так волнуюсь. Ведь обещали же мне новую работу?.. Я когда-то неплохо рисовала. У меня даже находили большие способности… Эту работу, если мне ее только дадут, я, вероятно, смогу делать хорошо. Господи! Как я буду стараться, чтобы заработок опять не выскользнул у меня из рук! Правда, мне дадут его только из жалости, но что ж из этого? Это не может унизить меня. Право, во мне еще слишком много гордости! Я слышала не раз, что люди и в бедности могут сохранить гордость, но это, должно быть, только в теории; я теперь вижу, что это не так!»
Она снова подумала об этом, когда на следующее утро сошла вниз и робко постучала в квартиру управляющего домом.
Управляющий принял ее в теплой, хорошо обставленной комнате.
— Через два дня, — сказала Марта, — срок уплаты за комнату и за пользование мебелью.
— Совершенно верно, пани, — полуутвердительно-полувопросительно отозвался управляющий.
— Но я пришла предупредить вас, что пока не смогу уплатить…
Лицо управляющего приняло явно недовольное выражение. Впрочем, он не был черствым человеком. Лицо у него было честное и доброе, со следами пережитых лишений и забот. Он пристально посмотрел на молодую женщину и после минутного раздумья ответил:
— Очень жаль… но что ж поделаешь! Комната у вас небольшая, и я думаю, домовладелец не выселит вас, если вы один раз не внесете денег в срок. Однако, если это повторится…
— Мне обещали работу, — с живостью перебила Марта, — и я надеюсь, что она меня обеспечит…
Управляющий молча поклонился, а Марта, покраснев и опустив глаза, вышла на улицу. Скоро она вернулась домой, неся в узелке разные покупки. Она не могла уже больше брать обеды в столовой и упрекала себя даже за то, что брала их до сих пор, так как потратила денег больше, чем следовало. О себе она не беспокоилась. Под тяжестью забот, погруженная в свои мысли, Марта мало думала о еде. Она считала, что стакана молока и булки в день ей вполне достаточно для поддержания сил. Но маленькая Яня, дрожавшая от холода в плохо отапливаемой комнате, нуждалась в горячей пище — хотя бы один раз в день.
Поэтому Марта на последние деньги купила немного масла, крупы и кастрюльку.
«Вместо того чтобы топить печку утром, — решила она, — я буду топить ее в полдень и заодно варить каждый день что-нибудь горячее для Яни».
Она не могла также примириться с мыслью, что ее ребенок не будет есть мяса. И так уже девочка бледная, слабая, истощенная лишениями, которых она раньше не знала. Но свежее мясо стоит очень дорого, и чтобы его сварить, нужно много дров. Поэтому Марта купила фунт ветчины. Делая эти покупки, она вспомнила про дешевые столовые. Она слыхала о них прежде, когда была женой чиновника, получавшего приличный оклад, и сама щедрой рукой жертвовала на благотворительные дела. Но и дешевая столовая сейчас могла оказаться для нее слишком дорогой, да и, кроме того, ей было противно обращаться за помощью в благотворительные учреждения.
«Это для стариков, — думала она, — для больных, калек, сирот, для людей совершенно беспомощных или опустившихся. А я молода, здорова, — и немало есть работы, за которую я еще не пробовала браться и которую, быть может, сумею выполнять. Если мне не повезло вначале, так это еще не значит, что я должна искать благотворительной помощи».
«Никогда!» — сказала она себе и, снова открыв кошелек, пересчитала оставшуюся мелочь. В нем было всего около трех злотых.
«Хватит на неделю на молоко и булки для меня и для Яни, — подумала она, — а за это время добрые люди подыщут мне работу…»
Знакомые Марты со Свентоерской улицы были люди очень добрые, они искренно хотели помочь бедной женщине, внушавшей им сострадание и уважение. Им это было нетрудно, так как муж Марии Рудзинской занимал видный пост в редакции одного из популярнейших варшавских иллюстрированных журналов и мог предоставить работу многим нуждающимся.
Муж Рудзинской был давнишним и весьма уважаемым сотрудником этого журнала. Его слово имело здесь большой вес, его ходатайство не могло быть оставлено без внимания.
К тому же Адам Рудзинский был писатель, интересовавшийся почти исключительно социальными проблемами, а в том числе и положением трудящихся женщин в обществе. Марту он видел несколько раз, когда она приходила на уроки. Привлекательная внешность молодой женщины, ее траур, достоинство, с которым она держалась, и благородный поступок, о котором с восхищением рассказала ему жена, усилили его желание помочь ей.
Результат был благоприятный и не заставил себя долго ждать. Еще одна пара рук не была лишней в журнале, которому требовались работники, но сперва нужно было выяснить степень пригодности новой сотрудницы, чтобы решить, можно ее принять или нет.
Благодаря стараниям Адама Рудзинского дело подвигалось быстро, но Марте ожидание показалось очень долгим. С того дня, когда она добровольно отказалась от урока, прошла неделя; ее скудный запас денег почти совсем истощился, а вынужденное безделье ужасно ее угнетало, тревожило и лишало сна. И вот однажды утром, выйдя из дому, Марта пошла на Длугую улицу и постучала в дверь справочной конторы. Людвика Жминская приняла ее еще холоднее и официалынее, чем прежде.
— Я слышала, что вы уже не даете уроков у Рудзинских, — сказала она. — Жаль, это очень плохо как для вас, так и для меня: от мнения таких людей зависит репутация моей конторы.
Марта вспыхнула — она поняла упрек, скрытый в словах Жминской. Однако она стремительно подняла голову и сказала с искренним огорчением:
— Простите, что я не оправдала ваших надежд.
— Если бы это касалось лично меня, — перебила ее Жминская, — это не имело бы никакого значения, но если люди не будут питать ко мне доверия, это принесет большой ущерб моему делу.
— Вы ошиблись во мне, — продолжала Марта, — потому что и я ошиблась в самой себе. Панна Рудзинская для меня слишком знающая ученица. Я думаю, если бы мне пришлось обучать начинающих, я лучше справилась бы со своей задачей. Поэтому я еще раз обращаюсь к вам с просьбой: не можете ли вы найти мне уроки с начинающими?
Но Людвика Жминская не смягчилась.
— Спрос на учителей для начинающих гораздо меньше, а таких учителей гораздо больше, — сказала она, помолчав, с иронией в голосе. — Конкуренция огромная, поэтому оплата очень низкая. Сорок грошей, самое большее — два злотых за час…
— Я согласна на любые условия, — ответила Марта.
— Конечно, приходится соглашаться, когда нет другого выхода. Однако я вам ничего не обещаю. Посмотрю, постараюсь… Во всяком случае сейчас у меня ничего нет, и вам придется долго ждать.
Марта внимательно смотрела на хозяйку конторы. Ее глаза, грустные, задумчивые, но спокойные, искали, ныть может, на лице пожилой женщины доброжелательности и сочувствия, какие она заметила, когда была здесь в первый раз. Но Жминская оставалась теперь непреклонной, холодной и официальной. Марта вспомнила ее слова, сказанные два месяца тому назад:
«Женщина только тогда может проложить себе дорогу трудом, завоевать независимость и положение в обществе, когда у нее есть выдающиеся способности или обширные знания в какой-либо области».
У Марты ничего этого не было, и хозяйка конторы, уже разочаровавшись в ней, считала ее, вероятно, назойливой клиенткой, которая скорее может компрометировать, чем принести пользу ее конторе. И от нее, к которой ежедневно приходили с такими просьбами десятки людей так же нуждающихся и с такими же недостаточными знаниями, нечего было ожидать сочувствия.
Марта поняла, что ее карьера учительницы окончена, и, куда бы она теперь ни обратилась, всюду сначала проверят товар — ее знания — и, убедившись в его низкосортности, откажут ей сразу, или она попадет в разряд тех, кто вынужден долго дожидаться самого жалкого заработка. Она согласилась бы на любые условия, но долго ждать не могла.
«Как я была наивна, до какой степени не знала людей и себя самое, когда, поселившись в этой жалкой комнатушке, думала, что достаточно мне заявить о своем желании трудиться, и я получу работу. Вот теперь хожу с одной улицы на другую, от одного дома к другому и ищу… И все же, если бы я умела хорошо что-нибудь делать…»
Мария Рудзинская весело встретила Марту, горячо пожала ей руку и, не дожидаясь вопросов, сказала:
— В журнале, где работает мой муж, как раз ищут иллюстратора. Вот эскиз, сделанный известным художником. Вам поручено его скопировать. Оплата целиком будет зависеть от качества вашей работы; и от того же зависит, получите ли вы и другие заказы.
Бледный луч декабрьского солнца, проникая между стенами домов, озарял чердачное оконце и скользил по столу, за которым сидела Марта, сосредоточенно вглядываясь в лежавший перед ней рисунок. На нем было изображено несколько ветвистых деревьев и пышных кустов, в тени их сидела красивая женщина, а из-за ветвей выглядывали детские головки. На заднем плане с большим искусством изображен был деревенский домик с террасой, обвитой плющом. Позади него вилась дорога, очертания которой терялись в тумане. Это была несложная композиция, сценка из деревенской жизни, но, написанная умелой и вдохновенной рукой талантливого художника, она представляла собой прекрасное произведение искусства, и сельский домик, четырьмя окнами смотревший на зрителя, и стройная женщина, блаженно отдыхавшая под тенью дерева в позе, полной небрежной грации, и задорные личики детей, выглядывавшие из-за куста роз, и уходившая вдаль дорога — все здесь ласкало взгляд, воспламеняло воображение, побуждало мысль к сравнениям и догадкам. Превосходная техника исполнения сочеталась с поэтичностью замысла. Вдохновение и высокое мастерство равно помогали художнику, когда он легкой и уверенной рукой набрасывал эту картину, полную глубокого чувства, прелести и спокойной гармонии.
Однако не техническое совершенство сразу привлекло внимание Марты; рисунок, прежде всего, пробудил в ней воспоминания прошлого и поразил трагическим контрастом с ее настоящим.
При виде этого сельского домика, тенистых деревьев и кустов и лица молодой матери, следившей за движениями двух детских фигурок, на Марту нахлынули воспоминания, наполняя ее чувством горького блаженства.
И она жила когда-то в таком тихом, цветущем уголке, бродила по пышному ковру травы, срывая розы с кустов, и с охапкой благоухающих цветов бежала затем к такой же террасе, обвитой плющом, зеленая завеса которого готова была принять под свою прохладную освежающую сень маленькую любимицу всей семьи.
И за ее быстрыми, легкими движениями некогда следил заботливый взгляд матери, и вслед ей раздавался тревожный материнский голос, предупреждавший, чтобы она не убегала далеко от дома, на дорогу, где столько камней и рытвин, препятствий и опасностей, на рогу, которая вьется и пропадает среди холмов в бескрайней дали. Напрасные предупреждения, напрасная тревога материнского сердца!
Настало время, и девочка, выросшая в уютном деревенском доме, вышла на эту дорогу, каменистую и крутую, пошла в неизвестную даль, полную преград и опасностей, и вот — очутилась здесь, на самом верху высокого городского здания, в голых, холодных стенах мансарды… Марта оторвалась от рисунка, оглядела комнату и остановила взгляд на бледном личике закутанном в ее шерстяной платок и все же дрожавшей от холода Яни, которая, как слабый птенчик, прижималась головкой к ее коленям. В ушах женщины словно звучало еще так хорошо знакомое с детства пение птички, той самой птички, которая на рисунке, расправив крылышки, порхала над розовым кустом. С этими воскресшими в ее памяти звуками сливалось тяжелое дыхание озябшего ребенка. Воображение рисовало Марте прекрасное лицо ее матери, доброе лицо отца. Затем перед ней встали темные глаза юноши, они смотрели на нее с глубоким чувством и как бы твердили «люблю!», и он говорил ей: «Будь моей женой!» Все эти родные лица, которые были ей дороже жизни, лица тех, кого навсегда поглотил мрак могилы, эти места, где проходило ее безоблачное детство и юность, все погасшие огни, развеянные мечты, отравленные радости — все то, что поддерживало ее когда-то, вновь ожило, приобрело прежние краски, слилось в одну картину и предстало перед молодой женщиной в этих серых, холодных стенах пустой комнаты, как в раме ужасающего безобразия и наготы.
Марта не смотрела уже на рисунок, ее взгляд был неподвижно устремлен в пространство, глаза влажны, она дышала тяжело и часто, но подавляла подступавшие к горлу рыдания, боролась с ними, боролась со своим сердцем, силясь утишить его учащенное биение, пыталась справиться с собой, гоня от себя рой воспоминаний и грез.
Какой-то тайный внутренний голос говорил ей, что с каждой пролитой слезой, с каждым вырвавшимся из груди рыданием, с каждой секундой, проведенной в этих страшных муках, когда душа оплакивает похороненные надежды и любовь, уходит частица ее сил и воли, частица энергии, терпения и выдержки. А этих сил, этой воли, этой выдержки ей нужно было так много! Полдень ее жизни оказался для нее настолько же суровым и требовательным, насколько нежным и ласковым было утро.
Яня подняла к матери бледное личико.
— Мама! — сказала она жалобно, — как тут сегодня холодно! Затопи печку!
Вместо ответа Марта наклонилась, обняла девочку, крепко прижала ее к груди и, прильнув губами к ее лбу, с минуту молчала…
Вдруг она поднялась, плотнее закутала Яню в шерстяной шарф, посадила ее на маленькую скамеечку, опустилась перед ней на колени, с улыбкой поцеловала ее в бледные губки и почти спокойным голосом сказала:
— Если ты будешь сидеть тихонько и играть со своей куклой, я завтра или послезавтра кончу работу, куплю дров и зажгу для тебя красивый, жаркий огонь в печке. Хорошо, Яня? Хорошо, доченька моя милая?
Говоря это, она согревала в руках озябшие руки девочки. Яня в ответ улыбнулась и поцелуями закрыла глаза матери. Она занялась своей куклой и деревянными игрушками и перестала смотреть в закопченную, пустую, дышащую холодом глубь печки. В комнате снова настала полная тишина. Марта сидела за столом и всматривалась в работу талантливого художника.
Побежденные усилием воли, отогнанные воспоминания и сожаления о прошлом укрылись где-то на самом дне души и не тревожили ее более. Теперь лицо Марты выражало спокойную сосредоточенность, в глазах светилось воодушевление, с которым она принималась за эту новую пробу своих сил. Теперь уже не замысел художника, не вложенные им в картину чувства поглощали, все внимание Марты, а техника рисунка, те средства и приемы, то мастерство, которое помогает создавать прекрасное произведение, воплощать свой замысел в каждый мельчайший штрих, использовать каждую частицу поверхности, каждую игру света и тени. Марта не рисовала никогда с натуры, но копировала небольшие пейзажи, натюрморты, портреты. Поэтому совершенство лежавшего перед ней рисунка восхитило ее, но не обескуражило.
«Мне, конечно, далеко до автора этого прекрасного рисунка, — думала она, — но скопировать чужую работу я, пожалуй, сумею — должна суметь!»
С этими мыслями она открыла длинную коробку с принадлежностями для рисования. Рудзинская своим чутким сердцем поняла, что бедная женщина окажется в затруднительном положении, и дала ей этот ящичек вместе с оригиналом рисунка.
Карандаш Марты легко двигался по бумаге; она чувствовала, что ее мысль сливается воедино с мыслью художника, а глаз быстро улавливает самые сложные изгибы линий, тончайшие оттенки и переливы света и тени. Сердце ее билось все сильнее и радостнее, ей дышалось все легче, румянец выступил на бледных щеках, глаза сияли. Утешитель отчаявшихся, друг одиноких, опекун измученных жизненными бурями — труд пришел в убогое жилище и принес с собою душевный покой. Солнечные лучи, ласкавшие утром голые стены, исчезли за высокими крышами домов, большой город внизу шумел таинственно и неустанно, — Марта не видела ничего и ничего не слышала.
Иногда она поднимала глаза от работы, чтобы поглядеть на тихо игравшего в уголку ребенка, перекидывалась с Яней несколькими словами и снова погружалась в работу. Иногда она хмурила брови, и на ее лице появлялось озабоченное выражение. Это было тогда, когда она наталкивалась на какие-либо трудности в работе; незнание приемов было для нее большой помехой. Но она боролась с этими трудностями и думала, что удачно преодолевает их. Когда Марта вглядывалась в свою работу, на губах ее появлялась улыбка, которая исчезала, как только она начинала сравнивать свою копию с оригиналом. Видимо, в уме ее возникали сомнения, тревога, но она их подавляла, — слишком они угнетали, слишком были мучительны. Она работала, напрягая все силы ума и воли, с увлечением человека, влюбленного в свой труд, работала, вкладывая в него все способности, всю душу, и перестала рисовать только тогда, когда в комнату пробрались первые вечерние тени. Тогда она подозвала Яню, посадила ее к себе на колени. С улыбкой глядела она на личико дочурки. И теперь улыбка была иная, не вымученная, нет. Она расцвела сама собой, без усилий, на лице молодой матери, потому что работа успокоила наболевшее сердце, согрела его надеждой.
Марта рассказывала дочке одну из тех сказок, полных чудес, радужных красок и пения птиц, которые так занимают ребенка и захватывают его воображение.
Но пока она плела для бедного, истосковавшегося по такому празднику ребенка длинные нити фантастических сказок, мозг ее сверлила одна мысль, повторявшаяся, как лейтмотив ее жизни: «Если бы я сумела… если сумею…»
«Хорошо ли у меня сделано? Годна ли я на что-нибудь?» — думала Марта через несколько дней, входя в квартиру Рудзинских.
На вопросы, волновавшие молодую женщину, она в этот день не получила решительного ответа. Но ей предстояло скоро услышать его: на следующий день должно было состояться заседание редакции, на котором компетентные люди дадут заключение о способностях Марты и качестве выполненной ею работы.
— Приходите послезавтра утром, — сказала пани Рудзинская. — Мой муж на завтрашнем заседании все узнает и даст вам определенный ответ.
Марта пришла в назначенное время. В уютной гостиной хозяйка встретила ее с обычной любезностью и указала на кресло у стола, на котором лежала работа Марты. За столом сидел мужчина средних лет с лицом умным, благородным и добрым. Это был Адам Рудзинский; он встал, здороваясь с Мартой, почтительно пожал ей руку и, когда она села, уселся тоже, опустив глаза, и заговорил не сразу.
Мария сидела поодаль, опечаленная, подперев щеку рукой, и тоже молчала. Несколько секунд в гостиной царила тягостная тишина. Каждому из присутствовавших тяжело было начать разговор. Адам Рудзинский первый нарушил молчание.
— Мне очень жаль… — сказал он, — но мне поручено передать вам неблагоприятный ответ, и я не в силах ничего изменить.
Он смотрел на Марту с искренним сочувствием и сделал паузу, желая, быть может, дать молодой женщине время собраться с силами и стойко перенести удар. Марта слегка побледнела и отвела глаза. Но с губ ее не сорвалось ни одного возгласа, ни одного вздоха.
Адам Рудзинский по выражению ее лица понял, что она умеет владеть собой и быть мужественной, поэтому он продолжал:
— Я не художник и не могу быть судьей в этом деле. Я сказал лишь то, что мне поручено вам передать. Я это сделал со всей откровенностью для того, чтобы оградить вас от новых разочарований в будущем, а также и потому, что нет для человека ничего вреднее, чем переоценка своих сил и возможностей. Работа, выполненная вами, говорит о том, что вы учились рисовать и что у вас несомненно есть способности, но… учились вы слишком мало и способности эти у вас недостаточно развиты. Вы не знакомы с требованиями, которые предъявляет искусство. Всякое искусство слагается из двух вещей: природного таланта человека, который посвятил себя ему, и мастерства, которое достигается трудом, учением. Талант рождает вдохновение, но вдохновением руководит мастерство. Опыт, не оживляемый талантом, не может создать подлинного произведения искусства, и работа художника будет работой ремесленника, а талант, хотя бы самый большой, без опыта и знаний — эта первобытная, слепая сила, неразвитая и стихийная, способная в лучшем случае создавать произведения несовершенные, хаотические, неполноценные. У вас есть способности — и способности, несомненно, значительные, раз они заметны в вашей работе, несмотря на все ее технические недостатки. Но…
— Адам! — раздался голос Марии Рудзинской. Она встала и, подойдя к столу, смотрела на мужа с мольбой во взгляде, а на Марту сочувственно и тревожно. Марта угадала опасения доброй женщины. Она подняла голову и сказала твердо:
— Пани, я хочу услышать всю правду. Мой небольшой опыт убедил меня, что ваш муж вполне прав: нет ничего пагубнее для человека в моральном и материальном отношении, как незнание собственных сил и возможностей, с которыми он вступает в жизнь.
Мария вернулась на свое место. Марта перевела взгляд на Рудзинского, и тот продолжал:
— Существуют разные степени мастерства, и люди овладевают им для разных целей. Даже небольшого мастерства достаточно для того, чтобы доставлять человеку радость, украшать и разнообразить жизнь его и окружающих. Такое дилетантство имеет известный успех в салонах и гостиных и, сопутствуя богатой или обеспеченной жизни, вносит в нее некоторую прелесть, поэзию, яркость впечатлений и праздничность. Однако дилетантство, хотя оно и не совсем лишено полезных и облагораживающих сторон, хотя оно и занимает довольно значительное место в духовной жизни людей, может служить лишь придатком, украшением, изящным узором на канве жизни, делающим эту жизнь более красочной и разнообразной. Но строить все на дилетантстве, оставаться дилетантом всю свою жизнь — нельзя, не годится! Это нельзя потому, что несовершенство и результаты дает несовершенные; не годится, так как тот, кто приносит миру так мало пользы, не имеет права требовать от мира так много — обеспеченного существования и душевного покоя. На высотах же, часто недоступных даже пониманию дилетанта, царит искусство, могучая, совершенная сила, создаваемая развитым до предела, верно направленным талантом и глубокими, обширными знаниями. Дилетантство всего лишь — игрушка, а опорой в жизни, материальной и духовной, может стать только подлинное искусство. В искусстве, так же как в науке и ремесле, достигает наибольшего тот, кто в свое творчество вкладывает наибольший капитал — время, труд, знания, опыт. Здесь, как и везде, существует конкуренция, спрос и предложение противостоят друг другу. Здесь, как и везде, степень благосостояния художника прямо пропорциональна качеству его произведений. Как в любой другой области труда, человек, посвятивший себя искусству, может добиться хороших, порой даже отличных условий жизни, но лишь в том случае, если у него есть не только природный талант, но и образование, если он не дилетант, а настоящий художник…
Сказав это, Адам Рудзинский встал и, почтительно поклонившись Марте, прибавил:
— Простите меня, что я говорил так долго, но я не мог ограничиться несколькими фразами. Я боялся, чтобы вы не подумали, будто вам отказывают в заработке из-за каприза или какого-то предубеждения, что в данном случае было бы просто преступно. Ваша работа не удовлетворяет требованиям редакции. Копия недостаточно искусна и точна, не отражает как следует идею и характер оригинала. Так, например, несмотря на то, что лицо молодой матери вы рисовали с явным чувством и увлечением, ее черты получились расплывчатыми по сравнению с той выразительностью, какую придал ему талантливый и опытный художник. Вы не сумели передать выражение ее глаз, следящих за любимыми детьми, наклон головы, вытянутой вперед, как будто ее обладательница хочет крикнуть что-то — ласково и предостерегающе. Дерево, так пышно раскинувшее свои ветви, на вашем рисунке выглядит чахлым и жалким. Дорога за домом, которую художник лишь слегка окутал таинственной дымкой, на вашем рисунке почти не видна под резкими штрихами карандаша и кажется просто черной полосой. Вы поняли замысел художника, прониклись им и полюбили его. Это очевидно. Однако не менее очевидно и то, что у вас в каждой детали, в каждом штрихе карандаша видна борьба с трудностями техники, которых вы не преодолели, так как у вас нет достаточных знаний и опыта… Такова правда, которую я вынужден был вам сказать, к моему великому сожалению. Я сочувствую вам, потому что вы не получили нужной вам работы. И, кроме того, сожалею, что вы не развили свой талант. А талант у вас есть несомненно; жаль, что вы не учились серьезнее, теперь у вас уже нет возможности учиться…
Марта поднялась и тихо сказала:
— Да, учиться я теперь уже не могу… У меня нет для этого времени, — прибавила она, потом умолкла и стояла, опустив глаза.
Адам Рудзинский смотрел на нее внимательно, даже с некоторым удивлением. Быть может, он ожидал слез, стонов, обморока или истерики, а вместо этого услышал лишь несколько слов сожаления, что у нее нет времени учиться.
Эта хрупкая женщина, такая красивая и стройная, должно быть, обладала большой силой воли, если сумела без слез, без единого вздоха выслушать суровый приговор, убивший ее последнюю надежду, если она сумела вновь принять на свои плечи неизмеримую тяжесть неуверенности в завтрашнем дне, которая обрушилась на нее после небольшой передышки. Молодой женщине было в эту минуту, конечно, очень тяжело, но она не заплакала, не вздохнула даже.
Видно, не настало еще для нее время стонать и плакать, не стыдясь человеческих глаз, — ее человеческое достоинство еще не было сломлено, силы не исчерпаны. Ведь она только начала свой крестный путь, пройдя лишь два его этапа. Дважды только она сгорала от внутреннего стыда, содрогалась до глубины души от сознания своей непригодности.
У нее было еще достаточно энергии и гордости, чтобы силой воли сдержать взрыв чувств; она еще недостаточно знала самое себя, чтобы перестать надеяться…
Адам Рудзинский отнесся с уважением к безмолвной скорби бедной женщины; этот чужой ей человек, видевший ее всего несколько раз, почувствовал, что ему следует уйти. С глубоким почтением поклонившись Марте, он вышел из гостиной. И в ту же минуту его жена, сжимая руки Марты, торопливо сказала:
— Не теряйте надежды, дорогая! Я не могу примириться с тем, что вы и на этот раз уйдете из моего дома, не найдя утешения и удовлетворения своих справедливых требований. Я не знаю вашего прошлого, но мне кажется, что нужда застала вас врасплох. Вы не были подготовлены к жизни труженицы, которая должна кормить себя и своих близких…
Марта посмотрела на пани Рудзинскую.
— Да, — с живостью перебила она ее. — Да, да, вы правы.
Она снова опустила глаза и с минуту молчала. Заметно было, что ее поразила высказанная так определенно мысль, до сих пор лишь неясно маячившая перед ней.
— Да, — решительно повторила она через минуту. — Нужда и необходимость работать застигли меня врасплох. Я оказалась безоружной, в борьбе с нуждой и неподготовленной к работе… Все мое прошлое было блаженством, я знала только любовь и развлечения… Оно не научило меня ничему, и я беззащитна против бурь и одиночества…
— Ужасная судьба! — промолвила после минутного молчания Мария Рудзинская. — Ах, если бы все отцы и матери могли предвидеть ее, предугадать, понять ее ужас!!
Она провела рукой по глазам, но быстро справилась со своим волнением и обратилась к Марте.
— Поговорим о вас, — сказала она. — Хотя обе профессии, которые вы хотели избрать, оказались для вас неподходящими, не теряйте надежды и мужества. Ведь преподавание и искусство не исчерпывают весь круг человеческой деятельности, даже той, которая открыта женщине. Остаются еще производство, торговля, ремесла. Пока вы разговаривали с моим мужем, мне пришла в голову удачная мысль… Я хорошо знакома с хозяйкой одного из лучших мануфактурных магазинов… Я училась вместе с ней несколько лет в пансионе, и с тех пор у нас сохранилась если не дружба, то во всяком случае хорошие отношения. Магазин у нее большой и известный, там требуется целая армия комиссионеров, продавцов, конторщиков. К тому же всего неделю назад Эвелина, встретившись со мной в театре, рассказывала, что от нее недавно ушел один из самых опытных продавцов и она в затруднении. Согласились бы вы стоять в магазине за прилавком, обслуживать покупателей, отмеривать материю, украшать витрины? Такая работа иногда хорошо оплачивается, а чтобы ее выполнять, нужны лишь честность, умение держать себя и хороший вкус. Хотите, поедемте вместе к Эвелине? Я вас познакомлю и, если понадобится, замолвлю за вас словечко, уговорю ее.
Через четверть часа после этого разговора пролетка, в которой сидели обе женщины, остановилась у одного из лучших магазинов на Сенаторской улице. Перед большими зеркальными дверями стояли две кареты с прекрасными лошадьми и кучерами в ливрее.
Пани Рудзинская и Марта вошли в магазин. На звук колокольчика из-за длинного прилавка, разделявшего магазин на две части, выбежал молодой человек и с грациозным поклоном осведомился, что им угодно.
— Я бы хотела видеть пани Эвелину Д., — сказала Мария Рудзинская. — Она дома?
— Наверное не знаю, — ответил молодой человек с новым поклоном. — Но сейчас узнаю и вам скажу.
Он подбежал к стене и приложил губы к отверстию переговорной трубы, по которой снизу передавали все, что надо, на верхние этажи.
— Она ушла, но сейчас вернется, — ответили сверху.
Молодой человек снова подбежал к ожидавшим у дверей дамам.
— Присядьте, пожалуйста, — сказал он, указывая на стоявший в углу бархатный диванчик. — Или, — он протянул руку по направлению к лестнице, покрытой ковром, — вы, быть может, подниметесь наверх?..
— Мы подождем здесь, — ответила Мария Рудзинская, и они сели на диван.
— Можно было бы подняться наверх и дождаться возвращения Эвелины в ее квартире, — сказала вполголоса Мария своей спутнице. — Но, пожалуй, вам не мешает до разговора с хозяйкой присмотреться к работе продавцов, увидеть, в чем она состоит.
В глубине магазина царило большое оживление. Там восемь человек говорили громко, с азартом, свертывая и развертывая ткани, сверкавшие и переливавшиеся всеми цветами радуги. По одну сторону длинного прилавка, совсем почти скрытого разбросанными на нем и нагроможденными друг на друга кусками дорогих тканей, стояли четыре дамы в атласе и соболях, — видимо, они приехали в ожидавших перед магазином каретах. По другую сторону — четверо молодых мужчин. Описать их позы немыслимо, так как они поминутно меняли их: стояли, ходили, прыгали, изгибались на все стороны, лезли на стены, отвешивали поклоны самых различных оттенков, жестикулировали, пуская в ход не только руки, но и грудь, голову, губы, брови, даже волосы… А волосы, обычно играющие весьма второстепенную роль во внешности человека, у этих продавцов заслуживали особого внимания.
Напомаженные, надушенные, лоснящиеся, благоухающие, искусно завитые кольцами или в живописном беспорядке падающие на лоб, они были вершиной парикмахерского искусства и в высшей степени подчеркивали изысканную наружность молодых продавцов. Может быть, изысканность эта вовсе не была врожденной; заметно было, что природа наделила их изрядной физической силой, крепкими мускулами, вполне позволяющими заниматься трудом более тяжелым и менее приятным, чем развертывание шелковых тканей, придерживание двумя пальцами тонких, как паутина, кружев и манипуляции полированным, легким, изящным аршином. Плечи у них были широкие, руки большие, с толстыми пальцами. Зрелые черты и пышная растительность на лицах свидетельствовали, что это не юнцы, что им уже за тридцать.
Но как элегантно, с каким шиком были сшиты черные сюртуки, облегавшие их широкие плечи, как красиво раскрывали свои крылышки цветные галстуки-бабочки, как изящны были движения этих больших мускулистых рук, какие блестящие кольца украшали эти толстые пальцы! Ничто, кроме снега, не могло соперничать с белизной манишек и пышных жабо и ничто в мире — никакая струна, или пружина, или гуттаперчевый мяч, — не могли перещеголять их легкостью движений, эластичностью прыжков, — и так же быстро бегали их глаза, работали языки.
— Цвет «Мексика» с белыми рамаже![21] — говорил один из этих молодых людей, развертывая перед глазами покупательниц кусок материи.
— А может быть, вы предпочитаете «Мексику» гладкую? — вмешался второй.
— Или gros grains, vert de mer?[22] Это последний крик моды…
— Вот кружева Kluny для обшивки воланов, — раздавался звучный мужской голос с другого конца прилавка.
— Есть валансьен, алансон, брюссельские, имитация, блонды, «иллюзия»…
— Фай цвета «биомарк»! Может быть, этот слишком светлый, слишком voyant?[23] Вот другой, с черным узором.
— Бордо — couleur sur couleur![24] Вам угодно что-нибудь полегче?
— Мозамбик! Султан! Телесный цвет — очень идет к брюнеткам!
— Вы хотели бы что-нибудь в полоску? В продольную или поперечную?
— Вот материя в полоску! Белая с розовым, замечательно эффектно! Очень voyant!..
— А вот в серую полоску, очень элегантно!..
— Голубой узор на белом фоне — для молодых девушек!
— Вам кружево на пуф или на папильоны? Вот барбы с краями dentelés и unis[25]; какие вы предпочитаете?
— Вы выбрали «бисмарк» с рамаже? Прекрасно. Сколько аршин? Пятнадцать? Нет? Двадцать?
— Вам больше нравятся барбы с зубчиками? Да, у вас хороший вкус! Это на папильон?
— Значит, вам эту в пепельную полоску, а вам — с голубым узором на белом фоне? Сколько прикажете того и другого?
Эти обрывки разговоров четырех продавцов с покупательницами напоминали, если мне дозволено будет такое сравнение, птичий щебет, что в устах мужчин производило странное впечатление. Если бы не звук их голосов, хотя и подражавших нежными модуляциями мягкому шуршанию тканей и тихому шелесту кружев, по исходивших из глоток мужчин, которых природа наделила могучими легкими и прекрасными голосовыми связками, — невозможно было бы даже догадаться, что все это непонятное для непосвященного уха воркованье о всяких рамаже, полосках, узорчиках, фоне, барбах, воланах, папильонах действительно исходит из уст мужчин, что эту неслыханную эрудицию в области дамского туалета проявляют представители сильного пола, столпы серьезного мышления и серьезного труда.
— Пани Эвелина вернулась! — раздался в магазине бас из отверстия трубы.
Рудзинская быстро встала.
— Подождите здесь минутку, — сказала она Марте. — Сначала я поговорю с ней наедине, чтобы, в случае отказа, избавить вас от лишних волнений. Если же, как я надеюсь, все пойдет хорошо, я тотчас же вернусь за вами.
Марта с большим вниманием смотрела на то, что происходило у прилавка. По ее бледным губам время от времени скользила улыбка, когда прыжки продавцов отличались особенной легкостью, прически приходили в движение, взгляды становились особенно красноречивыми.
Рудзинская меж тем быстро прошла по пушистому ковру на лестнице и через два больших зала с зеркальными шкафами вошла в прекрасно обставленный будуар, где через минуту раздался шорох быстро скользящей по полу шелковой юбки.
— Ah! C'est vous, Marie![26] — воскликнул звонкий и приятный женский голос, и две белые ручки сжали обе руки Марии.
— Садись, дорогая моя, садись, пожалуйста! Вот это сюрприз! Я всегда так рада видеть тебя! Ты хорошо выглядишь! А как здоровье твоего почтенного супруга? Попрежнему много работает? Я читала его последнюю статью о… о… не помню уже о чем… но превосходно написано! А милая Ядзя хорошо ли учится? Господи! Где то время, когда и мы с тобой, Марыня, были девочками и учились у госпожи Девриен! Ты не представляешь себе, как мне приятно вспоминать о том времени!
Женщина лет за тридцать, стройная, нарядная, искусно причесанная, с правильными чертами уже слегка увядшего лица, с живыми черными глазами под широкими черными бровями, изливала этот поток слов быстро, без передышки, не выпуская рук Марии, присевшей рядом с ней на палисандровый диванчик, обитый дорогим штофом. Она, вероятно, говорила бы еще долго, но Мария перебила ее.
— Прости, дорогая Эвелина, — сказала она, — но мне необходимо без долгих вступлений поговорить с тобой о деле, которое меня сильно волнует!
— У тебя, Марыня, дело ко мне? Боже мой! Как я рада! Говори, говори скорее, чем я могу быть тебе полезной! Для тебя я готова пойти пешком на край света…
— О, такой большой жертвы от тебя не потребуется, милая Эвелина! — засмеялась Мария и уже серьезно продолжала: — Видишь ли, я познакомилась недавно с одной бедной женщиной, судьба которой меня очень заинтересовала.
— С бедной женщиной! — перебила хозяйка богатого магазина. — Ты хочешь, верно, чтобы я ей помогла? О, ты не ошиблась во мне, Марыня! Мой кошелек всегда открыт для несчастных!
Сказав это, она сунула руку в карман и, достав большой кошелек из слоновой кости, собиралась открыть его, но Мария ее остановила.
— Ей нужна не милостыня! Эта женщина не просит и вряд ли примет милостыню… Она ищет работу… Она просто жаждет работать…
— Работать! — слегка поднимая черные брови, повторила красивая пани Эвелина. — А что же ей мешает работать?
— Очень многое! Об этом слишком долго рассказывать, — серьезно ответила Мария и, взяв за руку свою школьную подругу, прибавила с нежной мольбой: — Я именно за тем к тебе и обращаюсь, Эвелина, чтобы ты дала ей работу.
— Я — ей… работу? Какую же, моя дорогая?
— Прими ее в продавщицы.
Брови хозяйки взлетели еще выше, на лице выразилось удивление и замешательство.
— Дорогая Мария, — начала она минуту спустя, запинаясь и с явным смущением, — это от меня не зависит… Делами занимается мой муж…
— Эвелина! — воскликнула Мария. — Зачем ты говоришь мне неправду? Юридически твой муж владелец магазина, но ведь ты занимаешься этим делом наравне с ним, и даже больше, чем он. Все прекрасно это знают, а мне лучше всех известно, что ты женщина деловая и очень энергично проводишь свои планы… Так почему же…
Эвелина не дала ей докончить:
— Да, да, — сказала она поспешно, — мне было неприятно отказать тебе, Марыня, и я придумала отговорку, свалила все на мужа… С моей стороны нехорошо было хитрить с тобой… Но твою просьбу выполнить невозможно, совершенно невозможно!
— Но почему? Почему? — выпытывала Мария с таким же жаром, с каким говорила Эвелина. Видимо, они обе отличались характером пылким и впечатлительным.
— Да потому, что в нашем магазине всегда продавцами служили только мужчины.
— Но почему же, почему женщины не могут этого делать? Разве для этого нужно знание греческого языка или нужна такая физическая сила, чтобы человек мог гнуть в руках железо?..
— Да нет же! — перебила хозяйка. — Боже мой, Мария, я, право, не знаю, что тебе ответить…
— Разве ты из тех людей, которые не отдают себе отчета в своих действиях?
— Нет, конечно, нет! Если бы это было так, я не могла бы помогать мужу руководить торговым предприятием… Видишь ли, мы принимаем только мужчин, потому что так принято.
— Ты снова хочешь от меня отделаться, Эвелина, но это тебе не удастся! Наша старая дружба дает мне право быть даже назойливой… Ты говоришь, что так принято… но каждый обычай должен иметь какое-то основание, он должен быть выгоден для тех, кто его придерживается.
Хозяйка вскочила с диванчика и несколько раз быстро прошлась по комнате. Длинный шлейф платья шелестел, скользя по паркету, лицо ее, со следами плохо стертой пудры, покрылось легкой краской смущения.
— Ты меня приперла к стене! — воскликнула она, остановившись перед Марией. — Мне неприятно говорить то, что я сейчас скажу, но твой вопрос нельзя оставить без ответа. И я отвечу тебе: наша публика не любит женщин-продавщиц, она предпочитает мужчин.
Мария слегка покраснела и пожала плечами.
— Ты ошибаешься, Эвелина!.. Или ты опять говоришь не то, что думаешь. Этого быть не может…
— А я тебя уверяю, что это так… Молодые, красивые и любезные приказчики производят хорошее впечатление, привлекают в магазин покупателей или, вернее, покупательниц…
Лицо Марии залилось краской стыда и возмущения. Последнее взяло верх.
— Но это же безобразие! — воскликнула она. — Если это действительно так, то я, право, не знаю, что и думать…
— И я не берусь объяснить… По правде говоря, я никогда и не задумывалась над этим… Какое мне дело!..
— Как это — какое тебе дело, Эвелина? — снова перебила Мария. — Разве ты не понимаешь, что, соблюдая этот, как ты выразилась, «обычай», ты потворствуешь чему-то дурному, — не знаю, чему именно, но безусловно… дурному…
Пани Эвелина стояла посреди комнаты и смотрела на Марию во все глаза.
В этих проницательных, даже умных глазах пробегали искорки сдерживаемого смеха.
— Как? — сказала она. — Ты считаешь, что во имя каких-то там теорий я должна идти на убытки, рисковать нашим предприятием, единственным источником существования нашей семьи? Хорошо вам, литераторам, рассуждать таким образом, сидя за книгой или с пером в руках! Мы, коммерсанты, должны быть практичными.
— Неужели коммерсанты только потому, что они коммерсанты, могут считать себя свободными от гражданского долга? — спросила Мария.
— Вовсе нет! — порывисто ответила Эвелина. — Ни мой муж, ни я не уклоняемся никогда от его выполнения. Мы всегда жертвуем, сколько можем…
— Я знаю, что вы жертвуете на благотворительные учреждения и принимаете участие во всяких филантропических затеях, но разве достаточно одной филантропии? Вы люди со средствами, в известном смысле влиятельные, вы должны проявлять инициативу в борьбе с предрассудками, в искоренении социальной несправедливости.
Эвелина принужденно засмеялась.
— Дорогая моя, — сказала она, — борьба, искоренение — это дело таких людей, как, например, твой муж, — ученых, писателей, публицистов… Мы — люди коммерческие… и должны считаться с публикой, с ее вкусами и требованиями… Она — наша госпожа, от нее зависит наше благополучие, будущее нашего предприятия…
— Вот как! — с силой возразила Мария. — Поэтому вы должны потворствовать ее нелепым капризам и весьма сомнительным вкусам… Чтобы тебе хоть немного досадить в отместку за все то, что ты тут наговорила, я должна тебе сказать, дорогая Эвелина, что твои продавцы, эти кривляки, болтающие, как попугаи, о рамаже и папильопах, — попросту смешны.
Эвелина расхохоталась.
— Это я знаю!
— И будь я на твоем месте, — продолжала Мария, — я посоветовала бы им вместо шелка и кружев взяться за плуг, топор, молот, лопату или что-нибудь в этом роде. Это было бы им гораздо более к лицу…
— Знаю, знаю! — все так же смеясь, соглашалась Эвелина.
— А вместо них, — заключила Мария, — я наняла бы женщин: у них слишком мало физических сил для того, чтобы пахать, строить и ковать…
Эвелина вдруг перестала смеяться и серьезно посмотрела на Марию.
— Дорогая Мария, — сказала она, — наши продавцы тоже нуждаются в заработке и нуждаются гораздо больше, чем женщины… Они ведь должны кормить свои семьи.
Теперь улыбнулась Мария.
— Эвелина, я — опять на правах школьной подруги — скажу тебе, что ты сейчас повторила просто механически то, что слышишь постоянно от окружающих и над чем ты, верно, никогда не задумывалась. Эти люди — отцы семейств? Но у женщины, за которую я прошу, тоже есть ребенок, которого она должна прокормить и воспитать. Если бы на меня, например, обрушилось несчастье и я потеряла бы честного и хорошего мужа, который не только дал мне счастье любви, но своим трудом содержал меня, неужели на мне, матери, не лежала бы забота о семье? Если бы вы оба, твой муж и ты, через несколько лет умерли, не оставив, как это часто случается, никаких средств, разве ваша старшая дочь не была бы обязана содержать, растить и воспитывать младших сестер и братьев?
Эвелина слушала, потупив глаза, — она, видимо, не находила ответа. Однако ей трудно было без достаточных оснований отказать в просьбе женщине, знакомство с которой было ей очень приятно и, быть может, даже льстило ей.
Изворотливый ум, сквозивший в выражении ее лица и глаз, подсказал ей минуту спустя новый ответ:
— Да и помимо всего прочего, дорогая, прилично ли молодой женщине (а твоя протеже, вероятно, молода?) проводить целые дни за одним прилавком с молодыми мужчинами? Разве это не привело бы к пагубным последствиям для нее, неприятностям для меня и не повлияло бы на добрую славу моего магазина?
— Ты опять твердишь пошлости, которые у нас слышишь на каждом шагу! Вы опасаетесь, как бы совместная работа с мужчинами не погубила добродетель и честь женщины, и не боитесь, что то же самое сделает нужда! Моя протеже, как ты ее называешь, месяца три тому назад овдовела, у нее ребенок, которого она любит, она убита горем, озабочена, всецело поглощена поисками заработка и, как я убедилась, это очень честная и порядочная женщина. Можно ли предположить, что женщина в таком положении, с такими чувствами, такими воспоминаниями, такой тревогой за завтрашний день, способна обратить малейшее внимание на твоих фатоватых приказчиков? Ручаюсь тебе, она очень далека от кокетства.
— Ах, Мария! За это ручаться нельзя!
— Пусть так, — серьезно глядя на свою школьную подругу, ответила Мария. — Но разве не допускать женщину к работе — верное средство против легкомыслия? Еще раз повторяю тебе, Эвелина: та, о которой я говорю, не легкомысленная и очень честная женщина. Но если, прося, работы, как милостыни, она уйдет от многих дверей так, как ей придется сейчас уйти от твоих, я не ручаюсь за нее в будущем.
— Опять ты приперла меня к стене! — воскликнула владелица магазина. — Ну, ладно, я верю, что женщина, за которую ты хлопочешь, воплощение добродетели, серьезности, честности… Но сможешь ли ты поручиться и за то, что она аккуратна, умеет хорошо считать, будет во-время приходить на работу и умело справляться с работой, которая не терпит малейшего упущения?
Теперь Мария, в свою очередь, медлила с ответом. Она вспомнила неудачные попытки Марты быть учительницей и копировщицей, вспомнила слова Марты: «Ничто не вооружило меня на борьбу с нуждой, ничто не научило работать».
Мария молчала. Эвелина, проницательная и живая, как огонь, сразу почуяла смущение и нерешительность подруги.
— Вот ты говорила только что, Мария, что продавцы товаров должны уметь только развертывать, свертывать и отмерять материю. Это так кажется на первый взгляд. На самом деле они должны обладать еще многими другими качествами, например привычкой к строгому порядку, потому что положенная не на свое место вещь, складка на материи, небрежно брошенные кружева уже ведут к беспорядку в магазине или даже к значительным убыткам. Нужно, чтобы продавцы умели считать не кое-как, а очень хорошо, потому что каждый час, чуть ли не каждую минуту поступают все новые суммы и просчет может запутать бухгалтерию. А прежде всего продавцы должны знать жизнь, людей, знать, как к кому подойти, как кому угодить, кому можно поверить на слово, кому надо отказать в кредите и так далее. Всех этих качеств продавщицы обычно лишены. Они неаккуратны, неспособны подсчитать что-либо без помощи таблицы умножения, которую то и дело вытаскивают из кармана. Они, как дети, только что переставшие держаться за материнскую юбку, едва осмеливаются поднять глаза на покупателя, не умеют с ним разговаривать, не способны раскусить его. Или же, если им дать волю, они становятся разбитными, взбалмошными, разыгрывают львиц, кокетничают, бестактно болтают, роняют свое достоинство и компрометируют предприятие, в котором работают. Хотя продавцы-мужчины и кажутся тебе смешными и неподходящими для этой работы, нам выгодно их держать. И каждый крупный магазин принимает на работу одних только мужчин, а те, кто пробовал заменить их женщинами, прогадывали на этом. Женщины, моя дорогая, пока еще не так воспитаны, чтобы справляться с трудными обязанностями, с деспотизмом цифр и требованиями самой разнообразной публики, которая у нас покупает.
Хозяйка магазина умолкла и с некоторым торжеством посмотрела на подругу. Она действительно могла торжествовать: Мария Рудзинская стояла, грустно опустив глаза, и молчала. Эвелина взяла ее за руку.
— Ну, скажи честно, дорогая: можешь ты быть уверена в том, что эта женщина привыкла к порядку, аккуратна, умеет хорошо считать, тактична, разбирается в людях? Можешь ли ты быть уверена в этом, так же как в том, что она честная?
— Нет, Эвелина, — с трудом произнесла Мария, — за это я ручаться не могу.
— А теперь скажи, — все решительнее наступала Эвелина, — вправе ли вы, любители умствовать, теоретики, требовать от нас, людей практических, чтобы мы из чистой филантропии, во имя, как ты говоришь, гражданского долга, принимали на службу людей непригодных и подвергали себя неприятностям, убыткам, быть может рисковали довести до краха наши предприятия? Скажи, вправе ли кто-нибудь требовать этого от нас?
— Конечно, нет, — тихо отозвалась Мария.
— Значит, — сказала Эвелина, — не обижайся на меня за то, что я отказала тебе в просьбе. То, что бедных женщин не берут на работу, конечно, очень печально, но виноваты в этом, с одной стороны, прихоти и тайные инстинкты богатых дам, жаждущих их удовлетворения, а с другой стороны — ограниченность, беспомощность и легкомыслие бедных женщин, нуждающихся в работе, но не умеющих ничего делать исправно. Когда первые станут умнее и благороднее, а вторые — лучше подготовятся к ответственной работе, тогда я откажу моим продавцам, а тебя попрошу подобрать мне на их место продавщиц из числа твоих подопечных…
Сказав это, Эвелина, со свойственной ей живостью, поцеловала Марию в обе щеки.
Ожидавшая в магазине женщина в трауре услышала шелест платья и шаги своей покровительницы, когда та была еще на верхней площадке лестницы. Слух Марты, видимо, был напряжен до предела, нетерпение — огромно. Она поднялась с дивана и впилась взглядом в лицо пани Рудзинской. По опущенным глазам и пылающим щекам Марии Марта угадала все.
— Пани, — тихо сказала она, подходя, — не утруждайте себя пересказом всех подробностей. Меня не приняли, да?
Мария утвердительно кивнула головой и молча пожала ей руку. Они вышли из магазина и остановились на широком тротуаре. Марта была очень бледна. Могло показаться, что ей холодно, потому что она дрожала в своей шубке. И, словно стыдясь чего-то, она не могла поднять глаз от плит тротуара.
— Пани! — начала Мария. — Видит бог, мне очень тяжело, что я не в силах помочь вам получить работу. Вам мешает не только недостаточная подготовка, но и заведенные в нашем обществе порядки и дурная слава, которая идет о работающих женщинах…
— Понимаю, — медленно промолвила Марта. — Меня не приняли здесь, как и везде, потому, что предпочитают мужчин, и потому, что я не внушаю доверия..
— Оставьте мне ваш адрес, — уклоняясь от ответа, сказала Мария. — Быть может, я найду что-нибудь подходящее для вас и смогу быть вам полезна.
Мария назвала улицу и номер дома, в котором жила, потом с выражением глубокой благодарности протянула руки доброй женщине.
Но, как только руки их встретились, Марта быстро отдернула назад свои и отступила. Рудзинская сунула ей тот же конверт с лиловой каймой, который две недели тому назад она не хотела принять.
После ухода Рудзинской Марта стояла с минуту неподвижно, ее прежняя бледность сменилась ярким румянцем.
— Милостыня! — прошептала она. — Милостыня! — И у нее вырвался глухой стон. Она бросилась бежать в ту сторону, куда пошла Мария. Толпа прохожих на тротуаре скрыла от нее ту, которую она пыталась догнать, и помешала следовать за ней. Только на углу Марта заметила мчавшуюся вперед пролетку, в которой сидела Мария.
— Пани! — позвала Марта.
Голос ее был слаб, едва слышен, его заглушил грохот и шум улицы…
Женщина, принявшая дар милосердия, направилась в сторону Свентоерской улицы — вероятно, с намерением вернуть конверт, который жег ей руки. Но шага ее, сначала быстрые и нервные, с каждой минутой становились все медленнее и неувереннее. Быть может, тяжкие переживания этого дня надломили ее физические силы? Или какая-то живая мысль поколебала решение, принятое за минуту перед тем? Зажав в руке изящный конверт, в котором шелестело несколько кредиток, Марта на углу Свентоерской улицы остановилась и с минуту стояла без движения, опершись о выступ стены, бледная, низко опустив голову. Вдруг она повернула в другую сторону и пошла домой.
Гордость и страх вели в душе Марты тяжелую, мучительную борьбу. И страх одержал победу над гордостью. Молодая и здоровая, ничем еще не измученная и не утратившая сил, всей душой жаждавшая работы, все же приняла подачку. Чувство собственного достоинства одержало бы, вероятно, верх, несмотря на грозившую ей нищету, если бы она была одна. Но под самой крышей высокого дома, в полупустой мансарде ее дочь дрожала от холода, грустными глазами смотрела в закопченное отверстие давно потухшей печки, и бледное личико, впавшие щеки, болезненная худоба маленького тельца говорили о недоедании.
В жизни Марты это был роковой день, хотя она, быть может, и не отдавала себе в этом отчета. То был день, когда она впервые приняла подачку, впервые вкусила того хлеба, который горек и для стариков и калек, а молодых и здоровых развращает, отравляет хуже всякого яда.
В этот вечер комнатка под крышей была согрета пылавшим в печке веселым огнем; на столе стояла полная тарелка бульона. Впервые за долгое время Яне было тепло, и она с аппетитом ела вкусно приготовленный подкрепляющий обед. Большие черные глаза девочки перебегали от горящего в печке огня на лежавший рядом с тарелкой кусок хлеба, намазанный тонким слоем масла. Яня не умолкала ни на минуту. А Марта неподвижно сидела перед огнем; ее профиль, вырисовывавшийся на красном фоне пламени, был строг и задумчив. Глаза сверкали сухим блеском, сдвинутые брови образовали на белом лбу глубокую складку.
Перед ней словно носился в воздухе образ женщины с мучительной тревогой в глазах, с краской стыда на щеках, со сжатыми в отчаянии руками. Это был ее собственный образ, вызванный воображением.
«Неужели это ты? — мысленно обращалась Марта к видению. — Неужели это та самая женщина, которая клятвенно обещала себе и своему ребенку, что будет работать, что настойчивостью и энергией проложит себе дорогу в жизни, завоюет место под солнцем? Что же ты сделала с тех пор, как приняла это героическое решение? Как выполнила обещание, в глубине души данное ушедшему из жизни отцу твоего ребенка?»
Видение затрепетало, как гибкая ветка от порыва ветра. Вместо ответа женщина заломила руки и дрожащими губами прошептала:
— Не сумела! Ничего я не умею!
«О беспомощное создание! — восклицала Марта мысленно. — Достойна ли ты называться человеком, если ты так глупа, что не знаешь себя самое, если твои руки так слабы, что не могут защитить от невзгод одну маленькую бедную детскую головку! За что же люди уважали тебя прежде? Можешь ли ты теперь уважать себя?»
Женщина, созданная воображением Марты, разжала руки и закрыла ими низко опущенное лицо.
Из глаз Марты горячими струйками полились слезы.
— Ты плачешь, мама? — воскликнула маленькая Яня и вскочила со стула.
Она подбежала к матери, с недоумением и жалостью заглянула ей в лицо, потом вдруг опустилась на пол, обняла колени Марты и стала целовать ей руки и ноги. Марта отняла ладони от лица и несколько секунд сидела, словно окаменелая. Нежные поцелуи детских губ жгли ее; горячая любовь этого маленького существа разрывала ей сердце и терзала совесть…
Она нагнулась, взяла девочку на руки, несколько раз поцеловала ее в лоб и щеки. Потом вскочила со стула, подбежала к окну и, став на колени, обратила взор к полоске темного, усеянного звездами неба.
— Господи! — воскликнула она почти громко. — Удели мне место на земле! Маленькое, скромное, на котором я могла бы поместиться с моим ребенком! Не допусти, чтобы я, обессиленная, изнемогающая, еще раз была вынуждена принять милостыню, не допусти, чтобы я потеряла душевный покой и уважение к самой себе! Дай мне силы выполнить мой материнский долг!
Мольба, с которой эта женщина обращалась к богу, была нелепа, она требовала слишком много — не так ли, читатель? Правда, она не требовала ни министерского портфеля, ни славы, которую разносит стоустая молва, ни свободы без удержу предаваться запретным наслаждениям. Но она хотела жить и сохранить жизнь единственному существу, которое любила на земле, она хотела избегнуть нищенской сумы и не сгорать от стыда за себя… До чего же она была тщеславна, завистлива, жадна и необузданно требовательна! Не правда ли?
Она и на этот раз поборола себя, подавила терзавшие ее стыд, боль, тревогу. Сделав спокойное лицо, она встала, посадила плачущую девочку к себе на колени и стала рассказывать ее любимую сказку. Видимо, у нее было много мужества, большая сила воли. Неужели же этой силе суждено было остаться без применения, служить ей только для борьбы с собой, спасовать перед предательской беспомощностью ума и слабостью рук, бессильно склониться перед окружающей действительностью?
Всю эту долгую зимнюю ночь Марта ни на минуту не сомкнула глаз. Она смотрела в мрак, наполнявший комнату, прислушивалась к спокойному дыханию спавшего рядом ребенка и думала о том, что ей завтра предстоит делать.
На следующий день женщина в трауре входила в небольшой, но шикарный магазин, в витринах которого висели пышные женские платья и, как рой разноцветных бабочек, сверкали всевозможными красками изящные шляпки и крохотные чепчики. В этом магазине Марта когда-то заказывала свои туалеты.
Когда раздался звонок, из комнаты за магазином вышла молодая еще женщина, стройная и миловидная. Увидев Марту, она поклонилась ей и приветливо улыбнулась. Она узнала прежнюю заказчицу и была рада ее приходу.
— Как давно вы у нас не были! — все с той же приветливой улыбкой сказала хозяйка магазина. Но вдруг, заметив траурное платье Марты, прибавила: — Боже мой! Я слышала о постигшем вас несчастье. Я ведь хорошо знала пана Свицкого.
Лицо молодой вдовы приняло страдальческое выражение. Имя любимого и навеки утраченного человека острием кинжала коснулось свежей раны ее сердца. Но она не могла долго прислушиваться к голосу своей скорби и воспоминаний.
— Пани! — сказала она, глядя на стоявшую перед ней женщину. — Прежде я приходила сюда покупать, а теперь я пришла, как просительница, — не покупать, а продавать свое время и труд.
Говоря это, она сдерживала дрожь голоса и пыталась улыбнуться бледными губами.
— Я от души готова помочь вам, но… я не совсем вас поняла.
— Не примете ли вы меня швеей в свою мастерскую?
Услышав эти слова, хозяйка, казалось, не удивилась не смутилась. Ее лицо попрежнему сохраняло выражение любезное и сочувственное. С минуту она стояла молча, в раздумье, потом указала рукой на дверь в соседнюю комнату и очень вежливо сказала:
— Пройдемте в мастерскую, там нам будет удобнее поговорить.
Мастерская, примыкавшая к магазину, представляла собой обширную комнату, где за столом у окна, заваленным множеством лент, кружев, перьев, цветов и кусков материи, сидели три молодые женщины и шили шляпы, чепчики, готовили всякую искусную отделку для платьев. В глубине мастерской стучали две швейные машинки, а среди комнаты стоял второй стол, на котором между выкройками и большими кусками сукна, полотна, батиста, кисеи лежали ножницы, мелки в свинцовой оправе, карандаши. Все женщины в мастерской были поглощены своей работой, только одна при появлении Марты подняла голову от машины, поглядела на вошедшую и, встретившись с ней глазами, ответила любезным поклоном на ее поклон.
Хозяйка указала Марте на стул рядом с одним из столов, потом обратилась к молодой мастерице, прикалывавшей в эту минуту пышное страусовое перо к бархатной шляпке.
— Панна Бронислава! — сказала она. — Вот эта дама желала бы работать у нас. Обстоятельства складываются удачно. Как раз вчера мы говорили с вами о том, что еще одна пара рук очень нам пригодится.
Мастерица, к которой обратилась хозяйка, видимо, считалась здесь старшей. Она встала и подошла к столу.
— Да, пани, — ответила она. — С уходом панны Леонтины одна машина у нас освободилась. Панна Клара и панна Кристина не справляются с работой. А я не могу уделить достаточно времени кройке, так как должна заниматься шляпами. Работа задерживается, и заказы не выполняются во-время.
— Да, это верно, — помолчав минуту, сказала хозяйка. — Я уже сама об этом подумывала. И раз пани Свицкая изъявила желание работать у нас, то почему мне не исполнить желание дамы, которая в свое время нас удостаивала заказами?
Наина Бронислава вежливо поклонилась.
— Безусловно, — сказала она, — если только пани умеет хорошо кроить?..
Эти слова были сказаны вопросительным тоном.
В эту минуту одна из машин остановилась; работавшая на ней мастерица подняла голову и стала внимательно прислушиваться к разговору.
Три женщины, стоявшие у большого стола, минуту-другую молчали. Хозяйка и ее помощница вопросительно смотрели на Марту, а Марта разглядывала лежавшие на столе выкройки. Они были сверху донизу, вдоль и поперек исчерчены черными линиями, прямыми, кривыми, они образовывали всевозможные геометрические фигуры, в которых неопытному глазу трудно было разобраться.
Марта медленно, с трудом подняла веки.
— Я не могу вас обманывать, это было бы нечестно с моей стороны и, пожалуй, ни к чему бы не привело. С кройкой я знакома, но очень мало, могу скроить воротничок и, пожалуй, простую рубашку… Но нарядное белье, не говоря уже о платьях и пальто, я кроить не умею…
Хозяйка магазина помолчала, а на губах панны Брониславы появилась ироническая улыбка.
— Удивительно! — сказала она, обращаясь к хозяйке. — Столько народу хочет заняться шитьем, но как трудно найти кого-нибудь, кто хорошо кроит! А это ведь основа всей работы.
Затем эта, видимо, опытная портниха обратилась к Марте:
— А как насчет шитья?
— Шью я неплохо, — ответила Марта.
— Конечно, на машине?
— Нет, на машине я никогда не шила.
Панна Бронислава с недовольным видом скрестила руки на груди и стояла молча. Хозяйка была теперь уже менее любезна, чем раньше.
— Право же, — сказала она, запинаясь и с некоторым смущением, — право, мне очень жаль… мне нужна мастерица, умеющая кроить… и шить тоже, но на машине… у нас шьют только на машинах.
И снова наступило молчание. Губы Марты дрожали, лицо то краснело, то бледнело.
— Пани, — она посмотрела на хозяйку мастерской. — А разве я не могу научиться?.. Я работала бы пока даром… чтобы получиться…
— Это невозможно! — почти резко перебила ее панна Бронислава.
— Это неудобно, — сказала и хозяйка, более вежливая, чем ее мастерица, и пояснила: — Мы шьем большей частью по заказам, из материалов, слишком дорогих для того, чтобы на них учиться. У нас всегда спешка, потому что из-за недостатка опытных мастериц мы задерживаем заказы… а это влечет за собой убытки и неприятности. Поэтому я могу принять только хорошо подготовленную работницу. Поверьте, мне очень жаль, что я не могу исполнить вашу просьбу.
Машина, умолкшая в начале разговора, снова застучала. У склоненной над ней женщины на глазах были слезы.
Выйдя из магазина, Марта пошла не домой, а в противоположную сторону. По выражению ее лица легко было догадаться, что она бредет без цели; ее спрятанные в рукава пальцы были судорожно сжаты.
У нее было бессознательное, но сильное желание стиснуть руками свой пылающий лоб. Назойливо стучала в голове одна мысль: «Ни на что не гожусь». Мысль эта разила, как тысяча молний, тысячью кинжалов пронизывала мозг, ударяла в виски, сжимала сердце. Несколько минут спустя Марта сказала себе: «Всегда и везде одно и то же».
Некоторое время она шла, ни о чем не думая, и только бессознательно, но упорно твердила про себя: «Не годна!»
Потом опять та же мысль и вопрос: «Что же преследует меня всегда и везде и гонит отовсюду?..» Марта потерла рукой лоб и ответила себе:
«Это я всегда и везде преследую сама себя и гоню себя отовсюду…»
Ей стоило больших усилий думать. Она вспомнила все пережитое в последнее время, начиная с того момента, когда она в конторе Жминской села за фортепиано и плохо сыграла скучную «Молитву девы», и кончая той минутой, когда, стоя в мастерской, она на предложенные ей вопросы вынуждена была ответить: «Нет, не умею!» «Всегда одно и то же! — повторяла она про себя. — Все умею понемножку, ничего — как следует… Все мои знания только для украшения или мелких удобств жизни, а настоящей пользы они принести не могут».
Эти мысли, как сетями, опутали мозг Марты и утомили ее. Уходя утром из дому, она была так озабочена, так поглощена новым планом, что даже забыла поесть. Глядя на Яню, которая пила молоко, она даже почувствовала отвращение к еде. Ее душевное состояние отражалось и на физическом. Ноги подкашивались, сердце билось часто и сильно, хотя она шла медленно. Теперь ее мучил новый вопрос, он вылился в одном слове: «Почему?» Но к этому слову присоединялись другие, сначала бессвязные, они постепенно складывались в определенную мысль. «Почему это так? — спрашивала себя молодая женщина. — Почему люди требуют от меня то, чего мне не дали? Почему мне не дали в юности того, чего требуют сегодня люди от меня?»
Неожиданно Марта вздрогнула, почувствовав, что кто-то коснулся ее плеча.
— Вы меня не узнаете? — спросил мягкий, даже робкий женский голос.
Марта обернулась и увидела ту женщину, которая, когда она вошла в мастерскую, подняла голову от машины и вежливо ей поклонилась, а потом перестала шить и внимательно прислушивалась к разговору, который решил участь Марты. Она была некрасива, невзрачна, но, как почти все варшавянки, изящна и прилично одета. Ее рябое лицо выражало ум и доброту.
— Вы меня, наверно, не узнали, — идя рядом с Мартой, говорила она. — Я — Клара, работаю в мастерской пани Н. почти пять лет. Я шила когда-то платья для нас и относила их вам на Граничную улицу.
Марта смотрела затуманенным взглядом на шедшую рядом с ней женщину.
— В самом деле, теперь я вас узнала, — с трудом проговорила она минуту спустя.
— Простите, что я посмела остановить вас на улице, — продолжала Клара, — но вы всегда обращались со мной так вежливо и ласково. У вас была такая милая маленькая дочка… А что, ваша девочка…
Она не решалась договорить, но Марта угадала невысказанный вопрос.
— Да, она жива, — ответила она.
Это было сказано почти машинально, быстро и невнятно, но в тоне Марты была какая-то новая горечь. Помолчав, Клара сказала словно в раздумье:
— Когда я услышала о смерти пана Свицкого, я сразу подумала: что же вы будете делать одна с ребенком? И очень обрадовалась, когда увидела вас в мастерской и подумала, что вы будете работать у нас. Это было бы очень хорошо, потому что пани Н. добрая женщина и платит не плохо… Панна Бронислава, правда, немного капризна и придирчива, но, когда нуждаешься, приходится кое с чем мириться, лишь бы иметь работу. Поэтому мне жаль, очень жаль, что пани Н. вам отказала… Я сразу вспомнила мою бедную Эмильку…
Последние слова швея сказала тише и словно про себя, но Марту они заинтересовали больше, чем все сказанное до них.
— А кто эта Эмилька, панна Клара? — спросила она.
— Это моя двоюродная сестра, она на несколько лет моложе меня. Наши матери родные сестры, но, как это часто бывает, судьба у них была разная. Мать Эмильки вышла замуж за чиновника, а моя — за ремесленника. Эмилька росла барышней, а я — простой девушкой. Притом она красивая, а меня обезобразила оспа, когда мне было лет двенадцать. Моя тетя, бывало, не раз говорила: «Дам Эмильке образование, потом выдам замуж за подходящего человека». Сначала она держала для Эмильки гувернантку, потом посылала в пансион. Моя мама очень горевала, что я рябая, а отца это не очень огорчало: «Ну и что ж такое? — говорил он. — Будет некрасивая, не выйдет замуж — велика беда! Сколько холостых мужчин на свете, а разве им от этого хуже живется?» Но мать отвечала: «Мужчина другое дело! Не дай бог, случись с нами что-нибудь, так Клара, если не выйдет замуж, помрет с голоду!» Но отец только смеялся, а иногда и сердился. «Эх вы, бабы, бабы! — говорил он. — По-вашему, если не выйдет замуж, так и с голоду умрет! Разве у девушки нет рук, что ли?» А надо вам сказать, что сам он был плотник и любил похвалиться своей силой. Он говаривал, бывало: «Руки — это все! Голову господь одному дает, другому не дает, а руки у каждого есть!» Мне было тринадцать лет, когда родители отдали меня в учение в швейную мастерскую; конечно, они платили за меня, и немало платили, но зато, слава богу, я научилась всему, что нужно…
— И долго вы учились? — спросила Марта, слушавшая простой рассказ швеи с возрастающим интересом.
— Больше трех лет! Да и потом еще не сразу стала получать жалованье, целый год работала даром у пани Н., чтобы получше научиться кроить, шить на машине. Теперь я уже и сама могла бы открыть мастерскую, если бы у меня было хоть немного денег… Но три года тому назад умер отец, нас осталось у матери трое — я и два младших брата. Один в учении у столяра, другой ходит в школу, и за обоих надо платить. Да и матери пора бы на покой, она уже старенькая…
— И вам приходится всех кормить своим трудом?
— Да, почти, потому что после отца у нас остался только маленький домик на Сольной улице, в котором мы живем… так что жилье нам ничего не стоит… Ну, да пани Н. платит мне хорошо. Того, что я получаю, хватает, чтобы сводить концы с концами. Проживем как-нибудь, и братьев выведу в люди!
— Господи! — воскликнула Марта. — Какая вы счастливая!
— Да, — согласилась Клара, — хотя, по правде говоря, не очень-то весело по целым дням сидеть за работой и только по воскресеньям и праздникам видеть свет божий. Но как подумаю, что этой работой я содержу мать и обеспечиваю будущее братьям, я считаю себя очень счастливой и жалею тех, у кого, как говаривал мой отец, «нет ни головы, ни рук». Как я горевала из-за Эмильки, сколько я слез пролила над ней…
— А она не замужем? — спросила Марта.
— Нет. Как-то так вышло, что хоть она и красивая, и образование получила, а замуж не вышла. Ее отец потерял место и с горя захворал; с тех пор он все лежит, бедняга, — не живет и не умирает. И мать у нее тоже часто прихварывает, да к тому же она такая раздражительная. Кроме Эмильки, у них еще младшая дочь и сын; как с ними быть, она не знает, потому что за учение надо платить, а в доме нужда, голод. Как только они обеднели, тетка стала гнать Эмильку искать работу, но Эмилька — балованная, она знала только балы и наряды, и ей не хотелось работать, да к тому же все это ее образование не дало ей ни рук, ни головы. Она хотела стать учительницей, но куда там! На фортепиано она бренчит, по-французски как будто неплохо говорит, но когда пришлось давать уроки, то ни в зуб!.. Никто ее не хотел брать… нашла как-то два урока по сорок грошей за час, но скоро их потеряла… Она ничего как следует не умеет делать… Куда она ни обращалась, всюду ей отказывали. А дома мать пилит ее за лень, больной отец в постели стонет, брат лодырничает — не дай бог, еще вором станет, сестра от скуки и досады ругается со всеми в доме, есть нечего и печку топить нечем… У Эмильки доброе сердце, и она страшно огорчалась, худела, мы думали, что у нее начинается чахотка… Наконец два месяца тому назад она нашла работу…
— Нашла все-таки! — воскликнула Марта и глубоко вздохнула, словно с ее груди свалилась какая-то тяжесть. Когда она слушала историю бедной незнакомой девушки, ей казалось, что кто-то рассказывает историю ее собственной жизни. Сходство этой печальной судьбы с ее собственной вызывало в ней горячее сочувствие и интерес.
Клара помолчала немного и после некоторого колебания неуверенно сказала:
— Когда им вышли из магазина, я побежала за вами… К счастью, как раз в это время у меня перерыв, я хожу домой на два часа — обедать и помочь матери убрать посуду, потом снова ухожу на пять часов в мастерскую… А догоняла я вас, чтобы сказать, что… если вы случайно в таком же положении, как два месяца тому назад была моя бедная Эмилька, так может… может быть, вы согласились бы работать там, где она сейчас работает…
Сомнение, звучавшее в ее голосе, говорило о том, что предложение не из блестящих. Но Марта, словно очнувшись от долгого сна, быстро схватила Клару за руку.
— Панна Клара! — воскликнула она. — Говорите же, говорите скорее, я согласна на все! Я в безвыходном положении!
Голос ее звучал глухо и дрожал, руки судорожно сжимали руку Клары.
— Ах, господи! — в свою очередь обрадовалась панна Клара. — Как хорошо, что мне пришла в голову эта мысль! Если вы так нуждаетесь… притом еще остались с ребенком… с этим ангелочком, с которым вы разрешали мне иногда поиграть, когда я приносила вам платья на Граничную улицу… Но только должна вам сказать, незавидная судьба у женщин, которые работают у пани Швейц…
— Кто же эта пани Швейц и где она живет? Чем занимается? — спрашивала Марта с лихорадочным любопытством и волнением.
— У пани Швейц на улице Фрета белошвейная мастерская. Но это не такая мастерская, как другие: работает в ней двадцать женщин, а нет ни одной швейной машины. Уже больше шести лет во всех швейных мастерских шьют только на машинах, а Швейц не купила ни одной; кройкой она занимается сама со своей дочерью и принимает только таких мастериц, которые не шьют на машине и очень нуждаются… поэтому платит она им… стыдно даже и обидно про такую плату говорить!..
— Все это не изменит моего решения, — с живостью перебила ее Марта. — Я так же, как и ваша двоюродная сестра, ничего не умею делать как следует и должна идти туда, где с работниц меньше требуют.
— И платят меньше, — печально докончила Клара. — Конечно, лучше хоть что-нибудь, чем ничего. Если хотите, я могу свести вас к пани Швейц.
— Дайте мне только ее точный адрес, я пойду одна. Ведь у вас мало свободного времени.
— Нет, я пойду с вами. Опоздаю немного к обеду, но это не беда, мама не будет волноваться: случается, что я задерживаюсь в магазине подольше, когда бывает срочная работа. Кроме того, я давно не видала Эмильку. Пойдемте вместе!
Марта стиснула руку Клары, безмолвно благодаря добрую женщину, и они отправились на улицу Фрета. Дорогой Клара сказала:
— Швейц уже немолода, и люди разное говорят о ее прошлом. Она открыла мастерскую лет двадцать тому назад, но ей не особенно везло, пока не было швейных машин. А с тех пор как начали шить на машинах, Швейц разбогатела. Это может показаться странным, но это так. Я слышала, как пани Н. в разговоре с панной Брониславой сказала, что Швейц эксплуатирует бедных, плохо обученных работниц, которых нужда заставляет работать за гроши. Я не знаю, что значит слово «эксплуатировать», но если она хотела этим сказать, что Швейц обижает бедных женщин, так я окажу, что тут вина не только ее, а еще чья-то…
Тут Клара умолкла и задумалась. Она, видимо, пыталась отдать себе отчет в какой-то мелькнувшей у нее мысли.
— Я не знаю, чья это вина, но скажите, пожалуйста, почему на свете есть женщины, которых можно безнаказанно обижать? Они еще сами ходят и просят, чтобы их обижали, только бы заработать на кусок черного хлеба!
Марта все ускоряла шаг; она шла так быстро, что Клара с трудом поспевала за ней. Скоро они очутились на улице Фрета.
— Это здесь, — сказала Клара, входя в низенькие ворота какого-то дома.
Они вошли во двор, узкий, длинный, темный, с четырех сторон окруженный высокими, старыми и сырыми стенами, над которыми виднелся только клочок пасмурного неба. Здесь, очевидно, всегда было мрачно и душно, потому что над высокими стенами дымило множество труб и дым так и клубился в тесном пространстве, густой серой пеленой застилая весь двор.
В самой глубине двора, против ворот, над дверью, к которой вело несколько ступенек, висела узкая и длинная табличка. На грязноголубом фоне красовалась надпись большими желтыми буквами:
БЕЛОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ Б. ШВЕЙЦ
Клара и Марта вошли в большие сени, в глубине которых сквозь густой мрак виднелась лестница на верхние этажи. Клара открыла одну из дверей, расположенных по обе стороны площадки. Тяжелая волна затхлого, сырого воздуха ударила в лицо женщинам. Они очутились в просторной комнате с тремя окнами во двор. Окна были до половины завешаны белыми кисейными занавесками, и глубина комнаты оставалась в почти полной темноте. Низкий бревенчатый потолок был покрыт слоем пыли, простой дощатый пол не покрашен, стены, некогда выбеленные, серы от грязи, и сырость проступала на них огромными темными пятнами.
На сером фоне этой мрачной комнаты четко выделялись фигуры женщин, сидевших группами у столов и окон или в одиночку у больших шкафов, за стеклами которых видны были кипы уже готового белья и раскроенного полотна. Посреди комнаты стоял большой черный стол, над которым склонились две женщины с ножницами и выкройками в руках.
Войдя, Клара кивнула головой мастерицам, поднявшим глаза, затем, обратившись к одной из стоявших у стола женщин, сказала:
— Здравствуйте, пани Швейц.
Та, к которой это относилось, повернула голову и любезно улыбнулась:
— А, это вы, панна Клара! Пришли проведать сестру? Панна Эмилия! Панна Эмилия!
На этот зов одна из женщин, одиноко сидевшая в темном углу, подняла голову. Она, видимо, была занята работой или погружена в свои мысли и вовсе не замечала того, что делалось вокруг.
Сейчас она подняла утомленные глаза, но, увидев Клару, не вскочила с места, не бросилась навстречу сестре. Нет, она поднялась не спеша и, положив на табурет работу, подошла к ней.
— А! Это ты, Клара! — сказала она, протянув руку, очень белую и худую, с пальцами, исколотыми иголкой.
Она очутилась теперь в полосе света, падавшего в окно, и Марта, окинув ее взглядом, узнала в ней ту самую девушку, которую она встретила на лестнице справочной конторы, когда впервые пришла туда. Эмилия была в том же платье, что и тогда, но уже заметно вылинявшем за эти три месяца и местами заштопанном. Она побледнела и осунулась. Ее одежда и весь внешний облик показывали, что жизнь слишком рано и слишком быстро начала здесь зловещий процесс разрушения.
Сестры поздоровались за руку, быстро и молча. Эмилия вернулась на место, Клара обратилась к хозяйке мастерской.
— Пани Швейц, — сказала она, — это пани Свицкая, она хотела бы у вас работать.
Швейц уже несколько секунд смотрела на Марту, но выражения глаз ее угадать было невозможно, так как они были скрыты очками. Голос же хозяйки звучал очень любезно, почти ласково. Она сказала:
— Я очень вам признательна, пани… пани Свицкая, за то, что вы вспомнили о моей скромной мастерской, но, к сожалению… у меня уже столько мастериц, что я, право, не знаю, смогу ли…
Марта хотела что-то сказать, но Клара, дернув ее за рукав, торопливо вмешалась.
— Милая пани! — сказала она решительным тоном человека независимого и даже сознающего свое превосходство. — Зачем бросать слова на ветер? То же самое вы говорили Эмильке, когда она впервые пришла сюда, и все-таки вы ее приняли… Ведь все дело в том, чтобы пани Свицкая согласилась на очень маленькую плату, не правда ли?
Швейц улыбнулась.
— Ну, и темперамент у вас, панна Клара, — сказала она все тем же сладеньким тоном. — Вы сравниваете жалованье мастериц пани Н. с тем, какое может платить наша бедная мастерская, и поэтому вам кажется, что мы платим слишком мало…
— О том, что мне кажется, уж позвольте, дорогая пани Швейц, знать мне самой, — перебила ее Клара. — Я хотела бы только поскорее услышать от вас, найдется ли для пани Свицкой работа. Если нет, мы пойдем в другое место…
Швейц сложила руки на груди и опустила голову.
— Любовь к ближнему, — сказала она с расстановкой и тихо, — любовь к ближнему не позволяет отказывать в работе человеку…
Клара сделала нетерпеливое движение.
— Ах, пани, любовь к ближнему тут ни при чем. Пани Свицкая предлагает вам свой труд, за который вы будете платить ей, вот и все. Это то же самое, как если бы человек пришел в лавку, взял товар и выложил за него деньги на стол. При чем же тут любовь к ближнему?
Швейц тихо вздохнула.
— Милая панна Клара, вы хорошо знаете, как я забочусь о здоровье моих мастериц и прежде всего об их нравственности.
При последних словах ее длинное морщинистое лицо приняло жесткое и суровое выражение. Клара улыбнулась.
— Все это меня не касается. Я хочу только узнать, наконец, примете вы пани Свицкую в мастерскую или нет?
— Как же мне быть? Как быть? Хотя у меня уже столько работниц, что, право, на всех работы не хватает…
— Ну, так на каких условиях? — смело наступала Клара.
— Условия? Условия такие, на каких работают у, меня все: сорок грошей в день, десять часов работы.
Клара отрицательно покачала головой.
— Пани Свицкая не станет работать за такую плату, — решительно заявила она и добавила, рассмеявшись: — Сорок грошей за десять часов работы, это значит четыре гроша в час. Вы, наверное, шутите!
Она повернулась к Марте и сказала:
— Пойдемте в другое место.
Клара уже направилась к двери, но Марта не пошла за ней, а все стояла как прикованная. Вдруг она подняла голову:
— Я принимаю ваши условия. Буду шить по десяти часов в день за сорок грошей.
Клара хотела возражать, но Марта перебила ее.
— Я так решила, — сказала она и добавила тише: — Ведь сами вы, панна Клара, час тому назад говорили, что лучше иметь хоть что-нибудь, чем ничего.
На этом порешили. На следующий день Марте предстояло начать работать в мастерской Швейц.
Итак, после долгих поисков, после напрасных хлопот и унижений, после бесполезных метаний и обивания порогов Марта нашла, наконец, работу, нашла возможность добывать пропитание для себя и ребенка. Но все же, когда она, усталая после скитаний по городу, вернулась в свою каморку, она не улыбалась, как в день своего возвращения из справочной конторы, не обняла бросившуюся ей навстречу дочку и не сказала, как тогда, со слезами и улыбкой:
— Благодари бога!
Бледная, погруженная в свои думы, с глубокой складкой на лбу и сжатыми губами, Марта села теперь у окошка, устремила застывший взгляд на крыши домов, слушая шум большого города — и ничего не слыша.
Ничтожность будущего заработка не пугала ее. Слишком недавно еще она узнала заботу о хлебе насущном, пыталась сводить концы с концами, как человек, который пытается заплатать ветошь, разлезающуюся у него в руках. Она еще не привыкла к грошовым расчетам бедняков, не знала того роя повседневных мелочей, которые камнем ложатся на плечи бедняка, и она не могла сразу сообразить, что обещанного заработка не хватит на жизнь.
Она не знала еще, сможет ли прожить вдвоем с дочкой на сорок грошей в день; но ведь эта ничтожная сумма была огромна по сравнению с тем, что у нее было вчера. И если Марта и была новичком — правда, уже узнавшим суровую действительность и вступившим в ряды тех, кто шагает в жизни под знаменем нужды, — она все же была достаточно умна и образованна, чтобы понять, на какой низкой ступени человеческого труда она очутилась, не имея ни малейшей надежды подняться выше.
Это была ступень, на которой застревали все беспомощные и неприспособленные, не желавшие умереть голодной смертью.
Это была ступень такая низкая, что на нее попадали только те, у кого не хватало сил удержаться на более высокой.
Это была ступень, где царствует постоянный мрак, тягостный, изнурительный труд без передышки, труд, который дает только черный хлеб и держит дух человека на железной привязи вечных и никогда не удовлетворяемых потребностей тела.
Это, наконец, была та ступень, где пауки плели густую паутину, в которой запутывались мухи, добровольно туда влетевшие, где господствовала несправедливость и угнетение людей, покорно клонивших голову в сознании своего бессилия.
Никогда, никогда, ни в дни благополучия, ни в те дни, когда оно сменилось одиночеством и нищетой, ни даже в то время, когда Марта, пробуя свои силы в различных областях труда, была вынуждена после первых же шагов отступать, она не думала, что силы ее столь ничтожны, знания столь ограниченны, что пребывание в этой низине будет ее жизненным уделом.
Марта пошла навстречу своей судьбе с лихорадочной поспешностью, с полной готовностью, а между тем эта судьба была для нее неожиданной, — да, несмотря на то, что все пережитое за последние дни могло бы ее к ней подготовить, это было для Марты неожиданностью.
Шумным, беспокойным и мрачным роем теснились новые, незнакомые мысли в голове молодой женщины, сидевшей в большой, темной, сырой мастерской на улице Фрета над куском полотна, который она аккуратно сшивала, поднимая и опуская руку в такт с двадцатью другими руками, подымавшимися и опускавшимися вокруг нее.
Придя сюда в первый раз на работу, Марта внимательнее, чем накануне, разглядывала своих товарок по труду и судьбе.
Она с удивлением заметила, что большинство из них были женщины, принадлежавшие прежде к другому кругу, на что указывали их нежные лица, гибкие фигуры и белые руки; видимо, утро их жизни было отнюдь не похоже на ее полдень и вечер. Впрочем, здесь были всякие женщины — различного возраста и внешности, с различными вкусами и склонностями.
Они сидели молча и неподвижно, только руки их были в постоянном движении. Они сидели так целыми часами, склонившись над шитьем, и с трудом разгибали спины, когда кончали работу. Уходили они медленно, волоча ноги, а в их потухших глазах с почти всегда опущенными воспаленными веками не загоралась ни единая искорка при виде солнца, золотившего оживленные улицы, не радовал их веселый говор и шум вокруг, когда они, безмолвные и безучастные, выходили на свет божий из своей мрачной мастерской.
Платья на них были рваные, забрызганы уличной грязью. Небрежно причесанные волосы, сколотые на затылке в бесформенный узел, свисали прядями на худую шею, и лишь иногда полотняный воротничок безукоризненной белизны, обручальное кольцо, сверкавшее на пальце и своим блеском, казалось, издевавшееся над жалкой внешностью его владелицы, напоминали о прежних привычках, чувствах, сердечных привязанностях, уплывших в недосягаемую даль на быстротечной волне невозвратного прошлого.
Это были существа, совершенно изнуренные пройденным ими путем, существа с опустошенными сердцами и умами, больные телом и слабые духом, влачившие свое мрачное, тяжкое, беспросветное существование, упорно укрывая израненную душу молчанием, этим последним оставленным им судьбой средством защиты.
Однако не эти женщины, смертельно усталые и душой и телом, являли собой наиболее печальное зрелище в мастерской Швейц. У окон, как птицы в неволе, которые между прутьев клетки ищут солнца, разместились работницы помоложе, меньше настрадавшиеся, а потому более жизнерадостные, с более упорными желаниями. Они пытались сдерживать веселость, которая все же не могла окончательно умереть в их сердцах. Лица их были худы и бледны, одежда убога, но на этих бледных лицах сверкали глаза, поминутно поднимавшиеся от работы, искавшие взгляда товарок, то игривые, то насмешливые и злобные, то устремленные куда-то вдаль, за сырые стены мрачной комнаты. Порой отливавшие желтизною лица освещались улыбкой, такой же шаловливой или насмешливой, грустной или мечтательной, как и выражение глаз. Попадались тут очаровательные головки, обвитые роскошными косами, в которых розовым или голубым пятном выделялась ленточка, бантик, тесемка; у некоторых на шее были яркие бусы, словно издевавшиеся над дырами и заплатами кофточки, которую они должны были скрасить. И все эти взгляды, улыбки, украшения производили еще более ужасное впечатление, чем молчаливое оцепенение и равнодушие других работниц… Эти девушки еще переживали острую борьбу чувств и желаний с подавляющими их условиями быта, мечты о роскоши — с крайней нищетой. Их старшие подруги уже покорились своей участи, а им каждый миг грозило падение, так как они еще не могли примириться с ней. Те несчастные уже приближались к концу своего земного странствия, эти — к началу порочной жизни. Перед теми раскрывалась могила, перед этими — пропасть.
Когда Швейц и ее дочь стояли у большого черного стола, в мастерской царила абсолютная тишина, нарушаемая только лязгом ножниц, двигавшихся в проворных руках.
Но тишина была кажущейся; кроме этого отчетливого лязга ножниц, слышались и другие звуки, менее явственные; они часто обрывались, сливаясь, однако, в неумолчный, вибрирующий шум, то переходивший время от времени в неожиданный взрыв, то снова затихавший. Шум этот происходил от движения двадцати рук, дыхания двадцати грудей, кашля, сухого и отрывистого или глубокого и свистящего, от еле слышного шепота и негромкого, быстро сдерживаемого хихиканья. Работницы, сидевшие в глубине мастерской, кашляли; те, что у окон, — перешептывались и хихикали. По временам Швейц поднимала голову и из-за очков окидывала комнату внимательным взглядом. От ее глаз, поблескивавших за толстыми стеклами, ничто не укрывалось, она следила за ходом работы. Иногда, положив ножницы на стол, она елейным голосом начинала длинную речь.
Она говорила, что в других мастерских работницы теряют здоровье за машинами, которые, как известно, выматывают силы и причиняют различные увечья, а вот она, Швейц, не желает отягощать свою совесть покушением на здоровье ближних и отказалась от барышей, которые могла бы извлечь, если бы завела в своей мастерской машины. Ибо совесть — это главное, все остальное — суета сует.
Швейц требовала от своих работниц только одного — строгого поведения. В этом отношении она была неумолима, потому что не хотела, чтобы мастерская ее стала очагом разврата, — она боялась потерять приличных и уважаемых заказчиц, что грозило нищетой ей, ее детям и внукам.
Мастерицы слушали ее разглагольствования в полном молчании. Конечно, среди них не было ни одной, которая верила бы Швейц. Все они отлично понимали, что их эксплуатируют, и все же слушали и покорно молчали. Они знали, что за стенами этой комнаты их ожидает либо могила, либо болото.
Порою Швейц и ее дочь выходили из мастерской во внутренние комнаты. Тогда до работниц доносились в открытую дверь звуки прекрасного фортепиано, на котором то играли бегло и умело, то учились играть. Виден был ряд комнат, обставленных роскошной мебелью; натертый до блеска пол, большие зеркала, красный штоф кресел раздражали утомленные глаза работниц. Одни грустно усмехались, другие бросали мрачные взгляды, а некоторые ехидно подмигивали. Горечь, желчная зависть просыпались в груди двадцати женщин. В три часа под потолком зажигались большие лампы, и женщины работали при искусственном свете до тех пор, пока стенные часы в квартире Швейц не пробьют девять.
Возвращаясь домой после первого дня работы, Марта едва держалась на ногах.
Она вовсе не была так сильно утомлена, и не случилось ничего особенного, что могло бы огорчить ее. Нет, она была напугана, ужас парализовал ее мозг и душу.
* * *
Привередливые читатели и, прежде всего, чувствительные и жаждущие сильных впечатлений читательницы, простите ли вы мне эту повесть, совершенно лишенную таинственной и сложной интриги и увлекательного изображения двух сердец, пронзенных огненными стрелами?
Всякое явление, служащее сюжетом повести, можно осветить по-разному. Историю бедной Марты, которая развертывается перед читателем, как одноцветная нить, можно было бы богато украсить множеством сложных и противоречивых чувств, поразительных контрастов, потрясающих событий. В нее можно было бы вплести ряд эпизодов, которые придали бы ей очарование, будили бы в читателе умиление или ужас. История эта могла бы быть вставлена, как эпизод, в более эффектный и захватывающий роман, рисующий приключения счастливых или страдающих, идиллических либо героических, обласканных судьбой или гонимых ею Нумы и Помпилия[27].
Простите! Встретив в жизни Марту, я стала оглядываться вокруг в надежде найти поблизости какого-нибудь Помпилия, но не нашла его. Тогда я вздумала было сократить, свести к одному эпизоду историю этой женщины, — но не могла, ибо поняла, что эта история заслуживает того, чтобы составить сюжет целой книги. Наконец я намеревалась вплести ее в другую, сложную интригу, в цепь других эпизодов, — но и этого не сделала, ибо мне казалось, что она только выиграет от того, что выйдет в свет без всяких добавлений.
Извините за простоту средств, к которым я прибегаю, чтобы показать одно из самых ужасных социальных явлений современности, и следуйте за мною дальше по пути, по которому идет несчастная женщина, достойная, быть может, участи более счастливой, чем та, на которую ее обрекло… что же? Название тому, что, как роковое проклятие, угнетает умы, связывает руки и сокрушает сердца множества людей, вы найдете в истории Марты.
* * *
Варшава веселилась, шумела, сияла. Было рождество. Только несколько дней назад погасли яркие огни, зажженные в зеленых ветвях рождественских елок, и в воздухе, казалось, еще дрожали переливы радостного детского смеха и шумные беседы счастливых семейств, собравшихся вокруг празднично убранных столов. Завтра в мир должен был явиться таинственный гость: Новый год. Квартиры и витрины магазинов были нарядно украшены. Улицы были покрыты глубоким снегом, который затвердел от мороза и сверкал миллионами искр под лучами солнца, сиявшего в ясном небе.
Вереницы саней мчались в различных направлениях, толпы прохожих заполняли тротуары. Сколько было голов в этой пестрой толпе, столько потоков тайных мыслей летело вдаль, незримо преследуя в огромном мире близкие и далекие, высокие и низменные пели. Любовь, жадность, поклонение и ненависть, тревога, надежды, различные интересы и страсти, желания и стремления кружились и переплетались в тысячеголовой толпе большого города, которая шла, ехала, бежала туда, куда гнали ее великие цели или ничтожные и будничные потребности. И в этом не доступном для человеческого слуха таинственном шуме тихо шелестела никому не ведомая, никем не угаданная нить мыслей в покорно склоненной голове никем не замечаемой женщины.
«Сорок грошей в день… это восемь злотых в неделю… Десять грошей ежедневно жене дворника за то, что присматривает за Яней, пока я в мастерской… Пятнадцать грошей — хлеб и молоко для ребенка… пятнадцать грошей обед… а на воскресенье уже ничего не остается…»
Так думала Марта, шедшая не спеша по тротуару Краковского предместья.
«Квартира за два месяца — сорок пять злотых… в лавочке я задолжала двадцать злотых… за проданную шубу получила сто злотых… шестьдесят вычесть из ста — сорок… Яне необходимы башмаки, да и мои уже сносились… потом нужно купить дров, ребенок постоянно зябнет».
Размышляя таким образом, Марта закатилась сухим, отрывистым, надсадным кашлем.
Прошел уже месяц с тех пор, как она начала работать в мастерской Швейц. За это время она очень изменилась. Прозрачную белизну ее лица теперь портили желтые тени, темные круги легли под запавшими глазами, и на красивом лбу залегла глубокая складка. Черное платье Марты было опрятно, но порыжело и износилось. На ней не было ни шляпы, ни шубы. Черный шерстяной платок покрывал голову, обрамляя бледный лоб и впалые щеки.
Плыла, шумела толпа по широкому тротуару красивой улицы, а с нею вместе летел в пространство поток человеческих мыслей, и в нем — тихая, унылая, неотвязная мысль бледной женщины, прокладывавшей себе путь в толпе.
«Десять грошей да пять — пятнадцать… да два… семнадцать… семнадцать из сорока… остается двадцать три…»
Какая это была ничтожная, мелкая, скучная мысль. Она ползала по земле в то время, как зимнее небо сияло чистой лазурью, она была скована холодом цифр в то время, как все человечество в канун Нового года одолевали желания, чувства, надежды…
Да, мысли Марты были прозаичны, это были грошовые расчеты бедняков.
А ведь было время, когда и она устремляла глаза в лазурную высь и с бьющимся сердцем, с улыбкой надежды встречала наступающий Новый год. Она вспомнила об этом сейчас.
Она подняла голову и осмотрелась. Во взгляде ее, только что озабоченном, теперь заискрились новые чувства, пробудившиеся в ней. Тоска, потом горечь и, наконец, страстное возмущение против той роковой необходимости, с которой она до сих пор еще никак не могла примириться. Запавшие глаза Марты вспыхнули жарким огнем. Что-то в ней завопило от острой боли, поднялось бурной волной. Взбунтовались непобежденные силы души. Она на миг остановилась, подняла голову и дрожащими губами прошептала:
— Нет, так не может продолжаться! Не будет так!
Она твердила себе, что это невозможно, не может быть, чтобы ей было суждено работать до конца дней в темной, сырой, душной мастерской Швейц, где ее окружают изможденные, безжизненные лица. И, кроме того, даже трудясь там с утра до ночи, она не может заработать столько, чтобы ночью спать спокойно, а в свободные минуты не заниматься грошовыми расчетами…
По своему происхождению и прошлому Марта принадлежала к кругу людей просвещенных — так по крайней мере думала она сама и так считали другие.
Почему же теперь, когда ее коснулась суровая рука судьбы, она очутилась на той низкой ступени социальной лестницы, где, казалось бы, должны стоять лишь несчастные, лишенные блага просвещения? Неужели ее образование неполноценно? Неужели оно только игрушка, созданная для развлечения спокойной души, обитающей в сытом и удовлетворенном теле, и рассыпалось в прах при первой попытке использовать его для сохранения духовных и физических сил? Неужели ее образование лишь иллюзия? Такое образование, какое дали Марте, будит потребности, но не дает ничего для их удовлетворения, обостряет тоску по высокому, но лишь для того, чтобы наполнить сердце горечью и смертельной тревогой…
Марта думала об этом, но не умела обобщать свои мысли и чувства, не отдавала себе полного отчета в том сложном явлении, которое управляло ее судьбой. Она цеплялась за воспоминания, утешалась сознанием, что принадлежит к числу людей образованных, перед которыми открыто так много дорог.
Неужели ей навсегда суждено оставаться на том пути, на который она вступила? Неужели во всем мире нет для нее иного места, кроме того, куда она ежедневно ходит с чувством стыда, мысль о котором заранее наполняет ее ужасом? Она молила бога, чтобы он дал ей местечко под солнцем, где два человека, связанные друг с другом самыми тесными и самыми священными узами и чувствами, могли бы существовать. Но то, что она нашла после долгих поисков и усилий, никак ее не удовлетворяло. Это была темная яма, в которой два существа медленно умирали в кандалах самых простых, насущных и никогда не удовлетворенных полностью потребностей.
Да, медленно умирали. Это вовсе не преувеличение, а страшная правда. Еще недавно Марта, обдумывая положение, в котором она очутилась, и ту ответственность, которая тяжким бременем лежала на ней, твердила себе для ободрения и успокоения: «Я молода и здорова». Теперь у нее оставалось только одно из этих двух преимуществ: она была молода, да, но уже не была здорова. Как невидимая пила, физические и духовные страдания терзали ее и подтачивали силы. У нее появился кашель, уже несколько недель она испытывала слабость, сон ее был беспокоен, она просыпалась с тяжелой головой и болью в груди.
Так, должно быть, начинали свой путь и другие работницы Швейц, худые, бледные, с чахоточным румянцем на щеках. Недавно одна из них ушла из мастерской на несколько часов раньше положенного времени и больше не вернулась. Когда Марта на следующий день спросила про нее, ей ответили приглушенным, зловещим шепотом:
— Умерла!
Умерла? А Марта знала, что этой женщине было всего двадцать шесть лет и где-то, в мансарде или подвале, двое маленьких детей ежедневно ожидали ее прихода.
— Что же будет с ее детьми? — с тревожным любопытством спросила молодая мать хорошенькой черноглазой Яни.
Ответ прозвучал резко:
— Девочку взяли в приют, мальчик пропал куда-то.
В приют? Значит, на средства благотворительности, к чужим людям, на неизвестное будущее… Пропал? Куда же? Быть может, глупенький ребенок убежал искать мать, которую недавно унесли из мансарды, и где-то тихо умер, прикрытый белым саваном метели, на занесенной снегом улице в морозную ночь. Или — о ужас! — пристал, быть может, к каким-нибудь беспризорным, к подонкам общества…
Марта не могла долго думать об этой печальной истории.
Быть может, и ее ждет такое будущее? Ее? О, это бы еще ничего! Ведь любимые ею люди уже ушли из жизни, она чувствовала себя смертельно усталой, глубоко несчастной и с радостью закрыла бы глаза, уснула вечным сном, чтобы, как обещает религия, соединиться с теми, по ком тосковало ее израненное сердце! Но будущее ее ребенка! Что ожидает девочку, если ее мать уйдет из жизни, если на ее щеках запылает кроваво-красный румянец, лицо станет мертвенно бледным, дыхание тяжелым, как у той бедной работницы, которая несколько дней назад, пошатываясь, ушла из мастерской Швейц, чтобы никогда больше туда не вернуться?..
Под влиянием этих мыслей Марта вдруг выпрямилась.
— Нет! — негромко, но с силой сказала она. — Этого не может быть! Не должно быть!
Ее поддерживало естественное желание выкарабкаться из нужды и сознание, что каждый человек имеет право на лучшее существование.
Она осмотрелась вокруг. В ее утомленном, озабоченном взгляде снова засветилась энергия и пытливость. Внимание ее привлекла большая витрина одной из самых известных в городе книжных лавок. При виде выставленных на витрине книг в цветных обложках на молодую женщину нахлынули воспоминания, к тоске примешалась надежда. Она вспомнила те счастливые дни, когда она под руку со своим молодым и образованным мужем приходила сюда. Она стосковалась по радостям, которые дают книги, радостям, которых она уже давно была лишена и которые на темном фоне ее теперешней жизни засияли невыразимым очарованием. В витрине она вдруг увидела фамилии нескольких женщин, напечатанные на обложках книг. Одна из них принадлежала женщине, с которой Марта была когда-то знакома. Никто и не подозревал в этой женщине таланта до тех пор, пока он неожиданно не проявился, но и тогда ей пришлось долго и упорно добиваться признания. А теперь ее имя занимало почетное место среди многих выдающихся имен известных в стране писателей. Эта женщина была бедна и одинока, а теперь она обрела место под солнцем, уважение людей и самоуважение.
— Кто знает? — дрожащими губами шепнула Марта, и на ее бледном лице, обрамленном складками черного шерстяного платка, вспыхнул румянец.
Она сделала несколько шагов и остановилась у входа. Сквозь застекленную дверь она увидела в глубине большого помещения владельца лавки. В дни своего благополучия она нередко видывала этого человека. Его честное, приветливое лицо было ей хорошо знакомо.
Над застекленной дверью задребезжал звонок. Марта вошла в лавку. Она на минуту остановилась у входа и с беспокойством огляделась вокруг. Она, наверно, опасалась, что застанет в лавке покупателей, в присутствии которых не сможет высказать то, с чем пришла.
Книгопродавец стоял один за конторкой и что-то записывал в большую книгу, лежавшую перед ним. Когда дверь открылась, он поднял голову и посмотрел на вошедшую выжидательно. Марта медленно подошла и остановилась перед ним, а он, видимо, ожидал, что она скажет.
Несколько секунд веки ее оставались опущенными и бледные губы дрожали. Затем, собравшись с духом, она устремила на книгопродавца взгляд, в котором сосредоточилась вся ее сила воли.
— Вы меня не узнаете? — сказала она тихо, но решительно.
Книгопродавец внимательно всматривался в нее.
— Как же, как же! Ведь я имею удовольствие видеть пани Свицкую? Я сразу вас узнал, но… не был уверен.
Говоря это, он быстрым взглядом окинул бедную одежду молодой женщины.
— Что прикажете? — спросил он затем вежливо с оттенком грусти в голосе.
Марта некоторое время молчала. Когда она заговорила, лицо ее было очень бледно, взгляд глубок и неподвижен.
— Я пришла к вам с просьбой, которая, вероятно, покажется вам странной…
Голос ее вдруг оборвался. Она подняла руки и провела ладонями по лбу. Книгопродавец поспешно вышел из-за конторки и, пододвинув молодой женщине сбитый бархатом табурет, вернулся на свое место.
Он, видимо, был огорчен, а еще больше смущен.
— Присядьте, пожалуйста, — сказал он, — я вас слушаю…
Но Марта не села. Она обеими руками оперлась на прилавок и снова взглянула в лицо стоявшему перед ней человеку, но уже несколько просветлевшим взглядом.
— Просьба, с которой я к вам пришла, в сущности необычная, странная, — начала она. — Но… я вспомнила, что вы были когда-то в дружеских отношениях с моим мужем…
Книгопродавец поклонился.
— Да, — перебил он ее, — пан Свицкий оставил по себе самую лучшую память у всех, кто близко знал его.
— Мне вспомнилось, — продолжала Марта, — что я несколько раз имела удовольствие принимать вас в нашем доме…
Книгопродавец снова любезно поклонился.
— Я знаю, что вы не только книгопродавец, но и издатель… И, кроме того…
Голос ее постепенно слабел, затихал и на минуту смолк совсем. Но вот она снова подняла голову, протянула руки к своему собеседнику, тяжело перевела дух.
— Дайте мне какую-нибудь работу… укажите путь… научите, что делать!..
Книгопродавец был несколько озадачен. Он смотрел на стоявшую перед ним женщину внимательным, почти испытующим взглядом. Однако прекрасное молодое лицо Марты не таило в себе никакой загадки. Горе, тревогу и горячую мольбу — вот что можно было прочитать на ней, Взгляд умных серых глаз книгопродавца, сперва испытующе и даже сурово смотревшего на нее, постепенно смягчался. В лавке воцарилось молчание. Книгопродавец прервал его.
— Значит, — сказал он, немного запинаясь, — пан Свицкий, умирая, не оставил никакого состояния?
— Никакого! — тихо сказала Марта.
— У вас был ребенок…
— Да, у меня есть дочурка…
— И до сих пор вы не могли найти себе никакой работы?
— Нет… Я шью в мастерской за сорок грошей в день…
— Сорок грошей в день! — ахнул книгопродавец. — На двоих! Да ведь это нищенское существование!
— Нищенское, — повторила Марта. — Но если бы я одна жила в такой безвыходной нужде, поверьте мне, сударь, я мужественно переносила бы страдания, жила без милостыни и умерла без жалобы! Но я не одна, я мать! Кроме любящего материнского сердца, у меня еще есть совесть, есть сознание своего долга, я в отчаяние прихожу, когда смотрю на исхудалое личико моего ребенка, когда думаю о его будущем. И как подумаю, что ничего еще не могла для него сделать, мне становится так стыдно, что хочется упасть на землю и зарыться в нее лицом. Ведь есть же на свете люди бедные, но способные прокормить себя и своих детей, — почему же я не могу быть такой? Да, я знаю, много на свете горя, но чувствовать себя бессильной справиться с ним, горячо браться за все и постоянно убеждаться в своей беспомощности, страдать самой и видеть, как страдает любимое существо и сегодня, и завтра, и послезавтра, и всегда, и говорить себе: «Я неспособна бороться» — ох, это такая мука! Ее знают только несчастные женщины!
Марта говорила быстро, с жаром. При последних словах голос ее стал тише, и слезы, которые она не в силах была удержать, полились из глаз. Она закрыла лицо платком и стояла неподвижно, борясь со слезами, которых не могла остановить, подавляя рыдания, рвавшиеся из груди. Впервые она плакала при постороннем, впервые изливала громко, вслух все, что давно накипело в сердце. Она не была уже ни так сильна, ни так горда, как в гостиной Рудзинских, когда без слез, со спокойным лицом, добровольно отказалась от работы, с которой не могла справиться. Книгопродавец, скрестив на груди руки, стоял неподвижно. Он растерялся при виде такого бурного взрыва чувств и был глубоко тронут.
— Боже мой, — сказал он вполголоса, — как превратна судьба человека! Мог ли я предположить, что мне доведется увидеть вас в таком тяжелом положении! Вы жили с мужем в таком достатке, были такой любящей и счастливой парой!
Марта отняла платок от лица.
— Да, — сказала она сдавленным голосом, — я была счастлива… Когда мой любимый муж умирал, я думала, что не переживу его… Пережила… Тоска и горе мучили меня нестерпимо, я надеялась найти облегчение для смертельно раненного сердца в том, что выполняю свой материнский долг. Но и это мне не задалось. Одинокая и несчастная, я искала работы, которая даст мне хоть немного душевного покоя, я боролась за жизнь и будущность моего ребенка. Все напрасно…
Взгляд книгопродавца, серьезный и задумчивый, ныл устремлен куда-то в пространство. У него тоже была семья. Быть может, слова Марты вызвали в его воображении образы дорогих ему женщин — юной сестры, маленькой дочки, любимой жены. Не ждет ли и их такая судьба, какая выпала на долю этой одинокой женщины, оставшейся без крова, с отчаянием и болью в сердце? Ведь сам он только что говорил о жестоких превратностях судьбы!
Он медленно перевел взгляд на лицо Марты и протянул ей руку.
— Успокойтесь, — сказал он мягко и серьезно. — Присядьте, отдохните немного. Не сочтите за нескромность, если я, желая быть вам полезным, спрошу вас о некоторых подробностях, которые мне нужно знать. Пробовали ли вы уже браться за какую-нибудь другую работу, кроме той, за которую вы получаете такие гроши? Какое занятие вы считаете для себя наиболее подходящим, к чему у вас есть способности? Зная это, я смогу что-нибудь придумать, найти…
Марта села. Слезы ее высохли, глаза приняли снова серьезное выражение, как всегда, когда она напрягала волю и ум. В сердце ее затеплилась надежда, она поняла, что существование ее зависит от предстоящего разговора, и сразу к ней вернулись смелость и внешнее спокойствие.
Разговор был недолог. Марта рассказала все искренно, толково и коротко, сообщая только факты. Новый прилив гордости не позволил ей коснуться личных переживаний. Книготорговец отлично ее понимал. Его быстрый взгляд скользил по ее лицу. Рассказ Марты открыл перед ним судьбу многих женщин.
Большая социальная проблема, вопиющая несправедливость общества занимали мысли этого честного, просвещенного человека, пока он со вниманием, интересом и сочувствием слушал историю бедной женщины, которая, несмотря на всю свою энергию и усилия, не могла найти для себя места на земле.
Марта поднялась и, пожимая руку хозяину, промолвила:
— Я рассказала вам все, не постыдилась признаться во всех своих неудачах, потому что, хотя силы изменили мне, намерения у меня были честные… Я делала, что могла и умела. Все несчастье в том, что я так мало знаю, так мало умею. Я ничему основательно не училась. Но есть, еще много областей, в которых я не пробовала свои силы. Может быть, еще найдется и для меня какое-нибудь дело в жизни. Могу ли я на что-нибудь надеяться? Скажите откровенно, без колебаний, я прошу вас об этом во имя того человека, которого уже нет в живых, во имя тех, кто вам дорог…
Книгопродавец горячо пожал протянутую ему руку и, подумав, сказал:
— Раз вы требуете откровенности, я вынужден оказать вам горькую правду. Мало надежды на то, что вы своим трудом добьетесь лучшей жизни. Вы говорите: есть еще много областей работы. Да, но возможности для мужчин и возможности для женщин — это совершенно несоизмеримые вещи. Свои возможности вы уже почти исчерпали.
Марта слушала его с опущенными глазами, а он смотрел на нее с глубоким сочувствием.
— Я сказал вам это для того, чтобы вы не обольщались радужными надеждами и потом не испытали нового, еще более жестокого разочарования. Но мне не хотелось бы, чтобы вы ушли отсюда с мыслью, что я не хочу протянуть вам руку помощи. В течение пяти лет вы были женой образованного человека, это имеет большое значение, я знаю, вы с ним проводили осенние и зимние вечера за чтением. Значит, у вас есть какой-то запас знаний. Кроме того, должен вам оказать, что ваша манера выражаться, ваши взгляды на жизнь свидетельствуют о развитом уме. Поэтому я считаю, что испытать свои силы еще на одном поприще вы и можете и должны…
Книгопродавец снял с полки небольшую книжку. Глаза Марты засияли.
— Это — новое произведение одного французского мыслителя, перевод его может быть полезен для нашей публики, да и я кое-что заработаю, издав его. Я думал поручить его другому, но теперь я счастлив, что могу оказать содействие жене дорогого, незабвенного пана Яна…
Говоря это, он уже заворачивал, в бумагу голубой томик.
— В этой книге идет речь об одной весьма модной социальной проблеме. Язык четкий, простой, перевести ее нетрудно. А чтобы у вас не было сомнений насчет вознаграждения, я вас предупреждаю, что смогу вам предложить гонорар в шестьсот злотых. Если занятие это окажется для вас подходящим, найдется потом еще кое-что для перевода. Наконец, кроме меня, есть и другие издатели, и если вы зарекомендуете себя, как хорошая переводчица, вас будут приглашать повсюду. Вы сказали, что немецким языком владеете слабо. Жаль. На переводы с этого языка спрос больше, и они лучше оплачиваются. Но если два-три перевода получатся у вас удачно, вы сможете получиться потом и немецкому языку. Днем будете переводить с французского, по ночам учиться. Так должны работать женщины. Шаг за шагом и self-help[28].
Марта дрожащими руками взяла книжку.
— Ах! — воскликнула она, сжимая обеими руками руку книгопродавца. — Да вознаградит вас бог, да будут счастливы те, кого вы любите.
Она не могла больше выговорить ни слова и через мгновение была уже на улице. Она шла теперь быстро. Растроганная, она думала о благородном поступке книгопродавца, о его отзывчивости. За этой мыслью пришла другая.
«Боже мой, — говорила про себя молодая женщина, — столько хороших людей я встречаю на своем пути, так почему же мне так трудно приходится?»
Книжка, которую она несла, жгла ей руки. Ей хотелось бежать стремглав в свою каморку, чтобы поскорее хотя бы перелистать эту книгу, которая принесет ей спасение. По дороге она все же зашла в обувной магазин и купила башмачки для Яни.
Когда Марта, наконец, дошла до ворот высокого дома на Пивной улице, она не пошла прямо к себе, а направилась в дворницкую, где оставляла Яню на весь день под присмотром дворничихи, получавшей за это плату.
Девочка за последнее время еще сильнее изменилась, чем мать, щеки ее ввалились и стали болезненно желтыми, порыжевшее и в нескольких местах разорванное траурное платьице болталось на исхудалом тельце, как на вешалке, черные глаза казались еще больше и утратили блеск и живость, а в выражении их была та немая, скорбная жалоба, какую можно увидеть в глазах детей, страдающих физически и нравственно.
Увидев мать, Яня не бросилась к ней на шею, не защебетала, как бывало прежде, не захлопала в ладоши. Опустив головку, пряча худые озябшие ручонки под платок, наброшенный на плечи, она вошла вместе с матерью в их комнату на чердаке и, съежившись, села прямо на полу у нетопленой печки. Марта положила книжку на стол и достала из-за печки несколько полен. Яня следила за ней глазами.
— Ты уже никуда не пойдешь сегодня, мама? — спросила она глухо, серьезным тоном взрослой, так не соответствовавшим хрупкой детской фигурке.
— Нет, детка, — ответила Марта. — Сегодня я уже никуда не пойду. Завтра большой праздник, и нам разрешили не работать после обеда.
Говоря это, Марта положила дрова в печь и, присев на корточки, хотела обнять дочку. Но едва она дотронулась до ее плеча, у Яни вырвался болезненный стон.
— Что с тобой? — вскрикнула Марта.
— У меня болит тут, мама! — без жалобы, но очень тихо ответила девочка.
— Болит! Отчего? Давно ли? — заботливо расспрашивала мать.
Яня молчала и сидела неподвижно, с опущенными глазами. Только бледные губки вздрагивали, как это бывает у детей, когда они силятся сдержать слезы. Упорное молчание девочки встревожило Марту еще больше. Она торопливо расстегнула висевшее мешком платье и спустила рукав с плеча. На обнажившемся плечике, худом и белом, темнел большой синяк. Марта судорожно сжала руки. Ужасная догадка мелькнула у нее в голове.
— Может быть, ты упала или ушиблась? — тихо спросила она, не отводя взгляда от темного пятна.
Яня еще некоторое время молчала, потом вдруг подняла глаза, полные слез. Она все еще силилась удержаться от плача, узкие плечи тряслись, губы дрожали, как листочки.
— Мама, — прошептала она, — я сидела сегодня там, у печки… мне было холодно… дворничиха хотела поставить горшок на плиту… задела за мое платье, пролила воду, рассердилась и ударила меня так сильно… сильно…
Последние слова она проговорила очень тихо, дрожа всем телом, прильнув к пруди матери. Марта не вскрикнула, не застонала, лицо ее словно окаменело, губы сжимались все сильнее, а глаза, неподвижно устремленные в пространство, загорелись мрачным блеском.
— Ах! — простонала она, наконец, сжимая пылающий лоб обеими руками. В этом коротком стоне прозвучали подавленный гнев и безграничная боль. Мать и ребенок, тесно прижавшиеся друг к другу, словно слились на минуту в одно целое. Лицо Марты с сухими, мрачными глазами склонялось над бледным, заплаканным детским личиком. Руки ее легли на голову дочери. Она отбросила с ее лба спутанные волосы, она отерла слезы на худеньких щеках, застегнула платье Яни, согревала в своих ладонях ее иззябшие крохотные ручки. Все это она делала молча. Несколько раз она открывала рот, словно желая что-то сказать, подняла Яню, усадила ее на кровать и достала из кармана завернутые в бумагу башмачки.
Теперь на губах ее играла улыбка — странная это была улыбка! В ней было что-то вымученное, но была и любовь и мужество матери, которая скрывает боль и улыбается, чтобы осушить слезы ребенка.
День кончился, городские часы пробили полночь, а в мансарде еще горела лампа; комната выглядела теперь еще более уныло, чем тогда, когда молодая вдова впервые переступила ее порог. В ней не было уже ни шкафа, ни комода, ни двух кожаных чемоданов; шкаф, комод и два новых стула Марта вернула управляющему, чтобы не платить за пользование ими, а остальное все продала во время сильных морозов, чтобы на вырученные деньги купить дров. В комнате остались только два колченогих стула, столик и кровать, на которой теперь, укутанная в черный материнский платок, спала Яня. Свет лампы падал на строго и красиво очерченное, обрамленное толстыми черными косами лицо сидевшей у стола женщины, выделяя его из полумрака. Марта еще не работала, хотя все, что нужно — книжка, перо, бумага, — лежало перед нею. Мечта, неодолимая, неотступная, владела ею. Марта не могла оторваться от неожиданно открывшихся перед ней блестящих перспектив. Хотя ее вера в успех не была уже так сильна, как тогда, когда она у этого самого столика сидела с карандашом в руке, но у нее не было сил прислушиваться к голосу сомнений. Он звучал где-то в глубине сознания, но она старалась не слушать его и все вспоминала врезавшиеся в память слова книгопродавца. Они рождали длинную цепь золотых грез женщины и матери. Делать приятную, хотя и трудную работу, возвышающую душу и отвечающую самым глубоким ее потребностям, — какое это наслаждение! Заработать за несколько недель шестьсот злотых — какое это богатство! Когда она станет так богата, она первым делом наймет честную, пожилую служанку, у которой есть свои дети, или хотя бы такую, которая любит детей и будет заботливо и умело ухаживать за Яней… Затем… (здесь Марта спросила себя, не слишком ли далеко она зашла в своих мечтах)… затем она переедет из этой голой, холодной, мрачной комнатушки, в которой так неуютно и которая так губительна для здоровья девочки, снимет где-нибудь на тихой и чистой улице две комнатки, теплые, сухие, солнечные… Если она станет хорошей переводчицей, будет везде иметь работу, и если такая огромная сумма, как шестьсот злотых, еще не раз будет ею заработана, она пригласит учителей иностранных языков и рисования, будет учиться, да, будет учиться день и ночь, без отдыха, с упорством и терпением… ибо так должна трудиться женщина — завоевывать себе место в жизни шаг за шагом, собственными силами… Потом… подрастет Яня. И как же бдительно мать будет следить за ней, угадывать ее природные способности, чтобы ни одну не оставить неразвитой, чтобы из каждой выкопать для этой будущей женщины оружие в борьбе за существование… Обучение Яни, ее воспитание, сила, счастье, ее обеспеченное будущее — вот для чего будет работать ее мать!.. Как спокойно будет тогда она, Марта, засыпать по вечерам, с какой радостью будет открывать глаза по утрам, приветствуя новый день труда и обязанностей, день, приносящий душевное удовлетворение! С какой гордостью будет она тогда встречаться с людьми, не унижая больше своего человеческого достоинства, с каким легким сердцем, полным умиления, она опустится на колени у могилы любимого человека, образ которого вечно жив в ее памяти, и скажет: «Я стала достойной тебя! Не поддалась злой доле — избегла голодной смерти и нищенского существования! Я сумела заботливо воспитать нашу дочку!» Потом…
Тут глаза Марты остановились на картинке, висевшей на стене. Это был ее рисунок, не принятый в свое время редакцией журнала. Она повесила его, чтобы украсить жалкую каморку, и теперь жадно всматривалась в него. Деревенский домик, раскидистое дерево, птичка, поющая на кусте сирени, прозрачный деревенский воздух и глубокая тишь полей… О боже! Если бы она могла зарабатывать столько, чтобы создать себе такой уголок, скромный, свежий, зеленый! К тому времени она уже состарится, ветерок, шепчась с листьями, будет охлаждать ее лоб, усталые глаза будут упиваться цветом свежей зелени, а птичка, певшая еще над ее колыбелью, пропоет ей в час смерти последнюю песнь земли.
Так мечтала бедная женщина. В эту ночь лампа в комнате на чердаке горела до самого рассвета. Марта читала книжку, которую ей поручено было перевести. Сначала она читала медленно, внимательно, затем с лихорадочным увлечением. Она поняла мысль автора, идея книги проникла в ее сознание со всей ясностью и отчетливостью. Мозг ее словно приобретал гибкость и легко охватывал все. Интуиция, этот редкий и высокий дар, превращающий человека в полубога, проснулась в ней и нашептывала новые, неведомые до этого мысли.
На дворе было уже совсем светло, когда Марта потушила лампу и взялась за перо. Она писала, время от времени отрываясь от бумаги и переводя глаза на кровать, где спала Яня. В бледном свете зимнего утра лицо Яни казалось еще более страдальческим. Когда первый луч солнца проник в комнату, девочка открыла глаза. Тогда мать поднялась со своего места, гала на колени у кровати и, обнимая полусонного ребенка, уронила на подушку усталую голову.
Внизу, на улице, уже началось движение. Грохотали кареты, звонили колокола в костелах, слышался говор и смех. Варшава встречала Новый год.
* * *
С того вечера, когда Варшава встретила Новый год, прошло шесть недель. В час дня Марта, как всегда, вышла из швейной мастерской и пошла в свою мансарду приготовить обед для себя и дочки. Она расцеловала Яню, ожидавшую ее в тесной дворницкой и немного оживившуюся при виде матери. Затем у себя наверху, поставив на огонь кастрюльку, Марта достала из ящика стола небольшую стопку бумаги. Это был уже законченный перевод французской книги. Она работала над ним около пяти недель и неделю переписывала. Теперь она, улыбаясь, просматривала листы, исписанные ее четким и красивым почерком.
За последнее время во внешности Марты произошла новая перемена, но уже иного рода. Она работала дни и ночи. Десять часов в сутки шила, девять ночных часов писала, час болтала с Яней, четыре часа спала, Такой образ жизни, конечно, не вполне отвечал требованиям гигиены, а между тем исчезла болезненная желтизна щек, морщины на лбу разгладились, в глазах появился прежний блеск. Она стала меньше кашлять, у нее был почти здоровый вид. Надежда оживила ее душу, поддерживала и физические силы. Благородное чувство гордости за себя словно выпрямило ее, вернуло ясность взгляду. После того как был приготовлен и съеден обед, состоявший из одного простого блюда и куска черного хлеба, Марта завернула свою рукопись в тонкую белую бумагу. Она делала это как-то особенно старательно, с удовольствием. На высокой городской башне пробило два. Марта отвела Яню к дворничихе и вышла. В три часа ей нужно было быть в мастерской, а она хотела сперва зайти в знакомую книжную лавку.
Хозяин ее стоял, как обычно, за конторкой, вписывая цифры в приходо-расходную книгу. При виде Марты он поднял голову и приветливо поклонился.
— Вы уже сделали свою работу, — сказал он, принимая у Марты рукопись. — Это хорошо, я жду ее с нетерпением. Книга должна быть издана теперь или никогда — это сейчас самый злободневный вопрос… Сегодня общество проявляет к нему интерес, а завтра этот интерес может смениться равнодушием. Я постараюсь как можно скорее посмотреть перевод. Если вы зайдете ко мне завтра в это время, я вам дам определенный ответ.
В тот день работа у Марты не спорилась. Она старалась как можно лучше выполнять то, что было ее обязанностью, но не могла. Руки у нее дрожали, порой туман застилал глаза, сердце билось так сильно, что трудно было дышать. Быть может, теперь, в эту минуту, издатель развернул рукопись, читает ее… Быть может, пробегает глазами пятую страницу… Ах, скорее бы он просмотрел ее — ведь там как раз самое трудное и непонятное место и, верно, оттого оно хуже переведено. Зато конец рукописи, последние страницы переведены отлично! Марта работала над ними с подлинным вдохновением, чувствуя, что мысль писателя отражается в ее словах, как прекрасный облик мудреца в чистом зеркале…
Часы в квартире Швейц пробили девять. Мастерицы разошлись, Марта вернулась домой. Около полуночи она вдруг подумала, что издатель, наверное, в эту минуту кончил читать ее перевод.
Как ей хотелось увидеть сейчас его лицо! Выражает оно удовлетворение или недовольство, сурово оно или обещает ей осуществление ее надежд? Дневной свет проник уже в комнату, когда Марта, всю ночь ни на минуту не сомкнувшая глаз, облокотись на подушку, взглянула на кусочек неба, видный в окно. В ее широко раскрытых глазах застыло выражение страстной мольбы, безмолвной горячей молитвы.
В восемь часов Марте нужно было, как всегда, идти мастерскую, но ноги у нее подкашивались, голова пылала и грудь так сильно болела, что она, сев на табурет и охватив голову руками, пробормотала:
— Не могу…
Вставая, расчесывая длинные шелковистые волосы, надевая свое поношенное траурное платье, приготовляя потом завтрак для Яни и даже разговаривая с ней, Марта была занята только одной мыслью: «Примет он мою работу или нет?» «Любит — не любит», — шептала когда-то прелестная Гретхен, обрывая белые лепестки ромашки. «Годна — не годна?»— думала бедная женщина, растапливая печку двумя поленьями, готовя скудный завтрак, подметая мрачную каморку и прижимая к груди свою бледненькую дочь.
Кто может сказать, какая из этих двух женщин таила в себе более тяжелую драму, кому из них судьба готовила более жестокую участь, какая была несчастнее и, меньше требуя от жизни, подвергалась большей опасности?
Около часу дня Марта опять шла по Краковскому предместью. Чем ближе к лавке, тем она все больше замедляла шаги. Уже подойдя к двери, она отошла в сторону, оперлась о балюстраду, окружавшую один из соседних роскошных особняков, и стояла так некоторое время, опустив голову.
Немного погодя она, наконец, переступила порог, за которым ее ожидали либо радость, либо отчаяние.
На этот раз, кроме владельца, в лавке находился пожилой человек в очках, лысый, с широким одутловатым лицом. Он сидел с книгой в руке в глубине лавки, за большим столом, на котором было разложено несколько десятков книг. Марта не обратила никакого внимания на этого постороннего, даже не заметила его. Вся сила ее чувств сосредоточилась во взгляде, уже с порога прикованном к лицу книгопродавца. Он сидел за конторкой и читал газету. Перед ним лежала знакомая Марте рукопись, и бедную женщину охватила дрожь… Почему рукопись здесь и свернута в трубку, будто ее собираются кому-то отдать? Быть может, он хочет отнести перевод в типографию и поэтому положил его перед собой? Впрочем, возможно, что он еще не прочитал рукопись, был занят… Во всяком случае не затем она лежит здесь, чтобы быть возвращенной той, которая потратила на нее столько ночей, полюбила ее, выпестовала, связала с нею все свои надежды… последние надежды! Нет, этого быть не может! Этого бог не допустит! Такие мысли молнией пробегали в голове Марты.
Она подошла к хозяину, который встал и, оглянувшись на пожилого мужчину, подал ей руку. Марта заметила эту заминку, но приписала ее присутствию постороннего. Тот, казалось, был целиком поглощен чтением. Марта глубоко вздохнула и тихо спросила:
— Вы прочли мою рукопись?
— Прочел, пани.
О господи, как странно звучит его голос! Что это значит? В тоне его слышалось как будто неудовольствие, смягченное жалостью.
— И каково же ваше мнение? — еще тише проговорила женщина, почти не дыша и всматриваясь широко открытыми глазами в лицо книгопродавца. О, если бы зрение обманывало ее! Ведь в выражении его лица сквозило то же смущение и сочувствие, какое она услышала в его голосе!
— Мнение, — начал он медленно, — мнение… неблагоприятное. Мне очень, очень больно, что я вынужден сказать вам это… но ведь я издатель, ответственный перед публикой, и предприниматель, вынужденный соблюдать свои интересы. В вашей работе много достоинств, но… она не годится для печати…
Марта пошевелила губами, но не издала ни звука. Книгопродавец после короткого молчания, во время которого он, видимо, подыскивал слова, продолжал:
— Правда, ваш перевод не лишен достоинств. Могу с уверенностью сказать, что у вас несомненно есть способности, о чем свидетельствует язык перевода — сочный, живой, страстный. Но… по вашей работе видно, что способности эти, простите за откровенность, очень мало развиты. Вам недостает знаний и знакомства с техникой писательского мастерства, Оба языка, с которыми вам пришлось здесь иметь дело, вы знаете недостаточно хорошо, не говоря уже о том, что не знаете научной терминологии. Да и литературный язык, содержащий множество оборотов, не употребляемых в обиходной речи, видимо, очень мало вам знаком. Отсюда частая замена одних слов другими, неточность выражений, неполадки, путаница. Словом, способности у вас есть, но учились вы слишком мало. Писательское мастерство, хотя бы и в области перевода, требует широкого образования, знаний как общего, так и специального характера…
В заключение книгопродавец добавил:
— Вот и вся правда, и я вам ее высказал с великим сожалением. Как ваш знакомый, я огорчен за вас, что вы не сможете работать в этой области; как человек, я сожалею, что вы не развивали своих способностей. У вас они несомненно есть, но вы мало учились…
Он взял со стола сверток и подал его Марте. Но она не протянула руки и даже не шевельнулась; она стояла прямо, неподвижно, как вкопанная, и только странная улыбка кривила побелевшие губы. Эта улыбка была в миллион раз страшнее слез, в ней было отчаяние человека, который уже издевается над самим собой и над всем в мире. Мнение книгопродавца о ее переводе было почти буквальным повторением того, что несколько месяцев тому назад сказал журналист Рудзинский о ее рисунке. Именно это сопоставление и вызвало судорожную улыбку на губах женщины.
— Всегда одно и то же! — пробормотала она. Потом, опустив голову, сказала громче: — Боже мой, боже, боже!
Это был хотя и подавленный, но душераздирающий вопль. Теперь она не только плакала при посторонних, ни даже не могла сдержать стонов. Куда девалась ее гордость, мужество, сдержанность? Эти свойства ее характера отчасти ослабила привычка к бесконечным унижениям, но все же у нее хватило еще мужества поднять голову, сдержать слезы и довольно спокойно посмотреть на книгопродавца. В этом взгляде была мольба. Увы! опять мольба, и, значит, унижение!
— Вы очень добры ко мне, — сказала она, — а если мне не помогла ваша доброта, это уж моя вина…
Она вдруг замолчала. Ее застывший взгляд словно обратился внутрь.
— Моя ли? — спросила она очень тихо.
Этот вопрос она, видимо, задавала себе самой; социальные условия, одной из жертв которых она была, все теснее сжимали ее в своих железных тисках и требовали, чтобы она взглянула им прямо в страшное лицо. Но она быстро стряхнула с себя невольную задумчивость и снова устремила посветлевший взгляд на стоявшего перед нею человека.
— А может быть, я теперь могла бы подучиться? Неужели нет на свете такого места, где я могла бы чему-нибудь научиться? Скажите мне, скажите!
Книгопродавец был и тронут и смущен.
— Я такого места не знаю, — ответил он, с огорчением разводя руками. — Ведь вы женщина.
В это время из смежного отделения магазина вышел один из продавцов и подошел к хозяину с каким-то длинным списком или счетом в руках.
Марта взяла свою рукопись и ушла. Рука, которую она, прощаясь, протянула хозяину, была холодна, как лед, лицо неподвижно, как мраморное, и лишь дрожащие губы все еще горько усмехались, словно повторяя:: «Всегда одно и то же!»
Как только дверь за Мартой закрылась, пожилой лысый мужчина бросил на стол книгу, которую он, казалось, внимательно читал до этой минуты, и разразился громким смехом.
— Чему вы смеетесь? — с удивлением спросил книгопродавец, подняв глаза от поданного ему счета.
— Как же тут не смеяться! — воскликнул мужчина, и глаза его за толстыми и мутными стеклами искрились неподдельным весельем. — Как же не смеяться! Захотелось дамочке стать писательницей! Вот еще, ха, ха, ха! Ну и проучили же вы ее! Право, у меня было желание вскочить и обнять вас за это!
Книгопродавец холодно смотрел на посетителя.
— Поверьте, — возразил он с оттенком неудовольствия, — мне было крайне неприятно, даже тяжело огорчить эту женщину…
— Как! Вы это серьезно говорите? — удивился человек, сидевший за целой кипой книг.
— Совершенно серьезно. Это вдова человека, которого я знал, любил и уважал…
— Бросьте! Готов поручиться, что это какая-то авантюристка! Порядочные женщины не шляются по городу в поисках того, чего не потеряли. Они сидят дома, занимаются хозяйством, воспитывают детей и молятся богу…
— Помилуйте, пан Антоний, у этой женщины нет никакого хозяйства, она очень нуждается…
— Ах, оставьте, пожалуйста, пан Лаурентий! Удивляюсь вашей доверчивости! Это не нужда, а честолюбие! Да, честолюбие! Ей хочется блеснуть, прославиться, занять высокое положение в обществе и получить возможность делать, что ей заблагорассудится, прикрывая свои грешки воображаемым величием и мнимым трудом!
Книгопродавец пожал плечами.
— Ведь вы литератор, пан Антоний, и вам следовало бы лучше разбираться в вопросах женского труда и воспитания женщин…
— Женский вопрос! — вдруг побагровев и сверкая глазами, закричал мужчина, подскочив на стуле. — Да знаете ли вы, что такое этот женский вопрос…
От возбуждения захлебнувшись словами, он умолк на минуту, чтобы перевести дыхание. Затем, уже спокойнее, добавил:
— Впрочем, зачем я буду излагать вам свое мнение на этот счет. Прочтите мои статьи!
— Я прочел их, прочел, но они меня ни в чем не убедили…
— Ну! Если мне вы не верите, — перебил его литератор, — так, может быть, не станете пренебрегать мнением авторитетов… больших авторитетов… Вот недавно доктор Бишоф… Вы, конечно, знаете, кто такой…
— Бишоф, конечно, ученый, — сказал книгопродавец, — но вы искажаете его слова и преувеличиваете их значение. Бишоф не может брать на себя роль судьи, приговаривающего тысячи несчастных женщин…
— Авантюристок! — опять перебил литератор. — Поверьте мне, это авантюристки, честолюбивые, тщеславные, безнравственные! На что нам, скажите на милость, ученые и, как некоторые выражаются, самостоятельные женщины? Красота, нежность, скромность, покорность и набожность — вот достоинства, которые мы требуем от порядочной женщины. Домашнее хозяйство — вот круг ее обязанностей, любовь к мужу — вот единственная полезная для нее добродетель! Прабабушки наши…
В это время в книжную лавку вошло несколько человек, и разговор о прабабушках был прерван. Но какие убедительные доводы почерпнул бы лысый литератор для подкрепления своей теории, как много нового мог бы он сказать и написать о честолюбии и зависти, ведущих женщину к нарушению границ, начертанных для нее природой и великими авторитетами, если бы он имел возможность в это мгновение проникнуть в мысли шедшей по улице Марты!
Выйдя из книжной лавки, она в первую минуту была словно оглушена и ко всему безучастна. Она ни о чем не думала и ничего не ощущала. Первую сознательную мысль, пришедшую ей в голову, можно было бы выразить словами: «Какие они счастливые!» Первым внятно заговорившим в ней чувством была зависть.
Марта шла по улице, на которой высится великолепный дворец Казимира. По просторному двору сновали юноши с оживленными лицами, в красивой форме студентов университета. Одни держали подмышкой толстые книги в простых переплетах или совсем без переплета, потрепанные от долгого употребления, другие заворачивали в бумагу какие-то металлические предметы — вероятно, приборы, которые они несли домой, чтобы производить научные опыты. Некоторое время во дворе слышен был говор, то громкий, то тихий. Молодые люди толковали между собой, оживленно жестикулируя; по временам то в одной, то в другой группе звучал молодой смех или громкие восклицания, в которых чувствовался юношеский задор и увлечение науками. Потом студенты стали расходиться. Они прощались друг с другом и, одни весело, другие задумавшись, третьи — продолжая беседовать, парами и поодиночке выходили на улицу, вливаясь в толпу прохожих, сновавших по широкому тротуару.
Марта шла очень медленно и все смотрела на это большое здание, которое казалось ей храмом и словно обладало таинственной притягательной силой. Веселые студенты с книгами подмышкой казались ей счастливцами, которым судьба дала привилегии, достойные разве полубогов. Бедная женщина глубоко вздохнула.
— Счастливые! Ох, какие счастливые! — шептала она, оглядываясь на великолепное здание, оставшееся позади. — Почему же я там не училась? Почему я сейчас не могу поступить туда?
«Но почему не могу? Почему не имею права? — пришла новая мысль. — Какая разница между мной и этими людьми? Почему они получают то, без чего так трудно жить, а я этого не получила и получить не могу?»
Впервые в жизни в сердце Марты вспыхнуло страстное возмущение, глухой гнев, едкая зависть. Но вместе с тем она испытывала чувство невыразимого, гнетущего бессилия. Ей казалось, что лучше всего было бы упасть лицом на плиты тротуара, под ноги прохожих. «Пусть меня растопчут! — думала она, — большего я не стою, я слабое, неприспособленное, никчемное существо!»
В это время сверток, который она держала, выскользнул из рук молодой женщины и упал к ее ногам. При падении он развернулся; нагнувшись, чтобы поднять его, Марта увидела между страницами рукописи две трехрублевые бумажки.
Это было подаяние сострадательного книгопродавца, который, не приняв ее перевод, хотел, однако, дать ей вещественное доказательство своего сочувствия. Марта выпрямилась, держа рукопись в одной руке, а шелестящие бумажки — в другой. Глаза ее сверкали острым блеском, она вся тряслась от сдерживаемого глухого смеха.
— Да, — промолвила она почти громко, — для них — учение и труд, для меня — милостыня.
Слова эти свистящим шепотом срывались с ее губ, почти таких же белых, как бумага, которую она держала в руках.
«Ну, хорошо, пусть так! Почему не дали мне того, чего от меня сейчас требуют? Почему требуют от меня того, чего мне не дали? Так пусть же дают мне теперь деньги… да, деньги… подачки… а я их буду брать… пусть дают!..»
Быстрым нервным движением она сунула кредитки в карман поношенного платья. Она шаталась. Только сейчас, когда душа ее снова была ввергнута в пучину, страданий, желудок потребовал пищи и напомнил ей, что она голодна, что десятки ночей провела над работой, которая ей ничего не дала. Она не могла идти дальше. Сквозь туман, застилавший ей глаза, она увидела перед собой ступени. Это была паперть Свентокшиского костела. Марта села на ступени, опустила голову на руки и закрыла глаза. Скоро ее застывшие черты смягчились, лед, сковавший ее душу, начал таять, из-под опущенных век по мраморно-белым щекам полились бурные слезы, тяжелыми каплями падая меж худых пальцев и скрываясь в складках траурного платья.
В это время по Краковскому предместью проходило двое людей: женщина и мужчина. Они шли быстрым и легким шагом и вели оживленный разговор. Женщина была молода, красива и нарядно одета, мужчина — так же молод, элегантно одет и очень красив..
— Говорите, что хотите, клянитесь, сколько угодно, а я все равно не поверю, что вы хоть раз в жизни были по-настоящему влюблены!
Молодая женщина смеялась, говоря это. За ее коралловыми губками виднелись два ряда белых и мелких зубов, карие глаза блестели и бросали вокруг быстрые взгляды. Мужчина вздохнул. Это была пародия на вздох, в нем было больше шутливости и веселья, чем даже в смехе женщины.
— Вы не верите мне, прелестная Юлия, но, бог свидетель, я в течение целого дня был не только по-настоящему, но безумно, без памяти влюблен! Представьте себе такую божественную красоту: высока, как тополь, глаза огромные, черные, кожа — чистый алебастр, косы, как вороново крыло, длинные и свои, уж поверьте мне, что не привязные, а свои, я в этом разбираюсь… Печальная, бледная, несчастная… богиня! и это еще не все. Она мне сразу понравилась, однако я сказал своему сердцу: «Молчи», так как знал, что моя сестра не на шутку полюбила эту женщину и решила беречь ее от меня, как от огня… Но, когда она пришла к моей сестре и своим прекрасным, нежным, соловьиным голоском сказала: «Я не могу учить вашу дочь…» Ведь я вам, панна Юлия, уже рассказывал эту историю… Так вот тогда я и влюбился в нее по-настоящему. И потом целый день ходил, как ошалелый, разыскивая по всем улицам мою богиню…
— И не нашли?
— Не нашел.
— Вы не знали, где она живет?
— Не знал. Сестра-то знала, но увы!.. Сколько я ни просил ее дать мне адрес прекрасной вдовы, она мне неизменно отвечала: «Почему ты не идешь в контору, Олесь?»
Женщина прыснула.
— Видно, сестра у вас очень строгая! — воскликнула она.
На этот раз мужчина не рассмеялся и не вздохнул.
— Не будем говорить о моей сестре, панна Юлия, — сказал он решительным тоном. — Послушайте-ка лучше продолжение драмы моей жизни. Ах, какая это была драма!.. Представьте себе, что, встретив в тот день на улице панну Мальвину, я только поклонился ей издали, а мимо ресторана Стемпкося прошел с опущенной головой! Я с печалью в сердце прочел на афише, что идет «Прекрасная Елена», но в театр не пошел. Словом, я впал в такое мрачное отчаяние, что, если бы добряк Болек не повел меня на следующий день в небезызвестную вам квартиру на Крулевской улице, где я увидел прекраснейшую из земных богинь…
— Ох, ох! — со смехом и кокетливым возмущением прервала его женщина. — Только без комплиментов, пожалуйста, без комплиментов!
— Я бы уже давно отыскал ту, которая скрылась с моих глаз…
— И которую вы больше не искали…
— Не искал…
— И забыли…
— Нет, не забыл. Ох, не забыл. Но сердечная рана понемногу затягивалась… Что делать, vivre c'est souffrir…[29]
Сказав это, молодой человек меланхолически закатил глаза и стал негромко насвистывать арию Калхаса из «Прекрасной Елены».
— Ах! — вскрикнул он вдруг, перестав свистеть и остановившись.
Женщина, шедшая рядом с ним, посмотрела на него с удивлением. Взгляд веселого Олеся был устремлен в одну точку, и — о, чудо! — неизменная улыбка сбежала с его лица. Мягкая линия его рта, так же как и все его черты, то и дело менялась, как это бывает у людей впечатлительных под влиянием внезапного волнения.
— Что там такое? — спросила красивая женщина недовольным тоном. — Нет, право, — добавила она кокетливо, — я на вас в обиде, пан Олесь! Я иду рядом, а вы смотрите куда-то в сторону.
— Это она! — шепнул Олесь. — Ну, до чего же хороша!
Молодая и стройная женщина, которую он называл Юлией, искала взглядом предмет, привлекший внимание ее спутника. Вдруг она наклонилась и, взмахнув собольей муфтой, в которой прятала руки, вскрикнула:
— Да ведь это Марта Свицкая!
Они стояли в нескольких шагах от ступеней костела, на которых сидела женщина в трауре, в накинутом на голову черном шерстяном платке.
Марта уже не плакала. Видимо, в потоках беззвучных слез она выплакала и часть тех горьких чувств, бурный наплыв которых обессилил ее и бросил в полуобмороке на эти ступени. Теперь лицо ее было бело, как мрамор, а сухие горящие глаза устремлены в голубое небо… Она сидела неподвижно. Ни разу не дрогнули ни веки поднятых вверх глаз, ни сжатый рот, ни озябшие руки, терявшиеся в складках платья. Издали ее можно было принять за статую, украшающую вход в великолепный храм, символическое изображение души, молящейся и вопрошающей бога.
Марта смотрела в небо, в глазах ее была жаркая мольба и вместе с тем какой-то страстный, почти настойчивый вопрос.
— Как она прекрасна! — тихо повторил веселый Олесь и, наклонившись к своей спутнице, добавил еще тише: — Если бы ее вместе с этой лестницей перенести в театр, на сцену… вот был бы эффект!
— Да, она в самом деле красавица, — так же шепотом ответила дама. — А ведь я ее хорошо знаю!.. Что с ней случилось?.. Почему она сидит здесь? И как одета! Нищенка она, что ли?
Обмениваясь такими словами, молодая пара все ближе подходила к женщине, привлекшей их внимание.
Марта не заметила, что за ней наблюдают. В то время как она, обессиленная, терзаемая бурей чувств, сидела здесь, быть может, многие смотрели на нее, проходя мимо, но она никого не замечала. Душа ее бродила где-то в той выси, куда был обращен ее взгляд. Там искала она ту силу, добрую и могучую, которая может победить преследовавший ее рок. Но вот над головой задумавшейся женщины раздались два голоса:
— Пани! — произнес мужчина, невольно понижая голос то ли от волнения, то ли от чувства глубокого уважения.
Марта не услышала этого голоса.
— Марта! Марта! — окликнул ее другой, женский голос.
Этот голос дошел до нее. Он был ей хорошо знаком. Марте показалось, что в эту минуту ее прошлое зовет ее. Медленно, с трудом оторвала она глаза от высокого неба и остановила их на лице женщины, которая стояла около нее. А та бросила на снег соболью муфту и протянула к Марте маленькие руки в сиреневых, блестящих перчатках.
— Каролина! — пробормотала Марта удивленно, а потом словно светлый луч пробежал по ее лицу и оживил застывшие черты.
— Карольця! — сказала она громче и, встав, схватила протянутые к ней руки.
— Карольця! — повторила она. — Боже мой, неужели это в самом деле ты?
— Ты ли это, Марта? — спрашивала в свою очередь женщина в атласе и соболях, с грустью глядя на бледное, исхудалое лицо, при виде нее засиявшее радостью.
Но грусть, видно, не привыкла долго гостить в глазах Каролины. Женщина в атласе засмеялась и, обратившись к своему спутнику, сказала:
— Вот видите, пан Александр, какие встречи бывают в жизни! Ведь мы с Мартой знаем друг друга с детства!
— Да, с детства! — повторила Марта, теперь только заметив Олеся и приветствуя его кивком головы.
— По ком ты носишь траур? — спросила панна Каролина, быстрым взглядом окидывая жалкую одежду Марты.
— По мужу.
— По мужу! Значит, ты овдовела! Жаль! Интересный был у тебя муж… Где же ты живешь? В деревне или здесь, в Варшаве?
— Здесь.
— Здесь? А почему ты не вернулась к себе в деревню?
— Через несколько месяцев после моей свадьбы отцовское имение было продано с торгов.
— С торгов! Вот как! У тебя, значит, не осталось никакого состояния? Ну, конечно, Ясь любил тебя безумно и, должно быть, тратил на тебя все, что зарабатывал. Что же ты теперь делаешь? Как живешь?
— Я швея.
— Тяжелая работа! — со смехом сказала женщина в атласе. — И я пробовала ею заняться, но у меня ничего не вышло.
— Ты, Каролина? Ты была швеей? — удивилась Марта.
Женщина в атласе снова засмеялась.
— Ну, я же говорю — пробовала, да не вышло! Что поделаешь? Такова воля провидения, и я на него не жалуюсь…
И она снова засмеялась. Этот часто раздававшийся смех, беспечный и кокетливый, казалось, вызывался скорее привычкой, чем искренним весельем. Марта окинула взглядом богатый наряд стоявшей перед ней женщины.
— Ты замужем? — спросила она.
Каролина снова рассмеялась.
— Нет! — воскликнула она. — Нет, нет! Замуж я не вышла, моя дорогая! То есть как тебе сказать?.. Нет, нет, замуж я не вышла…
На этот раз смех был какой-то неприятный, наигранный. Веселый Олесь, не спускавший глаз с Марты, при последнем ее вопросе взглянул на Каролину, погладил ус и усмехнулся.
— Однако что же это я? — воскликнула та. — Своей болтовней я задерживаю вас на холоде. Ведь можно взять извозчика и поехать ко мне. Поедем, Марта, да? Поговорим по душам и расскажем друг другу историю нашей жизни…
Она опять засмеялась и, бросая вокруг себя быстрые взгляды, добавила:
— Ах, эти истории жизни! Какие они бывают забавные! Расскажем их друг другу, не правда ли, Марта? Едем!
Марта колебалась.
— Не могу, — сказала она. — Дочка ждет меня.
— А, у тебя есть ребенок! Ну так что же? Подождет еще немножко.
— Не могу…
— Ну, тогда приходи ко мне через час… хорошо? Я живу на Крулевской улице.
Она назвала номер дома и сжала руку Марты.
— Приходи, приходи! — твердила она. — Я буду ждать… Вспомним былые времена.
Былые времена всегда полны очарования для тех, кому новое не принесло ничего, кроме слез и горя.
Марту приободрила и взволновала встреча с неожиданно найденной подругой юности.
— Хорошо, — сказала она, — через час я приду к тебе, Карольця…
Когда Марта оказала «приду», Олесю неудержимо захотелось высоко подпрыгнуть и закричать: «Ура!» Однако он не сделал ни того, ни другого, только отступил назад и щелкнул пальцами. Черные глаза его горели, как раскаленные угли, и были прикованы к бледному лицу Марты, которое сейчас осветила улыбка. Когда молодая женщина ушла, веселый Олесь обернулся к своей приятельнице:
— Клянусь жизнью, никогда я не видел такого милого, такого привлекательного создания! Как идет к ней даже этот омерзительный платок!.. Я одел бы ее в атлас, в бархат, в золото…
Пани Каролина подняла вдруг голову и посмотрела в разгоряченное лицо молодого человека.
— В самом деле? — спросила она, растягивая слова.
— Да, — ответил Олесь, многозначительно глядя ей в глаза.
Женщина в атласе засмеялась холодным, отрывистым смехом.
* * *
Зимний день близился к концу… В гостиной, окнами выходившей на Крулевскую улицу, в камине за железной решеткой искусной работы пылал уголь, распространяя вокруг приятную теплоту.
У камина стояла кушетка, обитая тёмнокрасным штофом, и низкое кресло-качалка, покрытое цветистым ковром, со скамеечкой для ног, на которой, была вышита шерстью длинноухая охотничья собака.
На кушетке полулежала стройная женщина в черном платье, обшитом внизу траурной белой каймой.
На качалке, вытянув маленькие ножки в изящных туфельках, покачивалась другая женщина — в модном платье из фиолетового атласа, богато отделанном бархатом и бахромой того же цвета, в белоснежном воротничке тончайшего полотна, заколотом большой, оправленной в золото камеей; светлые, слегка припудренные волосы были высоко зачесаны над лбом и длинными локонами спадали на плечи, шею, грудь. Белые ручки, полускрытые манжетами, лежали на атласном платье, и на пальце сверкало большим бриллиантом единственное, но очень дорогое кольцо.
Гостиная, в которой сидели обе женщины, была невелика, красиво убрана. Шелковые портьеры закрывали два больших окна и высокие двери; в большом зеркале отражались расставленные у стен низенькие, мягкие кресла, на камине стояли большие бронзовые часы, а на столах и столиках — хрустальные вазы с цветами, серебряные безделушки, резные бомбоньерки и канделябры. В раскрытую дверь видна была погруженная в полумрак смежная комната с пушистым ковром на полу, с круглым полированным столом посредине, над которым висела большая лампа с абажуром из розового стекла. Тепличные цветы наполняли маленькую квартирку нежным ароматом. Около камина, отгороженного зеленым экраном, стоял стол с фарфоровым сервизом и остатками ужина.
Женщины у камина молчали. Лица их, освещенные розовым отблеском углей, сильно отличались друг от друга.
Марта положила голову на диванную подушку, глаза ее были полузакрыты, руки бессильно лежали на черном платье. Впервые после многих месяцев она сегодня поела вкусно и досыта, впервые сидела в теплой комнате, среди красивых, со вкусом подобранных вещей. Теплота и нежный аромат цветов пьянили ее, как вино. Только теперь она почувствовала, как утомлена, сколько сил отняли у нее холод, голод, тоска, гол пения и борьба.
Полулежа на мягком диване, согретая теплом, ласкавшим ее иззябшее тело, она дышала медленно и глубоко. Глядя на нее, казалось, что в голове ее замерли, все мысли, что она отогнала все назойливые заботы и горести и, зачарованная тишиной, ароматом, прелестью этого рая, в котором она очутилась, отдыхала, прежде чем снова сойти в мрачные глубины ожидавшей ее действительности.
Каролина широко открытыми глазами внимательно и пытливо смотрела на подругу. На ее белых щеках играл свежий румянец, губы напоминали кораллы, а темные живые глаза молодо блестели. И все же Каролина выглядела не очень молодой. Все в ней было молодо и (по крайней мере на вид) безмятежно, кроме лба. На этом лбу опытный наблюдатель сумел бы прочесть длинную и неоконченную еще историю сердца, а может быть, и совести. По сравнению с лицом, молодым, свежим и красивым, лоб казался увядшим, почти старческим. Он был изрезан едва заметными, но частыми поперечными морщинками, и между темными бровями навсегда залегла глубокая складка. Несмотря на свежесть щек и губ, блеск глаз и богатый наряд Каролины, ее лоб мог вызвать у внимательного и вдумчивого физиономиста три чувства: недоверие, любопытство и сострадание.
Несколько минут длилось молчание. Марта первая прервала его. Она подняла голову с подушки и, глядя на подругу, сказала:
— Твой рассказ, Карольця, сильно удивил меня. Кто бы мог подумать, что пани Герминия поступит с тобой так жестоко! Ведь она воспитала тебя и, кажется, она тебе близкая родственница…
Каролина откинулась на спинку кресла и, нажав сильнее маленькой ножкой на вышитую собачку, стала раскачиваться быстрее. С легкой улыбкой на губах, устремив глаза в потолок, она заговорила:
— Близкой родственницей пани Герминия мне не была, но, несмотря на дальнее родство, мы носили одну фамилию. Этого было достаточно для гордой, богатой дамы, и она воспитала меня, сироту, в своем доме и держала меня на положении компаньонки. Она действительно оказала мне большое благодеяние, и, как бы потом ни сложилась мои жизнь, я могу гордиться тем, что воспитывалась вместе с любимыми собачками известной в большом свете пани Герминии!.. Воспитывали меня и собачек одинаково, и образ жизни их мало чем отличался от моего: и я и они спали на мягких подушках, бегали по навощенным паркетам, лакомились отборной едой, и единственная разница между нами была та, что они носили шелковые попонки и золотые ошейники, а я шелковые платья и золотые браслеты, что они остались жить в этом раю, а меня пани Герминия изгнала оттуда, как ангел мести и гордыни…
Тут женщина в фиолетовом платье снова засмеялась своим резким, отрывистым смехом. Этот смех так же не соответствовал ее наружности, как и морщины на увядшем лбу, и также вызывал к ней недоверие или сострадание. Марта, видимо, испытывала последнее.
— Бедная Каролина, — сказала она, — немало ты, должно быть, натерпелась, оказавшись одинокой, без всяких средств к существованию…
— Прибавь к этому, моя дорогая, — с несчастной любовью в сердце! — воскликнула Каролина, все еще глядя в потолок. — Да, — она выпрямилась и перевела взгляд на Марту, — я любила по-настоящему, безумно любила сына пани Герминии, того пана Эдварда (ты его, верно, помнишь), который пел так нежное «О ангел, слетевший на землю!» У него были бирюзовые глаза, и мне казалось, что они смотрят мне прямо и душу… Да, я очень его любила… я имела глупость влюбиться в него.
Все это она говорила шутливым тоном и при последних словах разразилась громким, раскатистым смехом.
— Да, — говорила она сквозь смех, — я была такая дурочка… любила!., о! до чего же я была глупа!..
— А он? — с грустью спросила Марта. — Он любил тебя тоже по-настоящему? Как же он поступил, когда его мать выгнала тебя из дому, обрекла на нищету, одиночество и скитания?..
— Он? — с преувеличенным пафосом отозвалась Каролина. — Он целый год смотрел на меня своими прекрасными бирюзовыми глазами так, словно хотел проникнуть в глубину моей души; пел за фортепиано романсы, от которых у меня таяло сердце, пожимал мне руку во время танцев, потом покрывал мои руки поцелуями и клялся небом и землей, что будет любить меня до гроба. Он посылал мне из одной комнаты в другую пламенные и красноречивые послания. А когда его мать случайно перехватила одно из этих писем и приказала мне идти куда глаза глядят, он поехал, на масленицу в Варшаву и, встретив меня там на улице, голодную, несчастную, чуть ли не в лохмотьях, покраснел, как пион, опустил глаза, прошел мимо, будто не узнав меня, а несколько дней спустя в костеле… перед алтарем поклялся в вечной любви и верности красивой наследнице большого состояния… Вот как он любил меня и как поступил со мной…
Каролина снова засмеялась, но на этот раз как-то очень уж коротко.
— Негодяй! — тихо сказала Марта.
Каролина пожала плечами.
— Ты преувеличиваешь, моя дорогая, — сказала она совершенно равнодушно. — Негодяй? Почему? Не потому ли, что он воспользовался тем правом, которое дано ему и всем ему подобным? Не потому ли, что для забавы он избрал себе бедную девушку, настолько глупую, что она поверила в его любовь? Нет, дорогая, пан Эдвард, конечно, не святой и не герой, но напрасно ты его называешь негодяем. Он делал только то, что вполне дозволено в свете; он пользовался своим правом быть таким, как все молодые, да часто и немолодые мужчины.
Она говорила это совершенно серьезно, без малейшей шутки или насмешки, тоном глубокого убеждения. Потом скрестила руки на груди и, не отрывая взгляда от потолка, стала тихонько напевать песенку из «Десяти дочерей на выданье». Марта посмотрела на нее с изумлением.
Скоро Каролина перестала напевать, переменила позу и, опершись локтями на колени, подперев ладонями щеки, наклонилась к подруге.
— В конце концов, когда судишь о людях, — сказала она все тем же рассудительным тоном, — надо учитывать их привычки, взгляды на жизнь. Если бы, например, цвета белый и черный обладали способностью мыслить и чувствовать, то первый, привыкнув к главенству, которое за ним признали люди, вполне мог бы вообразить, что черный цвет на то и создан, чтобы доставлять ему, белому, всевозможные удовольствия, забавы и развлечения. Главную роль в человеческих отношениях играет разница положений, а между мною и паном Эдвардом разница была огромная…
— Конечно, — с живостью перебила Марта, — он был богатый человек, а ты — бедная девушка, но разве богатство дает право издеваться над теми, кто его не имеет?
— Отчасти дает, — ответила Каролина. — Но не о богатстве и бедности я думала, говоря о разнице между людьми. Если бы я была не бедной женщиной, а бедным мужчиной, пан Эдвард, у которого много хороших черт, никогда не позволил бы себе оскорбить меня и причинить зло. Никакой богатый мужчина, если это благородный человек, не обидит и не оскорбит бедного мужчину; если бы он поступил так, это бросило бы на него тень и его бы строго осудили в обществе. Но я не мужчина, а женщина; а обида, нанесенная женщине, такая, какую мне нанес Эдвард, совсем не то, что обида, нанесенная мужчине. Ca ne tire pas á consequence[30]. Напротив, это создает мужчине лестную репутацию, называется успехом, мужской доблестью, делает молодого человека интересным. «Молодчина Эдвард!», «Ну, и сердцеед!», «Родился в сорочке», «Везет же ему в любви!», «Ему ничего не стоит вскружить голову девушке!» и так далее и так далее. Каждому человеку, дорогая моя, очень приятно, когда его хвалят, а осуждения он боится, как огня. Множество людей не делают подлостей только потому, что боятся осуждения, и делают добрые дела в надежде на похвалу. Пану Эдварду я нравилась, и не удивительно: мне тогда было восемнадцать лет, я была красива… И он, не сдерживая себя, поступал так, как ему было приятно, и в этом тоже не было ничего удивительного: он хорошо знал с детства, что это — его неотъемлемое право, и, если он им не воспользуется, его назовут в те разиней и простофилей, а если воспользуется, то стяжает лавры победителя женских сердец, «интересного» юноши. Он поступил так, как поступил бы на его месте всякий другой, поэтому я не имею к нему никаких претензий, даже наоборот — я благодарна ему… Он толкнул меня в жизнь, благодаря ему я научилась понимать ее законы.
Она протянула руку к столу, взяла с хрустального блюдца засахаренный лепесток розы и, покусывая его белыми зубами, опять сильно нажала маленькой ножкой на вышитую шерстью собачку. Качалка пришла в движение. Глаза Каролины, медленно переходившие с предмета на предмет, в этот миг сверкали, как бриллиант на ее пальце, искрились радужным блеском, как лед на солнце.
А глаза Марты, устремленные на лицо подруги детства и юности, были задумчивы и полны мучительного беспокойства.
— Он толкнул тебя в жизнь, говоришь ты, — медленно сказала она упавшим голосом. — Но разве это благодеяние? Жизнь для бедной женщины так страшна… Он раскрыл перед тобой ее законы? Не те ли законы, которые разверзают между женщинами и мужчинами бездонную пропасть, — а ведь женщина такой же человек! Это ужасные законы! Не бог их создал, их создали люди…
— Да нам-то какое дело? — воскликнула Каролина. — Бог ли их создал, или люди, — они существуют, эти законы, и они говорят мужчине: «Ты будешь учиться, работать, добывать и наслаждаться», а женщине: «Ты будешь игрушкой для развлечения мужчин!» Эти божеские или человеческие законы мы должны знать для того, чтобы не терзаться напрасно, не тратить молодость на попытки поймать неуловимые солнечные лучи; не надо хотеть того, что существует не для нас, иначе, в погоне за добродетелью, любовью, уважением людей и другими прекрасными вещами, умрешь с голоду…
— Да, — едва слышно проговорила Марта, — не умереть с голоду — вот высшее счастье, о котором может мечтать, на какое вправе рассчитывать бедная женщина!
— Ты так думаешь? — протяжно спросила Каролина и, указывая на окружающие предметы тем пальнем, на котором сверкал бриллиант, добавила: — Однако… смотри! Погляди вокруг!..
Марта не посмотрела. Она открыла рот, чтобы задать какой-то вопрос, но не задала. Обе женщины довольно долго молчали. Каролина, покачиваясь в кресле, грызла конфету за конфетой и смотрела в лицо Марте, а та сидела в глубокой задумчивости, опустив глаза и подперев голову рукой.
— А знаешь, Марта, — прервала молчание Каролина, — ведь ты настоящая красавица! Какой рост — ты по меньшей мере на полголовы выше меня! Нужда тебя еще не обезобразила; правда, сейчас розовый отблеск огня делает тебя красивее, потому что румянец на щеках очень хорошо сочетается с твоими черными волосами! А какова бы ты была, если бы вместо этого некрасивого, порыжевшего платья надела что-нибудь яркое, изящно сшитое, если бы вместо гладкого полотняного воротничка украсила шею кружевом, сделала прическу повыше и украсила ее алой розой или золотыми шпильками… Ты была бы просто очаровательна, дорогая, и стоило бы тебе появиться несколько раз в ложе бель-этажа на премьере модной комедии, чтобы вся молодежь Варшавы завопила в один голос: «Кто она? Где живет? Позволит ли она нам сложить к ее ногам дань восхищения?..»
— Каролина! Каролина! — прервала Марта, выпрямляясь и окидывая подругу полным изумления взглядом. — К чему ты говоришь все это? Ты забываешь о том положении, в котором я нахожусь, о моей вдовьей скорби и материнских заботах? К чему мне красота? К чему богатые наряды?
— К чему? К чему? Ого!
Эти восклицания перемежались смехом, таким же отрывистым, как они.
Наступило молчание, на этот раз более продолжительное.
— Марта! Сколько тебе лет?
— Недавно пошел двадцать пятый.
— А мне двадцать четвертый. Значит, я моложе тебя на год, — а насколько опытнее! Насколько я дальше пошла и большего достигла в жизни, чем ты, бедная жертва иллюзий и самообмана!
Они снова помолчали. Наконец Марта с выражением решимости подняла голову.;
— Да, Каролина, я сама вижу, что ты, должно быть, опытнее меня и большего добилась. Ты богата и не беспокоишься, вероятно, о завтрашнем дне; если бы у тебя, как у меня, был ребенок, тебе не пришлось бы оставлять его на попечении чужих людей и смотреть, как он у тебя на глазах слабеет, бледнеет, тает… Я знаю тебя с тех пор, как себя помню; наше детство и юность проходили рядом, и мы любили друг друга… И все же я до сих пор не решаюсь спросить тебя, откуда у тебя это богатство, каким путем удалось тебе вырваться из нужды, из нищеты, о которой ты упоминала в разговоре… Я не решалась спросить тебя об этом, потому что заметила, что тебе неприятны мои расспросы, но, прости меня, Каролина, это нехорошо с твоей стороны!.. Подруге детских игр, которой ты еще не так давно поверяла свои юные мечты, ты должна сказать, как тебе удалось победить рок, который на каждом шагу преследует бедную женщину, и угнетает ее… может быть, это и мне поможет найти дорогу в жизни, прольет какой-то свет…
— Да, прольет, прольет, несомненно прольет яркий свет, который озарит твой путь! — подхватила Каролина. Глаза ее снова стали похожи на льдинки, мерцающие радужным блеском, по губам скользила усмешка, но голос звучал спокойно и уверенно.
Марта продолжала:
— Когда я, совершенно одинокая, начала бороться за существование свое и ребенка, мне сказали, что женщина только тогда сможет выйти победительницей из этой борьбы, если она в совершенстве изучила какую-нибудь специальность или обладает подлинным талантом… А у тебя была какая-нибудь специальность, Каролина?
— Нет, Марта, никакой. Я умела только танцевать, забавлять гостей и красиво одеваться.
— Я никогда не слышала, чтобы у тебя был какой-нибудь талант…
— Никакого таланта у меня не было.
— Так, может быть, у тебя были богатые родственники, которые оставили тебе состояние?
— Богатые родственники у меня были, но они не дали мне ничего.
— Так значит… — начала Марта.
— Так значит, — перебила Каролина и неожиданно встала с качалки, которая со стуком ударилась о паркет. Каролина остановилась перед кушеткой, на которой сидела Марта.
— Я была красива, — сказала она, — и поняла, какой путь для меня единственно возможен…
— Ах! — тихо вскрикнула Марта и сделала такое движение, словно хотела вскочить. Но стоявшая перед ней женщина словно приковала ее к месту своим взглядом. Каролина стояла неподвижно, на ее светлых волосах играли розовые отблески пламени. Подняв брови, она в упор смотрела на Марту, и в глазах ее горел мрачный огонь.
— Ну? — начала она. — Ты испугалась, наивное создание, хочешь бежать?. Хорошо, иди! Ты имеешь полное право поднять с земли ком грязи и швырнуть мне в лицо. Кто может отнять у тебя сегодня это право? Сегодня ты еще его имеешь…
Марта прикрыла глаза ладонью.
— Ты закрываешь глаза, не хочешь на меня смотреть? Ты спрашиваешь себя, действительно ли это я, та невинная, наивная Карольця, которая бегала с тобой по цветущему лугу вашего имения и порхала в вальсе по блестящему паркету в доме пани Герминии? Карольця, которая страстно любила белые розы и запах ландышей, которой в лунном свете грезились бирюзовые глаза пана Эдварда? Да, это я, та самая… И, если мой вид тебе очень неприятен, можешь не смотреть на меня… Выслушай только…
Она села на кушетку рядом с Мартой.
— Выслушай меня, — повторила она. — Спрашивала ли ты себя и отдавала ли себе когда-нибудь ясный отчет в том, что такое женщина? Вероятно, нет. Так вот я тебе скажу. Не знаю, как там обстоит дело с божескими законами, о которых ты только что говорила… но по законам и обычаям нашего общества женщина — не человек, женщина — вещь. Не отворачивайся от меня! Это правда!.. Во всяком случае доля правды в этом есть. Посмотри на мужчин. Каждый из них сам себе хозяин, и к нему не нужно приписывать какую-нибудь цифру для того, чтобы он перестал быть нулем. А женщина — нуль, если с ней рядом не стоит мужчина. Женщине нужна блестящая оправа для того, чтобы она, как искусно отшлифованный алмаз в ювелирной лавке, привлекала возможно большее число покупателей. Если же она не найдет для себя покупателя или, найдя, потеряет его, то покроется ржавчиной вечной скорби, беспросветной нужды, снова станет нулем. Она похудеет от голода, будет дрожать от холода, ее одежда превратится в лохмотья, а все попытки вырваться из нужды окажутся напрасными. Вспомни всех старых дев, брошенных или овдовевших женщин, которых ты знала, посмотри на работниц в мастерской Швейц, посмотри на самое себя… какова ваша роль в жизни? На что вы можете надеяться? Какие у вас возможности выбраться из трясины и идти туда, куда стремятся люди? Вы, как растения, выращенные в теплицах, не в силах бороться с ветрами и бурями. И так должно быть во веки, раз пророки и мудрецы назвали женщину «прекраснейшим цветком природы». Да, женщина — цветок, женщина — нуль, женщина — вещь, лишенная всякой самостоятельности. Нет для нее ни счастья, ни хлеба без мужчины. Женщина должна обязательно прилепиться, как-нибудь уцепиться за мужчину, если она хочет жить. В противном случае она попадает в швейную мастерскую Швейц и медленно умирает. А что ей делать, если ее томит страстная жажда жизни? Догадайся! Ну что, догадалась? Отлично! Закрой глаза обеими руками, чтобы тебе даже краешка моего платья не было видно, но слушай дальше…
Я была молода, красива, привыкла к роскоши, к праздной жизни. Когда богатые родственники выгнали меня, все мое имущество составляли несколько платьев, золотой браслет, оставленный мне матерью, да то колечко с голубой эмалью, которое ты, Марта, мне подарила в день твоей свадьбы. Я продала браслет и кольцо, рассчитывая, что вырученных денег мне хватит на то время, пока я подыщу работу. Вообразив себя человеком, я сделала глупую ошибку, из-за которой несколько месяцев терпела адские муки. Мне, вероятно, пришлось бы страдать еще дольше, если бы, к счастью, я не встретила на улице пана Эдварда. Я еще любила его. Когда же он прошел мимо меня, не поздоровавшись, мне стало ясно, что я — вещь, которую можно взять и бросить, когда вздумается. Можно ли поступить с человеком так, как поступил со мной тот, о ком я думала постоянно, чье лицо вызывала в памяти в дни голода и страданий? С той минуты, как я потеряла веру в свое человеческое достоинство, кончились мои мучения. Ты слышала, может быть, о молодом пане Виталисе, у которого старая жена, богатое имение под Варшавой и прекрасный дом в самой Варшаве? Он часто заходил в лавчонку на Птасьей улице, где я помогала хозяйке продавать свечи и мыло, за что она разрешала мне спать на сеннике в углу детской и давала тарелку супа и стакан молока в день. Конечно, за мой труд следовало бы получать гораздо больше, но эта добрая женщина эксплуатировала работницу, которую подобрала на мостовой в лохмотьях, усталую, голодную. Через два дня после той встречи с паном Эдвардом, после двух ночей, о которых мне слишком тяжело рассказывать, я перестала продавать свечи и мыло… Я сказала пану Виталису: «Да!», покинула лавку и каморку, в которой орали и дрались пятеро грязных ребятишек. И поселилась здесь…
Марта словно окаменела. Из-под руки, которой она закрывала глаза, видно было ее лицо, бледное и словно застывшее. Она едва заметно вздрогнула, когда у самого ее уха раздался короткий, резкий смешок, напоминавший трещотку ночного сторожа.
— Не знаю, право, с чего это я вдруг перешла на такой трагический тон! — сказала Каролина. — Это твое траурное платье, Марта, омрачило мою гостиную. Я не люблю мрака, люблю яркий свет, люблю смотреть и театре комедии, чтобы можно было посмеяться, а дома грызу конфеты… Поверь мне, так лучше…
Она ближе придвинулась к вдове и взяла ее за руку.
— Слушай, Марта, — заговорила она, наклонясь почти к самому уху подруги, — я когда-то любила тебя, и теперь мне тебя очень жаль… Колечко твое кормило меня несколько недель, теперь моя очередь помочь тебе советом и делом… Будет рассуждать, перейдем от теории к практике. Рядом с моей квартирой сдаются три комнаты, почти такие же, как эти… Хочешь? Завтра будем соседками. Ты перевезешь сюда свою дочку, ей будет здесь тепло и удобно… Послезавтра ты снимешь это гадкое траурное платье…
Марта отняла руку от глаз.
— Каролина, — сказала она, вставая, — довольно! Ни слова более!..
— Как? Ты не хочешь? — воскликнула Каролина.
Марта с минуту молчала. Лицо ее выражало мучительную боль и пылало багровым румянцем, голос дрожал и обрывался, когда она заговорила:
— Еще совсем недавно, если бы кто-нибудь осмелился говорить со мной так, как ты, Каролина, я была бы смертельно оскорблена. И даже взбешена… А теперь я не испытываю ничего, кроме горя и стыда. Должно быть, я и вправду уже утратила человеческое достоинство, если, ни в чем не провинившись, не сделав ничего дурного, стремясь только к честному труду, я могла выслушать то, что выслушала… О! Как же низко я пала!.. И за что? За какую вину?
Она с минуту стояла, мрачно глядя в пространство. Потом несколько мягче промолвила:
— Я не буду презирать тебя, Каролина, не брошу в тебя, как ты говоришь, ком грязи. Боже мой! Ведь я же знаю, как горька жизнь бедной женщины… Я веду такую жизнь вот уже несколько месяцев… и сегодня я отведала самого горького, что есть в ней. Я не презираю тебя, но идти по твоим стопам не могу… нет, никогда… никогда…
Она снова умолкла и посветлевшим взглядом засмотрелась куда-то вдаль, где воображение рисовало ей картину прошлого.
Это было воспоминание не о былом веселье и счастье. Марта видела своего мужа — единственного человека, которого любила, — на смертном одре.
Лицо, тронутое рукой смерти, застывало, дыхание слабело, но взгляд, в котором тлели еще последние искорки жизни, не отрывался от ее лица и пальцы, сведенные предсмертной судорогой, сжимали ее руку. «Бедная моя Марта, как ты будешь жить без меня!» С этими словами он покинул ее навеки.
— Как я его любила! И как люблю еще теперь! — шепнула вдова; руки ее повисли вдоль платья, грудь подымалась от тяжелых вздохов. — Нет, Каролина! Ни за что, нет! — воскликнула она, повернув к подруге бледное лицо, отражавшее внутреннее волнение. — Я была счастливее тебя. Для человека, которого я любила, я не была вещью. Он женился на мне, любил, уважал. Даже умирая, он думал обо мне и о моем будущем. Я все еще люблю его, хотя его уже нет в живых, уважаю его имя, которое ношу. Любовь к нему и память о нем — для меня алтари, перед которыми всегда горит лампада, полная слез моего сердца и озаряющая мой печальный путь…
— Этот путь скоро приведет тебя в Елисейские поля, где ангелы соединят тебя с твоим покойным мужем! — сказала Каролина, сердито усмехаясь.
Марта стояла в нескольких шагах от нее и уже надевала на голову свой черный шерстяной платок.
— Прощай, бедная Каролина, прощай! — воскликнула она сдавленным голосом и выбежала в соседнюю комнату, где над круглым столом красного, дерева уже горела розовая лампа. Марта была уже у дверей, когда почувствовала прикосновение руки, удерживающей ее. Подле нее стояла Каролина. Взгляд ее был угрюм, на губах дрожал смех, на увядшем лбу резко обозначились мелкие морщинки.
— Послушай, Марта, — сказала она, — это, право, смешно! Ты такая экзальтированная, такая наивная! Ты просто большой ребенок. Все-таки мне тебя жаль, не знаю даже почему. В сущности какое мне дело до того, что с тобою будет? Для меня даже лучше, если ты не будешь моей соседкой: ты слишком хороша собой… Но… но колечко твое кормило меня несколько недель… и, какова бы я ни была, неблагодарной я оказаться не хочу.
Одной рукой она удерживала Марту за плечо, другой указала на окно.
— Подумай! — говорила она. — Там так холодно, и среди этой толпы ты так одинока. Толпа тебя затопчет, пустота поглотит… Вернись…
— Нет, пусти меня! — порывисто шепнула Марта. — Я тебя не осуждаю, но говорить с тобой не могу… Я пришла сюда в надежде найти дружбу и минуту отдыха, а испытала только новое страдание и величайший стыд… пусти меня!
— Еще одно ты должна выслушать… Тот молодой человек, который шел сегодня со мной, безумно влюблен в тебя… он отдаст все, что имеет…
— Пусти! — уже громко простонала Марта и с судорожной силой вырвалась из рук Каролины. Она бросилась к двери.
Она была уже на ярко освещенной лестнице, когда услышала позади шуршание атласа.
— Вернись! — кричал голос сверху. — Ты станешь нищенкой!
Женщина в трауре, не отвечая, бежала вниз по лестнице.
— Ты будешь воровать! — раздалось ей вдогонку.
Женщина не повернула головы и продолжала спускаться.
— Ты умрешь с голоду вместе с твоим ребенком!
При последних словах женщина остановилась, обернулась, подняла кверху смертельно побледневшее лицо и устремила мрачный взгляд на фигуру Каролины, залитую ярким светом газового рожка; фиолетовое платье Каролины отливало серебром, на крупной камее играли голубоватые отблески, золотые серьги качались среди густых локонов, которые развевал ветер, врываясь в открытую внизу дверь. Каролина стояла, наклонившись вперед, провожая Марту сверкающим взглядом своих холодных глаз. Одно мгновение Марта смотрела на нее сухим, горящим, испуганным и мрачным взглядом, потом стремительно отвернулась, бросилась бежать и через мгновение исчезла в полумраке улицы.
Через несколько минут в ту же дверь, за которой скрылась Марта, вбежал веселый Олесь. В несколько прыжков он поднялся по лестнице и очутился в квартире Каролины.
— Ну что? — спросил он, стоя в дверях гостиной со шляпой в руке. — Ушла? Кажется, я видел ее на той стороне улицы. Когда же она опять придет?
Он задавал эти вопросы торопливо, отрывисто; в черных, блестящих глазах светилось нетерпение безвольного и безрассудного человека, поддающегося первому впечатлению.
— Она не придет больше, — ответила Каролина, сидевшая у камина на том же месте, на котором за несколько минут перед тем сидела Марта. Руки ее были скрещены на груди, взгляд устремлен на тлеющие угли. Она не взглянула на вошедшего молодого человека, а на его нетерпеливые вопросы отвечала коротко, тоном более чем равнодушным, даже с неудовольствием.
— Не придет? — воскликнул Олесь, входя в комнату и бросая шляпу на кресло. — Как, не вернется? Ведь вы с ней подруги детства?
Каролина молчала. Молодой человек проявлял все большее нетерпение.
— Что же она сказала? — настаивал он.
— Сказала, — не спеша ответила женщина, не меняя ни позы, ни направления взгляда, — сказала, что до сих пор еще любит своего мужа…
Олесь широко раскрыл глаза.
— Мужа? — проговорил он, словно не веря своим ушам. — Умершего мужа?
Он откинул голову и громко захохотал.
— Мужа! — повторил он. — И что ей нужно от бедняги? Ведь его уже нет на свете! О, верное сердце!.. Безутешная вдова! Как это трогательно!
Он все еще смеялся, но в смехе его звучали теперь фальшивые нотки, что-то вроде досады и раздражения.
— Ей-богу! — начал он снова, широкими шагами ходя по гостиной. — Это необыкновенная женщина! любить мертвеца, который вот уже несколько месяцев в могиле? Какие высокие чувства! А что же это было бы, если бы она полюбила кого-нибудь живого! Ох, как бы я хотел быть этим счастливцем!
— Вполне возможно, что вы могли бы стать им, — заметила сидевшая у камина женщина, не повернув головы и не шевельнувшись. Олесь подбежал к ней. Яркий румянец окрасил его щеки.
— Правда? — воскликнул он. — Значит, она не совсем лишила меня надежды! О прекрасная, очаровательная, золотая, бриллиантовая пани Карольця, смилуйтесь надо мною! Я действительно безумно влюблен! Я мог бы быть этим счастливцем, если бы я… Подскажите же, умоляю, заклинаю вас!
Каролина впервые взглянула на него. В глубине ее глаз, в приподнятых бровях, в подвижных уголках губ таилось непередаваемое выражение насмешки.
— Если бы вы, — она говорила с расстановкой, — если бы вы добивались ее руки и хотели на ней жениться.
Эти слова произвели на Олеся ошеломляющее впечатление. Некоторое время он стоял неподвижно, словно остолбенев, с полуоткрытым ртом, во все глаза глядя на внимательно смотревшую на него женщину.
— Жениться! — повторил он сдавленным голосом. Губы его дрогнули, как будто он хотел засмеяться; но он не засмеялся, а только махнул рукой, пожал плечами и, бросив полусердито, полуравнодушно: «Вы шутите!», отошел от камина. Женщина следила за ним холодным и насмешливым взглядом. Выражение лукавства, иронии и презрения с быстротой молнии сменялись на ее лице. Веселый Олесь снова остановился перед ней.
— Вы жестоки, пани Каролина! — воскликнул он. — Вы говорите мне о женитьбе! Можно ли представить себе что-либо более нелепое? Связать свою жизнь с женщиной, которой я почти не знаю, с вдовой, которая все еще любит своего покойного мужа! Стать вдруг отцом чужого ребенка, надеть на себя ярмо, закрыть перед собой все пути, взять на себя такую ответственность, столько забот? Вот идеал, поистине достойный обывателя, мечтающего о вкусной домашней кухне и дюжине толстощеких ребятишек! Я полагаю, что вы сказали это не всерьез: я знаю, что вы любите шутить!! — это одна из ваших главных прелестей.
Каролина пожала плечами.
— Конечно, я пошутила, — ответила она и снова стала смотреть на раскаленные угли.
Веселый Олесь проявлял все большее возбуждение.
— В каком вы сегодня мрачном настроении! — сетовал он. — Неужели я ничего больше не узнаю?
— Вы мне смертельно надоели! — отрезала женщина.
— Где она живет? — настаивал молодой человек.
— Не знаю, я забыла спросить ее.
— Вот так история! Что же я теперь буду делать? Мне придется искать ее, но город — как лес, и пока я отыщу ее, я успею снова ее забыть…
Он сказал это сердито и с обидой в голосе. Он опасался, как бы непостоянство и множество ежедневных впечатлений не отвлекли его от той, которой он был теперь так страстно увлечен. Вдруг он щелкнул пальцами, издал радостный возглас и снова подбежал к камину.
— Эврика! Ведь она шьет? Где? В какой мастерской? Прекрасная, восхитительная, золотая моя пани Карольця, скажите!
Каролина встала и громко зевнула.
— Да там… на улице Фрета, в мастерской Швейц, — сказала она с выражением безмерной скуки. — А теперь уходите, мне надо одеваться, я еду в театр…
Олесь очень обрадовался.
— У Швейц! Знаю! Знаю! Я у нее бывал! У нее одна дочь — та, которая кроит, — страшилище, но другая, молоденькая, жена пивовара, и внучка, панна Элеонора, дочь ее покойного сына, право недурны. Так, значит, там находится моя богиня! О, завтра… завтра… бегу, мчусь, лечу!
Олесь схватил шляпу и остановился уже на пороге.
— До свидания! — воскликнул он, закрывая за собой дверь.
Но он еще раз вернулся с дороги.
— Пани Карольця, вы сказали, что собираетесь в театр, а что сегодня идет?
Женщина стояла у дверей спальни с зажженной спетой руке.
«Флик и Флок»! — ответила она.
«Флик и Флок»! — воскликнул вечный весельчак. — Я непременно пойду тоже, хочу увидеть Лауру в египетском танце! Только успею ли? Мне еще надо зайти к Больку! До свидания! до свидания! Бегу, мчусь, лечу!
* * *
Во всех больших городах, а в Варшаве в особенности, есть известное число мужчин различного возраста, пользующихся прочно установленной и громкой славой покорителей женских сердец и губителей женской чести.
Эти люди, с того возраста, когда мать-природа покроет их верхнюю губу первым пушком, и до тех пор (а иногда и дольше), когда она же украсит их головы белым инеем седины, наслаждаются женскими прелестями — платонически в тех случаях, когда иначе нельзя, и не платонически всюду, где это им удается. Они считают это чем-то вроде своей специальности и ежедневно практикуются в ней. Обычно такие мужчины очень приятны, жизнерадостны, остроумны, веселы, услужливы, их любит общество, их обожают в кругу приятелей. Они нередко обладают не только чувствительным, но и добрым сердцем; сознательно, умышленно, обдуманно они никому не хотят причинить зло, а если все-таки часто это делают, то снисходительный человек, способный их понять, не может, если он справедлив, сказать о них ничего, кроме евангельского:; «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят!» Впрочем, и сами они и все их дела настолько ничтожны, что роль этих людей в общественной жизни крайне незначительна. Они — мелкие пешки на огромной шахматной доске человечества, они — мошкара, легко порхающая там, где другие с трудом прокладывают себе путь. Может быть, не стоило бы и говорить об этих веселых гурманах и даже с усмешкой припоминать вопль нашего знаменитого поэта о «ничтожных пушинках»[31], если бы эти «ничтожные пушинки», вечно суетящиеся в жизни пешки, эта якобы безобидная, вечно веселящаяся мошкара не представляла собой смертельной опасности для некоторой категории людей: бедных женщин. Речь здесь идет даже не о разбитых сердцах, ибо сердце как под шелковой, так и под шерстяной и ситцевой кофточкой так называемого прекрасного пола легко уязвимо и беззащитно, — его легко может ранить и быстро завоевать всякий, что нередко ведет к отчаянию, слезам и стонам; женщины рвут на себе волосы и скрежещут зубами в гостиных так же, как на чердаках. А вот репутацию женщин эти милые проказники губят не в гостиных, а на чердаках и в подвалах, в швейных и других мастерских. Иные из этих молодцов без особых усилий и даже без умысла одними лишь своим приближением к женщине губят ее доброе имя, так как их появления вполне достаточно, чтобы навести людей на подозрения. Таковы благодетельные плоды их прочно установившейся и громкой славы соблазнителей. Плоды, поистине благодетельные для них, ибо свет считает это доказательством мужской силы, богатой впечатлениями жизни, влияния этих людей на окружающих, считает это молодечеством. Но не так благодетельны таланты их для тех женщин, которых они удостаивают внимания…
Вот перл творения, покоритель сердец идет по улице большого города, размахивая тросточкой, как жезлом. На голове — элегантная шляпа, на руках — перчатки с двойным швом, блестящая золотая цепочка вьется на темном фоне пиджака, сшитого руками великого портного Шабу. Какой шик! Напевая вполголоса песенку из «Прекрасной Елены», он бросает вокруг быстрые взгляды. Часто прикладывает руку к шляпе, со всеми раскланивается, все кланяются ему, он всех знает, все знают его. Какое почетное положение в обществе! Вдруг он обрывает песенку, вытягивает шею и делает стойку, как лягавая, выследившая дичь, напрягает зрение, улыбается… На углу мелькнула хорошенькая мордочка, белое личико с черными глазами… Вперед! Вперед, в погоню! Внимание! Дичь уже близко! Надо ее поскорее догнать, не то ускользнет!
Он заходит сбоку, почтительно (какая ирония!) снимает шляпу, кланяется и, подражая интонациям актера, исполнявшего вчера роль Париса в оперетте, спрашивает:
— Разрешите вас проводить?
Разрешает? Тогда он идет с ней. Не разрешает? Все равно идет. Разве он не властелин мира? Дорогой он встречает знакомых (их у него столько, сколько капель воды в море) и лукаво подмигивает, указывая глазами на свою спутницу. Иногда сердце начинает сильнее биться у него в груди. Что это? Первая вспышка однодневной, мимолетной любви или, быть может, упоение своим успехом? Чаще всего — то и другое вместе. Всякий раз, как он видит красивое или хотя бы привлекательное женское личико, он клянется всем и прежде всего самому себе, что он безумно, смертельно влюблен. И сам искренно верит в это. Сердце его — вулкан, извергающийся по нескольку раз в день. При этом он отлично знает, что глаза людей с интересом следят за новым эпизодом великой эпопеи его жизни. Они до того привыкли считать его непобедимым, что уже с первой страницы романа угадывают победу на последней!
Подошел — следовательно, очаровал; взглянул — значит, победил. Ни он сам, ни другие не допускают, что может быть иначе. Слава ловкого малого растет; добрая слава бедной женщины гибнет. В лавровом венке, украшающем его голову, вырастает новый листок, а на ее печальном челе появляется пятно… Таков был и веселый Олесь, один из многих. Уже одно его приближение компрометировало женщину, разговор с ним обрекал ее на бесчестие.
У Швейц было три дочери и несколько молоденьких внучек, поэтому Олесь бывал у нее в доме, и даже, как она сама говорила, одна из ее дочерей, та самая, которая вместе с матерью занималась кройкой, по его милости осталась в девицах. Девушка эта, правда, была некрасива, но обладала стройной фигуркой и острым язычком, чем и привлекла когда-то внимание властелина мира. Так что не удивительно, что Швейц, увидев однажды утром, что одна из ее мастериц идет по двору в сопровождении непобедимого Олеся, поправила очки и прильнула лицом к стеклу. Бледные девушки в поношенных платьях, с полинявшими бантами в волосах, тоже поглядывали в окно, обмениваясь многозначительными взглядами и улыбками. Заметив это, дочь Швейц, стоявшая у круглого стола, встала на цыпочки и посмотрела в окно. Со своего места она могла видеть лишь усики и бородку Олеся, но этого было достаточно, чтобы на нее нахлынули воспоминания и она почувствовала волнение. Она еще больше вытянула шею и увидела черный платок на голове его спутницы.
— Мама! С кем это из наших работниц идет пан Александр?
Швейц отошла от окна.
— Со Свицкой, — проговорила она, подходя к столу. На лбу почтенной матроны собрались грозные тучи: фамилия Марты так и зашипела на ее губах.
Работницы помоложе украдкой переглядывались: выражение лица и голос хозяйки не сулили ничего хорошего.
Одна из них тихо сказала:;
— Будет нагоняй!
— А может, она даже ее уволит! — заметила другая еще тише.
— Ну вот! — шепнула третья совсем тихо. — Я думаю, теперь это Марту не испугает.
В это время в мастерскую вошла Марта. Выражение ее лица могло бы привлечь все взгляды, если бы они и без того не были устремлены на нее. Глаза, словно угасшие, обведены были темными кругами, на впалых щеках кроваво-красными пятнами горел румянец, между бровями пролегла глубокая складка. Входя, она подняла набухшие веки, и взгляд ее встретился с множеством устремленных на нее глаз. Она не выразила ни удивления, ни какого-либо иного чувства. Сняв платок с головы, она взяла полотно, приготовленное для нее на табурете, и молча принялась за дело. Руки ее дрожали, как в лихорадке, когда она развертывала полотно и вдевала нитку в иголку. Низко наклонив голову, с растрепавшимися косами, она углубилась в работу. Ее дрожащая, красная от холода рука быстро поднималась и опускалась, словно в такт с лихорадочно скачущей мыслью. Она дышала тяжело и часто, несколько раз открывала рот, чтобы глотнуть воздуха, которого ей, казалось, не хватало. За круглым столом две пары ножниц позвякивали как-то особенно резко.
Швейц бросала из-за очков косые взгляды на Марту. Уголки ее оттопыренных губ опустились книзу, что означало дурное расположение духа. Она перестала кроить и, не выпуская ножниц из морщинистых рук, своим тягучим голосом негромко проговорила:
— Пани Свицкая, вы вчера не были в мастерской.
Услышав свою фамилию, Марта подняла голову.
— Вы мне что-то сказали?
— Пани Свицкая, вы не были вчера в мастерской!
— Да, у меня были дела в городе, и я не могла прийти.
— Неаккуратное посещение мастерской приносит ущерб делу.
Марта низко склонила голову. Она шила и молчала.
Теперь за круглым столом лязгала и скрипела только одна пара ножниц, но все резче и резче: возмущение девицы, не вышедшей замуж по милости непобедимого Олеся, все возрастало.
Ее мать стояла, повернувшись лицом к мастерицам, ножницы были неподвижны в ее смуглой руке.
— Я вас вчера видела, пани Свицкая. Вы стояли у ступеней костела с двумя людьми.
Марта все еще не отвечала. Что она могла сказать?
— И я знаю мужчину и даму, с которыми вы, пани Свицкая, разговаривали вчера на улице. Эта женщина несколько лет тому назад работала в нашей мастерской. Однако недолго, очень недолго, потому что я сразу заметила, что поведение этой особы может подать дурной пример другим. Пани Свицкая, вы хорошо знаете эту женщину? Ее общество может быть очень опасно.
— Не для меня, — отозвалась, наконец, Марта.
Она не подняла головы от работы, но в ее дрожащем голосе прозвучало глухое, едва сдерживаемое возмущение.
— Ах! — Швейц протяжно вздохнула. — Нельзя быть такой самоуверенной! Гордость — мать всех пороков. Лучше избегать, гораздо лучше избегать таких опасных друзей… А пан Александр Лонцкий тоже ваш близкий знакомый, пани Свицкая?
Ножницы перестали звенеть. Некрасивая девица, привлекшая когда-то внимание покорителя мира, подняла голову.
— Мама, он, должно быть, ее близкий знакомый, если пани Свицкая с ним ежедневно гуляет.
Можно было подумать, что эти слова, как змеи, обвились вокруг Марты, вонзили свои жала в каждую клеточку ее тела, — так стремительно она выпрямилась, подняла голову и впилась широко раскрытыми глазами в лицо девицы Швейц.
— Что это значит? — сказала она глухим шепотом, обводя всех взглядом.
Мастерицы, даже те, которые обычно сидели неподвижно, ко всему равнодушные, теперь подняли головы и смотрели на нее. Их лица выражали различные чувства: жалость, любопытство, насмешку. Марта на минуту словно окаменела. Алые пятна на ее щеках стали расплываться и залили лоб и шею.
— Не надо сердиться, пани Свицкая, не надо сердиться! — начала Швейц. — Уже более двадцати лет и содержу мастерскую, в которой работает всегда двадцать девушек и больше, так что опыт у меня немалый. Притом я знаю свои обязанности по отношению к душам, которые провидение отдало под мою опеку; я не могу оставаться равнодушной, когда одна из них добровольно подвергает себя опасности. К тому же у меня есть дочери и молоденькие внучки. Что подумали бы и них люди, если бы в нашей мастерской, упаси боже, были испорченные девушки! Наконец, на наш двор выходят окна квартиры одной состоятельной и богобоязной дамы, покровительницы нашей и подлинной благодетельницы. Что бы подумала эта святая женщина, увидев под ее и моими окнами одну из моих работниц с молодым светским кавалером! А быть может, она уже и видела! Не знаю, что и ответить нашей покровительнице, если она меня спросит об этом. Ответить ей, что я уволила эту работницу? Но, может быть, это будет не по-христиански?
— Скажите ей, что работница, которая имела несчастье встретить во дворе этого молодого светского кавалера, ушла отсюда сама, добровольно.
Слова эти, сказанные громко и внятно, были слышны во всех углах комнаты. Марта встала с места и, высоко подняв голову, смотрела прямо в лицо Швейц. Ее губы дрожали.
— Я очень бедна, — продолжала Марта, — но я честная женщина, и вы не имели никакого права так говорить со мной. Не провидение отдало меня под вашу опеку и привело сюда, а моя беспомощность. Я пришла сюда, потому что для работы в другом месте у меня не хватало умения: вы это очень хорошо знаете, и вы использовали мое положение с большой выгодой для себя. Мой труд стоит в несколько раз больше того, что, вы мне платите… Но не об этом я хочу говорить. Я добровольно согласилась на ваши условия. Терпеть нужду я вынуждена, но выслушивать оскорбления… нет, этого я, несмотря ни на что, еще не могу! Прощайте!
Сказав это, Марта накинула платок на голову и направилась к двери. Работницы смотрели ей вслед, молодые — с симпатией и даже восхищением, пожилые — с жалостью и крайним изумлением.
Все, что пережила Марта со вчерашнего дня: разочарование, испытанное у книгопродавца, горькое чувство зависти, впервые овладевшее ею при виде Казимировского дворца и студентов, полных надежд на будущее, свидание на Крулевской улице, оскорбительное предложение, сделанное ей там, бессонная ночь, которую она провела в слезах, воспоминания о пережитом унижении и, кроме всего этого, встреча с человеком, который (она знала это) преследовал ее с оскорбительными для нее намерениями, — все это привело ее в состояние лихорадочного напряжения, которое не могло долго продолжаться и при малейшем толчке неминуемо должно было перейти в страшную бурю. Таким толчком были слова Швейц и ее дочери. Натянутая до предела струна лопнула в груди Марты — и не с жалобным стоном, а с воплем возмущения. Хорошо ли она сделала, что, поддавшись неудержимому взрыву женской гордости и человеческого достоинства, бросила к ногам оскорбившей ее женщины последний кусок хлеба? Она не думала об этом, когда бежала через длинный двор к воротам на улицу.
Но, подойдя к воротам, она отшатнулась, словно увидела какой-то омерзительный призрак, и на лице ее появилось выражение смертельной обиды. У ворот еще стоял Олесь, разговаривая вполголоса с каким-то молодым человеком. Марта бросилась в сторону. Она надеялась незаметно проскользнуть вдоль стены, но может ли быстрая серна укрыться от глаз опытного охотника?
— Пани! — повернувшись к ней, воскликнул Олесь. — Какой сюрприз! Я не предполагал, что вы так рано выйдете сегодня из этой ямы, ставшей для меня, — тут он понизил голос, — с некоторых пор раем, куда меня влечет моя мечта!
Мужчина, разговаривавший с Олесем, вышел на улицу и, бросив беглый взгляд на женщину, к которой обратился его собеседник, стал напевать веселую арию из «Флика и Флока», чтобы скрыть двусмысленную улыбку. Марта стояла у стены, выпрямившись, бледная, глаза ее метали молнии. Веселый Олесь подошел к ней, улыбаясь и томно глядя на нее.
— Что вам от меня нужно? — воскликнула Марта.
— Пани! — перебил ее покоритель сердец. — Четверть часа назад вы сурово оттолкнули меня, однако я не теряю надежды, что мое постоянство…
— Что вам от меня нужно? — повторила женщина, когда к ней вернулся голос. — Да, — продолжала ома, — я ушла из этой ямы и потеряла единственную возможность заработать кусок хлеба для меня и моего ребенка. А ушла я из-за вас. По какому праву вы, господа, встаете на нашем пути, который и без того очень тяжел? Будь у вас хоть немного совести и жалости, вы не стали бы преследовать женщину, которая и так не знает, как ей прожить на свете. Вам-то ничего не грозит. Вас за это только похвалят, нас — будут чернить. Мм лишаемся честного имени, а нередко и последнего куска хлеба, вы — отлично позабавитесь…
Она говорила быстро, почти без передышки, с едкой насмешкой в голосе и во взгляде.
— Позабавитесь, — повторила она, горько усмехаясь, — но позвольте женщине, которую вы решили сделать предметом своей забавы, напомнить вам известную поговорку: «Кошке игрушки, мышке слезки».
Сказав это, она прошла мимо остолбеневшего от изумления Олеся и скрылась за воротами.
Оставшись один, он опустил голову, потрогал ус, растерянно уставился в землю и простоял так довольно долго.
Лицо его выражало стыд и сожаление. Он был пристыжен своей неудачей и сожалел, что от него ускользнула эта соблазнительная и недоступная женщина (недоступность делала ее только желаннее). Возможно также, что вид этой женщины с горящими глазами и нахмуренным лбом, с губами, дрожащими от оскорбленной гордости, расшевелил в нем какое-то более серьезное чувство. Может быть, он понял, что поступил дурно, что, сам того не желая, обидел человека?. «Мышке слезки!» — сказала она.
Что она хотела этим сказать? Разве у него было намерение губить ее? Ничто в мире не было более чуждо его нежному сердцу, не склонному к драмам!
А с какой силой она говорила это! Какие молнии метали ее глаза, как она была бледна и как прекрасна! В этот момент Олесь без колебания отдал бы несколько лет своей легкомысленной, счастливой жизни за то, чтобы увидеть ее, умолять о прощении, загладить свою вину, если он провинился, и… проводить ее домой.
Но где же она живет? Этого он не знал. Он нахмурился, нетерпеливо щелкнул пальцами и, подняв голову, воскликнул почти со злостью:
— Теперь я, должно быть, уже не найду ее!
В эту минуту в ворота вбежала молоденькая девушка, почти подросток, в плотно облегавшей ее шубке и изящных ботинках. При появлении девушки у Олеся вдруг изменилось выражение лица. Он поспешно снял шляпу и, кланяясь красивой девочке, сказал с улыбкой:
— Давно я не имел счастья вас видеть, панна Элеонора!
Девочке эта встреча, видимо, была не так уж неприятна.
— А! Хороши же вы, пан Александр, нечего сказать! Месяц уже как у нас не были! Бабушка и тетя несколько раз говорили, что это очень неучтиво с вашей стороны.
Пан Александр мечтательным взглядом следил за движением щебечущего розового ротика.
— Пани, — сказал он, — сердце влечет меня к вашему дому, но разум не велит.
— Разум! Интересно знать, почему разум не велит вам у нас бывать?
— Я боюсь потерять покой! — шепнул покоритель сердец…
Девушка покраснела до ушей.
— Ну, пожалуйста, не бойтесь и приходите, а то бабушка и тетя по-настоящему на вас рассердятся.
— А вы?
Минута молчания. Глаза девушки смотрят на гвоздь, торчащий в воротах. Глаза покорителя считают золотые кудряшки, выбившиеся из-под шляпки на белый лоб.
— И я тоже.
— О! Если так, то я приду, приду непременно!
Девушка бежит по двору, но он не смеет следовать за ней. Ведь это не бедная мастерица, а внучка женщины, в доме которой он бывает. Панна Швейц, у которой, как говорят, около ста тысяч злотых приданого! С ней прогуливаться вдвоем по двору неудобно.
Олесь выходит на улицу. В его воображении мелькают два женских образа: один — работницы с пламенным взглядом, другой — красивого подростка с золотыми локончиками вокруг белого лба. Он уже и сам не знает, какая из них красивее и соблазнительнее.
«Та, — думал он, — богиня, гордая и пылкая; эта — прехорошенькая маленькая фея! Ученые правы! Какие богатые дары есть в запасе у природы! Сколько оттенков, сколько видов! Даже голова идет кругом и сердце тает, когда приходится человеку делать выбор. Но зачем выбирать? Tous les genres sont bons, hors le genre vieux et laid!»[32] О мужчины! Ничтожные пушинки! Ветреные головы!
* * *
А Марта?
Марта после испытанных ею волнений снова целиком погрузилась в грошовые подсчеты. Шесть рублей, полученных от книгопродавца, она отдала управляющему домом, уплатив таким образом неоплаченный долг и обеспечив себе кров еще на две недели.
— С вас следует еще за мебель, — сказал управляющий, получив деньги.
— Возьмите ее, пожалуйста, из моей комнаты, потому что за нее я больше не могу платить.
Какой-то состоятельной семье, живущей на втором этаже, понадобились стол для кухни или передней, несколько стульев и кровать. К вечеру этих вещей уже не было в комнате Марты. Она расстелила свою жалкую постель прямо на полу и села на пол у нетопленой печки. По другую сторону печки уселась Яня. Мать сидела неподвижно, словно оцепенев, девочка съежилась и дрожала от холода, а может быть, от волнения. Два бледных лица в полумраке наступающего вечера, в глубокой тишине пустой комнаты, представляли печальное зрелище. Печальное, как и судьба этих двух несчастных существ, сидевших у холодной печки. Каков-то будет их конец?
Яня спала в эту ночь тревожно и часто просыпалась.
Прежде она часто плакала днем, но ночью по крайней мере спала спокойно. А в этот вечер унесли из комнаты ее последние игрушки: два старых колченогих стула. Ей жалко было с ними расставаться, словно с добрыми друзьями, с которыми она играла, которым потихоньку поверяла свои горести, жаловалась на голод, холод и пинки дворничихи — инстинкт чуткого ребенка подсказывал ей, что жаловаться матери не следует. Девочка горько плакала, глядя, как выносят ее любимых хромых старичков, потом, укладываясь спать на полу, вспомнила свою кроватку красного дерева с сеткой, покрытую вязаным шерстяным одеяльцем, на многоцветной кайме которого она училась различать цвета, удивляясь их красоте…
Было уже около полуночи. Девочка металась на своей постели, стонала и плакала во сне. Марта все еще сидела на полу у печки, в полной темноте, терзаемая угрызениями совести.
Она горько упрекала себя за свое поведение у Швейц. Зачем она поддалась чувству оскорбленной гордости? Зачем бросила место, где имела возможность хоть сколько-нибудь зарабатывать? Правда, оскорбление, брошенное ей в лицо, было незаслуженным, ужасным, вопиющим, но что же из этого? Позволительно ли женщине в таких обстоятельствах из гордости отказаться от куска хлеба, хотя бы даже черствого, горького? Если ничего не можешь сделать для того, чтобы избавиться от унижений, то надо терпеливо сносить обиды и удары судьбы. Какая непоследовательность:: из-за своей беспомощности позволить себя эксплуатировать такой, как эта Швейц, потом требовать от этой женщины уважения и справедливости! Как глупо!
«Нет! — думала Марта, — одно из двух! В жизни надо быть или сильной и гордой, или слабой и покорной. Надо уметь сохранять свое достоинство или отказаться от всяких притязаний на него. Я слаба — значит, должна быть покорна. Если я не могу с помощью своего труда завоевать себе уважение людей, то мне нечего и требовать уважения. И в самом деле за что людям уважать меня? А сама я разве уважаю себя? Могу ли я без стыда и угрызений совести смотреть на этого ребенка? Я должна быть ему опорой и поддержкой, а я никуда не гожусь! Могу ли я без чувства глубочайшего унижения думать, что я, как беззащитная и глупая овца, гну спину перед бессовестной женщиной, прося и даже умоляя ее, чтобы она разрешила мне и поте лица работать на нее и ее детей? За кого в конце концов принимают меня люди? Один отвергает мою работу, потому что она не годится, другой не дает ее мне, уже заранее уверенный в том, что я ее не сумею сделать, третий жестоко эксплуатирует меня именно потому, что я не умею работать, четвертый, наконец, видит во мне не человека, равного себе, а лишь женщину, которая недурна и которую можно купить! Почему же я требую от Швейц того, в чем весь мир отказывает мне, чего я не сумела завоевать ни у людей, ни у самой себя?»
Ночь отступала перед серым зимним рассветом. А Марта все еще сидела неподвижно, опершись локтями о колени, поддерживая голову руками. Она смирилась, окончательно смирилась, она усмехалась при мысли, что еще вчера могла требовать к себе уважения, она знала, что никогда больше не будет восставать против своего унижения.
Вместе с утренним светом в комнатку на чердаке пришли повседневные заботы. Марта достала из кармана последний злотый. Теперь у нее не было больше денег, не было и заработка.
«Придется просить милостыню!» — подумала она.
Она вышла из дому и направилась в знакомый книжный магазин, к сострадательному человеку, который в первый раз дал ей работу, во второй — подаяние.
Открывая дверь в магазин, Марта сама себе удивлялась. Выходя из дому, она думала, что ей очень тяжело будет переступить этот порог, что у нее язык не повернется просить подачки. Она ошиблась. Сердце ее не забилось сильнее, краска не залила лица, когда взгляд ее встретился с глазами книгопродавца.
Он стоял, как обычно, за конторкой, склонившись над кипой бумаг и счетов. Когда он, услышав звонок, поднял голову, его лицо было уже не так приветливо, как прежде, в глазах читалось беспокойство. Он был, очевидно, чем-то озабочен или удручен. Может быть, ему не повезло в каком-нибудь деле или кто-то из его близких или друзей заболел? Он посмотрел на вошедшую уже не так радушно, как прежде. Марта заметила это. Несколько дней тому назад она повернулась бы и ушла или по крайней мере умолчала о цели своего прихода; теперь же она, подойдя к конторке и поздоровавшись, сказала:
— Вы были так добры, что помогли мне советом и деньгами, так вот я снова пришла к вам…
— Чем я могу быть вам полезен?
Он говорил вежливо, но значительно холоднее, чем раньше. Его рассеянный взгляд поминутно обращался к лежащим на столе бумагам.
— Я потеряла работу в белошвейной мастерской, где зарабатывала сорок грошей в день. Не знаете ли вы, где можно получить работу? Любую работу…
Книгопродавец опустил глаза и постоял минуту в раздумье. К его озабоченности примешивались теперь некоторая неловкость и даже нетерпение.
— Эх, пани! — сказал он после непродолжительного молчания. — Надо что-нибудь уметь, непременно надо что-нибудь уметь…
Марта теребила концы своего платка.
— Так что же мне делать? — сказала она не сразу.
Она сказала это таким тоном, что книгопродавец внимательно посмотрел на нее. Голос звучал отрывисто и резко, впалые глаза пылали, но уже не страдание выражалось в них, не трогательная мольба, а с трудом сдерживаемый глухой гнев. Глядя на нее и слушая ее голос, можно было подумать, что она зла на человека, с которым говорит, что в душе она винит его в своих невзгодах.
Книгопродавец подумал еще немного.
— Мне тяжело, — сказал он, — очень тяжело видеть в таком положении жену человека, которого я знал и уважал. Думается мне, что я смогу еще кое-что для вас сделать… хотя это опять будет только попытка. Моим знакомым, господам Жонтковским, нужна женщина — для… для… домашней работы… Согласитесь вы пойти на такую работу?
— Да, спасибо, — не колеблясь ответила Марта.
— Хорошо, тогда я напишу несколько слов Жонтковским, и вы пойдете к ним с моей запиской…
— Пойду непременно!
Быстро написав несколько слов на листке бумаги, книгопродавец вручил записку Марте. Он, видимо, спешил и был чем-то расстроен. Отдав ей записку, он поклонился. Этот поклон означал: «У меня нет времени, и ничего больше я сделать не могу!»
Марта вышла из книжного магазина. Записка, которую она держала в руке, не была запечатана. Она то развертывала, то свертывала сложенную вдвое бумажку. Казалось, она искала чего-то внутри. И действительно, у нее мелькнула мысль, не вложил ли книгопродавец в записку деньги, как позавчера. Но денег не было.
«Жаль, что он ничего не дал!» — подумала Марта.
Книгопродавец был человек добрый и сострадательный. Он охотно протягивал руку помощи, но сострадательные люди не всегда бывают в хорошем расположении духа, отчего страдают те, кто нуждается в их помощи. Даже самый лучший человек не всегда бывает расположен творить доброе дело. Добрые дела — своего рода роскошь, а не хлеб насущный для души.
Какая перемена! Несколько месяцев назад Марта застонала от боли и стыда, получив подачку, а теперь она сожалела, что не получила ее!
Взглянув на адрес, Марта свернула на Свентокшискую улицу и скоро входила уже в кухню просторной богатой квартиры. Там она увидала кухарку, которой и отдала записку. Кухарка отправилась в комнаты. Марта села на деревянную скамейку и просидела так минут десять. Господа Жонтковские, видимо, советовались. Наконец в кухню вошла пожилая, хорошо одетая женщина приятной наружности, держа в руке записку. Она подошла к Марте, вставшей при ее появлении, и внимательно посмотрела на нее.
— Извините, — сказала она с некоторым смущением, — несколько дней назад нам действительно нужна была горничная, но теперь уже не нужна… очень сожалею… извините.
Сказав это, дама поклонилась Марте гораздо вежливее, чем кланяются горничной, и вышла из кухни.
В комнате, куда она вошла, сидел седой мужчина с трубкой, у окна вышивали две молодые девушки.
— Что же? — спросил пожилой мужчина, — ты не приняла ее?
— Конечно, нет… Она — вдова чиновника и, наверное, у нее большие требования. И такая худенькая, хрупкая, где уж ей комнаты убирать или целыми часами простаивать за гладильной доской… Возможно, что она не умеет даже ни стирать, ни гладить. Нет, она доставила бы нам только одни хлопоты…
— Это верно, — сказал муж пожилой дамы, — а все-таки жаль, что ты ее отпустила ни с чем. Она, должно быть, очень нуждается, если, несмотря на то, что она вдова чиновника и, как ты говоришь, очень хрупкая, согласилась идти в горничные. Быть может, стоило бы попробовать…
— Что ты, Игнаций! Пан Лаурентий пишет, что у нее ребенок! Не говоря уже обо всем прочем — разве мы можем принять служанку с ребенком?
— Да, да, это правда! С ребенком невозможно, большие расходы и беспокойство… бог знает, что еще за ребенок… Но я опасаюсь, как бы не обиделся Лаурентий, что мы ее так ни с чем отправили, и не счел бы нас бессердечными…
— Ну, так надо дать ей что-нибудь! Я предпочитаю дать один раз хотя бы рубль, чем стеснять себя, приняв такую горничную… да еще брать в дом чужого ребенка…
Марта была уже на лестнице, когда услышала позади себя быстрые шаги и дважды повторенный возглас:
— Пани, подождите!
Оглянувшись, она увидела красивую девушку, которая бежала за ней, запахивая плотнее теплую кофточку.
— Простите, — сказала девушка, догнав ее. — Мама очень просит извинить нас за то, что вам пришлось напрасно побеспокоиться… сегодня такой холод, а вы пришли к нам… мама просит извинить ее!
Она проговорила все это очень быстро и смущаясь. В заключение несмелым движением протянула руку с рублевой бумажкой. Марта колебалась не более очной секунды, взяла из рук девушки шелестящую бумажку, сказала: «Спасибо» — и ушла. По дорого домой она купила вязанку дров, немного черного хлеба, муки и молока. Хлеб предназначался для нее, молоко и мука для ребенка.
В этот день Марта уже не выходила из дому. Она приготовила молочный суп, вылила его в глиняную миску и поставила перед Яней.
Но девочка ела мало. Она была молчалива и очень серьезна. У нее, видимо, болела голова, и девочка поддерживала ее худенькой ручкой; поев, она села на пол рядом с матерью, положила голову к ней на колени и заснула тяжелым сном.
Марта испугалась, когда при свете раннего утра взглянула в лицо дочке. Яня была еще бледнее вчерашнего, в ее запавших, обведенных темными кругами глазах светилась тихая, но хватающая за душу жалоба. Отвернувшись к окну, молодая женщина судорожно заломила руки…
«Если я не создам ей лучших условий, она заболеет… Лучшие условия — какая дикая мысль! Через два-три дня мне не на что будет купить дров, чтобы затопить печь и приготовить ребенку что-нибудь горячее!»
«Да! — рассуждала она сама с собой, — делать нечего! Пойду поклонюсь Швейц!»
Она отправилась на улицу Фрета. Открывая дверь мрачной мастерской, Марта удивлялась себе еще больше, чем тогда, когда входила в книжную лавку. Правда, она испытывала чувство унижения, но гораздо сильнее было желание вернуть себе работу, от которой она сама отказалась два дня назад.
Швейц нисколько не удивилась ее приходу. По толстым губам почтенной матроны пробежала усмешка, и глаза ее злобно сверкнули из-за очков. Работницы, подняв головы, смотрели на пришедшую, одни с любопытством, другие с насмешкой и злобным удовлетворением. Щеки и лоб Марты запылали под взглядом более двадцати пар глаз.
Это была ужасная пытка, но продолжалась она не более минуты. Хозяйка перестала кроить, ожидая, видимо, что скажет бывшая работница.
— Пани, — обращаясь к ней, сказала Марта, — два дня тому назад я вспылила и вела себя безрассудно… Меня обидело то, что вы мне сказали, и я была резка с вами. Простите меня. И, если можно… я хотела бы снова работать у вас.
Лицо Швейц не выражало никакого торжества и, так же как раньше, никакого удивления. Она слащаво улыбнулась и приветливо кивнула головой.
— Ах, милая пани Свицкая, — начала она сладеньким голоском. — Я не сержусь, ничуть не сержусь! Господи, да что тут особенного — выслушать дерзость, услышать неприятное слово. Ведь спаситель наш повелел нам повторять за утренней и вечерней молитвой: «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должникам нашим!» Если бы я сердилась на вас, пани Свицкая, я нарушила бы заповедь господню… но принять вас в мастерскую я не могу. Очень жаль, но, право, не могу, потому что на ваше место уже взята новая мастерица.
Говоря это, она указала ножницами на молодую женщину, сидевшую на месте Марты.
— Наше предприятие, слава богу, имеет прекрасную репутацию… мы не пользуемся машинами, которые так ужасно выматывают силы и подрывают здоровье работниц. Поэтому женщины идут к нам толпами. Дня не проходит, чтобы две-три не обратились с просьбой дать им работу. В работницах, слава богу, нет недостатка, да, недостатка нет, а лишних набирать мы не можем, чтобы нам с дочерью не пришлось слишком обременять себя работой. Так что теперь работниц у нас более чем достаточно, и для вас, пани Свицкая, места нет…
— Мама, а может быть, найдется все-таки работа и для пани Свицкой? — шепнула некрасивая панна Швейц, наклонясь к матери. Она уже несколько минут внимательно и с любопытством смотрела на Марту. В ее немного раскосых глазах мелькало что-то вроде жалости.
Но Швейц пожала плечами.
— Нет, — сказала она, — работы нет, нет работы! Не можем же мы ради того, чтобы принять пани Свицкую, которая ушла от нас по собственному желанию, отказать панне Зофье, принятой вчера на работу?
Услышав последние слова, девушка, сидевшая на месте Марты, подняла голову и испуганно посмотрела на хозяйку.
— Значит, не примете? — спросила Марта. — И не подадите мне никакой надежды?
— Никакой, дорогая пани Свицкая, никакой! Очень сожалею, но место уже занято… не могу!
Едва заметно кивнув головой, Марта вышла из мастерской. Закрывая за собой дверь, она слышала за спиной шепот и приглушенное хихиканье. Она поняла, что стала предметом насмешек и ненужной жалости двадцати женщин, и снова ощутила жар в груди и голове. Но когда она вышла, все заглушила одна-единственная мысль:
«Не могу я вернуться домой с пустыми руками! Сегодня надо получше натопить, а завтра приготовить для девочки что-нибудь мясное… Иначе она заболеет…»
Некоторое время Марта шла так, словно не знала, куда идти: сворачивала то вправо, то влево, останавливалась посреди тротуара и задумывалась, опустив голову. Потом уже увереннее зашагала прямо по Длугой улице и стала внимательно разглядывать витрины. У одной из них она остановилась. Это был ювелирный магазин, не очень большой и шикарный. Очевидно, молодая женщина такой именно искала, потому что после минутного раздумья она открыла стеклянную дверь. Но, войдя, она убедилась, что ошиблась: магазин оказался не таким скромным, как выглядел снаружи. В нем было много изделий из золота и драгоценных камней, и лучшие из них почему-то — то ли по недогадливости, то ли умышленно — не были выставлены в витрине.
В том, что хозяин магазина не из тех, кто заботится о внешнем эффекте, можно было убедиться, глядя, как он работает наравне со своими помощниками и учениками. Это был человек приземистый, румяный, седоватый, с добродушной улыбкой и умными серыми глазами. Увидев входившую женщину, он привстал и спросил, что ей угодно.
— Простите, пожалуйста, может быть, я не туда попала, — сказала Марта, — я думала, что вы можете купить у меня одну золотую вещицу…
— Отчего же нет, сударыни, отчего же нет? — ответил ювелир. — А что это за вещица?
Марта ответила не сразу. Она стояла посреди магазина, неподвижно глядя в землю. Казалось, она продолжает еще мысленный разговор сама с собой и собирается с духом, чтобы высказать, наконец, вслух решение, принятое после тяжкой внутренней борьбы.
— Что же это за вещь? — повторил свой вопрос ювелир, нетерпеливо посматривая на свою работу.
— Обручальное кольцо, — ответила женщина.
— Обручальное кольцо! — протянул ювелир.
— Обручальное кольцо, — перешепнулись помощники ювелира, поднимая головы.
— Да, обручальное кольцо, — повторила Марта, вынимая из-под грубого платка озябшую руку и снимая с тонкого пальца золотое кольцо.
Она пошатнулась и в состоянии, близком к обмороку, инстинктивно искала какой-нибудь опоры.
— Пожалуйста, садитесь, садитесь, сударыня! — воскликнул ювелир, и с его губ сразу сбежала улыбка.
Один из его помощников пододвинул Марте табурет. Но она не села. Она переживала сейчас одну из самых тяжелых, может быть, даже самую тяжелую минуту, какую пришлось ей пережить с тех пор, как она начала свой тернистый путь по дорогам нищеты. Когда она снимала с пальца золотое обручальное кольцо, ей казалось, что она снова и уже навсегда расстается с единственным человеком на земле, которого она любила, расстается со своим счастливым, незабвенным прошлым. Сердце ее судорожно сжалось, в голове зашумело. Но она взяла себя в руки. Усилием воли поборов слабость, Марта подала ювелиру кольцо.
— Это необходимо? Боже мой, неужели это необходимо? — сочувственно спросил ювелир.
— Необходимо, — коротко и сухо ответила женщина.
— Ну уж если вы этого непременно желаете, то вам лучше продать кольцо мне, чем кому-нибудь другому. Здесь вы по крайней мере получите его полную стоимость.
Сказав это, он подошел к столу, на котором стояла стеклянные коробки с золотыми изделиями, и бросил кольцо на чашку маленьких весов. Металл, ударившись о металл, издал чистый протяжный звук.
— Хорошее золото, — буркнул ювелир.
Марта отвернулась от качавшихся весов. Внимание ее привлекли люди, которых она до этой минуты не замечала. По обе стороны длинного стола сидело пятеро молодых людей в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет с разными инструментами в руках. Они шлифовали и полировали драгоценные камни, плавили золото над небольшим пламенем, лизавшим края железных треножников; один рисовал образцы цепочек, браслетов, брошек, серег, крышек для часов и тому подобных тонких изделий. Марта упорно смотрела на руки этих людей, работавших за длинным столом. В ее глазах вспыхнули огоньки, она сгорала от любопытства, от желания самой приняться за эту работу. Присматриваясь к ней, Марта за несколько минут лучше поняла особенности ювелирного искусства, чем мог бы понять кто-либо другой за долгие часы наблюдений.
— Прошу вас, сударыня, — окликнул ее ювелир, — ваше кольцо стоит три рубля пятьдесят копеек серебром.
Услышав его голос, Марта перестала смотреть на работающих и быстро подошла к столу, около которого стоял ювелир.
— Скажите, пожалуйста, — обратилась она к нему, — ведь это ваши помощники?
— Да, — ответил ювелир, немного удивленный неожиданным вопросом.
— И ваши ученики…
— Да, есть и ученики.
— А вы не могли бы принять и меня ученицей или помощницей?
Маленькие глазки ювелира широко раскрылись.
— Вас? Вас? — переспросил он, запинаясь. — Как же это… Зачем это вам?
— Да, меня, — повторила Марта решительно. — Я осталась без всяких средств… И я вижу, что работа наша была бы мне по силам; мне думается даже, что я хорошо справлялась бы с ней. Она требует хорошего вкуса, а я когда-то имела возможность развить свой вкус… Конечно, вам пришлось бы учить меня, но недолго… ручаюсь вам, что приложу все силы… Я согласилась бы на самую маленькую плату, на любые условия…
Ювелир, наконец, опомнился от первого удивления. Он понял теперь, чего добивается женщина, пришедшая продать обручальное кольцо. Он нахмурился, быстрые глазки смущенно заморгали.
— Видите ли, пани, — начал он, — я, собственно говоря, не держу учеников; эти молодые люди уже подготовлены, обучены…
Марта бросила взгляд в сторону стола, за которым сидели служащие. Один из них, тот, который рисовал, как раз поднялся и вышел в соседнюю комнату.
— Я умею рисовать, — сказала Марта, — то есть умею настолько, — добавила она быстро, — чтобы делать рисунки для ювелирных изделий.
Сказав это, она с лихорадочной поспешностью подошла к длинному столу и села на место вышедшего из комнаты рисовальщика. Молодые люди отодвинули свои стулья, перестали работать и смотрели на нее с удивлением и иронией. Без иронии, но тоже с большим удивлением смотрел на нее ювелир. В магазине стояла мертвая тишина. Марта ни на кого не обращала внимания, ничего не видела. Схватив карандаш, она начала набрасывать эскиз на листе бумаги, лежавшем тут же на столе. На щеках женщины, склонившейся над работой, заиграл румянец, она дышала ровно и глубоко, рука уверенными движениями чертила линии на бумаге.
Рисовальщик, возвратившись и заметив, что его место занято, остановился на пороге. Это был молодой человек лет двадцати трех, тщательно одетый, завитой, с холеными усиками. Засунув руки в карманы и прислонясь к двери, он, улыбаясь, — подмигивал товарищам.
— Но… Послушайте, пани, — начал уже терявший терпение ювелир.
— Сейчас, сейчас! — отозвалась Марта, не отрывая глаз от бумаги.
Скоро она встала и протянула ювелиру листок со своим рисунком.
— Вот образец браслета, — сказала она.
Ювелир пристально поглядел на рисунок. Эскиз был выполнен прекрасно! Он представлял собой венок из широких листьев красивой формы, скрепленных гладкой круглой застежкой, обвитой двумя переплетающимися стеблями.
Браслет, сделанный по этому эскизу, сочетал бы в себе два главных качества ювелирного изделия: простоту и изящество.
— Красиво! Ничего не скажешь! Очень красиво! — повторял ювелир, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону и с видом удовлетворенного знатока разглядывая рисунок.
— Да, хорошо! Очень красиво! — повторил он, но на этот раз немного растерянно. — Ваши рисунки я мог бы использовать, но… но…
Он замолчал и, с трудом подыскивая подходящие слова, провел рукой по густым, тронутым сединой волосам.
Стоявший в дверях молодой человек все еще улыбался.
— О господи! — проговорил он, пожимая плечами. — Если вы не решаетесь принять эту даму в качестве… как бы это сказать… ну, рисовальщицы…
Сидевший у стола пятнадцатилетний парень прыснул. Молодой человек с завитыми волосами продолжал:
— Если вы хотите отказать этой даме в ее просьбе из-за меня, то не беспокойтесь, пожалуйста. Вы ведь знаете, что мне и так осталось работать у вас только несколько недель. Я уверен, что получу место в Варшавской строительной конторе.
Он говорил это небрежно и с легкой иронией. Видно было, что для этого человека ювелирный магазин — лишь этап на пути к более ответственным и выгодным занятиям.
— Да, да, — сказал ювелир. — Я знаю, что вы скоро от меня уйдете… но не могу же я…
— Сколько вы платите этому пану? — вмешалась Марта.
Ювелир назвал цифру дневного заработка юноши с завитыми волосами.
— Я согласна получать половину, — сказала Марта.
Теперь ювелир уже обеими руками ерошил свои волосы.
— Ох! ох! — воскликнул он, переходя от одного стола к другому. — Задали же вы мне задачу!
Он глянул мимоходом на нарисованный Мартой браслет.
— Прекрасно, ничего не скажешь! Очень красиво! Ох! ох! — повторил он. Его быстрые глазки беспокойно бегали по магазину. Он, видимо, боролся с собой: ему и хотелось иметь хорошую и очень недорогую работницу, и он не решался ввести в своем магазине такое неслыханное новшество.
Остановившись посреди магазина и глядя на своих помощников, он сказал вопросительно:
— А? Что?
Он, вероятно, задавал эти лаконические вопросы самому себе, но, взглянув на четырех помощников, прочел на их лицах ответ. Лица эти выражали не только удивление, но и насмешку. А завитой юноша, еле сдерживая громкий смех, выбежал за дверь, чтобы нахохотаться вволю.
Почему смеялись все эти люди?
На это трудно ответить, или, вернее, объяснять это было бы долго. Ювелир в этом смехе нашел, видимо, подтверждение своих опасений и сомнений. Он выразительно развел руками и, глядя на Марту, сказал:
— Но поймите, пани… Вы ведь женщина!
В этих словах, сказанных добродушным тоном, слышалась нотка сожаления предпринимателя, который терпит убыток из-за каких-то условностей.
Марта улыбнулась.
— Я — женщина, — сказала она. — Это правда. Так что же? Ведь я умею рисовать эскизы.
— Да! да! — потирая лоб и усаживаясь рядом со своими помощниками, говорил ювелир. — Но, видите ли, это было бы новшеством… Признаться, я не очень люблю всякие новшества! Как видите, у меня здесь работают молодые мужчины… А у людей злые языки… вы понимаете?
— Понимаю, — перебила Марта, — и благодарю вас за объяснение. Впрочем, оно для меня не ново… Так вы покупаете мое кольцо?
— Покупаю, пани, покупаю…
Вскочив со стула, он подбежал к другому столу, выдвинул ящик и минуту стоял над ним в раздумье.
— Вот деньги, — сказал он, подавая Марте две кредитки.
Марта кивнула головой и направилась к двери. Дойдя до порога, она обернулась.
— Вы сказали, что кольцо стоит три рубля пятьдесят копеек, а дали мне четыре. Я получила пятьдесят копеек лишних.
— Но, пани, — смущенно пробормотал ювелир, — я думал… хотел… вы ведь сделали для нас этот рисунок…
— Понимаю. Благодарю вас!
Уже который раз она, обивая пороги в поисках работы, приходя к людям со своим горем и жестокой нуждой, вместо работы получала милостыню!
Выйдя из ювелирного магазина, Марта не плакала. Она шла спокойно и не спеша прямо домой.
Час назад она думала, что как только получит деньги за кольцо, тотчас купит дров и продукты, необходимые для ребенка. Однако она не зашла в лавку, словно забыв обо всем на свете, словно ей не хватало ни сил, ни мужества идти куда-нибудь, кроме своей пустой и холодной каморки. До этого дня, вернувшись домой, она всегда быстро взбегала по лестнице, теперь же взбиралась медленно, спотыкаясь о крутые ступеньки, едва заметные в сумерках, и ничего не видя перед собой. Немая и холодная, как мертвец, она вошла в комнату и, бросив беглый взгляд на девочку, свернувшуюся калачиком у печки, сняла с головы платок и подошла к разостланной на полу постели, глядя в пространство остекленевшими глазами.
— Отверженная! — прошептала она. Соскользнув на пол, она лежала, не шевелясь, уткнувшись лицом в подушку.
Яня не подошла, а подползла к матери, молча лежавшей на полу, и уселась у ее ног. Обняв колени озябшими ручонками, она опустила на них голову.
В комнате царила глубокая тишина, только за окном внизу шумел большой город. Отголоски этого шума глухо доносились сюда, где, забытые богом и людьми, женщина и ребенок медленно умирали в тисках нужды.
Марта лежала на жесткой постели, как оцепенелая, ни о чем не думая, ничего не ощущая, кроме мучительной усталости. Труд, умело выполняемый и справедливо вознаграждаемый, — наилучшее, а может быть, и единственное средство против болезней тела и души. И ничто так быстро и так сильно не истощает физических и нравственных сил, как метания от одной работы к другой, лихорадочные поиски ее и невозможность найти себе применение.
Теперь Марта уже не видела перед собой никакого пути. Один, впрочем, был всегда для нее открыт: он привел бы ее в квартиру на Крулевской улице, где ей пришлось бы сказать женщине с увядшим лбом: «Я вернулась! Ты была права: женщина не человек, а вещь!» Но в душе Марты еще были живы чувства и воспоминания, удерживавшие ее от этого, делавшие этот путь для нее невозможным. Она не думала о нем сейчас и вообще ни о чем не думала. Вдруг, словно сквозь сон, она услышала хриплый, лающий кашель. От этого звука Марта задрожала всем телом и мгновенно очнулась от своего оцепенения. Она поднялась и села на постели:
— Это ты кашляла, Яня?
— Я, мама!
У матери голос был дрожащий и сдавленный, у ребенка — тихий и хриплый.
Схватив Яню на руки, Марта посадила ее к себе на колени, пощупала ее лоб — он горел, приложила руку к груди: Детское сердечко билось очень сильно.
— О боже мой! — простонала Марта. — Только не это! Все, все, что угодно, только не это!
В густых сумерках Марта не могла разглядеть лица Мин. Она зажгла лампочку и, взяв на руки четырехлетнюю девочку, как грудного младенца, понесла ее к свету. На щеках ребенка горели красные пятна, широко раскрытые глаза смотрели с немой жалобой. Яня снова закашлялась и бессильно склонила головку на плечо матери.
В полночь с лестницы бежала вниз женщина в черном платке. Ее окружала почти совершенная темнота, но она шла, не спотыкаясь на крутых ступеньках и не останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Можно сказать, она неслась как на крыльях — горе и страх словно поднимали ее над землей.
Не прошло и получаса, как она уже вернулась и не одна, а в сопровождении еще молодого мужчины в шляпе и дорогой шубе. Они вошли в комнату и подошли к постели на полу. Девочка с раскрасневшимся от жара личиком металась на ней, непрерывно кашляла и невнятно жаловалась на что-то.
Врач оглянулся, видимо, ища стул, но не нашел его и опустился на колени. Женщина стояла у ног ребенка, безмолвная, неподвижная, с мрачным огнем в глазах.
— Как здесь холодно! — сказал, поднимаясь, врач.
Марта ничего не ответила.
— На чем же мне писать?
На окне стояла бутылочка чернил, лежало перо и лист бумаги.
Нагнувшись над подоконником, врач написал рецепт.
— У ребенка воспаление дыхательных путей, то есть бронхит. Хорошенько протопите и давайте лекарство точно по часам.
Он сказал еще несколько слов и поднял с пола свою шляпу.
Марта опустила руку в карман и молча протянула ему деньги. Еще раз окинув комнату взглядом, врач не взял их.
— Не надо, — сказал он уже на пороге, — не надо! Ребенок слаб и истощен. Болезнь длительная, и лекарств потребуется много. Я завтра приду.
Он ушел. Вдова упала на колени у низкой постели, припала к ребенку.
— Доченька! Единственная моя! — шептала она. — Прости свою мать, прости! Я не сумела спасти тебя от холода и голода! Ты истощена, больна… Ох, дитятко мое…
Она рвала на себе волосы и билась головой о пол.
— О, какое же я ничтожество, ни к чему не годная, преступная!
Через час принесенное из аптеки лекарство стояло возле больного ребенка, а чуть свет, как только открылся дровяной склад, яркий огонь запылал в печи, наполняя комнату приятной теплотой!
Врач был прав! Болезнь Яни оказалась продолжительной. Он ежедневно посещал девочку и пришел уже в десятый раз. У девочки все еще был сильный жар. В комнате слышалось ее тяжелое и хриплое дыхание, напоминавшее скрип пилы. Опять безмолвная и неподвижная стояла Марта около постели. Врач обратился к ней.
— Не теряйте надежды, — сказал он мягко, — ребенок может выздороветь, но в ближайшие дни ей нужен особенно внимательный уход. Сегодня здесь опять холодно. Температура должна быть выше по крайней мере на шесть градусов. Лекарство закажите как можно скорее и давайте его всю ночь. Оно дороговато, но это единственное средство…
Врач ушел. Марта стояла посреди комнаты, скрестив на груди руки и опустив глаза.
Обогреть комнату! Чем? Купить лекарство! На какие деньги?
В кармане у нее не было больше ни гроша. В начале болезни Яни у нее было четыре рубля и несколько злотых; все это богатство поглотила печь, которую она топила ежедневно, и аптека, куда Марта бегала по нескольку раз в день.
Она уже не рвала на себе волосы, не падала наземь, не била себя в грудь. Она была лишь тенью прежней Марты. Ее исхудалое и пожелтевшее лицо выражало страдание, которое не утихало ни на миг, пронизывало нее фибры ее тела, давило грудь и голову. Посиневшие губы были крепко сжаты, как у человека, которому приютится сдерживать крики и стоны. Она обводила комнату безжизненным, потухшим взглядом.
Может быть, можно еще что-нибудь продать? Нет, ничего не было, кроме подушки, на которой лежала больная девочка, шерстяного платка, которым она была укутана, двух рубашонок и старых детских платьиц, за которые никто не дал бы даже столько, сколько стоит вязанка дров.
Мать в бессилии опустила руки.
— Что мне делать? — прошептала она. — Что я могу сделать? Пусть умирает! Лягу рядом и умру вместе с ней!
В это мгновение Яня заметалась на постели и во сне тихо вскрикнула. В этом крике слышался и радостный смех и неясная жалоба.
— Отец! — бредила девочка, протягивая худые горячие ручонки. — Отец! отец!..
Жестокая горячка вызвала перед ее глазами образ отца, и она молила его о спасении.
Марта подняла голову, ее сухие угасшие глаза вдруг наполнились слезами; заломив руки, она стала всматриваться в лицо ребенка.
— Ты зовешь отца, — прошептала она грудным, дрожащим голосом, — он бы тебя, конечно, спас! Он заработал бы для тебя и на теплую квартиру, и на еду, и на лекарство…
Минуту она стояла в молчании. Потом бросилась к постели и нагнулась к Яне.
— Нет! — воскликнула она. — И я не оставлю тебя без помощи! Отец работал бы для тебя… Мать — пойдет просить милостыню!
Жгучий румянец покрыл ее пожелтевшие щеки, в глазах вспыхнул огонь твердой решимости.
Она набросила на голову черный платок и побежала вниз в квартиру дворника. Там у плиты, на которой варился обед, сидела женщина в большом чепце и грубой обуви.
Марта подошла к ней, запыхавшись.
— Пани! — воскликнула она. — Пожалейте… будьте милосердны…
— Вы, наверно, за деньгами? — буркнула женщина. — У меня нет, нет, где мне их взять…
— Нет, нет, не денег! Я пойду за ними в город! Посидите, пожалуйста, пока у постели моей дочки.
Дворничиха поморщилась, но уже не так сердито, как вначале.
— Вот еще! Есть у меня время сидеть с больным ребенком!..
Марта нагнулась, схватила большую, жесткую руку женщины и припала к ней губами.
— Пожалейте меня, будьте милосердны, посидите с ней… Она все время хочет пить… мечется и вскакивает, ее нельзя сегодня оставлять одну…
Она целовала ту самую руку, которая еще недавно наносила удары ее ребенку.
— Ну, ну, пани, что вы делаете! Пойду уж, пойду, посижу, только не задерживайтесь долго, а то через час моя вернется из школы, нужно ее накормить!..
Темный силуэт женщины мелькнул во дворе и исчез в сумерках.
— Пойду… протяну руку… выпрошу… — шепотом говорила Марта сама с собой.
Выбежав на улицу, она остановилась, задумалась на мгновение и помчалась по направлению к Свентоерской улице… Страх и горе несли ее как на крыльях. Ничего не видя и не слыша, не чувствуя толчков прохожих, не обращая внимания на их брань и удивленные взгляды, она молнией пролетала сквозь толпу и мчалась туда, где ей уже однажды протянули руку помощи.
Наконец она остановилась у ворот дома, в который еще недавно входила с радостью, надеждой, гордостью; глубоко вздохнув, она быстро взбежала по освещенной лестнице и трясущейся рукой нажала кнопку электрического звонка.
Дверь открыла молодая, нарядная, бойкая горничная. Яркий свет ослепил Марту, гул человеческих голосов донесся до нее. Из-за дверей в гостиную слышен был смех и говор множества людей.
— Что вам угодно? — спросила горничная.
— Мне надо видеть пани Рудзинскую.
— Ну, так лучше вам прийти завтра. Сегодня у нас приемный день, гости только что собрались, и пани Рудзинская не может уйти из гостиной…
Марта снова очутилась на лестнице. Горничная затворила за нею дверь. Там, за этой дверью, жила по-настоящему добрая, искренно ей сочувствующая женщина. Но в эту минуту она не могла протянуть ей руку помощи. И это было вполне естественно. Никогда нельзя полагаться на чужое милосердие. Самый лучший человек не может любую минуту своей жизни посвящать добрым делам. Не только занятость и личные заботы, но даже общение с друзьями отвлекают его и мешают быть надежной опорой для ближних, попавших в беду.
Теперь Марта шла, вернее, бежала в сторону Краковского предместья. Она направлялась к доброму книгопродавцу. Но, подойдя к его лавке и заглянув внутрь, она отступила. В магазине было несколько человек: нарядные дамы и веселые мужчины просматривали и покупали книги.
* * *
Это было между семью и восемью часами вечера, в то время, когда движение в большом городе усиливается и город выглядит наряднее. Яркий свет заливает дома и улицы, звучит музыка и говор, толпа заполняет тротуары. Вечерние часы — это половина жизни для населения городов, на небе которых в течение долгих месяцев солнце светит только несколько часов в день.
В Краковском предместье была сутолока, жизнь кипела ключом, чему еще способствовала хорошая погода.
Мелкий мартовский снежок засыпал мерзлую еще землю и очистил небо от белых облаков. Над городом распростерся темный, усеянный звездами полог.
Непрерывный грохот колес на мостовой напоминал раскаты грома. На тротуарах качались волны человеческих голов. На улице было светло почти как днем, потому что, кроме газовых фонарей, изливали целые потоки света многочисленные витрины магазинов.
На главных улицах Варшавы бывает особенно людно именно в эти часы, когда на улицу высыпают и трудящиеся и праздношатающиеся. Трудящиеся спешат отдохнуть или развлечься, а бездельники чувствуют себя в своей стихии: наслаждаются шумом, пестротой картин и сцен, на которые они глазеют, ярким светом, а быть может, и таинственным полумраком вечера. В этой спешащей шумной толпе, вероятно, немало сострадательных людей, но они заняты чем угодно, только не заботой о ближних. Им некогда — ведь день кончается. Их захватил вихрь жизни: развлечения, дела, чувства, заботы. Кроме того, при вечернем освещении не так отчетливо, как при дневном, видны морщины на лицах страдальцев, в потухших глазах отражается свет ламп, создающий иллюзию здоровья и бодрости; шум экипажей и разговоров заглушает голоса измученных людей. Милосердие чаще всего просыпается там, где скелет нужды громче всего постукивает голыми костями и страшнее всего глядит пустыми глазницами.
Вот уже четверть часа Марта бродит по Краковскому предместью.
Четверть часа? Нет, год, столетие, вечность!
Теперь она уже не бежала, а шла медленно, безучастная, безмолвная, с застывшим лицом, тупым и мутным взглядом скользя по лицам прохожих.
Крылья, которые несли ее час тому назад, опустились, она снова чувствовала смертельную усталость. Она шла по освещенным улицам; а над нею, перед ней, вокруг нее, на звездном небе и на земле, везде с немым укором глядело на нее лицо ее ребенка. Она шла, и в уме ее впервые четко вставали слова обвинения. Обида клокотала в ней, превращая скопившиеся в груди слезы в жгучее пламя. Впервые она подумала о том, что люди виноваты в ее беспросветной нужде, что они обязаны облегчить жизнь ей и ребенку. В эту минуту в ней совершенно угасло сознание ее собственной ответственности. Она чувствовала себя слабой, как дитя, бессильной, смертельно усталой.
«Пусть эти сильные, эти вооруженные знанием, счастливые люди поделятся тем, что им дала жизнь, со мной, которой она ничего не дала», — думала Марта, но все еще не протягивала руки.
Встречаясь с какой-нибудь нарядной дамой, она всякий раз высовывала руку из-под складок платка, но не протягивала ее, открывала рот, но ничего не говорила. Боязнь не быть услышанной в уличном шуме лишала ее голоса, и какая-то непонятная сила удерживала руку.
Неужели это был стыд?
А дома бедная, больная девочка стонала и металась на жесткой постели и запекшимися от жара губами, хриплым, замирающим голосом призывала отца.
Две дамы в бархатных шубках быстро шли по улице и весело разговаривали. Одна из них была молода и хороша, как ангел.
Марта остановилась перед ними.
— Пани, — проговорила она, — пани!
Она говорила тихо, но не плаксивым тоном. Она не подумала о том, что надо подражать голосу нищих. Поэтому дамы не поняли, чего ей нужно. Они остановились, только уже пройдя мимо, и одна, обернувшись, спросила:
— Что, пани? Мы обронили что-нибудь?
Ответа не последовало, так как Марта, повернув в противоположную сторону, зашагала так быстро, словно хотела убежать и от этих женщин и от того места, где она к ним обратилась.
Она убавила шаг. На ее пожелтевших, увядших, впалых щеках пятнами проступал лихорадочный румянец. В угасших глазах появился острый, пронизывающий блеск, зарево пылавшего в ее мозгу пожара.
Марта пошла тише и снова остановилась. По тротуару шел мужчина, горбясь слегка под тяжестью богатой шубы. Марта испытующе заглянула ему в лицо. Оно имело добродушное, ласковое выражение и было украшено пышными, белыми, как молоко, усами.
Она снова вынула руку из-под платка — и снова не смогла ее протянуть, сказала только громче прежнего:
— Пан! Пан!
Мужчина, прошедший уже было мимо, вдруг остановился, вгляделся в ее лицо, освещенное светом большой витрины, и понял, чего она просит. Опустив руку в карман, он достал кошелек и стал в нем рыться. Найдя мелкую монету, он сунул ее в руку женщины и пошел дальше. Марта взглянула на милостыню и глухо засмеялась. Ей подали десять грошей.
Этот седой, сгорбленный человек был жалостлив, но разве он мог знать, как велика нужда женщины, обратившейся к нему за помощью? Да если бы и знал, пожелал ли бы, мог ли бы помочь ей? Сколько же раз придется женщине, просящей милостыню, протянуть руку, прежде чем ей удастся из подобных подачек собрать на величайшее для нее богатство — на вязанку дров, пузырек с лекарством?
Марта шла дальше, все дальше, прямая, безмолвная, с монетой в судорожно сжатой руке. Снова остановившись, она смотрела теперь не на прохожих, а на огромную, ярко освещенную витрину. Это был магазин, похожий при искусственном освещении на волшебный замок.
Внутри, между мраморными колоннами, спускались пышные складки пурпурных драпировок; развешанные по стенам ковры ласкали взор яркими красками роз и оленью травы, на фоне их белели статуи, на бронзовых подставках стояли отливающие золотом многосвечные канделябры, возвышались серебряные вазы и бокалы, фарфоровые корзины и хрустальные колпаки, укрывавшие группы мраморных статуэток. Но не эти красоты и богатства привлекли взгляд черных, горящих глаз, проникший сюда с улицы.
У длинного палисандрового стола, заваленного многоцветными пышными коврами, словно огромными венками цветов, стояли два человека. Один из них был хозяин магазина, другой — покупатель. Они оживленно разговаривали. У торговца было веселое выражение лица, у покупателя — немного озабоченное: вероятно, ему трудно было выбрать ковер, так как каждый из них был в своем роде чудом искусства.
Большие застекленные двери медленно раскрылись, и в магазин вошла женщина в черном платье, обшитом полой тесьмой, в большом черном платке, покрывавшем ей голову и плечи. Пожелтевший, морщинистый лоб женщины был наполовину закрыт выбившимися из-под платка волосами; щеки пылали румянцем, а губы были белы, как бумага.
На звук открывшейся двери мужчины повернулись к Марте. Она остановилась у дверей, около большого зеркала с мраморным подзеркальником. Как привидение, проникла она в этот храм богатства и, как привидение, неподвижная и немая стояла у стены.
— Что вам? — спросил торговец, глядя из-за букета искусственных цветов на неподвижно стоявшую женщину в темной одежде.
Но Марта не смотрела на него. Она устремила взгляд на лицо покупателя в небрежно накинутой на плечи богатой шубе, который, положив холеную руку на пестрый ковер, рассеянно поглядывал на нее.
— Что вам угодно? — повторил торговец и, смерив взглядом женщину с ног до головы, добавил уже резче: — Почему вы не отвечаете?
А она все смотрела на мужчину в богатой шубе.
Казалось, какая-то страшная сила разрывала ей грудь, голову охватывало пламя. Дыхание ее все учащалось, а щеки и лоб заливал багровый румянец. Вдруг она высунула руку из-под платка и протянула ее вперед. Ее посиневшие, дрожащие губы разжимались и смыкались, но она молчала.
— Пан, — проговорила она наконец, — добрый пан! На лекарство для моего больного ребенка!
Рука, худая, окоченевшая, тряслась, как осиновый листок, в голосе уже звучали протяжные жалобные нотки, как у профессиональной нищенки.
Мужчина в шубе, поглядев на нее, слегка пожал плечами.
— Милая моя, — сказал он сухо, — не стыдно ли вам побираться? Вы молоды, здоровы, можете работать!
Сказав это, он повернулся к столу палисандрового дерева, на котором лежали ковры и стояли серебряные корзины.
Торговец с улыбкой развернул один из ковров. Они продолжали прерванный разговор.
Женщина в темной одежде все еще стояла у дверей, будто околдованная какой-то злой и неодолимой силой. Страшно было в эту минуту ее лицо.
Ответ, услышанный ею, был каплей, переполнившей чашу яда, из которой она пила уже так давно. Капля эта проникла ей в грудь, как напиток, возбуждающий нервы, туманящий мысль, глушащий сознание. «Вы можете работать!» Способен ли был человек, сказавший эти слова, хоть отчасти понять, какая это была безжалостная насмешка над женщиной, которая истратила нее силы души и тела на бесплодные попытки получить работу, которая потеряла уважение к себе, которая считала себя полным ничтожеством, потому что так мало знала и умела? Он не мог знать об этом. Его отношение к бедной женщине ничего не говорило о его личных качествах. Очень возможно, что он был добрый, милосердный человек, что щедрой рукой оказал бы помощь калеке, сгорбленному старику или больному. Но женщина, обратившаяся к нему за подаянием, была молода, не имела физических недостатков и внешне казалась здоровой.
О душевной надломленности, которая привела ее сюда, о том жаре, который давно уже сжигал ее грудь, превращая в пепел лучшие человеческие чувства, наполняя мозг все более мрачными, едкими мыслями, — обо всем этом не знал мужчина в богатой шубе. Не знал, а потому и сказал: «Вы молоды и здоровы, можете работать!» Он высказал совершенно справедливую мысль, но, высказав ее, сам того не подозревая, совершил жестокую несправедливость.
Несколько месяцев, даже несколько недель назад Марта могла бы признать справедливость его замечания. Но тогда она еще просила у людей работы и ничего больше, только работы; теперь же она просила подаяния и в обращенных к ней словах не услышала ничего, кроме издевательства.
Яркая краска, заливавшая ей лоб и щеки, когда она протянула руку, исчезла теперь без следа. На смертельно бледном лице впалые черные глаза, казалось, извергали пламя. Это было пламя гнева, зависти… и жадности.
Гнева, зависти, жадности? Неужели Марта, выросшая в уютной деревенской усадьбе, эта недавно еще почитаемая супруга и счастливая мать, эта честная женщина, которая ни за что на свете не хотела брать работы, к которой она была не способна, энергичная труженица, в поте лица честно зарабатывавшая свой кусок хлеба, эта гордая душа, протягивавшая руки к богу с мольбой отвратить от нее долю попрошайки, стала жертвой пагубных жестоких страстей, ведущих к преступлениям?
Увы! Увы! Это не только могло, но и должно было случиться по логике вещей, по законам, которым подчинена природа человека.
Марта не была бесплотным ангелом, которому не опасны земные вихри, ибо он не обитает на земле. Она была человеком, а в человеке наряду с разумом, добродетелью, самоотверженностью, героизмом есть и темные пропасти, где спят змеи грозных искушений и темных инстинктов. Нельзя безнаказанно подвергать мучительным истязаниям душу человеческую, не разбудив в ней молчаливо притаившихся в ее таинственных недрах задатков преступности. В человеке заложены великие силы, но и слабость его безмерна. Каждому человеку надо предоставлять права и возможности соответственно той ответственности, которую он несет, иначе он не совершит и не преодолеет того, что он должен совершить и преодолеть, не устоит перед тем, перед чем ему необходимо устоять.
Едкая горечь, постепенно, капля по капле, накоплявшаяся в душе Марты, поднялась в ней теперь огромной волной, а вместе с ней всплыли на поверхность окончательно разбуженные искушения и дурные страсти.
Молодой пан в богатой шубе выбирал ковры, серебряные корзинки, фарфоровые вазы и мраморные статуэтки. Он покупал множество вещей, собираясь, должно быть, обставить роскошно квартиру, куда введет молодую жену.
Он и торговец так были поглощены своим делом, что забыли о женщине, безмолвно и неподвижно стоявшей у стены. Она не отрывала глаз от руки покупателя, державшего большой толстый бумажник, набитый деньгами.
«Почему у него так много, а у меня нет ничего? — думала она. — По какому праву он отказал мне в подачке? Мне, у которой ребенок умирает в нетопленой комнате, без лекарств? Неправда, что я молода и здорова! Нет, я дряхлее всякой старухи, потому что пережила самое себя. Куда девалась прежняя Марта? Я тяжело больна, потому что я беспомощна, как ребенок. Зачем же люди требуют, чтобы я пробивала себе дорогу в жизнь собственными силами, если они не дали мне их? Почему лишили меня силы, которую требуют теперь от меня? Этот богач — одни из моих обидчиков, один из моих должников! Он должен дать!»
Мысли этой женщины были ужасно неверны и неразумны, но в то же время вполне естественны и понятны! Их породила та самая несправедливость, те преследования судьбы, бессилие, неудовлетворенные потребности, которые породили все безумные идеи, приводящие время от времени к преступлениям, поджогам, убийствам, те бешеные страсти, которые, возникнув из-за несправедливости и зла, сами нарушают справедливость и причиняют зло.
— Итак, — сказал покупатель, — триста злотых за ковер, пятьсот за эти корзины, фарфоровая ваза — двести и…
Он стал доставать из бумажника деньги, чтобы уплатить торговцу, но вдруг остановился.
— Да! — воскликнул он. — Чуть было не забыл! Дайте-ка мне еще вон ту бронзовую группу и ту…
Торговец подбежал, угодливо улыбаясь.
— Эту? — спросил он.
— Нет, ту. Ниобею с детьми…
— Ниобею? Вы, кажется, хотели взять Купидона с Венерой?
— Пожалуй, но мне надо взглянуть на них еще раз.
Привыкнув, видимо, сорить деньгами, он небрежно бросил раскрытый бумажник на мраморную доску подзеркальника, а сам вслед за торговцем отошел вглубь магазина, где на палисандровых полках под стеклянными колпаками стояли бронзовые и мраморные группы на мифологические сюжеты.
Небрежно брошенный бумажник раскрылся шире, и на мрамор выпало несколько кредиток.
На эти деньги смотрели разгоревшиеся глаза женщины, стоявшей у стены. Разноцветные бумажки так приковывали к себе черные, впалые глаза, как взгляд шеи притягивает птичек.
Какие мысли бродили в голове женщины, смотревшей на чужие деньги? В них трудно было бы разобраться. Это были не мысли, а какой-то хаос, порожденный лихорадкой и душевным смятением. После двух секунд такого созерцания Марта задрожала всем телом. Она то опускала, то подымала веки, то протягивала руку, то снова прятала ее под платок. Она, видимо, еще боролась с собой, но — увы! — у нее не было надежды на победу! Не было надежды, потому что не хватало сил устоять против этого позорного искушения. Мысли ее не были уже достаточно здравы, чтобы она могла понять, как постыдно это искушение, совесть молчала, так как она утонула в море горечи, не было больше стыда, изгнанного презрением к себе самой и перенесенными унижениями. Да, у нее не было никакой надежды на победу еще и потому, что она уже плохо сознавала, что делает, она была в лихорадке, вызванной голодом, холодом, бессонницей, слезами и отчаянием, а разум ее опутали темные силы, поднявшиеся из недр ее взбунтовавшейся души.
Марта сделала вдруг быстрое движение рукой, и с мраморной доски исчезла одна из бумажек. В ту же минуту стеклянная дверь распахнулась и захлопнулась с резким стуком…
Неожиданный сильный стук заставил обоих мужчин, рассматривавших статуэтку в глубине магазина, повернуть головы.
— Что это? — спросил покупатель.
Торговец выбежал на середину магазина.
— Это ушла та женщина! — крикнул он. — Она, наверно, что-нибудь стащила.
Покупатель тоже обернулся к двери.
— В самом деле, — сказал он, глядя с улыбкой на деньги, разбросанные на мраморной доске, — она украла у меня трехрублевку — у меня была только одна, и я ее здесь не вижу.
— Ах, бессовестная! — крикнул торговец. — Как? В моем магазине кража? У меня на глазах? Ах, наглая тварь!
Он подбежал к двери и распахнул ее настежь.
— Эй, городовой! — громко крикнул он с порога. — Городовой!
— Что вам? — послышался голос с улицы.
На груди человека, остановившегося на тротуаре, блеснула в полосе света желтая бляха полицейского.
— Туда! — кричал, задыхаясь от гнева, торговец, указывая пальцем на улицу. — Туда убежала воровка. Она украла в моем магазине три рубля!
— А в какую сторону она побежала?
— В ту, — сказал какой-то прохожий, который, услышав слова торговца, остановился у магазина. Он указал в сторону Нового Света. — Я столкнулся с ней… вся в черном… мчалась, как шальная. Я подумал, что она сумасшедшая!
— Надо ее догнать и задержать! — сказал торговец, обращаясь к полицейскому.
— Будет сделано! — закричал человек с желтой бляхой на груди и побежал вперед, громко крича: — Эй! Люди! Держите! Туда, к Новому Свету, побежала воровка!
Дверь магазина закрылась. Богатый пан, улыбаясь, журил торговца за то, что он столько хлопочет из-за такой ничтожной потери.
А на улице через несколько секунд поднялась шумная суматоха.
Как молния, прорезающая тучи, женщина в черном, прорвавшись сквозь толпу, мчалась сломя голову в сторону Нового Света. Она, очевидно, не сознавала, куда бежит, куда ей следует бежать, она была в полубессознательном, бредовом состоянии. В это мгновение она последним, быть может, проблеском сознания пожалела, что совершила позорный поступок. Но он уже был совершен, и ею владел безумный страх. Инстинкт самосохранения гнал ее прочь от людей. Они были позади, впереди, вокруг, а ей все-таки казалось, что бешеный, стремительный бег поможет ей скрыться от них…
Она сталкивалась с шедшими навстречу прохожими, те сначала оглядывались ей вслед, удивленные и испуганные, затем, подумав, что женщина сошла с ума или очень торопится, уступали ей дорогу. Но вот разнесся по улице крик:
— Лови! Держи!
И вслед за этим:
— Воровка!
Эти слова были подхвачены многими. Они катились с той стороны, откуда бежала женщина, переходили из уст в уста, летели, как огненные шары, брошенные могучей рукой и гремевшие все оглушительнее. Женщина, бежавшая уже медленнее, остановилась на секунду в изнеможении и услышала раздававшиеся ей вслед зловещие крики.
К ним примешивался топот человеческих ног, бегущих по тротуару. Ужасная дрожь потрясла Марту с головы до ног, и она помчалась вперед с такой быстротой, словно за спиной у нее выросли крылья, — но теперь ее несло вперед не горе, а ужас.
Вдруг Марта почувствовала, что бежать ей трудно — не потому, что не хватает сил, а потому, что люди, шедшие ей навстречу, стали преграждать ей путь, протягивая руки, чтобы схватить ее за платье. Теперь крылья помогали ей не только бежать, но и бросаться в разные стороны; с поразительной гибкостью и ловкостью она увертывалась от рук прохожих, почти касаясь их и все же ускользая.
Но вот там впереди несколько человек идет рядом, занимая всю ширину тротуара; обойти их невозможно, они неминуемо схватят ее!
Марта сбежала с тротуара на мостовую; здесь было много колес и конских копыт, но пешеходов меньше, чем на тротуарах, — их почти совсем не было.
Теперь она бежала по мостовой, лавируя между экипажами с таким же проворством, как раньше между прохожими. Но в тот же миг темная масса догонявшей ее толпы бросилась за нею. Кто же были эти люди? Впереди движущейся лавины сверкали желтые бляхи полицейских, за ними с криками и хохотом мчались уличные зеваки, всегда готовые принять участие в любом скандале, а за толпой несколько медленнее двигались зрители, жаждущие развлечений.
Извозчичьих дрожек и экипажей стало меньше. Женщина остановилась на мостовой и оглянулась.
Десятка два шагов еще отделяли ее от черной массы, кричавшей человеческими голосами. Постояв секунду, она опять бросилась вперед.
Вдруг впереди появилась другая черная масса, такая же подвижная, но несколько иная по форме: длинная и высокая, с большим красным глазом вверху. В воздухе серебристо зазвенел звонок — и звенел долго, предостерегающе, а красный глаз быстро двигался вперед, тяжелые колеса глухо грохотали, конские копыта стучали по железным рельсам, по которым катились колеса.
Это был большой омнибус, запряженный четырьмя сильными лошадьми, полный пассажиров и очень тяжелый.
Женщина бежала по мостовой, а позади нее и навстречу ей двигались два черных чудовища, одно — с криком и гиканьем, другое — с грохотом и звоном. Оба мчались прямо на бежавшую. Если она не отскочит в сторону, либо одно, либо другое чудовище неизбежно поглотит ее! И Марта свернула с рельсового пути, по которому бежала до сих пор, остановилась, осмотрелась.
Теперь от толпы преследователей ее отделяло едва ли десять шагов, и такое же расстояние было между нею и быстро приближавшимся омнибусом. Но толпа двигалась медленнее.
Марта больше не бежала. У нее нехватало сил, а может быть, она решила любой ценой положить конец этой ужасной погоне. Она стояла, повернувшись к омнибусу, но смотрела в сторону гнавшихся за ней людей. В глазах ее вспыхнула искра сознания. Казалось, она делает выбор. Что лучше — позор, насмешки, тюрьма, долгие, нескончаемые мучения или смерть… ужасная, но быстрая, молниеносная?
Однако инстинкт самосохранения, видимо, не совсем покинул ее, смерть показалась ей страшнее людей, и она метнулась в сторону от рельсов, по которым мчалась на нее избавительница — смерть.
Но вот она снова отступает к рельсам; человек с желтой бляхой на груди опередил всех ее преследователей, протянул руку и ухватил край ее платка. Марта отскочила, встала на рельсы, подняла глаза и руки к миому небу. Рот ее раскрылся, она издала невнятный крик. Бросала ли она в звездное небо горькую жалобу, слова прощения или, может быть, имя своего ребенка? Никто не расслышал. Человек с желтой бляхой, на миг растерявшийся при стремительном движении женщины в сторону, снова подскочил к ней и схватил ее за платок. Тогда Марта быстрым, как молния, движением сбросила платок, оставив его в руках полицейского, и упала на рельсы.
— Стой! Стой! — прокатился в толпе страшный крик.
Но красный глаз продолжал нестись по воздуху вперед, а конские копыта стучали по железным рельсам.
— Стой! Стой! — непрерывно, оглушительно ревела толпа.
Кучер рванулся, привстав на козлах, туго натянул вожжи и охрипшим от испуга голосом пытался остановить лошадей.
Они остановились, но уже тогда, когда тяжелое колесо со стуком соскользнуло с груди распростертой на земле женщины.
Посреди нарядной улицы в гробовом молчании стояла толпа, побледневшие от ужаса люди, тяжело дыша, склонялись над темной фигурой, которая неподвижным пятном лежала на снегу, как на белой постели.
Колесо огромного омнибуса раздавило грудь Марты. Жизнь покинула ее. Лицо, оставшееся нетронутым, смотрело стеклянными глазами в звездное небо.
― МЕИР ЭЗОФОВИЧ ―
Часть первая
Далеко, далеко от той ветви железной дороги, которая пересекает Белорусский край, далеко даже и от протекающей там судоходной реки Двины, в одном из отдаленнейших захолустьев, какие до сих пор еще могут существовать в Европе посреди ровных, тихих, обширных равнин, на перекрестке двух широких песчаных дорог, которые, выбегая из-под склонов бледного неба, пропадают в глубине черного леса, темнеет группа в несколько сот серых домов, маленьких и побольше, так тесно скучившихся, что, глядя на них, можно подумать, будто они, когда-то охваченные великой тревогой, сбежались, чтобы в тесной кучке им было легче обмениваться тихими речами и жаловаться друг другу.
Это и есть Шибов — местечко, почти исключительно заселенное евреями в еще большей степени, чем многие другие подобные места. Только на одной уличке, находящейся на самом краю города, стоит несколько хат и домиков, в которых живет несколько десятков очень бедных мещан и очень тихих старых чиновников на пенсии.
Эта же уличка является единственной, на которой царит тишина и летом цветут скромные цветы. В других местах города цветов нет, но зато царит непрерывный шум. Люди там суетятся и разговаривают беспрестанно, торопливо и страстно, разговаривают и внутри домов, и в тесных, грязных проходах, носящих название улиц, и на круглой, довольно обширной площади посреди местечка. Вокруг этой площади открываются низенькие двери зловонных мелочных лавочек, а после еженедельного торга, привлекающего сюда окрестное население, на ней остается необъятное и неисчерпаемое количество грязи и мусора. Над площадью возвышается темный, странного вида молитвенный дом.
Строение это является одним из редких уже в настоящее время образцов еврейской архитектуры. Живописец и археолог с одинаковым любопытством могли бы остановить на нем свой взор. С первого взгляда можно узнать, что это — храм, хотя по наружному виду он не похож ни на какие другие храмы. Его четыре толстые, высокие, тяжелые стены обрисовывают однообразными линиями огромный четырехугольник; они выкрашены в темно-коричневый цвет, придающий им важный, старый и печальный вид. И, несомненно, это очень старые стены, существующие с незапамятных времен, потому что на них там и сям продольными полосами пророс зеленоватый мох. Высоко наверху их прорезывает ряд длинных, узких, глубоко сидящих окон, напоминающих своим, видом бойницы укрепленных замков. А еще выше, над всем зданием возвышается кровля, три тяжелых яруса которой, спускаясь друг над другом, кажутся похожими на три огромных, темных, заплесневших гриба.
Все, что только имеет сколько-нибудь внушительный вид и служит для общей пользы, сосредоточилось здесь под охраной темных стен святыни и ее грибообразной кровли. Тут, вокруг обширного двора, расположились пристройки храма, хедер, дом, предназначенный для собраний членов кагала; тут же приютился низенький черный домик в два окна, настоящая мазанка, в которой уже несколько веков живут из поколения в поколение раввины, происходящие из семьи Тодросов, знаменитой во всей общине и даже за пределами ее. Тут царит всегда образцовая чистота, и хотя в других местах, особенно в весеннюю и осеннюю пору, люди чуть ли не тонут в грязи и по уши сидят в мусоре, двор молитвенного дома всегда покрыт сухими белыми камнями; даже соломинку было трудно высмотреть на них, потому что, если бы таковая и оказалась, ее сейчас же подняла бы рука прохожего, заинтересованного в благообразии мест, расположившихся у подножия святыни.
Какое значение имеет Шибов для еврейского населения, живущего в Белоруссии и даже еще дальше — на широких пространствах Литвы, можно судить по тому конфузному происшествию, которое случилось с одним, скорее веселым, нежели умным, шляхтичем в разговоре с евреем-фактором, отличавшимся, однако, не столько покорностью, сколько остроумием.
Еврей-фактор стоял у дверей господского кабинета, слегка наклонившись вперед по направлению к пану, улыбающийся, ежеминутно готовый к стремительному прыжку, чтобы услужить пану, и к остроумному словечку, чтобы вызвать у него хорошее настроение.
Пан был в хорошем настроении и подшучивал над еврейчиком.
— Хаимка, — сказал он, — был ты в Кракове?
— Нет, не был, ясновельможный пан!
— Ну, Хаимка, так не больно же ты умен!
Хаимка поклонился.
— Хаимка, был ты в Риме?
— Нет, не был, ясновельможный пан!
— Ну, Хаимка, так не больно же ты умен!
Хаимка вторично поклонился, но вместе с тем на два шага приблизился к пану. На губах у него заиграла одна из тех улыбок, свойственных людям его племени, проницательных и лукавых, о которых нельзя, наверное, сказать, выражается ли в них покорность или же тайное торжество, лесть или насмешка.
— Простите, ясновельможный пан, — сказал он тихо, — был ли ясновельможный пан в Шибове?
Шибов находился от места, где происходил разговор, на расстоянии каких-нибудь двадцати миль.
Шляхтич ответил:
— Нет, не был.
— А что же это будет теперь? — еще тише прошептал Хаимка.
Предание молчит о том, что ответил веселый шляхтич на этот щекотливый вопрос; но из того факта, что Шибов послужил в качестве аргумента, отвергающего оскорбительное утверждение или, скорее, отплачивающего за него, можно сделать заключение, что для Хаимки Шибов был тем, чем были для шляхтича Краков и Рим, то есть местом сосредоточения всего гражданского и религиозного авторитета.
Если кто-нибудь спросил бы тогда у еврейчика-фактора, почему он придает такое большое значение маленькому городишке, затерянному среди глухих равнин, то еврейчик назвал бы, вероятно, только два имени — фамилии двух семей, издавна живущих в Шибове — Эзофовичей и Тодросов. Эти две семьи резко отличались одна от другой. Эзофовичи являлись представителями светского блеска, достигшего высшей степени развития и выражавшегося в многочисленности рода и связей, в богатстве и в большом умении устраивать свои торговые дела и увеличивать свое имущество. Тодросы же являлись представителями духовного элемента — набожности, религиозной учености, суровой, доходящей до аскетизма чистоты жизни.
Быть может даже, что Хаимка, спрошенный о причинах того значения, которое он придает маленькому городишке, забыл бы назвать Эзофовичей. Хотя богатством и влиянием этого рода гордились все евреи на много десятков миль вокруг, считая Эзофовичей лучшими представителями еврейства и славой народной, но все же их блеск, чисто светский, бледнел в лучах духовной святости, которыми с незапамятных времен окружено было имя Тодросов.
Все еврейское население Белоруссии и Литвы с давних пор относилось к Тодросам, как к совершенному образцу и неприкосновенному ковчегу религиозной правоверности. Было ли так в действительности? Находились ученые талмудисты, которые при упоминании о талмудической правоверности Тодросов как-то странно усмехались, а, сходясь вместе, печально о чем-то перешептывались. Много, много поводов для размышлений давала ученым талмудистам эта прославленная талмудическая правоверность Тодросов. Но они составляли, впрочем, очень незначительное меньшинство; несколько человек сомневающихся, может быть, десяток с чем-то, приходилось на целые толпы верящих. Толпы верили, благоговели и стремились в Шибов на поклонение как в священное место и с целью получить там наставление, совет, утешение и лекарство.
Не всегда, однако, Шибов пользовался репутацией такой правоверности. Наоборот, первыми основателями его были отщепенцы, караимы, представители духа оппозиции и критики среди еврейского народа. Когда-то, много времени тому назад, они обратили в свою веру могущественный народ, живший в богатой вином и золотом стране херсонской, и стали ее царями. Потом, со своими воспоминаниями об этом царствовании, со своей единственной религиозной и законодательной книгой — Библией, эти двойные изгнанники из Палестины и Крыма отправились блуждать по свету, а маленькая частичка их, привлеченная в Литву великим князем литовским Витольдом, добралась даже до Белоруссии и там осела, обосновалась в небольшой кучке домов и мазанок, которая названа была Шибовым.
В то время в пятничные и субботние вечера в. местечке царили глухая тишина и мрак, потому что караимы в противоположность талмудистам не встречали святого шабаша ярким светом, шумным весельем и обильными угощениями, но приветствовали его темнотой, молчанием, печалью и размышлением об упадке святыни и отечественной славы и мощи. В то время из темных домов через маленькие мутные окошечки вылетали наружу приглушенные, протяжные, певучие и жалобные звуки; это отцы рассказывали детям своим о пророках, которые над реками вавилонскими разбивали свои арфы и отсекали себе пальцы от рук, чтобы никто не мог заставить их петь в неволе о находящейся где-то на юге Аравии благословенной стране Хавили, в которой десять колен израильских жили свободно, счастливо и мирно, не зная, что такое ссора или меч, и о священной реке Саббатион, скрывающей израильских беглецов от глаз их врагов.
Пришло, однако, время, когда там и сям в пятничные вечера окошечки домов стали блестеть ярким светом и из них вырывался наружу шум громких разговоров и хорового пения молитв. Число раввинистов возрастало. Почитатели талмудических авторитетов, представители слепой веры в устные предания, собранные и завещанные танаитами и гаонами, вторгались в местечко и вытесняли из жилищ горсточку еретиков и отщепенцев. Под влиянием этого нашествия караимская община начала постепенно таять. Последний удар нанес ей человек, известный в истории польских евреев под именем Михаила Эзофовича Сениора.
Это был первый Эзофович, имя которого выступило из мрака неизвестности. Семья его, бесконечно давно осевшая в Польше, была одной из тех, которые во времена королей Ягеллонов, благодаря законам и обычаям, сложившимся под влиянием очень высокого для тех времен уровня просвещения в Польше, связались дружественными узами с местным населением. Сениором, или старшим над всеми евреями Литвы и Белоруссии, наименовал его король Сигизмунд, дав ему грамоту, основной пункт которой гласил:
«Мы, Сигизмунд, божьей милостию и проч… приводим в известность всех евреев, живущих в государстве и отечестве нашем… Принимая во внимание верноподданные заслуги еврея Михаила Эзофовича и заботясь о том, чтобы в сношениях ваших с Нами вы ни в чем не встречали препятствий и задержек. Мы, руководствуясь справедливостью, постановляем, чтобы Михаил Эзофович улаживал при Нас все ваши дела и был над всеми вами старшим; вы же должны обращаться к Нам через его посредство и подчиняться ему во всем. Он будет судить вас и управлять вами согласно вашим обычаям и праву, а виновных будет наказывать с Нашего разрешения, каждого по заслугам».
По нескольким упоминаниям, которые делает история о Сениоре, легко узнать в нем человека сильной воли и энергии. Твердой рукой взял он вверенные ему над единоверцами бразды правления, а тех, которые не хотели ему подчиниться, именно караимов, он предал анафеме, исключавшей их из еврейской общины и лишавшей их права на дружескую помощь соплеменников. Под влиянием этого удара существование исконных жителей Шибова, достаточно печальное, убогое и бездеятельное, подверглось окончательному разложению. Потомки хазарских властителей, еретики, составлявшие, как бывает обыкновенно, незначительное меньшинство в обществе и являвшиеся предметом недоброжелательства и отвращения, измученные и обедневшие, они покинули место, которое дало им только временное пристанище. Со своей упорной и исключительной привязанностью к Библии — в сердце, со своими поэтичными легендами — на устах, они разошлись по свету, широкому и неприязненному. Как единственный след своего двухвекового пребывания в серой кучке домов, затерявшейся среди белорусских пространств, они оставили здесь несколько семей, более стойких или более страстно привязанных к старым могилам, где покоились кости их отцов, и к холму, на котором виднелись развалины их храма, разрушенного восторжествовавшими раввинитами.
Раввиниты захватили Шибов в свое полное владение и, правду сказать, своею деятельностью, предусмотрительностью, полной солидарностью своих действий, опиравшихся на почти беспримерную взаимопомощь, они превратили серый городок из места тишины, печали и убожества в место, полное движения, шума, труда и богатства.
Вообще в те времена евреям, находившимся под властью Сениора, жилось хорошо. Кроме материальных успехов, для них начала расцветать надежда на освобождение от духовного мрака и от общественного унижения. Должно быть, Сениор обладал быстрым и ясным умом, если он сумел, несмотря на вековые предрассудки и предубеждения, вникнуть в дух времени и в потребности своего народа. Не из-за религиозного фанатизма, конечно, но по чисто административным или еще более широким общественным побуждениям он выбросил караимов из лона Израиля. Хотя он и был раввинитом и, следовательно, обязан был, безусловно, чтить религиозные авторитеты и верить им, скептицизм, наилучший, а может быть, и единственный путь к мудрости, нередко овладевал его умом. В одном из своих докладов королю, защищаясь от возводимых на него обвинений в несправедливости его суда, он писал с грустью и с некоторой иронией:
«Книги наши разнятся между собой и предписывают различное; часто мы не знаем, как поступить, когда Гамалиил приказывает одно, а Элиазар другое. В Вавилоне одна, а в Иерусалиме другая, правда. Мы повинуемся второму Моисею, а новые называют его еретиком. Я советую ученым писать такие мудрые вещи, чтобы и умные люди и глупые могли их слушаться».
Это было как раз в то время, когда на Западе среди евреев, поселившихся в Испании и Франции, поднялся большой спор о том, должна ли быть светская наука запрещена или дозволена последователями Библии и Талмуда. Мнения колебались, но долго они не могли колебаться, так как сторонники безусловного отстранения Израиля от духовных трудов и стремлений человечества составляли огромное большинство. В каждом обществе время от времени наступают такие моменты, когда оно погружается во мрак. Чаще всего это случается тогда, когда жизненные силы и энергия парода подорваны длинным рядом сделанных усилий и перенесенных страданий, ослаблены потоками пролитой крови. Западные евреи после нескольких столетий тревог и скитаний — среди крови и огня — переживали в XVI веке такой момент. Далеки уже были от них те времена, когда из их среды выходили знаменитые ученые, посвящавшие себя изучению светских наук, вызывавшие к себе любовь народов и уважение самих королей. Далека от них, забыта и в полном пренебрежении была всеобъемлющая и возвышенная мысль Маймонида, который, отдавая должное уважение израильскому законодателю, почитал также и греческих мудрецов, который старался расположить и укрепить библейское и талмудическое учения на основах математических истин, который открыто, признавался в своем стремлении выразить две тысячи пятьсот листов Талмуда хотя бы в одной, но только ясной, как день, главе, который, не оправдывая безрассудных мнений даже религиозными верованиями, утверждал, что «глаза помещены на голове человека спереди, а не сзади, для того, чтобы он мог смотреть вперёд», и предсказывал, что «придет время, когда весь мир наполнится знанием, подобно тому, как водой наполнены морские пучины».
Четыре века прошло с тех пор, как с поверхности земли исчезла серьезная, вдумчивая, глубоко симпатичная фигура израильского мыслителя, который, впрочем, был вообще одним из величайших мыслителей средних веков. Великана с орлиным взором и пламенным сердцем сменили карлики с измученной душой, насыщенной горечью, с глазами, мутными и близорукими, подозрительно смотревшими на свет.
«Остерегайся греческой мудрости, — взывал к своему сыну Иосиф Эзоби, — потому что она подобна содомскому винограднику, наполняющему голову человека пьянством и грехом». «Чужие люди проникают в ворота Сиона!» жаловался Абба-Мари, когда до него доходили слухи об еврейской молодежи, учащейся у иноверных учителей. И вот все сообща раввины и начальники еврейских общин на Западе издали указ, чтобы никто не смел до истечения тридцати лет заниматься светской наукой. «Только тот, — объясняли они, — кто наполнил уже ум свой Библией и Талмудом, имеет право греться у чужих огней».
«Равви! — отвечали на это более смелые, хотя и не менее покорно подчиняющиеся распоряжениям своих духовных вождей, — а как же мы будем изучать светские науки после тридцати лет нашей жизни, когда к этому времени ум наш отупеет, память ослабнет и не будет уже у нас ни желаний, ни сил молодости?»
Осталось, однако, так, как было предписано. Ум отупел у них, измученная память ослабела, покинули их силы и желания молодости. Могила Маймонида, молчаливая и неподвижная, стояла среди моря мрака, разлившегося над народом, который он вел к свету. Память его была предана анафеме, а дерзкая рука стерла с его надгробного памятника надпись, полную благодарности и прославления, заменив ее словами, сухими и жесткими, как тьма и фанатизм:
«Тут лежит Маймонид, отлученный еретик».
Такие же споры в то же самое время возникли и среди евреев, поселившихся в Польше. Но не так сильно утомленные гонениями, которых они испытали несравненно меньше, чем собратья их на Западе, более свободные, более уверенные в правах на жизнь и на будущее, они проявляли меньше отвращения к «чужим огням».
Среди них возникла даже довольно многочисленная партия, которая громко высказывалась за светскую науку и за солидарность с остальным человечеством в его духовных трудах и стремлениях. Одним из тех, которые стояли во главе этой партии, был Сениор Литовский — Эзофович. Главным образом именно благодаря его стараниям было издано еврейским синодом, собравшимся в то время, воззвание ко всем польским евреям, главный пункт которого гласил:
«У Иеговы есть много сефиротов, у Адама были различные источники совершенств. Израильтяне также не должны довольствоваться одной наукой (религиозной). Священное учение занимает первое место, но из-за этого не следует оставлять без внимания другие. Самым лучшим плодом является райское яблоко, но неужели, поэтому мы не должны есть менее вкусные яблоки?.. Жили евреи и при царских дворах, Мардохай был ученым, Эсфирь была мудра, Неемия был советником! персидского царя — и они спасли народ от рабства. Учитесь, будьте полезны королям и вельможам, и вас будут уважать. Сколько звезд на небе, сколько песку в море, столько евреев на свете; но не светят они, как звезды, а каждый топчет их, как песок… Однако ветер бросает семена разных деревьев, и никто не спрашивает, откуда произошло самое пышное дерево. Почему же и среди нас не мог бы вырасти кедр ливанский вместо терновника?»
Вскоре тому человеку, под чьим влиянием было написано воззвание, приглашавшее польских евреев повернуть голову в ту сторону, откуда шло сияние будущего, пришлось столкнуться лицом к лицу с другим человеком, взоры которого были устремлены в прошедшее и в тьму.
Этим человеком был недавно приехавший в Польшу из Испании и поселившийся в Шибове Неемия Тодрос, потомок того знаменитого Тодроса Абулаффи Галеви, который, прославившись сначала своей талмудической мудростью и правоверностью, дал потом увлечь себя мрачными тайнами каббалистики и, поддерживая ее своим авторитетом, значительно содействовал возникновению среди Израиля одного из пагубнейших заблуждений, какому только может подпасть дух народа. Предание говорит, что Неемия Тодрос, носивший княжеский титул насси, первый привез в Польшу книгу Зогар, заключающую в себе толкование или скорее квинтэссенцию пагубного, учения, и что как раз с этого времени началось в Польше смешение талмудических наук с каббалистикой, распространявшейся все шире и шире и оказывавшей все более и более вредное влияние на умы и на жизнь польских евреев. История умалчивает о распрях и борьбе, возникших вследствие этого нововведения среди народа, который готов был уже выбиться из окружающей его вековой темноты; но предания, благочестиво сохраняемые в недрах семей, гласят, что в борьбе, которая долго и ожесточенно велась между Михаилом Эзофовичем, исконным польским евреем, и Неемией Тодросом, испанским пришельцем, первый оказался побежденным. Снедаемый скорбью, которую вызвал в нем вид его народа, свернувшего на ложный путь, и преследуемый интригами своего мрачного противника, он умер в цвете лет. Имя его сохранялось в роде Эзофовичей из поколения в поколение. Все они гордились этим воспоминанием, хотя с течением времени все меньше понимали действительное значение его.
Тогда-то и начался период большого влияния Тодросов и постепенного уменьшения нравственного влияния Эзофовичей. Последние, вытесненные первыми из сферы широкой общественной деятельности, все свои силы и способности обратили в сторону увеличения собственного материального благосостояния. На судоходных речках из года в год во множестве появлялись их суда, доставлявшие к далеким портам огромные запасы всевозможных предметов торговли; дом их, стоявший посреди жалкого городка, все больше и больше становился главным центром местного кредита и промышленности; к ним, как и к современным Ротшильдам, обращались все, кто нуждался в золоте для осуществления своих планов и предприятий.
Эзофовичи были горды приобретенным ими денежным могуществом и совершенно перестали заботиться о другом — о влиянии на дух и судьбы народа, каким обладал их прадед. Это влияние, по-видимому, навсегда вырвали из их рук Тодросы, те самые Тодросы, которые находились постоянно в нужде, почти в нищете, которые жили в жалкой лачуге, прилепившейся у подножья храма, пренебрегая всем, что имело вид роскоши, красоты и даже удобства, но которые пользовались в то же время широкой известностью по всей стране и привлекали к себе самые набожные вздохи, самые горячие мечты и тоску своего народа. И только один раз на протяжении двух столетий еще один Эзофович сделал попытку добиться не только денежного могущества, но и влияния на умы и души своих соплеменников.
В Варшаве заседал Великий четырехлетний сейм. Отголоски происходивших там прений доходили до белорусского городка. Население, жившее в нем, с любопытством прислушивалось и ждало. Из уст в уста передавался слух, полный надежды и тревоги: о евреях тоже совещаются там!
— Что говорят там о нас? Что там о нас пишут? — спрашивали друг друга в тесных уличках Шибова длиннобородые прохожие, одетые в длинные кафтаны и большие меховые шапки. Любопытство росло так сильно с каждым днем, что стало даже задерживать — вещь совершенно необычайная — движение денежных и торговых дел. Некоторые отправились, даже в далекий и трудный путь, в Варшаву, чтобы находиться поближе к источнику, из которого приходят сведения; оттуда они посылали собратьям, оставшимся в белорусском городишке, длинные письма, смятые и запачканные газеты и вырванные из различных брошюрок и книжек страницы.
Из всех тех, кто остался в местечке, наиболее внимательно и наиболее тревожно прислушивались ко всему два человека — Нохим Тодрос, раввин, и Герш Эзофович, богатый купец.
Взаимоотношения этих двух людей основывались на глухой, тайно кипевшей неприязни. Они не любили друг друга. По виду они жили друг с другом в полном согласии, но при каждом сколько-нибудь важном случае проявлялся, иногда вспыхивая в очень бурных формах, антагонизм, существовавший между правнуком Михаила Сениора, учеником Маймонида, и потомком Неемия Тодроса, фанатика и каббалиста.
Наконец однажды из Варшавы пришел в Шибов листок бумаги, пожелтевший и измятый в длинном пути, на котором было написано следующее:
«Все различия в одежде, языке и обычаях, существующие между евреями и местным населением, должны быть уничтожены. Всё, что касается религии, оставить неприкосновенным. Даже секты должны пользоваться терпимостью, если они не будут дурно влиять на нравственность. Ни одного еврея, до двадцатилетнего возраста, не допускать к крещению. Евреям предоставляется право приобретать земли, а тех из них, которые захотели бы заняться земледелием, освободить на пять лет от податей и наделить их земледельческим инвентарем. Запрещается заключать браки мужчинам до двадцати лет, а женщинам до восемнадцати».
Листок этот носили по улицам, площадям и домам, читали его по сто раз, размахивали им в воздухе как знамением торжества или траура, пока, наконец, пройдя через тысячи жалких и дрожащих рук, он не распался в мелкие клочки, не превратился в желтоватую пыль и… не исчез.
Свое мнение о том, что было прочитано, население Шибова высказало, однако, не сразу. Часть его, значительно меньшая, вопросительно глядела на Герша; другая часть, гораздо большая, испытующе всматривалась в лицо ребе Нохима.
Реб Нохим переступил через порог своей мазанки и, подняв в знак ужаса и отчаяния свои худые руки над головой, покрытой седыми волосами, воскликнул несколько раз:
— Ассыбе! Ассыбе! Дайтэ!
— Несчастие! Несчастие! Горе! — повторила за ним толпа, наполнявшая в этот день двор храма. Но в тот же самый момент Герш Эзофович, стоявший у самых дверей дома молитвы, заложил белую руку за широкий пояс атласного кафтана, другой провел по густой рыжей бороде, высоко поднял голову, покрытую дорогой бобровой шапкой, и не менее громко, чем раввин, только совершенно другим голосом воскликнул:
— Офенунг! Офенунг! Фрейд!
— Надежда! Надежда! Радость! — робко и тихо, искоса поглядывая на раввина, повторила немногочисленная кучка друзей Эзофовича.
Но у старого раввина был хороший слух, он услышал. Белая борода его затряслась, черные глаза бросили в сторону Герша взгляд, метавший молнии.
— Прикажут нам брить бороды и носить короткое платье! — завопил он жалобно и гневно.
— Ум наш сделают длиннее и расширят в груди сердце наше! — ответил ему от дверей храма громкий голос Герша.
— Запрягут нас в плуги и прикажут нам возделывать страну изгнания! — кричал реб Нохим.
— Откроют перед нами сокровища земли и прикажут ей стать нашим отечеством! — кричал Герш.
— Запретят нам соблюдать кошеры и из Израиля сделают кедр ливанский вместо терновника! Лица сыновей наших зарастут бородами, раньше, чем им можно будет взять себе жен!
— Они возьмут себе жен, когда разовьется ум в их головах и сила в их руках!
— Прикажут нам греться у чужих огней и пить из содомского виноградника!
— Приблизят к нам Иобель-га-Гадель, праздник радости, когда ягненок будет спокойно лежать рядом с тигром!
— Герш Эзофович! Герш Эзофович! Твоими устами говорит душа прадеда твоего, который всех евреев хотел увести к чужим огням!
— Реб Нохим! Реб Нохим! Из твоих глаз смотрит душа твоего прадеда, который всех евреев погрузил в глубокий мрак!
Так среди всеобщей глубокой тишины, царившей в толпе, стоя вдали друг от друга, переговаривались эти два человека. Голос Нохима становился все тоньше и пронзительнее, голос Герша звучал все сильнее и глубже. Желтые щеки старого раввина покрылись пятнами кирпичного цвета, лицо Эзофовича побледнело. Раввин тряс над головой высохшими руками, откидываясь то вперед, то назад, а серебряная борода его разметалась по плечам; купец стоял прямо и неподвижно, в серых глазах его сверкал гневный вызов, а рука, засунутая за пояс, резко выделялась своей белизной на черном фоне атласа.
Несколько тысяч глаз перебегало от лица одного из двух предводителей народа к лицу другого, несколько тысяч уст дрожало, но… молчало.
Наконец по двору храма разнесся острый, протяжный крик ребе Нохима.
— Ассыбе! Ассыбе! Дайтэ! — стонал старец, рыдая и заломив над головой руки.
— Офенунг! Офенунг! Фрейд! — подняв вверх белую руку, выкрикивал Герш голосом, звенящим радостью.
Толпа еще минуту молчала и стояла неподвижно, потом головы начали наклоняться друг к другу наподобие волн, идущих в разные стороны, и наподобие рокочущих вод рокотать стала толпа, и вдруг несколько тысяч рук поднялось вверх с выражением тревоги и страдания, и из нескольких тысяч грудей вырвался громкий единодушный возглас:
— Ассыбе! Ассыбе! Дайтэ!
Реб Нохим победил.
Герш обвел глазами вокруг себя. Приверженцы окружили его тесным кольцом. Правда, они не повторяли криков толпы, но… молчали. Головы их были опущены, а взоры несмело потуплены в землю.
По губам Герша скользнула презрительная усмешка. И когда народ шумной, стонущей волной двинулся к храму, когда реб Нохим, бегом подвигаясь во главе толпы, продолжал потрясать над седой головой желтыми руками и, еще не доходя до порога храма, начал громким голосом читать молитву, произносимую обыкновенно в час опасности, когда, наконец, темные стены дома молитвы огласились громким рыдающим воплем: «Боже, спаси народ твой! Избавь от гибели остатки Израиля!» — молодой купец долго еще стоял без движения в глубокой задумчивости, глядя пристально в землю, потом медленным шагом прошел через большую площадь местечка и исчез в глубине стоящего возле площади обширного, бросающегося в глаза дома.
Это был самый большой и самый красивый дом в местечке, еще совсем новый, выстроенный самим Гершем, блистающий желтыми стенами и светлыми окнами. В длинной комнате Герш сел с мрачным видом на простую деревянную скамейку и закрыл лицо руками. Потом поднял голову и позвал:
— Фрейда! Фрейда!
На его зов отворились двери соседней комнаты, и в золотом отблеске ярко горевшего там очага на пороге показалась молодая стройная женщина. На голове у нее была большая белая повязка, белый фартук спадал с ее украшенной несколькими нитками жемчуга шеи до самого подола цветной юбки. Огромные черные глаза озаряли весельем и огнем продолговатое нежное лицо. Она остановилась перед мужем и молча устремила на него вопросительный взгляд.
Герш указал ей глазами скамью, на которую она сейчас же села.
— Фрейда! — начал он, — слышала ты о том, что делалось у нас сегодня в местечке?
— Слышала, — ответила Фрейда тихо: — брат мой, Иозе, заходил ко мне и говорил, что ты сильно ссорился сегодня с ребе Нохимом.
— Он хочет съесть меня так, как его прадед съел моего прадеда.
В черных глазах Фрейды отразилась тревога.
— Герш! — воскликнула она, — не ссорься ты с ним! Он великий и святой человек! Все пойдут за ним!
— Ну, — после минутного молчания ответил с усмешкой Герш, — ты не пугайся. Теперь пришли уже другие времена! Ничего он мне не сделает! А я не могу закрывать себе рот, когда сердце мое громко требует от меня, чтобы я говорил! И я не могу видеть, как этот человек называет добро злом, а глупый народ смотрит ему в глаза и потом кричит то же, что и он, хотя ничего не понимает. Да и откуда же ему что-нибудь понимать? Разве Тодросы учили его когда-нибудь отличать зло от добра и отделять то, что было, от того, что будет?
Помолчав минуту, Герш начал снова:
— Фрейда!
— Что, Герш!
— Ты не забыла еще того, что я рассказывал тебе о Михаиле Сениоре?
Женщина благоговейно сложила руки.
— Как я могла забыть это? — воскликнула она. — Ты мне такие прекрасные истории рассказывал о нем!
— Это был великий, очень великий человек! Тодросы съели его. Если бы они не съели его, он бы много хорошего сделал для евреев. Но это не беда. Я спрошу у него, как он хотел действовать; он научит меня — и я сделаю вместо него!
Фрейда побледнела.
— А как же ты спросишь его, — прошептала она с тревогой, — если, его давно уже нет в живых?
Таинственная усмешка промелькнула по тонким губам купца.
— Уж я знаю как! Иногда господь бог делает так, что и те, кто давно уже не живет, могут говорить и учить правнуков своих.
— Фрейда! — начал он через минуту, — знаешь ли ты, что сделал Михаил Сениор, когда почувствовал, что Тодросы съедят его и что он умрет раньше, нежели придут иные времена?
— Ну, что он сделал?
— Он заперся в комнате и долго сидел там в одиночестве; ничего не ел, ничего не пил и не спал, а… только писал. А что он писал? Этого еще никто не узнал, потому что свою рукопись он спрятал где-то очень глубоко; а когда ему стало плохо и он понял, что ему приходит конец, то он сказал своим сыновьям: «Я написал все, что я знал и что чувствовал и что я думал сделать; но рукопись мою я спрятал от вас, потому что теперь настали такие времена, что она ни к чему не может пригодиться. Тодросы господствуют и долго еще будут господствовать и сделают так, что ни вы, ни ваши дети, ни внуки не захотят увидеть мою рукопись; а если бы и увидели, то разорвали бы ее в клочки и пустили бы по ветру, и говорили бы, что Михаил Сениор был кофрим (вероотступник), и прокляли бы его так, как прокляли второго Моисея. Но опять придут такие времена, что праправнук мой сильно захочет иметь мою рукопись, чтобы спросить у нее, что надо думать и как надо действовать, чтобы спасти евреев от рабства у Тодросов и повести их к тому солнцу, в лучах которого греются другие народы. Тот праправнук мой, который сильно захочет этого, найдет мою рукопись, вы же все только говорите в час вашей смерти старшим сыновьям вашим, что она существует и что в ней находится много мудрых вещей. И пусть так будет из поколения в поколение. Я вам так приказываю. Помните это, чтобы быть послушными тому, чья душа заслужила себе право на бессмертие».
Герш кончил говорить. Фрейда сидела неподвижно, всматриваясь в лицо мужа взглядом, полным любопытства.
— И ты будешь искать эту рукопись? — спросила она тихо.
— Я буду искать ее, — повторил муж, — и я найду ее, потому что я тот праправнук, о котором говорил Михаил Сениор, когда умирал. Эту рукопись я найду. Ты, Фрейда, помоги мне искать.
Женщина встала и выпрямилась, сияя радостью.
— Какой ты добрый, Герш! — воскликнула она из глубины души. — Какой ты добрый, что допускаешь меня, женщину, к таким важным делам и поверяешь мне такие важные мысли!
— А почему бы мне и не допускать тебя к ним? Разве ты плохо смотришь за моим домом или плохо ходишь за моими детьми? Ты все делаешь хорошо, Фрейда, и твоя душа так же прекрасна, как твои глаза!
Ярким румянцем залилось бледное лицо молодой еврейки. Она опустила глаза, но коралловые губы ее тихо шептали едва уловимые слова, слова любви или благодарности.
Герш встал.
— Где же мы будем искать эту рукопись? — начал он в раздумьи.
— Где? — повторила женщина.
— Фрейда, — сказал муж, — Михаил Сениор не мог спрятать свою рукопись в землю, ведь он знал, что если спрятать ее в землю, то черви источат ее, или же она рассыплется в прах. В земле ли эта рукопись?
— Нет, — ответила женщина, — в земле ее нет.
— Ив стену он не мог ее спрятать, ведь он знал, что стены скоро истлеют и что их разрушат, чтобы поставить новые. Я сам ставил новые стены и в старых стенах искал очень старательно; но никакой рукописи в них не было.
— Не было! — с сожалением отозвалась Фрейда.
— И в крыше он не мог ее спрятать, ведь он знал, что крыша сгниет и что ее разбросают, чтобы сделать новую. Когда я родился, то на старом доме нашем была, может быть, уже десятая крыша, но мне кажется, что рукописи этой ни в одной крыше не было.
— Не было! — повторила женщина.
— Так, где же она может быть?
Задумались оба. Вдруг после нескольких минут молчания женщина воскликнула:
— Герш, я уже знаю! Эта рукопись там.
Муж поднял голову. Женщина вытянутым пальцем указывала на большой стеклянный шкаф, стоявший в углу комнаты и сверху донизу наполненный большими книгами в серых запыленных переплетах.
— Там? — спросил Герш колеблющимся тоном.
— Там! — решительно повторила женщина. — Разве ты не говорил мне, что это книги Михаила Сениора и что все Эзофовичи сохраняют их здесь в память о нем, но что их никто никогда не читал, потому что таких книг Тодросы не позволяют читать!
Герш провел рукой по лбу; женщина продолжала:
— Михаил Сениор был мудрый человек, и перед глазами его стояло будущее. Он знал, что этих книг никто не будет читать и что только тот, кто захочет их читать, будет тем правнуком, который дождется иных времен и найдет его рукопись!
— Фрейда! Фрейда! — воскликнул Герш, — ты умная женщина!
Под белоснежной повязкой черные глаза женщины скромно опустились к земле.
— Герш! Я пойду посмотреть на детей наших и убаюкаю младшего, ведь он плачет. Раздам работу слугам и велю потушить очаг, потом приду сюда — помогать тебе в твоей работе.
— Приходи! — сказал Герш, а когда женщина уходила в комнату, из которой доносились голоса детей и слуг, он посмотрел ей вслед и вполголоса сказал:
— Умная жена дороже золота и жемчуга. При ней сердце мужа может быть спокойно!
Через минуту она вернулась, задвинула засов у дверей и тихонько спросила мужа:
— А где ключ?
Герш нашел ключ от прадедовского шкафа, отворил его, и они оба начали снимать с полок большие книги. Потом клали их на землю, наклонялись над ними и, не спеша, с напряженным вниманием перелистывали одну за другой пожелтевшие от времени страницы. Пыль тучами подымалась от груды бумаг, до которых целые столетия не прикасалась ничья рука, садилась на белоснежную повязку Фрейды и серым слоем осыпала золотистые волосы Герша. Но они работали неутомимо и с таким торжественным выражением на лицах, что могло показаться, будто они раскапывают гроб прадеда, чтобы достать из него зарытые вместе с ним великие мысли его.
День уже клонился к вечеру, когда, наконец, из груди Герша вырвался крик, подобный тому, каким люди встречают счастье и победу. Фрейда ничего не сказала, только встала с земли и движением, полным благодарности, высоко над головою вытянула сплетенные руки.
Потом Герш долго и усердно молился у окна, из которого виднелись первые вечерние звезды. Потом всю ночь в этом окне не угасал свет, а за столом, подперев обеими руками голову, Герш вчитывался в какие-то желтые большие открытые перед ним листы. На рассвете, едва восточный край неба начал пламенеть розовыми красками, он вышел из своего дома; в дорожном плаще, в большой дорожной шапке, сел в повозку, устланную соломой, и уехал. Уезжая, он был в такой глубокой задумчивости, что не попрощался даже ни с детьми своими, ни со слугами, толпившимися в сенях дома. А только кивнул головой Фрейде, которая стояла на крыльце в покрасневшей от света утренней зари белой повязке на голове и черными глазами, полными грусти, а равно и гордости, долго смотрела вслед уезжавшему мужу.
Куда поехал Герш? За горы, за леса, за реки… в далекую сторону, где среди болотных равнин и черных пинских лесов жил красноречивый защитник равноправия и просвещения польских евреев, депутат сейма, Бутримович, коренной шляхтич. Он был мыслитель. Он видел ясно и далеко; не скрыты были от него скрытые от других связь исторических событий, причины и последствия их.
Когда Герш, введенный в дом шляхтича, оказался перед лицом мудрого депутата, он поклонился ему низко и начал свою речь так:
— Я — Герш Эзофович, купец из Шибова, праправнук Михаила Эзофовича, который был над всеми евреями старшим и назывался, согласно указу самого короля, Сениором. Приехал я издалека. А для чего я приехал сюда? Для того, чтобы повидать великого депутата и поговорить с великим человеком, от слов которого на глаза мои и на лицо мое упал такой яркий свет, как от лучей солнца. Свет этот очень силен, но не ослепил меня, потому что, как былинка земная обвивается вокруг ветвей высокого дуба, так и я хочу, чтобы мысль моя обвивалась около твоей великой мысли и чтобы они обе распростерлись над людьми, как радуга, после которой не будет уже на свете ни ссор, ни мрака!
Когда на это вступление депутат ответил приветливо и одобрительно, Герш продолжал дальше:
— Сказал ли ясный пан, что нужно установить вечный мир между двумя народами, которые, живя на одной земле, ведут друг с другом войну?..
— Да, я сказал это! — подтвердил депутат.
— Сказал ли ясный пан, что еврей, если его сравнять во всем с христианином, никогда не будет вреден?
— Да, я сказал это.
— Сказал ли ясный пан, что евреев он считает польскими гражданами и что необходимо, чтобы они посылали детей своих в светские школы, чтобы они имели право покупать землю и чтобы среди них были уничтожены различные обычаи, которые ни полезны, ни разумны.
— Да, я сказал это, — повторил депутат.
Тогда высокий, представительный еврей, с гордым лицом и умным взглядом, быстро наклонился и, раньше, чем депутат мог сообразить и остановить его, прижал к своим губам его руку.
— Я здесь пришелец, — сказал он тихо, — гость в этом краю, младший брат…
Потом выпрямился и, опустив руку в карман своей атласной одежды, достал оттуда сверток пожелтевшей бумаги.
— Вот что я привез пану, — сказал он: — это для меня дороже золота, жемчугов и бриллиантов…
— Что же это такое? — спросил депутат.
Герш торжественно ответил:
— Завещание предка моего, Михаила Эзофовича Сениора.
Целую ночь они сидели вдвоем и читали при свете восковых свечей. Потом перестали читать и начали разговаривать. Разговаривали тихо, близко склонившись головами друг к другу, с пылающими лицами. Потом, уже при свете дня, вдруг встали оба одновременно, протянули друг другу руки и соединили их в крепком пожатии.
Что читали они всю ночь, о чем говорили, что порешили, какие чувства, вызвавшие в них одушевление и надежду, соединили их руки в братском пожатии? Этого никто так и не узнал. Все исчезло в темной ночи исторических тайн, где уже немало скрылось от нас солнечных стремлений и мыслей. Превратности судьбы сбросили их туда. Они скрылись, но не погибли. Часто нам приходится спрашивать себя: откуда берутся эти проблески мыслей и страстных желаний, которых раньше никто не знал? И мы не подозреваем, что источником их часто бывают те минуты, которых ни один летописец нигде на страницах истории не отметил…
На следующий день к крыльцу шляхетского двора подъехала колымага, запряженная шестерней. В нее сел владелец двора вместе со своим гостем-евреем, и они отправились в дальнюю дорогу, в столицу.
Из Варшавы Герш вернулся в Шибов через несколько месяцев. Вернувшись, он расхаживал по местечку и окрестностям проворно и неутомимо, говорил, рассказывал, объяснял, убеждал, объединял приверженцев для подготовлявшихся перемен и всестороннего преобразования жизни своего народа. Потом уезжал, снова возвращался и снова уезжал… Так длилось несколько лет.
Вдруг из одной своей поездки, а именно последней, Герш вернулся сильно изменившимся, с помутившимся взором, с осунувшимся лицом. Он вошел в свой дом, грузно опустился на лавку и, подперев голову рукой, тяжело вздохнул.
Фрейда стояла перед ним опечаленная, встревоженная, но тихая и терпеливая.
Спрашивать она не смела. Ждала, когда он сам взглянет на нее и сообщит ей, в чем дело. Наконец он поднял на нее свой мутный, грустный взгляд и сказал:
— Все пропало!
— Почему пропало? — тихо шепнула Фрейда.
Герш сделал рукой жест, обозначавший гибель чего-то великого.
— Когда какое-нибудь здание разлетается в куски, — сказал он, — тем, которые живут в нем, балки падают на головы и пыль засыпает глаза…
— Это правда! — подтвердила женщина.
— Разрушилось одно великое здание… балки свалились на все великие предприятия и труды наши, а прах засыпал их… надолго!
Потом встал, посмотрел на Фрейду глазами, полными слез, и сказал:
— Надо спрятать завещание Сениора, потому что оно теперь ни к чему не может послужить. Идем, Фрейда, спрячем его очень глубоко… может быть, какой-нибудь правнук наш будет искать его и найдет…
С этого дня Герш начал явно стареть. Глаза его гасли, плечи горбились. Часто он сидел на лавке целыми часами, покачиваясь из стороны в сторону, громко вздыхая и тихо повторяя:
— Ассыбе! Ассыбе! Ассыбе! Дайтэ! Несчастье! Несчастье! Горе!
За этим печальным человеком тихо и заботливо ухаживала стройная женщина в цветной юбке и белой повязке на голове. Черные глаза ее часто наполнялись слезами, а шаги были так осторожны и легки, что даже жемчуг, украшавший ее шею, не прерывал никогда его задумчивости самым легким звоном. Иногда Фрейда с удивлением смотрела на мужа. Его грусть печалила ее, но хорошенько она не понимала своего мужа. О чем он горюет? Богатства его не уменьшились, дети растут здоровыми, все остается по-старому, как перед тем днем, когда он сильно поссорился с ребе Нохимом и когда они разыскали те старые желтые бумаги! Эта женщина, любящая и рассудительная, но для которой весь свет заключался в четырех стенах ее дома, не понимала, что душа ее мужа, вовлеченная в круг великих идей, пристрастившаяся к этому лучезарному миру и силой изгнанная из него враждебными обстоятельствами, не могла вылечиться от скорби и тоски по нем. Не знала она, что существует на земле тоска и скорбь, которые не имеют отношения ни к родителям, ни к детям, ни к жене, ни к имуществу, ни к собственному дому, и что от такой тоски и такой скорби человеческой душе, узнавшей их, вылечиться труднее всего.
В черной мазанке ребе Нохима тем временем раздавались радостные восклицания:
— Фрейд! Фрейд! Фрейд! — взывал к народу старый раввин, узнав, что «все пропало», что те, которые собирались приказать евреям, чтобы они брили бороды и носили короткие платья, говорили на местном языке и учились в местных школах, принимались за земледелие и не заключали бы браков в детском возрасте, — что они не имеют уже права приказывать.
— Фрейд! Фрейд! Фрейд! Спасены бороды и длинные кафтаны; спасены каббала, херемы и кошевы; спасены от столкновения с наукой Эдома святые книги Мишны, Гемары и Зогар! Спасены от необходимости таскать плуг руки избранного народа! Спасен, значит, от погибели народ Израиля!
Радовался Тодрос и призывал радоваться свою паству, веровавшую в его мудрость и святость. Торжествовал, но хотел торжествовать еще больше. Уничтожить Эзофовичей — это значило бы уничтожить течение, стремящееся к будущему и ведущее борьбу с тем течением, которое постоянно старалось превратить прошедшее в лед, в окаменелость. Кто знает, что может случиться впоследствии? Может быть, из проклятого этого рода появится какой-нибудь человек, достаточно сильный, чтобы уничтожить всю многовековую работу Тодросов? Ведь если бы события приняли иной оборот, то и сам Герш уже добился бы этого вместе со своими могущественными друзьями, эдомитами!
На Герша Эзофовича, как когда-то на его предка Михаила, посыпались со всех сторон обвинения, укоры, ему оказывали всякого рода противодействие. В доме молитвы громко обвиняли его в том, что он не соблюдает шабаша, ведет дружбу с г о я м и и, садясь с ними за стол, ест трефное мясо; что в спорных делах он избегает еврейских судов и обращается к местным; что он не подчиняется распоряжениям катального начальства и даже нередко громко порицает его; что он не уважает еврейских авторитетов, не оказывая должного почтения ребе Нохиму…
Гордо защищался Герш, опровергая некоторые из взводимых на него обвинений, в других сознаваясь, но, оправдывая их побуждениями, которых, однако, ни народ, ни руководители его не хотели признавать за основательные.
Продолжалось так довольно долго, но, в конце концов, все затихло. Умолкли обвинения, прекратились интриги, потому что умолк и морально исчез тот, кто был их предметом. Преждевременно состарившийся, полный горечи, измученный бесплодной борьбой, Герш совершенно замкнулся в частной жизни, снова стал заниматься торговлей и разными делами. Но и дела не шли уже у него так хорошо, как у других, потому что он не пользовался, как другие, симпатиями и помощью своих собратьев. Что он чувствовал, о чем думал в эти последние годы своей жизни, никто не знал, потому что он ни с кем не делился этим. Только перед смертью у него был длинный разговор с Фрейдой. Дети его были еще слишком малы, чтобы доверить им тайну своих обманутых надежд, напрасных усилий и заглушённых страданий. Он завещал им эту тайну через свою жену. Но поняла ли Фрейда и запомнила ли слова умирающего мужа? Захотела ли она и сумела ли повторить их его потомкам? Неизвестно. Верно только то, что она одна знала место, где было спрятано завещание Сениора, та старая рукопись, являвшаяся наследием не только рода Эзофовичей, но и всего израильского народа, наследием, о котором никто не знал и никто не заботился, но в котором — кто знает? — заключались, быть может, сокровища, во сто раз большие, чем сокровища, наполнявшие амбары и сундуки богатой купеческой семьи.
Последние желания и мысли Сениора спали, таким образом, где-то в тиши, ожидая опять смелой руки какого-нибудь правнука, которая бы пожелала разбудить их и вынести на свет; а в местечке тем временем, после смерти Герша, не осталось уже ни одной души, тоскующей по свету, ни одного сердца, которое бы билось сильнее для чего-либо другого, кроме собственной жены, собственных детей и прежде всего собственного имущества.
Шумно стало там от хлопот и стараний, направленных исключительно только на приобретение денег, темно от мистических опасений и мечтаний, тяжело и душно от неутомимой, мелочной, бессердечной правоверности.
В глазах же единоверцев всей страны население Шибова считалось очень сильным в материальном и нравственном отношении, очень умным, в высокой степени правоверным, чуть ли не святым.
Над всей этой глубокой, заброшенной общественной низиной навис мрак, состоявший из самых темных элементов, какие только существуют среди человечества. Там воцарилось преклонение перед буквой текста, из которого исчезла душа, грубое невежество, жестокая казуистика, подозрительное и полное ненависти отношение ко всему, что приходило от широких, солнечных, но «чужих» горизонтов.
I
Это было три года тому назад.
Серые туманы подымались с грязных улиц местечка и омрачали прозрачные сумерки звездного вечера. Мартовский ветерок вместе с запахом свежевспаханных полей проносился над низкими крышами, но не мог разогнать мутных, удушливых испарений, клубившихся у дверей и окон домов.
Местечко, однако, несмотря на туманы и испарения, наполнявшие его, имело веселый и праздничный вид. Сквозь серые клубы тумана тысячи окон блестели ярким светом, из освещенных домов неслись отголоски шумных разговоров или хорового пения молитв. Если бы кто-нибудь, проходя по улицам, заглянул через окна по очереди в несколько домов, то увидел бы всюду веселые семейные сцены. Посреди комнат, больших и маленьких, помешались длинные столы, накрытые и убранные по-праздничному, вокруг них суетились женщины в цветных чепцах, принося и устанавливая на столах произведения собственных рук и весело любуясь ими. Бородатые мужчины держали на руках маленьких детей, целовали их в пухлые щечки или же, ко всеобщему удовольствию старших детей и взрослых членов семьи, подбрасывали их под самый потолок, правда, не особенно высокий; другие сидели на лавках многочисленными группами и, оживленно жестикулируя, разговаривали о делах минувшей недели; некоторые же, накрывшись белыми талесами, падавшими мягкими складками, стояли, повернувшись лицом к стене, и быстрыми движениями, наклоняясь то вперед, то назад, ревностной молитвой готовились к встрече святого дня шабаша.
Это был как раз пятничный вечер.
И во всем местечке можно было найти только одно место, в котором царили мрак, пустота и тишина. Этим местом была маленькая серая избушка, прилепившаяся своей покосившейся низкой стеной к невысокому холму, который подымался с одной стороны местечка и составлял среди огромной равнины единственную выпуклость почвы. Холм этот, впрочем, не был естественный. Предание говорит, что его насыпали когда-то собственными руками караимы и воздвигли на нем свой храм. В настоящее время от еретического храма не осталось уже и следа; обнаженный песчаный холм защищал теперь от вихрей и снежных заносов только маленькую мазанку, которая, в свою очередь, с благодарностью и смирением жалась у его подножия.
Над крышей мазанки на склоне холма росла большая дикая груша. В ее ветвях тихо шумел ветер, и мерцало несколько маленьких звезд. Значительное пространство пустых или запаханных под яровое полей отделяло это место от местечка. Здесь царила глубокая тишина, и только изредка доносились сюда невнятные, приглушенные отзвуки далекого шума; по черным в сумерки грядам стлались и тяжело плыли к избушке выходившие из уличек местечка густые клубы пара и тумана.
Сквозь два крохотные оконца, составленные из мелких разнородных кусочков стекла, внутренность избушки казалась черной, как пропасть, и из этой темной пропасти звучал и выходил наружу старческий, дрожащий, но громкий мужской голос:
— «За далекими морями, за горами высокими, — раздавался среди непроглядной тьмы этот голос, — течет река Саббатион… Не водой течет она, не молоком и не медом! Течет она желтым крупным песком и большими камнями».
Хриплый, дрожащий старческий голос умолк, и в черной бездне, видневшейся из-за двух маленьких окошечек, минуту царило глубокое молчание. Оно было прервано на этот раз совсем иными звуками:
— 3ейде, говори дальше…
Слова эти были произнесены молодым девичьим, почти детским голосом, звучавшим, однако, протяжно и задумчиво.
3ейде (дедушка) спросил:
— А что, не идут еще?
— Не слышно! — ответил прозвучавший ближе к окну девичий голос.
В глубине черной бездны хриплый и дрожащий голос продолжал:
— «За священной рекой Саббатион живут четыре колена израильских: Гад, Ассур, Дан и Нефтали… Эти племена убежали туда от ужасов и великих притеснений, а Иегова… да будет благословенно святое имя его!.. скрыл их от врагов за рекой из песка и камней. А песок этот подымается так высоко, как огромные волны великого моря, а камни эти гудят и шумят, как дремучий лес, когда его качает сильная буря. А когда приходит день шабаша…»
Тут внезапно старческий голос снова оборвался и через минуту спросил тише:
— Не идут еще?
Долго не было ответа. Можно было подумать, что другое существо, находящееся в глубине темной мазанки, раньше, чем дать ответ, насторожилось и прислушалось.
— Идут! — раздалось, наконец.
Из глубины черной мазанки послышался глухой, протяжный стон.
— 3ейде, говори дальше! — сказал ближе к окну девичий голос, такой же чистый и звонкий, как раньше, только менее детский в эту минуту, более сильный.
Зейде молчал.
Со стороны местечка к мазанке, прислонившейся к холму, летел и все больше приближался странный шум. Слышался топот нескольких десятков пар человеческих ног, пискливые крики и серебристый смех детей, и прерывистый хохот. На пустом пространстве показалось в темноте большое двигающееся пятно, словно катящееся по поверхности черных полей. Вскоре пятно это оказалось рядом с мазанкой и рассыпалось на несколько десятков мелких частичек, которые с криком, писком, смехом и неописуемым гамом бросились к покосившимся стенам и низким оконцам.
Это были дети — мальчуганы разного возраста. Самому старшему из них могло быть лет четырнадцать, самому младшему — пять. Как они были одеты, в темноте невозможно было рассмотреть, но из-под маленьких шапок или из-под густых спутанных волос глаза их блестели бесшабашным своеволием, а может быть, еще и другими, живо вспыхнувшими в них чувствами.
— Гут абенд! Караим! — завизжала в один голос эта орава, стуча кулаками в дверь, запертую изнутри засовом, и барабаня по окнам, в верхних рамах которых зазвенели стекла.
— А почему ты не зажигаешь огней в шабаш? А почему ты, как чорт, сидишь в темной норе? Кофрим! Иберверфер! Вероотступник! Отщепенец! — кричали старшие.
— Алейдыкгейер! Ореман! Мишугенер! Бездельник! Нищий! Сумасшедший! — изо всех сил горланили младшие.
Ругательства, насмешки и стукотня в дверь и окна возрастали с каждой минутой, но вот внутри мазанки раздался девичий голос, спокойный и звонкий, как раньше, но такой сильный, что он покрыл собою весь шум кипевшей вокруг суматохи.
— Зейде, говори дальше!
— Ай-ай-ай-ай! — ответил из глубины старческий голос, — как могу я говорить, когда они так кричат! Так кричат и так ругаются!
— Зейде, говори дальше!
На этот раз девический голос звучал почти повелительно. Он не был уже детским: в нем чувствовалось страдание, презрение и усилие сохранить спокойствие.
Как грустное пение в реве и гуле разыгравшихся стихий, — так в дикий шум детской оравы, в бранные прозвища, мяуканье, вой и смех вплелись дрожащие, жалобные слова:
— «А в священный день шабаша Иегова… да будет прославлено святое имя его… дает отдых священной реке Саббатион… Песок перестает плыть огромными волнами, и камни не гудят, как лес. Только с реки, которая покоится в этот день и не двигается, встает большой туман, такой большой, что достает до высоких облаков и снова скрывает от врагов четыре колена израильских: Гада, Ассура, Дана и Нефтали…»
Увы! Вокруг мазанки с покосившимися стенами и с черной, как бездна, внутренностью священная река Саббатион не текла и не защищала жителей мазанки от врагов ни вздымавшимся, как волны, песком, ни высоким туманом!
Враги эти были малы, но их было много. Некоторые из них в последнем усилии зло рванули плохонькие рамы так, что стекла зазвенели и разлетелись в куски. Единодушный крик торжества далеко разнесся по полю с одной стороны и по пустырям с другой. Сквозь образовавшиеся в окнах отверстия внутрь избушки посыпались комья земли и. мелкие камешки. Старческий голос, казалось, ушедший вглубь, — словно человеческое существо, которому он принадлежал, забилось куда-то, в самый дальний угол, — взывал, дрожа и хрипя все больше:
— Ай-ай-ай-ай! Иегова! Иегова!
Девичий голос, по-прежнему звонкий, повторял, не переставая:
— Зейде, Зейде, не кричи! 3ейде, не бойся!
Вдруг позади детской оравы, уцепившейся за стены, за дверь и окна мазанки, кто-то громко и повелительно крикнул:
— Штыль, бубе! Что вы тут делаете, негодные мальчишки! Прочь!
Дети сразу смолкли и один за другим начали отцепляться от балок, задвижек и рам.
Человек, который громким и повелительным голосом заставил их присмиреть, был юноша высокого роста и красивой наружности. Длинная одежда плотно облегала его тело и была богато отделана мехом. Лицо его казалось в темноте белым, а глаза сверкали таким огнем, каким могут сверкать только молодые глаза.
— Что вы тут делаете! — повторил он гневно и решительно. — Разве тут, в этой избушке, живут волки? Чего вы кричите, ругаетесь, разбиваете окна?
Мальчуганы сначала молчали, сбившись в одну тесную кучу. Через минуту, однако, один из них, самый высокий и, должно быть, самый смелый, огрызнулся:
— А почему они в шабаш не зажигают свечей?
— А вам-то что до этого? — спросил юноша.
— Ну, а тебе-то что до этого? — защищался упрямый мальчуган. — Мы каждую неделю приходим сюда и делаем то же самое… ну, и что?
— Я знаю, что вы так делаете каждую неделю, вот я и подстерегал, чтобы поймать вас тут когда-нибудь… ну и подстерег. Ну, гей по домам! Живо!
— А почему ты, Меир, сам не идешь в свой дом? Твоя бобе и твой зейде давно уже едят без тебя рыбу. Почему ты прогоняешь нас отсюда, а сам шабаша не соблюдаешь?
Глаза юноши засверкали еще сильнее. Он топнул ногой и крикнул таким гневным голосом, что младшие сейчас же разбежались в разные стороны, и только самый старший мальчуган, словно для того, чтобы показать свое презрение к полученным назиданиям и выговорам, схватил комок грязной земли и с размаху хотел бросить его в избушку.
Но две сильные руки схватили его за руку и за воротник его одежды.
— Иди! — сказал юноша. — Я сам доведу тебя до дому!
Мальчуган завизжал и рванулся. Но его держали сильные руки, и громкий, уже спокойный голос приказал ему молчать. Он умолк и, чувствуя, что его продолжают держать за одежду, понурил голову.
Возле хижины было совсем тихо. Из темной глубины ее слышались тяжелые, хриплые вздохи, выходившие из какой-то очень старой груди, а у самого окошечка, возле нескольких разбитых стекол, зазвучал тихий девичий голос:
— Благодарю!
— Оставайтесь с миром! — ответил юноша и удалился, ведя за собою своего маленького пленника.
Пленник и его укротитель в молчании прошли несколько уличек местечка и, вступив на центральную площадь, направились к одному из находившихся возле нее домов.
Дом был низкий, длинный, с подъездом на деревянных столбах и с глубокими сенями, идущими во всю длину его; все это уже издали указывало на то, что это был так называемый заезжий дом. Поэтому-то окна с той стороны здания, где находились пустые комнаты, предназначенные для приезжих, были совершенно темны. Зато другие окна, как раз напротив жалких, плохо выбеленных столбов подъезда, едва на пол-локтя, поднимавшиеся над землей, усыпанной толстым слоем сена, соломы и всякого сора, мутно светились сквозь грязные стекла огнями шабаша.
Заезжий дом этот был собственностью Янкеля Камионкера, человека, занимавшего высокий пост в кагальном управлении и пользовавшегося среди еврейского населения местечка и окрестностей большим уважением за свою великую набожность, ученость и в не меньшей степени также за то уменье, с которым он вел свои дела и увеличивал свое состояние.
Юноша, вместе с мальчишкой, которого он вел за руку, но который, впрочем, не только не был, по-видимому, огорчен своим положением, а, наоборот, подпрыгивал на ходу через каждые несколько шагов и непринужденно напевал себе что-то под нос, прошел у освещенных окон по мягкой от сора почве, пружинившей под ногами; вошел в глубокие сени, где в темных закоулках, конь бил копытом о землю, и корова громко пережевывала жвачку; отыскал ощупью дверь, до которой поднялся по трем гнилым ступенькам, и, полуоткрыв ее, впихнул приведенного мальца внутрь жилища.
Сделав это, он, однако, не удалился, а, всунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул:
— Реб Янкель! Я привел к тебе Менделя. Выбрани его или накажи своей отцовской рукой. Он шатается ночью по местечку и нападает на невинных людей!
Речь эта, громко произнесенная, ответа не получила. Из глубины жилища доносилось только непрерывное, монотонное бормотание человека, горячо молившегося вполголоса.
Через дверь, которую молодой человек все еще держал полуоткрытой, видна была довольно большая комната с очень грязными стенами и огромной печью, почерневшей от пыли и сажи. Посреди комнаты стоял длинный стол, покрытый скатертью сомнительной чистоты, но ярко освещенный семью свечами люстр, свешивавшихся с потолка. Субботняя трапеза еще не начиналась, потому что, хотя из дальних комнат жилища и доходил громкий шум женских и детских голосов, указывавший на многочисленность семейства, в комнате с большой печью и длинным столом никого не было, кроме человека, который стоял в углу, повернувшись лицом к стене, а спиной к дверям, ведущим в сени. Человек этот был среднего роста, очень худой и необычайно гибкий. Слово «стоял» не совсем точно определяет положение его тела, но тут нелегко подобрать подходящее выражение. Он, правда, не ходил и не прыгал, но все-таки находился в беспрерывном и усиленном движении. Он откидывал то назад, то вперед голову, покрытую яркорыжими волосами, наклонял свою гибкую и тонкую фигуру почти до самой земли и с невероятной быстротой снова отбрасывал ее назад. От этих стремительных движений широко развевались белые фалды талеса, которым он был накрыт; дрожали и развевались длинные перевязки, стягивавшие его руку немного повыше кисти; тряслась и развевалась по плечам длинная, густая рыжая борода, почти спускалась ему на лоб т е ф и л а, покоившаяся или, скорей, подскакивавшая на его голове. С этими стремительными движениями вполне гармонировали и звуки, выходившие из его уст и груди, то тихо журчащие, то прерываемые страстными возгласами, то льющиеся протяжным, жалобным, заунывным пением.
Юноша, стоявший у порога, довольно долго смотрел на эту фигуру, молившуюся всей душой или, вернее, всем своим телом. Очевидно, он ждал перерыва в молитве или конца ее. Однако всем было известно, что долго пришлось бы ждать тому, кто захотел бы дождаться конца молитвы ребе Янкеля, раз он уже начал молиться. Поджидавший его юноша, по-видимому, был сильно задет злостными проказами маленького Менделя. Быть может, впрочем, он и от природы отличался нетерпеливым и порывистым нравом.
— Реб Янкель! — сказал он, громко выждав несколько минут, — твой сын таскается по ночам и нападает на невинных людей!
Ответа не было.
— Реб Янкель, твой сын ругает невинных людей очень скверными словами!
Реб Янкель продолжал молиться с прежним усердием.
— Реб Янкель, твой сын разбивает по ночам бедным людям их бедные маленькие окна!
Реб Янкель перевернул несколько страниц в большой книге, которую он держал обеими руками, и певуче, торжествующе громко затянул:
— Пойте господу все новые песни, потому что он сотворил все чудеса! Пойте! Играйте на арфах, играйте с громкими припевами! Трубите в трубы и рога перед господом нашим, царем!..
При последних словах дверь из сеней закрылась. Молодой человек быстро сбежал по шатающимся под его ногами ступенькам и, покинув огромные темные сени, снова побрел по устилавшему въезд мусору. Когда он проходил мимо последнего из освещенных окон, до слуха его дошла песнь, напеваемая вполголоса. Он приостановился; и каждый на его месте сделал бы то же самое. Пел мужской молодой голос, чистый, как звон жемчуга, мягкий, как тихая жалоба, полный мольбы, печали и тоски.
— Элиазар! — прошептал проходивший мимо юноша и остановился у низкого окна.
В этом окне стекла были гораздо чище тех, которые находились в других окнах, — они были даже совсем чисты. Сквозь них виднелась крохотная комнатка, в которой, кроме кровати, стола и шкафа с книгами, ничего больше не было. На столе горела маленькая желтая свеча, а за столом, поставив на него локти и подперев голову руками, сидел молодой двадцатилетний юноша с необыкновенно бледным, худым привлекательным лицом. На лице этом не было и следа румянца, но выдававшиеся вперед губы его, без малейших следов растительности, были кораллового цвета. Из этих уст выходило чудное пение, которое могло бы привлечь к себе восторженное внимание величайшего из знатоков музыки.
И неудивительно! Элиазар, сын Янкеля, был кантором в Шибовской общине, певцом народа и Иеговы.
— Элиазар! — повторил за окном мягкий дружелюбный шопот.
Певец, должно быть, услышал этот шопот, потому что рама в окне была одиночная, а он сидел у самого окна. Он поднял веки и повернул в сторону окна голубые мечтательные, нежные и грустные глаза. Однако, он не прекратил своего пения; наоборот, поднял вверх обе руки, белые, как алебастр, и в такой, полной экстаза позе, с восторженным выражением на лице запел еще громче:
— Народ мой! Стряхни с себя пыль тяжелого пути! Восстань и надень одеяние своей красоты! Поспеши, ах, поспеши спасти народ твой, Единый! Непостижимый! Боже отцов наших!
Стоявший у окна юноша уже не звал больше певца, молившегося за народ свой. Он отошел осторожно и почтительно, стараясь заглушить звук своих шагов. Когда же он шел по пустой и темной площади, направляясь к находившемуся невдалеке большому ярко освещенному дому, он смотрел на звезды, бледно мерцавшие сквозь сырую, удушливую мглу, и потихоньку, в глубокой задумчивости напевал:
— Поспеши! Ах, поспеши спасти народ твой, Единый! Непостижимый! Боже отцов наших!
II
Большой ярко освещенный дом, стоявший напротив темно-бурого храма и отделенный от него всей шириной площади, был тем самым, который выстроил когда-то Герш Эзофович и в котором он жил с красивой женой своей Фрейдой. Вековые стены его, давно уже почерневшие от ненастья и пыли, стояли все-таки прямо и своей вышиной превосходили стены всех других домов местечка.
Уже с час, как внутри этого дома, в большой комнате, уставленной старинными, крайне простыми лавками и столами, началась праздничная встреча святого дня шабаша.
Из среды нескольких десятков лиц обоего пола, постепенно прибывавших и наполнявших комнату, поднялся хозяин дома и глава семьи, Саул Эзофович, сын Герша, и приблизился к огромному столу, над которым висели две тяжелые серебряные семисвечные люстры. Старик этот, которому по сгорбленной, хотя и широкоплечей фигуре, по морщинистому лицу и белой, как молоко, бороде, можно было дать восемьдесят с лишним лет, взял из рук старшего из своих сыновей, уже седеющего мужчины, длинную палку с мерцающим на конце огоньком и, поднеся ее к свечам, вставленным в люстры, воскликнул сухим от старости, но все еще сильным голосом:
— Благословен бог наш, владыка мира, который просветил нас своими заповедями и повелел нам зажигать огни в день шабаша!
Едва он произнес это, как в люстрах вспыхнули свечи и из нескольких десятков грудей дружно грянул возглас:
— Идем, идем встречать невесту! Приветствием встретим день шабаша!
…Запылай, запылай, царственный свет! Из развалин своих восстань, столица! Довольно тебе пребывать в долине слез!
… Народ мой! Стряхни с себя пыль тяжелого пути! Надень на себя одеяние красоты своей. Поспеши, ах, поспеши спасти народ свой, боже отцов наших!
… Идем, идем встречать невесту! Приветствием встретим день шабаша!
Длинные, певучие, горячие звуки молитв, следовавших одна за другой, наполнили большую комнату и широкими волнами далеко понеслись из окна по обширной темной пустой площади.
Уже издали услышал их юноша, в задумчивости переходивший площадь, и ускорил шаги. Когда он, пройдя крыльцо, подымавшееся ступеньками над землей, затем длинные узкие сени, разделявшие дом на две половины, отворил двери в комнату, которая вся пылала от множества огней, — молитвы сменились уже разговорами, а собравшееся общество, еще со следами торжественного настроения на лицах, но уже с веселыми улыбками, стояло возле скамеек и стульев, окружавших длинный, обильно заставленный кушаньями стол.
Общество это состояло из самых разнообразных лиц. Здесь были два сына Саула, жившие при отце, Рафаил и Абрам, уже седеющие мужчины с черными глазами, с суровыми и задумчивыми лицами; и зять Саула, светловолосый, бледный, с блестящим, ласковым взглядом Бер; были дочери, невестки и внучки хозяина дома, зрелые женщины с пышными бюстами и высокими чепцами на старательно причесанных париках или молодые девушки со смуглыми лицами и огромными локонами, из-под которых блестели молодые глаза, оживленные светом и праздничным настроением. Несколько молодых мужчин, принадлежавших к семье, и более десятка детей разного возраста сидели на дальнем конце стола; на главном месте стоял старый Саул и с выражением ожидания на лице поглядывал на двери, ведущие в дальние комнаты дома. Через минуту в дверях этих показались две женщины: от одной из них посыпались и засверкали радужные, слепящие искры.
Это была женщина очень, очень старая, однако высокая и нисколько не сгорбленная; наоборот, она держалась прямо и казалась сильной. Голову ее окружала цветная повязка, концы которой были стянуты над лбом огромной алмазной пряжкой. Алмазная застежка замыкала ожерелье, которое состояло из множества ниток крупного жемчуга и спускалось на грудь до самого белоснежного фартука, покрывавшего спереди цветную, шелестящую тяжелым шелком юбку. Алмазные серьги, такие длинные, что доходили до плеч женщины, и такие тяжелые, что их приходилось поддерживать нитками, прикрепленными к ее повязке на голове, переливались и сверкали бриллиантами, смарагдами, рубинами и при каждом движении с легким звоном ударялись о жемчуг и блестевшую под ними золотую цепь.
Подобным количеством дорогих и великолепных украшений могли блистать только женщины княжеского происхождения на балах или же священные реликвии в храмах. Эта столетняя еврейка, одетая во все драгоценности, которые веками приобретались и накапливались в доме, была, очевидно, для всех этих людей, в круг которых она входила сейчас, семейной реликвией, возбуждавшей к себе глубокое почтение.
Когда, сопровождаемая одной из своих правнучек, девушкой с тонко очерченным лицом и с черной, как вороново крыло, косой, она остановилась на пороге комнаты, все глаза обратились к ней, все лица улыбнулись, и все зашептали:
— Бобе! Эльте бобе! Бабушка! Прабабушка!
Большинство лиц произнесло последнее слово, потому что здесь было больше правнуков и праправнуков, нежели внуков. И один только хозяин дома, глава семьи, глядя на нее, тихо сказал:
— Маме!
Удивительно нежно и вместе с тем торжественно прозвучало это слово, привычное детским устам, на увядающих, пожелтевших губах Саула, двигавшихся среди белых, как молоко, усов и бороды. Морщинистый лоб его под белыми же, как молоко, волосами, покрытыми бархатной ермолкой, разгладился при произнесении этого слова.
Но куда же девалось тонкое, нежное лицо и черные огненные глаза, и гибкий стан Фрейды, тихой, разумной работящей жены и подруги Герша Эзофовича? Все это она давно уже пережила, как пережила мужа, своего владыку и друга.
С течением времени ее стан, когда-то тонкий и гибкий, разросся и принял вид ствола, который выпустил из себя много сильных и плодоносных ветвей. Ее лицо было покрыто теперь таким множеством мелких морщинок, что среди них невозможно было найти ни малейшего гладкого местечка; глаза стали меньше, глубоко запали и смотрели из-под сморщенных век без ресниц выцветшие бледно-желтые. Но на лице этом, изрытом рукою времени, разливалось невозмутимое, блаженное спокойствие. В маленьких золотистых глазах, поглядывавших вокруг с глубокой лаской умиротворенности, угадывалась её душа, засыпающая среди приятных для нее звуков; тихая улыбка сладкого покоя лежала на пожелтевших, едва обрисовывающихся губах, которые давно уже безмолвствовали, открываясь все реже для произнесения все более коротких фраз.
Обняв рукой в белом пышном рукаве шею статной и сильной девушки, она приблизилась теперь к семейному столу, щурящимися от яркого света глазами пробежала по лицам всех присутствующих и громким шопотом произнесла:
— Во ист Меир?
Прабабушка заговорила…
Все собравшиеся пришли в движение от слов ее, как деревья от дуновения ветра. Мужчины, женщины и дети оглядывались друг на друга, и по большой комнате разнесся громкий шопот:
— Во ист Меир? Где Меир?
Среди многочисленных членов собравшейся здесь семьи отсутствие одного из них осталось незамеченным.
Старый Саул не повторил вопроса матери, но лоб его нахмурился еще больше, а глаза с суровым и несколько гневным выражением стали смотреть на дверь, ведущую в сени.
Как раз в эту минуту дверь отворилась. В комнату вошел высокий и красивый юноша в длинной одежде, обшитой у шеи и на груди дорогим мехом. Войдя, он закрыл за собою дверь и стал у порога, как будто оробев или смутившись. Он увидел, что опоздал, что общие семейные молитвы были произнесены без него, что глаза его деда Саула, двух дядей и нескольких старых женщин, встретили его взглядом, в котором виднелся упрек и пытливый вопрос.
Только золотистые глаза прабабушки при виде вошедшего не блеснули ни гневом, ни беспокойством. Наоборот, они увеличились и засветились радостью. Сморщенные веки ее перестали даже дрожать и щуриться, а пожелтевшие тонкие губы задвигались и произнесли таким же шопотом, громким, хотя и приглушенным:
— Эйникльхен! Клейнискинд! Внучек! Дитятко!
Проникнутый радостью и нежностью, Саул, услышав этот шопот, сдержался, хотя был готов произнести суровые слова упрека; опустились к столу и вопрошающие, гневные глаза его сыновей. Запоздавшего пришельца встретило только всеобщее молчание, которое, однако, снова было прервано прабабушкой, повторившей еще раз:
— Клейнискинд!
Саул вытянул руку над столом и вполголоса дал присутствующим мотив молитвы, произносимой перед субботним пиршеством:
— Да будет благословен господь… — начал он.
— Да будет благословен… — разнеслись по комнате приглушенные звуки, и несколько минут все стояли возле стола, освящая молитвой находящиеся на нем кушанья и напитки.
Пришедший юноша не присоединился, однако, к общему хору, а, удалившись в глубь комнаты, начал произносить пропущенные им молитвы этого дня, субботнего кидуша. При этом он не делал никаких движений телом, но спокойно скрестил руки на груди и неподвижно устремил взор в окно, за которым висела глубокая тьма ночи.
Лицо его, продолговатое и нежно очерченное, было покрыто бледностью, свойственной нервным и страстным натурам. Густые темно-русые волосы с золотым отливом падали ему на белый лоб, из-под которого задумчивым и несколько печальным взглядом смотрели глубоко посаженные большие серые блестящие глаза. Вообще во всем выражении лица этого юноши смешивались друг с другом черты почти мрачной печали и чуть ли не детской застенчивости. Лоб и глаза его выдавали какую-то тайную мысль, мучительную и беспокойную, но в тонких губах была складка мягкой чувствительности; время от времени он трепетал едва заметной дрожью, словно под влиянием тайно испытываемого волнения. Верхнюю губу и края щек покрывал густой золотистый пух, свидетельствовавший о том, что он достиг уже девятнадцати или двадцати лет, то есть той поры жизни, которая для рано созревающих мужчин израильского племени дает право или даже некоторым образом обязывает их заняться на свой страх и риск семейными и житейскими делами. Когда молодой человек окончил свои молитвы и приблизился к столу, чтобы занять за ним свое обычное место, из среды собравшихся раздался голос несколько хриплый и тянущий слова так, словно говорящий не произносил их, а выпевал:
— А где ты, Меир, был сегодня так долго? Что ты делал в городе, когда уже начался шабаш и когда никто не смеет ничего делать? Почему ты сегодня не справлял вместе со всей семьей субботнего кидуша? Почему у тебя такое бледное лицо и так печальны глаза, когда сегодня шабаш, веселый день; на небе радуется вся небесная семья, а на земле все благочестивые люди должны радоваться и хранить великую радость в душах своих?
Все это было сказано человеком очень странной наружности. Это был не человек, а, скорее, человечек, маленький, сухой, худой, с большой головой, на которой щетиной торчали жесткие темные волосы, с темным круглым лицом, заросшим густой, спутанной растительностью, выдававшей смертельное отвращение к гребенке и щетке, и с круглыми глазами, которые двигались за выпуклыми веками с невероятной быстротой, бросая вокруг мимолетные острые взгляды.
Худоба и сухость тела у этого человека особенно бросались в глаза благодаря его одеянию, имевшему еще более странный вид, чем он сам. Это одеяние отличалось необычайной простотой, так как состояло из одной только рубашки или, вернее, из мешка, сшитого из серого грубого холста и перевязанного у шеи и у пояса толстой пеньковой веревкой; мешок спускался почти до земли и наполовину прикрывал темные, совершенно босые ноги.
Кто же был этот человек в одежде аскета, с глазами фанатика и с выражением мистического, глубокого, почти пьяного восторга на лице? Это был реб Моше, меламед, или преподаватель закона божьего и древнееврейского языка, человек истинно благочестивый; в вихрь, в ненастье, в мороз и жару неизменно босой и одетый в свой холщевой мешок, подобно птицам небесным неизвестно чем живущий, — разве что какими-нибудь зернами, разбросанными там и сям, — он был правым глазом и правой рукой великого шибовского раввина Исаака Тодроса, а после этого раввина — первым предметом обожания и удивления для всей общины.
Услышав сыпавшиеся из уст меламеда и обращенные к нему вопросы, Меир Эзофович, правнук Герша и внук старого Саула, не сел за стол, а, стоя и опустив глаза в землю, тихим от очевидной робости голосом ответил:
— Ребе! Я не был там, где веселятся или устраивают выгодные дела. Я был там, где темно и где в темноте сидят и плачут очень бедные люди…
— Ну! — воскликнул меламед, — а где может быть сегодня печально? Сегодня шабаш, везде светло и весело… где может быть сегодня темно?
Несколько старших членов семьи подняли голову и хором повторили вопрос:
— Где может быть сегодня темно?
И вслед за этим сейчас же прозвучал другой вопрос, так же произнесенный хором:
— Где ты был, Меир?
Меир не отвечал. На лице его с опущенными глазами выражались робость и внутреннее колебание.
Вдруг одна из девушек, сидевших у нижнего конца стола, та самая, которая за минуту перед этим ввела в комнату старую прабабушку, девушка с тонкими чертами лица и с черными шаловливыми глазами, весело воскликнула, хлопая в ладоши:
— А я знаю, где сегодня темно!
Все взгляды обратились на нее, и все в один голос спросили:
— Где?
Под влиянием обращенного на нее всеобщего внимания Лия покраснела и уже тише, с некоторым смущением произнесла:
— В лачуге; Абеля Караима, в той самой, что стоит у Караимского холма.
— Меир! Ты был у караимов?
Вопрос этот был произнесен добрым десятком голосов, среди которых все же выделялся, покрывая все остальные, крикливый, резкий голос меламеда.
На смущенном до тех пор лице юноши появилось выражение неудовольствия и довольно резкого раздражения.
— Я не был у них, — ответил он уже несколько громче, чем раньше, •— но я защитил их от нападения.
— От нападения? От какого нападения? А кто нападал на них? — насмешливым голосом спрашивал меламед.
Тут Меир сразу поднял глаза и сверкающим взглядом пристально посмотрел в лицо говорящему.
— Реб Моше! — сказал он, — ты знаешь, кто нападал на них. На них нападали твои ученики… Они каждую пятницу делают это… А почему бы им и не делать так, когда они знают…
Он остановился и снова опустил глаза. Опасение и гнев, как видно, боролись в нем.
— Ну! Что они знают? Почему ты, Меир, не окончил? Что они знают? — смеялся реб Моше.
— Знают, что ты, реб Моше, похвалишь их за это…
Меламед несколько приподнялся на стуле, глаза его засверкали и широко открылись. Вытянув темную худую руку, он хотел что-то сказать, но на этот раз ему помешал уже сильный и звонкий голос юноши:
— Реб Моше, — говорил Меир, немного наклоняя перед меламедом свою голову, которая, должно быть, неохотно соглашалась на покорный поклон, — реб Моше, я уважаю тебя… ты учил меня… Я не спрашиваю тебя, почему ты не запретишь своим ученикам производить в темноте насилие над бедными людьми, но я сам не могу смотреть на это насилие… у меня сердце болит, потому что в голову приходит мысль, что из таких злых детей выйдут злые люди; и что если они теперь нападают на бедную лачугу старика и бросают в него камнями через окно, то потом будут поджигать дома и убивать людей! Они и сегодня разнесли бы эту бедную избушку и избили бы этих бедных людей, если бы я не пришел туда и не защитил… Но я пришел и защитил…
С последними словами Меир сел за стол на предназначенное ему место. На лице его не было уже и следа опасения или смущения. Глубоко, очевидно, чувствовал он правоту своего дела, потому что смелым взглядом посмотрел вокруг, и только губы его дрожали, что бывает обыкновенно у натур свежих и впечатлительных.
В ту же минуту, однако, старый Саул и два сына его подняли вверх руки и в один голос произнесли:
— Шабаш!
Голоса их звучали торжественно, а взгляды, которые они бросали на Меира, были суровы и почти гневны.
— Шабаш! Шабаш! — подскакивая на стуле и широко разбрасывая руки, подхватил и кричал меламед. — Ты, Меир, в святой вечер шабаша, вместо того чтобы произносить кидуш и наполнять сердце свое великой радостью и отдавать ее в руки ангела Мататрона, защищающего племя Иакова перед богом, для того чтобы он передал ее в руки Сар-га-Олама, ангела над ангелами и князя мира, а Сар-га-Олам отдал ее десяти сефиротам, которые являются такой великой силой, что сотворили весь мир, чтобы через этих десять сефиротов душа твоя достигла великого трона, где сидит сам Эн-Соф, и соединилась с ним поцелуем любви, — ты, Меир, вместо всего этого ходил защищать каких-то людей от каких-то нападений, ходил охранять их дом и оберегать их жизнь! Меир! Меир! Ты нарушил шабаш! Ты должен пойти в дом молитвы и громко покаяться перед целым народом в том, что совершил великий грех и вызвал большой соблазн!
Эта речь меламеда произвела на собравшихся сильное впечатление. Саул и сыновья его приняли грозный вид; женщины были удивлены и испуганы; в черных глазах Лии, выдавшей тайну двоюродного брата, блестели слезы. Только зять Саула, приветливый, голубоглазый Бер, поглядывал на обвиняемого как будто с грустным сочувствием, а несколько юношей, ровесники Меира или моложе его, смотрели ему в лицо, не отрывая глаз, с любопытством и дружелюбным беспокойством.
Меир ответил несколько дрожащим голосом:
— В священных книгах наших, реб Моше, в Торе и в Мишне, ничего нет ни о сефиротах, ни о Эн-Софе. Но зато там ясно сказано, что Иегова хотя и велел праздновать шабаш, однако позволил, чтобы двадцать человек нарушили его ради спасения одного человека.
Уже самое намерение отвечать меламеду, человеку истинно благочестивому и правой руке раввина Тодроса, было неслыханной и изумительной дерзостью. А ведь, кроме того, Меир позволил себе, хотя бы и неясно выраженное, опровержение его мнений! Вот почему выпуклые глаза меламеда чуть не выступили из орбит, так широко они открылись и таким разъяренным взглядом окинули несколько побледневшее во время стычки лицо Меира.
— Караимы! — закричал он и начал метаться на своем стуле, руками хватаясь за бороду и волосы, — ты караимов спасал! Отщепенцев! Вероотступников! Проклятых! Зачем их спасать? Почему они в шабаш не зажигают огней и сидят в темноте? Почему они режут животных и птиц, служащих для еды, не спереди, а сзади шеи? Почему они не признают Мишны, Гемары и Зогара?
Он захлебнулся от волнения и умолк; и тогда снова раздался чистый и звучный голос Меира:
— Ребе, они очень бедны!
— Эн-Соф мстителен и неумолим.
— Они терпят преследования от народа!
— Непостижимый преследует их! — кричал ребе.
— Предвечный не велит преследовать. Равви Гуна сказал: если даже преследующий и прав, а преследуемый преступник. Предвечный заступится за преследуемого!
Огненный румянец появился у ребе Моше на темных щеках. Глаза его, казалось, готовы были съесть, пожрать бледное лицо юноши с пылающим, теперь уже смелым взглядом и с губами, дрожащими от множества невысказанных, насильно удерживаемых в груди слов.
У присутствующих был изумленный, испуганный, печальный вид. Подобное препирательство с меламедом одни считали грехом, другие видели в этом еще и опасность для дерзкого юноши или даже и для всей его семьи.
Потому-то Саул, устремив грозный взгляд из-под седых щетинистых бровей на лицо юноши, протяжно зашикал на него:
— Шааа!
Меир склонил перед дедом голову в знак покорности и подчинения, а один из сыновей Саула, желая смягчить гнев ребе Моше, а, может быть, также и для собственного назидания, спросил его:
— Какая существует разница в смысле авторитетности и святости между книгами Талмуда и Зогаром, книгами Каббалы? И не должен ли истинно благочестивый человек заняться изучением первых раньше, чем вторых?
Выслушав вопрос этот, меламед широко расставил оба локтя на столе, неподвижно вперил глаза свои с выражением глубокой мысли в противоположную стену и, не спеша, торжественным голосом начал говорить:
— Симон бен Иохай, великий раввин, который жил страшно давно и знал все, что делается на небе и на земле, сказал: Талмуд — это ничтожная рабыня, а Каббала — это великая королева. Чем наполнен Талмуд? Он наполнен очень маленькими, второстепенными вещами. Он учит, что чисто и что нечисто, что позволено и что запрещено; что скоромно и что не скоромно. А чем наполнен Зогар, книга сияния, книга Каббалы? Он наполнен великим учением о том, что такое бог и его сефироты. Он называет все имена их и учит, что они делают и как они создают мир. В нем написано, что бог носит имя Эн-Соф, а второе имя его — Нотарикон, а третье имя его — Гоматрия, а четвертое имя его — Зируф. А сефироты, которые являются великими небесными силами, называются: источник человечества, невеста, белая голова, большое лицо, малое лицо, зерцало, небесное жилище, земное жилище, лилия и яблочный сад. А Израиль носит имя Матрона, а бог для Израиля называется отцом; бог, Эн-Соф, не сотворил, мира, его сотворили только силы небесные, сефироты. Первый сефирот породил из себя божественную силу, второй всех ангелов и Тору (Библию), из третьего вышли пророки. Четвертый сефирот породил из себя божественную любовь, а пятый божественную справедливость, а шестой такую силу, которая все рвет, ломает и уничтожает. От седьмого сефирота произошла красота, от восьмого благородство, от девятого предвечная причина, а от десятого — око, которое постоянно бдит над Израилем и следует за ним по всем путям его и охраняет его ноги, чтобы они не поранились, и головы, чтобы на них не обрушивались великие несчастья. Всему этому учит Зогар, книга Каббалы, и она учит еще, откуда взялись эти сефироты, и как они разделяются, и как, по буквам, из которых составлены их имена, и по тем, из которых составлены имена бога, отгадывать все тайны мира! И это есть великое учение, самое главное для каждого израильтянина. Знаю я, что многие израильтяне говорят, будто Талмуд важнее; но все те, которые так говорят, глупы и не знают о том, что до тех пор земля будет содрогаться от великих страданий и до тех пор бог и Израиль, Отец и Матрона не соединятся поцелуем любви, пока рабыня не отступит перед королевой, Талмуд перед Каббалой. Когда же придет это время? Оно придет тогда, когда в мир явится Мессия. Тогда настанет, для всех людей благочестивых и ученых великий праздник радости! Тогда господь бог прикажет изготовить рыбу — Левиафан, которая так велика, что на ней стоит весь мир, и все примут участие в великом пиршестве, и будут эту рыбу есть — благочестивые и ученые люди с головы, а простой и неученый народ с хвоста!..
Меламед окончил, глубоко вздохнул после длинной речи и, опустив глаза к столу, внезапно спустился с мистических высот к земной действительности. На тарелке перед ним лежал, распространяя приятный запах перца и различных кореньев, кусок прекрасной рыбы, правда, еще не Левиафана, но во всяком случае какого-то очень вкусного обитателя вод; меламед, всю жизнь живя аскетом, субботние пиршества любил и доотвала наедался на них; он ведь был убежден, что поддержание тела и души в настроении всесторонней радости является обязанностью, столь же тесно связанной с днем шабаша, как и продолжительные ревностные моления. Со следами мистического экстаза в круглых глазах и с блаженной улыбкой на лице он начал разрывать темными руками и подносить себе ко рту поданное ему лакомое кушанье. Присутствующие, однако, еще долго не произносили ни слова после того, как умолк меламед. Мудрая речь его произвела почти на всех сильное впечатление. Старый Саул слушал ее с выражением глубокого почтения на лице. Глубокие морщины, покрывавшие его лоб, несколько раз вздрагивали под влиянием какой-то тайной нервной тревоги. Сыновья его; задумчиво уставились глазами в стол и сосредоточенно обдумывали мудрые слова ребе Моше, невольно, может быть, стараясь разыскать в этих темных пропастях разыгравшейся человеческой фантазии луч, который бы сделал их несколько менее темными. Женщины набожными жестами скрестили на груди руки, покачивали из стороны в сторону головами в знак удивления и улыбающимися от восторга губами тихонько шептали:
— Ученый человек! Мудрый человек! Истинно благочестивый! Достойный ученик великого равви Исаака!
Если бы, однако, кто-нибудь внимательно вгляделся в эту минуту в физиономии сидящих вокруг стола лиц, то должен был бы заметить два взгляда, которые с быстротой молнии, незаметно для всех остальных, метнулись друг к другу во время речи меламеда. Взгляды эти принадлежали Беру и Меиру. Первый бросил на другого грустный взгляд, а тот блеснул ему в ответ глазами, полными сдержанного гнева и насмешки. Когда меламед говорил о рыбе Левиафане — такой большой, что весь свет стоит на ней, и о том, что в день пришествия Мессии ученые будут, есть ее с головы, а неученые с хвоста, по тонким интеллигентным губам Меира пробежала усмешка. Усмешка эта была подобна кинжалу. Она, наверное, больно уколола того, на чьих губах появилась, но, казалось, рада была бы уколоть и того, кто ее вызвал. Бер на усмешку эту ответил вздохом. Но ее заметили также трое или четверо из числа юношей помоложе, которые, сидя напротив Меира, вопросительно поглядывали на него. Они заметили ее, и по лицам их пробежал, словно отблеск или отзвук усмешки Меира… После минутной тишины, прерываемой только стуком ножей и тарелок и громким движением челюстей меламеда, старый Саул поднял голос:
— Великие это вещи, мудрые и очень страшные вещи, о которых рассказал нам реб Моше… пусть он примет за них нашу благодарность. Слушайте ученых мужей, которые великою мудростью своею поддерживают славу и мощь Израиля, ибо написано, что «ученые — основа мира». Кто уважает их и о мудрых вещах, которые им известны, часто спрашивает, тому простятся грехи всей его жизни.
Реб Моше поднял лицо от тарелки и со ртом, набитым едой, пробормотал:
— Добрые дела человека привлекают к нему непрерывный источник милости и прощения. Они отворяют перед ним тайны неба и земли и несут его душу к сефиротам!
Благоговейное и сосредоточенное молчание было ответом на эти слова; только через несколько секунд молчание это было прервано с нижнего конца стола юношеским голосом, звенящим и звучным:
— Реб Моше! А что называется добрым делом? Что надо делать, чтобы спасти душу от греха и привлечь на себя великий источник милости? — громко спросил Меир.
Меламед поднял глаза на спрашивающего. Их взгляды опять встретились. Темно-серые глаза меламеда засверкали грозно и гневно; в серых, прозрачных глазах юноши пробежали серебристые искры как бы затаенной усмешки.
— Ты, Меир, был моим учеником и о таких вещах можешь теперь спрашивать! Разве я вам не говорил и не повторял тысячу раз, что наилучшим делом человека есть углубление в священную науку? Кто делает это, тому все простится, а кто этого не делает, тот будет проклят и будет изгнан из лона Израиля и из мира непорочных духов, хотя бы руки его и сердце были чисты, как снег…
Сказав это, меламед обратился к Саулу и, указывая темным пальцем на Меира, сказал:
— Он ничего не понимает и ничего не знает! Он забыл уже все, чему я его научил!
Старец наклонил слегка перед меламедом изборожденное морщинами лицо и примирительным голосом сказал:
— Прости ему, ребе, он еще ребенок! Когда разум разовьется у него, он сознает, что уста его были очень дерзкими, осмеливаясь противоречить тебе, и он, наверное, будет таким же ученым и таким же благочестивым, какими были все в нашей семье…
Саул выпрямился, его потухшие от старости глаза засветились мыслью.
— Слушайте меня, дети, внуки и правнуки мои! — сказал он. — Семья наша, семья Эзофовичей, это не какая-нибудь семья. У нас, благодарение богу… да будет прославлено святое имя его… большие богатства собраны в сундуках и на судах наших; но еще больше те богатства, которые у нас имеются в прошлом нашей семьи. Прапрадедом нашим был Сениор, старший над всеми евреями, которые жили в стране этой, и любимец самого короля; а отец мой, Герш, великий Герш, был в дружбе с самыми важными панами, и они сажали его в свои кареты и ради великой его мудрости возили его к королю и в сейм, что заседал тогда в Варшаве…
Старик умолк на минуту и обвел всех присутствующих глазами, которые светились мыслью и торжеством. Все смотрели на него, не сводя глаз; меламед хмурился и медленно потягивал вино из большого бокала, а старая, задремавшая уже прабабушка вдруг проснулась и, блестя золотистыми зрачками из-под щурящихся век, произнесла своим беззвучным шопотом:
— Герш, Герш, мой Герш!
Через минуту Саул снова начал говорить:
— В нашей семье есть одно большое сокровище, такое сокровище, какого нет у целого израильского народа. А сокровище это — длинная рукопись, которую составил прадед наш, Михаил Сениор, и в которой написаны великие и мудрые вещи… Если бы у нас была эта мудрая рукопись, то мы были бы очень счастливы; в том только беда, что неизвестно, где находится эта рукопись.
С момента, когда Саул начал говорить о мудрой рукописи своего деда, среди глядящих на него нескольких десятков пар глаз две пары глаз засверкали страстным, но совершенно противоположным друг другу чувством. Это были глаза меламеда, который посмеивался тихо и ядовито, и Меира, который выпрямился на своем стуле и со жгучим любопытством всматривался в лицо рассказчика.
— Рукопись эта, — говорил далее Саул, — двести лет лежала спрятанной, и никто не прикасался к ней. А когда прошло двести лет, ее нашел мой отец, Герш. Где он нашел ее, этого никто не знает, кроме старой прабабушки…
Тут он указал пальцем на свою мать и докончил:
— И только она одна знает, куда он опять спрятал эту рукопись, но этого она еще никому не сказала…
— А почему она этого никому не сказала? — продолжая ядовито и тихо посмеиваться, спросил меламед.
Саул ответил печальным голосом:
— Реб Нохим Тодрос — да будет благословенна память его! — запретил ей говорить об этом.
— А почему вы, реб Саул, сами не искали рукописи этой?
Саул еще печальнее ответил:
— Реб Барух Тодрос, сын ребе Нохима, и реб Исаак, — да здравствует он сто лет! — сын ребе Баруха, запретили мне искать ее.
— И пусть никто ее не ищет! — выкрикнул изо всей силы меламед, высоко поднимая руку, вооруженную вилкой, — пусть никто не ищет этой рукописи, потому что она наполнена великим богохульством и мерзостью! Реб Саул! прикажи ты детям, внукам и правнукам своим, чтобы они этой рукописи не искали, а ежели найдут ее, чтобы предали ее огню на сожжение! Ибо кто рукопись эту найдет и громко прочтет ее народу, на того падет херем, тот будет выброшен из лона Израиля. Так говорил реб Нохим и реб Барух, — да будет благословенна память их! Так говорит реб Исаак, — да здравствует он сто лет! В рукописи этой заключено проклятие и великое несчастье для того, кто найдет ее.
Глубокое молчание наступило после этих слов, с чрезвычайным увлечением произнесенных меламедом, а среди этого молчания послышался долгий, трепетный, страстный вздох. Все оглянулись вокруг себя, желая узнать, чья грудь, разрываемая страстным желанием, испустила этот вздох; но никто этого не узнал. Увидели только, как Меир, выпрямившись, с побледневшим лицом, горящими глазами всматривался в лицо прабабушки. А она, словно почувствовав этот пронизывающий взгляд своего возлюбленного дитяти, приподняла сморщенные веки и произнесла:
— Меир?
— Бобе? — ответил юноша голосом, преисполненным глубокой нежности.
— Клейнискинд! — шепнула прабабушка и, блаженно усмехаясь, снова заснула.
Субботняя трапеза близилась уже к концу, когда у стола произошло нечто, что должно было бы показаться для всякого постороннего зрителя очень странным, но для собравшихся здесь лиц являлось привычным и обыкновенным зрелищем.
Реб Моше, темные щеки которого разгорелись от нескольких бокалов вина, радушно предложенных ему хозяевами, вдруг сорвался со своего стула и несколькими широкими скачками, с громким криком и с поднятым кверху лицом, выскочил на середину комнаты.
— Шабаш! Шабаш! Шабаш! — кричал он, неистово потрясая головой и руками. — Фрейд! Фрейд! Фрейд! — повторял он, — вся небесная семья радуется и пляшет на небе! Давид плясал и прыгал перед ковчегом завета; почему бы и истинно благочестивому человеку не порадовать сердца своего пляской и прыжками?
Он плясал и скакал, перебегая вдоль и поперек широкими шагами пространство, находившееся вокруг стола, приседал к земле, наклонялся, а потом все больше и больше вытягивал вверх руки и поднимал к потолку лицо. Все тяжелее и громче опускались на дрожавший под ним пол его тяжелые босые ноги, заплетавшиеся в узком холщевом мешке.
Для всякого постороннего зрителя было бы очень интересно наблюдать за теми чувствами, которые отражались на лицах людей, присутствующих при этой исступленной пляске. Старый Саул и сыновья его поглядывали на пляшущего с чрезвычайной серьезностью и вниманием. Ни малейшей тени улыбки не скользнуло по их губам. Могло бы показаться, что на бешеные скачки меламеда они смотрели так, как верующие привыкли смотреть на выполнение мистического, священного обряда. Правда, в потухших с годами, но еще умных глазах Саула вспыхивали, время от времени какие-то огоньки, как будто вызываемые скрытой ядовитой насмешкой; но никто не мог их заметить, так как старик наполовину прикрывал свои глаза пожелтевшими веками.
Светловолосый Бер сидел выпрямившись и тоже был серьезен, только лоб его страдальчески наморщился да были потуплены поящие глаза; Меир, подперев голову руками, казалось, ничего не слышал и не видел, или же старался не слышать и не видеть, что делалось вокруг. Зато женщины очень дивились пляске ребе Моше, раскачивались в такт, отбиваемый его босыми ногами, с восторгом причмокивали губами и переглядывались между собой с удивлением и восхищением. У нижнего конца стола, там, где сидели самые молодые юноши и молодые красивые девушки, слышался тихий шум от сдерживаемого смеха.
Наконец реб Моше измучился, его силы истощились, и тело его, вздрагивая в исступлении, тяжело рухнуло на землю, у подножия большой печки, сложенной из зеленых кафелей. Однако через минуту он поднялся, тяжело вздохнул, громко засмеялся и рукавом своей серой жесткой рубахи принялся вытирать пот, крупными каплями стекавший по его раскрасневшемуся лбу и лицу.
Тут из-за стола встала Сара, дочь Саула, и начала подавать всем присутствующим для омовения рук серебряный таз, полный воды. Шепча благодарственные молитвы, присутствующие мочили свои руки в воде и вытирали их висевшим у Сары на плече полотенцем, белым, как снег, и украшенным вышитыми узорами. Субботнее пиршество окончилось.
В несколько минут посуда со стола была убрана. Все общество разделилось на несколько групп, наполнивших комнату шумом громких и оживленных разговоров.
Меир, несколько минут одиноко стоявший у окна, задумчиво вглядываясь в вечернюю темноту, приблизился к наиболее солидной по возрасту группе, которая расположилась на самом парадном месте в комнате, украшенном старинным диваном с большой желтой спинкой. Здесь Абрам и Рафаил, сыновья Саула, и Бер, зять его, давали отчет отцу в сделках, заключенных ими в продолжение недели; спрашивали его совета и просили его помощи. Здесь звучали названия всевозможных цифр при перечислении приобретенных бочек зерна и заплаченных за них денег, и быстро двигались пальцы нескольких пар рук. При упоминании о заграничных портах и о стоявших там ценах на зерно и лес глаза загорались радостью, опасением, жаждой наживы. Старый Саул выглядел так, словно он только теперь попал в свою родную стихию. Хотя высокие и мудрые науки мистических мудрецов общины и возбуждали в нем почтение и страх, все же мирские дела, казалось, были для его ума более близкими, жизненными и знакомыми. В глазах его, блестевших быстрой живой мыслью, уже не было заметно старости, и только белые волосы его и белая длинная борода делали его похожим на патриарха, на старейшину, распределяющего между членами своей семьи советы, похвалы и выносящего решения.
Меир стоял несколько минут с равнодушным выражением лица возле этой кучки людей, рассуждавших о торговле, о барышах и убытках. Видно было, что в подобных делах он никогда еще не принимал деятельного участия и что свежую натуру его еще не затронула и не захватила лихорадочная жажда наживы. С некоторым удивлением посматривал он на флегматического Бера, который, казалось, стал в эту минуту совсем другим человеком. Рассказывая тестю о своих делах и торговых намерениях и убеждая его в том, что ему крайне необходимо сделать крупный заем у брата своей жены, он сделался даже красноречивым, подвижным и чуть ли не запальчивым. Глаза его горели, губы двигались с невероятной быстротой, руки дрожали.
Меир отошел и остановился возле другой группы. В этой группе, собравшейся у другого конца стола, все еще застланного белой скатертью, царил меламед. Возле него был десяток с лишним человек, и он, широко расставив оба локтя на столе, торжественно ораторствовал среди сосредоточенно внимавших ему слушателей.
— Все, что есть на свете, — каждый человек, и каждое животное, и каждая травка, и каждый камень, корни всего сущего находятся высоко, в той стране, где живут духи. И поэтому весь мир является как бы огромным деревом, корни которого находятся среди духов. И является он как бы огромной цепью, последние звенья которой висят там, где живут духи. И является он как бы огромным морем, которое никогда не высыхает, ибо в него вливается неисчерпаемый источник духов и непрерывно наполняет его…
Меир отошел от группы, слушавшей меламеда, и приблизился к окну. Тут двое юношей, подперев головы руками, в глубокой задумчивости, рассуждали о том, где и как написано, что человек, который не увидит своей тени, идя в праздничную ночь, должен умереть в том же году.
Меир огляделся вокруг. В следующей комнате старшие женщины, собравшиеся тесным кружком, вели громкий разговор о своем хозяйстве и о великом уме своих маленьких детей, молодые же девушки, усевшись в уголке на корточках, перешептывались друг с другом, расплетали свои длинные косы, смеялись и тихо напевали.
По лицу Меира было видно, что его не тянуло ни к одной из этих многочисленных групп, наполнявших дом. Он находился среди своих, среди тех, которые были ему ближе всего по крови и сердцу, и, однако… Можно сказать, что он находился в пустыне, так одиноко стоял он посреди комнаты и таким грустным, усталым взором обвел он вокруг себя. Вскоре его уже не было в комнате. Он сбежал по ступенькам крыльца и направился через темную площадь к длинному, низкому дому ребе Янкеля…
* * *
После ярко освещенных обширных, чистых и красивых комнат в доме его деда жилище ребе Янкеля, владельца самого большого постоялого двора в Шибове, торговца водкой и члена кагала, должно было показаться Меиру тесным, грязным и печальным. Между тем как в его доме субботняя трапеза кончилась едва только несколько минут тому назад, здесь уже было убрано с семейного стола, потому что ужин, тянувшийся недолго, был скуден и проходил в унылом молчании, прерываемом только ворчливой бранью и язвительными замечаниями отца семьи. Впрочем, всем было хорошо известно, что реб Янкель был очень скуп, копил деньги, а о порядке и о домашних удобствах заботился мало, потому что сам редко бывал дома, занимаясь арендой винокуренных заводов и шинков по соседним деревням, в местечко же заглядывал только тогда, когда его вынуждали к этому религиозные обряды или кагальные дела. Жена его, Ента, и две взрослые дочери вели все хозяйство постоялого двора, исполняя обязанности и занимая место старших служанок в доме.
Дружелюбные шумные беседы, оглашавшие дом Эзофовичей, здесь не были известны. Достаток обнаруживался только тогда, когда реб Янкель принимал каких-нибудь почетных гостей — старого раввина, любимцем которого он был, своих кагальных товарищей или богатых купцов. Чистота и веселье никогда не заглядывали сюда.
В первой комнате, куда Меир вошел из темных, как пропасть, сеней, догорал на столе один только огарок желтой свечки, вставленный в засаленный медный подсвечник. Запах кушаний, недавно убранных со стола, смешивался с затхлым запахом грязных стен и с запахом жирных выделений от закопченной печки. Тихо здесь было и совсем пусто. Зато в другой комнате, где не было уже ни малейшего огонька, раздавалось громкое храпение хозяина дома, уже засыпавшего крепким сном. Третья комната была так заставлена кроватями и ящиками, что едва можно было пройти через нее. Меир увидел при колеблющемся свете лампы, стоявшей на обвешанной тряпьем печке, неясно вырисовывавшуюся в полумраке женщину. Качая ногой, колыбель и тихо напевая, она старалась усыпить тихо плакавшего ребенка. Проходя мимо, юноша поздоровался с ней кивком головы и приветливым словом. Ответив ему на приветствие, женщина продолжала напевать под мерное постукивание колыбельки и храпение нескольких спящих в комнате людей.
За низкой дверью слышен был глухой шум мужских голосов. Меир отворил эту дверь и оказался в комнате Элиазара, кантора с бледным лицом и чудным голосом.
Элиазар был не один. Вместе с ним за столом, на котором горела желтая свечка, сидело несколько молодых людей, принадлежавших к семейству Эзофовичей и ужинавших в этот день вместе с Меиром. Меир вздохнул свободнее, может быть, потому, что в этой комнате был менее спертый и зловонный воздух, или же, может быть, потому, что он оказался среди лиц, смотреть на которые ему было приятно. Лица юношей при виде его тоже осветились дружелюбными улыбками.
Элиазар поднял свои бирюзовые глаза на прибывшего, который молча занял место за столом.
— Меир! — сказал он мягким голосом.
— Что? — спросил гость.
— Ты был сегодня нетерпелив и говорил меламеду. Мне рассказали уже об этом они.
Элиазар указал на присутствующих молодых людей. Меир остановил на бледном лице певца проницательный и несколько насмешливый взгляд.
— Ты, в самом деле, думаешь, Элиазар, что я говорил сегодня меламеду что-то ненужное и нехорошее? — медленно спросил он.
Кантор опустил голову.
— То, что ты говорил, было хорошо, — сказал он, — но все же не следовало этого говорить, потому что у тебя могут быть большие неприятности из-за этого.
Юноша засмеялся печально и как-будто с принуждением.
— Ну! — сказал он решительно, — и пусть. Я не могу больше терпеть молча, как они морочат головы всем нам…
— Дитя, дитя! А что же ты поделаешь с этим? — отозвался за спиной говорящих протяжный и ленивый голос.
Все обернулись, Это был флегматичный Бер, который вошел в низкую дверь, старательно запер ее за собою и, ответив вышеуказанным способом на пылкое восклицание юноши, лег на кровать Элиазара, повернувшись лицом к потолку. Собравшиеся, по-видимому, привыкли к его присутствию в своем обществе, так как не обнаружили при виде его ни малейшего неудовольствия или замешательства. Наоборот, разговор продолжался дальше. Один из молодых людей, родственник Меира, начал передавать кантору, отчасти с недоверием и смехом, отчасти осторожно и с тревогой, слова меламеда об Эн-Софе и сефиротах, о пришествии Мессии и об огромной рыбе Левиафане. Другой спросил Элиазара, что он думает о том, будто бы достаточно углубиться в науку Мишны и Зогар, чтобы все прегрешения были отпущены.
Элиазар слушал молча, с опущенной головой. Долго не отвечал он, затем медленно поднял голову и сказал:
— Читайте Тору! Там написано: един бог, Иегова! Не находит он удовлетворения в жертвах ваших, в песнях и фимиамах, но требует от вас, чтобы вы любили правду, защищали угнетаемых, обучали темных и лечили бальных, вот ваши первые обязанности!
Двое юношей широко раскрыли глаза.
— Ну! — воскликнули они в один голос, — значит, меламед говорил неправду?
Элиазар снова долго молчал. Было видно, что он рад был бы не отвечать. Но молодые нетерпеливые руки дергали его за рукав одежды, добиваясь ответа.
— Да, неправду! — ответил он, наконец, несмело. В эту минуту Меир положил ему руку на плечо.
— Элиазар — сказал он, — так же ответил ты мне два года тому назад, когда вернулся из большого города, где тебя учили петь. Ты раскрыл мне тогда глаза, которые и сами уже начали искать света; ты объяснил мне, что мы не истинные израильтяне, что вера наша уже не та вера, которая была нам дана на горе Синае, что еврейство помутилось и загрязнилось, как вода, если бросить в нее горсть грязи, и что от этой грязи почернели наши сердца и головы. Ты сказал мне это, Элиазар, и я… прозрел. С этого времени я люблю тебя, как брата, который помог мне выйти из темницы, но с этого же времени я чувствую у себя в сердце великую тяжесть и великую тоску…
— Элиазар учил тебя, Меир, и Элиазар молчит… а ты, ученик его, начинаешь говорить! — отозвался голос Бера, в ленивых интонациях которого слышалась насмешка.
— Если б я только умел говорить! — воскликнул юноша с разгоревшимися глазами, — и если б я знал, что и как делать!
И через минуту он прибавил тише:
— Но я ни говорить, ни действовать не умею… У меня есть только великая ненависть в сердце к тем, которые обманывают, и великая любовь к обманываемым…
— И большая смелость! — вставил ленивым голосом Бер, продолжая лежать на кровати.
— Смелости до сих пор у меня не было, но… но, если б я только знал, что делать, она бы явилась у меня!
Несколько минут царило молчание. Его прервал Меир:
— Какой ты счастливый, Элиазар!
— Чем же я счастливый?
— Ты был в широком свете, видел разумную жизнь, слушал умных людей… Ах! Бели б и мне тоже в широкий свет!..
— Элиазар, расскажи нам что-нибудь об этом широком свете, — попросили двое из присутствующих помоложе. В их глазах, устремленных на лицо кантора, светились любопытство и удивительная грусть.
Из всей шибовской молодежи только один Элиазар видел «широкий свет». Этим он обязан был своему чудному голосу, для развития которого его послали учиться в большой город. Все, что он мог рассказать, давно уже было им рассказано. Но они всегда готовы были слушать его, хотя бы он каждый день рассказывал им одно и то же. Как выглядит большой город? Какие там высокие дома и какие красивые экипажи разъезжают по улицам? Какие люди, богатые, вежливые и ученые, живут там в этих домах, и сколько там, среди них, евреев, имеющих много денег, красивые комнаты, богатые платья и пользующихся у людей уважением? А почему все уважают их? За то ли, что они богаты? Нет, ведь и в Шибове есть богатые купцы, а пурицы только тогда оказывают им уважение, когда нуждаются в их деньгах, когда же не нуждаются, то отзываются о них очень скверно и с презрением.
Их уважают потому, что они многому учились и много знают: изучали они не только Мишну и Гемару, а и всякие другие прекрасные и полезные науки. А почему в Шибове нет таких школ, в которых бы учили этим наукам, и почему раввин Исаак и реб Моше говорят, что те науки подобны содомскому винограднику и являются чужими огнями, и что каждый истинный еврей должен от них бежать?
— Элиазар! Как это ездят там экипажи без лошадей, и кто их так мудро придумал?
— Элиазар! Все ли евреи соблюдают там кошеры?
— Элиазар! Что говорят там о наших раввинах Тодросах?
— Плохо говорят.
Общее изумление. Евреи на широком свете плохо говорят о Тодросах; не верят ни в Эн-Софа, ни в сефиротов, ни во всю Каббалу?
— А что они говорят о Талмуде?
— О Талмуде они говорят, что эта прекрасная и мудрая книга написана мудрыми и святыми людьми, но ее надо только сократить и многое из нее выбросить, потому что теперь настали иные времена, и то, что было когда-то полезно, теперь стало уже вредно.
Снова удивление! Талмуд надо сократить, потому что изучение Гемары очень трудно и забивает детям память и ум.
Правда! Спрашивавшие и сами помнят, с каким трудом давалось им изучение Гемары и как жестоко бил их меламед за то, что она не хотела укладываться в их головах, и как у них от этого слабела память и притуплялся ум, а маленький Лейбеле, сын бедного портного, навсегда остался от этого глупым и больным!
— А кто это сократил когда-то Талмуд и сделал его более легким для изучения?
— Сократил его великий и святой мудрец Моисей Маймонид, которого раввины потом прокляли.
Раввины прокляли и святого мудреца! Значит, раввины могут быть злыми и несправедливыми, и не всегда следует верить тому, что они говорят!
— А что написал еще Моисей Маймонид?
— Он написал еще Морэ-Небухим, путеводитель для заблудшихся, — мудрую и прекрасную книгу, читая которую человеку хочется плакать от умиления и смеяться от радости.
— А есть у тебя эта книга, Элиазар?
— Есть!
— А откуда она у тебя?
— Ее дал мне один мудрый еврей, живущий там, в большом городе… он известный адвокат!
— Элиазар, прочти нам что-нибудь из этой книги!
Таким-то образом перед этими наивными умами, бессознательно тоскующими по солнцу и по широкой жизни в общении со всем человечеством, открывался, частично и беспорядочно, мир явлений и мыслей, кружившихся по обширным пространствам. Из этого не могло выработаться каких-нибудь прочных убеждений, не могло определиться какой-нибудь ясной путеводной нити, иной лучшей жизни, но все же в душу закрадывались сомнения, в груди просыпались желания, молодые глаза заволакивались печалью, которую порождала мысль, начинающая чувствовать свои оковы.
Было уже поздно, когда после длинной беседы юноши поднялись со своих мест и остановились друг против друга с побледневшими лицами и горящими взорами. После минутного молчания Меир проговорил:
— Элиазар! Неужели мы никогда не крикнем народу громким голосом, чтобы он одумался и прозрел? Неужели мы всегда будем гнить, как черви, копошащиеся в земле, и смотреть, как весь народ задыхается и гниет?
Элиазар опустил вниз затуманившиеся от слез глаза, поднял вверх белые руки и своим певучим голосом сказал:
— Я каждый день пою и плачу перед господом, молясь за народ мой.
Меир сделал нетерпеливый жест, а Бер, тяжело поднявшись с кровати, засмеялся глухим, унылым смехом.
— Пой и плачь! — сказал он Элиазару. — Твой строгий отец нагнал на тебя такого страху, что ты никогда уже не будешь в состоянии делать что-нибудь другое…
Потом, положив руку на плечо Меира, он прибавил:
— Только этот один смел и поплывет против течения. Но вода сильнее человека. Куда занесет она его?
Покидая жилище Янкеля, Меир снова увидел в одной из комнат ту же самую женщину, сидевшую над колыбелью уснувшего ребенка. Только теперь она наклонилась и, поставив оба локтя на край колыбели, дремала. Свет от лампы, горевшей на печке, падал прямо на нее и освещал синюю изорванную кофту, прикрывавшую ей плечи и грудь; руки, видневшиеся из-под кофты, были покрыты только рукавами грубой рубахи. На голове у нее был праздничный чепец с большим помятым цветком, красный цвет которого странно выделялся над желтой сморщенной кожей низкого лба и увядших щек. Эта женщина не была еще стара, но она была измучена, истомлена, изнурена. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что жизнь ее проходила в трудах и унижениях и что ни одна капля домашнего счастья никогда не освежила ее. Глядя на нее, легко было угадать, что она не доживет, как Фрейда, жена еретика Герша, до своей столетней годовщины, и что ей не придется медленно и блаженно погружаться в вечный сон среди приятной ее сердцу суетни многочисленных внуков и правнуков. У Енты, жены благочестивого ребе Янкеля, была измученная душа в усталом теле.
Когда шум шагов расходящихся гостей, смешиваясь, некоторое время с храпением спящих, наконец, умолк, Элиазар показался в низких дверях своей комнатки и несколько секунд смотрел издали на дремавшую мать.
— Мама! — тихо проговорил он, — почему ты не ляжешь спать? Маленькая Хайка давно заснула и не будет уже плакать. Ложись и ты, мама… отдохни.
Шопот сына достиг до слуха дремавшей Енты. Она открыла глаза, мутным взглядом посмотрела на стройного юношу, лицо которого светилось в полумраке, как белый алебастр, и — о, чудо! — маленькие щурящиеся глаза ее перестали щуриться, а в выцветших зрачках блеснул свет радости.
— Элиазар! Иди сюда! — прошептала она.
Юноша приблизился и сел на край кровати.
— Как могу я заснуть? — печально шептали ему поблекшие губы женщины. — Бедная моя голова! Хайка больна и всякую минуту может заплакать, а если она громко заплачет, Янкель проснется и сильно рассердится!
— Спи, мама! — ответил шопотом сын, — я посижу тут и покачаю Хайку…
Желтое в морщинах лицо, с большой красной розой над лбом, склонилось, и женщина уснула не на высоко постланных, покрытых грязным бельем подушках, а на коленях сидящего рядом юноши.
Элиазар облокотился на край колыбели, положил голову на руки и задумался. Время от времени он покачивал колыбель ногой и тихо напевал.
— Ой, бедная, бедная моя голова! — шептала сквозь сон женщина с желтым лицом, дремавшая на коленях сына.
— Бедная твоя голова, о Израиль! — в задумчивости шептали розовые губы юноши, бодрствовавшего над колыбелью.
А спустя немного времени, маленькая проворная человеческая фигура промелькнула в темноте обширного двора молитвенного дома, направляясь к стоящей возле него низенькой избушке раввина Исаака Тодроса, и исчезла за низкими дверями, которые закрылись с громким скрипом.
В ответ на этот скрип изнутри избушки раздался мужской голос с чистыми, низкими, басовыми нотами:
— Это ты, Моше?
— Я, насси! Твой верный слуга! Жалкое подножие у твоих ног! Да навещают сон твой ангелы покоя! Да будет тебе каждое дыхание уст твоих приятно, как оливковое масло, приправленное мирром! А когда ты уснешь, пусть душа твоя с великим блаженством купается в источнике духов.
Низкий голос, исходивший из темной комнаты, расположенной за маленькими тоже совершенно темными сенцами, спросил:
— А где ты был так долго, Моше?
Человек, находившийся в сенцах, ответил:
— Я был в доме Эзофовичей на субботней трапезе. У Эзофовичей празднуется шабаш с большим великолепием, и я часто хожу к ним встречать шабаш, чтобы поддерживать свою душу в великом веселии!
— Ты хорошо делаешь, Моше, что в шабаш поддерживаешь свою душу в радости. А что там у них слышно?
— Худое слышно, насси! Между розами и лилиями там укрывается мерзкий червь!
— Какой это червь?
— Такой червь, что подтачивает нашу святую веру и из Израиля может сделать народ гоимов и хазарников!
— А в чьем сердце укрывается этот мерзкий червь?
— Он укрывается в сердце Меира Эзофовича, внука богатого Саула.
— Моше! Собственными ли глазами ты видел этого червя и собственными ли ушами ты слышал его? Говори, Моше! На моей голове лежит великое бремя всех душ этой общины, и она должна знать обо всем.
Минуту в сенях царило молчание. Человек, в скромной позе сидевший там, среди глубокой темноты, у закрытых дверей комнаты святого раввина, собирал, очевидно, свои мысли и воспоминания. Минуту спустя, хриплым голосом и растягивая слова, он начал говорить:
— Я видел собственными глазами и слышал собственными ушами. Меир Эзофович не справлял сегодня субботнего кидуша вместе со всей своей семьей и пришел домой тогда, когда шабаш давно уже начался. Я спросил его, что он делал, а он мне ответил, что защищал от нападений хижину Абеля Караима и его внучки Голды…
Меламед умолк. Низкий голос, выходивший из закрытой комнаты, произнес:
— Он защищал отщепенцев и нарушил шабаш!
— Он в святой день шабаша не держит своей души в радости.
— Пусть будет проклято учение это! Да бежит Израиль от него, и да не простит ему господь! — произнес за дверями низкий голос.
— Он говорил, что в святых книгах Израиля ничего не написано ни об Эн-Софе, ни о сефиротах, и что Предвечный не велит преследовать отщепенцев…
— Мерзости изливаются из уст этого юноши. В его тело перешла душа прадеда его Герша Эзофовича.
— Насси! — еще громче, чем до сих пор, воскликнул Моше. Неясное бормотание за дверями поощрило его продолжать.
— Он будет искать рукопись Михаила Эзофовича Сениора, я увидел это по глазам его; и он рукопись эту найдет! А когда он найдет ее и громко прочтет народу, взбунтуется против твоих поучений дух Израиля!
После этих слов наступило долгое молчание; наконец опять послышался низкий голос:
— Когда он найдет эту рукопись, на голову его ляжет моя тяжелая десница и повергнет его в прах… Моше! а что он делал после ужина?
— Он пошел в дом ребе Янкеля и долго разговаривал с кантором Элиазаром; я проходил там мимо и видел в окно.
— Моше! А кто там был еще?
— Там были: Хаим, Мендель, Арнель и Бер, зять Саула…
— А о чем они разговаривали друг с другом?
— Насси! Душа моя вошла в ухо мое, когда я стоял под окном… Они сильно жаловались, что их держат в большой темноте и что истинная вера Израиля загрязнилась, как вода, если в нее бросить горсть грязи… А Элиазар говорил, что он возносит на это к господу великие жалобы с пением и плачем. А Меир говорил, что недостаточно петь и плакать, а надо громким голосом крикнуть народу и что-то сделать, чтобы он стал другим, чем теперь…
— Отродье ехидны! — пробормотал голос из глубины хижины.
— Насси! Кто это отродье ехидны? — покорно спросил Моше. После минутного молчания в темноте раздался ответ:
— Род Эзофовичей!
III
Прошло несколько месяцев. Теплый майский день заканчивался благоухающим тихим вечером.
Незадолго до захода солнца вдоль узкой улички, застроенной самыми бедными в городе домишками, медленно двигались два существа: белая, как снег, коза и стройная худая девушка. Коза бежала впереди, то и дело, подскакивая, чтобы дотянуться до веток растущих здесь и там деревьев, — ловкая, резвая, счастливая. Шедшая за ней девушка была серьезна и задумчива. Возраст ее было бы трудно определить. Ей могло быть и лет тринадцать и лет семнадцать. Хотя она и была высока, — формы ее тела, с угловатыми, сухими линиями, быть может, задержанные в своем развитии, казались еще детскими. Но в походке ее и в выражении лица чувствовалась серьезность и грусть преждевременной зрелости. На первый взгляд она казалась некрасивой. Ее бедный наряд нисколько не украшал ее и не подчеркивал ее прелесть, если даже она и была ей свойственна. Он состоял из выцветшего ситцевого платья, из-под узких складок которого виднелись ноги в грубых туфлях. Лиф у платья висел и был широк; с шеи свисало несколько ниток мелких кораллов. От красного цвета этого единственного на ней украшения ее худые и несколько впалые щеки казались еще смуглее; под густыми бровями большие, глубоко посаженные глаза смотрели черными, как бархат, зрачками, а над узким темным лбом вились спутанными кольцами черные, как смоль, волосы.
Во всем облике этого ребенка или женщины было что-то гордое и вместе с тем дикое. Шла она, выпрямившись, серьезная, смело, глядя задумчивым взором куда-то вдаль; однако при каждом доносившемся до нее более громком звуке людских голосов она останавливалась и, прижимаясь к забору или к стене, опускала глаза, не тревожно, нет, а скорее мрачно и недовольно, как будто всякая встреча с людьми была ей неприятна. Только одна белая коза своим присутствием не причиняла ей никакого неудовольствия. Наоборот, время от времени девушка бросала на нее зоркий взгляд, и если ловкое создание слишком удалялось от нее, то она подзывала его к себе тихими короткими возгласами. Коза, по-видимому, хорошо понимала ее и, послушная зову, возвращалась к ней с каким-то вопрошающим блеянием. В конце тесной, бедной улички заблестела свежая майская, осыпанная росой и позолоченная солнцем зелень. Это была небольшая лужайка, находившаяся тут же за местечком, с одной стороны окруженная березовой рощей, с другой — примыкавшая к огромным пространствам полей, за которыми в бесконечной дали синела длинная полоса больших сосновых лесов.
При виде лужайки девушка не ускорила шагов, наоборот, замедлила их и через минуту, подозвав к себе козу и ухватив ее за маленькие рога, остановилась. Она стояла и смотрела на оживленную сцену, происходившую на лужайке, откуда к ней доносились шум и смех детей, и блеяние животных. На первый взгляд эта сцена казалась только хаотичным мельканием на зеленом фоне множества белых, как снег, животных и пестрых детских фигур. Только всмотревшись пристальнее, можно было понять, что десяток с лишним маленьких девочек гонят с пастбища несколько десятков коз.
Девочки были шаловливы и спешили домой. Козы упрямились и хотели остаться на лугу. Между ними завязалась упорная борьба, в которой животные по большей части одерживали победу над детьми. Они вырывались из рук пастушек и, подпрыгивая, бежали к растущим кое-где на лугу кустам орешника. Девочки гнались за ними, а, догнавши и ухватившись обеими руками за длинные космы жесткой шерсти, не знали, что делать дальше. Одни звали к себе на помощь своих подруг, занятых и озабоченных тем же, что и они; другие перебегали дорогу своим непослушным воспитанницам и, остановившись против них, вытягивали перед собой обе руки как бы защищаясь; были и такие, которые, вцепившись руками в свои кудрявые волосы, испускали громкие крики отчаяния или же падали на землю и. катаясь по мягкой мураве, заливались резвым смехом. Теплый ветер подхватывал эти крики, смех и возгласы, соединенные с непрерывным блеянием коз, и уносил их через унылые улицы местечка в широкие золотые поля и в далекую глубь леса. А на лужайке продолжали мелькать, быстрые маленькие ножки девочек, топчущие зеленую траву, и мелькали маленькие головы, покрытые волосами всех оттенков — от черного цвета воронова крыла до ярко-красного, как медь, и бледно-желтого, как лен.
Стройная серьезная девушка, проходившая вместе со своей резвой, но послушной козой по тесной уличке, ведущей к лужку, стояла теперь и равнодушно присматривалась к оживленной и шумной сцене. Видно было, что веселье это не манило ее к себе и не вызывало в ней любопытства. Как и раньше, когда она шла, она стояла теперь спокойная и серьезная. Казалось, она ждала чего-то, быть может, исчезновения с зеленого куска земли мелькавших там голов и звенящих детских криков.
Минуту спустя эти крики слились в один единодушный возглас. Он выражал радость и всеобщее торжество. Наконец-то, после продолжительной борьбы и усиленных преследований девочки справились с козами; ни одной козы не было уже возле заманчивых кустов орешника, все оказались во власти своих пастушек, которые теперь собрались в одну тесную кучку. Одни изо всех сил тащили за собой упрямых и всегда готовых взбунтоваться питомиц за их короткие рога, наклоняя им головы почти до самой земли; другие, обхватив обеими руками их шеи, торопливо бежали рядом, подпрыгивая вместе с ними на ходу; самые же смелые и сильные взобрались им на спины и, уносимые необыкновенными скакунами, крепко держась сжатыми ручонками за длинную шерсть, мчались к местечку. Вся эта кавалькада, многочисленная и крикливая, влетела в одну из улиц пошире и скрылась в клубах пыли.
Зеленый лужок теперь опустел и затих; только легкий ветер шелестел в ветвях берез и орешника, а от заходящего солнца опускалось на него прозрачное розовое сияние.
Смуглая девушка выпустила козу и, ускорив шаги, через минуту очутилась на краю лужайки.
Тут она остановилась и устремила свой взор в одну точку, как будто вдруг оцепенев от радости.
Она пристально глядела на толстый ствол березы, поваленной вихрями и находившейся у самой опушки рощи; на нем сидел молодой мужчина с большой раскрытой книгой.
Оцепенение девушки продолжалось недолго. С глазами, устремленными на склонившееся над книгой лицо юноши, прямая и легкая, она прошла всю ширину лужайки, остановилась возле ствола, на котором он сидел, нагнувшись, схватила его руку своими смуглыми руками и поднесла к губам.
Погруженный в чтение юноша быстро поднял голову, изумленным взглядом окинул девушку, стремительно выдернул у нее руку и вспыхнул горячим румянцем.
— Ты не знаешь меня? — произнесла девушка несколько глухо, но без дрожи в голосе.
— Нет, не знаю! — ответил юноша.
— Откуда же тебе и знать меня? Но я знаю тебя. Ты Меир Эзофович, внук богатого Саула. Я часто вижу тебя, когда ты сидишь на крыльце твоего красивого дома или когда ты проходишь с этой книгой мимо Караимского холма…
Все это она проговорила уверенным тоном, выпрямившись и серьезно. На лице ее не было заметно ни малейшего следа смущения или робости, не показалось даже слабой тени румянца. Только черные глаза ее как будто стали еще больше и загорелись горячим светом, а бледные губы приняли нежное и мягкое выражение.
— А ты кто такая? — тихо спросил Меир.
— Я Голда, внучка Абеля Караима, презираемого и преследуемого всеми твоими…
Теперь только ее голос дрогнул, и в нем прозвучало несколько мрачных нот.
— Все твои преследуют Абеля Караима и внучку его, Голду, а ты их защищаешь. Я давно уже хотела поблагодарить тебя!
Меир опустил глаза. Бледное лицо его все еще было покрыто румянцем.
— Живите с миром, ты и твой дед Абель, — тихо произнес он, — пусть над бедным домом вашим простирается десница Предвечного, который любит и защищает тех, кто страдает…
— Благодарю тебя за твои добрые слова! — уже тихо прошептала девушка. Говоря это, она опустилась на траву, у ног юноши, и, слегка приподняв сплетенные руки, шептала дальше:
— Ты, Меир, добрый, умный и прекрасный. Имя твое значит «свет», и мне становится светло каждый раз, как я вижу тебя. Я давно хотела найти тебя и поговорить с тобой, и сказать, что хотя ты и внук богатого купца, а я внучка бедного караима, плетущего корзины, мы оба все же равны перед лицом Предвечного, и я вправе подымать на тебя глаза и, созерцая твой свет, быть счастливой!.
И действительно она казалась счастливой. Смуглые впалые щеки ее теперь покрылись заревом пламенного румянца, губы покраснели и вздрагивали, а в черных глазах, поднятых к лицу юноши и полных страстного обожания, стояли две серебряные слезинки.
Меир слушал ее с опущенным взором, а когда она замолчала, поднял глаза, минуту посмотрел на нее и тихо прошептал:
— Какая у тебя признательная душа, Голда, и… какая ты красивая!
В первый раз в продолжение всего разговора с Меиром Голда опустила глаза и начала машинально собирать возле себя растущую вокруг высокую траву с пушистыми метелками.
Меир молча и долго смотрел на нее. Удивительная невинность его сердца проявлялась в смущении, которое заставляло вспыхивать его лицо румянцем, и в робкой радости, от которой удвоенным блеском светились его серые глаза, все время опущенные к земле.
— Сядь рядом со мной, — сказал он, наконец, тихим голосом.
Девушка поднялась с земли и села на указанное ей место. К ней вернулась уже вся ее смелость и серьезность. Молча, она смотрела на юношу, который сидел, не глядя на нее. Они долго молчали. И кругом также царило молчание, только над головами их тихо шелестели стройные березы, а возле находящегося поблизости прудика, заросшего ивами, болотные птицы перекликались редким, отрывистым кряканьем и свистом.
Меир, все еще продолжавший смотреть на росшую у ног его густую траву, заговорил первый:
— Почему ты так поздно выгоняешь на пастбище свою козу?
Голда ответила:
— Потому что я не хочу приходить тогда, когда здесь находятся другие девочки со своими козами.
— Разве и они тоже преследуют тебя?
— Они смеются надо мной, когда меня видят, называют меня разными скверными именами и прогоняют, меня, чтобы я не подходила к ним близко.
Меир поднял на девушку взор, в котором светилось сострадание.
— Ты боишься, Голда, этих девочек?
Голда отрицательно покачала головой и серьезно ответила:
— Я выросла вместе со страхом, он мой брат, и я свыклась с ним. Но когда я возвращаюсь домой, старый зейде спрашивает меня: «Не встретила ли ты там кого-нибудь? Не причинил ли тебе кто-нибудь зла?» Я же не могу лгать перед ним, а когда я говорю ему правду, старый зейде сильно огорчается и плачет…
— Зейде сам воспитал тебя?
Девушка кивнула утвердительно головой.
— Отец мой умер и мать моя умерла, когда я не выросла еще от земли даже настолько, насколько поднялся этот маленький кустик. У зейде не было других детей, он взял меня к себе и ходил за мной, и укачивал меня, когда я была больна, и носил меня по комнате на руках, и сильно целовал меня. А когда я подросла, он научил меня прясть и читать Библию и всем этим прекрасным историям, которые караимы принесли с собой из далеких стран… Зейде добрый, зейде милый и такой старый, такой старый… и такой бедный… Волосы у него, как снег, от старости, а глаза от слез, как кораллы… Я часто лежу у его ног и, когда он плетет корзины, кладу ему голову на колени, а он своей старой трясущейся рукой гладит меня по волосам, вздыхает и говорит: «Иоссейма! Иоссейма!» (сирота).
Она говорила это сидя и наклонившись несколько вперед. Подперев лицо руками и слегка покачиваясь, она упорно глядела вдаль.
Меир смотрел теперь на ее лицо, не отрывая глаз, а когда она произнесла последние слова, повторил вслед за ней мягким, полным сострадания голосом:
— Иоссейма!
В туже минуту сзади, в нескольких десятках шагов от них, в глубине рощи раздалось блеяние козы. Меир оглянулся.
— Твоя коза не заблудится в лесу? — спросил он.
— Нет, — ответила спокойно девушка; — она не уйдет далеко от меня, а когда я ее позову, сейчас же вернется назад. Это моя сестра.
— Страх — твой брат, а коза — твоя сестра! — с усмешкой сказал юноша.
Девушка не спеша, повернула голову в сторону рощи и испустила несколько коротких отрывистых возгласов. Сейчас же в чаще зашумело от быстрого бега, а среди зелени березовых ветвей показалось млечно-белое животное с длинной шерстью; оно остановилось и стало смотреть черными глазами на двух сидящих рядом людей.
— Иди сюда! — позвала Голда.
Коза приблизилась и стала тут же перед ней. Темнооливковой рукой своей Голда провела по ее вытянутой шее; Меир также погладил ее, улыбаясь. Коза издала короткое блеяние, затем подскочила и в мгновение ока уцепилась за ветку разросшегося орешника.
— Как она послушна! — сказал Меир.
— Она меня очень любит, — серьезно ответила Голда; — как зейде меня, так и я выходила ее. Она была маленьким козленком, когда зейде принес ее однажды домой и подарил мне; я носила ее на руках и кормила из собственных рук, а когда она была больна, пела над ней так, как зейде пел когда-то надо мной.
Говоря это, она улыбалась; у нее был вид ребенка, она казалась не старше четырнадцати лет.
— А хотела бы ты опять иметь маленькую козочку? — спросил Меир.
— Почему же нет? — ответила девушка, — очень бы хотела. Если зейде продаст когда-нибудь много корзин, а я напряду много шерсти, мы опять купим себе на рынке такую белую козочку…
— А для кого же ты прядешь шерсть?
— Есть такие добрые женщины, что дают мне. Гана, жена Витебского, тетка твоя Сара, жена Бера, дают мне прясть шерсть, а потом платят мне медными, иногда же и серебряными деньгами…
— Голда, значит, ты приходишь иногда в наш дом к Саре, жене Бера, за шерстью для пряжи?
— Да, прихожу.
— А почему же я никогда не видел тебя?
— Потому что они тайно впускают меня и дают мне работу. Бер и жена его Сара очень сострадательные люди, но они не хотят, чтоб кто-нибудь, проведал, что они знают зейде и меня и что они нам помогают. Я прихожу к ним, когда никого нет дома, кроме разве одной Лии, твоей двоюродной сестры, Меир, и всегда иду так, чтобы меня не увидел черный человек…
— Черный человек? Что это за черный человек? — с удивлением опросил Меир.
— Раввин Исаак Тодрос! — очень тихим, таинственным шопотом ответила Голда.
При звуках этого произнесенного Голдой имени лицо Меира, проникнутое состраданием и рдевшее от возбуждения, нервно вздрогнуло. Он вдруг замолчал, в глазах его вспыхнули мрачные огоньки, а взгляд устремился куда-то вдаль. Так сильно задумался он, что на белом лбу его появилась глубокая морщина. Казалось, что он вдруг забыл о своей собеседнице.
— Меир! — послышался у его плеча ласковый шопот, — о чем ты так задумался, и почему глаза твои стали такими грустными? Имя твое означает «свет». Разве тебе не всегда светит солнце радости и счастья?
Юноша, не изменяя направления своего взгляда, задумчиво и медленно покачал головой.
— Нет! — шопотом ответил он. — У меня на сердце лежит большая печаль!
Девушка совсем близко наклонилась к нему.
— Меир! — воскликнула она, — а отчего у тебя эта печаль на сердце?
Юноша помолчал немного, потом медленно ответил:
— Оттого, что у нас есть черные люди и что у нас так темно, так темно!..
Девушка опустила голову на руки и, как печальное эхо, повторила:
— Ох, темно!
Меир задумчивыми глазами продолжал смотреть вдаль, в ту сторону, где длинная полоса леса отделяла золотую равнину от лилового небосклона.
— Голда! — проговорил он вполголоса.
— Что, Меир?
— Тебе никогда не хотелось знать и видеть, что делается там, за тем густым и высоким лесом, далеко-далеко на широком свете?
Девушка молчала. По ее фигуре, наклонившейся к юноше, и по ее глазам, широко раскрытым и горящим, можно было узнать, что ей, когда она смотрит на него, ничего уже больше на всем широком свете не хотелось видеть.
Меир продолжал:
— Я бы взял крылья у птицы, чтобы полететь туда, за тот лес, далеко…
— Разве тебе не мил красивый дом богатого Саула? Разве тебе не милы лица твоих братьев, родных и приятелей, что ты бы хотел улететь на крыльях птицы? — подавляя порыв грусти или испуга, прошептала девушка.
— Мне мил дом деда моего Саула, — задумчиво прошептал в ответ юноша, — и мне милы лица всех братьев и родных моих… Но я хотел бы улететь за тот лес, чтобы все узнать и стать очень умным, а потом вернуться сюда и рассказать всем, кто сидит в темноте и ходит в оковах, как им сделать, чтобы выйти из темноты и сбросить свои оковы…
— И мне очень интересно, — продолжал он дальше после минутного молчания, — я бы очень хотел знать, как ходят звезды по небу, и как растет трава из земли… и как живут все народы на земле, и какие есть у них умные и святые книги. И я бы хотел прочесть все эти умные и святые книги и познать из них мысль божию и человеческие судьбы, чтобы душа моя стала так полна знанием, как полны водою великие пучины морские. Мне так интересно… Я бы так хотел…
Внезапно он остановился, потому что вздох, вырвавшийся из его взволнованной груди, охваченной неугасимым желанием и несказанной тоской, прервал его речь.
Минуту помолчав, он прибавил тише:
— Я бы хотел быть таким счастливым, как равви Акиба…
— А кто такой равви Акиба? — робко спросила Голда.
Задумчивые глаза Меира просияли.
— Это был великий человек, Голда! Я часто читаю историю его жизни и теперь читал ее, когда ты подошла ко мне…
— И я знаю много прекрасных историй, — сказала Голда, — они вырастают в моей душе, как пунцовые душистые розы! Дай мне, Меир, еще одну такую розу; пусть она цветет передо мною, когда я не буду видеть тебя.
Взгляды их встретились. Мягкая усмешка пробежала по губам Меира.
— Ты знаешь древнееврейский язык? — спросил он.
Она поспешно кивнула ему головой.
— Знаю; зейде научил…
Меир перевернул несколько страниц большой книги, лежавшей у него на коленях, и начал громко читать:
— «Кольба Сабуа был очень богатым человеком. Дворцы у него были такие высокие, как горы; платья его блестели золотом, а в садах его росли благоуханные кедры, пальмы с широкими листьями и цвели душистые саронские розы.»
«Но прекраснее его высоких дворцов, его благоуханных кедров и пунцовых роз, прекраснее всех девушек Израиля была его дочь, молодая Рахиль.»
«У Кольба Сабуа было столько стад, сколько звезд на небе, а стада эти пас бедный юноша, высокий, как молодой кедр, и с таким бледным и печальным лицом, какое бывает у человека, который хочет душу свою освободить из темницы и не может.»
«Юноша этот назывался Иосифом Акиба и жил на высокой горе, по которой паслись стада его господина.»
«И случилось однажды, что прекрасная Рахиль пришла к своему отцу, упала перед ним на землю, целовала его ноги, сильно плакала и говорила: — Я хочу пойти за Акибу и жить в той низкой черной избушке, которая стоит там, на вершине горы и в которой он живет!»
«Кольба Сабуа был человек гордый и черствого сердца. Великим гневом обрушился он на свою дочь, прекрасную Рахиль, и запретил ей думать о молодом пастухе.»
«Но прекрасная Рахиль ушла из высокого дворца, не взяв с собой ничего, кроме черных глаз своих, блестевших слезами, как большие бриллианты, и черных волос своих, поднимавшихся над ее лбом, как большая корона. И пошла она на высокую гору, вошла в черную избушку и сказала: — Акиба! Вот жена твоя входит в дом твой.»
«Акиба сильно обрадовался, выпил из глаз Рахили ее бриллиантовые слезы, а потом начал говорить ей прекрасные слова. Умные слова, как мед, лились из его уст, а она слушала и была счастлива; наконец она сказала: — Акиба! Ты будешь великой звездой, которая засияет над путями Израиля!»
«Кольба Сабуа был человек гордый и жестокого сердца. Он не послал своей дочери на высокую гору никакой пищи и никакого платья и сказал: — Пусть она узнает голод и увидит нужду.»
«Прекрасная Рахиль узнала голод и увидела нужду. Был такой день, когда ей нечем было даже накормить Акибу, и сильно задумалась она над тем, что ее муж голоден.»
«Акиба сказал: — Ничего, что я голоден! — И начал ей опять рассказывать мудрые вещи, но она встала, сбежала с высокой горы, вошла в местечко и воскликнула: — Кто даст мне меру проса за эту черную корону, которую я ношу на моей голове! — И дали ей меру проса, а черную корону, которая была прекраснее бриллиантов и жемчуга, сняли у нее с головы.»
«Она воротилась на гору, вошла в маленькую избушку и сказала: — Акиба! Есть у меня, чем накормить уста твои, но душа твоя голодна, и для нее пищи я не могу достать! Иди в свет и накорми душу свою великою мудростью, что течет из уст ученых. Я же останусь тут, сяду перед порогом дома твоего, буду прясть шерсть и пасти стада и буду смотреть на ту дорогу, по которой ты вернешься когда-нибудь, как солнце, которое возвращается на небо, чтобы разогнать тьму ночи.»
«Акиба ушел…»
Тут голос читавшего оборвался, и он поднял глаза от книжки, так как у плеча его раздался удивленный вопросительный шопот.
— Акиба ушел? — проговорила Голда с широко раскрытыми глазами, сдерживая дыхание в груди.
— Акиба ушел! — повторил Меир и снова начал читать:
— «Прекрасная Рахиль села перед порогом его дома, стала прясть шерсть, пасти стада и стала смотреть на ту дорогу, по которой он должен был вернуться, сияя великою мудростью.»
«Семь лет прошло. И был такой вечер, когда луна льет на землю море серебряного света, а деревья и травы стоят тихо и неподвижно, словно на них повеяло дыхание Предвечного, несущего миру покой и тишину.»
«В этот вечер из-за высокой горы вышел высокий и бледный человек. Ноги у него тряслись, как листья, когда их треплет ветер, а руки поднимались к небу. Когда же он увидел маленькую бедную хижину, слезы Шотоком потекли у него из глаз, потому что это был Акиба, муж прекрасной Рахили.»
«Акиба остановился у окна своей хижины, которое было открыто, и стал слушать, какие люди разговаривают в ней.»
«Разговаривала там жена его Рахиль с братом своим, которого прислал к ней отец. — Вернись в дом Кольбы Сабуа, — говорил ее брат. А она отвечала: — Я жду здесь Акибу и стерегу его дом. — Брат сказал: — Акиба никогда уже не вернется; он бросил тебя и покрыл тебя большим позором. — Она отвечала: — Акиба не бросил меня. Я сама послала его к источнику мудрости, чтобы он пил из него. — Он пьет из источника мудрости, а ты обливаешься слезами, и тело твое сохнет от нужды! — Пусть глаза мои изольются слезами и пусть тело мое изгложет нужда, я буду стеречь дом моего мужа. И если бы теперь передо мною стал тот, к которому я чувствую любовь в сердце моем, и сказал мне: „Рахиль! Я вернулся к тебе, чтобы ты не плакала больше, но мало пил я еще из источника мудрости!“, то я сказала бы ему: „Иди и пей еще“.»
«Бледный странник, стоявший под открытым окном, как услышал то, что сказала Рахиль, побледнел еще больше, сильно задрожал, отошел от своей маленькой избушки и вернулся туда, откуда пришел.»
«Снова прошло семь лет. И наступил такой день, когда солнце льет на землю потоки золотых лучей, а деревья шумят, и цветы цветут, и птицы поют, и люди смеются, словно повеяло на них дыхание Предвечного, несущего миру жизнь и радость.»
«На дороге, подымавшейся по склонам высокой горы к низенькой избушке пастуха, шумела большая толпа людей. Посреди нее шел высокий человек, лицо его сияло, как солнце, великою мудростью, а из уст его падали слова сладкие, как мед, и душистые, как мирр. Народ низко склонялся перед ним, жадно схватывал его слова и с великою к нему любовью восклицал: — О, равви!»
«Но сквозь толпу народа пробралась женщина и, упав на землю, обняла колени учителя. В руках она держала веретено, лохмотья покрывали ее тело, лицо ее было изнурено, так как в течение четырнадцати лет нужда грызла ее, и глаза у нее глубоко запали, так как в продолжение четырнадцати лет они исходили слезами!»
«— Иди прочь! Нищая! — крикнула толпа на женщину. Но учитель поднял ее с земли и крепко прижал к груди своей, так как это был Иосиф Акиба, а женщина была жена его, Рахиль.»
«— Вот родник, который поил мое грустное сердце надеждой, когда голова моя в тоске и в неустанном труде погружалась в источник мудрости.»
«Так сказал учитель народу и хотел возложить на голову Рахили корону из золота и жемчугов. — Рахиль, — сказал он, — когда-то ты сняла с головы свои прекрасные волосы, чтобы накормить мои голодные уста; теперь я украшу голову твою богатым венцом!»
«Но она задержала руку его и, подняв на него глаза, которые опять стали прекрасны, как раньше, много лет тому назад, сказала: — Равви! Слава твоя — мой венец!»
Окончив читать, юноша медленно перевел свой взгляд на сидевшую рядом девушку.
У Голды все лицо пылало и было в слезах.
— Это прекрасно, правда, Голда? — спросил Меир.
— Прекрасно! — ответила она и, опершись лицом на ладони, несколько минут покачивалась своим стройным станом, словно охваченная мечтами или восторгом! Вдруг слезы высохли на ее глазах. Девушка побледнела и выпрямилась.
— Меир! — воскликнула она, — если бы ты был Акибой, а я дочерью богатого Кольбы Сабуа, я то же самое сделала бы для тебя, что и прекрасная Рахиль!..
Медленным движением она взяла обеими руками свою пышную косу цвета воронова крыла, небрежно свисавшую ей на плечо, и, обвивая ею голову, сказала:
— И у меня есть такая же черная корона, как у Рахили!
Потом подняла на Меира свои глубокие пламенные глаза и смело, серьезно, без малейшей улыбки, без румянца и увлечения сказала:
— Для тебя, Меир, я бы и глаза мои вынула из головы! И на что бы мне глаза, если б я не могла смотреть на тебя!
Сильный румянец разлился по лицу юноши, но это был уже не стыд, а волнение. Девушка была так наивна, так дика и вместе с тем так прекрасна со своей огромной растрепанной косой и со страстными словами на смелых серьезных губах!
— Голда! — сказал Меир, — я приду когда-нибудь в ваш дом и навещу твоего старого деда!
— Приходи! — ответила девушка, — вместе с тобой в наш дом войдет великий свет!
Солнце почти зашло уже за высокое пурпурно-фиолетовое облако. Маленький пруд блестел вдали лиловой поверхностью из-за чащи высоких ив. В ту сторону упал взгляд Голды и остановился на воде и на растущей вокруг нее зелени.
— Голда, почему ты так смотришь на этот пруд? — спросил Меир, который не мог уже больше оторвать глаз от ее лица.
— Мне бы хотелось нарезать много лоз, что растут там! — ответила девушка.
— А на что тебе эти лозы? Что ты будешь с ними делать?
— Я бы снесла их домой. 3ейде плетет из них корзины и кузовки, а потом продает их крестьянам на базаре и на эти деньги покупает хлеб, а иногда и рыбу. Теперь зейде давно уже не из чего делать корзины, и он сильно огорчается…
— А почему же ты не берешь их, если они тебе нужны?
— Мне нельзя их брать.
— Почему нельзя? Все в местечке могут пасти тут стада и срезать себе ветки. Эта лужайка и эта роща принадлежат Шибовской общине.
— Что из того, что принадлежат? Мне нельзя. Мы в Талмуд не верим, в субботу не зажигаем огня… нам ничего нельзя!
Меир резким движением поднялся с своего места.
— Идем! — сказал он Голде. — Нарежь себе, сколько хочешь этих веток. Я буду стоять возле тебя… и ты уж ничего не бойся!
Лицо Голды засветилось радостью. Она взяла из рук Меира складной нож, который он ей подал, и побежала к пруду. Теперь, когда она чувствовала себя в безопасности под охраной сильного и дорогого человека, когда ей улыбалась надежда доставить радость старому деду, движения ее утратили степенность, которая придавала ей вид взрослой женщины. Она бежала, все время, оглядываясь на Меира, который шел за ней, и призывая свою козу, бежавшую с противоположного конца лужайки.
Они остановились возле воды. Самые гибкие лозы росли уже в воде, в нескольких шагах от мокрого берега. Во мгновение ока Голда сбросила с ног свои туфли и, подоткнув немного свою длинную юбку за пояс фартука, чтобы сделать ее короче, вбежала в воду. Меир, оставшись на берегу, смотрел на девушку, которая, подняв свои темные руки, быстро срезала гибкие ветки. При этом она смеялась, открывая в улыбке ряд белых, как жемчуг, зубов; отблески ярких облаков обливали темное лицо ее розовым заревом и золотили обвитую вокруг головы черную корону.
Меир, не спуская с нее глаз, также улыбался. Белая коза стояла поблизости в зеленых кустах и, вытянув шею, смотрела на госпожу свою, стоявшую в лиловой воде. Вдруг Голда радостно вскрикнула и нагнулась.
— Что там? — спросил Меир.
Из зеленой чащи, в которой совершенно скрылась фигура девушки, отозвался веселый голос.
— Тут красивые цветы, Меир!
— Что это за цветы?
Стройная фигура наполовину высунулась из зелени, нагнулась к берегу и, вытянув худую руку, протянула стоявшему на берегу юноше широколиственную желтую кувшинку. Меир наклонился, чтобы достать протянутый цветок, но вдруг рука Голды дрогнула, розовое лицо ее побледнело, глаза широко открылись с выражением ужаса.
— Черный человек! — шепнула девушка, уронив в воду кувшинку, и с тихим тревожным криком скрылась в прибрежной зелени.
Меир обернулся. Шагах в десяти от них выходила из рощи и быстро подвигалась по лугу какая-то странная фигура. Это был человек среднего роста, очень худой, с очень темным лицом, с черными, несколько седеющими волосами и с черной седеющей бородой, спускавшейся до пояса. Одет он был в длинное узкое платье из грубого потертого сукна; шея его, голая и желтая, высовывалась из-под расстегнутой грубой рубашки. Сильно сгорбившись, он шел очень быстро. Шаги его не производили ни малейшего шума, так как на ногах у него были поношенные туфли. В обеих руках он нес огромные связки разноцветных диких трав; над его головой и за ним летело множество птиц, которые, по-видимому, хорошо знали его, так как время от времени пробовали садиться на его черные волосы и сгорбленные плечи.
Когда человек этот, не глядя на Меира, проходил мимо него в нескольких шагах, юноша машинально низко склонил перед ним голову в знак покорности и уважения. Однако тотчас же поднял ее. Лицо его было бледно, брови сдвинуты с затаенной болью. Сумрачным взглядом он посмотрел вслед сгорбленной фигуре, не спеша двигавшейся по лугу, и сквозь стиснутые от боли или гнева зубы проговорил:
— Равви Исаак Тодрос!
IV
На наружности раввина Исаака Тодроса, а может быть, и в духовном его укладе были заметны следы многовекового пребывания его предков под палящим небом Испании.
Скитальческий народ, удивительно стойкий в сохранении своих черт, выделяющих его из среды других племен, в силу непреоборимого влияния природы все-таки почерпнул кое-что там и сям из чужих кладезей, среди которых рассеивала его доля изгнанника.
Поэтому, кроме общего сходства, здесь существуют и крупные различия. С одной стороны, здесь встречаются люди, сравнительно недавно прибывшие с юга или востока, с другой — те, над которыми целые века уже простирается бледное небо, и веют морозные вихри; души покорные и страстные, мистические и погруженные в действительность; волосы черные, как самое черное перо ворона, — и голубые глаза, как ясное небо; лица белые и смуглые; организмы сильные, закаленные, — и тела худые, сухие, нервные, страстно вздрагивающие, поглощенные мечтами, преследуемые фантазиями.
У Исаака Тодроса было самое смуглое из всех наиболее смуглых лиц, самые черные волосы и глаза из всех наиболее черных, самая страстная и мечтательная душа из всех пламенных душ.
Какое, собственно, положение занимал он в своей общине и на чем оно основывалось? Священнослужителем он не был: раввины не бывают священнослужителями, и, быть может, ни один народ не стоит так далеко, как израильский, от теократического управления и теократических степеней. Администратором в своей общине он также не был, потому что гражданскими делами в ней занимались должностные лица кагала; раввины же в организации кагальной играют только роль хранителей религии, ее постановлений и обрядов. Однако он обладал более высоким достоинством, чем все упомянутые выше. Происходил он из старинного княжеского рода, среди своих предков в отдаленном прошлом насчитывал много мудрецов, а в более близком — много праведных и почитаемых раввинов, был истинно благочестивым, следовательно, цадиком и хахамом, был аскетом, почти чудотворцем, а также необыкновенно глубоким ученым.
Ученость его была исключительно религиозная, но в глазах Шибовской общины это как раз и была единственная достойная признания ученость.
Ученость эта состояла в несравненном знании святых книг: Торы или Библии меньше всего, Талмуда больше, а больше всего Каббалы.
Исаак Тодрос был наиболее сведущим каббалистом новейших времен, и это составляло краеугольный камень, на котором зиждилось здание его величия.
Кто-нибудь, совершенно незнакомый с обстоятельствами, касающимися веры израильского простонародья, наверное, предположил бы, что шибовское население являлось остатком многочисленной и мрачной секты хасидов, которая ставит во главе всех духовных и светских наук Каббалу.
Нет. Жители Шибова не считают себя отщепенцами, наоборот, гордятся тем, что они правоверные талмудисты и раввиниты. Но принадлежат они к тем талмудистам, впрочем, довольно многочисленным в наиболее низких общественных слоях, которые к Торе и Талмуду присоединили Каббалу, признали ее за святую книгу и с такой страстностью полюбили ее, что первые две книги оказались отодвинутыми в тень.
Впрочем, над шибовским населением пролетел также и хасидизм, близко столкнулся с ним и оставил в среде его многочисленные следы. Значительная часть этого населения и в самом деле была хасидской, сама не зная об этом. А молва передавала, будто дед Исаака Тодроса, тот самый реб Нохим, который вел борьбу за идею с Гершем Эзофовичем, был некоторое время учеником Бешта, основателя этой удивительной секты, часто виделся с ним и, хотя и не присоединился к ней вполне, внес в общину, духовным руководителем которой он был, многие из основных ее элементов.
Главными этими элементами являлись: безграничное почитание Каббалы, почти идолопоклонническое преклонение перед цадиками и благочестивое отвращение, глубокое, непреодолимое, к эдомитам (чужим народам) и их наукам.
Элементы эти укреплялись и все более разрастались под влиянием сына Нохима, Баруха. Внук же его, Исаак, принял сан, принадлежащий предкам, в период наибольшего расцвета этих элементов.
Таким образом религия шибовских обитателей не была ни мозаизмом, ни талмудизмом, ни хасидизмом, но хаотическим смешением всего этого, — смешением, которое господствовало на протяжении многих десятков миль вокруг Шибова, а наивысшее выражение свое находило в лице шибовского раввина.
У равви Исаака был темный лоб, весь изборожденный глубокими морщинами, которые появлялись на нем в то время, когда он напряженной мыслью старался проникнуть в тайны неба и земли с помощью соответственного расположения букв, составляющих имена бога и ангелов. В его черных, как угли, глазах пробегали мрачные или восторженные огоньки, которые разгорались при размышлении о безмерных ужасах и несравненных радостях сверхъестественного мира. Плечи его были сгорблены от сидения над книгами, руки дрожали от непрерывного возбуждения духа, борющегося с видениями, тело высохло, и щеки глубоко впали от духовных мук и физических лишений.
Безбрачие, пост и бессонные ночи оставили свои следы на лице этого человека, наряду с мистическим экстазом, тайным ужасом и не знающей прощения ненавистью ко всему, что жило, верило и чувствовало иначе, чем он.
Смолоду он был женат или, вернее, его женили в то время, когда на лице его еще не показалось ни единого волоска мужской зрелости. Вскоре он развелся с женой, которая своей суетливостью нарушала его набожную сосредоточенность и мешала ему возноситься душой; трое детей его росли в доме его брата, а он сам, уединившись, как отшельник, в своей низкой черной избенке, жил жизнью, напряженной до последних пределов, жизнью фантазии, страстных молений и бездонных мистических размышлений.
Существовал он приношениями, которые доставляли ему его ревностные почитатели. Приношения эти, впрочем, были невелики и состояли из предметов первой необходимости. Больших ценных подарков равви Исаак не принимал и даже не брал никакой платы с приходящих к нему верующих за свои советы, лекарства и предсказания.
Но ежедневно перед восходом солнца через двор молитвенного дома проскальзывали какие-то робкие фигуры и без малейшего шороха ставили на деревянную скамью, находившуюся у окна избушки, глиняные сосуды, наполненные пищей, и клали куски хлеба или праздничных печений.
Обыкновенно в это время равви произносил утренние молитвы, так как это был тот час, когда можно было уже отличить белый цвет от светло-голубого и когда всякий правоверный израильтянин должен был произносить утренние шемы и тефили.
Потом он отворял окно и долго смотрел огненным взглядом своих черных глаз с покрасневшими от напряжения белками на розовые отблески утренней зари. Там, в той стороне, был далекий Восток, Иерусалим, уже исчезнувшие развалины соломоновой святыни, Палестина, плачущая по сынам своим, и вянущие от печали пальмы Сиона…
Время от времени огонь, горевший в глазах раввина, погасал в слезах, которые, стекая, охлаждали сожженные внутренним пламенем щеки. Иногда их охлаждали также морозные ветры и сырые туманы, но Исаак Тодрос, несмотря на туманы, дождь или снег, каждое утро долго смотрел на восток. Потом наклонялся и брал со скамьи пищу, приготовленную для него набожной рукой. Никогда не съедал всего, так как хлеб и печения он ломал на мелкие кусочки и полными горстями бросал их птицам, которые большими стаями слетались тогда с соседних крыш, с улиц, отовсюду, заслоняя прозрачной сеткой проворных крыльев маленькое открытое оконце. Некоторые из птиц схватывали крошки и с радостным щебетанием уносили их в свои гнезда; другие, насытившись, влетали в оконце и усаживались на черных сгорбленных плечах своего кормильца. Многочисленные ласточки, гнездившиеся под низкой крышей избушки, также выглядывали из своих гнезд и, протягивая к нему клювы, смотрели на него смелыми глазами. Тогда темное лицо раввина, заросшее густыми волосами, несколько прояснялось, а порою, хоть и редко, на его сжатых губах играла ласковая усмешка.
Его хорошо знали птицы, — не только те, которые находились в местечке, но и те также, которыми была полна густая березовая роща.
Исаак Тодрос часто уходил в рощу и даже углублялся иногда в смежную с ней огромную сосновую пущу. Что делал он там? Кормил птиц, которые, заметив его, тотчас же слетались со всех сторон и сопровождали его в продолжение всей его прогулки. Иногда молился, поднимая вверх трясущиеся руки и вызывая своими страстными криками, отголоски лесного эха, искал различные дикие травы и злаки, которые и собирал, унося их с собой огромными связками в свою маленькую избенку. Растения эти обладали целебными свойствами, знание которых переходило в роде Тодросов от отца к сыну. Все Тодросы принадлежали к числу тех первобытных лекарей, которых было так много в средние века и которые свое искусство лечить телесные страдания получали не от какой-нибудь академии, а из рук дикой природы, вопрошаемой скорее фантастической и любознательной, чем научной мыслью. Один из далеких предков Исаака Тодроса был, впрочем, когда-то знаменитым лекарем в Испании в то время, когда в злополучиях израильского народа произошел некоторый перерыв и когда вместе с другими народами они могли черпать всесторонние жизненные блага из всяких источников. Это был короткий перерыв, и после него со света исчезли знаменитые и действительно ученые израильские, врачи. Но тот из них, который носил имя Тодроса Галеви, передал, познания своему сыну, и пошли, потом эти познания гулять из поколения в поколение, переиначиваясь всевозможными способами, облачаясь в разнообразные фантастические одеяния, укладываясь в удивительные чудесные легенды, героями которых были скромные растения, пренебрежительно попираемые ногами невнимательных прохожих, растения с очень скромной окраской, но с пронизывающим запахом. Исаак Тодрос усердно искал и старательно собирал эти драгоценные предметы старой науки и своих старинных семейных преданий; бережно уносил их с собой и, вернувшись в низкую мазанку свою, раскладывал их тонкими слоями по грязному полу тесной избы, чтобы редкие и бедные лучи солнца, попадая сюда, насквозь пронизывали их своею благодетельной силой.
Поэтому-то атмосфера в маленькой избушке раввина была всегда, особенно же в летнюю и осеннюю пору, насыщена сильными и удушливыми запахами сушащихся злаков и диких цветов. Бледные краски увядших растений печально светились на окружающем фоне стен, серых от пыли, за десятки лет накопившейся толстыми слоями; среди сора, наполнявшего углы и покрывавшего простой пол, растения выглядели потускневшими алмазами, похищенными из зеленого рая.
Избушка Исаака Тодроса напоминала собою суровые кельи пустынников и анахоретов. В ней ничего не было, кроме низкого твердого ложа, белого стола, поставленного у одного из оконцев, двух-трех деревянных стульев и нескольких крепких досок, вделанных в стену и заваленных книгами. Среди этих книг было двадцать томов огромной величины, напечатанных древним шрифтом и переплетенных в пожелтевший пергамент. Это был Талмуд. Выше лежали Озарга-Кабад, — произведение, написанное одним из предков Исаака, тем самым Тодросом Галеви, который был первым талмудистом, уверовавшим в Каббалу; Тольдот-Адам — эпопея, воспевающая историю первого человека и изгнанника; Сефер-Езира (книга сотворения) — апокалиптическое изображение происхождения мира; Каарат-Кезеф, в которой Эоби предостерегает израильтян от пагубного влияния всякой светской науки; Шиур-Кома— пластическое описание бога, просвещающее читателей насчет его фигуры, исполинских размеров головы, ног, рук и в особенности бороды, имеющей, по словам творца этого произведения, десять тысяч пятьсот парсангов длины! Но на самом верхнем месте была положена больше всего потрепанная от частого употребления Книга сияния, Зогар, самая обширная и самая глубокомысленная диссертация о Хохма-Нистиже (Каббала), книга, изданная Моисеем из Леона в XIII веке от имени раввина Шимона-бен-Иохая, жившего много веков тому назад.
Такова была коллекция книг Исаака Тодроса, над которой он проводил бессонные ночи, почерпая из нее свою великую ученость и мудрость, тратя над ней силы. Оттуда исходил тот аромат, который наполнял его душу мистическим трепетом и горьким острым ядом безграничного отвращения ко всему, что было чужим или враждебным заключенному там миру, полному сверхъестественного блеска и мрака. Над ней-то и просиживал он ночи, не только обыкновенные, будничные, но даже и праздничные. Только в праздничные ночи он бывал не один; у ног его садился ученик и любимец его реб Моше, меламед, чтобы обрезать, когда понадобится, черный фитиль у желтой сальной свечки. Ведь человеку благочестивому, читающему в праздничные ночи святые книги, нельзя снимать нагар со свечи, и нужно, чтобы в это время возле него была для этого заботливая рука другого человека. Раввин читал, таким образом, в праздничные ночи Шиур-Коме и Зогар, а сидящий возле него маленький человечек в грубой рубахе время от времени подымался со своего низкого сидения, оправлял тускнеющее пламя желтой свечи и впивался своими круглыми глазами в лицо учителя, ожидая каждую минуту, что вычерчиваемые, устанавливаемые и перестанавливаемые рукой учителя буквы, составляющие имена бога, нотариков и гематрия, вдруг дадут слово, которое будет совершать великие чудеса и откроет перед людьми все тайны неба и земли.
Вернувшись сейчас же после захода солнца домой с большой связкой диких растений в руках, Исаак Тодрос нашел своего верного почитателя сидящим в углу темных сеней. Скорчившись и подперев голову руками, он сидел, погруженный в глубокие размышления.
— Моше! — позвал раввин, быстро и неслышно проходя через сенцы.
— Что прикажешь, насси? — покорным голосом спросил Моше.
— Иди, Моше, сейчас к старому Саулу и скажи ему, что раввин Исаак Тодрос посетит завтра его дом.
Скорченная, сереющая в темном углу фигура вскочила с земли, как подброшенная пружиной, и босиком помчалась через площадь к высокому дому Саула. Тут, влетев на крыльцо и пробежав длинный коридор, меламед приотворил дверь и, просунув голову в обширную комнату, провозгласил громким и торжественным голосом:
— Реб Саул! Тебя ожидает великое счастье и великая честь! Равви Исаак Тодрос, истинно благочестивый человек и первый мудрец в мире, завтра посетит твой дом!
Из глубины обширной приемной комнаты богатого купца ответил сухой от старости, но сильный голос:
— Я — Саул Эзофович, дети, внуки и правнуки мои будем ждать посещения равви Исаака с великой радостью и с великим нетерпением в сердце. Да здравствует он сто лет!
— Да здравствует он сто лет! — повторил высунувшийся из двери человек с темным лицом и круглыми глазами и исчез.
Двери закрылись. Старый Саул сидел на диване и читал Зогар, глубоких откровений которого, однако, несмотря на величайшие усилия, его ум, привыкший к светским делам, не мог охватить. Изборожденный морщинами лоб его вдруг нахмурился, и беспокойство засветилось в его глазах. Он обратился к старшему из своих сыновей, Рафаилу, который, сидя за соседним столом, вписывал в счетную книжку цифры месячных доходов и расходов, и спросил:
— Зачем он придет сюда?
Рафаил пожал плечами в знак недоумения.
— Или у него есть к нам какая-нибудь придирка? — снова спросил старик. Рафаил, подняв голову от счетной книги, ответил:
— Есть.
Саул вздрогнул.
— Ну! — воскликнул он, — а что это за придирка может быть у него? Разве кто-нибудь из нашей семьи согрешил?
Рафаил бросил коротко:
— Меир!
Лица отца и сына были печальны и неспокойны. Исаак Тодрос навещал членов своей общины очень редко и только тогда, когда дело касалось каких-нибудь важных религиозных обстоятельств или проступков. Но и эти редкие посещения выпадали на долю только самых достойных и влиятельных членов общины. Бедный, серый люд сам осаждал мазанку раввина и по каждому его мановению устремлялся к ней с невыразимой радостью или тревогой.
* * *
Раввин Исаак Тодрос был аскет и презирал маммону. Однако от почестей и знаков отличия, которыми его чтили, он не отказывался, и люди, посвященные в его затаенные мысли и чувства, знали, что эти почести он очень любит. Если бы кто-нибудь когда-нибудь вздумал их отменить или хотя бы только уменьшить, он, наверное, даже, настойчиво потребовал бы их восстановления. Поэтому-то все бедное население и все те, которым особенно хотелось заслужить его расположение, говоря с ним, давали ему княжеский титул насси. Поэтому-то также всякое появление его в местечке, бывшее всегда для населения событием настолько же любопытным, насколько и торжественным, сопровождалось некоторым, довольно пышным церемониалом.
Часа два оставалось еще до полудня, когда Саул Эзофович, стоя у окна своей приемной комнаты, несколько встревоженным взглядом смотрел из-под сдвинутых бровей, на процессию, медленно подвигавшуюся через площадь. Смотрели на нее также и члены его семьи: невестки, сыновья, дочь, зять и старшие из внуков, все празднично разодетые, с торжественными лицами собравшиеся тут, чтобы приветствовать у порога своего дома самое почетное лицо в общине.
От двора молитвенного дома через площадь к жилищу Эзофовичей двигалась кучка людей, одетых в черное. Посредине шел Исаак Тодрос, наклонившись, как всегда, несколько вперед, в своей поношенной одежде и грубой рубахе, открывавшей целиком его длинную желтую шею; он шел своим обычным быстрым, неслышным шагом. С двух сторон его выступали два члена кагала: маленький и юркий реб Янкель с своим белым, покрытым веснушками лицом и с рыжей, как огонь, бородой и Давид Кальман, один из почетнейших лиц местечка, морейне, богатый торговец скотом, высокий, прямой, степенный, чисто одетый, с руками в карманах атласного кафтана, с улыбкой блаженного благополучия на пухлых губах. А вокруг них теснилось еще с десяток лиц, подобострастно улыбающихся и покорных.
Впереди всей толпы двигался реб Моше таким образом, что лицом он был обращен к лицу раввина, а спиной — к цели их путешествия.
Не шел, а пятился, при этом подпрыгивал, хлопал в ладоши, низко наклонялся к земле, задевал своими голыми ногами о неровности почвы, спотыкался, снова подпрыгивал, поднимал лицо к небу и испускал отрывистые крики радости. Наконец, в некотором отдалении, за процессией бежало несколько десятков детей различного возраста; с необыкновенным любопытством смотрели они на процессию и, видя пляску и скачки меламеда, начали подражать ему, делая такие же прыжки, жестикулируя, падая на землю, хлопая в ладоши и наполняя воздух неописуемым гамом.
Через минуту в приемной комнате Эзофовичей с треском отворились двери, и в них влетел меламед, весь красный, запыхавшийся, облитый потом, сияющий необычайной радостью. Радовался он искренно, шумно, страстно. Чему?.. Бедный меламед!
— Реб Саул! — воскликнул он охрипшим от крика голосом, — встречай великое счастие и великую честь, которые идут к тебе!
По лицу Саула можно было угадать, что тайная тревога борется в нем с действительно испытываемой радостью. Что же касается его семьи, члены которой жались по стенам и возле мебели, то она радовалась явно и притом сильно; лица у всех сияли от гордости и испытываемого блаженства, за исключением Бера, молчаливого и апатичного как всегда, когда дело не касалось торговли и денег. Старый Саул стал возле самого порога своей приемной комнаты; на крыльце реб Янкель и морейне Кальман подхватили раввина под обе руки, приподняли над землей его сухое тело и, перенеся через коридор и порог, поставили против Саула.
После этого они низко поклонились, вышли из дома и уселись на крыльце в ожидании той минуты, когда им нужно будет сопровождать обратное шествие.
Саул тем временем склонил перед гостем свою седую почтенную голову. Примеру его последовали все его домашние, стоявшие у стен комнаты.
— Приветствующий мудреца приветствует величие Предвечного! — сказал Саул.
— Приветствующий мудреца приветствует… — начал повторять за Саулом хор мужских и женских голосов. Но в ту же минуту Исаак Тодрос поднял вверх указательный палец, метнул вокруг пылающим взором и зашикал:
— Шааа!
В комнате водворилась гробовая тишина. Палец гостя описал широкий круг, указывая на весь ряд стоящих у стен людей. — Вег! (Прочь!) — закричал он.
В комнате зашелестели платья и послышались быстрые шаги; замелькали огорченные и испуганные лица; все присутствующие, теснясь, прошли к двери, ведущей во внутренние комнаты, и исчезли.
В совершенно пустой комнате остались только двое: убеленный сединами широкоплечий патриарх и сухой с огненными глазами мудрец.
Когда мудрец коротким приказанием и повелительным жестом изгонял из комнаты его семью: седеющих сыновей, почтенных дочерей и красивых девушек, седые брови Саула дрогнули и взъерошились на минуту. Видно, в нем закипела родовая и отцовская гордость.
— Равви! — сказал он несколько глухим голосом и с менее низким, чем раньше, поклоном, — соблаговоли занять под моей крышей то место, которое кажется тебе наиболее удобным!
Он не наделил гостя княжеским титулом. Не назвал его насси!
Раввин Исаак сумрачно взглянул на него, прошел по комнате и сел на диван с высокой желтой спинкой.
В эту минуту он не был сгорблен. Наоборот, держался прямо и сидел вытянувшись, неподвижно устремив взгляд на лицо старика, который занял место напротив.
— Я их выгнал! — сказал он, указывая на двери, через которые удалилась из комнаты вся семья. — Для чего ты собрал их сюда? Я хочу поговорить только с тобой!
Саул молчал.
— Я приношу тебе новость, — снова проговорил раввин, быстро и угрюмо, — у твоего внука, Меира, нечистая душа. Он — кофрим! (вероотступник).
Саул все еще молчал, только морщинистые веки его нервно вздрагивали над выцветшими от времени глазами.
— Он кофрим! — громче повторил раввин, — он произносит скверные слова о нашей религии, не почитает мудрецов, нарушает шабаш и ведет дружбу с отщепенцами.
— Равви! — начал Саул.
— Ты слушай, когда я говорю! — перебил его раввин.
Губы старика сжались так сильно, что совершенно исчезли среди молочно-белой растительности.
— Я пришел сказать тебе, — снова начал Тодрос, — что ты плохо воспитываешь своего внука, что это — твоя вина, раз он такой. Зачем ты не позволял меламеду сечь его и бить, когда он ходил в хедер и не хотел учить Гемары, а над словами меламеда смеялся и подбивал смеяться других? Зачем ты посылал его к эдомиту, который живет там, среди садов, чтобы тот учил его читать и писать на языке гоев и другим еще эдомитским мерзостям? Зачем ты его не наказал своей отцовской рукой, когда он нарушил шабаш и за твоим столом препирался с меламедом? Зачем ты портишь его душу своей грешной любовью, не склоняешь его к святым наукам и на все его мерзости смотришь так, словно ты ослеп?
Раввин устал от длинной речи и, сопя, остановился.
Тогда старый Саул начал говорить несколько глухим голосом:
— Равви! Пусть сердце твое не гневается на меня. Я не мог поступать иначе, как поступал. Ребенок этот — сын моего сына, самого младшего из всех моих детей, скрывшегося очень быстро из моих глаз. После смерти отца его и матери я взял этого ребенка в свой дом и хотел, чтобы он никогда не вспоминал о том, что он сирота. Я был уже тогда вдовцом и сам выходил его своими руками. Его выхаживала также и старая прабабушка, которая отдала бы душу свою богу, лишь бы только купить счастье для его души. Он лучший бриллиант в короне на ее голове, и теперь ее уста от глубокой старости ни для кого уже больше не открываются, как только для него. Вот, равви, все причины, по которым я позволял ему больше, нежели другим моим детям, и держал его более слабыми руками. Вот почему душа моя сильно болела, когда меламед в хедере бранил и бил его, как других детей. Я согрешил, когда, как сумасшедший, вбежал в хедер, наговорил меламеду скверных слов и увел мальчика с собой. Я согрешил, равви, потому что меламед мудрый и святой человек; но пусть грех этот исчезнет из глаз твоих, равви, когда ты подумаешь о том, что я не мог молча смотреть на эти синяки, которые носил на своем теле сын моего сына! Когда такие синяки носили на себе дети сына моего Рафаила, и сына моего Абрама, и сына моего Ефраима, я молчал, потому что отцы их были живы, благодарение богу, и сами смотрели за детьми своими; но когда я увидел синяки на спине и плечах сироты… Равви! Я заплакал, закричал громким голосом и согрешил!
— Это не единственный твой грех! — произнес равви, выслушав слова Саула с неподвижной суровостью и торжественностью судьи. — А зачем ты посылал его к эдомиту в науку?
— Равви! — ответил Саул, — а как бы он стал, потом справляться в жизни, если бы не понимал языка, на котором говорят все люди в этой стране, и не умел подписать своего имени ни на одном контракте, ни на одном векселе? Сыновья мои, равви, и старшие внуки мои ведут большие дела, и он будет вести их, как только женится. Все наследство отца его принадлежит ему. Он будет богат, и ему придется разговаривать с важными господами. А как бы он стал с ними разговаривать, если бы я не посылал его учиться к эдомиту?
— Да погибнет Эдом со своей пакостной наукой, и пусть никогда его не простит господь! — пробормотал раввин.
Через минуту он продолжал:
— А почему ты не сделал своего сына ученым, а делаешь его только купцом?
— Равви! — ответил Саул, — семья Эзофовичей купеческая семья. Мы купцы от отца к сыну, и такой уже у нас обычай.
Говоря это, Саул поднял немного голову, до тех пор опущенную. При воспоминании о своем роде он почувствовал себя гордым и более смелым. Но ничего не может сравниться с тем презрением и с той насмешкой, которые прозвучали в голосе раввина, когда он проговорил вслед за Саулом:
— Семья Эзофовичей!
— Семья Эзофовичей, — повторил раввин громче, — всегда была зерном перца во рту Израиля.
Саул вдруг поднял голову.
— Равви! — воскликнул он, — в ней были бриллианты, глядя на которые, сами эдомиты начинали уважать народ Израиля…
Дрогнула и закипела между этими двумя людьми старая взаимная ненависть Эзофовичей и Тодросов.
— В вашей семье, — сказал раввин, — есть одна мерзкая душа, которая переходит от одного Эзофовича к другому и не может очиститься. Ибо так написано: все души, которые ушли от сефиротов, как капли воды, вытекшие из наклоненной бутылки, совершают ибур-гильгул, странствование по телам, переходя из одного тела в другое, пока не очистятся от всех грехов и не вернутся назад к сефиротам. Когда человек благочестив и праведен, душа его возвращается к сефиротам, а когда она возвращается туда, то на ее место другая душа идет в свет и берет себе тело. И до тех пор горе, печаль, болезни и грехи будут пребывать на земле, пока все души, оторванные от сефиротов, не отбудут ибур-гильгул и не пройдут через тела. А как могут они все пройти через тела, если на земле будет много мерзких, нечистых и не уважающих святую науку душ? Эти мерзкие души постоянно держат для себя какие-нибудь тела, переходя из одного в другое, а там высоко ждут другие души, чтобы те освободили от себя тела и оставили бы их им. Они должны ждать, потому что столько тел не может быть одновременно на свете, сколько существует душ среди сефиротов. И сам Мессия ждет, потому что он не придет на свет, раньше, чем последняя душа не войдет в тело и не начнет ибур-гильгул. Мерзкие души, занимающие одно тело за другим, не допуская к ним ожидающих душ, отодвигают в далекое будущее Иобельга-Гадель — день пришествия Мессии, великий праздник радости! В вашей семье есть такая мерзкая душа. Она вступила сперва в тело Михаила Сениора, потом была в теле Герша, а теперь она сидит в твоем внуке Меире! Я узнал эту душу, надменную и мятежную, по глазам и по лицу внука твоего, и поэтому сердце мое отвернулось от него!
Пока Тодрос излагал сидящему напротив него старику учение о переселении душ и о последствиях его, в этом старике произошла поразительная перемена. Перед этим он уже значительно ободрился и даже поднял, было, голову с некоторой гордостью и достоинством; теперь он опять низко опустил ее; печаль и тревога разлились по его морщинистому лицу.
— Равви! — смиренно отозвался Саул, — будь благословен за то, что открываешь перед глазами моими святую мудрость твою! Слова твои истинны, а глаза твои умеют познавать души, что живут в людских телах. Равви, я расскажу тебе следующее. Когда маленького Меира привез ко мне сын мой Рафаил, я взял ребенка из рук его и нежно поцеловал, потому что мне показалось, что он похож на моего Вениамина, своего отца; но старая прабабушка отняла его у меня, поставила его перед собой на землю и начала сильно приглядываться к нему, а потом крикнула громким голосом: «Он не на Вениамина, а на моего Герша похож!» Слезы текли из ее старых глаз, губы ее повторяли: «Герш, Герш, мой Герш!» А ребенка она прижимала к своей груди и сказала: «Это мой клейнискинд, самый любимый! Это глаз в моей голове и бриллиант в том венце, который образуют собой мои внуки и правнуки, потому что он похож на моего Герша!» Она от него без ума и теперь, только его одного и зовет к себе, потому что он очень похож на мужа ее, Герша.
— Душа Михаила вошла в тело Герша, а из тела Герша перешла в твоего внука Меира, — повторил раввин и прибавил: — Это гордая, мятежная душа! Нет в ней покорности и спокойствия!
Казалось, Тодрос смягчился, видя смирение Саула и доверие, с которым тот отнесся к его словам.
— Почему ты не женишь его, когда у него выросли уже большие волосы на подбородке и на лице? — спросил раввин.
— Равви! Я хотел его женить на дочери благочестивого Янкеля, но ребенок лежал у моих ног и просил, чтобы я не принуждал его.
— Почему ты не поставил тогда ноги своей на его спину и не сделал так, чтобы он был тебе послушен?
Саул опустил голову и молчал. Он чувствовал себя виноватым. Любовь к внуку-сироте постоянно толкала его на путь греха.
Тодрос снова начал говорить:
— Жени его как можно скорей, ибо написано, что когда у молодого человека растут волосы на подбородке, а он еще не имеет жены, то душа его впадает в скверну… Душа внука твоего уже впала в грех… вчера я видел его наедине с девушкой…
Саул тревожно поднял глаза на говорящего.
— Я видел его, — тянул раввин, — как он разговаривал на лугу с караимкой.
— С караимкой! — повторил Саул голосом, полным удивления и испуга.
— Он стоял на берегу пруда и брал из ее рук какие-то цветы, а по их лицам я читал, что души их, охвачены нечистым огнем.
— С караимкой! — еще раз повторил Саул, как бы не желая верить своим ушам.
— С еретичкой! — сказал раввин.
— С нищенкой! — проговорил Саул.
— Равви! — начал опять Саул, — уж я иначе буду теперь обходиться с ним! Я не хочу, чтобы на старости лет стыд выел мне глаза из-за того, что внук мой ведет нечистую дружбу с нищенками. Я женю его!
— Ты накажи его! — воскликнул раввин. — Я для того и пришел сюда, чтобы сказать тебе, что ты должен поставить ногу на спину его и должен согнуть его гордость в дугу. Ты не жалей его. Твое потворство будет великим грехом, которого не простит тебе господь. А ежели ты сам его не накажешь, то я наложу мою руку на голову его, и тогда всем вам будет великий стыд, а ему такое несчастие, что он рассыплется в прах, как жалкий червь!
При этих словах, произнесенных грозным голосом, Саул вздрогнул. Самые разнообразные чувства все время боролись в груди этого старика: тайное отвращение к Тодросам и глубокое почтение к учености раввина, гордость и опасение, сильное раздражение на внука и любовь к нему. Угроза Тодроса затронула эту последнюю струну.
— Равви! — воскликнул Саул, — прости ты ему! Он еще ребенок! Когда он женится и начнет вести дела, он станет другим! Когда он родился, отец его написал мне: «Отец! Каким именем назвать твоего внука?» А я ответил: «Пусть будет имя его Меир, то есть свет, чтобы он светил передо мною и перед всем Израилем великим светом!.»
Он не мог говорить дальше от волнения, и две слезы скатились по его обвислым сморщенным щекам.
Раввин встал с дивана, поднял указательный палец вверх и произнес:
— Так помни о моих приказаниях! Я велю, чтобы ты поставил ногу свою на его спину, а ты слушайся меня, ибо написано: «Ученые — основа мира!»
Сказав это, он направился к дверям, у которых ожидавшие его реб Янкель и морей не Кальман снова подхватили его под обе руки, перенесли через коридор и пороги и поставили на землю возле крыльца.
И снова тронулась через площадь, направляясь в сторону молитвенного дома, черная кучка людей; снова меламед, пятясь перед раввином, скакал, плясал, хлопал в ладоши и кричал; и снова толпа детей, следуя на некотором расстояний за процессией, подражала своему учителю, как и он, прыгая, крича и хлопая в ладоши, изредка падая на землю и оглашая воздух жалобными криками. А в приемной комнате Эзофовичей старый Саул все еще сидел, закрыв лицо руками, когда в противоположных дверях показалась старая Фрейда. Солнечные лучи, проникая через окна, зажгли в украшавших ее бриллиантах и золоте радужные искры, она же, водя по комнате прищуренными золотистыми глазами, произнесла своим беззвучным голосом:
— Во ист Меир?
V
Меира не было дома во время посещения раввина. Ранним утром, уйдя из дому, он направился к самым отдаленным от центральной площади улицам местечка. Здесь он оказался среди крохотных домишек, необычайно убогих, из которых ни в одном не было больше двух маленьких оконцев; перед порогами домишек стояли широкие вонючие лужи, и вокруг них был удушливый тяжелый воздух. Из черных труб домиков выходили жиденькие струйки дыма, своею тонкостью свидетельствовавшие о скудости приготовляемой там пищи; подгнившие и падающие заборы окружали маленькие дворики, засыпанные сором; за заборами здесь и там виднелись узкие полоски земли, негусто заросшие тощими овощами. Перед низкими дверями худые женщины с темными болезненными лицами, в синих кофтах и порыжевших париках, стирали в корытах серое грубое белье; сгорбленные и дряхлые женщины, сидя на скамейках, вязали чулки из синей или черной шерсти; девушки молодые, загорелые в грязных платьях и с растрепанными волосами, доили худых коз.
Это был квартал местечка, занятый самым низшим слоем шибовского населения, пристанище бедности, даже нищеты, грязи и болезней. Стоявшие возле центральной площади дома Эзофовичей, Кальманов, Витебских и Камионкеров могли показаться роскошными дворцами по сравнению с этими жилищами, один внешний вид которых вызывал в голове представление о земном чистилище.
И не удивительно. Там, возле площади, жили купцы и ученые, следовательно, аристократия израильской общины; здесь гнездилось ремесленное и рабочее население, чернь, зарабатывающая на жизнь трудами своих рук, а не головой; из их среды почти никто не мог бы доказать свое происхождение из какой-нибудь старинной семьи, не мог бы даже похвалиться тем, что в его роде был какой-нибудь богач или ученый.
Хотя утро было еще очень раннее, здесь всюду уже началась ежедневная работа. Сквозь мутные стекла маленьких окошечек были видны мерно поднимающиеся и опускающиеся, покрытые рукавами рубашек, руки портных и сапожников. За тонкими стенами звенели инструменты жестяников и стучали кузнечные молоты; из мастерской фабриканта сальных свечей выходили невыносимые, пропитанные запахом сала испарения. Некоторые из обитателей, пользуясь тем; что на их улицу заглянуло несколько лучей восходящего солнца, поотворяли свои окошки, и через них прохожий мог увидеть крохотные комнатки с черными стенами, кишмя кишевшие людьми, которые почти касались головами черных балок низенького потолка. Через эти же окошки неслись на улицу голоса молящихся мужчин, визгливые крики ссорящихся женщин и пронзительный плач детей. Впрочем, только самые маленькие дети потрясали своими криками душный воздух черных и переполненных комнаток; старшие же, выбежав на улицу, целыми толпами с криком гонялись по ней друг за другом или, запустив пальцы в свои густые кудри, валялись на земле и в песке. Подрастающие мальчики, уже не в коротких безрукавках, как младшие дети, а в серых длинных одеждах стояли у дверей своих хижин, опираясь о стены, бледные, тщедушные, унылые, с широко открытыми ртами, словно им хотелось втянуть в свои исхудалые больные груди, доходившие до них редкие лучи солнца и свежие струи воздуха.
К одному из таких подростков приблизился Меир.
— Ну, Лейбеле! — сказал юноша, — я пришел, чтобы посмотреть на тебя! Все ли ты такой же больной и, как сова, таращишь на свет глаза?
Было видно, что Лейбеле болен и осовелыми глазами смотрит на мир; всунув руки в рукава своей убогой одежды и прижав их к груди, он дрожал от холода, хотя— утро и было теплое; на вопрос Меира он не ответил ни слова, только шире открыл рот и бессмысленно уставился в лицо говорящего своими большими глазами с черными мертвенными зрачками.
Меир положил руку на его голову.
— Ты был вчера в хедере? — спросил он.
Мальчик стал дрожать еще сильнее, он ответил охрипшим голосом:
— Ага!
Это означало утверждение.
— И опять тебя били там?
Слезы наполнили мертвенные глаза ребенка, все еще устремленные на лицо высокого юноши.
— Били! — произнес он.
Грудь его затряслась от рыданий под спрятанными в рукава и тесно прижатыми к ней руками.
— А завтракал ты?
Ребенок отрицательно покачал головой.
Меир взял с ближайшего убогого лотка большую халу (булку) и, бросив за нее торговке медную монету, отдал ее ребенку. Лейбеле схватил ее обеими руками и жадно принялся, есть; в ту же минуту из избушки выскочил высокий, худой, гибкий человек с густой черной растительностью, с бледным изнуренным лицом, и бросился к Меиру. Сначала он схватил его руку и поднес ее к губам, потом начал упрекать его.
— Морейне! — воскликнул он, — зачем ты ему дал халу? Ты должен отвернуть от него свое лицо! Это такой глупый, скверный ребенок. Не хочет учиться и срамит меня! Меламед, — да здравствует он сто лет! — очень старается просветить ему голову, но это такая голова, что ничего не понимает. Меламед его бьет, и я его бью, чтобы наука лезла ему в голову… а что ему это помогает? Ничего не помогает! Он алейдык гейер (лентяй), осел, негодяй!
Меир смотрел на мальчика, продолжавшего жадно есть булку.
— Шмуль! — сказал юноша, — он не лентяй и не осел, он — больной!
Шмуль презрительно махнул рукой.
— Какой он больной! — крикнул Шмуль, — он хворать начал тогда, когда его погнали учиться! Раньше был здоровый, веселый и умный! Ах! Какое это было красивое и умное дитя! Мог ли я ожидать себе такого несчастия! Что стало с ним теперь!
Меир все еще гладил рукою растрепанные волосы бледного ребенка с идиотским взглядом.
Высокий, тонкий Шмуль снова наклонился и поцеловал руку Меиру.
— Морейне! — сказал Шмуль, — ты очень добрый, если жалеешь такого глупого ребенка!
— Зачем ты меня называешь морейне, Шмуль? — начал Меир.
Шмуль поспешно перебил его.
— Отцы отцов твоих были морей нам и; зейде твой и дяди твои — морейны, и ты, Меир, скоро будешь морейне.
Меир с какой-то особенной усмешкой покачал головой.
— Я, Шмуль, никогда не буду морейне! — сказал он, — мне такой чести не окажут, и я… не хочу ее!
Шмуль остановился и подумал.
— Я слышал! Ты, Меир, не живешь в согласии с великим раввином нашим и с кагальными!
Меир посмотрел вокруг себя, словно хотел обнять взглядом всю эту нужду, которая окружала его.
— Какие вы бедные! — проговорил он, не давая Шмулю прямого ответа.
Слова эти затронули очень чувствительную струну в жизни Шмуля, даже руки его задрожали и глаза заискрились.
— Аи, какие мы бедные! — простонал Шмуль. — Но самый бедный из всех, кто живет на этой улице, это хайет (портной) Шмуль! Старую слепую мать, жену и восьмерых детей надо содержать. А на что я буду их содержать? У меня нет никакого имущества, кроме этих двух рук, которые день и ночь шьют, если только есть что шить…
Говоря это, он вытянул и показал Меиру свои руки, настоящие руки бедняка, темные, грязные, худые, все исколотые иголкой, покрытые шрамами от ножниц и дрожавшие теперь от охватившей всего Шмуля жалости к своей горькой доле.
— Морейне! — все тише говорил он, ближе наклоняясь к своему слушателю, — нам тяжело жить, очень тяжело… все у нас дорого стоит, а, сколько нам нужно платить — страх! Чиновники царские берут с нас подати, за кошерное мясо мы платим коробочный сбор, и за свечи, которые мы зажигаем в шабаш, платим; и погребальному братству платим; и за катальных должностных лиц платим; и… за что мы только не платим? Аи вей! Из этих бедных домишек наших реки денег плывут… а откуда мы их берем? Из пота нашего берем их, из крови нашей и из внутренности детей наших, которые сохнут от голода. Ты спросил меня недавно, морейне, почему у меня в хате так грязно и столько сора. А как ей не быть грязной, когда нас одиннадцать человек живет в одной маленькой комнате, а в сенях стоят две козы, которые дают нам молоко? Ты спрашивал меня, морейне, почему жена моя такая худая и старая, хоть лет ей еще немного, и почему дети мои постоянно хворают? Морейне! Кошерное мясо у нас стоит очень дорого, и мы его никогда не едим… едим хлеб с луком и пьем козье молоко… На шабаш была у нас только рыба, когда ты, морейне, зашел к нам и дал серебряную монету! Мы бедны… Мы все очень бедны на этой улице; но самый бедный из всех — это хайет Шмуль со своей слепой матерью, со своей очень худой женой и со своими восьмью детьми…
Жалобно качал головой хайет Шмуль и смотрел в лицо Меира своими черными глазами, в которых отражалось застывшее изумление над собственной бедностью. Меир все еще держал руку на голове бледного ребенка, догрызавшего свою булку, и внимательно слушал бедняка. Губы его выражали сострадание; но сдвинутые брови и опущенные глаза придавали его лицу выражение гневной задумчивости.
— Шмуль, — сказал Меир тихо, — а почему ты так часто сидишь без работы?
Шмуль, видимо, смутился и, подняв руку к голове, сдвинул набок ермолку, покрывавшую его черные спутанные волосы.
— Я скажу тебе, — тихо продолжал Меир, — тебе не дают работы потому, что ты от тех материй, из которых тебе заказывают шить платья, отрезаешь большие куски и берешь их себе.
Шмуль обеими уже руками схватился за ермолку.
— Ой, бедная моя голова! — застонал он. — Морейне! Что ты сказал про меня! Твои уста сказали про меня очень гадкую вещь!
Он подскочил, потом наклонился к земле, снова подскочил и воскликнул:
— Ну, правда! Морейне, я открою перед тобой свою душу! Это правда, что я отрезал куски материи и брал себе. А почему я это делал? Потому что мои дети были голы! Я одевал их этими кусками! И когда моя слепая мать лежала больная, я продал эти куски и купил для нее кусок мяса. Морейне! Пусть твои глаза не смотрят на меня сердито! Если б я был такой богатый, как реб Янкель и морейне Кальман; если б у меня было столько денег, сколько они берут себе с работы наших рук и с пота нашего, я бы не крал!
— А зачем реб Янкель и морейне Кальман берут ваши деньги? — начал задумчиво Меир и хотел говорить дальше, но Шмуль выпрямился и вдруг перебил его:
— Ну! Они имеют право! Они над нами старшие! Что они делают, то свято! Кто их слушает, тот как бы самого господа бога слушает!
Печально как-то усмехнулся Меир и опустил руку в карман. Шмуль поймал взглядом это движение, и глаза его вдруг загорелись. В них заблестела жадность.
Меир положил на открытое окно бедной избушки несколько серебряных монет. Шмуль бросился к нему и поцеловал ему руку.
— Ты добрый, морейне! Ты всегда всем бедным людям помогаешь! Ты чувствуешь сострадание и к моему глупому ребенку!
Успокоившись немного от порыва благодарности, он выпрямился и начал шептать Меиру на ухо:
— Морейне! Ты добрый и ты внук большого богача, а я бедный глупый хайет! Но ты — как мед на моих губах, и я должен открыть перед тобой мое сердце. Ты плохо делаешь, что не живешь в согласии с великим раввином нашим и с кагальными! Наш раввин-это такой великий раввин, что другого такого на целом свете нет! Ему господь бог открыл великие тайны, он даже Каббалу Машьят понимает. За ним все птицы летят, как только он зовет их, и все болезни он умеет лечить, и все сердца людские открываются перед ним! Дыхание его свято; а когда он молится, то душа его целуется с самим господом богом. А ты, морейне, оттолкнул от себя сердце его.
С большой важностью говорил это бедняк Шмуль и торжественным жестом поднял вверх свой исколотый, почерневший палец.
— А кагальные, — продолжал он дальше, — это очень благочестивые люди и большие богачи, их также надо уважать и слушать, а если бы даже они и сделали что-нибудь дурное, надо закрыть глаза. Они могут обвинить тебя перед господом богом и перед людьми. Господь бог разгневается, если услышит их жалобу, и ниспошлет на тебя наказание; а люди скажут, что ты очень дерзкий, и отвернутся от тебя!
Трудно было отгадать, какое впечатление произвели на Меира почтительные и вместе с тем торжественные назидания Шмуля. Юноша все еще держал свою руку на голове маленького Лейбеле и так пристально всматривался в его лицо с красивыми чертами и огромными черными глазами, словно видел в этом бледном, болезненном, забитом и дрожащем ребенке воплощение всей этой многолюдной части израильского народа, которая, разъедаемая бедностью и болезнями, все же продолжает верить и благоговеть, слепо, боязливо и неутомимо.
Не спеша, Меир кивнул ему дружелюбно головой и пошел. Шмуль бежал за ним еще несколько шагов.
— Морейне! — вздыхал он, — не сердись на меня за то, что я открыл перед тобою мое сердце! Будь мудрым. Пусть ученые и богатые не возносят на тебя жалоб господу богу! Потому что лучше такому человеку, который лежит под землей, нежели такому, на голову которого они опустят свою разгневанную руку!
Затем Шмуль вернулся, вошел в свою мазанку и даже не заметил, что Лейбеле не было уже возле стены дома. Как только Меир отошел, бледный ребенок отделился от стены и поплелся вслед за ним. Засунув ручонки в рукава жалкой одежды, с постоянно открытым ртом, ребенок бедняка Шмуля шаг за шагом следовал по всей длинной улице за шедшим в задумчивости красивым, высоким юношей. Только в конце улицы ребенок остановился, как будто боясь идти дальше, и горловым, охрипшим голосом произнес:
— Морейне!
Меир оглянулся. Приветливая улыбка осветила его лицо, когда он увидел, что ребенок все время следовал за ним.
Черные мертвенные глаза ребенка устремились на лицо гоноши; из серого рукава к нему протянулась маленькая худая рука.
— Халы! — проговорил Лейбеле.
Меир посмотрел вокруг себя, ища лотка. Вдоль улицы было много убогих ларей, возле которых женщины, прикрыв отрепьем свои исхудалые тела, продавали твердые, как камень, булки, мелкие головки лука и какие-то черные отвратительные изделия из меда и мака.
Из белой руки Меира в черную худую детскую руку снова перешла большая плетеная хала. Лейбеле схватил ее, поднес ко рту обеими руками и, повернувшись, направился домой, медленно, прямо и важно шествуя посередине улицы.
Через минуту Меир оказался на центральной площади местечка. Могло показаться, что из бездны он выбрался на дневной свет. Солнечные лучи заливали круглое большое пространство, высушивали находившиеся здесь и там лужи грязи и зажигали золотые искры в окнах домов, окружавших рынок. На дворе благочестивого ребе Янкеля воздвигалась какая-то новая обширная постройка; рыжий хозяин сам присматривал за работниками, видимо радуясь этому увеличению своего имущества; стук топоров и визг пил наполняли жизнью все пространство вокруг низкого дома, перед сводчатыми сенями которого стояло несколько повозок приезжих постояльцев. Несколько дальше, на крыльце своего дома стоял, блистая атласом, морейне Кальман; одной рукой он подносил к улыбающимся губам сигару, а другой гладил золотистые волосы двухлетнего ребенка, который, сидя на скамейке, держал в руках кусок хлеба, обильно намазанный медом, и пачкал им себе пухлое личико, улыбаясь своему величественному отцу.
На дворе Эзофовичей было шумно и весело. Посредине два плечистых пильщика пилили дрова, заготовляемые на зиму; в мягких древесных опилках играло несколько детей, чисто одетых, украсивших себе головы венками из стружек; у колодца статная и веселая служанка черпала воду, громко переговариваясь с пильщиками; через открытые окна в доме были видны: Сара, стоявшая у ярко пылавшего кухонного очага, красивая Лия, которая перед маленьким зеркалом заплетала свои огромные косы, и серьезные лица Рафаила и Абрама, с большим увлечением разговаривавших о делах.
Когда Меир вошел в ворота, пильщики прервали свою работу, улыбнулись ему и дружелюбно кивнули головами. Они были с той самой бедной и грязной улички, которую только что покинул Меир, и, видимо, хорошо знали его.
— Шолем алейхем! (Мир тебе!) — воскликнули пильщики.
— Алейхем шолем! — весело ответил им Меир.
— Не поможешь ли нам сегодня работать? — шутливо спросил один из рабочих.
— Почему бы и нет? — ответил Меир и приблизился к работающим. Видно было, что физический труд являлся любимым и частым занятием Меира, и что рабочие его деда привыкли к тому, что он делит его с ними. Один из них уже уступал ему место возле ствола дерева, когда через открытое окно высунулась Лия и, кончая заплетать черную косу, позвала:
— Меир! Меир! Где ты был так долго? Зейде давно уже звал тебя.
Прошло четверть часа после посещения раввина, а Саул, склонив голову на руки, все еще сидел в полугневном, в полупечальном раздумьи; а в нескольких шагах от него у открытого окна, выходившего на площадь, сидела старая Фрейда, вся залитая лучами солнца и мерцающая искрами бриллиантов.
Старый, но еще крепкий телом и духом Саул в глубине души не любил Исаака Тодроса. Не понимая хорошенько значения действий и взглядов своего предка Михаила, а также и своего отца Герша, старый Саул знал, однако, о том, что оба они пользовались широким влиянием среди «своих» и всеобщим уважением значительных, хотя и «чужих» людей; поэтому он гордился воспоминаниями об этих двух предках; смутные же сведения об обидах, которые были нанесены этим светилам его рода предками Исаака Тодроса, будили в нем к этому последнему глухую несознаваемую им ясно неприязнь. Кроме того, будучи сам богат и сильно гордясь своим богатством, Саул чувствовал к бедности и, как он выражался в глубине своей души, к неряшеству Тодросов тайное отвращение. Все это, однако, было ничто по сравнению с его благоговением перед мудрою и глубокою наукою, главным представителем которой был великий раввин. С ревностной набожностью Саул сам занимался чтением святых книг. Однако к этим книгам ум его, долгое время занятый другим, не был привычен. Он читал их, но очень мало понимал их тайный и запутанный смысл; а чем меньше понимал, тем с большим благоговением относился к ним и тем сильнее развивались в нем страх и смирение. Теперь эти чувства столкнулись в нем с действительной и прямо трогательной любовью к своему внуку-сироте, и завязалась борьба.
«Что выйдет для Меира из этого? Будет ли ему от этого какая-нибудь польза?» — думал старый Саул и гневным взглядом встретил входящего внука.
Меир вошел в гостиную несмелым шагом. Он знал о посещении раввина и догадывался о цели этого посещения; он боялся гнева старого деда, а еще больше боялся его огорчать.
— Ну, — отозвался, старик, — подойди сюда ближе! Я скажу тебе кое-что хорошее, что доставит тебе большую радость.
А когда Меир остановился в нескольких шагах перед ним, он устремил на него из-под сдвинутых бровей взгляд и сказал:
— Я обручу тебя, и через два месяца ты женишься!
Меир побледнел, но молчал.
— Я обручу тебя с дочерью Янкеля Камионкера!
После этих слов довольно долго царило молчание. Первый прервал его Меир.
— 3ейде! — сказал он. тихим, но решительным голосом, — дочери Камионкера я не возьму себе в жены!
— Почему? — подавляя гнев, спросил Саул.
— Потому, зейде, — ободряясь все больше, ответил юноша, — что Камионкер злой и несправедливый человек, и я с ним не хочу входить ни в какое родство!
Саул вспыхнул. Он начал бранить внука за дерзость его суждений и восхвалять набожность Янкеля.
— 3ейде! — прервал его Меир, — он обижает бедных людей!
— А тебе-то что до этого? — крикнул дед.
На этот раз глаза юноши горячо блеснули.
— 3ейде! — воскликнул Меир, — он забирает в свои карманы слишком много пота и труда тех несчастных, что живут там, на краю местечка, и они становятся из-за него ворами, дети у них голы, а зато реб Янкель строит себе новые дома! И он в кабаках этих и винокуренных заводах, которые арендует у господ, делает скверные вещи! Его шинкари спаивают и обманывают мужиков, а водки он гонит больше, чем позволено. Зейде! Ты не смотри на то, как он молится, смотри на то, что он делает; ибо написано: «Не нужны мне ни молитвы, ни жертвы ваши! Кто притесняет бедного, тот оскорбляет Творца!».
Саул был сильно разгневан, но цитата внука несколько его смягчила, потому что он горячо желал видеть его ученым и сильным в знании святых книг.
— Ну, — пробормотал он гневно, но без горячности, — что из того, что реб Янкель спаивает мужиков и гонит водки больше, нежели позволено! Ты не знаешь еще, что такое дела и как они ведутся. Когда ты женишься на дочери ребе Янкеля и он допустит тебя к своим делам, то и ты будешь так же гнать и продавать водку!
— Зейде! — быстро возразил Меир, — ни гнать, ни продавать водки я не буду! У меня к этому нет никакой охоты!
— А к чему у тебя есть охота?.. У тебя ни к чему нет охоты…
Не успел еще старый Саул договорить эти слова, как Меир наклонился к земле, обхватил его колени руками и, прижимая к ним губы, начал говорить:
— Зейде! Отпусти меня отсюда! Позволь мне идти в широкий свет! Я пойду учиться!
Я учиться хочу, а здесь моим глазам темно. Я давно уже просил тебя об этом, два года тому назад, но ты рассердился на меня и приказал мне остаться! Я остался, зейде, потому что уважаю тебя, и приказания твои для меня святы. Но теперь, зейде, пусти меня отсюда!. Если я пойду в свет с твоего позволения и благословения, я стану ученым, вернусь сюда и тогда восстану против великого раввина и сумею показать ему, что он мал. Теперь…
Саул не позволил ему говорить дальше.
— Шаа! — воскликнул он.
Тревога овладела им при одном упоминании о том, что внук его может вступить в борьбу с великим раввином.
Но Меир выпрямился и с пылающим лицом, со слезами на глазах продолжал:
— Зейде! Вспомни историю равви Элиазара. Когда он был молод, отец не хотел отпустить его в свет. Элиазар пахал землю и смотрел на темные леса, которые заслоняли перед ним свет, а сердце его грызли любопытство и тоска так же, как грызут теперь мое сердце. Не выдержал он этих терзаний и ушел… Ушел в Иерусалим. А когда через несколько лет прибыл туда, то пошел к великому мудрецу, который славился тогда на весь мир, и сказал: «Пусть я буду твоим учеником, а ты будешь моим учителем!» Стало так, как он сказал. А когда отец его, имя которого было Гиркан, в свою очередь, приехал в Иерусалим, то он увидел там красивого юношу, который на большой площади обращался к народу, а народ слушал его, и, как мед, таяла у народа душа от великой сладости, и все низко склоняли свои головы перед юношей и кричали: «Вот наш учитель!» Гиркан сильно удивился мудрым словам того, кто стоял на возвышении, и великой любви, которою окружал его весь народ. И опросил он человека, находившегося возле него: «Как называется этот юноша, что стоит на возвышении, и где живет его отец? Я хочу пойти и поклониться тому, кто породил такого сына». А человек, которого он спросил, ответил: «Имя ему Элиазар, звезда над головой Израиля, а отец его называется Гиркан». Когда Гиркан услышал это, он закричал громким голосом, подбежал к юноше и раскрыл объятия. И великая была тогда радость в сердцах отца и сына, а народ весь поклонился Гиркану за то, что он породил такого сына.
Саул очень внимательно выслушал этот рассказ, и угрюмое лицо его несколько просветлело. Дороги были ему родные предания, и любил он их слушать из уст самого любимого из своих внуков. Однако ни минуты не колебался он с ответом. Прищурив несколько глаза, он покачал головой и сказал:
— Если бы в Иерусалиме был теперь какой-нибудь великий израильский мудрец, я бы и сам, без твоей просьбы, послал тебя к нему учиться. Но на Иерусалим опустилась мстительная десница господа… Он уже не наш… Когда-нибудь он опять будет наш… когда придет великий день Мессии; но теперь там израильтянину только умирать сладко и хорошо, а учиться негде и не у кого. В чужой же свет за чужими науками я тебя не пущу. Они евреям не нужны. Ты научился уже от эдомита столько, сколько тебе нужно, чтобы уметь в чужом свете вести дела. А я уже за это получил от великого раввина выговор. А для меня его выговор великий стыд и великая неприятность… Потому что, хотя это мудрый и великий раввин, но душа моя страдает, когда он приходит в мой дом бранить меня, как меламед бранит маленьких детей в хедере.
Насупился старик, говоря это, и мрачно смотрел в землю. Меир стоял перед ним, как окаменелый, и только в блестящих глазах его, устремленных в пространство, видна была бездна печальных и мятежных чувств.
— 3ейде! — отозвался он, наконец, просительно и порывисто, — тогда позволь мне быть ремесленником! Я буду жить с бедными людьми на одной улице, вместе с ними буду работать руками моими и буду охранять их души от греха! А когда они спросят меня о чем-нибудь, буду отвечать им: так или не так!. Когда же у них не хватит хлеба, я разделю с ними тот хлеб, который будет в моем доме!
Опять лицо его запылало, и слезы блеснули в глазах. Но Саул поднял на него взгляд, полный изумления, и только через минуту ответил:
— Когда ты станешь на два или на три года старше, тогда ты поймешь, какой ты был глупец, говоря мне такие вещи. В семье Эзофовичей никогда не было ни одного ремесленника и, благодарение богу, никогда не будет. Мы купцы от отца к сыну, денег у нас довольно, и от отца к сыну становится все больше. И ты будешь купцом, потому что каждый Эзофович должен быть купцом.
Последние слова он произнес решительным голосом; через минуту он продолжал несколько ласковей:
— Я хочу оказать тебе милость. Если ты не хочешь жениться на дочери ребе Янкеля, уж я позволю тебе не жениться на ней. Но я обручу тебя с дочерью Эли Витебского, крупного купца. Ты скучаешь по науке, ну! Так я дам тебе образованную жену… Родители поместили ее в Вильне в пансион… она умеет говорить по-французски и играть на рояле… Ну, когда ты такой своенравный, то эта девушка будет как раз для тебя. Ей шестнадцать лет. Отец дает за ней большое приданое и сейчас же допустит тебя к своим делам.
По лицу Меира можно было узнать, что внутри у него все кипит.
— Я дочери Витебского не знаю! Мои глаза никогда не видели ее! — сказал Меир угрюмо.
— А на что тебе ее знать? — крикнул Саул. — Я даю ее тебе! Через месяц она вернется из Вильны к родителям, и ты женишься на ней через два месяца! Вот что я говорю тебе, а ты молчи и слушайся моих приказаний. Я до сих пор слишком много позволял тебе, но теперь уже я буду иначе обращаться с тобой. Исаак Тодрос сказал, чтобы я свою ногу поставил тебе на спину.
Румянец вспыхнул на бледном лице Меира. Глаза его засверкали.
— Пусть равви Исаак сам ставит ногу свою на спины тех, которые, как псы, лижут его ноги! — воскликнул Меир: — Я еврей, как и он. Я никому не раб… я…
Слова замерли на дрожащих устах юноши, потому что старый Саул встал перед ним, выпрямившийся, могучий, пылая гневом, и подымал уже на него свою руку. Но в ту же минуту между рукой старика, сухой и все еще сильной, и лицом юноши, взволнованным и пылающим, появилась маленькая, высохшая от старости, сморщенная рука и дрожа разделила деда и внука. Это была рука Фрейды, которая, присутствуя при всем разговоре деда и внука, казалось, дремала на солнце и ничего не слышала; но когда в комнате раздался страстный возглас Меира, а Саул встал, разгневанный и грозный, она также встала, молчаливая и прямая, прошла несколько шагов и бледной старой рукой своей, словно щитом, заслонила правнука. Рука Саула опустилась. Уже менее грозным голосом крикнув Меиру «вег!», он опустился на лавку, тяжело дыша.
Прабабушка снова села у открытого окна, вся освещенная солнцем. Меир оставил комнату.
Он вышел с опущенной головой и пасмурным лицом. В эту минуту он почувствовал все свое бессилие перед теми, кто превосходил его возрастом, значением и влиянием, почувствовал тяготеющие на нем цепи патриархального строя семьи. И только при воспоминании о маленькой высохшей дрожащей женской руке, которая защитила его от грубого насилия, на губах его промелькнула улыбка трогательной нежности. Это была также и улыбка надежды.
— Если б я мог достать ту рукопись! — сказал сам себе Меир, проводя рукой по лбу.
Он думал о рукописи Михаила Сениора и о том, что одна только старая прабабушка знает, где ее надо искать, и о том также, что если бы он имел эту рукопись, то знал бы, может быть, что говорить и что делать.
Саул тем временем долго еще сидел на лавке, сопя от утомления и огорченно вздыхая. Раза два он взглянул на мать и усмехнулся. Быть может, ему показалось удивительным это внезапное заступничество за правнука вечно дремлющей и молчаливой столетней его матери; а может быть, и благодарен он ей был в глубине души за то, что не позволила она ему в порыве гнева обидеть внука — сироту.
— Рафаил! — позвал через минуту Саул громким голосом.
В комнату вошел самый старший из его сыновей, почтенный, седеющий черноглазый мужчина. После Саула он был самым старшим в семье, у него были уже взрослые внуки, он вел широко разветвившиеся по всему свету торговые дела; но, услышав зов отца, сейчас же бросил свои счетные книги, прекратил оживленный разговор с братом и подошел к отцу.
— Дома ли Эли Витебский? — спросил Саул.
— Он вчера вернулся с дальней дороги и теперь отдыхает у себя дома, — ответил сын.
— Пусть кто-нибудь сейчас пойдет к нему, скажет, что я хочу, чтобы он пришел сюда поговорить со мной о важном деле.
— Я сам пойду, — сказал Рафаил. — Я знаю, отец, о каких делах ты хочешь поговорить с Витебским. Это хорошее дело, и надо как можно скорее довести его до конца. С Меиром плохо будет, если он не женится поскорее и не начнет вести дела.
Глаза Саула с тревогой остановились на лице сына.
— Рафаил! думаешь ли ты, что когда он женится, то сейчас же станет другим?
Рафаил утвердительно кивнул головой.
— Отец, — сказал он, — вспомни Бера. Он был на такой же дороге, на какой стоит теперь Меир, однако, когда женился на нашей Саре, а ты, отец, ввел его в свои дела, и когда у него начали появляться дети один за другим, все глупости повылетели у него из головы.
— Иди позови ко мне Витебского! — закончил Саул.
Рафаил через минуту вышел и направился к дому с большими окнами и высоким крыльцом, стоявшему на углу двух самых лучших улиц. На крыльце сидела довольно тучная женщина в шелковом платье ив накидке, заколотой брошкой, с длинными золотыми серьгами в ушах и с старательно причесанным париком на голове. Лет ей могло быть около сорока, вид у нее был свежий и румяный, на губах у нее играла улыбка гордости и самодовольства, а в руках она держала какую-то небольшую работу из тонкой бумаги. Когда Рафаил всходил по ступеням высокого крыльца, женщина встала, сделала грациознейший реверанс, какой только можно было увидеть в Шибове, и, здороваясь, протянула пришедшему руку. Ни одна женщина в Шибове, кроме пани Ганы Витебской, не здоровалась, таким образом, ни с одним из мужчин. Это английское shake hands, распространенное по всему цивилизованному миру, видимо, не особенно пришлось по вкусу степенному Рафаилу, потому что он довольно неохотно прикоснулся концами пальцев к пухлой руке пани Ганы и, после короткого взаимного приветствия, спросил ее о муже.
— Он дома! — сказала женщина, продолжая улыбаться своей как будто хронической улыбкой гордости и самодовольства. — А как же! Вчера он вернулся с дальней дороги и теперь отдыхает у себя дома.
— Я пришел, чтобы поговорить с ним, — сказал Рафаил.
— Пожалуйста! Пожалуйста! — воскликнула женщина, с поспешной предупредительностью отворяя двери, ведущие в сени дома. — Мой муж будет очень рад такому гостю. Пожалуйста! Пожалуйста!
Рафаил ответил на светскую любезность пани Ганы очень сдержанно, быстрым кивком головы, и вошел в дом. Пани Гана опять уселась на скамейке, прищурила довольно презрительно глаза и прошептала:
— Ну, какие тут люди в этом Шибове! Они с женщинами говорить не хотят, и такие дикие, словно медведи!
Она вздохнула, покачала головой и прибавила:
— К таким ли я людям привыкла! У нас, в Вильне, люди учтивые и воспитанные, не так, как тут! Пфе!
Она сплюнула, слегка вздохнула еще раз и, снова принявшись машинально за свою работу, стала смотреть с гордой и самодовольной улыбкой на местечко и на двигающихся по местечку людей. Почти тотчас же в дверях дома показались двое мужчин; разговаривая, они быстро прошли по крыльцу, не взглянув даже на пани Гану, и направились к дому Эзофовичей.
Эли Витебский, шествовавший теперь через площадь рядом с Рафаилом, нисколько не был похож на своего спутника. Купец, как и тот, он внешностью представлял совершенно особенный тип купца-еврея. Он был видимо светским и элегантным человеком. Его одежда, не совсем, правда, короткая, все же была, по крайней мере, на пол-локтя короче, чем доходившая до пят одежда Рафаила, и несколько иного покроя. На его атласном жилете блестела толстая золотая цепочка, а на пальце — перстень с большим бриллиантом. Лицо у него было приветливое, глаза быстрые и проницательные; к своей маленькой золотистой бородке он часто медленным и осторожным жестом подносил руку, украшенную бриллиантом.
Он шел возле Рафаила с видимой поспешностью и удовольствием. Во всем Шибове, впрочем, не было ни одного хотя бы самого богатого купца и хозяина дома, который бы не поспешил таким же образом на зов Саула Эзофовича. Уж лет десять, как Саул перестал лично вести дела и никуда не выходил из дому, кроме синагоги. Зато к нему приходили все, кому хотелось почерпнуть что-либо для своих торговых дел из сокровищницы обширного опыта и глубокого понимания старого купца. Часто случалось, что он сидел в приемной комнате на своем желтом диване с высокой спинкой; перед ним на столе лежала открытая божественная книга, которую ему помешали читать; а вокруг него сидели зрелые мужи, считавшиеся во всей общине за богачей и ученых и все же пришедшие к нему за советом, за помощью, иногда даже за разбирательством и разрешением спорных дел. Старый Саул давал советы, оказывал помощь, насколько мог это сделать, не обижая своих детей; решал, примирял, и отпечаток глубокой думы лежал благодаря всему этому на его изборожденном морщинами лбу. Когда же ему самому нужно было поговорить о собственных делах с наиболее уважаемыми лицами в общине, он вызывал их через своих сыновей или внуков, и они охотно и предупредительно спешили к нему.
Спешил также на зов старого патриарха общины и элегантный богатый Эли Витебский. В приемную Эзофовичей он вошел с сияющей улыбкой и приветствовал хозяина:
— Шолемалейхем! (Мир тебе!).
Таким устарелым способом он уже никого не приветствовал за пределами Шибова; наоборот, людям, с которыми ему приходилось встречаться в свете, он очень хорошо умел говорить: гут морген, или добрый день! Но его неизменным обычаем было во всем приноравливаться к тем, с кем приходилось иметь дело.
Рафаил хотел уйти из комнаты, но отец остановил его повелительным жестом. Закрыв все двери в комнате, они долго и тихо разговаривали втроем. Однако, разговаривая, они хотя и понижали голоса, любопытная, и своевольная Лийка, дочь Рафаила, прижав свой носик к запертым дверям, а черные глаза к замочной скважине, ясно услышала часто повторяемые имена сначала Меира и Меры, дочери Витебского, а затем свое собственное и какого-то Леопольда, родственника пани Ганы, жившего в большом свете. Вся, вспыхнув, она отскочила от дверей, пристыженная, но охваченная тайной радостью, а через минуту она уже выглядывала из окна, чтобы как можно скорее увидеть возвращающегося домой двоюродного брата.
Солнце уже заходило, когда Витебский покинул дом Эзофовичей, сияющий, улыбающийся, видимо очень довольный тем, что удалось устроить дело или, быть может, даже два сразу.
Почти в это же время Меир возвращался домой. Лийка выбежала навстречу к брату и, обняв в воротах, зашептала ему на ухо:
— Знаешь, Меир! Сегодня у нас происходили важные события. 3ейде наш и отец мой долго разговаривали с Эли Витебским, и они говорили о нас. Витебский сговорил за тебя свою дочь, а меня зейде и отец просватали за племянника пани Ганы, который живет в большом свете и очень образован.
Она шептала это, вся, пылая и не смея от стыда поднять глаза на брата. Вдруг она почувствовала, что он быстрым движением вырвался из ее объятий. Подняв глаза, она увидела, что Меир снова уходит.
— Меир! — закричала ему вслед девушка. — Куда ты идешь? Разве ты не будешь ужинать с нами?
Уходящий ничего не ответил девушке, звавшей его к семейному столу. Глубокая морщина появилась у него на гневном лбу. Он понял в эту минуту все ничтожество того возгласа, которым ответил деду несколько часов тому назад: «Я никому не раб!» Его будущим распоряжались без малейшего участия его воли, а он знал, что как прикажут старшие, так оно и будет.
Нет! Он весь содрогнулся от мысли, что может так быть. Почему? Он ведь не знал молодой Меры, учившейся, где-то тем наукам, к которым он и сам так страшно рвался! Однако, медленно идя, — заложив за спину руки и опустив голову, — через местечко и через пустыри, отделявшие его от Караимского холма, он все время думал, упорно, машинально, непрерывно: «Я никому не раб!» В нем бурлила и кипела гордость и поднималась жажда свободы, неизвестно откуда взявшаяся, наверное, из того таинственного дыхания природы, которое порождает на земле благородные и сильные души, стремящиеся к свободе, к справедливости и к знанию.
* * *
У подножья Караимского холма, в избушке, прижавшейся к его песчаному склону, светил желтый огонек. Над избушкой в ветвях развесистой вербы поблескивали мелкие звездочки, а дальше, по широким полям, стлались черные вечерние тени.
Внизу избушки, возле низкой стены, сидел на вязанке измятой соломы сгорбленный старик, одетый в рваную одежду, и дрожащими руками перебирал гибкие прутья лозняка. Фигура его едва серела в полутемном углу, а черты склоненного лица совсем не были видны.
Ближе к желтому пламени свечи на деревянном стуле сидела высокая девушка с худым лицом и стройной фигурой. В опущенной руке ее с тихим жужжанием вертелось веретено, а над головой поднималась доска прялки с прикрепленным к ней толстым пучком шерсти.
Из угла, в котором сидел сгорбленный старик, раздавался дрожащий и хриплый голос: «Среди пустыни, такой большой, что, казалось, не было ей ни конца ни края, возвышались две горы, такие высокие, что вершины их скрывались в облаках. Горы эти назывались Хорив и Синай…»
Хриплый, дрожащий голос умолк, а девушка, которая, продолжая прясть, слушала все время с внимательным видом, проговорила:
— 3ейде! Говори дальше!
Но в ту же минуту за открытым окном раздался пониженный мужской голос:
— Голда!
Пряху нисколько не испугал и не удивил этот чужой голос, внезапно произнесший ее имя. Можно было подумать, что она каждую минуту ожидала услышать возле себя этот голос; она степенно встала и без малейшего волнения подошла к окну. Только глаза ее горячо засветились из-под черных ресниц и в голосе зазвучала несказанная радость, когда, стоя у окна, она тихо сказала:
— Меир! Я знала, что ты выполнишь свое обещание и придешь.
— Я пришел к тебе, Голда, — говорил за окном тихий мужской голос, — потому что у меня сегодня очень темно перед глазами, и я хотел посмотреть на тебя, чтобы мир стал для меня светлее.
— А почему стало у тебя так темно перед глазами? — спросила девушка.
— У меня большая неприятность. Равви Исаак пожаловался на меня зейде, и зейде хочет женить меня.
Юноша замолчал и опустил глаза. Девушка не шевельнулась. Ни малейшим движением фигуры и лица не обнаружила она своего волнения, только ее смуглое и загорелое лицо мгновенно стало белым, как бумага.
— На ком зейде хочет женить тебя? — спросила девушка, и в голосе ее послышались печальные ноты.
— На Мере, дочери купца Витебского.
Голда тряхнула головой.
— Я не знаю ее.
А потом вдруг спросила:
— Ты женишься на ней, Меир?
Юноша не ответил, и Голда не спрашивала его больше. Смуглое лицо ее вспыхнуло румянцем, в глазах засветилось невыразимое счастье. Меир смотрел на нее нежным, как будто сострадательным, глубоким и вместе с тем огненным взглядом.
Оба молчали, а в тишине, прерываемой только шелестом ветвей, спускавшихся над крышей, снова захрипел дрожащий голос сидевшего у стены старика: «Когда Моисей спускался с горы Синая, умолкли громы, погасли молнии, вихри прилегли к земле, и весь Израиль поднялся, как один человек, и воскликнул; „Моисей! Повтори нам слова Предвечного!“».
Меир с напряженным вниманием прислушивался к старческому голосу, рассказывавшему древнюю историю Израиля. Голда посмотрела на деда.
— Он всегда рассказывает мне разные истории, — сказала она, — а я пряду или лежу у его ног и слушаю… Меир, — прибавила она с торжественностью во взгляде и в голосе, — войди в дом наш и приветствуй моего деда.
Через минуту скрипнули двери маленьких сеней. Старый Абель поднял голову от ивовых прутьев, которые он все время перебирал и сплетал своими дрожащими, но бойкими руками, и, увидев в полумраке статную фигуру юноши, спросил:
— Кто это пришел?
— 3ейде! — сказала Голда, — это Меир Эзофович, внук богатого Саула, пришел в дом наш, чтобы приветствовать тебя.
Услышав имя, названное Голдой, серая сгорбленная фигура у стены вдруг поднялась и, опираясь рукой на вязанку смятой соломы, вытянула вперед желтую, покрытую лохмотьями шею. Из темноты выдвинулась тогда на свет желтого пламени голова, с которой свешивались до самых плеч длинные густые космы золотисто-белых волос; маленькое сморщенное лицо едва виднелось из-под покрывавшей его густой растительности. Голда говорила правду, что волосы ее деда стали от старости, как снег, и, как кораллы, стали от слез глаза его. Теперь из-под этих коралловых припухших век смотрели погасшие глаза сначала с неподвижным страхом, а йотом с внезапно вспыхнувшим возмущением и ненавистью.
— Эзофович! — произнес старик хриплым голосом, уже не так сильно дрожавшим, как раньше. — А зачем ты пришел сюда и переступил порог моего дома, когда ты раввинит… — враг… гонитель… а прадед твой проклял моих предков и храм их обратил в прах?.. Уходи отсюда! Пусть старые глаза мои не видят тебя!
Произнося последние слова, он вытянул трясущуюся руку к двери, через которую вошел юноша.
Но Меир медленно шагнул вперед и, низко склонив голову перед разгневанным стариком, проговорил:
— Мир тебе!
При звуках этого ласкового и глубокого голоса, произнесшего слова, заключавшие в себе благословение и просьбу о примирении, старик умолк, тяжело опустился на свое низкое сидение и только после долгого молчания начал говорить на этот раз жалобным и стонущим голосом:
— Зачем ты пришел, ко мне! Ты раввин и правнук могущественного Сениора. Тебя проклянут твои, когда увидят, что ты переступил мой порог, потому что я последний караим, который остался здесь, чтобы стеречь развалины нашей святыни и прах наших отцов! Я бедняк! Я нищий! Я проклят твоими! Я последний караим!
Меир слушал старика в молчании, полном почтения.
— Ребе! — отозвался он немного погодя, — я низко склоняю перед тобой свою голову, потому что нужно, чтобы на свете восторжествовала справедливость, и чтобы правнук того, кто проклинал, поклонялся правнуку проклятых…
Абель Караим выслушал слова эти, насторожившись, с глубоким вниманием. Потом долго молчал еще, словно взвешивая значение их своим измученным умом, наконец, вполне понял их и прошептал:
— Мир тебе!
Голда, скрестив руки на груди, стояла и смотрела на Меира так, как смотрят верующие на святую икону. Услышав из уст деда слова примирения, она пододвинула Меиру один из двух стульев, находившихся в комнате, взяла из угла маленький блестящий кувшин и вышла в сени.
Меир сел несколько поодаль от старика, который снова погрузился в свою работу, и сразу начал шептать что-то. Мало-помалу шопот этот становился все громче и, наконец, превратился в рассказ, произносимый хриплым и дрожащим голосом. Такие рассказы были, по-видимому, постоянной привычкой Абеля. Его память и сердце были полны ими, и он украшал этим свое бедное существование.
Первых слов, которые Абель произнес шопотом, Меир не разобрал, и только тогда уловил связь в его словах, когда старик начал говорить громче:
— «На берегах вавилонских сидели они и плакали, а ветер стонал в их лютнях, которые они принесли с собой из отчизны и, охваченные печалью, повесили на деревьях.»
«И пришли к ним господа их и сказали: „Возьмите в руки свои ваши лютни, играйте и пойте!“ А они ответили: „Как можем мы играть и петь в земле изгнания, когда язык наш иссох от великого горя, а сердца наши умеют только взывать: „Палестина! Палестина!““ Но сказали им господа их: „Снимите с дерева лютни ваши, играйте и пойте!“».
«Тогда пророки Израиля посмотрели друг на друга и спросили: „Кто из нас уверен, что выдержит муки, а не станет играть и петь в земле изгнания?“».
«А когда на другой день пришли к ним господа их и сказали: „Снимите с деревьев лютни, играйте и пойте!“ — пророки Израиля поднесли им свои окровавленные руки и воскликнули: „Как можем мы снять их, когда руки наши изранены и нет на них пальцев!“».
«Реки Вавилонские громко шумели от великого изумления, а ветер плакал в лютнях, висевших на деревьях, потому что пророки Израиля изрезали себе руки, чтобы никто не мог заставить их петь в земле изгнания!»
Когда Абель произносил последние слова старой легенды, в комнату вошла Голда. Она несла в одной руке на плетеной соломенной подставке две глиняных кружки, в другой — блестящий кувшин, наполненный молоком. В дверях, оставшихся после нее открытыми, стояла коза, выделяясь своей белизной на черном фоне сеней. Девушка, в длинной полинявшей юбке, с отброшенной за спину черной косой на серой рубахе, налила в кружки пенящееся молоко и подала их деду и гостю. Она ходила по избе тихо и легко, с едва заметной улыбкой на серьезных губах. Потом села и снова начала прясть: В комнате водворилась полная тишина. Старый Абель тихим топотом начал было еще какую-то старую историю, но вскоре замолчал; руки его упали на связку ивовых прутьев, а голова неподвижно прислонилась к стене.
Коза исчезла с порога; некоторое время еще было слышно, как она топталась в темных сенцах, но вскоре и это затихло. Молодые люди остались одни с уснувшим стариком и звездами, заглядывавшими к ним сквозь низкое оконце. Она пряла, устремив взгляд на лицо юноши, сидевшего поодаль; он опустил глаза и думал.
— Голда! — после долгого молчания отозвался Меир. — Пророки Израиля, которые изранили себе руки, чтобы не быть рабами своих господ, были великими людьми…
— Они ничего не хотели делать против своего сердца! — серьезно ответила девушка.
Снова они замолчали. Веретено жужжало в руке Голды, но как будто все тише и медленнее. Сквозь плохо сколоченные старые доски стены проникали порывы ветра и колебали желтое пламя свечи.
— Голда! — отозвался Меир, — тебе не страшно в этой уединенной избушке, когда осень и долгая зима спускают на мир черную мглу, а сильные вихри влетают сквозь эти старые стены и стонут?
— Нет, — ответила девушка, — мне не страшно, потому что Предвечный охраняет бедные хаты, стоящие в темноте, а когда ветер влетает сюда и стонет, я слушаю истории, которые рассказывает зейде, и не слышу этого стона.
Взгляд Меира, полный нежного сострадания, покоился на лице этого серьезного ребенка. Голда смотрела на юношу неподвижными глазами, блестевшими издали, как черные огненные звезды.
— Голда, — снова сказал Меир, — ты помнишь историю о равви Акибе?
— Я ее до конца жизни своей не забуду, — ответила Голда.
— Голда, а ты бы могла, как прекрасная Рахиль, ждать четырнадцать лет?..
— Я бы до конца жизни своей стала ждать…
Она произнесла это спокойным голосом, с серьезным видом, но веретено выскользнуло из ее руки, бессильно опустившейся вниз.
— Меир, — сказала девушка так тихо, что слова ее едва можно было уловить сквозь тихий шопот вечернего ветра, — дай мне одно обещание! Когда тебе будет нехорошо в доме деда твоего Саула и когда ты почувствуешь печаль в своем сердце, приходи тогда в наш дом. Пусть я буду знать о каждой твоей печали, и пусть мой зейде утешает тебя прекрасными историями, которые он умеет рассказывать!
— Голда, — сказал Меир сильным голосом, — я, как пророки Израиля, скорей искалечу себе руки, чем сделаю что-нибудь против моего сердца!
Сказав это, он встал и кивнул девушке головой.
— Мир тебе! — сказал он.
— Мир тебе! — ответила Голда тихо и слегка кивнула ему головой.
Меир вышел из хаты, а через минуту девушка встала со стула, затушила желтое пламя догоравшей свечи и, завернувшись в какой-то серый платок, легла у ног заснувшего на соломе старика. Легла, но долго еще смотрела широко открытыми глазами на звезды, мерцавшие за окном.
VI
По складу своего ума и по характеру Эли Витебский обладал большими дипломатическими способностями. Он родился и вырос не в Шибове, как все без исключения остальные обитатели этого местечка, и приехал сюда только три года тому назад, вынужденный к этому своими делами и различными семейными обстоятельствами.
Следовательно, среди местных жителей, знавших друг друга от дедов и прадедов, он был, чуть ли не чужеземцем; а вдобавок, проведя всю свою жизнь в большом губернском городе, он привез еще с собою всякие новшества, которые изумляли и оскорбляли не в меру консервативных жителей глухого угла. Такими новшествами были: одежда, значительно отличавшаяся своим покроем и длиной, ношение перстня с бриллиантом, отсутствие ермолки на голове, коротко подстриженная золотистая бородка, полное отсутствие в доме талмудических и каббалистических книг и в особенности обладание такой женой, как пани Гана, и такой дочерью, которая учится где-то в пансионе, а кроме этой последней, только еще двумя детьми. Новшества эти, бесконечно важные, невиданные и неслыханные, должны были навлечь на элегантного купца общее нерасположение шибовского общества. Однако не навлекли. Вначале, правда, там и сям поднялись разговоры, что он миснагдим, прогрессист, — равнодушный к делам веры. Подозрения эти, однако, быстро рассеялись, а той силой, которая их рассеяла, была чрезвычайная мягкость, предупредительность и гибкость Эли. Всегда учтивый, усмехающийся, приветливый, он ни с кем не препирался, каждому уступал, все подтверждал, ссорящихся между собой людей избегал, чтобы не приходилось становиться на сторону одного из них, вызывая этим раздражение у другого; если же никоим способом нельзя было этого избегнуть, то он умел так мило, плавно, сладко и убедительно говорить, что враждебные стороны, плененные его красноречием, смягчались, примирялись и уносили в своих сердцах благодарность и почтение к нему, говоря с восторгом: а клугер менш! Что же касается собственно обрядов и религиозных предписаний, то Витебский оказался истинным ортодоксом. Он праздновал шабаш и соблюдал кошеры с самой мелочной пунктуальностью; великому раввину, сколько бы раз ни встречал его, он всегда очень низко кланялся и умел даже делать то, чего никому в целой общине никогда не удавалось, — разглаживать нахмуренный лоб и прояснять задумчивые глаза мудреца какими-то веселыми притчами, неизвестно откуда взятыми, но всегда рассказанными так, что в них была доля какого-то мистического или патриотического настроения, благодаря чему, они нравились даже самым суровым слушателям. Дома он проводил мало времени, постоянно разъезжая по делам, которыми усердно занимался. Но всякий раз, когда он находился в Шибове, его неизменно видели в бет-гамидраше, где он слушал с надлежащим благоговением мудрые поучения раввина Тодроса и улыбался от удовольствия, когда десяток или несколько десятков старых и молодых мудрецов общины вели между собой ожесточенный пильпуль, то есть рассуждали и спорили о разных комментариях и 6 комментариях к комментариям, которыми полны две тысячи пятьсот печатных листов Галахи, Агады и Гемары. В доме молитвы он также всегда •присутствовал в то время, когда там бывали все, и хотя не мог причислить себя к наиболее горячо молящимся, следовательно, наиболее громко кричащим и наиболее сильно раскачивающимся, но весь его внешний вид и выражение его лица неизменно бывали вполне благопристойны. Не следует, однако, думать, что, поступая таким образом, Витебский был лицемером. Нисколько. Он искренне любил согласие и спокойствие и поэтому не хотел их нарушать. Ему везло в жизни, и он чувствовал себя довольным и счастливым; он любил, поэтому всех людей, и ему было совершенно и глубоко безразлично, был ли тот человек, с которым приходилось иметь дело, талмудистом, каббалистом, хасидом, правоверным, отщепенцем или даже эдомитом, лишь бы только тот не вредил ему лично. Об эдомитах, впрочем, он и узнал-то в первый раз только тогда, когда приехал в Шибов; в том кругу, в котором он вращался раньше, христиан называли гоями и, но и то очень редко, только под влиянием исключительных чувств гнева или обиды, чаще же всего их попросту называли христианами. Когда, однако, приехав в Шибов, он услышал об эдомитах, то подумал про себя: пусть себе будут и эдомиты! И с тех пор и он также не давал христианам другого названия, кроме этого, кбгда разговаривал о них с кем-нибудь из шибовских обитателей. Но в это название им не вкладывалось ни крошки ненависти или хотя бы неприязни. Эдомиты не сделали ему до сих пор ничего особенно плохого: за что же он стал бы их не любить? За пределами Шибова он относился к ним дружелюбно и многих из них даже любил, но в Шибове — как все, так и он!
В детстве ему дали религиозное воспитание, но потом все как-то развеялось и исчезло из его памяти среди вполне светских интересов и занятий. В Иегову он верил и глубоко чтил его; о Моисее знал; знал также кое-что о вавилонском пленении и о новейшей истории еврейского народа; но глубже он не вникал. В сущности его очень мало трогало, что и как сказал и повелел танаит или какой-нибудь раввин. Однако он никому не противоречил ни словом, ни поступком, ни даже мыслью. Делал все, как было приказано делать всем, говоря самому себе: — Кому это мешает! Может быть, это так себе, людские выдумки, а может быть, и приказание самого бога, — зачем мне восстанавливать его против себя?..
Ведя такую политику с людьми и богом, он ничего не боялся, и ему хорошо было на свете.
Было бы ему и совсем хорошо, если бы он не привез с собой новости, сильнее всего изумлявшей жителей Шибова, — жены своей Ганы. Насколько он, живя в маленьком местечке, стремился и старался казаться таким, какими были все, настолько же наибольшей заботой пани Ганы было поступать иначе, нежели все. Когда они жили в большом городе, между ними царило полное согласие, коренившееся на действительной привязанности и на одинаковости вкусов. Здесь же пани Гана стала для мужа своего предметом непрерывной заботы и некоторого опасения.
Пани Гана была страстно влюблена в культуру, которая представлялась ей в виде изящных платьев, собственных волос, а не париков на голове, красиво меблированных комнат, очень вежливого обхождения с людьми, французского языка и музыки. Музыку она любила без памяти. Живя в большом городе, она всегда ходила слушать ее в общественный сад, где, прохаживаясь со своими приятельницами в шелестящем шелковом платье и шляпе с цветами и рассматривая красивых господ, любезно разговаривавших с красивыми дамами, чувствовала себя вполне счастливой и гордилась своим общественным положением. В особенности некоторые предметы культуры приводили ее в настоящий восторг. Однажды, увидев в каком-то общественном саду фонтан, она с невыразимым наслаждением любовалась на него несколько часов, а вернувшись в свой город, в котором не было никакого фонтана, целый год рассказывала своим приятельницам об этом необычайно красивом явлении.
Зеркала также пользовались ее особенным расположением; каждый раз, когда она оказывалась перед каким-нибудь зеркалом больших размеров, она не могла оторвать своих глаз от него, главным же образом от видневшегося в нем изображения собственной персоны, казавшейся ей вполне прекрасной, особенно если в ушах были золотые серьги, а на голове изящный чепчик с цветами. Что касается религиозной и вообще житейской философии, то в ней пани Гана разбиралась еще меньше своего мужа. В господа бога она верила и даже в глубине души ужасно боялась его; и в чертей верила она, боясь их еще больше, чем господа бога; верила и в то, что каждый, кто не увидит своей тени в праздничную ночь, умрет в продолжение года; и еще в то, что человеку, сдвинувшему с места свечу, поставленную на столе в шабаш, грозит великое несчастие. Но зато она не верила во многие другие вещи, вполне подобные вышеупомянутым, презрительно называя их суевериями; будучи заботливой и бережливой хозяйкой, она признавала в душе, что было бы лучше, если бы евреи ели такое же мясо, как и христиане, так как оно обходилось бы гораздо дешевле, и если бы в хозяйстве не требовалось такого огромного количества кухонной посуды, которое должно быть в каждом правоверном доме для сохранения пищи в безупречно кошерном виде. Что же касается материй, состоящих из смеси льна и шерсти, то их пани Гана, закрывая глаза и уши на всякие запрещения, упорно носила, так как они были красивы и дешевы.
Прибыв в Шибов, пани Гана была крайне поражена видом города, в который привез ее муж. Ни следа культуры! Никакого общественного сада, никакой музыки, играющей на открытом воздухе! Фонтанов — ни следа! Красивых дам и господ, любезно разговаривающих друг с другом, и тени нет! Французского языка — ни звука! Ужас! Пани Гана легла на постель и, зарывшись в перины, два дня и две ночи плакала, причитала, крича, что она тут не выдержит, что умрет и оставит своих детей сиротами! Однако она не умерла и встала с постели; нужно было распаковывать привезенные вещи, устраивать хозяйство и приодеть детей, чтобы, выходя первый раз на улицу, они удивили своей красотой и своими костюмами все это, как выражалась пани Гана с презрительным жестом, «простонародье». Дети были принаряжены и, выбежав, действительно удивили всех. Это было первое утешение, которое испытала несчастная изгнанница в этой глуши. Пришли потом и другие радости, подобные этой. Пани Гана удивляла, чем только могла: одеждой, мебелью, манерами, оборотами речи; и каждый раз, когда ей это удавалось, чувствовала себя невыразимо счастливой. В сущности, она была, может быть, еще счастливее, нежели в покинутом ею большом городе. Там она только смотрела на культурный мир, гордясь, что составляет крохотную частицу его; здесь же она была олицетворением культуры, всей суммой культуры, существовавшей в Шибове.
Это стремление удивлять и импонировать, которое после хозяйства и детей занимало теперь первое место в мыслях пани Ганы и являлось для нее главным источником счастья, наполняло Эли беспокойством и страхом. Он уловил пронесшийся вначале слух, будто он миснагдим; узнал затем, что общество сильно возмущено его женой за то, что она носит ткани из смеси льна и шерсти, в субботу велит ставить самовар в своем доме и громко высказывается относительно того, что «Шибов находится не на земле, а под землей». Узнав об этом, он испугался и начал вести борьбу со своей половиной — из-за материй из льна и шерсти, из-за самовара в субботу, из-за надземного или подземного положения города Шибова. Половина долго боролась, но дипломатический муж, в конце концов, одержал победу относительно материй и самоваров. Что же касается положения Шибова, — одержать победу ему не удалось, потому что если бы даже и сама пани Гана твердо решила относиться с должным уважением к месту своего пребывания, то все-таки не сумела бы сделать этого. Если бы даже она молчала, за нее стали бы говорить презрительно прищуривающиеся глаза, надменно усмехающиеся губы, всегда изысканный костюм и манеры, полные такой утонченной вежливости, что на всем свете трудно было бы найти кого-нибудь воспитаннее Ганы.
В сущности, говоря, пани Гана была вполне счастлива со своим кротким, хотя в некоторых случаях и решительным мужем, со своими красивыми и всегда принаряженными детьми и с постоянным чувством собственного превосходства над всем, что ее окружало. И только одно действительно огорчало ее; это была мысль, что ей никогда уже не придется щегольнуть перед жителями Шибова собственными волосами, во-первых, потому, что отпускать их было уже слишком поздно, во-вторых, потому, что Эли никогда бы не допустил подобного общественного соблазна и не пошел бы на такой риск. Сильно огорчаясь, она носила, поэтому красивый черный парик и утешала себя мыслью, что возвращение из Вильны Меры, ее дочери, доставит ей окончательный и самый большой триумф. Эли сильно беспокоила мысль о том, что с появлением Меры в местечке он окажется не таким отцом, как все шибовские отцы. А пани Гана была вне себе от радости, что она окажется иной матерью, чем все шибовские матери.
Наконец свершилось. Через месяц после разговора Эли с Саулом в приемной комнате Витебских сидели пять лиц: три женщины и двое мужчин.
А приемная комната эта была не какая-нибудь! Ее украшал пружинный диван, обитый зеленым репсом (единственный экземпляр в этом роде в целом Шибове), несколько таких же, как и диван, кресел и фортепиано. Правда, фортепиано было не первой молодости. Наоборот, политура, стертая во многих местах, узость клавиатуры и желтизна клавишей свидетельствовали даже о глубокой древности. Все же, однако, это было фортепиано, единственное в целом Шибове, привезенное сюда год тому назад ввиду возвращения Меры и исключительно для нее; фортепиано это, вызвав в местечке маленькую революцию, постоянно наполняло сердце пани Ганы великою гордостью. В гостиной не было также недостатка и в занавесках на окнах и в нескольких глиняных горшках, в которых росли, правда, очень плохие и плохо содержимые кактусы и пеларгонии. Однако один раз, год тому назад, случилось, что один из кактусов каким-то образом расцвел. Пани Гана поставила его на окно, выходящее на улицу, и дети со всего местечка сбегались к ее дому и целыми часами любовались на большой красный цветок.
Итак, на пружинном зеленом диване сидели пани Гана и сестра ее, купчиха из Вильны, у которой жила Мера, три года посещая пансион, и которая теперь самолично привезла свою племянницу к родителям, а вместе с ней и своего сына Леопольда. У нее была видная фигура, как и у пани Ганы, бархатная мантилья, собственные волосы на голове, и вся она была в золоте. С двух сторон стола, стоявшего перед диваном, сидели хозяин дома и молодой племянник пани Ганы, Леопольд. Мера, красивая девушка со светлыми волосами и бледным лицом, вертелась возле фортепиано, видимо сильно желая как можно скорее ударить по клавишам, чтобы звуками своей громкой музыки наполнить все местечко, но не смела, сделать это, так как был субботний день.
В день шабаша нельзя играть ни на одном инструменте. Знала об этом и Мера, но, конечно, не обратила бы на это внимания, если бы не взгляд отца, который, поминутно обращаясь на нее, предостерегал ее от совершения греха. Курить табак в день шабаша тоже нельзя. Однако молодой Леопольд, красивый, стройный юноша лет двадцати, сидя на кресле в чрезвычайно небрежной позе, курил папиросу, и, в довершение несчастия, тонкие струи табачного дыма вылетали из открытого окна на улицу. Эли встал и закрыл окно. На красивых губах Леопольда показалась презрительная усмешка; Мера незаметно пожала плечами, а пани Гана вся вспыхнула от стыда.
На столе, на посеребренном подносе, стояли разные угощения: варенья, сваренные на меду, пряники из меда и мака, сладкое вино и т. д. Пани Гана предупредительно угощала своих гостей этими лакомствами, которые дополняли обед, состоявший из рыбы, приготовленной накануне, и испеченного вчера кугеля. Но купчиха из Вильны была занята не этими лакомствами, а чем-то совершенно другим. С великим интересом и восторгом рассматривала она красивые золотые брошки, кольца и браслеты, которые блестели перед ней на бархатном фоне футляров; некоторые из них были даже украшены рубинами, жемчугом и бриллиантами.
Это были обручальные подарки, которые Саул прислал Мере от имени Меира на другой же день после ее приезда в Шибов. Два дня уже смотрели на них мать и тетка невесты и все еще не могли насмотреться. Мать Леопольда чувствовала себя, однако, несколько огорченной тем, что сын ее привез своей невесте Лии несравненно более скромные подарки, нежели те, которые от Меира получила Мера.
— Ну, и счастливая же девушка! — говорила, качая головой, виленская купчиха. — Господь бог дал ей истинное счастье! Такие подарки! Такие богатые люди!.. Однако почему он не приходит сюда? — обратилась она с вопросом к сестре.
— И-и-и! — с презрительным жестом ответила пани Гана, — это простые люди! У них такой обычай, что женихи не бывают у своих невест!
— Он молод! — вставил Эли, — стесняется!..
Мера присела в эту минуту к столу и, подперев голову рукой, как-то грустно задумалась. Леопольд, наоборот, громко засмеялся.
— Уж я-то, наверное, не пошлю обручальных подарков, — сказал он, — пока не увижу этой девушки.
— Ну, ты ее увидишь! — успокоительно ответила мать. — Мы осе пойдем к ним с визитом.
— А что это за девушка? — снова спросила купчиха у сестры.
— И-и-и! — ответила, как и в первый раз, пани Гана, — простая девушка!
— Отец ее, Рафаил, дает за ней пятнадцать тысяч рублей! — вставил Эли.
Леопольд нахмурил брови.
— А что мне с того? — сказал он. — Разве я могу прожить на пятнадцать тысяч?
— Начнешь торговлю! — заметил купец.
Но мать красивого юноши чуть ли не с гневом обратилась к шурину.
— Торговля! — воскликнула она. — Он не для торговли воспитывался! Разве для этого мы дали ему такое образование, чтобы он занимался торговлей? Он пять классов окончил и служит чиновником! Теперь он получает маленькое жалование, это правда! Но разве можно знать, что будет с человеком! Он, может быть, губернатором будет! Разве можно что-нибудь знать?
Леопольд поднял брови, как бы давая этим понять, что он действительно чувствует себя созданным для почестей, предсказываемых ему матерью, и что он ничего не имеет против такой перспективы губернаторства.
Эли незаметно усмехнулся, но ничего не возразил. «А кому это мешает, — подумал он, — что они болтают глупости? Пусть себе болтают!»
В ту же минуту хорошенькая Мера подняла завитую головку и обратилась к двоюродному брату:
— Cousin! Comme c'est ennuyanl ici!
— Oui, cousine! Cette vilaine petite ville est une place tres ennuyante! — ответил, выпячивая губы, молодой человек.
Сидящие на диване матери ни слова не поняли, но взглянули друг на друга и покраснели от радости, а пани Гана, протянув через стол свою пухлую руку, погладила головку дочери.
— Фишеле! — сказала она с неописуемой улыбкой блаженства и любви на губах.
На Эли французский разговор дочери также произвел некоторое впечатление. Лицо его, несколько удрученное в этот день, стало опять ясным, как всегда. Он встал и весело воскликнул:
— Ну, идем! Пора уже!
Через несколько минут все общество сходило с крыльца на улицу. Лицо Эли снова омрачилось. На свете ничего не могло быть более несогласного, чем костюм его молодого родственника. Он состоял из короткой модной визитки, блестящей обуви и очень глубоко вырезанного жилета, открывавшего всю грудь, покрытую рубашкой снежной белизны. В довершение всего на голове у этого юноши была крохотная изящная шапочка с чиновничьей серебряной звездочкой, и… выходя из дому, он опять закурил папиросу.
Для Эли было крайне трудно в чем-нибудь противиться, кому бы то ни было, тем более своему гостю и любимцу двух величественных женщин, которых и он также очень уважал. Выйдя, однако, на крыльцо и увидев толпы людей, которые в субботний день, как муравьи, выползали на солнце, он не мог удержаться от замечания.
— Слушай, Леопольд! — сказал Эли тихо и ласково, — брось ты эту папиросу! Это глупый народ! Зачем восстанавливать его против себя!.. А может быть, — сейчас же прибавил он, — и сам господь бог запретил курить в шабаш! Кто знает?
Леопольд громко засмеялся.
— Я-то уж ничего не боюсь! — сказал он и, сбежав с крыльца, подал руку Мере.
Леопольд и Мера пошли под руку вперед. За ними шествовали две величественные, матери в пышных платьях, бархатных мантильях и шляпах с огромными цветами. Эли замыкал шествие, медленно двигаясь вперед, с явно встревоженным лицом и заложив руки за спину.
Если внимание многочисленной толпы может считаться триумфом, то шествие семьи Витебских через площадь местечка было триумфальным. В мгновение ока вокруг них собралась огромная толпа детей разного пола и возраста и пустилась бежать за ними сначала с тихими возгласами, затем с неописуемым гамом. Вскоре к детям присоединились подростки и даже совсем взрослые люди; самые почтенные семьи высыпали на крыльца домов, окружавших площадь; в воротах двора молитвенного дома стоял меламед в своем обычном первобытном костюме и, не веря своим широко открытым глазам, смотрел на удивительное зрелище.
Наибольшее внимание публики обращала на себя молодая пара, шедшая впереди: Леопольд в своей изящной визитке и с папиросой в зубах и Мера в слишком пышном цветном платье, повисшая на руке двоюродного брата и немного жеманящаяся, чтобы лучше показать свои великосветские манеры.
Эли шел, словно по горячим угольям, пани Гана выступала, как по лаврам. Купчиха из Вильны рассматривала темную толпу, прищурив глаза и подняв голову.
— Зи! Зи! Ашейне пуриц, ашейне паненкес! — кричали дети, бегая, подскакивая, указывая пальцами и подымая ногами облака пыли.
— Кто они? Разве это евреи? — спрашивали взрослые и пальцами указывали на короткую одежду и папиросу Леопольда.
— Миснагдим! — вдруг крикнул кто-то в толпе, и маленький камешек, неизвестно кем брошенный, пролетел возле головы Леопольда. Молодой человек побледнел и отбросил папиросу — предмет всеобщего негодования. Эли наморщил лоб. Но пани Гана еще выше подняла голову и довольно громко сказала сестре:
— Ну, надо им простить! Это такой темный народ!
Леопольд, однако, не простил им брошенного в него камешка. Это было видно по его испуганным глазам и сжатым губам, с какими он вошел в приемную комнату Эзофовичей.
Там, на почетном месте, то есть на желтом диване, сидел старый Саул, окруженный своими сыновьями, невестками и несколькими старшими внуками. У одного из окон в удобном кресле сидела, как всегда, усыпанная бриллиантами и, как всегда, дремлющая прабабушка, а у другого окна стоял Меир.
Когда семья Витебских вошла в обширную приемную комнату, Меир только мимолетно взглянул на Меру, словно ее личность нисколько не касалась его, но зато устремил любопытный, быстрый, горящий взгляд на Леопольда. Казалось, он страшно хотел, как можно скорей приблизиться к этому человеку, прибывшему из другого мира, и проникнуть ему в душу.
Некоторое время продолжались шумные приветствия и вступительные вопросы. Саул не покинул своего почетного места на диване. Его дочь Сара, жена Бера, исполняла роль хозяйки дома, потчуя гостей лакомствами и громко восхищаясь красотой шляпок и платьев пришедших дам.
Мера грациозно уселась на кончике простого стула и, развлекаемая робкой, сконфуженной, но и обрадованной Лией, искоса бросала взгляды на стоящего у окна юношу, относительно которого она догадывалась, что это был ее жених. Ни разу, однако, она не встретилась с его взглядом. Меир, казалось, совершенно не знал о ее существовании, и все время смотрел на Леопольда.
Пани Гана, рассказывая с большим оживлением и с неменьшей гордостью окружавшим ее женщинам о прекрасном фонтане, который она видела когда-то в большом свете, и о музыке, играющей каждое воскресенье в виленском общественном саду, рассматривала гостиную Эзофовичей. В самом деле, комната эта, обширная и опрятная, со своим длинным семейным столом посредине, с простыми деревянными стульями и выделявшимся среди них древним желтым диваном, свидетельствовала о зажиточности, бережливой, но пристойной, и была несравненно красивее пестрого салона пани Ганы. Здесь же находилось и два шкафа: один со стеклянными дверцами, полный старых книг, которые, по семейным традициям, принадлежали когда-то Михаилу Сениору; другой был наполнен столовой посудой и сверху на нем стоял блистающий, как золото, огромный самовар. Когда взор пани Ганы упал на этот последний предмет, она вспыхнула от стыда. Самовар в приемной комнате семьи ее будущего зятя! Это стояло в прямом противоречии со всеми предписаниями культуры, о которых она знала! Однако сейчас же от этого в высшей степени неприличного предмета ее взор скользнул на дремавшую в кресле прабабушку. В эту минуту лучи заходящего солнца упали на ее неподвижную фигуру и заиграли искрами на драгоценностях, которыми она была покрыта. Как лучезарная звезда, блистала над ее морщинистым лбом пряжка, стягивавшая цветную повязку, серьги в ушах бросали тысячи искр, а жемчуга на груди отливали бледно-розовыми оттенками.
Пани Гана слегка толкнула сестру локтем.
— Зи! (Посмотри!) — прошептала она, указывая ей головой на прабабушку, — какие бриллианты! Купчиха из Вильны даже прищурила глаза от восхищения.
— Ай-ай! — воскликнула она, — вот сокровища! И на что такой старой женщине носить на себе такие богатые вещи? Что ей от них?
Этот возглас услышал старый Саул и, с вежливой серьезностью наклонясь к гостям, сказал:
— Она заслуженно пользуется у нас таким уважением и носит лучшие драгоценности из имеющихся у нас в семье. Она была короной своего мужа, и все мы, как ветви от дерева, берем от нее свое начало!
Он слегка прищурил глаза, покачал головой и продолжал:
— Она очень стара теперь, но когда-то была молода и очень красива. А куда девалась ее красота? Ее стерли те годы, те месяцы и те дни, что пролетели над ней, как птицы, летящие одна за другой, обрывая с куста по ягодке до тех пор, пока не оборвут всех. Теперь у нее много морщин на лице, это правда! Но откуда взялись эти морщины? Я это знаю, потому что, когда смотрю на нее, то в каждой из них вижу какой-нибудь образ. Когда я смотрю на те морщины, которые расположились у нее на веках и возле глаз, мне припоминается, как я был мал и сильно был болен, она сидела над моей колыбелью, убаюкивала меня песнью, а из глаз ее лились слезы. А когда я смотрю на те морщины, которых у нее так много на щеках, мне припоминаются все заботы и огорчения, которые ей приходилось переносить, когда она осталась вдовой, не захотела в другой раз идти замуж и сама стала вести торговлю и увеличивать имущество своих детей. А когда я смотрю на ту морщину, которая прорезалась посредине ее лба, мне кажется, что я вижу все, что было в ту минуту, когда душа отца моего, Герша, рассталась с телом и когда моя мать упала на землю, как мертвая, и долго лежала так, не плача, не крича, без стона и только тихо вздыхая: «Герш! Герш! Мой Герш!» Это была величайшая печаль в ее жизни, и от этой печали посредине ее лба появилась самая глубокая морщина.
Так говорил старый Саул, торжественно подняв вверх указательный палец, с задумчивой улыбкой на желтых губах. Слушая его, женщины полупечально, полуутвердительно качали головами и, глядя друг на друга, тихо повторяли:
— Херст! Херст! (Слушай!)
Пани Гана была так растрогана и восхищена, что даже слезы показались у нее на глазах. Она вытерла их батистовым платочком, который все время держала в руке, а потом протянула эту руку Саулу:
— Данке! Данке! (Спасибо!) — проговорила она с улыбкой благодарности на губах.
— Данке! — повторило за ней большинство присутствующих, купчиха же из Вильны, Витебский и несколько других посторонних семье лиц сказали вполголоса:
— А клугер менш! Эрлихерменш!(Умный человек! Почтенный человек!)
Сыновняя любовь и почтительность, высказанные Саулом, а также образное повествование его о материнских морщинах приятно взволновали сердца и воображение присутствующих.
Только молодой Леопольд, все время сидевший молчаливо и угрюмо или же вполголоса разговаривавший по-французски с Мерой, встал со своего места и приблизился к окну, у которого стоял Меир. Около дивана снова поднялся оживленный разговор, который начала пани Гана, выразив сожаление, что сегодня суббота и здесь нет фортепиано, что поэтому ее дочка не может сыграть своих прекрасных мелодий, от которых у нее тает сердце, а перед глазами встает виленский ботанический сад, играющий в нем оркестр и разные другие вещи, относящиеся к утраченному ею раю культуры.
Двое молодых людей остались совершенно в стороне; их разговора никто не мог услышать. Как видно, у Леопольда сначала не было намерения разговаривать с Меиром. Он, очевидно, покинул общество с совершенно иной целью, так как вынул из кармана жилетки серебряный портсигар. Но Меир, как только увидел, что Леопольд направился к нему, сейчас же сделал несколько шагов ему навстречу. Лицо Меира засияло радостью.
— Я — Меир, внук Саула, — сказал он, подавая гостю руку, — очень хочу познакомиться с тобой, чтобы многое сказать тебе и о многом от тебя услышать.
Леопольд поклонился изысканно, церемонно, едва притронувшись к открытой теплой руке своего сверстника. Печаль промелькнула в сиявших радостью глазах Меира.
— Ты не очень хочешь познакомиться со мной, — произнес Меир, — и я не удивляюсь этому… Ты — образованный, знаешь всякие науки, а я простой еврей, который хорошо знает Библию и Талмуд, но больше ничего. Ты все-таки выслушай меня! У меня в голове много разных мыслей, но только они еще в беспорядке. Ты, может быть, скажешь мне что-нибудь такое, что сделает меня умным?
Леопольд слушал его слова, звучавшие сначала ласковой покорностью, а потом юношеским увлечением, слушал с любопытством, в котором был также и оттенок насмешки.
— Разумеется! — ответил он. — Если вам угодно что-нибудь узнать от меня, я охотно скажу. Почему бы нет? Я многое могу рассказать!
— Леопольд! Не говори мне «вы». Мне это неприятно, потому что я очень люблю тебя.
Леопольда удивило это наивное признание.
— Мне это очень приятно, — проговорил он, — но мы ведь в первый раз видимся друг с другом!
— Это ничего! — воскликнул Меир. — Я давно уже хотел увидеть такого еврея, как ты… и сказать ему, как равви Элиазар сказал иерусалимскому мудрецу: «Пусть я буду твоим учеником, а ты будешь моим учителем!»
На этот раз удивление уж очень ясно отразилось на лице молодого светского человека, и еще ярче был оттенок насмешки. Видно было, что он совершенно не понимает Меира и считает его чем-то вроде полудикаря.
Меир в своем увлечении не заметил, какое впечатление он производит на того.
— Леопольд! — начал он, — ты, сколько лет учился в чужой школе?
— В какой это чужой школе? — спросил Леопольд.
— Ну, в такой школе, в которой люди учатся разным не еврейским наукам?
Леопольд понял, прищурил глаза, выпятил губы и ответил:
— Ну, — я пять лет ходил в гимназию!
— Пять лет! — воскликнул Меир. — Так ты очень ученый, если так долго ходил в ту школу!
— Ну, — с снисходительной улыбкой ответил гость, — есть на свете люди и поученее меня!
Меир все больше приближался к собеседнику, и глаза его блестели все ярче.
— А чему там учат в этой школе? — спросил он.
— Разным вещам.
— Каким же это разным вещам?
Леопольд с несколько иронической усмешкой на губах не спеша начал перечислять названия всех наук, преподаваемых в школе.
Меир живо перебил его:
— И ты все эти науки знаешь?
— А как же! — ответил гость.
— А что ты теперь с ними делаешь?
Вопрос этот, произнесенный с необычайным любопытством, поставил красивого юношу в тупик.
— Как это, что делаю?
— Ну, я хочу знать, какими мыслями наполнили эти науки твою голову и что ты делаешь на свете с этими мыслями?
— Ну, как это я делаю? Я — чиновник в канцелярии самого губернатора, переписываю важные бумаги.
Меир подумал минуту.
— Это пустяки, что ты в канцелярии переписываешь бумаги; я не об этом хочу узнать. Это ты делаешь для заработка. Каждый человек должен зарабатывать. Но я хотел знать, что ты думаешь, когда остаешься иногда один, и что приказывают тебе делать эти твои мысли?
Леопольд широко открыл глаза.
— Ну! — воскликнул он, теряя терпение, — о чем мне думать? Вот как вернусь из канцелярии, сижу себе дома, курю папиросу и думаю, что когда женюсь и возьму приданое, а отец отдаст мне то, что мне от него полагается, то куплю себе каменный дом, а внизу в доме устрою хорошую лавку; первый этаж отдам в наем каким-нибудь богатым людям, а сам буду жить на втором этаже. Теперь даже продается там один каменный дом, очень красивый, и я бы хотел его купить. Он тысячи две дает доходу в год, да еще флигеля при нем есть хорошие…
Теперь пришла очередь удивиться Меиру.
— И ты, Леопольд, больше ни о чем не думаешь, как только об этом каменном доме? — спросил он.
— Ну, о чем же мне еще думать? У меня, слава богу, нет никаких забот. Квартирой и столом я пользуюсь у родителей, а на одежду мне хватает того жалования, что я получаю из канцелярии.
Меир опустил глаза в землю. На его лбу обозначилась морщина, всегда появлявшаяся у него, когда он чувствовал себя чем-нибудь неприятно задетым.
— Слушай, Леопольд, — сказал он после глубокого минутного раздумья, — разве там у вас, в большом городе, совсем нет бедных и темных евреев?
Леопольд засмеялся.
— А где же их нет? Их и там очень много!
— А что ты думаешь, когда смотришь на них? — стремительно спросил Меир.
— Что мне думать? Думаю, что они очень глупые и… грязные!
— И ты, глядя на них, больше ни о чем не думаешь? — повторил Меир, но уже почти шопотом.
Леопольд открыл портсигар и начал доставать из него папиросу. Меир в задумчивости не обратил на это внимания.
— Леопольд, — начал он, немного погодя, с новой энергией, — этого каменного дома в большом городе ты не покупай!
— А почему бы мне не купить его?
— Я тебе скажу, почему. За тебя сговорили мою двоюродную сестру. Она хорошая и разумная девушка. Образования у нее нет никакого, но она всегда хотела его иметь и очень обрадовалась, когда ей сказали, что у нее будет образованный муж. Ты женишься на ней, а как женишься, попроси важных чиновников, чтоб тебе позволили устроить в Шибове школу для евреев, такую школу, в которой, не только бы Тору и Талмуд учили, но и обучали, всяким чужим наукам. Ты сам будешь руководить всей этой школой, а меня научишь, как тебе помогать.
Леопольд засмеялся, но Меир, весь, сияя от радости, которую доставляли ему его собственные мысли, не заметил этого. Он наклонился еще ближе к собеседнику и почти на ухо шептал ему:
— Вот что я тебе скажу, Леопольд! У нас в Шибове царствует страшная темнота и много очень бедных людей, живущих в страшной нужде. Но есть здесь и такие люди, — все из молодежи, — которым очень грустно, что они отгорожены от мира и наук. Им очень хотелось бы узнать их, но нет никого, кто бы помог им вывести из темницы их души. И есть тут один великий раввин, Исаак Тодрос, очень суровый, которого все боятся; и есть члены кагала, которые очень притесняют бедный народ. Если бы ты приехал сюда и привез с собой других образованных людей и вместе с ними помог нам всем выйти из темноты, горя и печали!
Меир говорил все это с чрезмерным увлечением, с торжественным лицом и горячей просьбой в голосе. Но ничто не могло бы сравниться с тем удивлением и насмешкой, с какими слушал его молодой Леопольд. Теперь он доставал из серебряной коробочки спичку и слегка опустил голову, чтобы скрыть рвавшийся наружу смех.
— Ну, — произнес Меир, — что ты думаешь о том, что я сказал? Хороший это проект?
Леопольд чиркнул спичкой о стену и ответил:
— Я думаю, что когда я расскажу о твоем проекте в моей семье и моим товарищам по канцелярии, то все они будут очень смеяться над ним.
Искрившиеся перед этим глаза Меира вдруг погасли.
— Над чем же тут смеяться? — прошептал он.
В ту же минуту Леопольд зажег бывшую у него в руке папиросу. Голубой душистый дымок разошелся по комнате и долетел до того места, где многочисленное общество сидело вокруг стола перед желтым диваном. Рафаил с удивлением поднял голову и осмотрелся. Старый Саул также посмотрел в сторону окна и слегка приподнялся с дивана.
— Прошу извинения, — сказал он вежливо, но решительно, — я не позволяю, чтобы в моем доме люди делали то, что запрещается святым нашим законом!
Сказав это, он спокойно сел, глядя на Леопольда из-под седых слегка взъерошившихся бровей.
Леопольд вспыхнул ярким румянцем, бросил папиросу на пол и, подавляя гнев, затушил ее ногой.
— Ну, вот у вас какая тут вежливость, — сказал он Меиру.
— А зачем ты, Леопольд, в шабаш папиросы куришь?
— А ты не куришь? — с иронией и недоверчиво глядя в глаза собеседнику, спросил гость.
— Не курю, — решительно ответил Меир.
— Так ты хочешь души людей выводить из темницы, а веришь, что это святой закон — не курить табака в шабаш?
— Нет, я давно уже перестал в это верить! — так же решительно, как и раньше, ответил Меир.
— Так ты хочешь возбуждать людей против великого раввина и кагальных, а сам уступаешь?..
Глаза Меира снова заблестели, но на этот раз как-то гневно и насмешливо.
— Если бы дело шло о том, — сказал он, — чтобы избавить какую-нибудь человеческую душу от темноты или какое-нибудь человеческое тело от нужды, я бы не уступил, потому что это важно; но когда дело идет о том, чтобы доставить удовольствие моему рту, я уступаю, потому что это пустяки; и хотя я не верю, чтобы закон этот был святой и исходил от самого господа бога, но старшие верят в это, а мне кажется, что тот совершает большую грубость, кто сопротивляется старшим из-за пустяков.
Выслушав эту тираду, Леопольд отвернулся от Меира и подошел к Мере, продолжавшей сидеть на кончике стула. Меир посмотрел ему вслед взглядом, в котором виднелись разочарование и гнев, потом отошел от окна и быстро покинул комнату.
Этот внезапный уход молодого человека произвел сильное впечатление на женскую часть общества. Мужчины едва обратили на него внимание, настолько им казалось это естественным, а отчасти даже и похвальным, что жених из скромности и от смущения избегает смотреть на выбранную для него старшими невесту. Но купчиха из Вильны и пани Гана заметно нахмурились, а Мера, дернув мать за платье, шепнула:
— Maman! Идем домой!
Меир тем временем быстро шел по направлению к жилищу своего приятеля Элиазара, но только заглянул в открытое окно низкого здания и пошел дальше, так как комнатка кантора была пуста. Очевидно, Меир знал, где ему искать своих товарищей. Он направился прямо на луг, находившийся за местечком.
Как и несколько недель тому назад, этот лужок, настоящий оазис тишины и свежести, весь купался в розовых отблесках заходящего солнца. Густая трава, росшая на нем, правда, уже не блистала весенними изумрудными красками, потому что летняя жара немного присушила ее; но зато среди травы расцвели пушистые пучки и стройные чашечки диких цветов, наполнявших воздух сильным благоуханием.
У опушки леса, под густо разросшимися березками, сидела и полулежала на траве группа людей, состоявшая из взрослых уже, но очень молодых мужчин. Одни из них, наклонившись друг к другу, разговаривали вполголоса; другие машинально рвали растущие вокруг них цветы и составляли пестрые букеты; третьи, наконец, повернувшись лицом к голубому небу, по которому проходили золотистые облака, тихонько напевали.
Немного поодаль, возле пруда, берега которого были усеяны теперь густыми кучками незабудок, а поверхность была покрыта длинными листьями и широкими цветами водяных растений, неподвижно сидела стройная девушка с темным худым лицом и огромными черными глазами. На ее грубую рубашку спускалось коралловое ожерелье. Возле нее среди калиновых кустов, отягченных кистями пунцовых ягод, паслась белая коза, ощипывавшая кругом траву и листья.
Меир быстро направился к группе юношей, черневшей у опушки рощи. Видно было, что и они также ждали его прихода с некоторым нетерпением; лежавшие на траве, увидев его, приподнялись и сели, устремив на него глаза.
Подойдя к своим товарищам, Меир, не здороваясь ни с кем и ни на кого не глядя, сел на поваленный бурею толстый ствол березы. Он казался не столько печальным, сколько сердитым. Юноши молчали и смотрели на него с некоторым удивлением. Элиазар, лежавший на траве, опираясь плечом о ствол, на который сел Меир, первый спросил:
— Ну, что? Видел его?
— Видел его? — повторили теперь хором несколько голосов. — Какой он? Очень он ученый и умный?
Меир поднял лицо и горячо воскликнул:
— Он ученый, но очень глупый!
Восклицание это возбудило среди юношей живейшее удивление. После довольно продолжительного молчания Ариель, сын величественного морейне Кальмана, произнес задумчиво:
— А как же это может быть, чтобы человек был ученым и в то же время глупым?
— Почем я знаю? — ответил Меир, и глаза его широко раскрылись, словно он смотрел в какую-то бездонную, страшную пропасть.
Затем сразу завязался разговор, состоявший из невероятно быстро следовавших друг за другом вопросов и ответов.
— Что он тебе говорил?
— Он мне говорил только глупые и скверные вещи!
— Отчего же ты не спросил его об умных вещах?
— Я спрашивал его, но он даже не понимал, чего я от него хочу!
— А он не сказал тебе, о чем он думает?
— Он сказал, что думает о том, чтобы купить себе красивый каменный дом, который будет давать ему две тысячи дохода!
— Пусть себе думает о каменном доме, но о чем он еще думает?
— Он сказал, что больше ни о чем не думает!
— А чем он занимается?
— Он переписывает в канцелярии бумаги, а когда возвращается из канцелярии, курит папиросы и думает о каменном доме.
— А что он думает о тех евреях, которые не получили такого образования, как он, и живут в великой темноте и в великой нужде?
— Он думает о них, что это глупый и грязный народ.
— А что он тебе ответил, когда ты рассказал ему обо всех нас и о том, что мы все хотим вывести наши души из темноты и не можем?
— Ответил, что когда он расскажет об этом своей семье и своим товарищам по канцелярии, то они будут сильно смеяться.
— Над чем же тут смеяться? — спросили хором юноши. Потом наступило долгое молчание, пока, наконец, из всех грудей разом не вырвался внезапный и страстный возглас:
— А шлехтер менш! (Плохой человек!)
Через минуту двоюродный брат Меира, Хаим, сын Абрама, проговорил:
— Меир! Значит, и образование и науки, к которым мы так стремимся, плохие, если они делают людей плохими и глупыми?
А двое или трое других юношей в один голос воскликнули:
— Меир, объясни нам это!
Меир мутным взглядом обвел лица своих товарищей и, закрыв бледное лицо руками, ответил:
— Я ничего теперь не понимаю!
В этом коротком ответе послышалось глубокое, сдерживаемое рыдание. Но в ту же минуту поднялась вверх белая рука кантора и отвела от лица своего огорченного приятеля закрывавшие его руки.
— Пусть сердца ваши не впадают в великую печаль, — проговорил Элиазар, — я сейчас попрошу нашего учителя, чтобы он дал нам ответ на ваши вопросы!
Говоря это, Элиазар поднял с земли большую книгу, которую он старательно прятал в глухом уголке этой рощи, и с торжествующей улыбкой на кротких губах показал товарищам ее первую страницу. На этой странице большими буквами были напечатаны имя и фамилия Моисея Маймонида.
Юноши сбились теперь в тесную кучку, выпрямились, и по лицам их разлилось выражение торжественного внимания. Израильский мудрец должен был говорить им устами любимого их певца. Это был старый учитель, забытый одними, проклятый другими, но для них он был дорог и свят, как единственный наставник. С тех пор как дух этого учителя в образе нескольких толстых книг, привезенных сюда вернувшимся из далекого света Элиазаром, витал над их головами, они ощутили в себе неизвестный им раньше водоворот мыслей и трепет мятежных чувств, — начали печалиться, тосковать и томиться. И, однако, они были благодарны Маймониду за эту печаль и тоску и со своими огорчениями и сомнениями всегда прибегали к нему. Увы! Не на все свои вопросы и жалобы находили они у него ответ и утешение! Века уплыли, времена изменились, над миром протянулась длинная цепь новых гениев, которые приносили с собою все новые и новые истины. Но ни о каком другом гении, кроме этого одного, они не знали, и теперь, когда перед ними открылась большая книга, они готовились с радостным и торжественным настроением принять в свою душу веяние его старой мудрости.
Элиазар, однако, не сразу начал читать. Он переворачивал страницы книги, подыскивая подходящий к обстоятельствам отрывок.
Тем временем девушка, сидевшая до сих пор на берегу пруда среди незабудок и калиновых кустов, встала и по опушке леса, не спеша, спокойно направилась к группе молодых людей. Уже издали можно было заметить, что ее черные огромные глаза неподвижно устремились на Меира. Белая коза шла за ней. На минуту обе исчезли в зарослях рощи, после чего Голда опять появилась среди переплетшихся ветвей березы и остановилась сзади Меира, в нескольких шагах от него. Она подошла так тихо, что никто ее не заметил; рукой она обняла тонкий ствол березы и, опираясь головой на слегка колеблющиеся ветви, стала смотреть на слегка склоненную голову Меира. Других присутствующих там людей она, казалось, не видела.
В ту же минуту звучный, чистый, как кристалл, голос Элиазара воскликнул:
— Слушай, Израиль!
Словами этими начинается много святых псалмов и каждое религиозное чтение у евреев. Для юношей, окружавших Элиазара, слова старого мудреца должны были казаться псалмом благоговения и глубокой молитвой духа.
Элиазар читал певучим, плавно повышавшимся и падавшим голосом:
— «Ученики мои! Вы спрашиваете меня, какая сила возносит вверх блистающие небесные существа, которые мы зовем звездами, и почему одни из них подымаются так высоко, что исчезают в млечных туманах, а другие тяжело плывут под небесами и далеко отстают от сестер своих?»
«Открою перед вами тайну, которая интересует вас.»
«Силой, возносящей вверх блистающие небесные тела, является Совершенство, которое пребывает на наивысших высотах и которое на человеческом языке носит название бог. Звезды, проникнутые любовью к Совершенству и тоской по нем, постоянно поднимаются все выше, чтобы достигнуть большей близости к Совершенству и воспринять кое-что для себя от его мудрости и благости. Плывут они по пространству из века в век, и те из них, которые больше всего проникнуты любовью к Совершенству, уже вознеслись выше всех, а те, что состоят из более тяжелой материи и менее стремятся принять в себя частицу божественного света, остались далеко позади сестер своих…»
«Ученики мои! От этих блистающих существ, которые сильнее всего тоскуют по Совершенству и стремятся к Нему и ближе всего находятся от Него, исходят все перемены, происходящие в подлунном мире… Они-то и являются причиной переходов и возникновений, из них-то и рождаются очертания и образы вещей…»
Элназар умолк и поднял голову от книги. Бирюзовые глаза его светились радостью.
Молодые люди, однако, думали и думали долго, стараясь найти в прочитанном им отрывке мудреца разрешение мучивших их сомнений. Наконец Меир с расстановкой сказал:
— Бывают люди, как эти блистающие небесные существа, о которых пишет мудрец; они возносятся вверх в тоске по Совершенству. Они знают о том, что Совершенство существует, и страстно хотят взять кое-что для себя от его мудрости и благости. Но есть и такие люди, как те звезды, состоящие из более тяжелой материи, о которых пишет мудрец; они не любят Совершенства и не стремятся вверх в тоске по нем. Такие люди держат свои души очень низко…
Теперь поняли все. Радость сияла на всех лицах. Так мало нужно было знания и правды, чтобы обрадовать эти бедные и в то же время столь богатые души!
Меир выхватил из рук приятеля книгу, видимо, хорошо ему знакомую и на другой странице прочитал еще:
— «Даже ангелы не равны между собой. Они стоят один над другим, как на ступеньках лестницы, и наивысший из них — это Дух, порождающий из себя мысль и познание. Этот Дух является оживляющим Разумом; и Агада называет его Князем Мира! (Сар — га — Олам)».
— Наивысший ангел — это Дух, порождающий из себя мысль и познание, и Агада называет его «Князем Мира», — повторил за Меиром хор юношеских голосов.
Сомнения их были рассеяны. Знание снова приобрело у них уважение; оно пробудило тоску в их сердцах и пронеслось перед их глазами в образе ангела над ангелами, летящего над миром в княжеском пурпуре, окруженного ярким сиянием исходящих от него мыслей.
Задумчивость отразилась на лицах и в глазах юношей. Задумчивостью тихого вечера обволакивался вокруг них усеянный цветами луг и лежащая за ним желтая равнина. Перед ними над далеким лесом стояли багряные облака, за которыми скрылся солнечный диск, сзади них неподвижно дремала роща, погружаясь в сумеречную тень.
По лугу и по далеким полям полился серебристый певучий голос Элиазара: «В тревожном сне моем я видел дух народа!»— начал петь белокурый певец Иеговы.
Песнь эта появилась неизвестно откуда и неизвестно каким образом. Кто создал ее? Никто бы не мог ответить на этот вопрос. Кажется, первый стих ее сообщил своим приятелям Элиазар после одного из своих таинственных и полных экстаза снов, которые часто посещали его, другой приделал Ариель, сын Кальмана, в то время, когда он одиноко играл на скрипке в тенистом лесу. Были в ней и такие строфы, которые вырвались из груди Меира, и другие, которые робко прошептал своими еще почти детскими губами Хаим, сын Абрама.
Так слагаются всенародные песни. Их источник — тоскующее сердце, угнетаемые мысли, инстинктивное стремление к лучшей жизни.
Так возникла и песнь, которую начал теперь петь кантор:
В тревожном сне моем я видел дух народа. Сиял он в мантии? В пурпурной шел одежде? Несла ль его по свету колесница, Где восседал он в славе и величьи?Тут к голосу певца присоединились другие голоса; по лугу и по полям разнесся могучий хоровой ответ:
Нет, пылью странствия покрыты были ноги, И прахом голова посыпана седая, Из-под лохмотьев обнажалось тело, Дрожали обнаженные колени!Тут в хор поющих юношеских голосов вмешался шопот, выходивший из березовой чащи:
— Шаа! Здесь есть люди, которые слушают вас!
И действительно, на дороге, пересекавшей рощу, чернело в сумраке несколько мужских фигур, очень медленно приближавшихся к лугу. Но певцы не слышали ни предостережения Голды, ни шороха приближающихся шагов.
Другой куплет песни прозвучал над лугом: О, бедный, скорбный дух народа моего! Ужель твоих путей не охраняют Господни очи? Где блеск святого трона? Ужель увяли лилии Сарона? Ужель сломались кедры гордые Ливана И никогда уже во славу бога Мы не услышим хора песнопений?Еще звучал последний стих песни, когда с дороги, пересекавшей лес, на луг вышли трое мужчин. На них были праздничные черные, длинные одежды, а опоясаны они были цветными платками, которые в день шабаша нельзя носить обычным способом; перепоясывая же одежду, платки составляют часть ее, и тогда носить их не является грехом.
Посреди шел отец кантора, Янкель Камионкер; по обе стороны его выступали Абрам Эзофович, отец Хаима, и морейне Кальман, отец Ариеля.
Несмотря на сумерки, при последних лучах угасавшего дня отцы узнали сыновей своих, а сыновья отцов. Голоса юношей задрожали, притихли и один за другим начали умолкать, пока не замолк весь хор, и только один голос еще продолжал петь дальше:
Ужель ты никогда из мрака этой ночи Не выйдешь? В могилах кости предков Ужель не дрогнут в криках возрожденья От радости и гордости твоей?!Это был голос Меира.
Почтенные мужи, вступившие на луг, остановились и повернулись лицами к группе молодежи, скучившейся возле рощи, и в ту же минуту к одинокому мужскому голосу присоединился женский голос, чистый, сильный голос Голды, которая, увидев рассерженных мужей, стоявших среди луга, начала вторить Меиру, словно желая соединиться с ним в его отваге, а, может быть, также и в угрожавшей ему опасности.
Не обращая внимания на молчание товарищей и на грозные темные фигуры, стоявшие среди луга, два соединившиеся голоса пели дальше:
Да исцелятся твои раны. Ноги Да отдохнут. Источник мудрости Да осенит тебя и утолит И муки, и нужду, и горе вечной ночи. Да грянет для тебя труба — надежда мертвых, И воскресит для жизни без цепей Познанья вечный Ангел…В песне были только эти куплеты. Поэтому с последним ее стихом два поющих голоса, мужской и женский, замолчали.
Достойнейшие в общине мужи, стоявшие среди луга, повернули к местечку, громко и сердито разговаривая друг с другом, и направились к дому Эзофовичей.
* * *
Абрам, сын Саула, сильно отличался от своего старшего брата Рафаила. Рафаил — высокий, черноволосый, еще красивый, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, — был человеком степенным, положительным и малоразговорчивым. Абрам, низкий, сгорбленный, с пестревшими сединой волосами, был человеком вспыльчивым, впечатлительным и страстным. Речь его отличалась быстротой, стремительные жесты свидетельствовали о страстной натуре; глаза его искрились и чаще всего были угрюмо опущены вниз.
Оба брата были учеными и своею учёностью издавна заслужили себе высоко ценимое в общине звание морейне. Но Рафаил изучал преимущественно Талмуд и считался одним из лучших знатоков его. Абрам же предпочитал мистическое углубление в бездонные тайны Зогара. Рафаил в гораздо большей степени, нежели его брат, пользовался уважением и доверием иноверцев, с которыми вел многочисленные дела. Абрам, зато гордился большой симпатией к нему со стороны шибовского населения, большой благосклонностью раввина и более тесной дружбой с достойнейшими в местечке людьми, то есть с мудрецами и богачами общины.
Теснейшая дружба связывала Абрама с двумя самыми влиятельными членами кагала — морейне Кальманом и благочестивым Янкелем Камионкером. За пределами местечка эти три человека были компаньонами многих торговых предприятий, закупок, продаж, аренд; в местечке в дни отдыха они часто сходились друг с другом на совместные божественные чтения и размышления, а каждую субботу они вместе совершали прогулки за город, настолько далекие, насколько позволено было правоверному еврею удаляться в этот день от стен своего дома.
Никогда никто не видел, чтобы они удалялись от своих жилищ больше чем за две тысячи шагов, и только изредка, когда глубина тенистой рощи слишком манила их, опаленных зноем и осыпанных пылью, наполнявшей местечко, они наклонялись к земле и на том месте, где нога их ступила в двухтысячный раз, зарывали маленький кусочек домашнего хлеба. Этим способом место, где был зарыт кусочек домашнего хлеба, становилось уже их домом, и им можно было продолжать свою прогулку еще на две тысячи шагов. Гуляя, они обыкновенно молчали, так как с необычайной добросовестностью считали мысленно делаемые ими шаги; простые же люди, более убогие телом и душой, видя, как они молча и медленно шествуют с задумчивыми лицами, сильно удивлялись их мудрости и благоговели перед правоверностью своих ученых и богачей; люди эти при виде их вставали со своих мест и до тех пор не садились, пока не теряли из виду их важно двигающиеся фигуры; ибо написано: «Когда увидишь проходящего мудреца, встань и не садись до тех пор, пока он не исчезнет из глаз твоих!»
Однако на обратном пути языки у трех достойных мужей развязывались. Им не нужно было уже обращать усиленное внимание на каждый шаг свой, и поэтому они вели очень оживленные и задушевные беседы, в которых наибольшее участие принимал Камионкер, а наименьшее Кальман, так как первый был самым разговорчивым, а второй самым молчаливым из всех мудрецов, которым когда-либо светило солнце. Кальман всегда улыбался своими пухлыми губами и казался образцом кротости, полного довольства всем светом и, прежде всего самим собою. Камионкер, наоборот, никогда почти не смеялся, у него был вид человека, вечно чем-то раздосадованного, а маленькие глаза его блестели порою дикой свирепостью.
Никогда прежде жителям бедных уличек, лежащих на окраине местечка, не приходилось видеть, чтобы эти трое почтенных и почитаемых мужей шли с такой поспешностью и так громко разговаривали, как в тот вечер, когда по зеленому лугу и желтой равнине разносились звуки юношеского хорового пения. Даже величественный Кальман, утратив свою неизменную улыбку и вынув из кармана одну руку, время от времени возвышал свой голос; что же касается Янкеля Камионкера, то он делал на ходу такие резкие движения, что полы его длинной одежды развевались в обе стороны, как черные хлопающие крылья; а Абрам Эзофович развязал платок, которым он был опоясан, и понес его в руке. Это доказательство полной его растерянности от сильного возбуждения заметил Кальман и тотчас же тихим голосом указал своему приятелю на то, что он совершает, по рассеянности, грех. Абрам вдруг замолчал, страшно испугавшись своего поступка, и с большой поспешностью снова опоясал платком свои бедра.
Это произошло уже на крыльце дома Эзофовичей. В темном узком коридоре раздались быстрые шаги и зашелестели сильно развевавшиеся полы одежд. Три мужа вошли в комнату, в которой старый Саул сидел на диване, читая какую-то книгу при свете двух свечей, горевших в тяжелых старинных серебряных подсвечниках.
Саул, увидя входящих гостей, несколько удивился; пора была уже поздняя, не подходящая для посещений. Однако он поздоровался с ними приветливым кивком головы и рукой указал им на стулья, стоявшие возле дивана. Пришедшие не заняли указанных им мест, а продолжали стоять перед Саулом. Хотя их лица пылали гневом, позы их были торжественны. Видимо, они сговорились между собой о способе и порядке обвинения; первым заговорил Камионкер.
— Ребе Саул! — сказал он, — мы пришли сюда с жалобой на внука твоего, Меира!
По лицу Саула пробежала болезненная дрожь.
— А что он сделал дурного? — спросил Саул тихим голосом.
Камионкер, сначала торжественно, потом все, более увлекаясь и волнуясь, начал говорить:
— Внук твой, Меир, портит наших сыновей! Он возмущает их души против нас и нашего святого закона; читает им проклятые книжки и в шабаш распевает светские песни! Но это еще не все! Он ведет с караимской девушкой нечистую дружбу, и мы видели сейчас на лугу, как сыновья наши лежали у ног его, словно у ног учителя, а над головой его стояла караимская девушка и вместе с ним пела гнусные песни!
Запыхавшись от горячей речи, реб Янкель умолк на минуту, а морейне Кальман, глядя на Саула своими медовыми, несколько осовелыми глазами, медленно произнес:
— Мой сын, Ариель, был там, и я накажу его за это!
Абрам, глядя угрюмо в землю, тоже проговорил:
— И мой сын, а твой, отец, внук Хаим там был, и я накажу его за это!
А потом все трое воскликнули разом:
— Накажи Меира!
Саул низко наклонил голову, сильно опечаленный.
— Владыка мира! — прошептал он дрожащим голосом, — разве я заслужил, чтобы ты превратил свет моих глаз в темноту?
Потом поднял голову и сказал решительным голосом:
— Я его накажу!
Глаза Абрам. а были устремлены на отца и блестели.
— Отец, — сказал он, — больше всего помни об этой караимской девушке. Нечистая дружба эта, которую они ведут друг с другом, великий стыд для всей нашей семьи. Ты знаешь, отец, какой у нас обычай. Ни один из правоверных евреев не должен знать всю свою жизнь другой женщины, кроме той, которую родители дадут ему в жены…
— Не должен! — стремительно крикнул реб Янкель, а лицо Кальмана из розового стало пунцовым. Чистота нравов у этих людей была так велика, что, имея седые волосы на голове, они краснели от стыда при упоминании о нечистой дружбе мужчины с женщиной. Казалось, будто даже морщинистый лоб Саула покрылся бледно-розовой краской.
— Я скоро женю Меира! — сказал он.
Абрам ответил:
— Пока он будет видеться с караимской девушкой, до тех пор он не захочет жениться!
— А что же с ней сделать, чтобы он ее не видел? — почти с отчаянием воскликнул старик.
Трое стоявших перед ним людей посмотрели друг на друга.
— С ней надо что-нибудь сделать! — проговорили они в один голос.
После долгого молчания, размышления и взаимного посматривания друг на друга два гостя поклонились Саулу и ушли. Абрам остался в комнате.
— Отец! — сказал он, — а как ты думаешь наказать его?
— Я прикажу ему целый день сидеть в бет-га-мидраше и читать Талмуд…
— Разве это поможет? — нетерпеливо бросил Абрам. — Ты, отец, лучше прикажи побить его!
Голова Саула была все время низко опущена.
— Я не прикажу его бить! — ответил Саул, помолчав немного.
И прибавил тише:
— Душа Михаила перешла в тело отца моего, Герша, а душа отца моего, Герша, поселилась в теле Меира…
— А откуда это можно знать? — спросил Абрам, явно и очень живо затронутый словами отца.
— Душу эту узнала в нем сначала его прабабушка, жена Герша, а потом узнал ее раввин Исаак.
Саул тяжело вздохнул и повторил:
— Я прикажу ему сидеть в бетга-мидраше и читать Талмуд! Целую неделю он не будет ни есть, ни спать под моим кровом, а шамес (рассыльный синагоги) огласит его наказание и его позор по всему городу!..
Часть вторая
I
Бет-га-мидраш представлял собой обширное здание, довольно заметное и красивое, стоявшее на дворе синагоги, рядом с домом молитвы. У него были различные назначения. Тут происходили менее торжественные моления и велись длинные и горячие споры относительно различных пунктов и толкований Талмуда; тут помещались библиотеки преследующих самые различные цели братств или товариществ, которых всегда много в каждой израильской общине, тут же, правда, в исключительных случаях, требующих исключительной строгости, отсиживали более или менее длинные сроки молодые люди, согрешившие против религии или обычаев, — наказание скорее постыдное, нежели тяжелое.
Напротив бет-га-мидраша возвышалось другое здание, немного поменьше первого, но построенное и поддерживаемое с такой же тщательностью, как и первое. Это был бет-га-кагал, или кагальный дом, место заседаний и совещаний местных административных властей. Еще дальше, в уже более скромном здании, находился гек-дош, приют для бедных, куда имели право приходить все голодные, усталые, нуждающиеся в пристанище и отдыхе. Напротив дома молитвы, в тесном низком домике, помещался хедер, или школа, в которой преподавал ученый и уважаемый реб Моше.
Словом, двор этот вместе с окружающими его зданиями представлял собой настоящую столицу маленького удельного государства. Все здесь — от черной избушки мудреца-аскета, приютившейся почти у самого храма, до видневшейся несколько дальше обширной и окруженной тенистыми деревьями больницы, от величественного дома молитвы до низенького, тесного хедера — имело отношение к общественным делам и нуждам.
Появление каждого из этих зданий было связано с какой-нибудь красивой и высокой идеей общественного порядка, милосердия, познания, вознесения души к богу или размышления над высокими предметами. Каким образом выродились некоторые из этих идей и почему некоторые из этих первоначальных целей получили смысл и характер совершенно противоположный тому, какой им придают во всем мире? Это уже другое дело. Спрашивать об этом нужно историю.
Восемь дней прошло с того вечера, когда на зеленом лугу мечтал, пел и вел задушевные беседы кружок молодых людей. На девятый день после этого, незадолго до захода солнца, из бет-га-мидраша вышел и остановился на его высоком крыльце Меир. Повинуясь распоряжению главы своей семьи, он провел все эти дни в полном одиночестве, читал талмудические книги и много размышлял над ними; он хорошо знал эти книги, и многое в них уже пробуждало в нем сомнения, но целиком потерять к ним уважение, привитое с детства, он не мог. Наказание, которое ему назначили, не было тяжелым и не доставило ему ни малейших физических страданий, потому что заботливые руки сострадательных женщин клали в пищу, которую ему приносили из родного дома по два раза в день, лучшие куски. Однако он сильно изменился — побледнел и похудел, но в то же время казался как будто более сильным. В его осанке и выражении лица не осталось и следа той почти детской робости, которая проглядывала в нем несколько месяцев тому назад. Возможно, что душа его была возмущена несправедливостью наложенного на него наказания; возможно, что одиночество, на которое его обрекли, и перечитывание старинных книг, которыми были полны шкафы, стоявшие по стенам бет-га-мидраша, вызвали в нем много новых мыслей, еще больше его взволновавших. Несомненно, было одно, что лихорадочная бледность его лица свидетельствовала о трудной, вполне самостоятельной душевной работе; а в блеске глаз сказывалось страстное, с трудом сдерживаемое раздражение. Наложенное на него наказание не достигло цели. Вместо того чтобы успокоить и укротить мятежного юношу, оно сделало его еще более дерзким и склонным к возмущению.
Когда он сошел с крыльца бет-га-мидраша и стал медленно переходить через двор молитвенного дома, видно было, что ко всем другим его чувствам присоединился еще и стыд. При виде нескольких людей, входивших в ворота двора, он опустил глаза и покраснел. Люди эти были членами кагала и поспешно направлялись к обычному месту своих совещаний. Увидев Меира, они стали смеяться и указывать на него пальцами. Только один Янкель Камионкер не засмеялся и даже не заметил Меира. Этот член кагала шел очень быстро и в некотором отдалении от своих товарищей; по выражению лица видно было, что он еще более озабочен и раздражен, чем обычно. Оказавшись посредине двора, он свернул с дороги и, вместо того чтобы войти вслед за товарищами в бет-га-кагал, пошел вдоль стены гек-доша, приюта бедных. Не останавливаясь, он только прошел мимо стены, но времени было достаточно, чтобы обменяться несколькими тихими словами и таинственными знаками с каким-то человеком, растрепанная голова которого с распухшим лицом высунулась из открытого окна гек-доша.
Меир знал этого человека, с которым Камионкер таинственно обменялся двумя-тремя словами, сказанными шопотом, и его удивили близкие отношения этих двух людей.
«Ну что за знакомство может быть между благочестивым и богатым реб Янкелем. и таким бродягой и вором, как извозчик Иохель?» — подумал он.
Но он недолго думал об этом. Он медленно шел — и не в сторону родного дома, куда ему, очевидно, незачем было спешить, а в сторону маленькой улицы, которая, упираясь в двор молитвенного дома, вела к полям. Очевидно, ему хотелось выйти из местечка и пойти в то широкое светлое пространство, которое сияло последними отблесками дня и откуда доносился мягкий шелест свежего ветерка. В конце двора он, однако, приостановился. Его слух поразил страшный шум множества, детских голосов, то понижавшихся почти до шопота, то подымавшихся до крикливого причитания нараспев. Среди этого то громкого, то тихого шума детей время от времени раздавались пискливые стоны и вздохи, словно вырывавшиеся из чьих-то измученных и усталых грудей; а над всем этим гамом господствовал грубый голос мужчины, который то что-то рассказывал или читал, то сердито бранился.
По губам Меира промелькнула какая-то особенная усмешка. В ней были и боль, и гнев, и сострадание. Он находился возле хедера, где преподавал реб Моше; оттуда и доносился этот неясный, хаотический шум, в котором слышалось что-то удивительно грустное и одновременно жестокое.
Привлекаемый каким-то непреодолимым чувством, Меир оперся обоими локтями о подоконник низкого открытого оконца и заглянул внутрь здания. Это было тесное, темное, зловонное и битком набитое помещение. Между низким темным потолком, четырьмя такими же черными стенами и полом, сплошь покрытым толстым слоем сора и грязи, в сыром, затхлом, тяжелом воздухе раскачивалась и неистово что-то бормотала хором серая масса, в которой с первого взгляда невозможно было ничего разобрать. Только постепенно перед его взором, словно из мглы тумана, начали вырисовываться лица и фигуры детей. Лица эти были очень разнообразны: одни — полные, темные, болезненно-вспухшие, другие — бледные, маленькие, тонкие и красиво очерченные; одни — с открытыми ртами, почти как у идиотов, и с мутным, сонным взглядом; другие — с блестевшими от сдержанного гнева глазами и с нервно вздрагивавшими от раздражения губами; третьи — бледные, внимательные, страдающие, но покорные и терпеливые. Одежда у этих детей была тоже очень разнообразна — от опрятных сюртучков, отличавших детей богатых родителей, до безрукавок и серых рваных халатов — у детей бедняков. В комнатке, в которой могло бы поместиться с удобством едва только десять с лишним мальчиков, их было несколько десятков, и все они, чуть ли не сидя один на другом, теснились на узких, высоких, твердых и грязных лавках, стоявших поперек комнаты.
Подобных хедеров в Шибове было немало, но ни в одном из них не было так много учеников, как в том, где преподавал реб Моше. Богачи и бедняки с одинаковым рвением старались поместить туда своих детей, так как реб Моше был меламедом над меламедами, любимым учеником великого раввина, притом ученым каббалистом и аскетом, настоящим хахамом и истинно благочестивым человеком.
Не следует, однако, думать, чтобы реб Моше унижался до преподавания самым маленьким детям общины первых ступеней великой науки. Это было бы непроизводительной тратой его великих способностей, предназначенных для более высоких целей. Подросткам, переполнявшим его хедер, было от десяти до двенадцати лет, а уже с семи лет их питали святым хлебом науки. В других, низших хедерах их обучали читать по-древнееврейски и преподавали им хумеш (пятикнижие) со многими толкованиями и комментариями. Теперь же, под руководством ребе Моше, они вступали на третью ступень мудрости, которой являлся Талмуд вместе с бесчисленным количеством составляющих его книг, отделов, подотделов, параграфов, спорных пунктов, справок, разъяснений к разъяснениям и комментариев к комментариям.
Это было уже, как кажется, достаточно широкое поле для развития ума и памяти этих подростков, бледных, одутловатых, раздраженных или покорно страдающих; но реб Моше в делах религии и обучения не привык довольствоваться малым. Наполняя разум и упражняя память своих учеников, он старался разбудить и их фантазию, вводя ее в волшебную область притч и аллегорий, которыми полна Агада, и даже давая им отведать кое-что из высокой и мистической метафизики Каббалы. Подобные рассказы или чтения составляли род отдыха, блаженство которого должны были глубоко чувствовать души слушающих его детей; однако эти чтения происходили только тогда, когда меламед находился в хорошем и веселом настроении.
В ту минуту, когда Меир начал присматриваться через открытое окно к происходившему внутри хедера уроку, ученики заучивали на память заданный им на этот день отрывок Талмуда, а наставник, сидя против них на кафедре, состоявшей из деревянного стула, в свою очередь вчитывался в лежавшую перед ним на кривоногом столе большую и очень старую книгу. Читал он эту книгу с большим интересом и, видимо, с не меньшим удовольствием; блаженная улыбка появилась у него на губах, едва заметных среди густой растительности. Он медленно раскачивался взад и вперед, приводя этим в движение и хромоногий стол, раскачивавшийся вместе с ним; раскачивались на своих лавках и ученики, каждый над раскрытой перед ним большой книгой, то бормоча потихоньку, то повышая голос словно для того, чтобы заглушить какую-то внутреннюю боль. Время от времени они ударяли сжатыми кулаками о края лавок или хватались в отчаянии от сильного напряжения памяти обеими руками за голову, растрепывая волосы, и без того уже взъерошенные и всклокоченные.
Вдруг меламед перестал раскачиваться, поднял сияющее лицо, взял в обе руки большую книгу и изо всей силы ударил ею по хромоногому столу. Это было знаком замолчать. Во мгновение ока все ученики умолкли и перестали раскачиваться. Все подняли глаза на лицо учителя: одни с необычайной тревогой, вызванной предположением, что пришла пора отвечать заданный урок, другие с выражением злобного упорства и затаенной злой насмешки.
Но меламед не обратил внимания на выражения лиц своих учеников. В эту минуту он ничего не видел и не замечал вокруг себя. Душа его была охвачена порывом невыразимого блаженства и унеслась в страну восторгов. Но он настолько чувствовал себя учителем и понимал свои обязанности, что захотел перелить часть своих восторгов в бедные всклокоченные головы учеников.
Он поднял вверх указательный палец и, закинув голову, с торчащей бородой, с горящими блаженными глазами, начал громко читать отрывок из Шиур-комы.
— «Великий князь-свидетель так рассказывает о величии Иеговы. От основания престола всемогущего Иеговы до верху сто восемнадцать раз десять тысяч миль. Высота его сто шесть и тридцать раз тысяча миль. От правой руки Иеговы до левой семьдесят семь раз десять тысяч миль. Череп головы его имеет три раза десять тысяч миль в длину и ширину. Корона на голове его имеет шестьдесят раз десять тысяч миль. Подошвы у царя царей имеют тридцать тысяч миль. От пят его до колен девятнадцать раз десять тысяч миль; от колен до бедер считается двенадцать раз десять тысяч и четыре мили. От бедер до шеи двадцать четыре раза десять тысяч миль. Таково величие царя царей, владыки мира!»
Издав последний возглас, реб Моше минуту стоял у своей кафедры, неподвижный, как истукан, подняв кверху руки, со взглядом, полным блаженства. Ученики его также сидели неподвижно, выпучив на него глаза. Теперь все без исключения, покорные и бойкие, полуидиоты и сметливые, широко открыли свои рты. Величие Иеговы, описанное подобным образом, привело все умы в оцепенение.
Меламед, однако, скоро очнулся от своего экстаза и повелительным голосом воскликнул:
— Гей!
На это восклицание, значение которого было им хорошо известно, мальчуганы снова бросились к своим большим книгам, закачались телами и начали нараспев читать заданный им отрывок Талмуда. Как звучал и что содержал в себе этот отрывок? Ни одно непосвященное ухо не поняло бы этого среди гама нескольких десятков голосов. Но Меир, который сам несколько лет тому назад проходил точно такой же курс наук и притом одаренный отличной памятью, ничего не забыл из него, сразу понял, что в этот день мальчики учили VIII отдел трактата Берахот (о благословениях).
В один голос, непрерывно, с невероятным неистовством и мукой, исторгавшей из груди стоны, обливаясь потом, дети читали и говорили нараспев:
— «Мишна 1. Вот какие спорные пункты существуют между школами Шамая и Гиллела. Школа Шамая говорит: благословить следует день (субботний), а потом вино. Школа Гиллела утверждает: пусть благословят вино, а потом день.»
«Мишна 2. Школа Шамая говорит: умывают руки, а потом наполняют бокал. Школа Гиллела утверждает: наполняют бокал, а потом умывают руки.»
«Мишна 3. Школа Шамая говорит: после вытирания рук кладут полотенце на стол. Школа Гиллела утверждает: кладут его на подушку.»
«Мишна 4. Школа Шамая говорит: подметают комнату, а потом умывают руки. Школа Гиллела утверждает: умывают руки, а потом подметают комнату.»
«Мишна 5. Школа Шамая говорит: огонь, пища и благовоние. Школа Гиллела доказывает: огонь, благовоние и пища. Школа Шамая говорит: сотворивши блеск огня. Школа Гиллела утверждает: сотворивши блески огня…»
Тут разнесся по комнате двойной стук — книги, ударившей о хромоногий столик, и хромоногого столика, ударившего о пол. Ученики снова превратились в неподвижных и молчаливых маленьких истуканов. Меламед пробежал по всем их лицам таким взглядом, словно он был жрецом, которому нужно было выбрать одного из этих мальчиков в жертву для всесожжения. Наконец, вытянув палец по направлению к одной из последних лавок, он грозно позвал:
— Лейбеле!
На этот зов из среды мальчиков поднялся худенький бледный ребенок в сером длинном сюртучишке и начал смотреть в лицо меламеда огромными черными застывшими глазами.
— Комхер! (Иди сюда!) — позвал учитель.
Между учениками произошло движение. Пройти через эту комнату было нелегко. Мальчуганы давали дорогу вызванному, толкали друг друга, падали на лавки, кулаком проталкивали товарища через толпу.
Лейбеле вышел, наконец, из толпы и стал! в узеньком проходе, отделявшем кафедру учителя от первых лавок учеников. Он держал большую книгу, под тяжестью которой худенькие руки его ежеминутно опускались вниз; рот был широко открыт, а плечи часто-часто передергивались нервной дрожью. Ребенок не смотрел теперь на меламеда. Его лицо наклонялось к страницам все время опускавшейся вниз книги. Реб Моше ударом под подбородок поднял ему голову.
— Ну, — крикнул меламед, — чего ты, как разбойник какой-нибудь, смотришь в землю? Смотри на меня!
Ребенок снова стал смотреть ему в лицо неподвижными глазами, на которые набегали слезы.
— Ну, — спросил меламед, — что говорит школа Шамая и что говорит школа Гиллела?
Наступило долгое молчание. Сидевшие на первой лавке ученики незаметно толкали кулаками своего товарища в бок, шепча ему:
— Шпрых! Шпрых! (Говори! Говори!)
— Школа Шамая, — начал Лейбеле дрожащим и едва слышным голосом, — говорит: благословить надо вино…
— День! День! А потом вино! — зашептали с первой лавки сострадательные помогающие голоса. Но в ту же минуту рука меламеда оказалась в такой непосредственной близости к уху одного из подсказывавших, что из груди его обладателя вырвался пронзительный крик, и все другие тотчас же закрыли рты, а вместо них широко открыли глаза, остолбенев от страха.
Реб Моше снова обратился к спрашиваемому ученику:
— Мишна первая! — воскликнул он. — Что говорит школа Шамая?
Еще тише, чем прежде, дрожащий голос ребенка стал отвечать:
— Школа Шамая говорит: благословите вино.
Кулак меламеда тяжело опустился на плечо ученика, и большая книга тотчас же выскользнула у того из рук.
Меламед вскочил со своей кафедры.
— А шлехтер, думмер, фершолтенер бубе! — крякнул он, бросаясь к ребенку. — Ты не хочешь учиться великой науке, и когда я задал тебе урок, говоришь, что школа Шамая велит благословлять сначала вино, а потом день… и еще бросаешь на землю святую книгу… а разве ты не читал, что Шамай велел благословлять сначала день, а потом вино…
Тут сзади кричащего и мечущегося меламеда раздался мужской голос, звучный, но дрожащий и насмешливый:
— Реб Моше! Этот бедный ребенок никогда в своей жизни не видел вина, а каждый день терпит побои и голод; так ему ли запомнить, что надо сначала благословлять: вино или день?
Но реб Моше не слышал этих слов. Сжатые кулаки его с невероятной быстротой несколько раз подряд опустились на голову и плечи бледного ребенка, а когда тот, не испустив ни малейшего стона, тихо осел под этими ударами на упавшую раньше большую книгу, кулаки поднялись еще раз, чтобы опуститься на спину ребенка в порванном сюртучке. Однако раньше, чем это произошло, чья-то сильная рука оттолкнула меламеда в сторону так сильно, что он ударился об угол хромоногого столика и, опрокинув его, сам упал навзничь.
— Реб Моше! — воскликнул тот же молодой голос, резкий и насмешливый, который произнес несколько предыдущих фраз: — Реб Моше! — повторил этот голос, — или это не еврейское дитя, что ты изливаешь на него море своей злости? Или это не несчастный ребенок бедняков? Не наш брат?
Выкрикнув это, Меир с горячим румянцем на бледном лице наклонился над скорчившимся на земле безмолвным и неподвижным ребенком, взял его на руки и направился к дверям. Но по дороге обернулся еще раз и крикнул:
— Реб Моше! Ты выбиваешь из голов израильских детей разум, а из их сердец вытравляешь сострадание. Я слышал, как некоторые из этих мальчиков смеялись, когда ты бил Лейбеле, и у меня от их смеха сердце полно слез.
Сказав это, он вышел, держа ребенка на руках. Реб Моше только теперь очнулся от изумления, в которое повергло его это совсем неожиданное вмешательство. Вскочив с земли, он закричал: — А, мердер! Разбойник! Фершолтенер!
И, обращаясь к своей школе, кричал со сжатыми кулаками:
— Догоняйте, хватайте, бейте! Побивайте его камнями!
Однако никто не мог бы послушаться и выполнить эти приказания: школа была совершенно пуста. Только опрокинутые лавки и брошенные на пол книги свидетельствовали о стремительном бегстве всех мальчуганов из школы. Видя, что их товарищ спасся от кулаков наставника, упавшего на пол и пытавшегося выкарабкаться из-под хромоногого стола, который придавил его и мешал подняться, они толпой бросились со своих лавок отчасти из страха, отчасти, из озорства и тоски по свободе, кто как мог, через окна и двери, выскочили с пронзительным криком из хедера и рассыпались по всему местечку, как стая птиц, вырвавшихся из клетки.
Хедер был пуст, двор молитвенного дома был тоже пуст, и только на крыльце бет-га-кагала стояло несколько членов кагала, степенно разговаривая друг с другом. К ним-то, перебежав вприпрыжку двор, хватаясь обеими руками за всклокоченную голову, крича и задыхаясь, устремился оскорбленный мудрец реб Моше.
Меир тем временем быстро шел вперед, неся на своих руках ребенка, по худым щекам которого текли теперь крупные слезы. Странная вещь, однако! Сквозь слезы глаза Лейбеле, устремленные на Меира, имели менее тупое выражение, нежели обыкновенно, а по губам его, дрожавшим от плача, мелькала улыбка, несмотря на испуг и перенесенную боль. Улыбаясь, освобожденный ребенок плакал и смотрел в лицо своего освободителя.
— Морейне! — прошептал через минуту Лейбеле. — Морейне! — повторил он тише. — Какой ты добрый!
На углу бедной улички с маленькими и темными домишками Меир поставил ребенка на землю.
— Ну! — сказал юноша, указывая ему на видневшуюся вдали хату портного Шмуля, — иди теперь домой…
Лейбеле опять помертвел. Засунув кисти рук в рукава сюртучка, он стоял среди дороги, как неподвижный маленький истукан. Меир усмехнулся и заглянул в лицо ребенка.
— Боишься? — спросил он.
— Боюсь! — ответил ему маленький истукан глухим голосом.
Юноша, вместо того чтобы пойти обратно, как он намеревался раньше, пошел к хате Шмуля. Вслед за ним шел шаг за шагом Лейбеле, засунув руки в рукава сюртучка и открыв рот.
День кончился, и на бедной уличке окончились также все дневные работы. Жалкое, загорелое, оборванное, зловонное население высыпало на пороги своих жилищ.
Едва Меир сделал несколько десятков шагов, как уже заметил общую перемену, происшедшую среди этого населения по отношению к нему. Прежде проходящего внука богатого Саула здесь встречали низкими поклонами; более близкие знакомые подходили к нему и дружелюбно, с глубокой доверчивостью поверяли ему свои тревоги, горести, а иногда даже и душевные сомнения; другие посылали ему из открытых окон громкое и дружелюбное: шолем алейхем!
Теперь же он заметил несколько брошенных на него косых и недоброжелательных взглядов; женщины присматривались к нему с каким-то тупым любопытством и, перешептываясь, указывали на него пальцами; даже один из тех пильщиков, которые в течение целого месяца работали на дворе у Саула и с которыми Меир не раз весело и по-приятельски делил труд, не поздоровался с ним, но при виде его печально и как бы неохотно вошел в свою темную избушку.
Меир нетерпеливо пожал плечами.
«Что такое? — подумал он. — Чего им нужно от меня? Что я им сделал дурного?»
Странным могло ему показаться и то, что портной Шмуль не выбежал, как обыкновенно, чтобы встретить его, броситься к его рукам и осыпать его градом признательных и льстивых слов, перемежавшихся жалобами и сетованиями. Но Меир вошел в его маленький домик, а Лейбеле остался у порога и, скорчившись, уселся у стены.
Юноше пришлось нагнуть голову, чтобы пройти через низкие двери, которые вели из маленьких темных сеней, где среди полумрака двигались и белели в углу две козы, в тесную комнату, душную и зловонную, несмотря на открытое, на улицу оконце. На пороге с ним встретилась худая женщина, с темным морщинистым лицом. Это была жена Шмуля; она вышла за дверь и, молча, дала сидевшему у стены ребенку кусок черного сухого хлеба. Это был ужин, который Лейбеле получал обыкновенно, возвращаясь из хедера.
В тот момент, когда Меир вошел в комнату, семья Шмуля: три взрослых дочери, два маленьких, мальчугана, сам Шмуль и старая мать его ели точно такой же ужин, прибавляя к хлебу маленькие щепотки луку, лежавшего на зазубренной черной тарелке. Кроме двух мальчиков, которые были значительно моложе Лейбеле и которые, сидя в углу на земле, с ожесточением грызли полученные порции зачерствевшего хлеба, на полу, у огромной черной печи, ползал еще двухлетний ребенок, а еще один, которому было всего лишь несколько месяцев, спал в люльке, подвешенной на веревках к балкам потолка. Эту люльку качала одна из взрослых девушек. Другая девушка возилась около коз в темных сенях, третья же ломала хлеб на мелкие куски, которые она посыпала луком и вкладывала в дрожащие руки слепой матери Шмуля.
Эта старая слепая мать сидела на единственной кровати, находившейся в комнате; остальные члены семьи спали на твердых узких лавках либо просто на полу. Но у старухи была кровать, и довольно опрятная; платок, сложенный крестом на ее груди, был целый и чистый, а большой чепец, покрывавший ее голову, был сшит из черного атласа и даже богато отделан. Сидевшая рядом с ней внучка, в грязном платье, с растрепанными волосами, вкладывала ей в руки, а иногда и прямо в рот более чем убогую пищу с такой серьезностью, словно она все время помнила о том, что выполняет нечто очень важное. Время от времени она даже гладила своей грубой, почти черной рукой морщинистую трясущуюся руку бабушки, а, видя, с каким трудом та пережевывает твердую пищу, встряхивала головой и улыбалась ласково и сострадательно…
Как в обширном зажиточном доме богатого Саула, так и в битком набитой, грязной, темной избушке бедняка Шмуля самая старшая в семье женщина занимала самое удобное место и была предметом всеобщего уважения и забот. Никогда вы не встретите среди евреев, чтобы сын, будь он богач или бедняк, отказался заботиться о той, которая дала ему жизнь, когда ее постигнет старость или несчастие. «Как ветви от своего дерева, так и мы все берем от нее свое начало!» сказал о своей матери глава семьи Эзофовичей. Xайет Шмуль не умел выражать свои чувства так, как купец Саул, но когда его мать ослепла, он от великой скорби рвал на себе черные кудрявые волосы; а потом вместе со своей семьей постился три дня, чтобы на сбереженные таким образом деньги купить для нее старую, развалившуюся кровать; потом собственными руками он сбил и поправил эту кровать, чтобы, прислоненная к стене, она могла стоять; а когда Сара Эзофович, жена Бера, дала ему шить черное атласное платье, он отрезал большой кусок ценной материи и сшил для матери нарядный чепец на вате.
Увидев входящего в комнату Меира, Шмуль сорвался со стула и подскочил к гостю. Он склонился перед ним в обычном, низком поклоне, но не поцеловал ему руку, как раньше, и не воскликнул с великой радостью: — Аи! Что за гость! Что за гость!
— Морейне, — воскликнул он, — я уже знаю, что ты сегодня наделал! Ученики прибежали сюда из хедера и кричали, что ты вырвал моего Лейбеле из сильных рук ребо Моше, а его самого оттолкнул и сбил с ног! Ты сделал это от доброго сердца, но это дурно. М-о-р-е-й-н-е! Очень дурно! Ты совершил этим большой грех, а на меня навлек большую беду. Теперь реб Моше — да здравствует он сто лет! — не захочет уже принять в свой хедер ни моего Лейбеле, ни моих младших сыновей, и они никогда не сделаются учеными! Айвей! Морейне! Что ты наделал и себе и мне из-за своего доброго сердца!
— Обо мне, Шмуль, ты не беспокойся! Пусть со мной будет что угодно! — с живостью ответил Меир. — Но ты сжалься над своим собственным ребенком и, по крайней мере, хоть дома не бей его. Он и в хедере достаточно страдает…
— Ну! Как так страдает! Что из того, что страдает! — воскликнул Шмуль, — Прадеды, деды и отцы мои ходили в хедер и страдали! И я ходил и страдал! Что же делать, если так нужно.
— А ты, Шмуль, никогда не подумал о том, что, может быть, нужно иначе? — уже ласково спросил Меир.
У Шмуля глаза заблестели.
— Морейне! — воскликнул он, — ты грешных слов в моем доме не произноси! У меня очень бедный дом; но в нем, слава богу, все соблюдают святой закон и слушают приказания старших. Xайет Шмуль очень беден и своими двумя руками содержит жену, восьмерых детей и старую слепую мать! Но он чист перед господом и людьми, потому что верно исполняет святой закон. Xайет Шмуль празднует шабаш, соблюдает кошеры, с криками и стонами воссылает к господу богу все назначенные шемы и тефили, а хазара (свинины) он никогда в. глаза свои не видел и с гоями никакой дружбы не ведет, так как знает, что Иегова только одних евреев любит и охраняет, и что только у евреев есть душа. Так поступает бедный хайет Шмуль, потому что так приказал господь бог, и так поступали прадеды, деды и отцы его!
Когда тонкий, гибкий и вспыльчивый Шмуль высказал все это, Меир спросил его ласково и задумчиво:
— А что, твои прадеды, деды и отцы были счастливы? А ты сам, Шмуль, очень счастлив?
Этот вопрос снова со всей живостью пробудил в Шмуле ощущение перенесенных им несчастий.
— Ай, ай! — воскликнул он, — такого счастья я и врагам своим не пожелаю! Кожа присохла к моим костям, а в сердце я всегда чувствую великую скорбь…
Тут к жалобным словам портного присоединился тяжелый вздох, донесшийся из самого темного угла комнаты. Меир оглянулся и, увидев в полумраке темнеющую в углу, между огромной печью и стеной, фигуру какого-то высокого и широкоплечего человека, спросил:
— Кто это там?
Шмуль уныло махнул рукой и головой.
— Это извозчик Иохель зашел ко мне в дом! Мы с ним Старые знакомые!
В эту минуту высокий и широкоплечий мужчина вышел из угла, где он сидел неподвижно, и приблизился к разговаривавшим. Иохель отличался могучим сложением, но, несмотря на это, казался изнуренным и подавленным. Одет он был в порванную и грязную безрукавку; у него были босые израненные ноги, длинные всклокоченные рыжие волосы и опухшие губы; смотрел он нагло, хотя часто опускал глаза. Теперь он подошел к столу, взял с тарелки щепотку луку и посыпал им кусок черного хлеба, который держал в руке.
— Меир, — сказал он, смело глядя на юношу, — я давно знаю тебя! Я вез твоего дядю Рафаила, когда он ехал за тобой, маленьким сироткой, и привез вас вместе в Шибов.
— Я встречал тебя, Иохель, и позже! — ответил Меир. — Ты был порядочным извозчиком… у тебя было четыре лошади…
Теперешний обитатель гек-доша улыбнулся опухшими губами.
— Ну, — сказал он, — это правда! Но потом со мной приключилось несчастие! Я хотел наладить одно большое дело… и это дело погубило меня. А когда оно меня погубило, то со мной приключилось другое несчастье…
— Другое несчастье, Иохель, — сказал Меир, — это был твой грех. Зачем было тебе уводить ночью из конюшни лошадей пурица?
Извозчик цинично рассмеялся.
— Как зачем? — сказал он. — Я хотел их продать и много заработать.
Шмуль сострадательно тряхнул головой.
— Ой-ой! — вздохнул он. — Иохель несчастный, очень несчастный человек! В наказание он отсидел три года в тюрьме, а теперь, когда его выпустили оттуда, у него нет никакого заработка и ему приходится сидеть в гек-доше.
Иохель опять тяжело вздохнул, но затем тотчас же энергично поднял голову.
— Ну, — сказал он, — что же делать? Может быть, и у меня будет скоро большой заработок…
Эти слова нищего бродяги напомнили Меиру таинственный короткий разговор, который час тому назад Иохель вел с богатым Камионкером через окно гек-доша. Поразила его вместе с тем и перемена, которую слова Иохеля вызвали на лице Шмуля. Тонкое, бледное, подвижное лицо это задрожало мелкой нервной дрожью, которая могла обозначать как сильную радость, так и огорчение. А глаза его разгорелись и руки задрожали.
— Ну! — воскликнул он, — разве можно знать, что будет с человеком завтра! Если сегодня он очень беден, то завтра может быть очень богат! Разве можно что-нибудь знать? Может быть, и хайет Шмуль выстроит себе когда-нибудь красивый дом возле площади и будет вести большую торговлю!
Меир грустно усмехнулся. Неосновательные, как ему казалось, надежды этих двух бедняков вызвали в нем сострадание. Задумавшись, он смотрел теперь через окно на видневшиеся за низкими домишками широкие пространства полей.
— Ты, Шмуль, — сказал, наконец, Меир, — наверное никогда не построишь себе большого дома возле площади, а Иохель не найдет себе здесь большого заработка! Ну, и что же тут удивительного? Вас здесь столько в одном месте, что никто не может иметь хорошего заработка. Но я думаю так: если бы вы все не теснились на этих грязных, маленьких уличках, а рассыпались по белому свету, и если б, не надеясь на большие заработки, вы стали работать на земле, — как мужики-христиане, то вам, может быть, лучше жилось на свете!
Меир говорил это задумчиво, меньше думая, по-видимому, о людях, теперь разговаривавших с ним, нежели обо всем многочисленном населении этого квартала, которое наполняло в эту минуту воздух неописуемым шумом, криком ссорящихся женщин, визгом детей и какими-то неопределенными, невнятными жалобами, причитаниями и вздохами.
Но портной Шмуль, услышав слова гостя, подскочил раза два в страшном волнении, дернул на своей голове ермолку и сдвинул её набок.
— Морейне! — застонал он, — какие гадкие слова выходят из твоих уст! Морейне! Не хочешь ли ты перевернуть вверх ногами всю жизнь еврейского народа?
— Шмуль! — горячо воскликнул Меир, — это правда! Когда я смотрю на вашу нужду и на страдания ваших детей, когда я всматриваюсь в свое собственное сердце, мне хочется перевернуть вверх ногами всю жизнь евреев!
— Гвалт! — хватаясь обеими руками за голову, закричал горячий и впечатлительный Шмуль. — Я не хотел этому верить! Я в глаза плевал тем людям, которые это говорили! Но теперь я сам уже вижу, что ты, морейне, плохой еврей и что тебе не дороги обычаи прадедов наших и наш святой закон!
Меир вздрогнул и выпрямился.
— А кто говорил, что я плохой еврей? — воскликнул он со сверкающими глазами.
Шмуль несколько сдержал свое волнение, смягчился и очень близко подошел к Меиру. Никто бы не мог услышать того, что он собирался сказать, так как Иохель снова стоял уже в глубокой тени за печкой, с чавканьем пережевывая хлеб с луком, а женщины и дети высыпали из хаты на улицу. Однако Шмуль начал говорить очень тихо и с выражением такого ужаса на лице, будто слова его заключали в себе важную и грозную тайну.
— Морейне! Ты напрасно спрашиваешь, кто это говорит. Как листья шелестят на деревьях, так и уста людские шепчут, и никто не угадает, какой лист шевельнулся и какие уста заговорили. О тебе, морейне, весь народ стал говорить плохие вещи! О тебе говорят, будто ты не соблюдаешь шабаша, читаешь проклятые книжки, поешь гнусные песни, возбуждаешь израильских юношей против святого закона, не почитаешь ученых и богачей и…
Тут Шмуль прервал на минуту свою быструю речь, а потом уже едва слышным стыдливым шопотом прибавил:
— … и ведешь нечистую дружбу с караимской девушкой!
Меир стоял будто вкопанный. Лицо у него побледнело, а глаза пылали все ярче.
— Кто же говорит все это? — повторил он сдавленным от волнения голосом.
— Морейне! — ответил Шмуль, разводя в отчаянии руками, — ты целую неделю сидел в наказание в бет-га-мидраше, а мы все, бедные люди, живущие на этой уличке, узнав об этом, подняли великий шум! И были тут такие люди, что хотели идти к твоему деду Саулу и к самому раввину, чтобы просить их снять с тебя этот великий стыд. Пильщик Юдель хотел идти, и извозчик Барух хотел идти, — ну! и хайет Шмуль также хотел идти. Но потом пошли всякие разговоры. А когда мы из этих разговоров узнали, за что ты наказан, то среди нас стало тихо. Мы сказали себе: хотя он добрый и очень сострадательный и с нами, бедняками, никогда не был горд и много помогал нам в несчастьях, но если он не соблюдает святого закона, то пусть будет так, как решил его зейде, великий богач, и пусть он будет наказан!
Шмуль замолчал, наконец, задохнувшись от длинной и быстрой речи, а Меир, глядя ему в лицо горящим пронизывающим взглядом, спросил:
— А если бы меня богачи приказали побить камнями, вы бы также сказали: пусть так будет?
Шмуль сразу так испугался страшного предположения Меира, что даже отскочил от него на несколько шагов.
— Гвалт! — воскликнул он. — Зачем допускать такие скверные мысли к себе в голову!
Потом, однако, добавил спокойнее:
— Ну, морейне, если бы ты не соблюдал нашего святого закона…
Но не докончил, так как Меир перебил его, и в звуке его голоса звучало увлечение:
— Шмуль! А разве вы все знаете, что такое наш святой закон? Что в нем божественное приказание и что людской вымысел?
— Ша! — зашикал потихоньку Шмуль, — нас слушают люди! Я не хочу, морейне, чтобы в моем доме тебя постигла неприятность!
Меир бросил взгляд за окно и увидел, что и в самом деле несколько взрослых мужчин уселось на длинной, узкой скамейке, стоявшей у стены дома Шмуля. Люди эти вовсе не подслушивали, наоборот, они даже разговаривали между собой, но, очевидно, последние возгласы Шмуля и Меира были услышаны ими, так как они заглянули в открытое оконце и смотрели в комнату с удивлением и явным недоброжелательством. Меир нетерпеливо пожал плечами и, не прощаясь со Шмулем, направился к выходу. Но когда он был уже у порога, Шмуль подскочил к нему и, быстро наклонившись своей гибкой фигурой, поцеловал ему руку.
— Морей не! — прошептал он, — мне очень жаль тебя! Опомнись! У тебя очень доброе сердце, но очень плохая голова! В ней горит огонь! Ай-вей! Что ты сделал сегодня с меламедом! Морейне! Опомнись и не создавай соблазна еврейскому народу!
Продолжая держать руку Меира в своих худых руках, он поднял к нему лицо, нервно вздрагивавшее, и поспешно прибавил:
— Морейне! Если б над тобой не тяготело такое страшное обвинение, я бы открыл сегодня перед тобой мое сердце. Потому что сегодня у хайета Шмуля большие затруднения! Ну, он сам не знает, что делать! Он может остаться на всю жизнь таким бедным, как теперь, и может сделаться богатым! Он может быть очень счастливым и очень несчастным, потому что к нему идет теперь великое счастье и само лезет ему в руки, но он боится взять его, потому что оно выглядит как несчастье!
Меир задумчиво посмотрел на бедняка, загадочно говорившего о какой-то тайне. Но в эту минуту из-за черной печи отозвался грубый, хриплый голос Иохеля:
— Шмуль! Да замолчишь ли ты? Ком хер!
Шмуль со все еще вздрагивающим лицом, на котором было выражение какой-то все поглощающей заботы, отскочил от Меира, и тот задумчиво, с пылающим взором вышел на улицу.
Сидевшие у стены люди при виде его заметно нахмурились. Двое из них поздоровались с ним коротко и равнодушно; никто, как бывало раньше, не встал перед ним, никто не подошел к нему, чтобы проводить его по улице, доверчиво разговаривая с ним.
Только из-под стены дома поднялся ребенок в длинном сером сюртучишке, и едва Меир отошел на несколько шагов, — последовал за ним. Руки у него были всунуты в рукава одежды, глаза были измученные и сонливые. Однако он продолжал идти, а так как возбужденный юноша двигался вперед скорым шагом, то и ребенок также ускорял шаги.
Идя, таким образом, друг за другом, Меир и Лейбеле прошли длинную улицу и вскоре очутились на пустырях, отделявших последние дома местечка от Караимского холма.
Было уже совершенно темно, но в хате Абеля Караима еще не горело желтое пламя маленькой свечки. Однако в ней не спали: едва Меир приблизился к открытому окну, как в нем показалась стройная фигура Голды.
Они молча поздоровались, кивнув друг другу головой.
— Голда, — сказал Меир тихо, но быстро, — у тебя не было никаких неприятностей? Никто тебе не причинил зла?
Девушка молчала минуту, потом в свою очередь ответила вопросом:
— Почему ты, Меир, спрашиваешь меня об этом?
— Я боюсь, что тебя могут обидеть. Люди начали говорить о тебе.
Голда презрительно пожала плечами.
— Я на их обиды не обращаю внимания, — сказала она, — я выросла вместе с обидой, это моя сестра.
Минуту продолжалось молчание. Меир все еще казался встревоженным.
— Почему у вас сегодня темно в доме? — спросил он.
— У меня нет шерсти для пряжи, а зейде молится в темноте.
Действительно, из угла комнаты доносился дрожащий голос молящегося Абеля.
— А почему у тебя нет шерсти для пряжи? — спросил Меир.
— Я отнесла Гане Витебской и Саре, жене Бера, то, что напряла для них, а они мне не дали больше работы.
— Они ничего худого не сказали тебе? — порывисто спросил Меир.
Голда опять помолчала немного.
— Людские глаза говорят иногда худшие вещи, нежели язык, — произнесла она спокойно.
Видимо, она не хотела жаловаться или обвинять кого-либо.
Впрочем, возможно, что ее мало трогало все, касавшееся ее самой, и что мысли ее были заняты чем-то другим.
— Меир, — сказала она, — у тебя была на этих днях большая неприятность…
Меир сел на маленькую узкую лавочку, стоявшую под открытым окном, подпер голову руками и тяжело вздохнул.
— Наибольшее огорчение было у меня сегодня, — ответил он: — народ мой отвратил от меня лицо свое и объявил меня своим врагом. Когда я прохожу, то вместо расположения к себе вижу враждебность, а те, которые открывали передо мной свои сердца, теперь относятся ко мне подозрительно…
Голда печально опустила голову; через минуту Меир продолжал:
— Я сам уже не знаю теперь, что мне делать. Великое сомнение охватило мою душу. Если я буду говорить и действовать, как мне велит мое сердце, народ мой возненавидит меня, и несчастья обрушатся на мою голову. А если я буду говорить и действовать против своего сердца, я сам возненавижу себя, и никакое счастье не будет мне мило. Сидя в бет-га-мидраше, я решил поддерживать со всеми мир, на глупые и скверные вещи закрывать глаза и жить спокойно. Но, выйдя из бет-га-мидраша, я не выдержал и из-за одного бедного ребенка восстановил против себя меламеда, а из-за меламеда всех старших и весь народ. Вот что я сделал сегодня! А теперь я опять думаю: к чему все это? Разве, благодаря этому, меламед перестанет выбивать у бедных детей из головы разум, разве он не будет лишать их тело здоровья?.. Что могу я сделать? Я один… молод… жены и детей у меня еще нет и крупных дел я не веду… Значит, надо мною все властны, а я ни над кем. Моих приятелей преследуют за то, что они водят со мной дружбу. Они испугаются и бросят меня. Тебя начали уже преследовать за то, что ты соединила свое сердце с моим, за то, что твой голос был товарищем моему… И я погублю тебя этим… Может быть, лучше закрыть глаза и уши… приказать печали и тоске, чтобы они ушли из сердца… и жить так, как все живут?..
Меир говорил все тише: по голосу его было слышно, что неуверенность и сомнения жестоко разрывают ему грудь.
Воцарилось довольно долгое молчание. В это время из-за холма, у подножия которого стояла хата, стали доноситься какие-то звуки. Только с трудом можно было сразу отличить среди этих звуков стук колес, тиха двигавшихся по песчаной почве, сдержанный говор и шаги множества людей. Минуту спустя эти звуки стали ближе и яснее; среди глубокой тишины, царившей в этом месте, в них было что-то таинственное.
— Что это такое? — вставая с лавки, сказал Меар.
— Что это такое? — спокойно повторила Голда.
— Мне кажется, — начал юноша, — будто с той стороны горы ехало много возов и что они остановились…
— А мне кажется, словно в горе что-то гудит и стучит.
И действительно, могло показаться, что шаги людей раздаются теперь внутри самого холма и что там слышится стук бросаемых и устанавливаемых тяжелых предметов.
Тревога отразилась на лице Меира. Он пристально посмотрел на Голду.
— Затвори окно и запри на засов! — сказал он торопливо. — Я пойду посмотрю, что там такое.
Он, видимо, боялся за нее. Но девушка пожала плечами и ответила:
— К чему мне запирать окно и двери? Они очень ветхие, и если б даже я и заперла их, каждый, кто только дотронется до них сильной рукой, откроет их.
Меир огибал уже холм и вскоре оказался по другую сторону его. То, что он там увидел, крайне удивило его.
На песчаных полях стояли, обступив полукругом холм, одноконные и двуконные возы, нагруженные деревянными бочками самых разнообразных размеров. Около возов двигалось множество людей — крестьяне и евреи. Крестьяне снимали бочки с возов и вкатывали некоторые из них в глубокую яму, образовавшуюся в холме естественным или искусственным путем, евреи же расхаживали среди возов, присматривались к бочкам, слегка ударяя по ним пальцами, а потом собрались возле человека, прижатого ими к склону холма, и вели с ним тихий, но необычайно оживленный разговор.
Среди этих евреев Меир увидел нескольких соседних шинкарей, которых он знал только по виду; человек же, который прижимался к холму и вел с ними какие-то таинственные, хотя и горячие торги и переговоры, был Янкель Камионкер.
Крестьяне, заканчивавшие переноску бочек или неподвижно стоявшие у возов, угрюмо молчали. Сильный одуряющий запах алкоголя расходился во все стороны и наполнял воздух летнего вечера.
Удивление Меира продолжалось недолго. Он начал, очевидно, догадываться о значении происходившей перед ним сцены; видимо, он принял какое-то решение, потому что сделал несколько шагов вперед, как бы намереваясь приблизиться к Камионкеру. Но вдруг от склона холма отделилась и загородила ему дорогу высокая широкоплечая фигура человека с босыми ногами и всклокоченными волосами.
— Зачем ты идешь сюда, Меир? — тихим топотом произнес этот человек.
— А почему ты, Иохель, не позволяешь мне идти? — ответил Меир и хотел обойти его, но Иохель с силой удержал его за рукав сюртука.
— Или ты уже не хочешь больше жить на этом свете? — прошептал он. — Мне жаль тебя, потому что ты добрый, и я говорю тебе: ступай-ка отсюда.
— А если мне интересно знать, что такое делает тут реб Янкель со своими шинкарями и с этими бочками?
— А тебе-то что до этого? — еще раз прошептал Иохель. — Пусть глаза твои не видят и уши твои не слышат того, что делает здесь реб Янкель! Он большие дела обделывает здесь, и ты помешаешь ему… А зачем тебе мешать? Разве тебе от этого будет какая-нибудь польза? Да и что ты можешь сделать против него?
Меир на минуту растерялся. Потом повернулся и, не спеша, пошел в другую сторону.
— Что я могу сделать? — прошептал он дрожащими губами.
Проходя мимо хаты Абеля Караима, он увидел Голду, все еще стоявшую у окна. Он кивнул ей головой и сказал:
— Спи спокойно!
Но она позвала его:
— Меир, тут какой-то ребенок сидит на земле и спит.
Меир приблизился и, действительно, увидел у конца лавки, на которой он сидел минуту назад, скорченную на земле серую фигурку ребенка.
— Лейбеле! — сказал он с удивлением.
Идя сюда, он так и не заметил мальчугана, который пришел вслед за ним и тихо уселся у стены избы. Теперь ребенок крепко спал, опираясь локтями на приподнятые колени и положив голову на ладони.
— Лейбеле! — повторил Меир и положил руку на голову спящего.
Ребенок проснулся, открыл сонные глаза и, подняв их к лицу наклонившегося над ним юноши, улыбнулся.
— Зачем ты пришел сюда, Лейбеле? — тоже улыбая: ь, спросил Меир.
Ребенок подумал немного, потом ответил:
— За тобою…
— Отец и мать не знают, куда ты девался?..
— Отец уже спит и мать уже спит… — начал Лейбеле, качая головой вправо и влево и продолжая улыбаться. — И козы уже спят… — прибавил он через минуту, вспомнив об этих, должно быть, лучших товарищах своих, и громко засмеялся.
Но с губ Меира уже исчезла мимолетная улыбка, вызванная смехом ребенка. Он выпрямился, вздохнул и, опуская голову, сказал самому себе:
— Что мне теперь делать?
Голда обеими руками обхватила свою голову, подняла лицо и печальными глазами стала смотреть на звездное небо. Минуту спустя она шепнула тихо и неуверенно:
— Я у зейде спрошу! Зейде очень ученый… он всю библию знает на память.
— Спроси! — ответил Меир.
Девушка повернулась в темную глубину хаты и сказала:
— Зейде! Что Иегова приказывает делать человеку, от которого народ отвратил свое лицо за то, что он не хочет поступать и говорить против своей совести?
Услышав этот вопрос, Абель прервал молитву, которую он читал вполголоса. Очевидно, он привык к частым вопросам внучки и к тому, чтобы давать на них ответы; долго молчал он, раздумывая над ее вопросом, или, быть, может, напряженно вспоминая какие-то святые слова. Потом в глубине темной избушки раздался его старческий, дрожащий, но несколько торжественный голос:
— Иегова сказал: «Я поставил тебя, пророк, стражем Израиля! Слушай слова мои и повторяй их народу твоему! Если будешь поступать так, я назову тебя своим верным слугой; если же будешь молчать, на голову твою падут все несчастия Израиля!»
Старый голос, произнесший эти слова, умолк, а Меир все еще слушал, подняв вверх побледневшее лицо с горящими глазами. Через минуту он указал пальцем на то место темной комнаты, где опять послышалось бормотание молящегося старика, и дрожащим голосом сказал:
— Это правда! Его устами говорит старый закон Моисея! Истинный святой закон наш!
В глазах Голды блестели крупные слезы, но Меир не видел их. Погруженный в какие-то мысли, которые охватили его и разжигали все его существо, он, прощаясь, слегка кивнул головой молодой девушке и ушел.
Она осталась у открытого окна и смотрела вслед уходящему Меиру. Лицо ее было спокойно, но по смуглым, худым щекам одна за другой текли слезы.
— Пророку Осин отрубили голову… Пророка Иеремию изгнали из Палестины!. — шептала девушка.
Меир же, отойдя шагов на десять от хатки, поднял к небу бледное лицо и сказал:
— Равви Акиба за правду свою умер в великих мучениях!
Голда широко открыла глаза, стараясь как можно дальше проводить взглядом юношу, постепенно удалявшегося в вечерней темноте. Она медленно скрестила свои руки, а губы ее, влажные от слез, прошептали:
— Как Руфь сказала свекрови своей Ноэмии, так и я скажу тебе, свету души моей: твой бог будет моим богом, твой народ будет моим народом, и моя печаль будет подругой твоей печали, и душу мою я разлучу с телом одновременно с твоей душой!..
Так глубоко проникнутые духом старых деяний еврейского народа, заменявших им всю мировую мудрость, эти дети черпали для себя из народных преданий знание, утешение, мужество и печаль.
II
Только что стало светать, но в доме Янкеля Камионкера никто, кроме самых маленьких детей, уже не спал. Наступавший день был очень важен для владельца заезжего дома, так как был одним из главных торговых дней в году, когда в местечко стекались толпы окрестного населения, людей всех общественных положений. Вот почему две взрослые дочери Янкеля, здоровые на вид, некрасивые и растрепанные девушки, с помощью четырнадцатилетнего брата Менделя, глуповатое и злое лицо которого носило на себе следы многолетнего обучения в хедере ребе Моше, слегка убирали две парадные комнаты, предназначенные для самых почетных гостей: эти комнаты были украшены желтой хромоногой мебелью, занавесками, ставшими пепельными от грязи, и глиняными цветочными горшками, в которых росли какие-то грязные подобия растений.
Рядом с этими парадными апартаментами находилась огромная комната, где помещался шинок и где обыкновенно в дни подобных съездов собирались, пили и танцовали толпы крестьян. В этой комнате служанка теперь пробовала очистить никогда не чистившиеся длинные, узкие столы, поставленные возле лавок, расположенных вокруг стен, и раздувала огонь в глубокой и черной, как бездна, печке. Утро было холодное; в большой низкой комнате шинка стоял затхлый и сырой воздух.
В помещении Янкеля, в первой от входа комнате, у двух окон, выходящих на торговую площадь, еще совершенно пустую и окутанную утренней мглой, стояли двое — Янкель и жена его Ента. Повернувшись лицом к окну, они оба читали длинные утренние молитвы.
Янкель был уже в той одежде, в какой он проводил обыкновенно целые дни, — в длинном вытертом кафтане и в толстом черном платке, обернутом вокруг шеи. Он громко молился:
— Благословен бог, владыка мира, за то, что не сотворил меня язычником! Благословен за то, что не сотворил меня невольником! Благословен за то, что не сотворил меня женщиной!
Торопливо произнося эти слова дрожащими от рвения губами, он возбужденно раскачивался взад и вперед. В это же время Ента в синей кофте без рукавов и короткой юбке, из-под которой виднелись ее ноги в темных чулках и в туфлях, делала перед окном короткие, быстрые поклоны и значительно тише своего мужа бормотала:
— Благословен бог, владыка мира, за то, что сотворил меня так, как была воля его.
Янкель накинул на плечи кусок легкой полотняной материи, на четырех концах которой висели белые шнурки, и сказал:
— Благословен бог, владыка мира, просветивший нас своими заповедями и давший нам закон о цыцысе!
Ента с коротким поклоном зашептала громче:
— Благословен владыка мира, освобождающий узников и выпрямляющий тех, которые согнуты!
Янкель перебирал пальцами нити, свисавшие с распростертого перед ним на стуле талеса и продолжал:
— Ты велик, боже, владыка мира! Ты велик! Ты облекся величием и светом, как плащом!
Ента, продолжая кланяться, начала тяжело вздыхать.
— Благословен ты, боже, владыка мира, — шептала она, — за то, что даешь силу измученным, прогоняешь сон с моих глаз и дремоту с моих век!
Наконец Янкель взял со стула свой талес и, завертываясь этим плащом из белой мягкой материи с траурными каемками, высоко поднял лицо и воскликнул:
— Благословен владыка мира за то, что просветил нае своими заповедями и повелел нам облекаться в талес!
Потом, продолжая раскачиваться и шевелить губами, надел на голову ремень с квадратным футлярчиком, прикрепляющимся ко лбу, и, обернув другой такой же ремень вокруг своего пальца, произнес:
— Обручаю тебя с собою навеки! Обручаю тебя с собою в правде, в любви и благоволении! Обручаю тебя с собою в вере, через которую мы познаем господа!
Они оба были так погружены в свои молитвы, что не слышали раздавшихся сзади них тяжелых и торопливых шагов.
Меир Эзофович быстро прошел по комнате, в которой молились Янкель и жена его, потом, пройдя через комнатку, заставленную кроватями, сундуками и люльками, где еще спали двое маленьких, детей, тихо открыл низенькие двери, ведущие в комнатку кантора.
Было еще серо в предутреннем рассвете.
В голубоватом полусумраке, который наполнял комнатку, обернувшись лицом к окну, стоял Элиазар и тоже молился. Он услышал, как вошел приятель, потому что сразу повернул к нему голову, но молитвы не прервал. Наоборот, он слегка поднял вверх руки и, словно приглашая пришедшего к общей молитве, громко произнес:
— Бог Израиля! Погаси пламень гнева твоего и сними несчастие с головы народа твоего!
Меир стал сзади, в нескольких шагах от молящегося приятеля, и ответил словами, которыми обыкновенно народ отвечает кантору, запевающему молитву:
— Взгляни с небес и узнай, каким презренным посмешищем мы стали среди народов; как ягнят, ведут нас на муку, позор и истребление!
— Но мы не забыли имени твоего; не забудь же и ты о нас! — снова произнес нараспев Элиазар.
Отвечая, таким образом, друг другу, двое юношей произносили вместе одну из красивейших молитв, какие когда-либо возносились к небу из наболевшей человеческой груди. В этой молитве каждое слово — слеза, каждая строфа — аккорд, воспевающий трагические судьбы великого народа.
— О, откажись от своей мести и прояви сострадание к избраннику твоему! — говорил кантор.
— Защити нас, господи, и не отдавай нас в руки жестокосердых! Ибо, зачем же людям говорить: где их бог!
— Услышь вопль наш и не отдавай нас в руки, врагов, стремящихся изгладить имя наше! Вспомни, что ты обещал предкам нашим: «Умножу потомство ваше, как звезды»; а теперь из великого множества нас осталось уже так мало!
— Но мы не забыли имени твоего; не забудь же и ты о нас!
— О страж Израиля, храни остатки Израиля, чтобы не исчез народ, верующий в единое имя твое и говорящий: владыка наш, бог единый!
Вид у обоих приятелей во время молитвы был настолько же различный, насколько различны были их характеры. Элиазар подымал вверх слегка дрожащие руки, голубые глаза его были влажны от трогательного волнения, а слабая фигура его невольно колебалась, словно объятая упоением и восторгом. Меир стоял прямо и неподвижно, скрестив руки на груди, с пылающими глазами, устремленными в голубое небо, с глубокой складкой на лбу, придававшей всему лицу его выражение сдерживаемого гнева и страдания. Оба молились всем сердцем, с глубокой верой в то, что страж Израиля, единый бог, слышит их голоса. Только в конце молитвы души их разъединились. Элиазар пропел мольбу за израильских ученых и мудрецов.
— Поддержи, отец наш небесный, мудрецов Израиля с женами, детьми и учениками их всюду, где бы они ни находились! Взывайте: аминь!
Меир не произнес «аминь». С минуту он молчал, а так как кантор тоже молчал, ожидая ответа, Меир, слегка возвысив голос, начал говорить дрожащими губами:
— Братьев наших из дома Израиля, впавших в бедность и в грехи, где бы они ни находились, выведи как можно скорее из оков на свободу, из темноты на свет! — Взывайте: аминь!
— Аминь! — воскликнул Элиазар и повернулся к приятелю.
Они протянули друг другу руки и обнялись.
— Элиазар! — сказал Меир, — ты выглядишь сегодня не так, как неделю тому назад!
— И ты, Меир, выглядишь не так! — ответил кантор.
— Над нашими головами проплыла только одна неделя, но иногда одна неделя значит больше, нежели десять лет.
— Я в эту неделю много выстрадал, — прошептал кантор.
Меир не жаловался.
— Элиазар — сказал он, — дай мне Морэ-Небухим. Я за этой книгой пришел сегодня к тебе так рано. Мне очень нужна теперь эта книга!
Элиазар стоял с опущенной головой.
— У меня нет уже этой книги! — произнес он тихо.
— А где же она? — спросил Меир.
— Этой книги, из которой в головы наши лился свет, а в сердца — надежда, нет уже на всем свете! Ее пожрал огонь, а пепел ее выбросили в кучу сора…
— Элиазар! Ты испугался и предал ее сожжению? — воскликнул Меир.
— Мои руки не могли бы совершить такое преступление; если бы даже язык мой приказал им сделать это, они бы не послушали его. Но неделю тому назад пришел сюда отец мой и с великим гневом велел мне отдать ему ту «проклятую» книгу, которую мы все вместе читали в шабаш на лугу. Я молчал. Он крикнул: «У тебя ли эта книга?» Я ответил: «У меня». Но когда он опять спросил у меня: «Где она?» — я молчал. Он побил бы меня, но, помня о моей должности в синагоге и о большой любви, которую народ проявляет к моему голосу, он побоялся прикоснуться ко мне. Начал только все разбрасывать в комнате, а когда разбросал постель, то нашел книгу. Хотел отнести ее к раввину, но тут я упал ему в ноги и умолял его не делать этого, потому что за это мне не позволили бы петь перед господом и лишили бы меня той любви, которую народ питает ко мне за мое пение. Отец сам испугался этого, потому что он очень гордится тем, что его сын, такой молодой, пользуется уже большим почетом в синагоге, и думает, что бог пошлет ему успехи в его делах и простит ему все грехи за то, что сын его поет господу перед народом слова молитв. Он не отнес книгу к раввину, но сам бросил ее в пламя, а когда она горела, смеялся и плакал от радости.
— И ты, Элиазар, смотрел на это и ничего не делал? — дрожащим голосом спросил Меир.
— А что мне было делать? — шопотом ответил кантор.
— Я бы спрятал эту книгу на груди… Я бы руками прижал ее к себе… Я бы сказал отцу: «Если ты ее хочешь бросить в огонь, то бросай вместе с ней и меня!»
Эти слова Меир произнес с искрящимися глазами и с ярким румянцем на лице. Элиазар стоял перед ним печальный, пристыженный, с опущенной головой и смотрел в землю.
— Я не мог, — прошептал он, — я боялся, чтобы меня не оттолкнули от алтаря господа и не огласили безбожником перед народом. Но посмотри на меня, Меир, и ты увидишь, не любил ли я писаний нашего учителя так, как душу мою. С тех пор, как их нет в моей комнате, лицо мое побледнело, а веки покраснели от слез.
— О, слезы, слезы твои! — воскликнул Меир, порывисто садясь на стул и закрывая лицо обеими руками. — О, эти слезы, слезы твои, Элиазар! — повторил Меир каким-то странным голосом, не то насмешливым, не то плачущим. — Они вечно текут, не принося ничего хорошего ни тебе, ни мне, ни израильскому народу! Элиазар! Я люблю тебя, как брата! Ты зеница ока моего! Но я не люблю слез твоих и не могу смотреть на твои красные от слез глаза! Элиазар! Не показывай мне никогда своих слез, хоть раз покажи мне огонь в глазах твоих и силу в твоем голосе, к которому народ чувствует такую любовь, что он был бы послушен ему, как дитя матери.
Но у самого! Меира стояли слезы на глазах, когда он бранил приятеля за его склонность к слезам. Он закрыл лицо руками — должно быть, не хотел, чтобы Элиазар видел их. Скорбно раскачиваясь, он продолжал:
— Ой-ой-ой! Элиазар, что ты наделал, отдав эту книгу своему отцу на сожжение! Где достанем мы теперь другой источник мудрости? Где услышим мы теперь голос единственного нашего учителя? Пламя пожрало душу душ наших, а пепел ее выбросили вместе с сором… Разнесут его ветры на все стороны, и если душа нашего учителя увидит, как летит и рассеивается этот пепел, опечалится, разгневается она и скажет: «Вот во второй раз прокляли меня люди!»
И Меир уже не мог больше скрыть страстных рыданий, рвавшихся у него из груди. Крупные и частые слезы сквозь пальцы падали на шероховатую поверхность стола. Вдруг Меир перестал сетовать и плакать. Он замолчал и, не меняя позы, погрузился в тихую скорбь и раздумье.
Элиазар открыл окно.
По песчаной почве базарной площади протянулись там и сям розоватые и золотистые дорожки. Это были первые лучи восходящего солнца. По одной из этих светлых дорожек шел, направляясь к дому Камионкеров, высокий широкоплечий босоногий человек. Тяжелые шаги его вскоре раздались вблизи окна, у которого сидели юноши. Меир поднял голову, и, хотя лицо идущего человека с всклокоченными волосами и опухшими губами только мелькнуло у него перед глазами, он все-таки тотчас же узнал в нем Иохеля.
Несколько минут спустя, тут же за открытым окном, быстро прошли два человека, одетые в черное. Один был высокий, величественный, и мягкая улыбка играла на его лице, другой низкий, проворный, с морщинистым лицом под густыми, пестреющими сединой волосами. Это были — морейне Кальман и Абрам Эзофович.
Очевидно, они шли не через площадь, на которой они были бы видны раньше, а какой-нибудь боковой дорогой, скрытой за стенами и дворами домов, потому что они вдруг появились откуда-то из-за угла низкого заезжего дома. По их походке, по их молчанию и по лицу Абрама, нахмуренному и тревожному, заметно было, что им очень хотелось, чтобы никто не видел, как они подходят сюда. Пройдя пространство, отделявшее окна домов от столбов подъезда, по мягкой от накопившегося сора дороге, они скрылись, как минуту тому назад Иохель, в глубоких и совершенно еще темных сенях, служивших также и конюшней.
В эту минуту Элиазар оторвал взгляд от божественной книги, которую начал читать, и, взглянув на Меира, воскликнул:
— Меир! Почему у тебя лицо стало таким суровым? Я никогда не видел тебя таким.
Казалось, Меир даже не слышал восклицания приятеля. Устремив глаза в землю, он шептал про себя:
— Мой дядя Абрам! Мой дядя Абрам! Горе нашему дому! Стыд и позор дому Эзофовичей!
В соседней комнате, отделенной от комнатки кантора тонкими низкими, дверями, раздались теперь громкие разнообразные звуки. Прежде всего Янкель крикнул жене, чтобы она выпроводила детей; потом, по полу зашлепали стоптанные туфли Енты; разбуженные дети заплакали, а когда их все более усиливающийся плач стал удаляться в глубь дома, тут же за стеной послышались шаги нескольких человек, поспешное и громкое передвигание деревянных стульев и, наконец, сдержанный, но достаточно громкий и очень оживленный шопот начинающегося разговора.
Меир внезапно встал со стула.
— Элиазар! — торопливо сказал он. — Уйдем отсюда!
— Для чего нам уходить отсюда? — спросил кантор, снова отрываясь от своей божественной книги.
— Эта стена очень тонка… — начал Меир.
Но, не кончив, он вдруг умолк, потому что за стеной раздался возбужденный возглас его дяди Абрама:
— Я ничего не знал об этом! Ты, Янкель, ничего об этом мне не сказал.
Одновременно зазвучал желчный, неприятный смех Янкеля.
— Не сказал, потому что у меня есть ум в голове! — воскликнул он. — Я знал, Абрам, что от тебя получить согласие на такое дело будет не легко! Но раз я сам берусь устроить это…
— Шаа! — шикнул Кальман, и оба голоса снова затихли, послышался шопот.
— Элиазар! Уходи отсюда! — воскликнул Меир.
Кантор ничего не понимал.
— Элиазар! Ты хочешь чтить своего отца, как приказано нам на горе Синая?
Сын Камионкера вздохнул.
— Я со слезами прошу Иегову, чтобы я мог чтить отца моего…
Меир схватил его за руку.
— Ну, так уходи отсюда, уходи отсюда! Если ты останешься здесь еще немного, то никогда уже, никогда… никогда уже не будешь чтить своего отца.
Юноша говорил это с таким возбуждением, что Элиазар побледнел и сильно смутился.
— А как же я теперь выйду отсюда? — прошептал он. — Если то, о чем они говорят там, большой секрет.
Тут опять зазвучал за стеной более громкий возглас Янкеля:
— Бедняк хайет Шмуль и бродяга извозчик Иохель… они оба получат большие деньги…
— А крестьяне, которые везли водку? — воскликнул Абрам.
Янкель засмеялся.
— Со своими телами, душами и со всей рухлядью они сидят в карманах у моих шинкарей.
— Шаа! — шикнул опять флегматичный и более осторожный Кальман.
Элиазар вздрогнул. В его голове промелькнула догадка.
— Меир! Меир! — зашептал он с необычной для него горячностью, — я хочу уйти отсюда, но проходить мимо них я боюсь… Они догадаются, что я узнал их тайну…
Меир одной рукой отодвинул стол, стоявший у окна, другой толкнул приятеля к открытому окну.
Во мгновение ока Элиазар исчез из комнатки. Тогда Меир выпрямился и сказал самому себе:
— Ну, теперь я покажусь им! Пусть знают, что здесь были уши, которые могли слышать!
Говоря это, он открыл низкие двери и вошел в соседнюю комнату.
В ней около стены, на трех близко сдвинутых стульях сидело трое людей. Их разделял маленький стол из простого белого дерева. Янкель и Абрам уперлись в него локтями и низко наклонили друг к другу головы. Кальман сидел, величественно выпрямившись в своей блестящей атласной одежде. У Янкеля лицо пылало кирпичным, горячечным румянцем; Абрам был бледен. Глаза первого сверкали острым, жадным, злобным огнем; глаза другого были опущены к земле, словно в тревоге и мучительной неуверенности. Но ничто не могло поколебать классическое спокойствие Кальмана. Его щеки были покрыты обычным свежим румянцем, а на пухлых губах покоилась вечная сладкая улыбка полного довольства.
Когда Меир открыл двери, до слуха его еще раз явственно донеслись слова дяди его Абрама:
— А если вместе с подвалом сгорит и весь двор?
— Ай-ай-ай! — насмешливо зашептал в ответ Камионкер, — велика беда! Один лишний эдомит станет нищим!
Тут говорящий умолк и весь задрожал от беспокойства или гнева. Он увидел открывающиеся двери и выходящего из них Меира. Увидели его также и двое товарищей Янкеля. Улыбающиеся губы Кальмана широко открылись; лоб Абрама грозно нахмурился.
Меир заметил впечатление, произведенное на них его появлением. Переступив порог, он остановился на минуту и устремил взгляд в лицо своего дяди. Взгляд этот был проницательный, смелый, но вместе с тем какой-то кроткий, грустный и умоляющий; встретившись с ним, глаза Абрама беспокойно забегали и опустились вниз. Голова его, пестревшая сединой, также опустилась вниз, а руки упали на колени и задрожали.
Меир медленно прошел через комнату и сейчас же оказался в другой, где никого уже не было, кроме стоявшего между стеной и печью Иохеля. Он стоял там как будто в выжидательной позе, прислонясь спиной, прикрытой рваной безрукавкой, к плохо выбеленной стене и бессмысленными глазами глядя на свои босые ноги.
Вслед за уходившим Меиром раздался возглас Янкеля:
— А фершолтенер! (Проклятый!)
Абрам и Кальман долго молчали.
— Для чего ты, Янкель, привел нас в такое плохое место? — флегматично спросил, наконец, Кальман.
— Отчего ты не предупредил нас, что за теми дверями кто-нибудь может нас слышать? — взволнованно зашептал Абрам.
Янкель стал оправдываться тем, что за дверями находится комнатка его сына, кантора, который совершенно равнодушен к делам, ничего в них не понимает, постоянно занят чтением или молитвами и ничего не слышит вокруг себя.
— Откуда я мог знать, что этот проклятый мальчишка был там? Каким образом он вошел? Разве через окно, как вор?
— Ну, — немного погодя, сказал Янкель, поразмыслив и ободрившись, — а что за беда, что он слышал? Он еврей… наш! Против своих он и слова сказать не посмеет!
— Он может выдать, — заметил Кальман. — Но мы будем следить за ним, и если хоть одно слово сорвется у него с языка, мы согнем его в дугу…
Абрам встал.
— Делайте, что хотите, — сказал он порывисто, — я не хочу участвовать в этом деле.
Янкель бросил на него ядовитый взгляд.
— Ну, что же, — сказал он, — и отлично. Для меня и для Кальмана заработок будет побольше… чей риск, того и выгода.
Абрам сел. Тяжелая борьба отражалась на его выразительном, нервном лице, изборожденном страстями.
Янкель, у которого в руке был кусочек мела, начал писать им на маленькой черной дощечке.
— Восемь тысяч ведер, — сказал он, — по четыре рубля ведро — тридцать две тысячи рублей. Разделить на троих тридцать две тысячи… получится десять тысяч шестьсот шестьдесят шесть рублей шестьдесят шесть с третью копеек… По шестисот рублей от каждого возьмут себе Иохель и Шмуль; ну, для нас останется по десять тысяч шестьдесят шесть рублей и шестьдесят шесть и одна треть копеек.
Абрам снова встал, но не сказал ничего. Он смотрел в землю и обеими руками мял платок. Через минуту, не поднимая глаз, спросил:
— А когда это будет?
— Очень скоро! — ответил Янкель.
Абрам, ничего уже больше не говоря и не прощаясь с товарищами, быстрым шагом вышел из комнаты.
На обширной площади начиналось движение, слышался говор людей и стук колес съезжавшихся на большой базар возов. Все население местечка было уже на ногах, готовясь устраивать в этот день свои разнообразные дела. В доме Эзофовичей тоже никто не спал; и там встали раньше обычного.
В той части дома, которую занимали со своими семьями Рафаил и Бер, были слышны голоса нескольких мужчин, оживленно, громко и весело разговаривавших друг с другом. Там называли различные предметы торговли и при этом упоминали длинные ряды цифр. В этот разговор время от времени вставлялся какой-нибудь эпизод, рассказываемый певучим голосом, а затем следовали удивленные возгласы, многочисленные вопросы или же веселый смех. Тут чувствовалось спокойствие и довольство людей, усердно работающих для своего благосостояния и для благосостояния своих семей и услаждающих заботы о житейских делах взаимной откровенностью, доверием и доброжелательством.
В большой светлой приемной комнате, пахнувшей елью, ветвями которой в этот день был усыпан пол, вычищенный и вымытый еще старательнее, чем обычно, на старом желтом диване, перед столом, покрытым цветной скатертью, сидел Саул в праздничной одежде из блестящего атласа, в бархатной шапочке на седых волосах и не спеша пил серебряной ложечкой прекрасный, душистый чай. Огромный блестящий, как золото, самовар не стоял в это утро, как обыкновенно, на шкафу, переполненном массой кухонной и столовой посуды, а пламенел углями и пыхтел клубами пара в соседней обширной чистой комнате, уставленной по стенам лавками и столами и ярко освещенной большим огнем, разведенным в огромной кухонной печи. Кипящий самовар, яркий огонь в кухонной печи, суета хозяек и довольно многочисленных слуг, праздничное одеяние Саула и безукоризненная белизна занавесок, украшавших окна приемной комнаты, — все это свидетельствовало о том, что в доме богатой купеческой семьи ожидаются в этот день многочисленные гости и что к приему их ведутся старательные приготовления.
Однако было еще слишком рано, и старый Саул сидел один, видимо, наслаждаясь окружавшей его атмосферой согласия и довольства, а также отзвуками разговоров и суеты, наполнявших сверху донизу обширный, и многолюдный дом. Это была одна из тех, впрочем, довольно частых минут, в которые почтенный патриарх старинного рода во всей полноте чувствовал все милости и все почести, обильно изливаемые Иеговой на его благословенную старость.
Но едва отворились двери из сеней и через них вошел в комнату Меир, как тотчас же все блаженство, освещавшее тусклые глаза Саула, улетучилось. Вид внука, очевидно, привел ему на память какой-то колючий терний, о котором он минуту перед этим забыл среди приятных размышлений о цветах своей жизни. Первый же взгляд на юношу произвел впечатление фальшивой или, вернее, печальной и тревожной ноты, вмешавшейся в гармонический и веселый аккорд. Тревога и скорбь отражались на побледневшем лице этого юноши, а в глазах его пылал огонь волновавших его чувств и мыслей. В комнату Меир вошел смело и быстро, но встретившись глазами со взглядом деда, опустил голову и слегка замедлил шаги. Когда-то он приближался к своему благодетелю и отцу с доверием и нежностью любимого ребенка. Теперь же чувствовал, что между ним и этим стариком, который заботился о нем в годы его детства и юности, подымалась все более высокая и твердая преграда. Знал также и то, что преграду эту он сам воздвигает своими словами и поступками; с тоской вспоминалось ему прежнее чувство, светившееся в этих блеклых глазах, которые теперь смотрели на него сурово и гневно. С грустно опущенными глазами он приблизился к деду, в робкой и просительной позе остановился перед ним и тихо сказал:
— 3ейде! Я хотел бы поговорить с тобой об одном важном деле!
При виде робко приближавшегося к нему когда-то любимого внука Саул стал менее суровым, но еще более печальным.
— Говори! — ответил он коротко, но ласково.
— 3ейде! Позволь мне закрыть двери и окна, чтобы никто не мог услышать наш разговор.
— Закрой! — ответил Саул и с некоторой тревогой стал ожидать дальнейшего разговора с внуком.
Меир закрыл двери и окна и, подойдя к деду, сказал:
— Зейде! Я знаю, что мои слова опять принесут тебе огорчение и беспокойство. Но к кому же мне обратиться? Ты был для меня отцом и благодетелем; и прежде всего к тебе рвется мое сердце при каждой моей печали…
Голос его задрожал. По лицу его было видно, что глубокая нежность влечет его в объятия этого старика, который, видимо, смягчившись, с внезапно просветлевшим лицом ответил:
— Говори все! Хотя у меня и есть причины сердиться на тебя, потому что ты не такой, каким бы хотела видеть тебя моя душа, все же я никогда не забуду, что ты сын моего сына, слишком быстро скрывшегося с моих глаз… Если у тебя есть какая-нибудь забота, я сниму ее с твоей головы, а если кто-нибудь обидел тебя, я встану против твоего обидчика и покараю его за тебя.
На Меира слова эти произвели ободряющее и утешительное впечатление.
— Зейде! — сказал он уже смелее, — у меня благодаря тебе нет никаких забот, и никто не нанес мне никакой обиды. Но я узнал об одной страшной тайне и не знаю, что с ней делать. Затаить ее в себе я не могу. И вот я подумал, что скажу об этой тайне тебе, зейде, чтобы ты со своими сединами своим влиянием на людские души помешал совершиться греху и стыду.
Теперь Саул всматривался уже в лицо внука с любопытством и недовольством.
— Ну, — сказал он, — гораздо лучше живется тем людям, которые ни в какие страшные тайны не проникают и никогда не открывают ради них рта. Но я боюсь, что если ты не откроешь своего сердца передо мной, то ты откроешь его перед другими людьми, и из этого опять выйдут какие-нибудь неприятности… Говори, что это за страшная тайна?
Меир ответил:
— Вот эта тайна: Янкель Камионкер держит в аренде у помещика Камионского его большой винокуренный завод. Он выгнал на этом винокуренном заводе шесть тысяч ведер водки, но все лето не продавал ее. Он не продавал ее потому, что цена была низка. Теперь цена поднялась, и он хочет водку продать, но заплатить акциз, который берет за нее казна, не хочет.
— Говори тише! — вдруг прервал его Саул, на лице которого отразилась все усиливающаяся тревога.
Меир понизил голос почти до шопота:
— Чтобы не заплатить акциз, Камионкер выкрал эту водку из подвала и прошлой ночью перевез ее под Караимский холм, где ее раскупали шинкари из разных мест. Но он подумал: а что будет, если чиновник приедет ревизовать подвал и не найдет водки? Придется отвечать перед судом… Подумав так, нанял двух людей… 3ейде! Он соблазнил деньгами двух бедняков…
— Ша! — вдруг воскликнул пониженным голосом Саул. — Молчи, и пусть ни одно слово больше не выйдет из твоих уст! Я уже обо всем догадался.
Руки старика дрожали, седые брови его сдвинулись и взъерошились.
Меир умолк и полными тревожного ожидания глазами смотрел на деда.
Саул долго молчал, потом, не поднимая опушенных глаз, неуверенным голосом сказал:
— Твой язык произнес ложь. Этого быть не может!
— 3ейде! — зашептал Меир, — это такая же правда, как-то, что солнце светит сегодня на небе. А почему же этого не может быть? Разве ты, зейде, не слышал, что такие случаи бывали уже в разных местах в позапрошлом и прошлом году?.. Такие случаи, зейде, происходят все чаще, а от них у каждого истинного еврея сердце сжимается от боли и лицо горит от стыда!
— Откуда можешь ты знать все это? Откуда можешь ты все это так хорошо понимать? Я не верю тебе!
— Откуда я могу все это знать и понимать? 3ейде! Я воспитывался в твоем доме. А к тебе приходило и приезжало всегда много людей — евреев и христиан, купцов и панов, богатых и бедных… Они разговаривали с тобой о разных делах, а я слушал и понимал. Почему же мне и теперь не понять?
Саул снова замолчал. Самые противоположные чувства отражались на его сильно встревоженном лице. Вдруг гнев на внука вспыхнул в его глазах.
— Ты слишком много понимаешь! — воскликнул он. — Ты слишком любопытен! Душа твоя полна беспокойства и всюду разносит это беспокойство! Ты отравляешь покой моей старости! Я был сегодня счастлив, пока глаза мои не увидели тебя! Как только ты вошел, вместе с тобой вошло и огорчение.
Меир опустил голову.
— 3ейде, — сказал он грустно, — за что ты бранишь меня? Я не со своим делом пришел к тебе…
— А для чего тебе вмешиваться в чужие дела? — с колебанием в голосе произнес старик.
— Это не чужое дело! — уже живее возразил Меир. — Камионкер еврей… он наш… а зачем он своими скверными поступками портит душу Израиля и пятнает славу его перед светом? 3ейде, и для тебя это дело не чужое! Сын твой Абрам участвует в этом деле!
Саул вдруг поднялся с дивана и снова упал на него.
— Сын мой Абрам! — воскликнул он.
Потом быстрым, проницательным взглядом посмотрел в лицо Меиру.
— Ты не лжешь?
— Я видел и слышал… — прошептал Меир.
Саул погрузился в глубокое раздумье.
— Ну, — сказал он медленно, — ты имеешь право жаловаться мне на своего дядю! Он брат твоего отца, и его поступок может навлечь большие несчастия и большой позор на тебя и на весь род наш. В семье Эзофовичей таких пакостных вещей никогда не бывало, и я запрещу моему сыну принимать участие в этом деле.
— 3ейде! Скажи также Камионкеру и Кальману, чтобы они этого не делали!
— Ты глуп! — сказал Саул. — Разве Камионкер и Кальман мои сыновья или мужья моих дочерей? Они меня не послушают!
— Если они не послушают, — воскликнул Меир, — то ты, зейде, донеси на них помещику Камионскому… донеси на них в суд!
Саул поднял на внука вдруг загоревшиеся глаза.
— Твои советы глупы! — воскликнул он, вспылив. — Твое сердце напитано желчью и горечью против собственного народа! Что это! Ты хочешь из деда своего сделать доносчика! Ты хочешь, чтобы дед твой подверг опасности головы своих братьев евреев!
Саул хотел сказать еще что-то, но в эту минуту двери отворились, и в комнату вошло несколько евреев, приехавших из соседних мест на шибовскую ярмарку. Это были почтенные и состоятельные купцы или арендаторы ближайших имений. Саул слегка приподнялся, чтобы приветствовать их, но они быстро подошли к нему, стали пожимать ему руки и, осыпая его приветствиями, заявили, что целью их приезда в Шибов были не столько дела, которые они думают устроить в эти дни, сколько желание увидеться с мудрым и высоко почитаемым ими ребе Саулом. На любезности гостей реб Саул отвечал любезностями; величественным жестом он указал им на стулья, стоявшие вокруг стола, а сам, не покидая почетного места на желтом диване, хлопнул в ладоши. На этот сигнал пришла из соседней комнаты красивая служанка, которая внесла на серебряном подносе несколько стаканов чаю и поставила их перед гостами. С улыбками и поклонами они поблагодарили престарелого хозяина за радушный прием, с видимым удовольствием принялись за чай, сильный запах которого разошелся по комнате, и тотчас же завели оживленный разговор о своих торговых и семейных делах.
Увидев, что деду теперь не до него, Меир вышел и отправился в большую кухню, где было очень людно. Здесь также находились гости, только совсем не похожие на тех, которых угощал в приемной комнате глава дома.
На скамейках, стоявших у стен, сидело человек десять в бедных, поношенных одеждах, а дочь Саула, Сара, и невестка его, жена Рафаила, приветливо разговаривая с ними, угощали их чарками меда, большими белыми халами и дымившейся в мисках похлебкой. Сидевшие на скамейках люди беседовали весело с радушными хозяйками дома, а за предложенное угощение благодарили очень почтительно. Они принадлежали к числу беднейших окрестных мелких арендаторов, шинкарей, факторов и перекупщиков, занимающихся мелкой торговлей. Их темные лица, тощие тела и огрубевшие руки свидетельствовали о жизни, полной лишений, забот и тяжелой борьбы за существование. Самая мелкая монета, истраченная за пределами дома на пропитание, была бы для них значительным расходом и убытком. Поэтому, приезжая на ярмарку в Шибов, они прямо направлялись к дому Эзофовичей, двери которого всегда открывались перед ними широко и гостеприимно и в котором угощать их обильно и радушно было обычаем, существовавшим уже несколько сот лет.
Итак, две женщины в шелковых юбках, с золотыми кольцами и в цветастых чепцах, улыбаясь румяными губами, деятельно суетились между кухонной печью, в которой пылал яркий огонь, и открытыми окнами, у которых сидели на скамейках кроткие и благодарные гости. Но и за окнами еще виднелись многочисленные, сбившиеся в кучу головы и протягивающиеся руки. Там собрались самые бедные, прибывшие на ярмарку не для торговли или заработков, а для того, чтобы пробудить милосердие в сердцах более счастливых своих единоверцев. По лохмотьям, покрывавшим их тело, можно было угадать в них нищих, доведенных всякими превратностями судьбы до последней степени бедности и оказавшихся в числе тех, которых не в силах была охватить общественная и достаточно широко развитая в шибовской общине благотворительность. Этим людям служанки раздавали из окна хлеб, простоквашу и мелкую медную монету. Их шумные благодарности и благословения проникали в комнату и, видимо, приятно отзывались в сердцах двух хозяйничавших женщин, так как они улыбались все веселее и горделивее, а из глубоких карманов своих вынимали все новые пригоршни медных денег.
И в другой части кухни также разыгрывались оживленные и шумные сцены. Кучка детворы — десять мальчуганов и девочек самого различного возраста, в праздничных одеждах и с праздничными лакомствами в руках, собралась там возле стены. Те, кто были постарше, молча присматривались к прибывшим и все еще прибывавшим чужим людям и с любопытством слушали их разговоры; девочки, напротив, казалось, ничего не видели вокруг себя, — так сильно были они заняты цветными юбочками, надетыми на них, шнурками бус, украшавших их шеи, и длинными лентами, которыми были завязаны их светлые или черные косы. А самые маленькие дети ползали по земле, визгливо смеясь или пронзительно плача, и жадно поедали золотистые баранки или большие куски хлеба, намазанные толстым слоем блестевшего меда.
Тут же возле этой кучки пра— и праправнуков сидела на скамейке прабабушка Фрейда. Дни, подобные этому, своим шумом и толкотней чужих людей встряхивали дремлющий ум ее и будили в нем воспоминания далекого прошлого. В такие дни в памяти престарелой женщины мелькали образы ее собственного прошлого, образы тех дней, когда она, став счастливой женой своего горячо любимого Герша, сочла своими все традиции и обычаи его дома и для поддержания их во всем блеске прилагала все силы своего сердца и ума. Вот почему и сегодня ее золотистые глаза смотрели вокруг сознательнее, чем обычно, а на едва заметных губах расцветала улыбка полного довольства. Внучки разбудили ее раньше, чем всегда, подняли с постели, надели на нее самое дорогое платье, а теперь довершали ее туалет, прежде чем ввести ее в приемную комнату, где она должна была занять свое обычное место у окна, в самом щегольском кресле дома. Черноокая Лийка укрепляла на голове прабабушки повязку с алмазной звездой; одна из младших сестер ее вдевала прабабке в уши исполинские серьги с бриллиантами; другая обвивала ее морщинистую шею нитками жемчуга и укладывала на груди ее тяжелую золотую цепочку так, чтобы она производила как можно лучшее впечатление на снежной белизне фартука. И при этом молодые девушки улыбались, слегка отклоняли головы, чтобы лучше видеть свою работу, иногда шаловливо заглядывали в золотистые глаза прабабушки или звонко целовали ее в морщинистый лоб. Арендаторы, шинкари, бедные торговцы поглядывали на эту группу и качали головами, удивляясь глубокой старости прабабушки Фрейды, богатству ее украшений и той любви, которая ее окружала; они причмокивали губами, у них вырывались слова восхищения, а глаза сияли уважением и восторгом.
Зато в другой части дома, в той, где четверть часа тому назад раздавались оживленные и веселые разговоры взрослых членов семьи, было теперь пусто и совершенно тихо.
Меир прошел узкий коридор и, отворив двери, ведущие в помещение его дяди Рафаила, встретился на пороге с бегущим оттуда двоюродным братом и приятелем своим Хаимом. Еще почти детское лицо Хаима, оттененное кудрявыми золотистыми волосами, было необычайно оживлено и сияло от удовольствия.
— Где дядя Рафаил? — быстро спросил его Меир.
— Где же ему быть? — с невероятной поспешностью ответил парнишка. — Пошел с Бером на рынок волов покупать!
— А ты, Хаим, куда идешь?
Мальчик даже не расслышал этого вопроса. Нетерпеливо оттолкнув брата и надев на голову шапку, он выбежал из дому, весело напевая. Шум и движение этого дня развеселили и его, а толкотня на городском рынке и торговая сутолока казались ему очень заманчивыми.
Меир вышел на крыльцо и окинул взором обширную площадь. Ярмарка едва только еще начиналась, но возле нескольких десятков возов, расположившихся на самой середине площади, он увидел Бера, уже горячо торговавшегося с кучкой крестьян, у которых он покупал несколько рослых волов, привязанных к телегам. Рафаила Меир также увидел. Он стоял на крыльце одного из домов, окружавших рынок, вместе с несколькими почтенными купцами, прибывшими из окрестных мест, и вел с ними оживленный разговор, о содержании которого можно было догадаться по быстрым жестам их рук, они как будто считали по пальцам предполагаемые на этот день траты и барыши.
Подходить к этим двум лицам, самым значительным в семье после Саула, и пробовать завязать с ними разговор, не имеющий непосредственного отношения к делам сегодняшнего дня, было бы совершенно бесполезно. Меир понимал это и не делал напрасных попыток. Весь мир, окружавший его сегодня, такой пестрый и шумный, мелькал перед ним точно во мгле. Удивительным казалось ему, что среди стольких людей никто не думал о том, о чем он не мог перестать думать, если бы даже и хотел.
«Что мне до того?» — говорил он себе мысленно. — «Что могу я сделать?» — прибавлял он и мутным взором смотрел вокруг себя. Если бы кто-нибудь взглянул тогда на Меира, то подумал бы, что он скучает или очень утомлен. А между тем в глубине его души бурлило и кипело. Он не отдавал себе отчета в своих переживаниях, но чувствовал, что молча ждать того времени, когда все в местечке успокоится и утихнет, а за местечком блеснет в небе красное зарево пожара, было для него невозможно.
«В чем провинился перед нами этот человек?» — говорил он себе.
Он думал о помещике Камионском.
Неуверенный, сомневающийся взор Меира, блуждая по рынку, упал на крыльцо, украшавшее дом купца Витебского. На этом крыльце стоял владелец дома в расходящемся спереди недлинном сюртуке с блестящей цепочкой на атласной жилетке. Куря сигару, он поглядывал на начинавшееся среди площади торговое движение со спокойным видом человека, который в движении этом никакого участия принимать не намеревается. И действительно, торгуя преимущественно лесом, который он скупал в огромных количествах у собственников нескольких уездов, Витебский не мог иметь никаких дел на шибовской ярмарке. К тому же он был слишком изысканным человеком, был слишком убежден в значительности тех дел, которые велись им, чтобы вмешиваться в эту пеструю толпу, занятую розничной продажей хлеба и скота.
Меир сбежал по ступенькам крыльца и быстро направился к Витебскому, который, увидев его, любезно улыбнулся и протянул ему руку, широко растопырив пальцы.
— Ай-ай! — воскликнул богатый купец, — редкий гость! милый гость! Ну, я знаю, что ты до сих пор не мог придти сюда, чтобы отдать поклон родителям своей невесты! Строгий зейде приказал тебе сидеть в бет-га-мидраше и читать Талмуд! Ну, это ничего не значит! 3ейде добрый, хороший старичок! Он не от злого сердца наказал тебя, и ты согрешил не от злого сердца! Ну, конечно, молод… подурачился немного… Ну, иди к нам в гостиную, а я сейчас скажу своей жене, чтобы она пришла и приняла тебя как дорогого зятя!
При этом светский купец весело улыбался, дружелюбно поглядывая на своего будущего зятя, и, держа его за руку, повел за собой в гостиную. Там, остановившись перед зеленым репсовым диваном, он шутливо посмотрел ему в глаза и прибавил:
— То, что ты, Меир, скромен и стыдишься своей невесты, это хорошо! Я это люблю! Я сам был такой, и все наши юноши должны быть такими! Но моя дочь образованная и жила в большом свете, где обычаи другие. Она очень удивляется и плачет, что не знает своего жениха, в то время как через месяц уже должна быть свадьба. Ну, я пойду приведу ее сюда! Окна закроем, чтобы никто не увидел, что вы здесь вместе. Поговорите, друг с другом немного… познакомьтесь…
Говоря это, он хотел уйти, но Меир придержал его за рукав сюртука.
— Ребе! — сказал юноша. — У меня теперь в голове не невеста и не свадьба! Я пришел к тебе по совершенно другому делу!
Витебский проницательно посмотрел в серьезное и побледневшее лицо молодого человека и несколько омрачился.
— Не со своим делом я пришел к тебе, ребе… — продолжал Меир, но Витебский перебил его:
— Если это не твое и не мое дело, то зачем нам говорить о нем?
— Бывают на свете такие дела, — возразил юноша, — которые всех касаются и о которых все должны говорить и думать.
Этим Меир, наверное, имел в виду то, что на культурном языке носит название общественных дел. Названия этого он не знал, но глубоко и горячо чувствовал то, что оно выражает.
— Я узнал сегодня об одной страшной тайне…
Витебский вскочил с кресла, в которое он, было, уселся минуту назад.
— Ни о какой страшной тайне я не желаю знать! — воскликнул он. — С какой стати ты хочешь говорить мне о ней? Я не любопытен!
— Я хочу, ребе, чтобы ты воспрепятствовал…
— А зачем мне препятствовать? Зачем ты пришел ко мне с такими разговорами?
— Потому, ребе, что ты богат, умеешь красиво говорить и живешь в согласии с целым светом, даже с самим великим раввином, который улыбается, как только видит тебя. Твое слово может многое сделать, и если бы ты хотел…
— Я не хочу! — решительным голосом перебил его Витебский, нахмурив лоб. — Я богат и живу со всеми в мире, это правда; но я кое-что скажу тебе, Меир…
Тут он понизил голос и прибавил:
— Если бы я вмешивался в тайны людей и являлся препятствием для чужих дел, я не был бы богат, не жил бы со всеми в согласии, и мне не было бы так хорошо на свете, как теперь.
— Ребе! — подумав немного, — сказал Меир, — мне очень приятно слышать, что тебе хорошо живется на свете; но я бы не хотел, чтобы мне было хорошо благодаря обидам, которые наносятся другим.
— Ну! А кто же говорит об обидах? — улыбаясь, сказал Эли. — Я никогда никого не обижаю; я торгую честно, и все, с кем я веду торговлю, довольны мною и относятся ко мне дружелюбно. Я, слава богу, всем людям могу смело смотреть в глаза, и на имуществе, которое я собираю для моих детей, нет ни чужих слез, ни чужих несчастий.
Меир с уважением склонил голову перед говорящим.
— Я знаю, ребе, что это так, как ты говоришь. Ты честно ведешь свои дела и своею честностью и тем умом, что тебе дал Предвечный, приносишь честь дому Израиля. Но мне кажется, что когда человек сам честен, то он не должен смотреть равнодушно на чужую подлость; ведь если он может воспрепятствовать гадкому поступку и не препятствует, то это все равно, что он сам совершит его. Я узнал, что один из наших братьев-евреев собирается нанести великую обиду невинному человеку. Сам я ничего не могу сделать, но ищу таких людей, которые могли бы спасти невинного от несчастья.
Туг самым неожиданным образом Меира прервал громкий и веселый смех Витебского, который встал с кресла и шутливо похлопал своего гостя по плечу.
— Ну-ну! — сказал он. — Я уже вижу, что у тебя, Меир, горячая голова! Ты хочешь переложить какую-то заботу со своей головы на мою. Ну, я очень тебе благодарен за этот подарок, но не возьму его от тебя! Чего ради мы будем отравлять себе жизнь, когда сегодняшний день может быть для нас очень веселым? Вот садись-ка на это кресло, а я пойду и приведу тебе твою невесту. Ты не слышал еще ее игры!.. Ай-ай! Как она играет! Сегодня не шабаш, и она может поиграть немного, а ты послушай…
Он произнес эти слова с оживлением, шутливым тоном и плутовским выражением в глазах и хотел уже уйти, но Меир опять удержал его за рукав одежды.
— Ребе! — воскликнул он, — выслушай ты меня, по крайней мере…
У Витебского в глазах блеснуло легкое нетерпение. Однако, смеясь, он ответил:
— Ай-ай! Меир! Какой ты своевольный! Ты хочешь людей, которые старше тебя, силой заставить делать то, чего они не хотят. Ну, да я тебе прощаю это и иду позвать сюда твою невесту.
Говоря это, он опять направился к двери, но Меир еще раз преградил ему дорогу.
— Ребе! — воскликнул он, — я не пущу тебя, пока ты меня не выслушаешь! К кому же мне еще обратиться? Все заняты сегодня гостями, своими делами, ты один, ребе, ничего не делаешь и свободен…
Меир замолчал. Витебский перестал улыбаться и, с тенью неудовольствия на обычно ясном лице, торжественным жестом положил ему на плечо руку.
— Слушай, Меир, — сказал он, — вот что я тебе скажу. Ты вступил на нехорошую дорогу. Все громко говорят об этом, и есть даже люди, которые очень сердятся на тебя; но я отношусь к тебе снисходительно, отношусь снисходительно потому, что сам не всегда так думаю, как все, и знаю, что кое-что у нас, евреев, должно быть иным, чем есть. Ну! Я так думаю, но я никогда не говорю об этом и ничем этого не проявляю! Зачем мне говорить? Что я могу сделать? Если сам бог приказал так, то я, сопротивляясь ему, восстановил бы его против себя; а если это людские выдумки и ошибки, то и без меня придут такие люди, которые исправят их. Мое дело знать себя, свою семью и свои дела. Разве я судья? Я не раввин! И вот я молчу себе, угождаю господу богу и людям; никому не становлюсь поперек дороги. Вот как я делаю и хотел бы, чтобы и ты, Меир, поступал также. Я бы и тебе не стал давать советы и предоставил бы тебе жить, как хочешь; но раз ты собираешься стать мужем моей дочери, то я уже должен присматривать за тобой.
— Ребе! — прервал его Меир, у которого в загоревшихся глазах заблестели слезы раздражения. — Не сердись на меня за дерзкое слово, которое я тебе скажу. Я твоей дочери себе в жены не возьму и ее мужем никогда не буду!
Витебский остолбенел от изумления.
— Ну! — воскликнул он через минуту, — это еще что за новости? Разве твой дед не уговорился со мной относительно моей Меры, разве он не прислал для нее от твоего имени обручальных подарков?
— Мой дед уговорился с тобой, — дрожащим голосом ответил Меир, — но он сделал это против моей воли.
— Ну, — воскликнул Витебский, уже в величайшем изумлении. — Почему же? Что ты имеешь против моей дочери?
— Я, ребе, против нее ничего не имею, но не лежит к ней мое сердце. И она тоже, ребе, не хочет меня… Проходя около ваших окон, я слышал раз, как она плакала и жаловалась, что ее хотят выдать за простого, темного еврея. Ну, это правда! Я простой, необразованный еврей… Но ее образование мне тоже не по вкусу… Зачем на нас накладывать цепи?.. Мы уже не дети и знаем, чего хочет наша душа и чего не хочет…
Витебский продолжал смотреть на говорящего застывшими от изумления глазами. Он поднес обе руки к голове и воскликнул:
— Хорошо ли слышали мои уши?! Хорошо ли понял мой разум твои слова?! Ты не хочешь моей дочери?! Ты не хочешь моей красивой и образованной Меры?!
Румянец выступил у него на лице. Приветливый и дипломатичный светский человек превратился в оскорбленного и разгневанного отца. В ту же минуту возле разговаривающих с шумом отворились двери, ведущие во внутренние комнаты жилища, и на пороге с пылающим лицом и сверкающими глазами появилась пани Гана. По-видимому, она только что кончала свой туалет, но не успела еще окончить его: на ней не было обычного шелкового платья, а только короткая красная юбка и просторная серая кофта. Спереди парик был уже старательно завит и причесан, но сзади висела еще незаплетенная и только завязанная шнурком у головы прядь волос. Гана остановилась на пороге и крикнула:
— Я все слышала!
Дальше она не могла говорить, — так сильно было ее возбуждение. Грудь ее быстро дышала, глаза сверкали. Наконец она подскочила к Меиру, широко расставив руки, и крикнула:
— Что это? Ты моей дочери не хочешь? Ты, простой, темный еврей из Шибова! Ты не хочешь взять себе в жены такой красивой панны, с таким большим образованием! Пфуй! Глупец! Мишугенер, развратник!
Витебский пробовал обуздать порыв своей жены, придерживая ее за локоть и шикая ей в самое ухо:
— Ша, Гана, ша!
Но все изысканные манеры, все заботы о своем благопристойном внешнем виде совершенно покинули в эту минуту пани Гану. Она продолжала метаться перед Меиром, угрожала ему сжатыми кулаками почти у самого лица и кричала:
— Ты Меры не хочешь? Ты дочери моей не хочешь? Ай-ай, какая беда! Мы умрем от огорчения! Она не найдет уже себе мужа и все глаза выплачет по тебе! Ой, ой! Вот так беда, что глупый, темный шибовский еврей не хочет взять ее в жены! Я повезу ее в Вильну и выдам за генерала, за графа, за самого князя! Пфуй! Что ты о себе думаешь? Если твой дед, Саул, богатый купец, и если ты сам по отцу имеешь большое состояние, то ты уж и большой пуриц, и тебе все можно! Я скажу твоему деду и всей твоей семье, что мы о вас думаем, как о старых туфлях!
Эли старательно закрыл окна и двери, а пани Гана подскочила к комоду из ясеневого дерева, стоявшему возле фортепиано, выдвинула ящик и начала доставать из него различные футляры с драгоценностями.
— На! — крикнула она, бросая футляры на пол, — на! Бери назад свои подарки! Отнеси их той караимской девчонке, с которой ты снюхался. Она будет для тебя самой подходящей женой!
— Ша! — уже с отчаянием зашикал на жену Витебский и стал подымать с полу футляры с драгоценностями. Но их вырвала у него из рук пани Гана.
— Я сама отнесу это его деду и расстрою обручение, — сказала она.
— Гана! — уговаривал ее муж, — ты глупостей наделаешь там. Я сам пойду и поговорю с Саулом.
Но пани Гана даже не слышала слов своего мужа.
— Пфуй! — кричала она, — этот глупец, этот сумасшедший, этот развратник не хочет моей дочери! Для него караимская девчонка лучше моей дочери! Ну! Так и, слава богу, что мы избавимся от него! Я повезу Меру в Вильну и выдам ее за большого барона!
* * *
Было уже около полудня, когда Меир покинул дом Витебских, сопровождаемый бранью и издевательствами пани Ганы, упреками и примирительными словами Эли.
На рынке торговля была уже в полном разгаре; все обширное пространство было покрыто возами, людьми, конями и скотом так тесно, что даже и яблоку негде было бы упасть в этой густой, пестрой, разноголосой толпе. Однако в одной стороне рынка был все же уголок, где сутолока была несколько поменьше. Там подымалась довольно высокая стена какого-то плохо выбеленного здания, а у этой беловатой стены сидел на земле сгорбленный старик в серой изорванной одежде, с толстым красным платком, обмотанным вокруг шеи. Ноги его в изношенной и запыленной обуви были почти целиком прикрыты нагроможденными вокруг него в значительном количестве корзинами и кузовками, сплетенными из лоз, соломенными лукошками и тому подобными произведениями корзиночного искусства.
Это был Абель Караим.
Хотя день был летний и солнечный, голова его была прикрыта большой шапкой из лисьего меха, желтого и пушистого; из-под нее на спину и на плечи спускались густые пряди белых волос, а длинная желтоватая борода широким веером покрывала ему грудь. Лучи солнца падали на круглое маленькое лицо его, едва заметное под обильной растительностью; мех лисьей шапки спускался ему на морщинистый лоб, но не охранял глаз от ослепительного блеска солнца, и поэтому опухшие красные веки его почти совсем прикрывали глаза.
Рядом со старым Абелем стояла Голда, высокая, прямая, серьезная, как всегда, со своим коралловым ожерельем, низко спускавшимся на серую сорочку, и с черной, как вороново крыло, косой, извивавшейся по всей спине.
В нескольких шагах от них стояли ряды возов, нагруженных хлебом, дровами и самыми различными предметами мелкого сельского производства; среди возов мычали волы, коровы и телята, ржали лошади, сновали мелкие факторы и барышники, торгуясь крикливо, и продавали свои товары широкоплечие крестьяне, локтями расталкивая около себя толпу. В этой толпе ничего нельзя было разобрать, кроме громко выкрикиваемых цифр, ожесточенного торга, грубого смеха, возбужденных споров, визгливого плача детей и пронзительных криков женщин. А ко всему этому гаму примешивался хриплый старческий голос Абеля, неутомимо рассказывавшего еврейские предания. Кипевшая вокруг него суматоха, видно, не пугала его, а, наоборот, воодушевляла; чем шумнее она становилась, тем больше он напрягал и возвышал свой голос, и слова его, хотя и произносимые дрожащим голосом, отчетливо выделялись среди гама и крика возбужденных ярмарочной сутолокой людей.
— «А когда Моисей сошел с горы Синая, — говорил или громко, нараспев, выкрикивал старческим дрожащим голосом Абель, — от его лица шел такой свет, что народ пал ниц и как один человек воскликнул: „Моисей! Повтори нам слова Предвечного!“ И водворилась тогда на небе и на земле великая тишина; громы умолкли, молнии погасли, и вихри прилегли к земле. Моисей призвал к себе семьдесят израильских старцев, а когда они окружили его, как звезды окружают месяц, он начал повторять народу слова Предвечного!.»
В эту минуту от шумной толпы отделились два человека, почтенные с виду, но одетые довольно бедно, и пошли мимо рассказывающего Абеля. Они, видимо, торопились, но, услышав произнесенное имя Моисея, остановились и посмотрели на Абеля.
— Он опять рассказывает! — сказал один.
— Он всегда рассказывает! — прибавил другой.
Они улыбнулись, но не ушли. Тогда возле них остановилась какая-то женщина и несколько подростков. Женщина постояла и прислушалась с внимательным видом к словам старика, а потом, наконец, спросила:
— Что это он рассказывает?
— Историю и завет еврейского народа, — спокойно ответила Голда.
Подростки пооткрывали рты, женщина ближе придвинула голову к Абелю, взрослые мужчины улыбались, но продолжали стоять и слушать. Абель говорил дальше:
— «Когда народ услышал повеления господа, то воскликнул в один голос: „Мы будем их исполнять!“ Тогда Моисей поставил у горы Синая двенадцать камней, написал на них повеления господа, а народу сказал: „Все израильские колена, старики, юноши, женщины и дети, каждый человек из дома Израиля, и чужеземец, находящийся среди вас, и тот, кто рубит деревья, и тот, кто таскает воду, приходите все заключить союз с Иеговой, и пусть каждый поклянется исполнять повеления его, как он поклялся сдержать данные вам обещания!“».
— Ну! — отозвался среди окружающих какой-то голос, — он рассказывает чудесные истории.
— «И тот, кто рубит дрова, и тот, кто таскает воду…» — повторил какой-то человек в нищенской одежде, при этом вздохнул и поднял глаза к светлым облакам.
Женщина, наклонившая к Абелю голову и внимательно слушавшая его слова, достала из кармана линючей юбки грязный платок и, развязав узелок на одном из концов его, бросила на колени Абеля большую медную монету.
Позади этих людей теперь стояло уже много других. В двух-трех шагах от этой неподвижной кучки яростно торговались, ссорились и кричали жадные до наживы и прибыли евреи и христиане, женщины, мужчины и дети-подростки. А здесь, у беловатой стены высокой ограды, несколько человек, стоявших поодиночке и отделившихся от шумящей толпы, молчаливо и сосредоточенно, с улыбками на лицах и. вздыхая, невольно переносились в иной духовный мир, среди которого мелькали образы и раздавались голоса древнего, величественного, святого прошлого. Казалось, что Абель чувствовал это обращенное на него внимание окружающей его кучки людей и что все эти глаза, устремленные на его лицо, воспламеняли его сердце и оживляли его воспоминания. Из-под красных век щурящиеся глаза его заблестели серебристым светом, с морщинистого лба сдвинулась пушистая лисья шапка, а когда он поднял голову, желтоватые пряди его длинной бороды раздвинулись еще шире и легли ему на плечи. Он выглядел теперь как старый полуслепой певец, который радует и облагораживает своими песнями душу народа. Певучим, протяжным и более громким, чем обыкновенно, голосом он заговорил снова:
— «Когда израильтяне перешли Иордан, Иисус Навин положил на то место два больших камня и написал на них десять заповедей Иеговы. Одна половина народа остановилась у горы Геризим, а другая у горы Гебаль, но все услышали сильные голоса, которые взывали так, чтобы каждый человек из дома Израиля мог их услышать ухом своим: „Нарушит союз свой с господом тот, кто поклонится ложным богам, и кто не будет чтить отца своего и матери своей! Нарушит союз свой с господом тот, кто пожелает чужого имущества или введет слепого на ложный путь! Нарушит союз свой с господом тот, кто обидит чужеземца, сироту и вдову, кто вложит обман в ухо ближнего своего, а о невинном скажет: „Пусть умрет!“ А когда сильные голоса вложили в уши израильтян эти слова, весь народ ответил, словно все рты у них были одним ртом и все голоса одним голосом: „Да будет так!““».
— Да будет так! — зашептало вокруг Абеля несколько человек, которые только четверть часа тому назад, захваченные вихрем ежедневных потребностей и забот, неистово боролись из-за каждого гроша убытка или выгоды.
Сквозь собравшуюся кучку людей протолкалась теперь крестьянка. Она подняла с земли одну из корзинок, нагроможденных возле Абеля, и спросила о цене ее. Голда ответила ей своим обычным спокойным голосом. Крестьянка начала торговаться, но в другой раз Голда уже не ответила ей не потому, что не хотела отвечать, а потому, что не слышала даже ее слов, произнесенных довольно грубым и крикливым голосом. Взор девушки был в эту минуту устремлен в одну точку на площади; огненный румянец залил ей все лицо и лоб, а на сжатых губах расцвела почти детская, но вместе с тем и страстная улыбка. В нескольких десятках шагов от того места, где находились Абель и его внучка, в толпе показался Меир и быстро направился в их сторону по сравнительно более свободной части площади. Но он не видел их, глядя прямо перед собой полными беспокойства и торопливости глазами. Он прошел мимо Абеля и Голды, даже не заметив их, и вошел в ворота, ведущие на двор синагоги.
Пройти через двор синагоги в этот день было немногим легче, нежели через торговую площадь.
Меир направился к черному домику раввина Тодроса, куда стремились и толпы людей различного возраста и вида. Чем ближе к домику, тем больше становилась теснота и давка, но среди этой давки разговоры слышались все реже, были тише, и люди ступали все осторожнее. Не было здесь, как на торговой площади, криков, ссор, смеха, толкотни; не было страстно разгоряченных лиц и глаз, сверкавших жаждой наживы, или порывистых и грубых жестов. Густая толпа валила к низкой мазанке в торжественном молчании, прерываемом только кое-где робким шопотом.
Меир знал, куда и зачем стремилась эта толпа и из каких элементов она состояла. Постоянных жителей Шибова здесь совершенно не было или было очень мало; живя в непосредственной близости от раввина, им не нужно было ждать особенных дней, чтобы пользоваться его советами и поучениями и наслаждаться самим видом его. Толпа, наполнявшая теперь двор синагоги, состояла из более или менее близких соседей Шибова. Здесь были и некоторые зажиточные купцы и люди в одеждах, указывавших на достаток и на более высокий уровень общественного положения, но таких было очень немного. Огромное большинство составляли бедняки, одетые в убогие и потертые платья, с бледными, страдальческими и терпеливыми лицами, отмеченными печатью тяжелой борьбы за существование. Это была настоящая мозаика лиц, людей разных возрастов — женщин и мужчин.
Подойдя поближе к хате раввина, Меир остановился на минуту.
— Зачем я пойду туда? — сказал он самому себе. — Он ведь не захочет теперь, и слушать меня! Ну, — тотчас же добавил: — а к кому мне идти?
После минутного размышления он снова смешался с толпой и вскоре очутился у открытых настежь дверей черной мазанки.
За раскрытыми дверями, в тесных темноватых сенцах была настоящая стена из человеческих спин, и царствовало самое глубокое молчание, прерываемое только тяжелым дыханием нескольких десятков грудей. Меир старался проложить себе дорогу сквозь эту стену, и это удавалось ему тем легче, что большая часть людей, толпившихся в сенях, состояла из бедных и робких людей, так гостеприимно принятых несколько часов тому назад в богатой кухне Эзофовичей. Заметив члена семьи, под кровлей которого они часто находили охотно оказываемое им гостеприимство, все расступались, чтобы облегчить ему возможность пройти дальше. Но делали это торопливо и очень рассеянно, так как взоры их были устремлены в глубину комнаты, соседней с сенями. Чтобы увидеть и услышать, что делалось в глубине комнаты, они подымались на цыпочки, вытягивали шеи и широко открывали глаза, сияющие, удивленные, любопытные, возбужденные и вместе с тем тревожные. Каждый раз, когда до их слуха доносился какой-нибудь отрывок из происходящего там разговора, на их губах, бледных и увядших от горя, болезней и труда, расцветали улыбки невыразимого блаженства, будто, слова и даже самый звук голоса обожаемого мудреца был благовонным елеем, исцеляющим раны их жизни.
Комната, в открытых дверях которой стоял теперь Меир, имела довольно странный вид. В глубине ее на скамейке, поставленной между стеной и столом, сидел Исаак Тодрос, в одежде и в наружности которого не было ничего праздничного. На нем была та же самая, как и всегда, длинная одежда, выцветшая и изорванная, а голову его покрывала порыжевшая шапка, сдвинутая на затылок таким образом, что измятый козырек ее торчал над желтым лбом, обрамленным массой густых черных, только слегка седеющих волос. Сгорбленный, как всегда, подавшись верхней половиной туловища вперед, он сидел в полной неподвижности и только своими черными глазами водил по лицам и фигурам десятка человеческих существ, жавшихся у противоположной стены и подымавших к нему благоговейные, испуганные, умоляющие взоры.
Между худощавым, сгорбленным, неподвижным мудрецом, сидевшим на скамейке, и десятком лиц, допущенных уже пред лицо его, находилось пространство в несколько шагов, переступить которое без определенного приглашения никто бы не посмел. В комнатке перекрещивались две полосы света. Одна, голубоватая от ясного неба и золотистая от солнца, проникала туда через открытое окно; другая — яркая, ослепительная, дымная, вырывалась из камина, в котором горели широко разложенные дрова.
У камина на полу, покрытом толстым слоем грязи, сидел неотступный ученик и слуга раввина — меламед над меламедами, благочестивый и мудрый реб Моше. В грубой рубахе, опоясанный веревкой, он сидел на голых пятках и, подкладывая все время, дрова в огонь, пригоршнями сыпал в воду, кипевшую в нескольких горшочках, какие-то сухие травы. Занятый этой, по-видимому, аптекарской работой, он в то же время выполнял и обязанности курьера. Из толпы, находившейся в комнате и сенях, он вызывал тех, которым, по его мнению, приходил черед приблизиться к учителю.
Теперь он вытянул свой толстый черный палец по направлению к прижавшимся у стены людям и хриплым голосом позвал:
— Шимшель, арендатор!
Вызванный, который носил переиначенное и исковерканное имя Самсона, внешностью нисколько не напоминал своего тезку, поэтичного героя и могучего атлета из Библии. Маленький, сухощавый, огненно-рыжий, он выдвинулся из толпы и, остановившись посреди комнаты, наклонил бледное веснушчатое лицо свое почти до самой земли.
— Приветствующий мудреца приветствует величие Предвечного! — воскликнул Шимшель боязливым и дрожащим голосом. Впрочем, дрожал не только голос его, но и плечи и руки, а когда он слегка поднял лицо, голубые глаза его забегали по комнате с тревогой и растерянностью, близкой к помешательству.
Исаак Тодрос сидел, как окаменелый. Только глаза его впились в перепуганное лицо стоявшего перед ним рыжего человека. Подождав немного и видя, что человек этот от страха не в силах заговорить, мудрец испустил носо-горловой звук и протяжно воскликнул:
— Ну!
Шимшель поднял плечи и, втянув между ними голову, начал говорить:
— Насси! Пусть твое сияние осветит мою темноту! Равви! Я совершил большой грех, и сердце мое дрожит от страха, но языку моему приходится рассказывать тебе об этом грехе! Насси! Я несчастный человек… жена моя, Ривка, навеки погубила мою душу, и разве только ты, равви, научишь меня, как мне очистить ее теперь от этого большого греха!
Тут смиренно кающийся заикнулся и, только переждав немного, собрался с новыми силами и мужеством.
— Насси! Я и жена моя, Ривка, и дети наши сели в прошлую пятницу за стол, чтобы отпраздновать шабаш. На одном столе у нас стояла миска с мясом, на другом столе горшок с молоком, который жена моя, Ривка, приготовила для наших младших детей. Моя жена, Ривка, черпала молоко из горшка и ложкой наливала его самым младшим детям в миски. А когда она это делала, у нее дрогнула рука, и капля молока с ложки упала на то мясо, что было в миске… Айвей! Глупая женщина! Что она сделала! Она осквернила мясо и сделала его нечистым…
Боязливый Самсон опять запнулся, а мудрец, не шелохнувшись, не моргнув глазом, спросил:
— Ну, а что ты сделал с мясом?
Спрошенный опять низко опустил голову и, не изменяя этого положения, продолжал:
— Равви! Я ел его и жена моя и дети мои ели его!
На этот раз из пламенных глаз Тодроса посыпались искры.
— А почему ты не выбросил в сор эту гадость? — крикнул он. — Почему ты мерзостью этой осквернил свои уста и уста своих детей?
После минутного молчания покорный, дрожащий, словно стелящийся по земле голос ответил:
— Насси! Я очень беден, держу в аренде плохонькую корчму и очень мало зарабатываю. А у меня, насси, шестеро детей и старый отец, который живет со мной, и двое внуков-сирот, у которых нет ни отца, ни матери! Равви! Мне очень трудно прокормить себя и свою семью, и мы только раз в неделю, в святой вечер шабаша, едим мясо! Кошерное мясо дорого… Я покупаю его каждую пятницу три фунта, и этими тремя фунтами питаются и подкрепляют свои силы одиннадцать душ! Равви! Я знал, что целую неделю нам ничего не придется класть в рот, кроме хлеба, лука и огурцов… и я пожалел это мясо и, хотя на нем была капля молока, ел его и позволил его есть семье моей…
Так жаловался и вместе с тем обвинял себя несчастный Самсон, а мудрец слушал его с пасмурным и грозным лицом.
Потом он начал говорить. Говорил с гневом и возмущением, не изменяя своей неподвижной и напряженной позы, только вытянул шею к испуганному и уничтоженному Шимшелю и все больше впивался в него огненным и грозным взглядом. Толковал ему долго, пространно и подробно, как возникало запрещение мешать мясную пищу с молочной, что писали об этом запрещении разные великие тонаиты и раввины, и как понимались, объяснялись и комментировались их писания позднейшими бесчисленными последователями их, и какой великий преступник человек, осмелившийся, вопреки этому запрещению, вкладывать в уста свои кусок мяса, на которое упала капля молока.
— Грех твой очень велик перед лицом господа! — загремел, наконец, учитель, обращаясь к кающемуся, все еще продолжавшему стоять в смиреной позе. — Ты ради чревоугодия нарушил союз, который Иегова заключил с избранным народом своим, переступил одну из шестисот тринадцати заповедей, исполнять которые обязан каждый правоверный еврей, и заслужил, чтобы на тебя упало такое же проклятие, каким Елисей проклял преследовавших его мальчишек и каким Иисус Навин проклял город Иерихон! Но за то, что только тело твое согрешило, а душа осталась верующей в святость запрещения есть мясо с молоком, и за то, что ты с великой скорбью пришел ко мне и покаялся передо мной, я прощаю тебе этот огромный грех и только приказываю, чтобы ты и жена твоя и дети твои целый месяц не питали своего тела ни мясом, ни молоком, а те деньги, которые вы тратите на мясо и на молоко, раздали бедным. А когда пройдет месяц, ваши души очистятся от большой мерзости, которая осела на них, и вы будете жить в мире и благочестии вместе со всеми братьями евреями. Взывайте: да будет так!
— Да будет так! — зазвучали хором голоса тех, которые находились в комнате, и тех, которые наполняли сени, и тех еще, которые, толпясь возле мазанки, жадными глазами заглядывали в глубь ее через открытое окно.
Маленький рыжий Самсон, освобожденный от тяжести, так страшно угнетавшей его совесть, хотя, с другой стороны, и обремененный месячным постом, который должен был до последней степени обострить и без того уже никогда не прекращавшийся у него пост, вышел из комнатки со слезами умиления на глазах, с благодарным шопотом на губах и исчез в толпе, наполнявшей сенцы.
Тогда реб Моше снова вытянул указательный палец по направлению к людям, стоявшим у стены, и воскликнул:
— Реб Гершон, меламед!
На этот зов из толпы выступил коренастый, сгорбленный человек с черными всклокоченными волосами на большой, склоненной вниз голове и с нахмуренным, задумчивым лицом. Это был меламед, как и реб Моше, духовный руководитель еврейской детворы, живший и преподававший в местечке, находившемся поблизости от Шибова. Он остановился посреди комнаты с толстой раскрытой книгой в обеих руках и, произнеся обычное приветствие мудрецу, заговорил так:
— Равви! Душа моя два дня тому назад очутилась в большом затруднении. Ученики мои прочли в святой книге, что вечерние шемы повелено произносить до конца первой стражи. — «Ну, а что такое первая стража? — спросили меня мои ученики. — Кто, перед кем и где держит эту стражу?» — Когда они меня так спросили, уста мои онемели. А почему они онемели? Потому что я не знал, что ответить ученикам. Я пришел к тебе, равви, чтобы на темный мой разум упал луч твоей мудрости. Скажи мне, равви, что это за стражи, по которым всякий еврей должен измерять продолжительность своих молений? Где и перед кем они поставлены и что мне сказать об этом моим ученикам?
Мрачный сгорбленный человек замолчал, а все собравшиеся с необыкновенным любопытством устремили взоры на мудреца, ожидая ответа. Ответ этот не заставил себя долго ждать. Не изменяя своей позы, с наклоненным вперед туловищем, Исаак Тодрос заговорил:
— А какие же это могут быть стражи, о которых ты меня спрашиваешь? Это ангельские стражи. А где ангелы держат эти стражи? Они держат их в небе. А перед кем они их держат? Держат их перед троном Предвечного. Когда день кончается, и наступают сумерки, ангелы разделяются на три больших хора. Первый хор становится у трона Предвечного и держит перед ним стражу до полуночи, и это время назначено для произнесения вечерних молитв. Другой хор приходит в полночь и держит стражу до рассвета; а на рассвете, когда можно уже отличить белый цвет от бледно-голубого, приходит третий хор и держит стражу перед троном Предвечного. Это время назначено для утренних молитв.
Мудрец умолк. В толпе раздались тихие причмокивания и шопот, выражавшие удивление и восторг. Гершон меламед, однако, не тронулся еще с места. Устремив взор в тяжелую раскрытую книгу, он снова отозвался:
— Равви! Брось на темный разум мой еще один луч своей мудрости и рассей сомнения, охватившие душу мою… Недалеко от местечка, где я живу, находится двор одного богатого пана. В этот двор ходят иногда некоторые из моих учеников и слышат там разные новости. Однажды один из моих учеников, вернувшись оттуда, рассказал, как объясняли там, откуда происходит гром. Там говорили, что гром вылетает из неба тогда, когда встретятся две тучи и выпускают из себя какую-то силу, которая называется электричеством. Я о такой силе ничего не слыхал и не знаю, правда ли это, что она существует на свете и что от нее происходит гром?
В то время как говорил Гершон, неподвижный раньше мудрец сделал несколько нетерпеливых движений, а по губам его, тонким и суровым, мелькала насмешливая улыбка.
— Это неправда! — воскликнул он. — Такой силы на свете нет, и не от нее происходит гром. Когда римский император разрушил храм и еврейский народ рассеялся по всей земле, на свете загрохотал гром. А откуда он явился? Он явился из груди самого бога, который громко заплакал над развалинами своей святыни и над несчастием своего народа. А теперь господь бог часто плачет о былом величии и счастьи своей страны и своего народа, а когда он плачет, то рыдания его расходятся по всему свету великим громом и слезы его падают в море; и они так огромны, что море от них вздувается и подымает землю, которая содрогается и выбрасывает из себя огонь. Вот я сказал тебе, откуда берется гром и те сильные содрогания, которые переносит земля. Иди с миром и учи своих учеников тому, что ты услышал от меня!
Смиренно поклонившись, с выражением благодарности на губах, ушел и затерялся в толпе мрачный меламед со своей большой книгой в руке, а в эту минуту где-то у самой стены громко заплакал ребенок.
Реб Моше позвал:
— Хаим, арендатор из Камионки, и жена его Малка…
Из толпы вышли мужчина и женщина. У обоих лица были страдающие и испуганные; Женщина несла на руках бледного, истощенного ребенка. Оба бросились к ногам мудреца и, протягивая к нему завернутого в выцветшие тряпки тихо плачущего ребенка, стали умолять его, чтобы он дал им какое-нибудь лекарство от болезни, уже давно мучившей их сына. Тодрос наклонился над маленьким бледным личиком и остановил на нем свой быстрый внимательный взгляд. А реб Моше, сидя у камина, впился глазами в учителя и, помешивая ложкой готовящиеся травы, ждал его приказаний.
Так долго и по очереди приближались к обожаемому мудрецу, наставнику, лекарю и чуть ли не пророку своему самые различные люди, задавая ему самые разнообразные вопросы и обращаясь к нему со всевозможными просьбами. Был там среди других и какой-то огорченный муж, который, приведя с собой свою молодую и красивую жену, просил великого раввина устроить над ней нечто вроде суда божьего при помощи так называемой воды ревности; подозреваемая в неверности своему мужу женщина должна тотчас же умереть, выпив эту воду, если она виновата, и расцвести удвоенной красотой и здоровьем, если подозрение несправедливо. Кто-то еще спрашивал, что следует делать, если время молитвы застигнет человека в дороге и он не может обернуться лицом к востоку, как приказано, потому что с этой стороны дует сильный ветер и несет ему в глаза огромные тучи пыли. Было здесь много и таких людей, которые, жалуясь на свою несчастную судьбу, плача и горюя, умоляли мудреца, чтобы он заглянул вещим оком своим в будущее и объявил им, скоро ли наступит радостный день Мессии, день освобождения, отдыха и изобилия.
Однако большинство из собравшихся в хижине и возле нее ничего не желало, не обращалось ни с какими просьбами и не задавало вопросов, а пришло сюда и задыхалось в непомерной тесноте только для того, чтобы иметь возможность подышать тем самым воздухом, которым дышит грудь обоготворяемого мудреца, насытить уши свои словами, исходящими из его уст, а глаза светом, исходящим от его лица.
Видно было, что Исаак Тодрос также чувствовал и понимал высоту своего положения. Он исполнял свои обязанности с непоколебимой важностью, с неутомимым усердием и с невозмутимым терпением. Никого не отталкивал от себя, никому ни в чем не отказывал. Порицал, объяснял, истолковывал, рассказывал, налагал наказания, раздавал лекарства, ни на минуту не изменяя своего неподвижного положения и только впиваясь своими суровыми или задумчивыми глазами в лица приближающихся к нему людей. Несколько раз, когда в комнате раздавались самые горькие жалобы и просьбы предсказать день пришествия Мессии, эти черные, как ночь, и пламенные, как страсть, глаза заволакивались влажной пеленой. Видно, любил он этот народ, жалобные вздохи и стоны которого заставляли заволакиваться слезами его суровые глаза. По временам крупные капли пота стекали по его желтому лбу, и тяжело дышала измученная длинными разговорами грудь. Разорванным рукавом одежды он вытирал со лба пот, собирался с новыми силами и продолжал дальше поучать, налагать наказания и утешать. Он напряженно работал мыслью, памятью, воображением, С глубоким сознанием своего долга, с ревностной верой в спасительность и святость своего труда, с величайшим бескорыстием человека, которому ничего не было нужно для себя, кроме черной мазанки, унаследованной от предков, скудной ежедневной пищи, доставляемой ему руками верных, и этой жалкой, грязной, изорванной одежды, которая десять лет уже, быть может, прикрывала его тощее тело.
Через двор синагоги в это время проходил человек, видимо спешивший и кого-то разыскивавший в толпе.
Это был Бер, зять Саула. Внимательно обведя взглядом лица людей, окружавших мазанку раввина, он протолкался в битком набитые сенцы и, увидев, наконец, стоявшего у порога комнаты Меира, потянул его за рукав сюртука.
Пробужденный от тяжелой задумчивости, которая сделала его совершенно неподвижным, юноша обернулся и рассеянным взглядом посмотрел на стоявшего сзади него родственника.
— Уйдем отсюда! — шепнул ему на ухо Бер.
— Я не могу уйти! — так же тихо ответил ему Меир. — У меня важное дело к раввину, и я буду ждать, пока не разойдутся все эти люди, чтобы поговорить с ним…
— Уйдем! — ответил Бер и взял за плечо упрямого юношу.
Меир нетерпеливо рванулся, но Бер повторил еще раз:
— Уйдем! Если захочешь, придешь потом, когда разойдутся эти люди. Но я знаю, что ты не захочешь…
Оба вышли, из битком набитой избушки. Бер, торопливо шагая, молча вел своего товарища в отдаленную часть обширного двора, где царило полное уединение. Здесь, прикрытые стеной бет-га-мидраша от торгующей на рынке толпы и в значительном отдалении от другой толпы, окружавшей мазанку раввина, они могли быть уверены, что никто не подслушает их разговора.
Меир оперся спиной о стену здания, Бер стоял перед ним и некоторое время всматривался в его лицо.
Наружность Бера была такова, что миллионы равнодушных людей могли бы пройти мимо, даже не заметив ее, но глаз внимательного и мыслящего человека открыл бы в ней черты очень интересные и достойные внимания. Было ему лет сорок, он был худощав, одет очень чисто и тщательно, хотя в полном соответствии с древними предписаниями и обычаями. На его бледноватом, тонко очерченном лице, обрамленном светлыми мягкими волосами, лежало выражение равнодушия, лени и сонливости, которое исчезало, уступая место подвижному нервному оживлению только тогда, когда дело касалось коммерческих предприятий и комбинаций. Однако сквозь равнодушие и сонливость внимательный глаз мог бы открыть другие чувства и черты характера, как бы скрытые и лежащие где-то глубже. Было что-то мечтательное и вместе с тем страдальческое в его больших широко открытых голубых глазах с затуманенным взглядом. В очертаниях его тонких умных губ, словно замерших в выражении немой покорности судьбе, чувствовалась какая-то изведанная, но подавленная усилиями воли тоска, какие-то неудовлетворенные и насильно запрятанные в глубине груди стремления. Иногда на его белом и гладком лбу появлялись две поперечные складки. Их вызывали, быть может, какие-то далекие, но вечно мучительные воспоминания, потому что всякий раз, как они появлялись, Бер прикасался рукой к груди, и от коротких, отрывистых вздохов у него вздымались плечи. Видно было, что в прошлом у этого человека разыгралась какая-то тихая драма, никому в подробности не известная, но развязка которой, погрузив в сонливость его волю и мысль, оставила в его груди, вечно замирающие и вечно возрождающиеся отзвуки.
Теперь Бер стоял против юноши, которого он почти насильно вывел из толпы, и долго всматривался ему в лицо своими затуманенными, страдальческими глазами.
— Меир, — сказал он, наконец, — у твоего деда Саула час тому назад был длинный разговор с его сыном Абрамом. Он покинул своих гостей, чтобы поговорить с ним, а мне велел присутствовать при этом разговоре, желая, чтобы слова, выходящие из его уст, и совесть его сына, слушающая их, имели меня свидетелем. Будь покоен, Меир. Твой дядя не примет участия в том великом грехе и позоре, которые вскоре произойдут…
— Произойдут! — пылко прервал его Меир. — Они не произойдут! Я так сделаю, что этого не будет!
Невеселая усмешка промелькнула на губах Бера.
— Ты так сделаешь! — засмеялся он тихо. — А как же ты это сделаешь? Я догадался, что ты хочешь сказать об этом раввину, и искал тебя, чтобы предостеречь тебя и отвратить несчастие от твоей головы. Ты думаешь, что как только расскажешь все дело раввину, он сейчас же сорвется с места и крикнет, чтобы никто не смел, делать такой гадкой вещи? Если бы он так поступил, все бы послушали его, это правда. Но он не сделает этого…
— Почему же он этого не сделает? — воскликнул Меир.
— Потому что он в таких делах ничего не понимает…
Бер снова усмехнулся и продолжал:
— Если бы ты спросил его, какое кушанье чистое и какое нечистое? Можно ли в шабаш снимать нагар со свечки и платком препоясывать свои чресла? Садясь за стол, следует ли сначала благословить вино или хлеб? Или если бы ты спросил его, как человеческие души переходят из тела в тело? Сколько сефиротов создал из себя Иегова и как эти сефироты называются? И как надо расположить буквы, составляющие имена бога, чтобы из них получились слова великих тайн, и когда настанет день Мессии, и что в этот день будет?.. На все эти вопросы он нашел бы пространный и ученый ответ. Но если ты начнешь рассказывать ему о винокуренных заводах, о налогах, о помещичьих дворах и о тех намерениях, которые питают против них злые люди, он широко откроет глаза и будет слушать тебя, как человек глухой, потому что он всего этого не понимает, и для него вне тех книг, из которых он черпает свою мудрость, весь мир — пустыня, погруженная в темную ночь!..
Меир опустил голову.
— Я чувствую, что ты прав, — сказал он, — но если бы я спросил его: «Можно ли для собственной выгоды причинить зло невинному человеку?»
Бер ответил:
— Он бы спросил тебя: «А кто этот невинный человек? Израильтянин или эдомит?»
— Эдомит! — как эхо, повторил Меир.
Затем, как бы в раздумьи, он посмотрел вверх, пожал плечами, словно удивляясь чему-то в душе, и, наконец, остановил свой взгляд на лице Бера.
— Бер, — сказал он, — ты ненавидишь эдомитов?
Бер отрицательно покачал головой.
— Ненависть противна моему сердцу, — ответил он. — Когда-то… когда я был молод… я даже хотел пойти к ним и воскликнуть: «Спасите!» Теперь я доволен, что не сделал этого и остался со своими, но ненависти к ним у меня в сердце нет.
— И у меня нет! — живо ответил Меир. — А как ты думаешь, — спросил он, — Камионкер их ненавидит?
— Нет! — ответил Бер. — Он только доит их, как коров, и чувствует к ним презрение за то, что они небрежно относятся к своим делам и позволяют ему обманывать себя.
— А Тодрос их ненавидит? — спросил опять Меир.
— Да! — энергичнее обыкновенного подтвердил Бер. — Тодрос их ненавидит. А почему он их ненавидит? Потому что он не живет настоящим временем, как все мы… Он все еще живет тем далеким прошлым, когда римский император разрушил иерусалимский храм и выгнал израильский народ из Палестины и когда евреев жгли на кострах и преследовали по всей земле. Он дышит, ест и ходит теперь, но думает и чувствует так, словно бы он жил две тысячи или тысячу лет тому назад. Он ничего не знает о том, что со смерти его предка Тодроса, приехавшего сюда из Испании, множество лет прошумело, как большая и быстрая река, и что на этой реке проплывали мудрые и добрые люди, приносившие свету много мудрого и хорошего, и что от того далекого времени мир изменился, а люди, которые ненавидели и преследовали одни других, подали друг другу руки в знак примирения. Он ничего не знает, что делается на свете. Ну, да и как же ему знать? От рождения своего он никогда не выезжал из Шибова, а глаза его не видели других книг, кроме тех, которые остались ему от дедов и прадедов, не видели других людей, кроме евреев.
Меир слушал и слегка кивал головой, словно мысленно подтверждая слова товарища.
— Значит, мне незачем и идти к нему… — сказал он после минутного размышления.
— Я для того и искал тебя, чтобы сказать тебе это, — ответил Бер. — Он не запретит Камионкеру причинить зло помещику Камионскому, потому что ему покажется, что помещик Камиовский происходит от народа идумеян, воевавшего с Иисусом Навином, или от римского народа, который поклонялся идолам и разрушил иерусалимский храм, или от испанского народа, который пятьсот лет тому назад жестоко притеснял евреев… Он даже и разговаривать с тобой не захочет, так как ты в его глазах кофрим, вероотступник; он не опустил еще до сих пор своей разгневанной руки на твою голову только из уважения к твоей богатой семье и к той любви, которую народ питает к твоему деду Саулу. Но если б ты стал обвинять перед ним Камионкера, то Камионкер склонил бы его к мести против тебя так же, как уже склоняет его к ней реб Моше. Меир, будь осторожен! Погибель твоя недалека! Берегись!
Меир на это предостережение ничего не ответил.
— Бер! — произнес он, — меня очень это удивляет, но мне кажется, что в этом человеке, глупом, злом и мстительном, живет великая душа… Он очень терпелив, дни и ночи просиживает над своими книгами… Он очень жалостлив! Глаза его наполняются слезами, когда перед ним плачут и жалуются бедные люди… Он всех допускает к себе, наставляет и утешает каждого. Для себя он ничего не хочет и так сильно… Бер! Он так сильно верует.
Слушая слова эти, Бер усмехнулся и своим затуманенным взором стал смотреть на облака.
— Ты говоришь так, Меир, о раввине, — ответил он медленно, — а что же ты скажешь об этом бедном народе, тело которого иссохло от голода, голова которого низко склонилась под тяжестью забот и от презрения, падающего на него в течение двадцати веков, и который все же, как жаждущий к источнику, бежит к реке мудрости, чтобы пить из нее? Ты не спрашивай о том, истинная ли это мудрость или ложная, но ты смотри на то, как он, живя в несчастии, в нужде, среди мелочных забот, жаждет этой мудрости… и как он чтит своих мудрецов, и как он строго исполняет все те заповеди, которые считает священными. Не кажется ли тебе, что у этого народа, глупого, жадного и грязного, великая душа?
Меир поднял голову. Румянец вспыхнул у него на лице, как всегда, когда он бывал, взволнован.
— У израильского народа великая душа, и я люблю его больше своего спокойствия, своего счастья и своей жизни. Ну!.
Тут он остановился на минуту, порывистым движением схватил Бера за плечо и сказал:
— И я знаю, чего не хватает Тодросу, чтобы он со своей великой душой стал великим человеком, и чего не хватает еврейскому народу, чтобы он показал перед миром свое величие. Надо, чтобы их мысли и воспоминания отошли от тех далеких времен, в которых они всегда пребывают, и чтобы они зажили в новом времени, которое уже наступило на земле, и надо, чтобы о головы их ударил своими крыльями Сар-га-Олам, тот ангел познания, который является князем мира!
Юноша произносил эти слова с пылающим лицом и сверкающими глазами, а Бер всматривался в него глубоким, радостным и одновременно грустным взглядом. Минуту спустя он сказал:
— Когда я смотрю на тебя, Меир, когда я слушаю тебя, мне кажется, что вижу себя самого… когда мне было столько лет, сколько теперь тебе… Я так же, как и ты, сердился и огорчался… Я тоже хотел…
Он замолчал и прикоснулся рукой к груди, а на лбу его появились две глубокие морщины; затуманенный взгляд его устремился, куда-то вдаль… в далекий мир или в прошлое…
Так разговаривали друг с другом эти два человека: один — опираясь спиной о стену бет-га-мидраша, другой — стоя перед собеседником. Разговаривали оживленно, делая иногда резкие движения. Глаза у Меира горели, лицо стало бледное. У Бера лоб покрылся морщинами, а губы слегка дрожали. И если б кто-нибудь, чужой тому миру, в котором эти двое жили, чувствовали и думали, посмотрел теперь на них, желая отгадать содержание их разговора, то сказал бы: они покупают, продают, торгуются, говорят о коммерческих делах. Разве такие люди, как они, могут о чем-нибудь ином думать и говорить, да и страдать от чего-либо другого?
Да, могут. Они думают, говорят, страдают, только никто в их слова не вслушивается, их мыслей не понимает, их страданий угадать не хочет. Это — огромное таинственное море, не исследованное даже и теми, кто в нем тонет!
— Идем домой! — сказал Бер своему товарищу. — Дед твой, Саул, скоро сядет за стол со своими гостями и рассердится, если не увидит там тебя. А над твоей головой и так уже нависла большая буря. Гана Витебская отнесла обручальные подарки, которые дед послал от твоего имени ее дочери, наговорила ему при гостях много дерзостей и расстроила обручение.
Меир небрежно махнул рукой.
— Я хотел этого, — сказал он, — а у деда я попрошу прощения. Голова моя занята только тем, к кому мне теперь пойти…
Бер с некоторым удивлением взглянул на говорившего.
— Какой ты упрямый! — заметил он.
Теперь оба уже направлялись к воротам двора.
Вдруг Бер остановился.
— Меир! — сказал он, — только ты не ходи к чиновникам!
Меир провел рукой по лбу.
— Я бы пошел к ним, — сказал он, — но меня охватывает страх! Если раскроют правду, то Камионкера строго покарают, а вместе с Камионкером и тех несчастных, которых он соблазнил. Бедные люди, глупые люди! Мне жаль их…
Вдруг он замолчал и начал пристально всматриваться… По площади, наполовину уже опустевшей, проезжал изящный экипаж, запряженный четверкой сильных лошадей, а в нем сидел молодой изысканно одетый мужчина.
Меир пальцем указал на экипаж, который остановился перед домом Камионкера, и с широко открытыми от какой-то внезапно мелькнувшей у него мысли глазами, дрожащим голосом воскликнул:
— Бер! Ты видишь! Это помещик Камионский!
* * *
Солнце приближалось к западу, когда на крыльце дома Эзофовичей показалась группа людей, оживленно, приветливо и весело разговаривавших друг с другом. Это были сегодняшние гости Саула. Теперь, после обильного угощения за его гостеприимным столом, они прощались, пожимая ему руки, благодарили за радушие и поочередно усаживались по-двое, по-трое в ожидавшие их телеги; уезжая, они долго еще оборачивались к стоявшему на крыльце хозяину дома.
В приемной комнате хозяйки с помощью служанок убирали с длинного стола многочисленную посуду, прятали в шкаф остатки кушаний и напитков и старательно складывали толстое, но красивое и чистое столовое белье.
Тем временем ярмарка подходила к концу; несколько возов и кучки людей занимали еще часть рыночной площади, но с каждой минутой она все больше пустела. Зато два или три постоялых двора, находившихся тут же, гудели от шума и разговора. Темные, как пропасти, крытые дворы этих домов были переполнены лошадьми и возами крестьян, которые пили, танцовали, ссорились и веселились в больших шинках.
В шинке Камионкера было особенно шумно и многолюдно. И неудивительно. Ловкий купец, имея в аренде несколько окрестных винокуренных заводов и с десяток харчевен, управлял и распоряжался судьбою целой армии своих арендаторов и шинкарей. В полной зависимости от него находилось несколько десятков таких бедняков, как Самсон, который для поддержания сил своей семьи, состоявшей из одиннадцати душ, покупал три фунта мяса в неделю. (Поистине, самсоновскими должны были быть эти силы!) Великодушным властителем по отношению к этим мелким шинкарям Камионкер не был; они же не были великодушны к тем крестьянским толпам, которые топили свой разум и благосостояние своих семей в море алкоголя, разливаемого их руками. Таким-то образом Камионкер держал в своих руках судьбу, быть может, сотен тысяч крестьянских семей, и в этом ему помогала ловкость его арендаторов — шинкарей, в свою очередь ждавших от предпринимателя или решительного улучшения, или окончательного уничтожения своего нищенского, грязного, трудного существования.
Неудивительно поэтому, что возле дома Камионкера теснилось наибольшее число возов и лошадей, а в его шинке пило и шумело больше крестьян. Камионкер, однако, не показывался среди этой толпы и сам не угощал ее. Хозяйничала там его жена Ента, расставляя на столах кувшины, бутылки и чарки, а помогали ей две некрасивые плечистые дочери ее, продававшие у одного из столов баранки, халы и селедки. Если б кто-нибудь посмотрел тогда на худую, подавшуюся вперед фигуру Енты в широком вылинявшем платье и на ее желтое увядшее лицо, желтизна которого еще больше бросалась в глаза от красной розы, торчавшей над рыжим чепцом, если б кто-нибудь увидел Енту, лениво расхаживавшую по комнате, где воздух, спертый от человеческого дыхания и одуряющих испарений спиртных напитков, был невыносимо зловонным, — он никогда бы не предположил, что это была жена купца и хозяина многих предприятий, владельца одного из наиболее значительных состояний в этой местности.
Трудно было бы также узнать самого хозяина бесчисленных предприятий и собственника больших капиталов в этом миленьком рыжем человечке в потертом и длинном, доходившем почти до земли сюртуке, с обмотанным вокруг шеи красным платком, который стоял теперь в одной из комнат для гостей.
Это была та самая комната, которая блистала желтой древней мебелью с порванной и грязной обивкой и почерневшими уродливыми растениями, стоявшими на окнах в глиняных горшках.
Реб Янкель стоял в нескольких шагах от порога, а его гость, помещик Камионский, сидел в желтом кресле и, покуривая сигару, полушутливо, полузадумчиво смотрел на ребе Янкеля.
Молодой помещик был высокого роста, крепкого и статного сложения; над открытым лбом его вились темные волосы, а тонкое лицо, слегка загоревшее от летнего зноя, было приветливым, несколько добродушным и довольно умным.
Веселую насмешку, время от времени мелькавшую в глазах шляхтича, вызывала, по-видимому, жалкая фигура, веснушчатое лицо и длинные огненные пейсы реб Янкеля. Задумывался же он минутами, вероятно, потому, что жалкий реб Янкель с длинными пейсами говорил ему о важном для него деле.
Впрочем, молодой помещик с открытым высоким лбом и с приветливо улыбающимися губами ровно ничего не знал о том, с кем он, собственно, ведет разговор. Перед ним стоял еврей, арендатор его винокуренного завода, и больше ничего. Да и кем же он мог бы быть еще, как не евреем и арендатором винокуренного завода?
Что он мог быть еще деятельным и влиятельным членом сильного, хорошо организованного общества, истинно благочестивым человеком, пользующимся у правоверной части этого общества глубоким почтением, мистиком, ожидающим пришествия Мессии с такой же верой, с какой люди его племени ожидали этого много-много веков тому назад; что он мог быть ученым и богачом, перед которым с высоким уважением вставали все бедные и простые люди его народа; что, наконец, в его некрасивых, веснушчатых и плохо вымытых руках сосредоточивались нити многих человеческих жизней, еврейских и христианских, — обо всем этом помещик Камионский не имел ни малейшего представления.
Поэтому-то ему даже и в голову не пришло предложить веснушчатому, рыжему еврею подойти к нему на несколько шагов ближе и сесть в его присутствии. И реб Янкель также не подумал о том, чтобы приблизиться и сесть в присутствии шляхтича. Не подумал об этом потому, что в подобных обстоятельствах стоять покорно было обычаем, унаследованным от отцов и дедов; однако бледно-голубые глаза его вспыхивали недружелюбным и злобным огнем каждый раз, когда молодой помещик отводил свой взор в другую сторону и не мог видеть их выражения. Быть может, реб Янкель вовсе не думал об этом и вовсе не давал себе отчета в своих мыслях, но он чувствовал, как от смиренно стоящих ног его к сердцу, привыкшему каждый день испытывать чувство гордости, подымался едкий яд презрения, — яд, который, попадая в злое сердце, порождает ненависть и злодеяние.
— Надоел ты мне, дорогой мой Янкель, с этими вечными твоими торгами и контрактами! — небрежно, покуривая сигару, сказал помещик Камионский. — Я зашел к тебе только на минуту, чтобы дать отдохнуть немного лошадям, а ты уж как следует вцепился в меня.
Реб Янкель быстро и низко поклонился.
— Я прошу вельможного пана извинить меня за мою смелость, — сказал он с улыбкой, — но винокуренный завод пана открывается через месяц, и мне бы хотелось, чтобы пан окончательно сговорился со мной.
— Хорошо! Хорошо! — ответил шляхтич. — Почему бы мне и не сговориться с тобой, раз ты уже три года арендуешь мой винокуренный завод… Но зачем же так спешить?.. У нас еще месяц времени…
— Кому это помешает, если заранее подумать о деле? Я уже скупаю волов; а при винокуренном заводе вельможного пана надо поставить сотню волов. Сто волов! Шутка ли? Я не могу тратить такие большие деньги, не имея еще от вельможного пана никакого обеспечения. Если вельможный пан разрешит, я приеду завтра к нему в дом, и мы подпишем контракт…
Молодой помещик встал с кресла.
— Хорошо, — сказал он, — приезжай… Но не раньше, как после полудня, потому что утром ты не застанешь меня дома.
— Вельможный пан ночует по соседству? — спросил Янкель, и веки его нервно дрогнули.
— У ближайших соседей, — ответил шляхтич и хотел сказать еще что-то, но за спиной ребе Янкеля медленно отворились двери, видимо тронутые робкой рукой, и в комнату вошел молодой еврей, стройный, красивый, чисто одетый, с бледным и очень смущенным лицом, но с пылающими, смелыми глазами.
При виде входящего реб Янкель инстинктивным движением отскочил на несколько шагов. По его бледному веснушчатому лицу от страха пробежала нервная дрожь.
— Зачем ты пришел сюда?.. — начал, было, он, но слова застревали у него в груди.
Молодой помещик бросил на пришедшего равнодушный взгляд и спросил его:
— Что тебе нужно, мой милый? Какое у тебя дело ко мне?
— Я пришел к вельможному пану… — ответил юноша, понизив голос почти до шопота.
Он сделал несколько шагов вперед, но Янкель загородил ему дорогу.
— Пусть вельможный пан не позволяет ему говорить с собой! — крикнул он. — Пусть вельможный пан не позволяет ему открывать рот! Это очень дурной человек… Он всюду вмешивается…
Помещик Камионский вытянул руку и остановил лихорадочно жестикулирующего человека.
— Дай ему говорить! — сказал он. — Если у него дело ко мне, то почему бы мне не поговорить с ним.
И он продолжал смотреть на пришедшего юношу, красивое, выразительное лицо которого, побледневшее от волнения, очевидно, заинтересовало его. Но его раздражала и в то же время смешила внезапная стремительность движений и речи Янкеля.
— Вельможный пан не знает меня, но я вельможного пана знаю… — произнес пришедший, продолжая говорить тихим голосом и как бы с усилием.
— Зачем вельможному пану знать такого бездельника, как ты? — опять попробовал перебить его Янкель, но помещик Камионский жестом приказал ему замолчать.
— Я видел вельможного пана несколько раз у моего деда, Саула Эзофовича, сын которого, Рафаил, покупает у вельможного пана хлеб…
— Так ты, значит, внук старого Саула?
— Да, я его внук.
— А Рафаил Эзофович твой отец?
— Нет, я сын Вениамина, самого младшего из сыновей Саула, который давно уже умер.
Меир говорил на польском, несколько ломаном, но довольно сносном языке. В доме своего деда ему часто приходилось слышать этот язык, когда к ним приезжали по делам владельцы соседних имений; да и старый эдомит, обучавший его предметам, не относящимся к древнееврейским, говорил на том же языке.
— Не Рафаил ли прислал тебя ко мне? — спросил шляхтич.
— Нет, я сам пришел…
Юноша с минуту молчал, как бы собираясь с силами и мужеством. Оправившись, он заговорил уже смелее:
— Я пришел, чтобы предостеречь вельможного пана от великого несчастия, которое готовят пану злые люди…
Янкель снова подскочил и, раздвинув руки, заслонил его перед Камионским.
— Замолчишь ли ты? — крикнул он. — Зачем ты морочишь голову вельможному пану своей глупой болтовней?..
Обращаясь к шляхтичу, он сказал с отчаянием:
— Это сумасшедший, мишугенер, бездельник…
На этот раз, однако, не Камионский уже отстранил его, а Меир. С удвоенным блеском в глазах и усиленно дыша, Меир оттолкнул Янкеля и торопливо заговорил:
— Этот человек не дает мне говорить, поэтому я скажу все вельможному пану очень быстро. Пусть вельможный пан ему не доверяет; он очень худой человек и враг пана. Он готовит пану большое несчастие… пусть пан остерегается его и пусть пан бережет свой дом, как зеницу ока. Я не доносчик и поэтому пришел сюда, чтобы сказать это вельможному пану при нем. Он будет мстить мне за это, но пусть мстит. Я должен был сделать то, что обязан сделать каждый правоверный еврей, потому что у нас написано: «Да живет между вами чужеземец, как если б он произошел от потомков Израиля»; а в другом месте написано: «Если будешь молчать, на голову твою падут все несчастия Израиля!»
Меир замолчал, потому что в груди у него не хватило дыхания. Видно было, что он весь дрожит и что бурный порыв в нем мучительно борется с тайным, пронизывающим его опасением.
Камионский поглядывал на говорившего с любопытством, удивлением и улыбкой. Он так привык улыбаться, глядя на евреев, что и теперь дрожь Меира, загадочные слова его, в особенности же приведенные им цитаты из Библии, сами по себе красивые, но странно звучащие на неправильном, ломаном языке еврея, больше смешили его, чем удивляли и интересовали.
— Как я вижу, — начал Камионский, — внук старого Саула — знаток священного писания и обладает пророческим даром. Скажи мне, однако, мой юный пророк, яснее и определеннее, какие несчастия грозят мне, и почему этот почтенный Янкель, три года уже бывший моим добрым знакомым, вдруг проникся ко мне такой неприязнью?
Янкель стоял теперь возле самого кресла, на котором сидел помещик, и, нагнувшись слегка к нему, шептал со сладкой улыбкой на губах:
— Это сумасшедший! Ему постоянно кажется, что он пророк, и он всегда занят предсказаниями, а на меня он зол за то, что я всегда смеюсь и издеваюсь над ним.
— Ну, так я уж не буду над ним смеяться и шутить, чтобы он и на меня не рассердился тоже, — весело ответил шляхтич и, обращаясь к Меиру, спросил с некоторым любопытством:
— Какое же это несчастие может постигнуть меня? Скажи ясно и определенно, а если скажешь правду, — сделаешь доброе дело, и я буду тебе за это благодарен…
Меир ответил:
— То, чего вельможный пан требует от меня, — дело нелегкое… Я думал, что вельможный пан поймет все с нескольких слов… Мне тяжело говорить об этом…
Юноша провел рукой по лбу, на котором выступило несколько капель пота.
— Может ли вельможный пан обещать мне, что если я скажу страшное слово, то оно упадет в ухо пана, как камень в воду, и что пан не повторит этого слова перед судом, а только сам извлечет из него пользу? Обещает ли мне это вельможный пан?
Бледность говорящего увеличивалась все больше, а голос его дрожал.
В молодом помещике любопытство, видимо, боролось с веселым смехом, который разбирал его.
— Даю тебе честное слово, — сказал он, улыбаясь, — что слова твои упадут в мои уши, как камень в воду.
Взглянув горящими глазами на Янкеля, Меир открыл рот, чтобы сказать что-то, но губы его сильно дрожали, и он не мог произнести ни звука. Используя сильное волнение, которое на мгновение лишило юношу сил и самообладания, Янкель внезапным и стремительным движением бросился к нему, схватил его за передние полы сюртука и изо всей силы начал толкать его к дверям. При этом он кричал:
— Ты что приходишь в мой дом, чтобы морочить голову моему гостю своей глупой болтовней? Это ясновельможный гость… большой пан, с которым я уже три года веду торговлю и поддерживаю дружбу… Уходи отсюда! Уходи отсюда! Уходи!
Меир старался вырваться из рук Янкеля, который тащил и толкал его; но хотя он был выше и сильнее Янкеля, тот обладал более гибким и изворотливым телом, и, при этом он делал отчаянные усилия. Таким образом, оба они двигались к двери, а молодой помещик с улыбкой смотрел на это состязание. Над головой и плечами мечущегося Янкеля подымалось все более бледневшее лицо Меира. Вдруг на этом лице вспыхнул огненный румянец.
— Пусть вельможный пан не смеется! — воскликнул он прерывающимся голосом. — Вельможный пан не знает, как мне трудно говорить… Пусть вельможный пан побережет свой дом от огня…
При последних словах он исчез за порогом, а Янкель задыхающийся, измученный, с вздрагивающим лицом, запер за ним двери.
Камионский все еще улыбался. И неудивительно. Борьба маленького рыжего Янкеля с высоким и сильным, но слишком взволнованным, чтобы успешно защищаться, молодым евреем казалась смешной. Во время этой борьбы длинная одежда у обоих противников широко развевалась; Янкель от тяжелых, яростных усилий подскакивал и приседал; Меир весь дрожал, словно чего-то сильно испугался, и неловкими движениями отталкивал противника. Это представляло очень смешную картину, тем более что участниками ее были люди, над которыми издавна было принято смеяться.
И каким образом мог понять молодой шляхтич тайный и нисколько не комичный смысл разыгравшейся перед ним сцены? Разве он знал, когда разговаривал с Меиром, кто, собственно, стоит перед ним? Это был молодой еврейчик, говорящий ломаным и забавным языком, внук купца и, наверное, сам будущий купец. Кем же и мог он быть, как не молодым, довольно забавным еврейчиком и, наверное, будущим купцом! Молодой помещик не имел ни малейшего представления о том, что у этого юноши была благородная душа, восставшая против всякой глупости и несправедливости, — душа, до отчаяния тоскующая о свободе и знании; что, придя сюда, юноша этот совершил акт великой отваги и губил этим шагом всю свою будущность. Да разве среди евреев существуют благородные, смелые души, восстающие против зла, охваченные возвышенной тоской?
Через минуту, однако, помещик Камионский перестал улыбаться и, глядя на Янкеля, спросил:
— Объясни же мне теперь, что это за человек и о чем говорил он?
— Ах! Что это за человек и о чем говорил он? — повторил Янкель, во мгновение ока сумевший принять спокойный вид. — Это глупое происшествие, я прошу извинения у вельможного пана за то, что оно случилось с паном в моем доме. А человек этот сумасшедший. Он очень злой и от злости сошел с ума…
— Гм, — сказал Камионский, — однако он не совсем похож на сумасшедшего. У него красивое лицо и очень осмысленное.
— Да он и не вполне сумасшедший… — начал было Янкель, но Камионский прервал его.
— Это внук Саула Эзофовича? — спросил он задумчиво.
— Он внук Саула, но дедушка очень не любит его…
— Любит или не любит, но родного деда спрашивать не стоит…
— Да нет же, пусть вельможный пан спросит его… — выкрикнул Камионкер, а глаза его засветились торжеством. — Пусть пан спросит и дядей его… Вот я сейчас побегу и приведу сюда его дядю, Абрама.
— Не надо! — коротко сказал шляхтич.
Он встал и задумался. Потом быстро и внимательно взглянул на Янкеля. Янкель смело встретил его взгляд. Оба молчали с минуту.
— Слушай, Янкель! — сказал Камионский. — Ты человек немолодой, богатый купец, отец семейства и, следовательно, тебе я могу доверять больше, чем молокососу, которого я вижу первый раз в жизни и который, быть может, и в самом деле не совсем в своем уме. Однако что-то в этом кроется… Придется мне о нем расспросить…
— Пусть себе вельможный пан расспрашивает, — презрительно пожимая плечами, сказал Янкель.
После довольно продолжительного размышления Камионский спросил:
— А ваш знаменитый раввин теперь в местечке?
— А где же ему быть? Он отроду никуда из местечка не выезжал.
— Замечательного постоянства человек, — снова усмехнулся Камионский и взял со стола изящную шапочку.
— Ну, Янкель, — сказал он, — проводи меня к раввину… Если даже я ничего интересного не узнаю, то все же, по крайней мере, хоть раз в жизни увижу вашего раввина.
Янкель торопливо открыл двери перед выходящим гостем и вместе с ним вышел на площадь, уже почти пустую.
В это время через площадь проходил Эли Витебский и, увидев помещика Камионского, тотчас же поспешил к нему навстречу с приветливой улыбкой. Камионский вежливо поздоровался с ним. По своему внешнему виду светский купец больше всех других жителей этого городка приближался к той разновидности человеческого рода, которая носит название культурной.
— Вельможный пан пожаловал в наше местечко. По какому-нибудь делу?
— Нет, только проездом.
— А куда направляется теперь вельможный пан?
— К вашему раввину, пан Витебский.
Витебский удивился.
— К раввину? Чего хочет от него вельможный пан?
— Смешная история, дорогой мой Витебский! Вот скажи мне, ты знаешь внука Саула Эзофовича?
— Которого? У Саула много внуков!
— Как его имя? — через плечо бросил Камионский Янкелю.
— Меир! Меир! Этот негодяй! — закричал Камионкер.
Витебский кивнул головой в знак того, что он понял.
— Ну, — начал он приветливо и снисходительно улыбаясь, — он не негодяй! Молод еще, может исправиться… Но у него неспокойная голова…
— Что же? Немного мишугенер? — засмеялся помещик, шутливым жестом прикладывая палец ко лбу.
— Нет, — ответил Эли, — он и не сумасшедший… он молод, еще поумнеет… но теперь он выкидывает большие глупости… это правда! Он и мне сегодня наделал много неприятностей… Ай-ай! Сколько у меня было из-за него огорчений и неприятностей и сколько еще будет!
— Так значит, — сказал Камионский. — это что-то вроде полоумного и сумасброда, который сам не знает, чего хочет, и всем доставляет неприятности?
— Пан угадал! — ответил Витебский и сейчас же прибавил: — но он еще молод, из него может еще выйти порядочный человек.
— Это значит, что теперь он непорядочный человек…
— Прошу вельможного пана сюда, — сказал в эту минуту Янкель, указывая помещику на ворота, ведущие во двор молитвенного дома.
— А где же, однако, жилище вашего раввина?
Камионкер вытянул палец по направлению к приютившейся у стены храма черной мазанке.
— Как! — воскликнул шляхтич, — в этой хате?
И направился туда, но уже с одним Янкелем. Витебский же, сообразив, что дело касается чего-то серьезного, а быть может, и неприятного, с поклонами и улыбками быстро покинул двор синагоги.
Двери в избушке раввина были уже заперты, но у открытого окна стояло еще человек десять, тихо разговаривавших друг с другом и время от времени бросавших робкие взгляды внутрь хижины. Но там царило уже глубокое молчание, и если б кто-нибудь видел, как напряженно и неутомимо работал Исаак Тодрос в течение нескольких часов, то он, наверное, предположил бы, что теперь раввин предается отдыху или, погрузившись в сон, пребывает в полном бездействии. Такое предположение было бы грубой ошибкой. За исключением нескольких коротких ночных часов, когда он спал прерывистым, тяжелым сном, какой бывает обыкновенно у людей с постоянно напряженной мыслью и с возбужденными нервами, Исаак Тодрос никогда не ложился отдыхать. Это было живое воплощение неутомимого страстного труда, не знающего, что такое нерасположение к работе, вызываемое каким-нибудь сомнением или тревогами о собственном здоровье и жизни. И теперь, после продолжительного пребывания в атмосфере жаркой и душной, от большого скопления людей в тесной избушке, после долгих усилий мысли, шибовский раввин не лег на свое твердое ложе и не вышел за пределы местечка, где свежесть и тишина могли бы обвеять ему лоб, облитый потом и нахмуренный от напряженного труда, но остался на той же самой скамейке, где сидел-с раннего утра, и, раскрыв перед собой большую книгу, читал ревностно, благоговейно, до самозабвения. Книгу эту, впрочем, как и все другие, имевшиеся у него, он прочитал уже столько раз, что знал ее почти наизусть от начала до конца. Однако читал ее постоянно, потому что из-за слов перед ним вставали все новые значения и тайны, а он стремился к конечному пониманию этих значений и тайн всеми силами своей души, горевшей в огне мистических верований, мечтаний и стремлений.
Зато ребе Моше отдыхал, хотя тоже не вполне. Он сидел в углу комнаты на полу, уткнув локти в поднятые колени и положив подбородок на ладони; взор его был неподвижно устремлен в склоненное над книгой лицо учителя. Это было созерцание, подобное тому, с каким христианский учитель всматривается в изображение святого покровителя своего ордена, с каким полудикий негр приглядывается к фетишу, выструганному из дерева, с каким исследователь, страстно влюбленный в природу, смотрит в пространство, усеянное мириадами светящихся небесных тел. В глазах ребе Моше, устремленных на лицо великого раввина, отражались обожание, удивление и любовь.
Вдруг двери, ведущие в комнатку, отворились, и за порогом ее показался помещик Камионский. Он задержался там, на минуту и, обратившись к шедшему за ним Янкелю, сказал:
— Останься тут, пан Янкель, я один поговорю с паном раввином.
Вслед за этим он нагнул голову, чтобы пройти в дверь, слишком низкую для его высокой и статной фигуры.
Переступив через порог, помещик бросил вокруг себя вопросительный взгляд.
Напротив него, у черной от пыли и грязи стены, сидел на скамейке человек в нищенской одежде, с черными, как ночь, волосами и бородой, с лицом почти оливкового цвета. При входе его он оторвался от книги с пожелтевшими древними страницами. Над низким лбом этого человека, прорезанным несколькими глубокими поперечными морщинами, полукругом торчал измятый козырек шапки, сдвинутой на затылок, а глаза его, черные и пылающие, с невыразимым изумлением остановились, на лице пришедшего.
В углу комнаты, возле самого пола, темнела еще другая человеческая фигура, но на нее молодой помещик бросил только мимолетный взгляд. Ему даже и в голову не пришло, что сидевший на скамейке человек, с продырявленными рукавами и с застывшим удивленным выражением в глазах, был именно тот шибовский раввин, слава о котором, распространившись на много миль вокруг среди еврейского мира, разрозненными, неясными отзвуками проникла также и в христианские сферы.
Камионский приблизился к этому человеку и довольно вежливо спросил:
— Могу ли я видеть шибовского раввина?
Никакого ответа не последовало.
Сидевший на скамейке человек только вытянул в его сторону длинную желтую шею и еще шире открыл глаза и рот. Изумление, а может быть, и какое-то другое вдруг проснувшееся в нем чувство придали всей его фигуре выражение тупости, доходившей почти до идиотизма. И неудивительно, конечно, что Исаак Тодрос, при виде стоявшего перед ним шляхтича, испытал такое потрясающее впечатление. Это был первый эдомит, переступивший его порог с тех пор, как он сам жил тут, первый эдомит, которого увидели вблизи его глаза и который обратился к нему со словами, звучавшими в его ушах совершенно чуждо, непонятно и почти дико. Если бы ангел Мататрон, небесный покровитель и защитник Израиля, или даже сам вождь и начальник чертей явился перед ним, он был бы удивлен и потрясен менее; ведь со сверхъестественными существами он был связан тесными, хотя и косвенными отношениями. Он изучал и знал их происхождение, природу, особенности и все их проявления. А откуда явился этот представительный, высокий человек в омерзительном одеянии, которое не доходило ему даже до колен, со своим белым, как у женщины, лбом и непонятной речью? Зачем он пришел? Чего он хотел? Не был ли это идумеянин? Филистимлянин? Суровый римлянин, который победил мужественного Баркобека? Или, по крайней мере, испанец, который истребил знаменитую семью Абрабанелов, а предка его, Тодроса, подло выгнал из страны?
Подождав немного ответа на свой вопрос и не дождавшись его, Камионский спросил вторично:
— Могу ли я видеть шибовского раввина?
На этот раз, на звук его несколько повышенного голоса темневшая в углу комнаты серая человеческая фигура зашевелилась и медленно встала. Реб Моше, глядя на пришедшего с открытым от удивления ртом и с застывшими от изумления глазами, выдвинулся на свет и горловым голосом протяжно произнес:
— Га!
При виде этого человека, одетого с первобытной и неслыханной в других местах простотой, на лице помещика Камионского дрогнула и расплылась быстро подавленная улыбка.
— Мой пан! — обратился он к ребе Моше, — что этот человек глух или нем? Уже два раза я спрашиваю его о шибовском раввине и никакого ответа не получаю.
И помещик указал на Тодроса, который медленно повернулся теперь к меламеду и, вытянув к нему шею, спросил:
— Вос загтер? Вос выль ер? (Что он говорит? Чего он хочет?)
Реб Моше вместо ответа еще шире открыл рот, и в эту минуту за отворенным окном раздались шорох и шопот. Камионский посмотрел в сторону окна и увидел, что там было полно людей, заглядывавших со двора в глубь комнаты. На их лицах выражались любопытство и некоторый испуг. Камионский обратился к ним с вопросом:
— Здесь живет шибовский раввин?
— Здесь! — отозвалось несколько голосов.
— А где же он?
Десяток пальцев указал на человека, сидевшего на скамейке.
— Как! — воскликнул шляхтич. — Этот человек ваш знаменитый мудрый раввин?
Лица, смотревшие в окно, просияли каким-то особенным блаженством и взглядом подтвердили слова шляхтича.
Видно было, что Камионским овладело сильное желание рассмеяться, которое, однако, он снова подавил.
— А это кто? — спросил он, указывая на реб Моше.
— Ну, — ответило ему из окна несколько голосов, — это меламед, очень мудрый и благочестивый человек.!
Камионский снова обратился к Тодросу.
— Почтенный пан раввин, — сказал он, — я бы хотел поговорить с паном несколько минут без свидетелей.
Тодрос ответил гробовым молчанием. Только его дыхание становилось все более быстрым, а глаза все более пламенными.
— Пан меламед! — сказал шляхтич, обращаясь к босоногому человеку в грубой рубахе, — может быть, у вас сегодня такой день, что вашему раввину запрещено говорить?
— Га? — протяжно спросил реб Моше.
Камионский, не то, смеясь, не то с гневом, крикнул стоявшим за окном людям:
— Почему они не отвечают?
Наступило долгое молчание. Люди, заглядывавшие в окно, посмотрели друг на друга с видимым смущением.
— Ну! — отозвался кто-то посмелее, — они понимают только по-еврейски!
Камионский широко открыл глаза. Он ушам своим не поверил. Смех и вместе с тем какое-то неопределенное чувство гнева овладевали им.
— Как! — воскликнул он, — они не понимают языка той страны, в которой живут?
Молчание.
— Ну, — сказал наконец кто-то за окном, — не понимают.
В голосе, произнесшем эту краткую фразу, прозвучала глухая неприязнь.
В эту минуту Исаак Тодрос вскочил со своего места, выпрямился, поднял обе руки над головой и торопливо заговорил:
— Придет такой день, когда Мессия проснется в птичьем гнезде, висящем в раю, и сойдет на землю. Тогда на всем свете начнется великая война, Израиль восстанет против Эдома и Измаила, а Эдом и Измаил, побежденные, лягут у ног его, как подрубленные кедры.
Произнося слова: «Эдом и Измаил», говоривший вытянул указательный палец по направлению к стоявшему посреди комнаты эдомиту. Этот жест был грозен и торжественен; сурово и страстно пылали у него глаза; он быстро вздохнул всей грудью и, возвысив голос, повторил еще раз:
— Эдом и Измаил лягут у ног Израиля, как сломанные кедры, а тяжесть мести господней обрушится на них и сотрет их в прах.
Теперь пришла очередь ничего не понимать стоявшему посреди комнаты эдомиту. Он и в самом деле был похож на высокий и могучий кедр, но совсем не на такой, которому предстояло бы в скором времени подвергнуться катастрофе и рассыпаться в прах. Но он чувствовал, что не в силах удержаться от гомерического хохота, чего он счастливо избегал до сих пор, хотя и с немалыми усилиями.
— Что он говорит? — спросил молодой помещик, обращаясь к людям, теснившимся за окном.
Ответа не последовало. Все стояли, устремив глаза на говорившего мудреца, а на темном кругловатом лице мела-меда разливалось уже выражение несказанного восторга.
— Милые мои! — воскликнул Камионский, — скажите же мне, что он говорит?
Чей-то голос от окна, грубый и хрипловатый, но с выражением какой-то удивительной насмешливости и как бы с желанием отплатить ему, ответил:
— А ясный пан не понял?
Этот наивный, странный, необычный вопрос победил все усилия воли молодого помещика. В голубых глазах его заискрилось неудержимое веселье, а из груди вырвалась длинная громкая гамма смеха.
С этим смехом он повернулся к выходу.
— Дикие люди! — воскликнул он в дверях.
Проходя по двору синагоги, он продолжал смеяться все громче и громче, а люди, теснившиеся у окна раввина, повернули теперь головы в его сторону и смотрели ему вслед глазами, полными изумления и острой, глубокой обиды.
И неудивительно. Молодой помещик смеялся, но, несмотря на смех, в глубине своей груди чувствовал глухой гнев и раздражение на этих еврейских мудрецов, которых он видел минуту тому назад и которые казались ему дикими и весьма комичными людьми, не знающими даже языка той страны, воздухом которой они дышат и плодами которой они питаются в течение столетий. Люди же, теснившиеся возле хаты раввина, смотрели ему вслед глазами, полными неприязни, доходившей почти до ненависти, потому что своим смехом помещик оскорблял то, что было для них дороже и выше всего. Бедные израильские мудрецы и их почитатели, бросающие вслед эдомиту полные ненависти взгляды! Бедный эдомит, смеющийся над израильскими мудрецами и их почитателями! Но больше всех несчастна, о, глубоко несчастна та страна, сыны которой после вековой совместной жизни не понимают ни языка, ни сердца друг друга!
Когда молодой помещик выходил со двора молитвенного дома, Янкель Камионкер оказался рядом с ним.
— Ну, пан Янкель, — воскликнул помещик, — действительно же у вас мудрый и ученый раввин! Янкель ничего не ответил на это и сейчас же начал говорить о будущей аренде винокуренного завода у Камионского. Казалось, все происшедшее так мало затронуло его, что он даже и забыл обо всем. Камионский не забыл, но единственным ощущением, оставшимся у него от всего виденного и слышанного, было удивление, смешанное с весельем. Молодой пророк, рассерженный на пророка Янкель с длинными пейсами, раввин, не знающий никакого другого языка, кроме еврейского, и его товарищ, одетый с первобытной простотой, — все это представлялось ему то непонятным, то возмутительным, то смешным. Ему хотелось поскорее рассказать о приключении в еврейском местечке своим родным и приятелям, к которым он ехал. Как громко и сердечно будет смеяться над его повествованием румяный и добродушный пан Андрей! С какой пленительной улыбкой на розовых губах выслушает его рассказ дочка пана Андрея, прелестная Ядя, о пленительных улыбках которой помещик Камионский мечтал уже несколько месяцев, как верующий о рае.
Думая об улыбке прелестной Яди, молодой помещик вскочил в свой экипаж и, взглянув на западную часть неба, воскликнул:
— О, как долго меня тут задержали!
Потом, кивнув головой Янкелю, он крикнул кучеру:
— Пошел!
Сильная четверка серых подхватила изящный экипаж, который, как молния, промелькнул через площадь местечка и исчез в золотых клубах пыли.
На западной стороне неба медленно гасли яркие облака, прозрачные сумерки августовского вечера спускались над местечком и сероватыми тенями наполняли приемную комнату Эзофовичей. В этой комнате минуту тому назад раздавались раздраженные крики и брань, среди которых выделялся, как самый громкий и самый яростный, голос ребе Янкеля. Многочисленные члены семьи, которых рыжий Янкель осыпал жалобами, упреками и угрозами, отвечали ему различно — сдержанно и вспыльчиво, гневно и примирительно. Наконец жаловавшийся и угрожавший человек, весь, дрожа от гнева, а может быть, и от тревоги, выскочил из дому и во весь дух побежал к жилищу раввина; несколько оставшихся в комнате человек долго еще сидели и стояли в молчании, без всякого движения, словно гневные или беспокойные мысли, возникшие в их головах, приковывали каждого из них к месту.
Саул сидел на желтом диване с опущенной головой, с неподвижно сложенными на коленях руками и тяжело, скорбно и громко вздыхал. Возле него, стряхнув, наконец, с себя задумчивость и смущение, уселись на стульях Рафаил, Абрам и Бер. Тихо подошли и сели сзади своих мужей жены Рафаила и Бера, женщины, пользовавшиеся в семье любовью и уважением. В углу темнела еще одна человеческая фигура, которой никто не заметил. Это был Хаим, сын Абрама, задушевный приятель Меира.
Саул первый прервал молчание.
— Куда он пошел? — спросил старик.
— К раввину, жаловаться, — ответил Абрам.
— Он позовет Меира на духовный суд, — заметил Рафаил.
Саул закачался и простонал:
— Ай-ай! Бедная моя голова. До чего я дожил на старости лет! Мой внук будет привлечен к суду, будто какой-нибудь разбойник или мошенник!
— Он предстанет перед судом как доносчик! — с горячностью воскликнул Абрам, потом быстро и запальчиво продолжал — Тате, с Меиром надо что-нибудь сделать. Ты подумай и прикажи, что с ним сделать. Так больше не может продолжаться. Он погубит себя и сыновей наших, а всей нашей семье принесет стыд и несчастие. Тате, и так все уже говорят, что род Эзофовичей порождает таких людей, которые хотят подкопаться под израильский закон, ввести в дом Израиля ложных богов!
Рафаил поддержал брата:
— Это правда. Я сам слышал, как некоторые говорили, что род Тодросов и род Эзофовичей словно две реки, из которых одна плывет назад, а другая вперед. Они постоянно встречаются друг с другом и борются, стремясь столкнуть под землю одна другую. Эти разговоры, было, утихли, и люди забыли о них. Теперь об этом снова говорят. И виноват в этом Меир. Так дальше не может продолжаться. С ним надо что-нибудь сделать. Ты, тате, подумай об этом и прикажи, а мы выполним твое приказание.
Среди неверного света сумерек видно было, как на морщинистом лице Саула выступил кирпичный румянец.
— Что же делать с ним? — спросил он после продолжительного молчания, и голос его прозвучал, как подавленное рыдание.
Рафаил сказал:
— Надо его как можно скорее женить!
Бер, до сих пор молчавший, отозвался:
— Надо его отсюда выслать.
Саул долго думал, потом ответил:
— Все ваши советы нехороши. Наказать его очень строго я не могу. Что бы сказала тогда душа отца моего, Герша, по следам которого он хочет идти и судить которого я не могу? Женить его быстро также не могу, потому что он не такой ребенок, как все. Он горд и смел, он не даст заковать себя в цепи. Впрочем, он уже так запятнал себя и его так сурово осуждают, что ни один богатый и ученый еврей не отдаст ему свою дочь в жены…
Тут голос Саула снова задрожал от чувства глубокого унижения. Вот чего он дождался — его внука, когда-то самого любимого из всех, ни одна из достойнейших еврейских семей не захочет уж принять к себе как своего сына.
— Выслать его отсюда, — продолжал Саул, — я тоже не могу… потому что меня страх берет, как бы он на широком свете окончательно не расстался с верой отцов своих… Я теперь в таком положении, как тот великий и ученый раввин, о котором написано, что у него был очень безбожный сын, тайно от него евший хазар. Люди советовали ему послать этого сына в свет и подвергнуть его бедствиям и суровым лишениям. Но он ответил: «Пусть мой сын останется при мне, пусть постоянно смотрит на мое лицо, огорченное его поведением; быть может, это зрелище сделает его сердце мягким и послушным, суровые же бедствия могут превратить его сердце в твердый камень…»
Саул замолчал, и все молчали. Время от времени это безмолвие прерывалось только вздохами двух женщин, сидевших позади своих мужей. В комнате все больше темнело.
Спустя некоторое время тихим и как бы несмелым голосом заговорил Бер:
— Позвольте мне открыть сегодня перед вами мое сердце. Я редко говорил, потому что каждый раз, как я начинал, на меня обрушивались воспоминания моей молодости, и тогда голос мой звучал как из-под земли и был всегда самым тихим из всех голосов в нашей семье. Я совсем перестал говорить и давать советы, заботился только о жене, о детях, о делах моих. Но теперь я опять вынужден заговорить. Зачем так долго думать о том, что сделать с Меиром? Дайте ему свободу. Позвольте ему идти в свет и не наказывайте его ни гневом вашим, ни суровой нуждой! Что он сделал? Он свято исполнял все синайские заповеди и ревностно изучал святую науку, а все братья и все сестры его в нашей семье, и даже бедные, простые люди, живущие в нужде и темноте, любят его, как собственную душу. Чего хотите вы от него? За что его наказывать? Что он сделал дурного?
Слова Бера, произнесенные не то ленивым, не то робким голосом, произвели на всех присутствующих сильное впечатление. Жена его Сара, видимо, испуганная, тянула его за рукав сюртука и шептала ему в ухо:
— Ша-ша, Бер! На тебя будут сердиться за твои дерзкие слова!
Саул несколько раз подымал голову и несколько раз снова опускал ее. Казалось, что признательность к Беру боролась в нем с оскорблением и гневом. Порывистый Абрам воскликнул:
— Бер! Твои собственные грехи заговорили теперь твоими устами! Ты заступаешься за Меира, потому что сам был таким же, какой он теперь!
Рафаил проговорил с обычной серьезностью:
— Бер, ты упомянул о синайских заповедях и сказал, что Меир не грешил против них. Это правда. Только ты забыл, что израильский закон состоит не только из этих десяти заповедей, которые Моисей услышал от господа на горе Синае, но кроме них еще из шестисот тринадцати повелений, записанных в Талмуде великими танаитами, амораитами, гаонами и раввинами. Мы должны повиноваться не десяти, а шестистам тринадцати заповедям. Меир же нарушил многие из этих заповедей Талмуда…
— Он много грехов совершил! — воскликнул Абрам. — Но наибольший его грех — тот, который он допустил сегодня. Он брата своего, еврея, обвинял перед чужим человеком, он подверг голову его большой опасности и нарушил единство и союз израильского народа! Что же станет с нами, если мы будем жаловаться чужим людям друг на друга? А кого же нам любить и защищать, как не братьев наших, которые является костью от костей наших и плотью от плоти нашей? Он больше пожалел чужого человека, нежели брата своего, еврея, пусть же ему за это…
Вдруг страстный и вспыльчивый человек этот сразу оборвал свою речь и замолчал. С открытым ртом, неподвижный, как статуя, он сидел против окна и застывшими от ужаса глазами смотрел в него.
— Что это такое? — воскликнул он, наконец, дрожащим голосом.
— Что это такое? — повторили за ним все присутствующие, и все, за исключением Саула, встали со своих мест.
В комнате, за минуту перед этим темной, стало так светло, как если бы на площади запылали тысячи факелов, вливая широкими полосами свой свет внутрь дома. И это действительно были факелы, но только они пылали не на площади местечка, а где-то в нескольких верстах отсюда и освещали не только дом Эзофовичей, но и половину неба, заливая его морем яркого света.
Озаренные вдруг разгоревшимся светом мужчины стояли посреди комнаты, неподвижные, онемевшие, вглядываясь в огненные столбы, расплывавшиеся по небу все шире, все выше.
— Как он скоро выполнил свой замысел! — произнес Абрам.
Никто ему не ответил.
В местечке, за минуту перед этим совершенно тихом, поднялись крики и шум. Ни один народ в мире не поддается так легко и быстро всякого рода впечатлениям, как еврейский. На этот раз впечатление было сильное. Его вызвала могучая стихия, разносящая по земле уничтожение, а по небу свет величественного зарева. Было слышно, как со всех улиц и уличек местечка несется топот бегущей к загородным полям тысячной толпы. За окнами дома Эзофовичей вся площадь чернела от этой устремившейся в одном направлении толпы и гудела от шума всевозможных вопросов и предположений. Над этим шумом пронеслось несколько более громких возгласов.
— Камионка! Камионка! — кричали люди, лучше других знакомые с местностью.
— Херсте! Херсте! Камионский двор! — подхватил целый хор голосов.
— Ай-ай! Такой большой двор! Такой красивый двор!
Это были последние возгласы, которые, взвившись над шумящей за окнами толпой, проникли в дом Эзофовичей. Толпа пронеслась через площадь на окраину местечка, и отголоски ее топота и восклицаний стали доноситься уже только издалека и неясно.
Тогда старый Саул встал с дивана и, повернувшись лицом к окну, долго стоял так, молча, не двигаясь.
Потом он медленно поднял руки, которые слегка дрожали, и дрожащим же голосом сказал:
— Во времена отца моего, Герша, и в мои времена не делалось таких вещей на свете, и таких грехов среди Израиля не было… Из рук наших плыли на этот край серебро и золото, а не огонь и слезы…
Помолчав немного, словно погруженный в глубокую задумчивость, со все еще устремленным в огненное небо взглядом, он сказал еще:
— Отец мой Герш жил в большой дружбе с его дедом… Они часто разговаривали друг с другом о важных делах, и пан Камионский, который опоясывался тогда еще золототканым поясом и носил у пояса длинную саблю, говорил, обращаясь к отцу моему Гершу: «Эзофович! Ты носишь в себе великое сердце, и когда наша партия возьмет верх, мы сделаем тебя в сейме шляхтичем!» Сын его не был уже таким, как отец; но со мной он всегда разговаривал вежливо. В течение тридцати лет я скупал у него в имении весь хлеб, и каждый раз, когда ему было нужно, я открывал ему мой карман, в который текло много барышей с той земли, что была его собственностью… Пани Камионская… она и теперь еще жива… очень любила мою мать Фрейду и один раз сказала ей: «У пани Фрейды в доме много бриллиантов, а у меня только один»… Бриллиантом она называла своего сына, который был у нее один, как зеница ока… того самого сына своего, дом которого теперь в огне…
Вытянув свой указательный палец по направлению к огненному зареву, он замолчал, охваченный ужасом, жалостью или, может быть, изумлением; а стоявший сзади него Рафаил сказал:
— В последний раз, как я был в имении Камионского, старая пани сидела на крыльце со своим сыном, и когда я начал говорить о деле, она сказала ему: «Помни, Зыгмунт, никому не продавай своего хлеба, кроме Эзофовичей, потому что они самые честные из всех евреев и больше всех расположены к нам». А потом она спросила у меня: «Жива ли еще старая Фрейда, и как поживает ее сын, Саул, и много ли у него уже внуков?» Потом она посмотрела на своего сына и сказала мне. — «Пан Рафаил! А вот у меня еще нет ни одного внука!» Я вежливо поклонился ей и ответил: «Пусть вельможная пани проживет сто лет и дождется себе внуков!» Я не вложил ей в ухо лжи. Я искренно пожелал ей этого. И почему бы мне желать ей плохого?
Рафаил замолчал, а через минуту Саул, не поворачивая головы, коротко спросил его:
— Рафаил, сколько уже лет ты ведешь с молодым Камионским торговлю?
— Я веду с ним торговлю с тех пор, как он вырос и стал хозяином. Никакого другого купца, кроме меня, он знать не хочет.
— Рафаил, видел ли ты от него какую-нибудь обиду?..
Рафаил, подумав немного, ответил:
— Нет, я от него никогда никакой обиды не видел. Он немного горд, это, правда, и о делах своих не особенно заботится. Любит покутить, а когда еврей кланяется ему, он свысока кивает ему головой и не хочет иметь его приятелем… Но сердце у него доброе, и слово у него верное, а в делах он скорее себя даст обидеть, нежели сам кого-нибудь обидит…
Стоявшая сзади него Сара сплела руки и, вздыхая, покачивая головой, простонала:
— Ай-ай! Такой молодой пан, а уже такое несчастие свалилось ему на голову!
— Такой красивый пан и думал жениться на такой красивой панне! — вторила ей жена Рафаила.
— А как он женится теперь, если пламя уничтожит его дом? — сказал Саул и прибавил тише: — Великий грех пал сегодня на душу Израиля!
Словно в ответ на слова отца Рафаил произнес степенно и тихо:
— Великий позор обрушился сегодня на голову Израиля!
Из угла комнаты, в котором меньше всего были видны яркие отблески пожара, вышел Абрам. Сгорбленный, с опущенной головой, дрожа всем телом, он приблизился к отцу, схватил его руку и прижал ее к своим губам.
— Тате, — сказал он, — благодарю тебя за то, что ты не позволил мне принять участие в этом деле!
Саул поднял голову. Румянец покрыл его морщинистое лицо, энергия блеснула в его потухших глазах.
— Абрам! — сказал он голосом, в котором звучали повелительные ноты, — вели себе сейчас же запрячь в телегу двух лошадей. Садись на телегу и поезжай скорее к помещикам, у которых гостит Камионский. Оттуда пожара не видно… Поезжай скорее и скажи ему, чтобы он ехал спасать свою мать и свой дом…
Затем обратился к Рафаилу:
— Рафаил! Ступай в корчму Янкеля и Лейзера, — там гуляют и пьют камионские мужики… Гони их, чтобы ехали скорее и спасали дом своего помещика…
Послушные, как маленькие дети, оба сына Саула торопливо покинули комнату; женщины выбежали на крыльцо дома, и только тогда Бер спросил Саула:
— Тате! А что ты думаешь теперь о Меире? Плохо он сделал, когда предостерегал Камионского?
Саул опустил голову, но ничего не ответил.
— Тате! — сказал Бер, — спаси Меира. Иди к раввину и дайонам (судьям) и к кагальным и проси их, чтобы они не привлекали его к суду.
Саул долго не отвечал.
— Тяжело мне идти к ним, — ответил он наконец, — и тяжелее всего мне склонять мою седую голову перед Тодросом… Ну, — прибавил он через минуту, — пойду завтра… Надо защитить ребенка, хотя он дерзок, слишком мало чтит и любит веру и обычаи отцов своих…
* * *
В то время как все это происходило в доме Эзофовичей, маленькая лужайка за местечком была сплошь покрыта теснившейся черной волнующейся и шумящей толпой. С этого места лучше всего было видно страшное, но великолепное зрелище. Здесь и собралось все население местечка, привлеченное любопытством и жаждой впечатлений.
Зарево пожара поднималось из-за соснового леса. Облитый ярким светом, он стоял теперь весь розовый и такой прозрачный, что, казалось, можно бы сосчитать все ветки на вершинах его гладких деревьев. Широко разлившись полукругом, зарево, ярко-красное внизу, выше становилось все бледнее, принимая всевозможные золотистые оттенки, а на самом верху оно светло-желтой полоской пополам перерезало небесный свод и сливалось с его бледной синевой. При этих ярких и резких отблесках звезды светились слабо, будто позолоченные кружочки; только на другой стороне горизонта, соперничая с заревом пожара, подымалась из-за рощи огромная красная луна.
Среди людей, усеявших лужок, велись разнообразные отрывочные разговоры. Рассказывали, что Янкель, при первых отблесках пожара, во весь дух побежал к горевшему двору, горюя и громко выражая отчаяние по поводу, вероятно, гибели своей водки, которой у него было там большое количество. Значительная часть людей, слушавших этот рассказ, двусмысленно усмехалась, другие покачивали головами, выражая сожаление относительно предполагаемых огромных потерь Янкеля. Большинство хранило относительно Янкеля и той водки, которой грозило уничтожение, глубокое молчание. Видно, многие догадывались о правде и даже там и сям знали о ней, но вмешиваться хотя бы одним неосторожным словом в дело, чреватое всевозможными опасностями, никто не смел и не хотел.
Спустя час после первых отблесков показавшегося на небе огненного зарева по улице, прилегавшей к лужайке, застучали катившиеся с невероятной быстротой колеса, и на, луг вылетел экипаж, запряженный четверкой лошадей, мчавшихся полным галопом. Это была не обычная дорога в Камионовку, здесь даже вообще не было никакой дороги; но, взяв это направление, владелец горевшего двора значительно сокращал расстояние, отделявшее его от дома. Он не сидел, а стоял в своем изящном экипаже; рукой держался за козлы и, наклонившись вперед, пристально вглядывался в розовый от зарева лес, за которым в ярко пылавшем доме его предков находилась его мать.
Однако, когда лошади выскочили на луг, он увидел теснившуюся там густую толпу и крикнул кучеру:
— Осторожней! Не раздави людей!
— Добрый человек! — сказал кто-то в толпе. — В таком несчастии думает еще о том, чтобы не причинить беды людям!
Еще кто-то громко вздохнул.
Несколько человек зашептало, близко наклонив головы друг к другу. В этом шопоте послышалось имя Янкеля, произнесенное тихо, очень тихо.
Было, однако, одно место не на лугу, а среди прилегавших к нему уличек, где разговаривали громко. У хаты портного Шмуля, на лавке, находившейся под окном, стоял Меир. Оттуда он смотрел на лужайку, черную от народа, и на пламеневшее за лужайкой зарево. Пониже стояло несколько человек, его постоянных товарищей. По их лицам можно было узнать, что они были взволнованы до глубины души. Хаим, сын Абрама, который из уголка приемной комнаты Эзофовичей слышал весь разговор, происходивший час тому назад между Саулом и его сыновьями, рассказывал теперь о нем своим приятелям. Возбужденный, он не сдерживал своего голоса. Он повторял каждое слово, которым обменялись между собой старшие члены его семьи, громко и отчетливо. Возмущение и стыд сделали их молодые, обычно робкие сердца смелее. В этом хоре не было слышно, только одного голоса, который обыкновенно звучал в нем, произнося слова, полные ума и утешения. Среди товарищей, собравшихся возле Меира, не было Элиазара; он сидел несколько поодаль на земле, опираясь спиной о черную стену избушки. Упершись локтями в колени и низко опустив голову, он закрывал себе лицо руками. Казалось, он окаменел в этой позе, полный стыда и скорби. Время от времени он начинал раскачиваться из стороны в сторону. Видно было, что эта мягкая, мечтательная и робкая душа погрузилась теперь в море горьких, отчаянных, но, может быть, и укрепляющих размышлений.
Вдруг краем улички, прячась в тени хат и заборов, промелькнула с невероятной быстротой высокая тонкая человеческая тень; возле группы юношей, собравшихся у дверей Шмуля, послышалось из чьей-то страшно измученной груди громкое дыхание и вместе с ним подавляемые стоны.
— Шмуль! — произнесли стоявшие юноши.
— Тише! — пониженным голосом воскликнул Меир и соскочил с лавки на землю. — Пусть язык ваш не произносит имени этого несчастного, чтобы не навлечь опасности на его голову. Я стоял тут, ожидая его возвращения… Уходите отсюда и помните, что глаза ваши не видели, как Шмуль вернулся оттуда, со стороны пожарища.
— Ты прав! — прошептал Ариэль. — Он бедный брат наш!
— Бедный! Бедный! Бедный! — повторило несколько голосов.
Все разошлись. Возле хаты бедняги остались только двое — Меир, который стоял у порога ее, и Элиазар, которого ничто не могло вывести из его состояния окаменелости.
Шмуль, вбежав в хату, из которой все ушли, кроме самых младших детей и его слепой матери, бросился на грязный пол, ударился об него головой и, вздыхая и всхлипывая, заговорил прерывистым голосом:
— Я не виноват! Я не виноват! Я не виноват! Я не поджигал и посуды этой с маслом не держал в руках! Он… Иохель… все сделал… Я стоял в поле и сторожил… но когда перед моими глазами блеснул огонь… Ай-вей! Ай-вей! Я узнал тогда, в чем принимал участие…
— Тише! — послышался возле бессознательно мечущегося человека заглушаемый голос, полный печали. — Замолчи, Шмуль, а я закрою окно твоей хаты…
Шмуль поднял лицо и тотчас же снова прижал его к земле.
— Морейне! — застонал он, — морейне, моим дочерям больше шестнадцати лет, и мне нужно было выдать их замуж! А подати за целый год мне нечем было заплатить!..
— Встань и успокойся! — сказал Меир.
Шмуль не слушал. Сметая лицом, пыль с грязного пола, он продолжал стонать:
— Морейне, спаси меня! Я совсем уже погубил и тело, и душу свою.
— Ты не погубишь своей души. Предвечный, взвешивая грехи твои, положит на чашку весов твою бедность, если только ты не возьмешь тех денег, которыми соблазнили тебя злые люди…
На этот раз Шмуль поднял свое лицо с земли. Исхудалое, смертельно бледное, нервно вздрагивающее, оно отразило на себе доведенную до последних пределов нужду человека.
Посмотрев на Меира глазами, в которых попеременно виднелись то мучительная скорбь, то смертельный страх, он обвел дрожащей рукой комнату и всхлипнул:
— Морейне! А как же я буду дальше жить без этих денег?
Прошло добрых полчаса, прежде чем Меир покинул избушку, в которой Шмуль все тише и тише осыпал себя обвинениями, жаловался и предавался отчаянию. Широкая полоса яркого света, проникая с улицы, освещала один из углов тесных сеней. В этом углу, у черной покосившейся стены, белели две козы, из которых одна стояла, а другая лежала. Между козами на вязанке измятой соломы спал Лейбеле. Руки его были засунуты в изорванные рукава серого сюртучка, а голова, озаренная заревом пожара, опиралась о доску, острым углом выступавшую из-под стены. Ни шум и крики, ни ослепительный блеск неба, ни стоны и жалобы отца — ничто, не прервало невинного сна, которым это дитя нужды, мрака и преступления заснуло среди двух коз, своих лучших приятельниц…
На следующий день в местечке царило необычайное оживление. Больше ни о чем не говорили там, как только о пожаре, который почти дотла уничтожил камионский двор, о больной старой пани, которую наскоро перевезли к каким-то соседям или родственникам, и об огромных потерях пана Камионского, у которого, кроме усадебных построек, сгорела еще и рига, полная хлеба, уже свезенного с полей.
Разговоры об этом происшествии происходили на площади, среди уличек, у порогов домов, где люди собирались кучками, и если бы кто-нибудь подслушал тихие, горячие разговоры, которые велись в этих кучках, то услышал бы ясно поставленный вопрос:
— А что с ним будет?
Вопрос касался не Камионского, а Камионкера. Камионского жалели, а Янкеля осуждали. Но Камионский был человеком чужим, совершенно не знающим шибовского населения и известным ему только по наружности. А Камионкер сжился с этим населением с первых дней своего существования, и у него образовалась там обширная сеть отношений деловых и дружеских; вдобавок он был окружен в глазах низших слоев этого населения ореолом богатства и правоверной ревностной набожности. Неудивительно поэтому, что за него боялись даже те, кто порицал его.
— Заподозрят ли его? — спрашивали то в одной, то в другой группе.
То тот, то другой отвечал:
— На него не упало бы ни малейшего подозрения, если б Меир Эзофович не вложил пурицу в голову скверных мыслей…
— Он нарушил единство и союз израильского народа…
— Он подверг опасности голову брата своего…
— Что же удивительного? Он кофрим… вероотступник…
— Он на ребе Моше посмел поднять руку…
— Он с караимской девушкой ведет нечистую дружбу…
И те, что говорили так, бросали на дом Эзофовичей неприязненные, а иногда и грозные взгляды.
А дом Эзофовичей в этот день стоял таким молчаливым и мертвым, как никогда. Даже окна его, выходившие на площадь, не были отворены, хотя обыкновенно всю весну и все лето они бывали постоянно так широко открыты, что если бы только кто-нибудь захотел, то мог бы с утра до вечера наблюдать через них жизнь многочисленной семьи, у которой никогда ничего не было такого, что следовало бы скрывать.
В этот день, однако, никто в доме не подумал о том, чтобы отворить окна или убрать большую приемную комнату, обыкновенно убиравшуюся очень тщательно. Женщины ходили из угла в угол сами не свои, в чепцах, немного помятых от того, что часто хватались руками за голову. Время от времени они останавливались перед кухонным очагом и, закрыв лицо руками, задумчиво вздыхали. У Сары были даже заплаканные глаза. И неудивительно. Все утро у ее мужа Бера виднелись на лбу те две глубокие морщины, по которым она догадывалась о каких-то неизвестных и непонятных для нее страданиях; с ней он не сказал ни слова, а теперь сидел в приемной комнате, подперев голову руками, и молча попеременно взглядывал своими затуманенными глазами на ее двух братьев — то на Рафаила, то на Абрама. Рафаил, правда, склонился над счетной книгой, но видно было, что он не считает, а глубоко думает о чем-то очень важном. Время от времени он подымал глаза от книги и поглядывал на Бера и Абрама. Старый Саул, сидевший на желтом диване, тоже делал вид, будто он углубляется в чтение толстой божественной книги. В действительности же он понимал прочитанное еще меньше, чем обыкновенно, а по лицу его было видно, что его беспокоит что-то мучительно и глубоко.
У окна на своем обычном месте, в глубоком кресле с ручками, сидела прабабушка Фрейда. Из всей семьи только в ней одной не было заметно никакой перемены. Сонная улыбка не исчезла с ее губ. Она жмурила веки и вновь открывала их, то, просыпаясь, то снова засыпая.
Сейчас же после полудня женщины постлали на стол белую скатерть и начали устанавливать на нем столовую посуду.
В комнату вошел Меир. Входя, он отворил двери тихо и медленно, а потом остановился у стены и взглядом обвел всех присутствующих. Взгляд этот был неспокойный, почти тревожный и полный глубокой печали. Присутствующие в комнате молча подняли на него глаза и сейчас же снова опустили их, но в одно это мгновение на юношу, робко стоявшего у стены, обрушилась гнетущая тяжесть немых упреков. В этих упреках была горькая обида за испытываемые тревоги и страх за свое спокойное существование, которому он угрожал и угрожал очень сильно, было в них и глубокое сострадание к нему, но также и невысказанная, еще далекая, угроза отвержения. Только одна прабабушка при виде вошедшего, подняла опущенные раньше веки, улыбнулась широкой улыбкой и прошептала:
— Клейнискинд!
Глаза Меира прильнули к ее лицу; в них блеснула какая-то жгучая и нетерпеливая мысль.
В эту минуту в комнате раздался звон и треск. Из кучки людей, там и сям черневших на площади и неприязненно поглядывавших на дом Эзофовичей, кто-то бросил в окно этого дома тяжелый камень, который разбил оконное стекло в мелкие куски и, пролетев как раз над головой Фрейды, упал посреди комнаты.
Лицо Саула покрылось кирпичным румянцем, женщины, накрывавшие на стол, вскрикнули, Рафаил, Абрам и Бер вскочили со своих мест, точно подброшенные пружиной. Все сразу устремили глаза на разбитое стекло в окне, но вскоре перевели их на прабабушку Фрейду, которая вдруг выпрямилась и, глядя на камень, лежавший посреди комнаты, воскликнула своим беззвучным, но сильным шопотом:
— Ну, это тот самый камень! Они бросили его в окно нашего дома тогда, когда мой Герш ссорился с реб Нохимом и хотел поддерживать дружбу с чужими людьми… это тот самый камень… В кого они бросили его теперь?..
Когда она говорила это, все морщины на ее лице дрожали, а глаза в первый раз широко открылись.
— В кого они опять бросили этот камень? — спросила Фрейда и обвела вокруг себя потемневшими и сверкающими глазами.
— В меня, эльте бобе! — ответил от противоположной стены дрожащий голос, полный невыразимой скорби.
— Меир! — крикнула прабабушка не беззвучным шопотом, как обыкновенно, а громким, почти пронзительным голосом.
Меир прошел через комнату, остановился перед ней, взял в свои ладони обе ее маленькие морщинистые руки и вперил в ее лицо взгляд, полный нежности; в этом взгляде была еще и какая-то мольба, и какой-то вопрос, не высказанный громко, а она подняла на него свои золотистые глаза, замерцавшие тревожным блеском.
Саул встал с дивана.
— Рафаил, — сказал он, — подай мне мой плащ и шляпу!
— Куда ты хочешь идти, тате? — спросили в один голос оба сына.
Старик с пылающим лицом ответил дрожащим голосом:
— Пойду склонить голову перед Тодросом. Пусть он не назначает суда над этим дерзким ребенком, пока не угаснет пламя гнева, вспыхнувшее в душе народа.
Минуту спустя седой патриарх наиболее уважаемой семьи в общине медленно и важно шел через площадь, одетый в длинный черный плащ и с высокой блестящей шляпой на голове. Стоявшие на площади кучки народа расступались перед ним, все низко кланялись ему. Кто-то, однако, громко сказал:
— Бедный ребе Саул, как жаль, что у него такой внук…
Саул ничего не ответил на эту колкость, только тонкие губы его сжались еще сильнее.
Прошло не меньше часа, пока Саул вернулся от раввина. Всех старших членов своей семьи он застал ждущими в приемной комнате. Меир также был тут; он сидел возле самого кресла прабабушки, рука которой, маленькая и сухая, крепко сжимала полу его одежды.
Сара сняла плащ с плеч отца.
— А что ты, тате, принес нам оттуда? — спросил Рафаил.
Саул тяжело дышал и мрачно смотрел в землю.
— Что я принес оттуда? — ответил он, немного помолчав. — Принес великий гнев и стыд. Сердце Тодроса радуется несчастью, которое постигло дом Эзофовичей… Усмешки, как змеи, ползают по его желтому лицу…
— А что он сказал? — спросило несколько голосов.
— Он сказал, что слишком долго прощал моему безбожному и дерзкому внуку… Реб Моше и Камионкер и весь народ просят его назначить суд над Меиром. По моей просьбе он отложил этот суд до завтрашнего вечера и сказал, что если Меир смирится перед ним и будет просить прощения у всего народа за свои грехи, то на его голову падет менее суровый приговор…
Глаза всех присутствующих обратились на Меира.
— А ты, Меир, что скажешь на это? — спросили его хором.
Меир минуту молчал.
— Дайте мне немного времени, может быть, до завтрашнего дня я найду какой-нибудь исход…
— Какой же исход ты можешь найти? — воскликнули присутствующие.
— Позвольте мне не давать вам ответа до завтрашнего дня, — повторил Меир.
Все кивнули головами и замолчали. Это означало безмолвное согласие.
У всех присутствующих чувства опасения и гнева боролись в сердце с чувством гордости. Они сердились на Меира, тревожились за него и боялись за спокойствие и благополучие всего своего дома. Но вместе с тем им неприятна была мысль, что одному из членов их семьи придется унижаться перед раввином и народом.
— Почем знать, — шепнул Рафаил брату, — быть может, он и придумает что-нибудь…
— Может быть, его мать приснится ему сегодня ночью и научит, что ему делать, — потихоньку вздохнула Сара.
Запоздалый обед прошел в глубоком молчании, прерываемом только вздохами женщин и плачем детей, которым матери запрещали смеяться и болтать.
Все члены семьи, сидевшие с огорченным и мрачным видом, поглядывали с удивлением на старую Фрейду, обнаруживавшую все время какое-то странное беспокойство. Правда, она ничего не говорила, но ни разу не задремала в продолжение обеда, а, наоборот, все время двигалась в своем кресле, бросая взгляды то на разбитое стекло в окне, то на Меира, то на места, куда несколько часов тому назад упал камень, брошенный с улицы.
— Что с ней? — тихонько и тревожно спрашивали некоторые из присутствующих.
— Ей что-то припоминается! — отвечали другие.
— Она чего-то боится!
— Она хочет что-то сказать, но не может…
Когда встали из-за стола, две правнучки хотели, по обыкновению, проводить Фрейду в соседнюю комнату и уложить в постель; но она сильно уперлась ногами в пол, а пальцем указала на свое кресло, стоявшее у окна.
Немного погодя люди, наполнявшие обширную комнату, стали один за другим покидать ее. Рафаил и Бер уехали на остальную часть дня в какое-то соседнее имение по важному и спешному для них делу. Абрам заперся в своей комнате, чтобы заняться счетами или же, быть может, чтением божественной книги. Саул приказал дочерям, чтобы в доме было тихо, и, тяжело вздыхая, улегся в постель. Женщины потушили огонь в кухне, тихо заперли двери в гостиную и вышли на двор, чтобы присматривать за играющими детьми, шить и вести друг с другом тихие разговоры.
Прабабушка осталась в гостиной, и — удивительное дело! — хотя вокруг нее водворилась глубокая тишина, она ни на минуту не задремала. Сидя в своем глубоком кресле, она смотрела на разбитое окно, и все время шевелила губами, словно что-то говоря самой себе. Иногда она покачивала головой, покрытой цветной повязкой; тогда бриллиантовая застежка на повязке осыпала ее пожелтевшее лицо потоками искр, а длинные серьги позванивали, прикасаясь к золотой цепочке.
Все время она шевелила губами, потом стала разводить руками. Казалось, она вела какой-то трудный и оживленный разговор с кем-то невидимым, быть может, с призраками, выступавшими в ее собственной памяти. Вдруг она тряхнула головой и заговорила:
— То же самое было, когда мой Герш нашел рукопись Сениора… В него злые люди бросали тогда камнями…
Потом она замолчала, и крупные блестящие слезы заволокли ее золотистые глаза и остановились под морщинистыми вздрагивающими веками.
Тогда у противоположной стены с лавки поднялся Меир, быстро прошел через комнату, сел на низенькую скамеечку, на которую старуха опиралась ногами, и, сложив свои руки на ее коленях, спросил:
— Бобе! Где рукопись Сениора?
При звуках этого голоса, который, наверное, напоминал ей, так же как и лицо Меира, человека, горячо любимого ею в дни молодости и счастья, Фрейда улыбнулась. Однако не опустила взгляда на сидевшего у ее ног внука, но сквозь слезы, все еще неподвижно стоявшие в глазах ее, продолжала смотреть в пространство и немного спустя зашептала:
— Поссорившись в первый раз с реб Нохимом и со всем народом, он пришел в свой дом, сел на скамейку очень печальный и позвал к себе свою жену Фрейду. Фрейда была тогда молода и очень красива; на голове у нее была белая, как снег, повязка; стоя у огня, горевшего в кухне, она присматривала за своими детьми и слугами. Но когда она услышала зов своего мужа, то сразу пошла к нему, остановилась перед ним и стала ждать, что он ей скажет. А он тогда спросил ее: «Фрейда! Где рукопись Сениора?»
Шопот старой женщины прекратился. Вместо него раздался голос юноши, сидевшего у ее ног. С силой, сжав свои сплетенные руки, он снова спросил:
— Бобе! Где рукопись Сениора?
Голова женщины, покрытая цветной повязкой, слегка закачалась, а тонкие желтые губы опять начали шептать:
— Он спросил: «Где рукопись Сениора? Мог ли Сениор спрятать ее под землею? Нет, он не спрятал ее под землею, потому что она сгнила бы там и ее съели бы черви. Спрятал ли он ее в стенах дома? Нет, он знал, что эти стены может пожрать огонь. Так где же он ее спрятал?»… Так долго спрашивал Герш, а жена его, Фрейда, долго думала над словами своего мужа, а потом указала пальцем на шкаф, в котором хранились старые книги Сениора, и сказала: «Герш, мой Герш! Рукопись эта там!» Когда Фрейда сказала это, Герш сильно обрадовался, а губы его произнесли: «У тебя, Фрейда, есть ум в голове, а душа твоя так же прекрасна, как и твои глаза!.»
При последних словах слезы, стоявшие у нее в глазах, скатились по морщинистым щекам на губы, которые, улыбаясь сонным воспоминаниям молодости и счастья, прошептали еще:
— И он сказал: «Добрая и умная жена дороже золота и жемчуга; при ней сердце мужа может быть спокойно!»
Юноша, сидевший у ее ног и смотревший ей в лицо взглядом, полным мольбы и томительного желания, снова спросил:
— Бобе! А что сделал Герш с этой рукописью?
Старая женщина минуту молчала, шевеля губами так, словно она разговаривала с кем-то невидимым, потом снова начала рассказывать:
— Герш вернулся один раз из далекого путешествия, снова сел на скамейку, очень печальный, и сказал, обращаясь к Фрейде: «Все пропало! Рукопись Сениора надо опять спрятать, потому что она теперь ни на что не может уже пригодиться». Фрейда спросила: «Герш, а где ты спрячешь эту рукопись?» Герш ответил: «Я спрячу ее там, где она была раньше, и ты одна будешь знать об этой тайне…»
Глаза Меира радостно заблестели.
— Бобе! Эта рукопись там?
Он указал на шкаф со старыми фамильными книгами. Но Фрейда не ответила ему, а только шептала дальше:
— Он сказал: «Ты одна будешь знать об этой тайне, а когда душа твоя будет расставаться с телом, ты скажешь о ней тому из своих сыновей или из внуков твоих, который больше всего будет похож на твоего мужа Герша…» А кто из сыновей и внуков Фрейды больше всего похож на ее мужа Герша? Больше всего похож на него Меир, сын Вениамина… Он так похож на него, как похожи друг на друга две песчинки… Это мой клейнискинд! Мой самый любимый! Фрейда скажет ему об этой тайне!
Меир держал теперь в своих ладонях обе руки прабабушки и покрывал их поцелуями.
— Боб е! — шептал он, указывая на шкаф с книгами, — там ли рукопись Сениора!
Но старая женщина и теперь еще не ответила ему прямо и только шептала дальше:
— Герш сказал Фрейде: «Если на самого любимого твоего сына или внука старшие в семье начнут подымать руку, и если в него народ станет бросать камнями, ты, Фрейда, скажи ему о нашей тайне! Пусть он возьмет рукопись Сениора, положит ее к себе на сердце, бросит свою семью и имущество и пойдет с ней в свет, потому что рукопись эта дороже золота и жемчуга, в ней заключается союз Израиля с Временем, которое широкой рекой плывет над головой его; и с Народами, которые, как большие горы, громоздятся вокруг него».
— Бобе! На меня старшие в семье начали подымать свои руки… от меня народ отвратил свое разгневанное лицо… Я тот внук твой, самый любимый, о котором тебе говорил муж твой Герш… Скажи мне, там ли, между теми ли книгами, рукопись Сениора?
Широкая, почти торжествующая улыбка раскрыла поблекшие губы Фрейды. Она встряхнула головой с чувством какой-то тайной радости и зашептала:
— Фрейда хорошо стерегла сокровище своего мужа. Она его защищала от всех, словно душу свою. Когда она осталась вдовой, в ее дом приходил реб Нохим Тодрос и хотел отдать на сожжение старый шкаф со старыми книгами. Потом приходил сын ребе Нохима, реб Борух Тодрос, и тоже хотел отдать на сожжение старый шкаф со старыми книгами… Но каждый раз, как они приходили, Фрейда загораживала старый шкаф своим телом и говорила: «Это мой дом, и все, что в нем есть, принадлежит мне!» А когда Фрейда становилась так перед старым шкафом, перед Фрейдой становились сыновья и сыновья сыновей ее и говорили: «Это мать наша, мы не дадим ее в обиду!» Реб Нохим сердился и уходил. А реб Исаак уже никогда и не приходил, потому что он знал от отцов своих, что пока жива Фрейда… старого шкафа никто не тронет… Фрейда хорошо стерегла сокровище своего мужа, с тех пор оно лежит себе там… и спит спокойно…
При последних словах старая женщина вытянула свой морщинистый палец по направлению к шкафу со стеклянными дверцами, стоявшему в нескольких шагах перед ней, и тихий смех, смех какой-то внутренней радости, какого-то почти детского торжества потряс ее грудь.
Возбужденный, лихорадочно взволнованный, Меир одним прыжком очутился возле шкафа и сильной, как никогда, рукой рванул его замок, сокрушенный временем и ржавчиной. Дверцы шкафа отворились настежь, из глубины вырвалась туча пыли и, как некогда белую повязку Фрейды и золотистые волосы Герша, так теперь пыль покрыла белой пеленой одежду и голову их правнука… Но он не обратил на это внимания и жадно погрузил руки в эти книги, из которых черпали свою мудрость два предка его и среди которых где-то была страстно разыскиваемая им путеводная звезда его.
Но Фрейда при виде раскрытого шкафа и вылетавших оттуда облаков пыли наклонилась вперед, вытянула перед собой руки и воскликнула: — Герш! Герш! Мой Герш!
Это не был уже ее обыкновенный беззвучный шопот, это был громкий крик, вырвавшийся из груди, охваченной радостью и мукой воспоминаний. Она забыла о правнуке. Ей, должно быть, казалось, что красивый юноша этот с золотистыми волосами, осыпанными пылью, был чудесным видением ее мужа, явившимся из неведомого мира.
Меир повернул к ней свое бледное лицо с горящими глазами.
— Бобе! — спросил он задыхающимся голосом, — где она? Наверху? Внизу? В этой книге? В этой? В этой?
— В этой! — воскликнула женщина, указывая пальцем на книгу, к которой Меир в это мгновение прикоснулся рукой. Через минуту листы, пожелтевшие от времени, но покрытые крупными и еще ясными буквами, зашелестели под толстым пергаментным переплетом книги. Меир бросился с нею к ногам прабабушки и стал покрывать поцелуями ее ноги, колени и руки; ежеминутно он хватался за голову, а в груди у него дрожали какие-то неопределенные звуки, не то стоны, не то смех.
Фрейда тоже улыбалась и дрожащими руками прикасалась к голове правнука; но веки ее начали уже понемногу закрываться, и на лицо вернулось обычное в течение уже многих лет выражение тихой сонливости. Тихая сладкая дремота, словно первая ласковая волна вечного сна, снова охватила эту столетнюю женщину, измученную долгим разговором и воспоминаниями, но все еще продолжавшую вглядываться в ясный призрак молодости, стоявший перед ней в блеске серебристых слез.
Страстные выражения благодарности и ласки внука перестали уже будить ее. Меир спрятал на груди пожелтевшие листы, и вскоре его быстрые шаги раздались по лестнице, ведущей на верхний этаж дома, где он помещался вместе со своими младшими братьями.
Целый вечер потом и всю ночь напролет в небольшом окне, находившемся под самой крышей дома, высокой и остроконечной, светился слабый огонек свечи и виднелись двигающиеся за окнами фигуры людей, то входивших в комнату, то выходивших из нее. Утром, на рассвете, боковыми дверями вышло из дому и разошлось в разные стороны местечка несколько молодых людей.
И вот по местечку чуть ли не с самого восхода солнца начали расходиться смутные и неопределенные слухи, которые толковались и передавались различно, но заинтересовывали и живо волновали все слои местного населения. Повседневные занятия шли как будто обычным порядком, однако, особенно на самых бедных уличках, раздавался непрерывный шум людских голосов, который, соединяясь с визгом, стуком и шорохом ремесленных инструментов, казался каким-то глухим жужжанием, звучащим где-то на дне муравейника. Неизвестно откуда, с какой стороны, из чьих уст возникали и расплывались по всем дворам, закоулкам, домам и лачугам какие-то известия, догадки и предположения…
«Сегодня, когда зайдет солнце и вечерние сумерки опустятся на землю, соберется в бет-га-кагале великий суд дайонов и кагальных с раввином Исааком во главе. Они будут судить молодого Меира Эзофовича».
«Как будут его судить? Какой приговор падет на его голову? Что с ним будет?»
«Нет, великий суд сегодня не будет уже заседать в бет-га-кагале, потому что, когда зайдет солнце и вечерние сумерки опустятся на землю, дерзкий внук богатого Саула придет в бет-га-мидраш, чтобы в присутствии всего народа смириться перед великим раввином, признать свои грехи и просить прощения у тех, кого он обидел, рассердил или привел в негодование».
«Нет, смиряться перед раввином и покорно признавать свои грехи перед всем народом он не будет».
«Почему же не будет?»
«Ах! Ах! Это большая тайна, но о ней все уже знают. Это такая большая тайна, что, выслушивая ее, все глаза горят лихорадочным любопытством, и каждая грудь дрожит от нетерпения, чтобы как можно скорее поглотить ее».
«Молодой Меир нашел сокровище!»
«Что это за сокровище? Это такое сокровище, которое уже триста, пятьсот, может быть, и тысячу лет, ну! С того времени, как евреи пришли в эту страну, хранится в семье Эзофовичей!»
«Сокровище это — рукопись какого-то их предка, которую он написал перед своей смертью и оставил в наследство далекому потомству».
«А что же в этой рукописи?»
«Никто об этом, наверное, не знает».
Все жители убогих уличек слышали об этой рукописи от отцов, дедов и бабушек своих, но каждый из них слышал о ней что-нибудь иное. И теперь еще живы такие старики, которые кое-что знают об этой рукописи, но каждый из них знает о ней что-нибудь другое. Одни говорят, что рукопись эта происходит от мудрого и святого еврея, который жил в очень давние времена и всю свою жизнь только о том и думал, как сделать свой народ богатым, мудрым и счастливым. Другие, наоборот, утверждали, что этот живший в давние времена предок Эзофовичей был безбожником, отщепенцем, которого подкупили гои, чтобы стереть с лица земли имя Израиля и закон его.
«В рукописи этой есть наставление, как песок превращать в золото, и что должны делать бедные люди, чтобы сразу стать большими богачами».
«Нет, в рукописи этой сказано, каким способом человек может отгонять от себя дьяволов, чтобы они никогда к нему не прикасались, и каким образом из букв, составляющих имена бега, сложить такое слово, что каждый, кто произнесет его, будет уже в состоянии проникнуть взглядом своих глаз сквозь небо и сквозь землю…»
«Нет, в рукописи этой сказано, что должны делать евреи, чтобы врагов своих сделать друзьями и чтобы заключить союз примирения со всеми народами, относящимися к ним враждебно».
А кто-то слышал еще о том, что в рукописи этой заключается наставление, как воскресить Моисея и призвать его, чтобы он опять пришел, вывел народ свой из неволи, темноты, унижения и привел его в страну, богатую, мудрую и славную.
«Почему они до сих пор не искали этой рукописи и не огласили ее народу?»
«Они боялись, потому что, кто дотронется до этой рукописи, у того руки вспыхнут великим огнем и рассыплются в прах».
«Нет, кто дотронется до этой рукописи, у того вокруг сердца обовьются ядовитые змеи…»
«У того лоб почернеет, как от сажи…»
«Того покинут счастье и спокойствие…»
«На того посыплется град камней…»
«Тот на лбу своем будет носить кровавый шрам…»
«Когда-то… старые люди, еще живущие, немного помнят об этом… отец богатого Саула, большой купец, Герщ, дотронулся до этой рукописи».
«А что же с ним стало?»
«Старые люди говорят, что, как только он до этой рукописи дотронулся, ядовитые змеи обвились вокруг его сердца и так жалили его, что он от этого умер очень молодым…»
«А теперь эту рукопись нашел молодой Меир?»
«Да, он нашел ее и будет ее читать в бет-га-мидраше перед целым народом, как только солнце зайдет, а вечерний сумрак покроет землю…»
Среди людей, разговаривавших таким образом, увивался реб Моше, меламед; он появлялся там и сям, быстро исчезал и снова показывался где-нибудь на другой уличке, на другом дворе, под открытым окном другой хаты. Он настораживал уши, прислушивался; улыбка мелькала на его выпяченных губах; серые круглые глаза его сверкали острым блеском. Но он ничего не говорил. Когда его робко, а иногда и настойчиво спрашивали те люди, к которым он приближался, реб Моше молчал или отвечал только непонятным бормотанием и мрачным покачиванием головы. Не мог он говорить потому, что о событиях и слухах, которые так сильно волновали общественное мнение в этот день, он не разговаривал еще со своим учителем, с тем, кому он, объятый величайшим благоговением, фанатической верой, страстной и мистической любовью, отдал в неволю свое тело и душу. Без определенного приказания этого обожаемого и возлюбленного своего учителя он не мог ни высказывать собственных суждений, ни призывать к чему-либо, ни решаться на что-нибудь. А что если его слово или его поступок разойдутся с волей учителя? А вдруг он нарушит в чем-нибудь одно из многочисленных предписаний? Правда, он все их знал наизусть, но не только каждое слово, но и каждая буква в них может подлежать все новым толкованиям и применениям! Знал реб Моше, что и он сам очень ученый человек. Но что значит эта его ученость по сравнению с ученостью раввина, блеск которой освещает весь мир земной и проникает даже до самого неба! Иегова утешается, глядя на эту ученость, и сам удивляется, что мог создать такое совершенство, каким был раввин Исаак Тодрос.
В тот же день около полудня реб Моше, все еще под впечатлением всяческих слухов, потихоньку вошел в черную хату раввина. Не сразу, однако, ему удалось начать с ним разговор. Тодрос беседовал с каким-то старцем, запыленная одежда которого свидетельствовала о том, что он пришел издалека. Опираясь на посох, старец этот стоял перед Тодросом со смиренным и светящимся радостью лицом. Он просил у раввина уделить ему щепотку привезенной из Иерусалима земли.
— Я очень хочу, — говорил странник дрожащим от старости и волнения голосом, — поехать в Иерусалим, чтобы там умереть и быть погребенным в земле отцов наших. Но я беден, и у меня нет денег на дорогу. Дай ты мне, равви, горсточку того песка, который тебе каждый год привозят оттуда, дай, чтобы внуки мои могли мне посыпать его на грудь, когда душа моя расстанется с телом. Мне с этой горстью земли легче будет спать в гробу. А правда ли это, что к тем, которые имеют ее на груди, черви не приближаются и не едят их тел?
— Это правда, — торжественно ответил раввин и, вынув горсть беловатого песку из мешочка, в котором был старательно уложен и завязан этот драгоценный предмет, он завернул его в клочок бумаги и подал старику.
Старец принял дар дрожащей от радости рукой, запечатлел на нем долгий благоговейный поцелуй и спрятал его на груди под полой своей изорванной зловонной одежды.
— Равви! — сказал он, — мне нечем заплатить тебе…
Тодрос вытянул к нему свою желтую шею и быстро прервал его:
— Видно, издалека ты пришел сюда, что можешь думать об уплате Исааку Тодросу. Я ни от кого не беру никакой платы; и хотя знаю, что очень много делаю добра моим братьям, у Предвечного молю только об одной награде за это: чтобы он прибавил хотя бы еще одну капельку к той мудрости, которой я уже обладаю и которой всегда жаждет, никогда не насыщаясь, душа моя…
Колеблющимся шагом, опираясь на посох, старец приблизился к этому человеку, мудрому и все еще так неустанно и страстно жаждущему мудрости.
— Равви, — благоговейно вздохнул старец, — позволь мне поцеловать твою благодетельную руку…
— Поцелуй, — ласково ответил учитель; когда же просивший наклонился перед ним, Тодрос взял обеими руками его голову, покрытую белыми, как молоко, волосами, и запечатлел на морщинистом и сухом лбу старика громкий поцелуй.
— Равви! — воскликнул старец дрожавшим от счастья голосом, — ты добрый… ты отец наш, учитель и брат!
— А ты, — отвечал Тодрос, — будь благословен за то, что до поздней старости сохранил в себе верность святому закону и любовь к родной нашей земле, одна горсть которой показалась тебе дороже серебра и золота…
У обоих были слезы на глазах, и видно было, что оба они, встретившись, первый раз в жизни, были взаимно проникнуты друг к другу нежной, братской и какой-то удивительно грустной любовью.
У ребе Моше, который ожидал конца разговора, сидя на полу возле черного отверстия камина, тоже стояли слезы на глазах. После того как Тодрос остался один, меламед, подождав немного, проговорил пониженным голосом.
— Насси…
— Гаа? — спросил учитель, уже погруженный в свою обычную задумчивость.
— У нас в городе сегодня большие новости.
— Какие это новости?
— Меир Эзофович нашел рукопись своего предка Сениора и сегодня будет читать ее перед всем народом.
Задумчивость Тодроса исчезла без следа. Он вытянул к говорившему шею и воскликнул:
— Откуда ты знаешь это?
— Ну! Весь свет говорит об этом. Приятели Меира с раннего утра ходят по городу и распространяют это известие среди народа…
Тодрос ничего не ответил. Глаза его светились острым, почти диким блеском. Он обдумывал положение.
— Насси! Ты позволишь ему сделать это?
Тодрос молчал еще минуту, потом ответил решительным голосом:
— Позволю!
Реб Моше даже содрогнулся весь.
— Равви! — воскликнул он, — ты самый мудрый из всех людей, которые на этом свете жили, живут и будут жить… но подумала ли твоя мудрость о том, что рукопись эта может отвратить душу народа от тебя и от святого закона нашего?
Тодрос грозно взглянул на говорившего.
— Значит, ты не знаешь души народа моего, если можешь так думать и говорить. Не для того прадед мой, и дед, и отец, и я сам из всех сил наших работали над этой душой, чтобы ее было так легко отвратить от нас… Пусть он прочтет эту рукопись, — прибавил он немного погодя, — пусть мерзость эта выйдет, наконец, из-под земли, где она до сих пор скрывалась, чтобы можно было сжечь ее огнем гнева, а прах ее придавить камнем презрения… Пусть читает эту рукопись… Он дополнит этим меру грехов своих, и ляжет тогда на него моя мстительная рука!
Минуту царило молчание. Учитель думал, а почитатель его смотрел ему в лицо, не отрывая глаз.
— Моше!
— Что, насси?
— Рукопись эту надо вырвать у него из рук и отдать в мои руки.
— Насси! А каким образом надо ее отнять?
Раввин решительно и ворчливо повторил:
— Рукопись эту надо вырвать у него из рук и отдать в мои руки!
Человек, скорчившийся у камина, спросил уже несколько боязливее:
— Насси! А кто должен вырвать рукопись эту из его рук?
Тодрос впился разгоревшимися глазами в спрашивающего и в третий раз проговорил:
— Рукопись эту надо вырвать у него из рук и отдать в мои руки!
Моше опустил голову.
— Равви, — прошептал он, — я понял уже волю твою. Будь покоен. Когда он мерзость эту прочтет перед всем народом, над головой его зашумит такая буря, что он сломится от нее и упадет.
Потом оба долго молчали. Раввин снова заговорил первый:
— Моше!
— Что, насси?
— Когда и где он будет читать эту мерзость?
— Он будет читать ее в бет-га-мидраше, когда солнце зайдеха сумрак покроет землю…
— Моше! Иди сейчас же к шамесу (рассыльный при синагоге) и передай ему мое приказание. Пусть он сейчас же пойдет к дайонам и кагальным и объявит им, чтобы все они собрались, когда солнце зайдет и сумрак покроет землю, в бет-га-кагале на великий суд.
Моше встал и направился к дверям, а раввин тряхнул несколько раз головой и, подняв руку, воскликнул:
— Горе дерзкому, сильному и непокорному! Горе тому, кого коснулась проказа, и тому, кто разносит заразу! Горе ему!
При этих словах море мрачной, неумолимой ненависти разлилось по всему лицу его. А ведь только четверть часа тому назад лицо это сияло нежной братской любовью, уста эти произносили ласковые, утешительные слова и в глазах этих стояли слезы умиления!
Так в одном этом сердце могли одновременно умещаться: нежность и гнев, доброта и мстительность, безграничная любовь и неумолимая ненависть; так из одного этого источника могли исходить возвышенные добродетели и мрачные злодеяния.
Много подобных тайн и загадок встретит тот, кто внимательно всмотрится в историю человечества. В ней слово «милосердие» удивительным образом сплетается со словом «месть», слово «ближний» со словом «враг». История часто являла миру людей, которые одной рукой сострадательно исцеляют человеческие раны, а другой разжигают огненные костры и вертят колеса пыток… Чем объяснить тайны и загадки этих широких сердец и пламенных умов, так ужасно раздвоенных и сбившихся с пути? О читатель! Если бы на земле не существовало той силы, которая гонит умы и сердца людей на путь ужасных заблуждений, раввин Исаак Тодрос был бы, может быть, великим человеком…
Будем справедливы! Равви Исаак Тодрос, наверное, был бы великим человеком, если бы никогда не существовало тех, кто, пользуясь огнем, пыткой и… презрением, которое в сто раз еще мучительнее огня и пытки, создал для его народа, вплоть до уходящих в далекое будущее поколений, тесное, темное, полное тревоги и ненависти, нравственное и умственное гетто!
* * *
Солнце зашло, и на землю спустились вечерние сумерки. Большой двор синагоги кишел черной густой рокочущей толпой — она бурлила и кипела…
Внутри бет-га-мидраш тоже чернел от собравшегося народа. Там виднелись головы старцев и русые кудри детей, длинные бороды, черные, как вороново крыло, светлые, как лен, и огненные, как отполированная медь. Головы эти двигались и волновались, шеи вытягивались, бороды поднимались, глаза горели любопытством и жаждой впечатлений. Все происходило в полумраке. Огромный зал бет-га-мидраша был освещен только одной лампочкой, висевшей у входных дверей, и одной сальной свечкой, горевшей в медном подсвечнике на столе из простого дерева, за которым возле самой стены, высокой и голой, стоял деревянный стул. Это было место, с которого обыкновенно обращались к народу все, кто хотел ему что-нибудь сказать. У еврейского народа каждый человек, от наиболее почитаемого и старца до самого незначительного и молодого, имеет право голоса, и бет-га-мидраш — сохранившийся след высокодемократического духа, которым были проникнуты когда-то древние учреждения еврейского народа. Каждый, кто только происходит из дома Израиля, имеет право входить в эти стены, молиться, читать, говорить и поучать.
Люди, которые толпились не внутри здания, а возле его стен, часто оглядывались на бет-га-кагал, находившийся напротив. В этом месте заседаний административных и судебных властей общины тоже засветились тусклые и скупые огоньки. Над входными дверями была зажжена лампочка, а на длинном столе, неясно темневшем за большими стеклами окон, было поставлено несколько желтых коптящих свечей. Немного погодя на крыльцо бет-га-кагала стали всходить люди, хорошо известные всему шибовскому населению и пользовавшиеся среди него глубоким уважением. Поодиночке или по-двое стекались сюда судьи общины, совсем седые или седеющие мужи, почтенные отцы многочисленных семейств, состоятельные купцы или собственники владений в черте города. Их полагалось двенадцать; но на этот раз насчитали всего одиннадцать. Двенадцатым дайоном в Шибове был Рафаил Эзофович. В толпе зашептали, что дядя обвиняемого не может быть в числе судей; некоторые говорили, что он и сам не захотел. За дайонами показались кагальные. Среди них был морейне Кальман, появившийся с руками в карманах своего атласного кафтана и с вечной улыбкой сладкого блаженства на лице; был и Камионкер, лицо которого пожелтело и осунулось за последние дни; в его взгляде мелькали тревожные и острые огоньки, как у человека, которому грозит опасность. Последним появился Исаак Тодрос. Незаметно выйдя из низких дверей своей избушки, тщедушный, сгорбленный, он проскользнул в тени стен, окружавших двор, так быстро и тихо, что из толпы почти никто его не заметил.
В эту самую минуту в глубине бет-га-мидраша над глухо рокочущей и волнующейся толпой разнесся, чистый и сильный мужской голос:
— Во имя бога Авраама, Исаака и Иакова, слушай, Израиль!
Говор в толпе усилился и перешел в шум, почти в гвалт. В этом шуме слышалась некоторая враждебность, но еще больше боязнь, борющаяся с любопытством. Голос человека, заговорившего в здании, наполненном людьми, довольно долго боролся с заглушавшим его шумом, и только немногие из его слов, выделяясь, звучали ясно. Вдруг кто-то из толпы громко крикнул:
— Успокойтесь и слушайте! Ибо сказано «Слушай всякое слово, произносимое во имя Иеговы!»
— Это правда! — зашептали в толпе. — Он начал говорить во имя бога Авраама, Исаака и Иакова!
И вдруг водворилась глубокая тишина, прерываемая только движениями тех, которые, стоя у дверей и за окнами, подымались на цыпочки, чтобы посмотреть на говорившего.
Глаза их не увидели ничего необычайного. За белым столом, следовательно, на том самом месте, с которого часто обращались к народу, стоял Меир Эзофович в спокойной позе и со спокойным же лицом. Правда, он был бледнее обыкновенного, а глаза его лихорадочно блестели от волнения, но видно было, что волнение это вызывалось не тревогой или хотя бы самым маленьким сомнением, а, наоборот, чувством могучей веры и великой радостной надежды. В руках у него были пожелтевшие и очень старые листы бумаги. Он читал по ним и время от времени высоко поднимал их, словно желая показать всем присутствующим, откуда он берет свои слова.
— «Израиль! — воскликнул он, когда шум уступил место всеобщей глубокой тишине, — ты великий народ! Ты первый среди всех народов увидел на небе единого бога, а на земле, среди грома и блеска молний, услышал те десять великих изречений, на которых, как на десяти утесах, другие народы из поколения в поколение воздвигают лестницу, ведущую к солнцу совершенства! Израиль! Слепы от рождения или ослеплены горечью гнева глаза тех, кто, глядя на лицо твое, не увидит твоего древнего величия! Сухи от рождения или высушены вихрем, веющим из преисподней, глаза тех, кто, глядя на великие страдания, перенесенные тобою, не выронит слезы. Жалок тот, чьи уста скажут про тебя: подлый! Пусть сжалится над ним и простит ему господь, ибо нет у этого жалкого человека тех весов справедливости, на которых взвешиваются заслуги и прегрешения народов, и нет в нем того света мудрости, который показывает, как из скорби и нужды родятся грехи! Израиль!
От тебя произошел Моисей, сердце которо горело любовью, как неопалимая купина, и Давид с золотой арфой, и прекрасная Эсфирь, плачущая над несчастиями своего народа. Маккавеи с могучими мечами произошли от тебя и пророки, идущие на смерть ради правды сердца своего. В те времена, когда ты счастливо жил в земле отцов своих, ты чувствовал отвращение к порабощению брата, на своем поле ты оставлял десятый сноп для голодных и право голоса ты давал каждому, кто только хотел говорить с народом; и, склоняя голову только перед Иеговой, ты говорил: „Мы все равны перед лицом отца нашего!“ А потом, когда ты оказался среди чужих народов, несчастный и побежденный, облитый кровью сынов своих, защищавших землю предков, в слезах и весь в пыли, ты перенес все страдания и все унижения и все же остался верен своему единому богу, не утратил памяти о предках своих и всем народам, угнетаемым и утопающим в слезах, ты показал, как можно защищаться без оружия! Умным, чистым и милосердным создал тебя господь, народ мой! Но вот уже проходит вторая тысяча лет с тех пор, как у тебя не стало твоего сокровища: отечества!..»
Тут голос говорившего задрожал и на минуту умолк; дрожь пробежала также и по всему собранию, а потом по залу разошелся шопот приглушенных голосов:
— Слушайте! Слушайте! Это слова мудрого и хорошего еврея, который говорит о славе народа своего!
Все слушали, а Меир Эзофович читал дальше:
— «Горе тому народу, у которого нет отечества! И сойдут с кораблей все, работающие веслами, и все, плавающие по морю, и прильнут к земле. Душа всякого народа соединяется со своей землей, как дитя с грудью матери, и от земли берет пищу и здоровье, и лекарства против болезней. Так хотел и так сделал господь. Но люди пошли против воли его. Твою душу, Израиль, оторвали от земли, к которой она прильнула! Как нищий, ты стучался у ворот чужих домов, и тех, которые плевали на тебя, ты должен был просить о сострадании. Голова твоя склонялась перед приказаниями законов, против которых с отвращением восставала природа твоя. Язык твой коверкался, чтобы подделаться под чужую речь. Рот твой был полон горечи, которую ты пил. Лицо твое чернело от гнева и унижений; а в груди твоей сердце сжималось от страха, как бы не исчезло с лица земли имя Израиля и единого бога его, Иеговы. Наконец, в мучениях и в суровых лишениях спало с тебя старое величие твое, и размножились, как звезды, грехи и беззакония твои. Иегова, бог твой, глядя на тебя, с гневом спросил: „Тот ли это самый народ мой избранный, с которым я соединился заветом правды и милости? Неужели он не умеет иначе хранить закон мой, как только на словах, противоречащих поступкам рук его? Неужели закон этот он видит только в жертвоприношениях, в пении, в молитвах и фимиамах, а не в восхождении по той великой лестнице, которую я показал во сне слуге моему Иакову, чтобы во все времена люди знали о том, как следует восходить ко мне, — познанию и совершенству!“».
В этом месте голос читающего был снова заглушён глухим ропотом слушателей.
— Что это он такое читает? — спрашивали они друг друга. — Это написал плохой еврей, который скверные слова бросает в народ свой! А какие же это грехи и беззакония, которые размножились среди нас, как звезды на небе? А как же нам прославлять владыку мира, если пение и молитвы наши ничего не значат в его глазах?
Бледность Меира увеличилась несколько, когда он почувствовал, что слова его снова начали теряться среди вздымающейся волны недовольных или встревоженных голосов. Замолчать, однако, он был не в силах. И он читал дальше, а среди волнующихся людей любопытство вскоре пересилило другие чувства. Все притихли и стали слушать.
Слушали повествование Михаила Сениора о том, как, по приказанию короля и ради той любви, которую проявлял к нему народ, он стал во главе его и хотел повести по новому пути, в конце которого виднелось восходящее солнце нового дня; как ему ставили препятствия в этом его предприятии; как отвращали от него душу народа, как чернили его клеветой и как превратили его в жалкий прах, который стали топтать ногами враги его.
— «В голове моей шумели мысли, которых мне уже некому было высказать, так как все прежние друзья и ученики мои покинули меня! В груди моей горело пламя, возле которого никто не хотел греться, потому что народу моему вложили в уши, будто этот огонь зажжен во мне рукой дьявола! Лицо мое изменилось, а глаза мои стали, как те печальные звезды, что смотрят на мир сквозь большие тучи! Руки мои опустились бессильно, сон смерти стал овладевать мной, а из груди моей вырвался крик: „Владыка мира! Не покидай избранника своего! Дай ему такой сильный голос, чтобы он мог обратиться к тем, которые не родились еще, потому что те, которые живут, не хотят уже слушать его!“».
«Я открыл святую книгу и прочел в ней: „Если рука твоя бессильно опустится, ты будешь бороться дальше голосом своим, любовью своей и слезами своими за правду твою!“».
«Правнук мой! Тот, который будет искать эту рукопись и найдет ее! Объяви народу моему, чего я хотел для него. Первое, чего я хотел для него, это — забвение. Хотел ли я, чтобы он забыл о боге своем, Иегове, и о том, что он Израиль — народ, у которого есть своя собственная душа и который в своем прошлом порождал великих мужей и создавал великие мысли? Нет, я не мог хотеть, чтобы Израиль забыл об этом, потому что мне самому становится сладко и сердце мое радуется при этом воспоминании. Но я хотел, чтобы Израиль забыл обиды и огорчения, причиненные ему чужими народами. „Не помни обид! Не говори: отплачу злом за зло“. Map Зутра, ложась спать, каждый день говорил себе: „Прощаю всем тем, которые опечалили меня“. Map Зутра был великим человеком».
«А когда ты забудешь обиды, Израиль, тогда приблизишься к тем огням, которые ты называешь чужими и которые принадлежат всем. Чужие огни эти, от которых ты бежишь в своем упорном злопамятстве, зажигает своей рукой Сар-га-Олам, ангел познания, ангел над ангелами и князь мира. Священная наука — религия, но кто же сотворил и другие науки, как не тот, в котором живет совершенство познания? Вкусный плод райское яблоко, но неужели же нам не должно питаться и другими плодами земными? „Придет время, когда весь мир будет полон знания, как полны водой пучины морские!“ Слова эти сказал мудрец твой, которого прокляли твои мудрецы. Как назывался этот мудрец? Он назывался Моисей Маймонид, он был истинным пророком, у которого „глаза были не сзади головы, а спереди“ и который смотрел не на то, что было, а на то, что будет, и толкал народ свой к чужим огням; он знал, что придет время, когда тот, кто не сядет у этих огней, низвергнется в прах и грязь, а имя его станет посмешищем и предметом презрения для всех народов… Он был вторым Моисеем… Он был моим учителем, от которого пришли все радости и все печали мои…»
Тут читающий опустил на стол руки, державшие пожелтевшие листы, и, подняв лицо, на котором было выражение несказанного восторга, проговорил:
— Он был моим учителем, от которого ко мне пришли все радости и все печали мои…
Удивительная вещь! Учитель предка, умершего триста лет тому назад, оказался еще учителем живущего теперь молодого потомка! Из одного и того же источника изливались на обоих и радости и печали. В сердцах обоих он разжег самую высокую любовь, какая только существует на земле, героическую и мученическую любовь к идее. Но потомок его, читая слова предка, слова, рассеивавшие и освещавшие все его прежние сомнения и колебания, чувствовал только одну радость. Печали или страдания в эту минуту не было и следа в его сердце, переполненном могучей юношеской верой и надеждой.
Вдруг в толпе какой-то хриплый и тягучий голос воскликнул:
— Херсте! Херсте! Он восхваляет чужие огни! Он проклятого еретика называет вторым Моисеем!
Все головы повернулись к дверям, чтобы посмотреть, кто произнес эти слова. Это был реб Моше, который, стоя на скамейке у входных дверей, всей своей фигурой возвышался над волнующейся у его босых ног толпой. Он тряс головой, насмешливо смеялся и разгоревшимися глазами впился в Меира. Но любопытство народа не было еще удовлетворено; под изорванными одеждами усиленно билось много сердец от неопределенного, непонятного им самим волнения.
— Он из гроба говорит к нам устами своего правнука! Слушайте того, чья душа находится уже среди сефиротов! — отозвалось несколько голосов.
А какой-то сгорбленный старик, опираясь на палку, поднял голову, обратил на Меира свои щурящиеся глаза и несколько стонущим голосом заговорил:
— Как же мог Израиль греться на солнце познания, когда его отгоняли оттуда враги? Были у нас когда-то, ребе, знаменитые доктора и такие мудрецы, которые министрами состояли при могущественных королях… Но когда нас потом оттолкнули от врат мудрости, мы отошли и сказали: «Вот Израиль разрывает союз с чужими народами и будет стоять в стороне, как старший брат, которого обидел младший».
Меир смотрел на обратившегося к нему с этими словами старика не то с ласковой, не то с торжествующей улыбкой на губах.
— Ребе! — ответил он, — в рукописи моего предка есть ответ на твои слова.
— «Исчезнут грехи с лица земли. И грешников уже не будет», А когда исчезнут грехи и перед вами отворятся врата мудрости, быстрым шагом и с веселым сердцем входите в них, ибо наука самое великое орудие господа, который правит миром по вечным законам разума. «На дела творца не хотят смотреть». О таких сказано в писании: «Глупцы ненавидят познание!».
«Второе, чего я хотел для народа моего, это — памяти. Рава спросил Рабу, сына Моры: — Откуда возникла у людей поговорка: „Не бросай грязи в колодец, из которого пьешь“. — Раба ответил: — Оттуда, что и в Писании сказано: „Не отталкивай египтянина, ибо ты был гостем на земле его!“ — Элиазар, сын Азарии, говорил: — Египтяне приняли израильтян ради своей собственной выгоды, и все-таки Предвечный дал им за это награду. — А если тот край, колодцы которого снабжают тебя водой, а пашни хлебом, принял тебя не как рабочий скот, чтобы пахать ему землю, а как измученного брата, чтобы дать тебе отдохнуть на его груди, то какую же награду ты дашь ему, Израиль?»
— «Не сказано: „Отнимайте у чужестранца добро его“, но: „Делитесь с чужестранцем вашим добром“. Не сказано также: „Пусть чужестранец живет среди вас, как среди саранчи, которая объедает хлеб с нив его“, но: „Пусть чужестранец живет среди вас, как если бы он происходил от потомков Израиля!“».
«Когда сильными руками я держал бразды правления, врученные мне самим королем, нашлись двое бесчестных израильтян, которые, убежав в неприятельский лагерь, захватили с собой туда тайны королевского войска и выдали их врагам, чем причинили королю в войне большие потери и затруднения. Что же я сделал с бесчестными, подчиненными мне людьми? Я приказал огласить по всей стране при звуках труб, что они изменники богу и закону его, и что лоно Израиля на веки веков отвергает их от себя! Я поступил так потому, что, когда сердце мое переполнилось гневом, я увидел во сне второго Моисея, сказавшего мне: „Оттолкни их от лона Израиля, ибо они оттолкнули от себя тех, в чьей земле были гостями и пришельцами“.»
«Не только ради святости душ ваших я требовал, чтобы вы исполняли заповедь благодарности, но и ради того, чтобы жизнь ваша на этой земле была счастлива.»
«Когда я заседал в великом израильском синоде, который, с позволения короля и всех вельможных панов этого края, собрался в красивом и богатом городе Люблине, я уговорил всех мудрых и честных людей, заседавших вместе со мной, обратиться к израильтянам с таким воззванием, которое встряхнуло бы их умы и сердца так, как встряхивает садовник дерево, чтобы с него свалились созревшие плоды.»
«В воззвании нашем ко всем братиям мы сказали: „Будьте полезны той земле, на которой вы живете, и вас будут уважать. Это первый шаг к счастью, ибо презрение горько, а уважение сладко сердцу человека“.»
«Но есть у меня в мыслях и еще кое-что.»
«Кто является слугой у земли своей, тот будет, есть хлеб досыта! А как может досыта накормить вас земля эта, если вы будете обходиться с ней не как верные и трудолюбивые слуги, а как прохожие, заботящиеся только о сегодняшнем дне?»
«Когда Авраам пришел на границу Тира и увидел, как люди засевают там землю и засаживают ее деревьями, он воскликнул: „О, если бы и мне дана была частица этой земли!“ А господь сказал: „Я отдам потомству твоему землю эту!“ И отдал он землю сынам человеческим.»
«Равви Папа сказал: „Не занимайся торговлей, но обрабатывай землю; хотя и та и другая работа хороша, но последнюю благословляют люди!. Когда придете в эту землю, засадите ее всякими деревьями, приносящими плоды!“».
«Настанет пора, когда исчезнут грехи, и все народы мира воскликнут, обращаясь к сынам Израиля: „Возьмите в руки ваши плуги и идите возделывать землю, чтобы спокойно проживать на ней и есть хлеб досыта вместе с сынами и внуками вашими“. Но ваши ложные мудрецы скажут вам: „Не будут руки наши вести плугов по земле изгнания!“ Правнук мой, тот, который будет это читать, скажи народу твоему, чтобы он закрыл уши свои перед голосом ложных мудрецов! Вздохни всей грудью и громким голосом крикни: „Ложные мудрецы твои губили тебя, Израиль!“».
Видно было, что читающий исполняет завешанную ему волю своего предка с верой, увлечением и несказанной радостью. Разве он и сам давно уже не чувствовал в глубине своей души презрения и отвращения к ложным мудрецам? Почему они были ложными мудрецами? Этого он не мог бы сказать. Язык его был связан неведением, а взор, горевший жаждой познания, упирался в стены тюрьмы, в которую он был заперт. Теперь он уже знал, знал и понимал. Поэтому-то он и воскликнул из глубины души громким голосом:
— Не верь ложным мудрецам своим, Израиль!
Толпа заволновалась.
— О ком он говорит?
— Где у Израиля ложные пророки и мудрецы?
— Он о великих раввинах и ученых говорит; уста его изрыгают отвратительную хулу.
— Он бросает в лицо израильского народа одни только осуждения.
— Он требует, чтобы мы руками нашими возделывали землю изгнания!
— Равви Нохим, дед равви Исаака, говорил дедам нашим: «Не ведите плугов по земле изгнания!»
— А равви Нохим был мудрецом над мудрецами; свет мудрости его сиял над всей землей!
— Герш Эзофович сильно ссорился из-за этого с ребе Нохимом.
— Герш Эзофович был великим грешником!
— Отчего он не прочитал нам, что должны делать бедняки, чтобы стать богачами?
— Он написал, чтобы мы были слугами у той земли, на которой живем! А когда придет Мессия и возьмет нас отсюда в страну отцов наших, мы покинем землю эту! Зачем же нам быть у нее слугами?
— Люди говорили, что в рукописи этой сказано, как песок превращать в золото…
— И как отгонять дьяволов…
— И как воскресить Моисея…
— Люди неправду болтали! В рукописи этой нет ничего мудрого и приятного богу!
Подобные вопросы и недовольные возгласы раздавались в толпе, а на лицах появлялись насмешливые улыбки людей, обманутых в своих ожиданиях и надеждах. Меламед с лавки, на которой он стоял, возвышаясь над всем собранием, все время бросал сверху ругательства или разражался грубым смехом, в котором был яд ненависти. Возле другой стены, прямо против меламеда, виднелся Бер, тоже стоявший на возвышении. Эти два человека, стоявшие друг против друга и возвышавшиеся над волнующейся толпой, представляли собою две крайние противоположности. Меламед тряс головой, размахивал руками, приседал, подскакивал, смеялся и кричал. Бер стоял молча и неподвижно; голову он откинул назад и прислонил к стене, а из глаз его, затуманенных и устремленных куда-то в бесконечную даль, тихие и крупные слезы одна за другой текли по лицу, на котором отражалось страдание, смешанное с восторгом. В некотором отдалении от толпы, недалеко от Меира, тесно сомкнутой группой стояло несколько юношей, не отрывая глаз, смотревших в лицо читающему. Быстро дыша, они то улыбались какими-то счастливыми улыбками, то снова вздыхали или же поднимали вверх руки, прикасаясь ими к голове, ко лбу и к глазам. Казалось, что они не видели и не слышали волнующейся и рокочущей вокруг них толпы; что души их, давно тосковавшие по истине и искавшие ее ощупью в темноте, теперь беззаветно бросались в огненный круг провозглашаемых идей. В глубине толпы, где-то посередине залы, раздался старческий, дрожащий голос: «Обо всем этом много говорили люди… в давние времена… в дни моей молодости!..» В ответ на громкий вздох, сопровождавший слова этого дряхлого старика, быть может, бывшего — почем знать? — одним из прежних приятелей Герша, послышались с трудом сдерживаемые хихиканья. Это смеялись мальчики-подростки, которые, взбираясь там и сям на скамейки, при-толки и карнизы, высовывали среди плеч старших свои головы в съехавших набок ермолках, а потом соскакивали со своих возвышений и исчезали, подавляя смех.
Пожелтевшие старые листы в руках Меира начали дрожать. Яркий румянец выступил на его прежде бледном лице. Из-под опущенных век он бросил на толпу взгляд, полный гнева и просьбы, сострадания и нетерпения.
— Успокойтесь! — воскликнул он. — Дайте великому мужу, лежащему в гробу, сказать вам моими устами все свои слова… до конца. Он избрал меня своим посланником перед вами… я должен выполнить его волю…
Голос Меира звучал проникновенно и повелительно. Сила отваги и убеждения чувствовалась во всей его фигуре и в том жесте, с каким он вытянул руку к бушующей вокруг него стихии.
Меламед крикнул:
— Штиль! Пусть читает! Пусть мерзость эта выйдет из-под земли, где она скрывалась до сих пор, чтобы легче было сжечь ее огнем гнева и придавить камнем презрения.
— Израиль! — начал снова среди утихающего шума юношеский сильный голос. — Израиль! Третье, чего я хотел для тебя, это — дара распознавания.
«Были у нас когда-то великие мудрецы, которых называли баале-трессим, что значит вооруженные. Чем были они вооружены? Они были вооружены великим познанием израильского закона. А против чего они были вооружены? Против гибели имени Израиля. Они сказали: „Не исчезнет с лица земли дом Израиля, ибо мы дадим ему крепкий оплот из великого множества законов, которые мы выведем из закона Моисея; эти законы так оградят его от других народов, что он будет стоять между ними отдельно и не пропадет среди них, как пропадает река, вливаясь в великое море“.»
«Так сказали себе наши танаиты, а синедрион, где они заседали, и школы, где они преподавали, стали подобны военному лагерю, в котором льют пули и точат оружие. Гамалиель, Элиазар, Иисус, Акиба, Иегуда сияют среди них, как солнце среди звезд. В течение пяти веков они следовали один за другим, и в течение пяти веков они составляли, объясняли и писали ту огромную книгу, которой дали название Талмуд и которая в продолжение многих веков была для сынов Израиля оплотом против моря, угрожавшего их поглотить. Из нее сыны Израиля в продолжение многих веков черпали для себя отраду и свет, и в тяжелом изгнании своем, рассеянные по свету, они не были разъединены, ибо их мысль и вздохи собирались вокруг нее, как собираются вокруг матери мысли и вздохи рассеянных по свету детей ее.»
«Книга, которая составлялась в течение целых пятисот лет и писалась людьми, любившими народ и много учившимися, и которая давала в течение многих веков целому народу утешение, надежду и единство, не может быть глупой и дурной. Тому, кто так скажет о ней, ответьте: „Очисти сперва сердце свое от злобы, а потом открой ее и прочти!“».
«Но неужели все хорошее должно быть совершенным? И по небу ходят темные тучи, а в сердце, хотя бы и самом чистом, всевидящее око господа открывает недостатки. Разве Иегова сам написал книгу законов наших? Или ее писали ангелы? Люди писали ее. Найдется ли на всей земле и во все времена хотя бы один человек, который не был бы знаком с тем, что называют заблуждением? Есть ли хоть одно произведение рук человеческих, которое было бы создано для всех времен и поколений? Разрушился трон фараонов, превратилась в развалины Ниневия, пал Рим, владевший половиной мира, греческая мудрость уступила место другой мудрости. Пустыни расстилаются там, где цвели многолюдные города, а города воздвигаются на прежних пустынях. Разрушаются дела человеческие, хотя бы и самые великие, а на их место возносятся другие. Так существует мир. Израиль! В пище, которой ты питал душу свою в течение многих веков, есть зерна и есть плевелы; в твоем богатстве есть бриллианты и есть песок. Книга твоей веры подобна гранатовому плоду. Когда глупый человек ел его с кожурой, гранат казался очень неприятным на вкус, а в желудке появлялись сильные боли. Но когда равви Меир увидел этого глупого человека, он сорвал с дерева гранатовый плод, снял с него твердую горькую кожуру и стал, есть сочное и сладкое ядро. Я хотел научить вас так, как равви Меир научил того человека, который ел гранатовый плод с кожурой. Я хотел, чтобы вы получили дар распознавания и сделали для книги нашей веры такое духовное сито, которое отделило бы плевелы и песок от зерен и бриллиантов. Народ мой, за это желание мое ты оттолкнул меня от себя! Возненавидело меня твое сердце, ибо страх и великая ненависть ко всему новому поселились в тебе. Но сказано: „Не смотри на сосуд, но на то, что он в себе содержит. Бывают новые кувшины, наполненные крепким вином, и старые, в которых вина нет ни капли“.»
— Меир! — шепнул Бер, — взгляни на народ!
И еще тише прибавил:
— Уходи отсюда! Уходи отсюда, как можно скорей!
Меир обвел взглядом волнующуюся и кипящую черную массу людей; не то печальная, не то гневная усмешка промелькнула у него на губах.
— Не этого я ожидал! Я ожидал чего-то совсем другого! — сказал Меир тихо и опустил голову. Но тотчас же поднял ее и воскликнул:
— Я посланник предка моего! Он избрал меня, чтобы я прочитал последние мысли его! Я буду, послушен его воле!
Меир глубоко вздохнул и прибавил еще громче:
— Он предугадал те вопросы, которые должны были зашуметь в голове его правнука, и дал на них ответы! Он проник в тайники тех душ, которые жаждут истины, и прислал им через мои руки утешение и поучение. Я люблю его так, словно он вынянчил меня на руках своих! Я преклоняюсь перед великой душой его, которая заслужила себе бессмертие и пребывает теперь в сиянии Иеговы! Я думаю так, как думал он! Желаю того, чего желал он! Я такой же, как и он! Я — сын души его!
Голос его, звучный и громкий, дрожал от сдерживаемых вздохов и восторженной радости. В горящих глубоких глазах его стояли слезы, губы его дрожали, лицо бледнело все больше, а руки как бы невольно подымались вверх.
— В рукописи моего предка, — воскликнул он, — сказано, что мы стоим на месте, когда все народы идут вперед к знанию и к счастью! Что головы наши наполнены множеством мелочей, и крупное уже не может в них поместиться! Что наука эта, которая называется Каббалой и которую вы считаете святой, проклятая наука, потому что в ней тонут умы израильских сынов и потому что она отклоняет их от истинного познания… Там написано…
Тут голос говорящего настолько смешался с криками, смехом и воплями людей, что только отдельные слова могли доходить до ушей тех, кто хотел его слушать. Но Меир не переставал говорить; наоборот, он говорил все быстрее и быстрее, грудь его глубоко дышала, глаза то широко раскрывались, то закрывались. Казалось, он желал, видя безуспешность своих усилий, по крайней мере, как можно лучше выполнить то, что считал своим призванием; казалось, обманутый в своих ожиданиях, он все еще сохранял какую-то искру надежды.
— Горе! Горе! — взывали люди различными голосами. — Ересь и соблазн посетили дом Израиля! Уста детей изрыгают хулу на все святое!
— Слушайте! Слушайте! — кричал Меир. — Еще далеко до конца слов предка моего…
— Зажмем ему рот и прогоним его с места, откуда обращаются к народу мудрецы Израиля!
— Слушайте! В рукописи этой сказано, чтобы Израиль перестал ожидать Мессию из плоти и крови…
— Горе! Горе! Он хочет отнять у сердца Израиля его утешение и надежду!
— Ибо не явится он в мир в образе человека, но придет, как Время, несущее всем народам познание, насыщение, любовь и мир…
— Меир! Меир! Что ты делаешь? Ты губишь себя! Смотри на народ! Беги! — послышались вблизи Меира шепчущие голоса.
Бер стоял тут же возле него; Элиазар, Ариэль, Хаим и несколько других окружали его тесным кольцом; но он не видел и не слышал их. Капли пота выступили у него на бледном, как полотно, лбу, но голова его была высоко поднята, а в глазах сверкали попеременно то слезы отчаяния, то искры гнева.
Вдруг вблизи от входных дверей раздался глухой стук. Меламед соскочил с лавки, на которой стоял, и босыми ногами несколько раз подряд ударил об пол, потом в несколько прыжков пробежал через зал сквозь расступившуюся перед ним толпу и резким движением руки, покрытой рукавом холщевой рубахи, сбросил со стола медный подсвечник с желтой свечой, пламя которой тотчас же затоптали другие. В то же время кто-то вскочил на скамейку и потушил лампочку, горевшую у дверей. Густой мрак, там и сям пронизываемый только бледными полосами лунного света, проникавшими через окно, охватил большую залу, в которой теперь так закипело и забурлило, словно ее наполнили какие-то расходившиеся стихии.
Самое чуткое ухо не различило бы теперь слов, которые сыпались там, как град, и смешивались друг с другом в невообразимом хаосе. Среди отдельных возгласов, выделявшихся из невероятного общего шума, можно было разобрать угрозы, упреки, проклятия и. мольбы. Наконец, из дверей бет-га-мидраша, открытых настежь, хлынула на двор синагоги густая, черная волна людей и встретилась здесь с другой волной, которая стояла до сих пор снаружи здания и была несколько спокойнее, хотя все же волновалась и роптала. Здесь, на широком пространстве, ясный лунный свет разливался потоками, и среди этого света возвышался бет-га-кагал с плотно закрытыми дверями и ставнями. На ступеньках его крыльца сидел шамес, упирая локти в колени и подперев подбородок руками, неподвижный, как статуя. Он сидел в ожидании тех приказаний, которые предстояло услышать из глубины этого безмолвного и замкнутого, как гроб, здания, стоявшего среди бушующих масс.
Толпа разбилась на множество групп, из которых одна вышла со двора синагоги и с невообразимым шумом, словно черная гигантская мятущаяся птица, двинулась по площади, белой от лунного света. Группа эта была многочисленна. Ее составляли люди в бедных одеждах, с длинными бородами и с гневно разгоревшимися глазами, дети разного возраста, ежеминутно наклонявшиеся, чтобы поднять камень, горсть песку или грязи. А в самой середине этой группы виднелась кучка жавшихся друг к другу юношей, едва ли не подростков, прикрывавших собою человека, находившегося среди них. Расталкиваемые и оттаскиваемые, они изо всех сил боролись еще некоторое время, пока, наконец, обессилев или же испугавшись, не обратились в бегство и не смешались с толпой.
Тогда в спину человека, которого они прикрывали до сих пор, посыпался град камней; десятки рук хватали его за одежду и рвали ее в клочки; на открытую голову его падали горсти песку и комья грязи, доставаемой из луж.
В ушах его звенели страстные крики толпы, перед глазами мелькали разгоряченные лица, подымались и опускались руки, а сквозь все это, как сквозь огненный туман, перед ним виднелся его родной дом, немой и запертый. К этому дому, словно к спасительной гавани, он бежал так быстро, как только позволяли ему чужие руки, хватавшие его за одежду, и множество проворных детей, вертевшихся у него под ногами.
С его сжатых губ не сорвалось ни одного, даже самого легкого стона, не слетело ни одного слова просьбы или жалобы; казалось, он совсем не чувствовал боли от обрушивавшихся на него ударов, не испытывал страха перед свистящими вокруг него камнями, из которых каждый ежеминутно мог поразить его насмерть.
Правда, руками и грудью он с отчаянной силой расталкивал напиравшую на него толпу, но, казалось, будто он защищал не самого себя, а сокровище, которое он уносил с собою. Каждую минуту он прикасался рукой к груди, словно желая убедиться, что оно все еще находится при нем.
Вдруг человек в длинной грубой рубахе преградил ему дорогу и, размахивая толстой палкой, которую он держал в руке, крикнул с искрящимися глазами толпе:
— Глупцы! Что вы делаете! Почему вы не отнимаете у него этой мерзкой рукописи? Равви Исаак приказал вырвать из рук его эту проклятую рукопись и отдать ее в его руки! Он спрятал ее на своей груди.
И в следующее мгновение Меир, на которого нападали до сих пор только сзади и с боков, увидел, как несколько человек забежали к нему спереди. Темные грубые руки протянулись к его груди, разжали ему руки, которые он изо всех сил прижимал к себе, и начали разрывать у него одежду. Тогда он поднял к небу, залитому лунным светом, свое смертельно бледное лицо и из глубины груди крикнул: — Иегова!
В эту минуту он почувствовал проскользнувшее к его ногам чье-то худое, гибкое тело и чьи-то горячие губы, прильнувшие к одной из его опушенных рук долгим поцелуем. Удивительно отозвался в его сердце этот поцелуй среди сыпавшихся на него ударов, это проявление любви среди кипевших вокруг него проклятий и угроз. Собрав последние силы, Меир оттолкнул от себя нападавших и наклонился к земле; прежде чем те успели снова подскочить к нему и поднять на него руки, он выпрямился и поднял на своих руках ребенка, которым заслонил себя, как щитом; а ребенок прижался грудью к его груди, закинул ему за шею обе руки и повернул к людям, грозно подымавшим кулаки, свое лицо, все залитое слезами. Блеснули огромные черные детские глаза, смотревшие каким-то особенным, потрясающим взглядом, в котором светился гнев, смешанный с мольбой и страхом.
— Это мое дитя! Это мой Лейбеле! Не делайте ему ничего дурного! — раздался стонущий, полный тревоги голос портного Шмуля.
— Ребе! — воскликнуло несколько грубых голосов, обращенных к меламеду, продолжавшему вертеться перед толпой с палкой в руке, — Ребе, он заслонился ребенком! Ребенок этот очень любит его!
— Отнимите у него этого ребенка! Вырвите у него проклятую рукопись! — кричал реб. Но никто не послушался его. Меира дергали сзади и с боков; еще один камень попал ему в плечо, другой пролетел над его головою, но перед собой он увидел уже свободный проход и в несколько прыжков оказался на крыльце родного дома, двери которого открыла перед ним и тотчас же снова закрыла чья-то невидимая рука.
Меир поставил ребенка на пол в темном коридоре, а сам вбежал в приемную комнату, где при свете лампы, стоявшей возле дивана, застал всю свою семью в сборе. — Он вбежал и неподвижно остановился у стены. Дышал он быстро, обводил кругом себя мутным взором и молчал. Некоторое время молчали и все присутствующие. Никогда, с тех пор как существует на свете род Эзофовичей, ни у одного из членов этой семьи не было такого вида, какой был теперь у этого бледного, тяжело дышавшего юноши, с изодранной в клочья одеждой и забрызганной грязью головой. На лбу, покрытом каплями лота от смертельной усталости, виднелся косой красный шрам, — быть может, след острого камня, скользнувшего по нему, или — кто знает? — какого-нибудь острого оружия, поднятого на него чьей-нибудь рукой в темной зале бет-га-мидраша! У него был вид преследуемого разбойника; его можно было также принять и за нищего, если б не выражение гордости, лежавшее на его измученном и израненном лице, и не горячий блеск его глаз, в которых, наряду с невыразимой мукой, отражалась настойчивая и непреклонная воля.
Саул закрыл лицо обеими руками. Несколько женщин громко зарыдали. Рафаил, Абрам и другие взрослые члены семьи поднялись со своих мест, разгневанные, грозные, и в один голос воскликнули: «Несчастный!» Они хотели окружить его и что-то сказать ему, но не успели. В эту минуту с громким треском отворились ставни, запертые снаружи, стекла окон зазвенели и рассыпались в мелкие куски, в комнату влетело несколько камней, со стуком ударившихся о стены и мебель, а за окнами закипел отчаянный и грозный шум, среди которого яснее и страстнее всех звучал грубый голос меламеда. Требовали выдачи Меира и рукописи Сениора; поносили всю семью, живущую в этом доме, угрожали местью божеской и человеческой, кричали об оскорблении закона и о попирании всего, что свято для Израиля.
Эзофовичи стояли, как прикованные к месту, охваченные страхом и стыдом.
Только Саул открыл лицо, гордо выпрямился и быстрым шагом направился к дверям.
— Тате! Куда ты идешь? — испуганно закричали ему вслед мужчины и женщины.
Вытянув по направлению к окну указательный палец, Саул дрожавшими губами сказал:
— Я стану на крыльце моего дома и скажу этому глупому сброду, чтобы он замолчал и уходил прочь!
Ему загородили дорогу. Женщины обвили руками его колени.
— Они убьют тебя! — стонали кругом.
Вдруг в одну минуту шум за окнами умолк, и по толпе разнесся повторяемый многими губами шопот:
— Шамес! Шамес! Шамес!
Действительно, со двора синагоги вышел и быстро переходил площадь, направляясь к дому Эзофовичей, человек, который несколько минут тому назад неподвижно сторожил двери немого, как гроб, бет-га-кагала. Гроб отворился, и слуга синагоги, должно быть, выслушав состоявшееся решение, спешил объявить это решение обвиняемому и его семье. Но и народ тоже ждал приговора со страстным любопытством. Поэтому-то он затих и стоял теперь словно черная стена, припертая к окнам, в которых уже не было почти ни одного стекла. И те, которые оставались еще на дворе синагоги или, рассеявшись по площади, праздно наблюдали эту бурную сцену, также соединились теперь в одну огромную массу, занявшую значительное пространство перед домом Эзофовичей! Двери этого дома снова отворились и тотчас же закрылись. Шамес вошел в приемную комнату.
Он вошел несколько встревоженный, недоверчивым взглядом посматривая вокруг, а потом поклонился Саулу.
— Шолем алейхем! (Мир тебе!) — сказал он тихо, словно чувствуя сам в этом обычном приветствии на этот раз какую-то жестокую иронию.
— Ребе Саул! — начал он опять уже более уверенным голосом, — не гневайся на слугу твоего, что он приносит в дом твой несчастие и позор. Я исполняю приказание великого раввина нашего и всех дайонов и кагальных наших, которые судили сегодня твоего внука Меира, а объявить состоявшееся решение ему и всем вам поручили мне.
После этих слов снова последовало глубокое молчание. Только спустя некоторое время Саул, который стоял, опираясь на плечо своего сына Рафаила, глухим голосом сказал:
— Читай!
Шамес развернул бумагу, которую держал в руке, и стал громким голосом читать или, вернее, выкрикивать нараспев:
— «Исаак Тодрос, сын Боруха, раввин шибовский, вместе с дайонами и кагальными, ведающими суд и управление в израильской общине города Шибова, узнали и подтвердили многочисленными свидетельскими показаниями и многими доводами, не подлежащими никакому сомнению, что самонадеянный, дерзкий и непокорный Меир Эзофович, сын Вениамина, совершил нижеследующие тяжкие беззакония и никогда не слыханные в Израиле преступления:
1) Вышеназванный Меир, сын Вениамина, не заботился о соблюдении шабаша согласно законам и постановлениям израильской веры и, вместо того чтобы предаваться в этот день, как подобает истинному израильтянину, благочестивым чтениям и размышлениям над бесчисленными предписаниями Талмуда и над непостижимыми тайнами Каббалы, осмелился охранять и защищать жилище отщепенца караима, поднимать в гневе руку свою на израильских детей, а в уединенных местах читать проклятые книги и петь светские песни.
2) Меир Эзофович, сын Вениамина, не только сам читал проклятую книгу „Mopэ-Небухим“ Моисея Маймонида, ложного мудреца, проклятого многими святыми раввинами и учеными нашими, но и подбивал к чтению ее и к обсуждению заключающихся в ней ересей и мерзостей своих товарищей и приятелей.
3) Меир Эзофович, сын Вениамина, в присутствии своих товарищей и приятелей извергал из уст своих мятежные речи против закона и израильских мудрецов, чем портил души израильских юношей и заражал их проказой неверия.
4) Под предлогом сострадания к нужде и к несчастиям народа он давал людям преступные и глупые советы, говоря, что надо обращать внимание на то, что делают кагальные с получаемыми от них деньгами; что надо различать в законе то, что исходит, от бога, и то, что исходит от людей; что надо рассеяться по широким полям и вести по ним плуги, как это делают темные и жалкие мужики-христиане.
5) Несмотря на то, что у него давно уже выросли на лице и на подбородке волосы, он не хотел взять себе жены и противился в этом воле старших, а нареченную ему израильскую девицу Меру, дочь Эли, дерзко отвергнул, чем проявил свое развратное решение уклоняться от законного супружеского союза.
6) Он вел нечистую дружбу с Голдой, караимкой, внучкой отщепенца, которому раввин Исаак и кагальные только благодаря своему великому милосердию позволяют жить в доме его отца, ибо караимы, как добровольно отпавшие от лона Израиля и не желающие признавать святости Талмуда и Каббалы, недостойны того, чтобы земля носила их на своей поверхности. Меир Эзофович, сын Вениамина, часто посещал их, с Голдой встречался в уединенных местах, осмеливался принимать из ее рук цветы и присоединял свой голос к ее голосу, распевая вместе с ней светские песни в шабаш.
7) Он не воздавал должных почестей израильским ученым, открывал рот свой для дерзких препирательств с ребе Моше, любимцем и учеником раввина Исаака, и на этого же реб Моше осмелился поднять преступную руку так, что реб Моше, получив толчок от этой руки, повалился на пол в хедере, а на него упал стол, и из-за этого произошли великие беспорядки и шум, для реб Моше — боль и страх, а для всего Израиля — скорбь и соблазн.
8) В непонятном своем озлоблении он обвинил перед чужим человеком реб Янкеля Камионкера в дурном намерении по отношению к этому чужому человеку, чем нарушил единство и союз израильского народа и подверг голову брата своего сильной опасности; чтобы отвратить от себя эту опасность, реб Янкель должен теперь перенести много неприятностей и потратить много труда и денег.
9) Не зная границ для своей дерзости и безбожия, он достал рукопись своего предка Михаила Сениора из тайного места, где она бы сгнила и рассыпалась в прах! Наполнив сердце свое преступной смелостью, он пришел в бет-га-мидраш, чтобы рукопись эту прочесть в присутствии всего народа и тем жестоко потрясти веру его отцов в старые законы и обычаи израильские. Ввиду того, что рукопись эта, как нам говорили призванные нами свидетели, наполнена самыми злонамеренными советами и страшнейшими богохульствами, какие когда-либо слышало ухо Израиля, чтение это мы считаем за самое большое преступление из всех великих преступлений, которые он совершил, и на основании законов, заключающихся в святых книгах наших, и той власти, которая предоставлена нам согласно тем же законам над всяким сыном дома Израиля, мы постановляем:
„Завтра вечером самонадеянный, дерзкий и непокорный Меир Эзофович, сын Вениамина, устами раввина Исаака, сына Боруха, будет предан великому и страшному проклятию, для выслушания которого шамесы должны созвать весь народ из города Шибова и его окрестностей. И когда на голову его падет это проклятие, он будет отвергнут от лона Израиля и позорно изгнан из дома Израиля. Вы же все, чтущие своего бога и закон его, живите спокойно и счастливо вместе со всеми братьями израильтянами!“».
Шамес окончил читать, положил бумагу за пазуху, низко поклонился и быстро покинул комнату.
Несколько минут царило гробовое молчание; народ, черной стеной стоявший за окнами, не прерывал его ни малейшим звуком и тоже хранил молчание.
Вдруг Меир, до тех пор стоявший неподвижно, устремив взгляд на то место, где минуту тому назад стоял шамес, поднял вверх обе руки, схватился ими за голову и крикнул:
— Отвергнут от лона Израиля! Из дома Израиля позорно изгнан!
Судорожные рыдания, вырвавшиеся у него из груди, прервали голос его. Порывистым движением он отвернулся от присутствующих, закрыл лицо руками, лбом прислонился к стене и заплакал громким, страстным, раздирающим душу плачем. Достаточно было одну минуту слышать это рыдание, чтобы понять, что удар поразил его в самое сердце, что ожидающий его разрыв с народом терзал и рвал в нем самые сильные, самые глубокие струны сердца.
Тогда к нему приблизились его дяди, их жены и дочери и различными голосами, полными гнева и сострадания, угроз и просьб, начали требовать от него, чтобы он образумился, смирился и отдал рукопись Сениора на всенародное сожжение: может быть, тогда старейшины умилостивятся, и приговор, произнесенный ими, будет отменен. Мужчины теснились около него, женщины обнимали его, а к упрекам и порицаниям примешивались также и поцелуи.
Он не переставал плакать, не поворачивал лица и не отрывал головы от стены, а на раздававшиеся вокруг него крики и просьбы отвечал, отрицательно качая головой и повторяя только одно слово.
— Нет! Нет! Нет!
Это слово, вырывавшееся у него из груди, судорожно сжатой рыданием, было красноречивее всяких длинных речей; в нем слышались всевозможные оттенки человеческого чувства — отчаяние, сожаление, гнев, мольба и любовь.
— Тате! — сказал Рафаил, обращаясь к Саулу, неподвижно сидевшему в стороне на стуле, — Тате! Почему ты не скажешь ему, почему не прикажешь ему, чтобы он смирился и образумился, чтобы он отдал эту несчастную рукопись в наши руки; мы отнесем ее раввину и попросим смиловаться над ним!..
При этих словах Рафаила Меир открыл, лицо и посмотрел на деда.
Саул поднял голову, вытянул руку, словно желал найти перед собой точку опоры, и встал со стула. Его тусклый взгляд, ставший вдруг странно тревожным и подвижным, наконец, встретился с устремленным на него взглядом внука. Старик открыл рот, но ничего не сказал.
— Говори, тате, говори! Прикажи ему! — восклицало несколько голосов.
Старик зашатался на ногах. На его вздрагивавшем лице отразилась какая-то ужасная борьба, мучительное колебание души, которую тянут в двух различных направлениях. Несколько раз он пробовал говорить, но не мог и, наконец, тяжелым шопотом воскликнул:
— Он не проклят еще… Мне еще можно… Во имя бога Авраама, Исаака и Иакова, благословляю тебя, сын сына моего!
И весь, дрожа, с взъерошенными бровями, полными слез глазами, он опустился на стул.
Присутствующие обменялись взглядами, полными изумления и почтения. Меир подбежал, упал перед дедом на землю и принялся целовать ему ноги и колени, торопливо, горячо, шепотом говоря ему что-то о своей любви к нему, о рукописи Сениора, о том, что он уйдет отсюда и что когда-нибудь вернется обратно… Потом он поднялся с колен и выбежал из комнаты.
В эту минуту перед окнами дома не было уже никого. Черная масса людей отхлынула к середине площади и стояла там, почти неподвижная, только тихонько перешептываясь.
Удивительная вещь! Едва шамес прочитал слова сурового приговора, как волна почти бешеной ярости, вздымавшая у всех грудь, вдруг опала. Что-то произошло в толпе. Впечатлительная, всегда готовая, наподобие многострунной арфы, ответить звуком на всякое прикосновение, она дрогнула под влиянием какого-то нового чувства. Было ли это уважение к несчастию и позору, постигшим старинную, влиятельную и щедрую семью? Было ли это спокойствие, наступающее после удовлетворенной мести? Ужас или сострадание? Или все это вместе?
Толпа, которая только минуту назад вся кипела, проклинала, угрожала и готова была ниспровергнуть все, что стояло на пути ее гнева, вдруг умолкла, отодвинулась и стала печальной. Кое-где только еще раздавался смех мстительной радости или произносились слова оскорбления и осуждения, но в группах, рассеявшихся по площади и удалявшихся в боковые улички, слышался тихий отрывистый шопот:
— Однако он был добрый и сострадательный…
— Он не был горд…
— Он кормил и целовал моего глупого ребенка…
— Он старого отца моего вытащил своими руками из-под воза, который опрокинулся на него…
— Он, как простой рабочий, помогал нам пилить дрова…
— Лицо его сияло красотой и умом…
— И радовались наши глаза, глядя на его юность…
— Херем! Херем! Херем! — повторяло множество голосов, и при этом головы качались от удивления, лица бледнели от ужаса, и из грудей вырывались вздохи…
* * *
По пустырям, отделявшим местечко от Караимского холма, под серебряным лунным светом быстро подвигались тени трех людей. Один из них был, по-видимому, высокий стройный юноша, другой — ребенок, засунувший руки в рукава одежды; и эти две тени находились так близко одна к другой, что по временам почти сливались, а третий был, как видно, низкорослый, коренастый человек, шедший вдали от первых двух; временами он останавливался, съеживался, а минутами совсем исчезал за каким-нибудь забором, кустом или деревом. Остановки эти и исчезновения свидетельствовали об осторожности человека, не желавшего быть замеченным. Он подсматривал, подслушивал, выслеживал что-то или кого-то.
У открытого окна караимской избушки раздался тихий зов:
— Голда! Голда!
Из окна выглянуло лицо, освещенное луной и окружённое волнами черных волос. В тихом воздухе послышался страстный шопот: — Меир! Меир! Я слышала ужасный шум и отчаянные крики! Мое сердце дрожало от страха! Но это ничего! Ты пришел!
Две руки, покрытые рукавами грубой сорочки, вытянулись к подошедшему жестом, полным тревоги и радости; кораллы зазвенели на ее груди, в которой рыдания смешивались со смехом.
Вдруг у девушки вырвался протяжный крик.
Меир стоял теперь как раз перед ней. Она увидела его порванную одежду и кровавый шрам, рассекший ему лоб.
— Ох! — вздохнула Голда из глубины груди и подняла обе руки к лицу, но потом опустила их и, нагнувшись к юноше, который сел на лавку под окном, она, задерживая дыхание и что-то прерывисто и торопливо шепча, начала водить рукой по его запыленным волосам и израненному лбу. В этой страстной ласке было какое-то материнское чувство, желание успокоить, исцелить и утешить.
Он сидел некоторое время в позе человека, отдыхающего от смертельной усталости. Прислонился головой к раме окна и полуоткрыл губы, с трудом втягивая в себя воздух холодной ночи; а лунный свет отражался в его сухих глазах, которые с выражением мрачного вопроса остановились на посеребренных облаках.
Через минуту он выпрямился и торопливо, вполголоса проговорил:
— Голда! Быть может, меня станут искать, а если найдут, то отнимут у меня мое сокровище. Тебе, Голда, я отдам это сокровище, а сам на всю ночь пойду в поля и леса, чтобы громко взывать там к Иегове о милосердии.
Девушка, которая стояла, теперь выпрямившись, серьезная и внимательная, ответила:
— Дай!
В руках Меира зашелестели листы бумаги. Он подал их девушке, говоря:
— Спрячь их у себя на груди и береги мое сокровище, как зеницу ока. Это предсмертная рукопись моего предка, которая окончательно помогла мне прозреть. Это мой паспорт, с которым я пойду в свет и который откроет предо мной двери и сердца мудрых людей. Тут тихо и безопасно… никто не видит и не догадывается… Когда я буду отправляться в свет, тогда возьму у тебя эту рукопись.
Голда взяла поданный им сверток.
— Будь спокоен за свое сокровище! — ответила она. — Скорее я расстанусь с жизнью, чем отдам его в чужие руки. У меня оно в безопасности. Здесь тихо и никто не догадается…
Меир встал с лавки.
— Спи спокойно! — сказал он. — Я пойду… во мне шумит такая буря слез… что я должен идти… идти… Пойду… среди лесных деревьев я упаду лицом на землю и вместе с ветром, шумящим там, буду громко взывать к Иегове… Я буду ему жаловаться… буду умолять его… о многом спрашивать его… Грудь моя полна рвущихся из сердца воплей, мне надо излить их… они сжимают мне горло и душат меня…
Юноша хотел уйти, но Голда схватила его за рукав одежды.
— Меир! — прошептала она, — скажи мне еще, что произошло там?.. За что тебя били и увечили? Для чего тебе нужно идти в свет?
Меир ответил с мрачным огнем в глазах:
— Меня били и увечили за то, что я не хотел идти против своей правды, не хотел сказать «согласен!» на все то, с чем соглашается народ. В свет я должен идти потому, что завтра на меня обрушится ужасное проклятие, и я буду постыдно изгнан из дома Израиля!
— Xерем! — крикнула девушка и в ужасе схватилась руками за голову. Так стояла она несколько минут. Потом по лицу ее разлилась задумчивая, тихая улыбка.
— Меир! — прошептала она, — зейде мой проклят… и я проклята… Но милосердие господа больше самого великого ужаса, а справедливость его глубже самого глубокого моря. Так сказано в Писании. Когда зейде мой читает это, он перестает печалиться и говорит: «Проклятый счастливее проклинающего… ибо придет час, когда справедливость божия войдет в сердца людей, и благословлять они будут именно проклятых…»
Меир долго смотрел на девушку, произносившую эти слова с огнем увлечения в запавших глазах, с лицом, светившимся воодушевлением.
— Голда! — тихо сказал Меир, — ты часть души моей… пойдем со мной в свет… я возьму тебя в жены, и рука об руку мы вместе будем переносить проклятие людей и стараться, чтобы когда-нибудь на наши имена снизошло благословение.
Голда стояла вся в огне, в лучах невыразимого счастья.
— О Меир! — крикнула она, потом хотела сказать что-то еще и не могла. В безумной радости, с грудью, дрожащей от плача, смеха, вздохов и невысказанной благодарности, она низко наклонилась и всей своей стройной, гибкой фигурой повисла на его плечах.
Он обнял ее, прижал ее голову к своей груди и прильнул губами к ее густым шелковистым волосам.
Это продолжалось минуту… один миг. Девушка быстро выпрямилась и, вся красная, с дрожащими губами, с глубоко дышащей грудью, тихонько произнесла:
— А зейде?
Меир смотрел на нее как человек, внезапно разбуженный от сна. Она продолжала шептать:
— Его ноги слишком слабы, чтобы он мог пойти с нами! И он не захочет уйти от своих отцов! Как же я брошу его? Как он будет жить без меня? Он укачивал меня на своих руках, учил прясть и читать Библию, он душу мою освещал и сердце мое радовал теми прекрасными историями, которые он мне постоянно, постоянно рассказывает. Если я уйду, кто же будет кормить его и поить? Кто в темную зимнюю дочь ляжет у его ног, чтобы своим телом согреть их? А когда душа его будет расставаться с телом, кто на руках своих укачает его седую голову для вечного сна? Меир, Меир! И у тебя есть дед е белыми, как снег, волосами, который в горе по тебе разорвет свои одежды. Но у твоего зейде есть сыновья и дочери, снохи и зятья, внуки и правнуки, есть богатый дом, и у людей он пользуется большим уважением… У моего зейде на всем свете только бедная мазанка, старая Библия и его внучка Голда…
Меир вздохнул.
— Ты права, Голда! — сказал он. — Но что же ты будешь делать? Что станется с тобой, когда глаза твоего деда закроются навеки и ты останешься тут одна, окруженная презрением людей, среди бедности?
Голда села, потому что ноги подкашивались у нее. Обеими руками провела по горящему лицу, а через минуту, подняв глаза вверх, ответила:
— Я сяду перед дверями этой хаты, буду прясть шерсть, пасти моих коз и смотреть на ту дорогу, по которой ты когда-нибудь вернешься…
Это был отрывок из истории Акибы и прекрасной Рахили.
В мечтательной задумчивости Меир снова спросил:
— А что же ты сделаешь, когда придут люди, будут смеяться над тобой и скажут: «Акиба пьет из источника мудрости, а твое тело пожирает нужда и глаза твои гаснут от слез?»
Тихий от страстного волнения, но серьезный голос сказал:
— Я отвечу им: «Пусть нужда пожирает мое тело, а глаза изойдут слезами, я буду хранить верность мужу моему… И если б он стал теперь передо мной и сказал: „Я вернулся, потому что не хочу, чтобы ты плакала больше, но я еще мало пил из источника мудрости“, то я сказала бы ему: иди и пей еще!»
Меир встал. Не отчаяние, а сила и отвага выражались теперь на его лице и во всей его фигуре.
— Я вернусь, Рахиль! — воскликнул он. — Иегова заступится за меня, и подадут мне руку помощи люди, которым я открою свое сердце, жаждущее познания, и покажу рукопись моего предка, связывающую народ израильский с другими народами союзом примирения… Я долго, долго и жадно буду пить из источника мудрости, а потом вернусь сюда и буду учить бедный народ мой, а на твою голову возложу золотую корону за всю ту нужду и презрение, которые ты перенесешь для меня…
Голда тряхнула головой. По ее лицу заметно было, что она видит какой-то чудный сон. Ей снилось, будто она прекрасная Рахиль, встречающая после долгого пути своего мужа Акибу. С мечтательной улыбкой на губах, с огнем страсти в глазах, она шепнула:
— Я обниму тогда твои колени, взгляну глазами, которые снова станут такими же прекрасными, как много лет назад, на твое сияние и скажу: «Учитель! Слава твоя — моя корона!»
Долго смотрели они друг на друга сквозь слезы. Любовь, светившаяся в глубине их глаз, была такой же чистой и героической, как и их сердца.
Вдруг до слуха их долетел тихий, но звонкий смех ребенка. Удивленные, они оба взглянули в ту сторону, в которой он зазвучал. На пороге открытых дверей сидел Лейбеле и держал в объятиях маленького, белого, как снег, козленка. Козленок этот был куплен на ярмарке на деньги, собранные Голдой от продажи корзин. Ребенок увидел его в глубине сеней, освещенных луной, и, взяв его на руки, вынес на порог избушки, а теперь, пряча лицо свое в его мягкой шерсти, смеялся весело и шаловливо.
— Ребенок этот всегда приходит сюда за тобой, — сказала Голда.
— Сегодня он целовал меня, когда все меня били, и я заслонил им от сильных рук мое сокровище, — ответил Меир.
Голда исчезла из окна и тотчас же появилась у порога мазанки. Она так низко наклонилась над ребенком, что распущенные волосы ее спустились ему на голову и плечи, и прильнула губами к его лбу. Лейбеле нисколько не испугался. Видно, он чувствовал себя здесь в безопасности. Не раз уже видел он эту женщину, огненные глаза которой смотрели теперь на него с выражением несказанной нежности. Он поднял на нее взгляд, ясный, благодарный и почти осмысленный.
— Позволь мне поиграть с козленком, — прошептал Лейбеле.
— Хочешь молока? — спросила девушка.
— Хочу, — ответил ребенок, — дай!
Она вынесла из сеней глиняную кружку, наполненную молоком, и сама напоила им ребенка. Потом села рядом с ним на пороге и спросила:
— Почему ты покидаешь отца и мать и идешь за Меиром?
Ребенок покачал головой и ответил:
— Он лучше, чем тателе, и лучше, чем мамеле. Он кормил меня и гладил меня по голове и вырвал меня из рук ребе Моше…
— Чей ты сын? — спросила Голда.
Лейбеле молчал минуту, смотрел вверх и качал головой. Видно было, что он борется со своей непослушной, подавленной мыслью. Вдруг вытянул палец по тому направлению, куда удалялся Меир, и громко воскликнул:
— Его!
При этом засмеялся, но это не был смех, идиота, это было проявление радости, которую почувствовала бедная душа ребенка, когда с громадным усилием ей удалось, наконец, выразить словами свою любовь и свои горячие неясные желания.
Голда посмотрела в ту сторону, куда пошел Меир, и тяжело вздохнула. Потом встала, закуталась в какой-то старый платок и, взойдя до половины на холм, села там под низкорослой сосной. Быть может, ей хотелось с этого возвышения охватить взглядом более широкое пространство, чтобы увидеть, как он будет возвращаться из далеких полей и лесов. Она оперлась локтями на колени, закрыла лицо руками и сидела неподвижно, как статуя печали; а по черным волосам ее, закрывавшим ее всю будто плащом, спустившимся на влажную траву, месяц рассыпал миллионы мерцающих искр.
А в дверях избушки вскоре уснул Лейбеле, все еще прижимая к своей груди белого козленка, тоже заснувшего.
* * *
Почти в это же время в хату раввина тихонько отворились низкие двери, и в них вошел реб Моше, сгорбленный, пристыженный, измученный. Он опустился на землю у камина и стал боязливо смотреть на Тодроса, который, сидя у открытого окна, устремил взгляд на луну.
— Равви! — шепнул меламед несмело. — Равви! — повторил он несколько громче, — твой слуга виноват в глазах твоих… он не принес тебе, равви, этой отвратительной рукописи! Буря была сильная, но его защищали приятели, потом он сам стал защищать себя, а потом его защитил маленький ребенок. Глупый народ рвал, бил, бранил его, бросал в него камнями, но омерзительной рукописи не вырвал у него из рук. Насси! Слуга твой полон стыда и боязни, но ты смилуйся над ним и не наказывай его молнией твоего взгляда…
Тодрос, не спуская глаз, устремленных на луну, произнес:
— Рукопись эту надо вырвать из его рук и отдать в мои руки…
— Насси! Рукопись эта уже не находится в его руках!.
. — А где же она? — не поворачивая лица, но повышенным голосом спросил Тодрос.
— Равви! Я не смел бы показаться пред лицо твое, если б не знал, что с ней стало… Я шел за ним… Вся душа моя вошла в глаза и уши мои… Я видел, как он отдал рукопись эту караимской девушке на хранение, и слышал, как он называл ее своим сокровищем… Он говорил, что это его паспорт, с которым он пойдет в свет и который будет открывать перед ним сердца людей…
Тодрос вздрогнул.
— Это правда! Это правда! — зашептал он порывисто. — Рукопись эта будет ему щитом и оружием, о которые затупится острие нашей мести.
— Моше, — прибавил он, повысив голос, — эту мерзость надо вырвать из рук караимской девушки.
Меламед подполз к самым ногам учителя и, подняв к нему лицо, тихо произнес:
— Равви! Девушка эта сказала, что скорее позволит отнять у себя жизнь, нежели эту рукопись.
Тодрос молчал минуту, потом проговорил:
— Рукопись эту надо вырвать из рук ее.
Меламед долго молчал и думал.
— Равви! — отозвался он потом очень тихим шопотом, — а если с ней случится что-нибудь очень дурное?
Тодрос минуту не отвечал, потом сказал:
— Благословенна рука, выметающая из дома Израиля сор…
Меламед жадно выслушал эти краткие слова и долго вдумывался в тайный смысл их. Наконец улыбнулся.
— Равви! — сказал он, — я понимаю волю твою. Положись на слугу твоего. Он найдет людей, руки которых будут вооружены силой, а сердца будут непоколебимы. Равви! — прибавил он умоляющим голосом, — брось на мою голову ласковый луч твоего взгляда… Пусть я увижу, что ты далек от гнева на слугу твоего… Душа моя без твоей милости и любви все равно, что колодец без воды или темница, над которой не светит солнце.
Тодрос ответил:
— Ласковый луч не появится в глазах моих, а гнев и печаль не уйдут из сердца моего, пока мерзкая рукопись будет находиться в руках проклятых…
Моше простонал.
— Равви! Рукопись эта завтра же ночью будет в твоих руках.
Месяц освещал лица этих людей, из которых один смотрел в небо, а другой в лицо своего учителя. Учитель искал в небе пламенным взглядом светящиеся полосы, которые обозначают пути ангелов, ведущих звезды в их вечном странствовании среди небесных пространств. Ученик искал отражения этих сверхъестественных сияний в глазах своего учителя.
В ушах у обоих шумело имя ангела смерти, которого они призывали к себе на помощь, а сердца обоих были полны безграничной любви и благоговения.
III
Необычайное волнение царило среди населения местечка. Со всех сторон шли толпами и тянулись вереницами люди, направляясь к большой темной синагоге, под трехъярусной заплесневевшей крышей которой, в окнах, похожих на древние бойницы, начали показываться длинные узкие полосы света. На небе появлялись уже звезды, но они бледнели при ярком блеске восходящей полной луны.
Внутри храма находилась огромная зала, в которой могло поместиться несколько тысяч народу; по вышине своей она равнялась большому двухэтажному зданию. Ее стены, составлявшие правильный четырехугольник, совершенно гладкие, белые, как снег, пересекались наверху тяжелой галереей с глубокими сводообразными нишами, нечто вроде лож, загороженных прозрачной, но высокой решеткой. Внизу густо стояли одна за другой деревянные скамьи, занимавшие все пространство — от самого входа до места, возвышавшегося над полом на несколько ступеней и тоже окруженного красивой деревянной решеткой. На этом возвышении находился стол, назначенный для того, чтобы разворачивать на нем огромный лист Торы (пятикнижия) в те дни, когда полагалось читать народу отрывки из нее. Возвышение это служило и кафедрой, с которой в торжественные дни раздавались религиозные речи и поучения. Тут же располагался и хор, состоявший из подростков и взрослых юношей, которые присоединяли свои голоса к голосу кантора, запевающего молитвы. Возвышение это только несколькими шагами было отделено от главного места синагоги, которое поражало величественностью своих форм и яркостью красок; это был алтарь, если только можно употребить это название для места, где хранятся святыни из святынь, к которому направляются самые благочестивые взгляды и вздохи верующих. Верхушка этого алтаря доходила до потолка и состояла из двух огромных скрижалей, чистый лазурный фон которых был зачерчен извилистыми белыми слогами, похожими на восточные арабески богатого и фантастического рисунка, в которых опытный глаз мог прочесть десять заповедей синайских. Лазоревые скрижали, покрытые белыми извилистыми письменами, поддерживались двумя огромных размеров львами из позолоченной бронзы, сидевшими в величественных позах на двух толстых тяжелых колоннах, блиставших самым ярким сапфиром и обвитых белоснежными художественно вырезанными венками из листьев и. виноградных гроздьев. Колонны эти грузно опирались на широкий каменный пьедестал, поверхность которого была исписана уже до самой земли многими отрывками из Писания. Как могучие и сильные стражи, колонны эти стояли с обеих сторон глубокой ниши, сверху донизу прикрытой занавесью из ярко-красного шелка, украшенного с ослепительным богатством золотыми вышивками. За этой завесой, обыкновенно спущенной и подымавшейся только при соответствующих обстоятельствах, хранилась святыня из святынь, Тора — огромный свиток пергамента, завернутый в ценную материю и завязанный лентой, тяжелой, негнущейся от серебряного и золотого шитья.
Судя по серому и жалкому виду местечка, никто не мог бы представить себе того великолепия, каким отличалась внутренность древней, целыми веками набожно украшаемой святыни, особенно в тот момент, когда она в довольно поздний час вечера вся запылала яркими огнями и из конца в конец наполнилась народом.
Семь стосвечных люстр, спускаясь с потолка на серебряных цепях, заливали потоками света сводчатую галерею, из-за прозрачных решеток которой виднелась настоящая мозаика женских лиц и платьев и густые ряды стоящих внизу скамеек, на которых помещались зрелые, бородатые мужи, покрытые мягкими шерстяными белыми покрывалами (талесами); как бы в знак вечного трогательного траура по утраченной когда-то отчизне, края их были обведены черными полосками; там и сям на шеях богачей и достойнейших лиц общины блестели широкие серебряные тесьмы выпуклого густого рисунка. Но самая большая люстра, богатые подвески которой время от времени издавали серебристый звон, горела перед нишей, находившейся между двумя могучими колоннами. Там сверкали золотые вышивки и золотая бахрома ярко-красной завесы; из-под ног величественных львов словно сыпались нежные листья и тяжелые гроздья винограда; там, на самом верху, отчетливо выделялись на лазоревом фоне белые черточки извилистых надписей; а внизу, спереди каменного пьедестала, сплошь покрытого неровными линиями надписей, стоял кантор, покрытый с головой белым талесом, и пел эти старые псалмы, безбрежная мелодия которых словно плывет полной гаммой людских восторгов, восхвалений, желаний, молений и мук.
Но никогда еще прекрасный голос Элиазара не выражал всех этих чувств с такой силой и глубиной, как в этот вечер; никогда еще в нем не было таких могучих порывов, такой торжественной звучности и такой глубокой дрожи, которая, постепенно понижаясь и затихая, словно угасала и тонула в море каких-то безбрежных страданий и молений. Казалось, что в этот вечер в его грудь вошла почти нечеловеческая сила жалобы и мольбы, что за плечами у него вырастали крылья, на которых он стремился подняться к самым стопам Царя Царей, чтобы там принести в жертву свое тело и душу ради спасения чего-то или кого-то. Огромная зала — от одного конца до другого, от пола до потолка — была полна звуков, непрерывным потоком льющихся из его груди; хор, стоявший на возвышении, время от времени присоединял к ним могучие аккорды, а вся толпа, охваченная восторгом, хранила гробовое молчание, устремив взоры на блистающую золотом ярко-красную завесу. Только изредка то тот, то другой, указывая головой на увлеченного и увлекающего певца, шептал: «Это ангел Сандалфон, который подает господу венки, сплетенные из всех людских молитв». Кое-кто грустно покачивал головой и вздыхал: «Он так молится за своего друга, на голову которого должно упасть сегодня проклятие!»
Вдруг среди чудного пения кантора и торжественного молчания народа раздался глухой, но сильный стук, повторившийся несколько раз. Голос Элиазара оборвался, как золотая струна, которую рванула грубая рука; глаза присутствующих, перенеслись от алтаря к тому месту, где раздался сильный стук.
С возвышения, окруженного деревянной решеткой, молодой хор певцов исчез, и там стоял теперь только один человек, тщедушный, сгорбленный, с длинной желтой шеей, вытянутой вперед, с темным лицом, заросшим черными, как ночь, волосами, и с мрачно горевшими, как угли, глазами. В обеих руках он держал огромную книгу и изо всех сил ударял ею о стол; это означало приказание, чтобы все замолчали. Полное молчание водворилось тотчас же по всей зале; только в преддверии слышен был какой-то шум и сдержанные возгласы. Несколько десятков лиц различного возраста и положения окружили там человека с очень бледным лицом, крепко сжатыми губами и сухими горящими глазами, который стоял, прислонившись плечами к дверному косяку синагоги. Это был Mеир. В ушах его раздавался шопот голосов:
— Еще не поздно! Еще есть время! Сжалься над собой и над своей семьей! Смирись! Беги скорей, скорей и упади к ногам раввина! О! Xерем! Xерем! Xерем!
Меир, казалось, ничего не слышал. Он крепко прижимал к груди сложенные руки. Сдвинутые брови придавали его лицу с красным шрамом на лбу выражение мрачной скорби и непреклонной воли.
— Во имя бога отцов наших! — раздался сильный бас Исаака Тодроса.
По всему собранию пронесся сдержанный шопот, словно дрожь пробежала по этому многоголовому телу, и тотчас же все замерло в глубокой тишине.
Исаак Тодрос заговорил медленно, выразительно, отделяя слово от слова:
— Силой и могуществом мира, во имя святого закона нашего и шестисот тринадцати повелений, заключающихся в законе этом, херемом, которым Иисус Навин проклял город Иерихон, проклятием, которым Елисей проклял преследовавших его мальчиков, шамтой, которой пользовались великие синедрионы и соборы наши, всеми херемами, проклятиями, изгнаниями, истреблениями, которые применялись от времени Моисея до нынешнего дня, — во имя бога предвечного, владыки мира и творца его великолепия, во имя Мататрона, ангела-хранителя и защитника Израиля, во имя ангела Сандалфона, сплетающего из людских молитв венки для трона господнего, во имя архангела Михаила, могучего вождя небесных войск, во имя ангелов огня, вихрей и молний, силой имен всех ангелов, направляющих звезды и разъезжающих на колесницах небесных, во имя всех архангелов, простирающих свои крылья над троном всемогущего, — тем именем, которое показалось в горящем кусту, и тем, которым Моисей разделил воды на две части, именем руки, которая начертала скрижали святого закона — мы искореняем, изгоняем, позорим, повергаем в прах и проклинаем самонадеянного, дерзкого и непокорного Меира Эзофовича, сына Вениамина…
На минуту он остановился и порывистым движением поднял над головой руки. Потом среди такой тишины, что в ней был бы слышен шелест пролетевшей мухи, он начал говорить, скорее, взывать все быстрее и быстрее голосом, все более протяжным и певучим:
— Да будет он проклят богом Израиля! Да будет он проклят могучим и страшным богом, имя которого с трепетом произносится в день Судный! Да будет он проклят небом и землей! Да будет он проклят Мататроном, Сандалфоном, Михаилом, архангелами и всеми небесными обитателями! Да будет он проклят всеми чистыми и святыми, которые служат богу. Да будет он проклят всякой высшей силой на небе и на земле! Боже, творец! Порази и уничтожь его навеки! Боже великий, покарай его! Гнев твой, боже, да разразится над его головой! Пусть дьяволы идут навстречу к нему! Проклятия и стоны пусть окружат его всюду, куда бы он ни обернулся! Пусть он собственным мечом своим пронзит себе грудь, пусть сокрушатся все стрелы его, а ангелы божий пусть гонят его, не переставая, с места на место, чтобы нигде не могла остановиться для отдыха нога его! Пусть будут дороги его опасны и погружены в глубокую тьму, а беспредельное отчаяние пусть будет ему спутником! Пусть преследуют его постоянно несчастия и печали, и собственными глазами пусть он смотрит на постигающие его удары и пусть насыщается огнем божьего гнева! Да не простит ему господь! Нет! Гнев и месть господа да изольются на этого человека, да вопьются в него и проникнут до мозга его костей! Пусть он покроется весь, как плащом, проклятием этим, чтобы исчезнуть с лица земли, а имя его пусть будет стерто с поднебесного пространства.
Тут Тодрос на минуту умолк и вдохнул воздух в грудь, измученную криками, становившимися все более отрывистыми, глухими и тяжелыми. Лицо его пылало, а руки метались над головой в резких движениях.
— С того мгновения, — снова закричал Тодрос, — как обрушилось на его голову проклятие, пусть он не дерзает подходить ни к одной израильской святыне ближе, чем на расстояние четырех локтей! Под страхом проклятия и отлучения от лона Израиля, пусть ни один еврей не приближается к нему ближе, чем на расстояние четырех локтей, и пусть не осмеливается открывать перед ним своего дома или подавать ему хлеба, воды и огня, хотя бы и видел его ослабевшим, падающим и согнутым в дугу от скитаний, голода, болезни и нужды! Пусть каждый, кто встретит его, плюет ему в лицо слюной своего рта и бросает ему под ноги камни, чтобы он спотыкался и падал. Пусть у него не будет никакого имущества. Все, что полагается ему по наследству от отца и матери его, и все, что он собрал себе собственными руками, пусть будет отдано в распоряжение кагала, чтобы из неправедного имущества этого создать утешение и опору для слабых!
О мщении этом и проклятии, которое поразило его, пусть узнает весь народ!
Вы же, собственными ушами слышавшие слова проклятия и эти повеления, разглашайте их всюду, куда бы вас ни занесли ваши ноги; а мы разошлем уведомления об этом по всем городам и общинам, где живут наши братья, по всему свету из конца в конец.
Да будет так! А вы все, которые остались верны господу вашему и закону его, живите счастливо!
Тодрос окончил, и в ту же минуту, посредством искусно устроенного механизма, яркие огни, горевшие в семи огромных люстрах, померкли, а в четырех углах залы громко зазвучали и завыли трубы. К этому то прерывистому, то протяжному и мрачному завыванию медных инструментов присоединился исполинский хор человеческих рыданий, стонов и криков. Необыкновенно громкий крик донесся из преддверия, и был он тем ужаснее, что исходил из мужской и сильной груди. Там же, в преддверии, произошло какое-то большое движение; послышалась суматоха, словно кого-то выгоняли или призывали обратно. Меир исчез с порога синагоги. Ближе к алтарю, между скамейками, несколько взрослых людей упали лицами на землю, с шумом разодрав свои одежды.
— В прахе лежат сильные Эзофовичи! — говорили в разных местах, указывая на них пальцами.
Наверху, по всей галерее, раздавались рыдания и слезные причитания женщин, а в глубине залы кучка людей, бедно одетых, без серебряных тесемок на талесах, заламывала над головами твердые черные мозолистые руки.
Тодрос вытер рваным рукавом крупные капли пота, стекавшие у него со лба, потом обеими руками оперся на деревянную решетку и, наклонившись вперед, глубоко дыша, с дрожащими губами, стал смотреть на кантора. Раввин не уходил с возвышения и смотрел на кантора в ожидании, так как по обряду после слов страшного проклятия, брошенных на человека, должны были последовать слова благословения, обращенные ко всему народу. Слова эти, благословляющие народ, должен был провозгласить кантор. Тодрос ждал этого заключения обряда. Почему кантор так медлил и не исполнял своей обязанности? Почему он не подхватил последних слов его: «Живите счастливо!» и не продолжил их благословляющей молитвой?
Элиазар стоял, повернувшись лицом к алтарю. Когда раввин выкрикивал проклятия, видно было, как плечи его дрожали под покрывавшим их талесом. Скоро, однако, он перестал дрожать, но стоял неподвижно, подняв голову и устремив свой взор куда-то высоко. Наконец вытянул вверх обе руки. Это был знак, что он призывает народ к молчанию и. к молитве. Трубы, которые до тех пор все время звучали и выли, замолкли, крики и стоны людей также прекратились. Притушенные огни снова запылали, и среди яркого света и тишины, прерываемой только кое-где слышавшимися тихими рыданиями, зазвучал звонкий, как серебро, и чистый, как кристалл, голос, который начал говорить медленно, с великой торжественностью, с внутренними слезами, придававшими ему бессмертную силу мольбы:
— Тот, кто благословил праотцев наших — Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Аарона, Давида, пророков Израиля и всех праведников мира… да снизошлет он свою милость и свое благословение на человека, которого поразил несправедливый этот херем! Да спасет его бог своим милосердием и да защитит его от всякого зла и несчастия, да продлит ему дни и часы его жизни, да благословит всякое дело его рук и да освободит его вместе со всеми братьями-израильтянами от мрака и цепей! Да будет такова воля его!. Взывайте: аминь!
Элиазар умолк; все остолбенели, несколько секунд в зале царила глубокая тишина, потом раздался громкий, вырвавшийся из нескольких сотен грудей возглас — Аминь!
— Аминь! — воскликнули Эзофовичи, вставая с земли и отряхивая пыль со своих разорванных одежд.
— Аминь! — крикнула кучка бедно одетых людей, заламывавших над головой мозолистые руки.
— Аминь! — разнеслось по галерее, полной плачущих женщин.
— Аминь! — повторил, наконец, вблизи от алтаря хор юношеских голосов.
Раввин снял руки с перил решетки, выпрямился, изумленными глазами обвел вокруг и крикнул:
— Что такое? Что это значит?
Тогда Элиазар повернулся лицом к нему и ко всем собравшимся. Талес спустился у него с головы на плечи. Бледное лицо его было покрыто румянцем воодушевления, а голубые глаза светились гневом и отвагой. Он поднял руку и громко воскликнул:
— Равви! Это значит, что уши и сердца наши не хотят больше слышать таких проклятий!
Слова эти послужили как бы военным сигналом. Едва произнес их Элиазар, как по обе стороны его плотной стеной стало несколько десятков молодых людей и подростков. Среди них были все ближайшие товарищи и приятели проклятого, но были также и такие, которые только редко и очень издалека видели его, и даже такие, которые всего несколько дней тому назад удивлялись его упорству и дерзости, совершенно не понимая их.
— Равви! — раздались крики. — Мы проклятий таких больше слушать не хотим.
— Равви! Твое проклятие породило в нашей душе любовь к проклятому!
— Равви! Ты поразил этим херемом человека, который был приятен людям и богу.
Тодрос усилием воли вышел из состояния окаменелости, в которое его сразу повергло изумление.
— Чего вы хотите? — крикнул он. — Что вы говорите? Не сатана ли опутал ваши души? Или вы не знаете, что законы наши наказывают местью и проклятием дерзких, восстающих против веры?
Уже не из толпы молодежи, а из середины зала раздался чей-то степенный голос, который произнес:
— Равви! Неужели ты не знаешь, что когда в древнем нашем синедрионе велся горячий спор о том, должен ли Израиль признать своей науку Шамая или Гиллела, то над собравшимися бат-кол раздался таинственный голос, посланный самим господом, который сказал: «Слушайте предписания Гиллела, ибо в них есть кротость и милосердие!»
Все подняли головы и вытягивались на цыпочках, чтобы увидеть, кто произнес эти слова. Их произнес Рафаил, дядя проклятого.
В ту же минуту сквозь толпу протискался Бер и, стоя среди молодежи, воскликнул:
— Равви! Считал ли ты когда-нибудь все те умы, которые были погублены твоею строгостью и строгостью отцов твоих, Тодросов… и все те души, которые были преисполнены великих желаний и которые вашей твердою рукой были ввергнуты навсегда в область мрака и тайных страданий?
— Равви! — воскликнул какой-то юношеский, почти еще детский голос, — неужели ты и все те, которые стоят с тобой, будут всегда отталкивать нас от чужих огней, без света которых сохнут от печали сердца наши, а руки пачкаются в презренной пыли?
— Почему ты, равви, не научишь народ, чтобы он из своего разума сделал такое сито, которым можно было бы отделять зерно от плевел, а жемчуг от песка?
— Равви! Ты и все те, что стоят за тобой, едите и нам велите есть гранатовый плод вместе с твердой и горькой кожурой. Но наступил уже такой час, когда мы почувствовали у себя во рту горечь, а в желудке у нас появилась сильная боль….
— Несчастные! Одержимые бесом и погибшие! — изо всех сил начал кричать Тодрос. — Разве вы не видели собственными глазами, что весь народ ненавидел человека этого, гнал его по дорогам, клал ему на спину свои сильные руки, побивал его камнями и отметил его лоб красным шрамом?
Там и сям раздался смех, гордый, негодующий и презрительный.
— Не говори: «согласен!» на все то, на что народ говорит: «согласен!» — воскликнуло множество голосов, а один из них продолжал:
— Проклятие, которое ты произнес, равви, смягчило не одно сердце и сняло слепоту с многих глаз!
— Злобные уста раздули в сердцах наших гнев против невинного, но сегодня из глаз наших текут слезы жалости к нему, ибо ты, равви, проклятием своим обрек на смерть юность!
— Хуже смерти, равви, то проклятие, которое ты бросил в него, ибо с ним он будет среди живых как умерший!
— А разве не написано в постановлениях великих синедрионов наших: «Суд, в течение семидесяти лет, произнесший один раз смертный приговор, будет назван судом убийц!».
— В синедрионах не заседали люди бездетные и жестокосердные!
— Кто сеет ненависть, пожнет скорбь!
Эти восклицания и множество им подобных раздавались им кучки людей, столпившихся у алтаря. Там раздавались голоса, поднимались лица, блестели разгоревшиеся глаза, а разгоряченные руки бросали раввину и всему собранию вызывающие, дерзкие угрозы.
Тодрос не отвечал уже. Он совершенно окаменел. Он стоял с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами, у него был вид человека, переставшего понимать то, что делается вокруг него.
Но из толпы выскочил и стал перед решеткой прямо против взбунтовавшейся кучки людей меламед. Весь, дрожа, разъяренный, он распростер свои неуклюжие руки, словно желая заслонить ими стоявшего на возвышении учителя, и крикнул:
— Горе! Горе! Горе наглецам, не отдающим должного почтения тому, кто занят служением миру!
Элиазар ответил:
— Между нами и господом нашим не должно быть никакой стены! Мы назначили из своей среды таких людей, которые должны изучать закон и объяснять его незнающим. Но мы не сказали им: отдаем вам в неволю души наши! Каждый сын Израиля имеет право искать господа в сердце своем и понимать слова его согласно собственному разуму!
Другие воскликнули:
— Нет среди Израиля высшего и низшего. Мы все братья, равные перед господом, творцом нашим, и никому не дано права заковывать в цепи разум наш и волю.
— Ложные мудрецы погубили нас, ибо они создали рознь между Израилем и другими народами, и мы теперь, как узники в темнице, которых никто не навещает…
— Но приближается час, когда Израиль тряхнет своими цепями, и упадут с высоты души, гордые и слепые, а души, заключенные в тюрьмах, выйдут на свободу…
Тут Исаак Тодрос медленным движением поднял обе руки и провел ими себе по лицу. Потом он снова оперся на решетку и, устремив глаза вверх, вздохнул из глубины души.
— Эн-Соф! — произнес он тяжелым, словно сонным шопотом.
Это было каббалистическое название бога, которое вихрем завертелось в эту минуту в его голове, охваченной глухим отчаянием. Но тотчас же, словно громкий протест против наслоений, нанесенных временем, словно выражение страстного желания вернуться к первоначальному источнику израильской веры, раздался возглас, вырвавшийся из нескольких десятков грудей:
— Иегова!
Меламед весь дрожал, как в лихорадке. Порывистым движением он обернулся к собранию и громким голосом, торопливо выкрикивая слова, стал взывать, чтобы оно выступило на защиту оскорбленного учителя и наказало наглецов. Но чем дольше и яростнее он говорил, тем больше и очевиднее становилось его изумление. Никто не пошевелился. Богачи и влиятельные члены общины сидели на своих местах, погруженные в глубокую задумчивость, закрыв лица руками или опустив глаза, а бедный народ стоял неподвижно, словно стена, и молчал как гроб. Какие-то люди быстро пробирались сквозь толпу и исчезали. О чем думали одни, почему молчали другие, отчего убегали и скрывались третьи, — кто отгадает? Кто разгадает все внутренние содрогания и колебания толпы — этой стихии, к которой можно применить, в несколько искаженной форме, слова поэта: «Волна, волна неверная, и все ж такая верная!»
Меламед понял, наконец, что все призывы его были напрасны. Он умолк, но в величайшем изумлении широко открыл глаза, ибо никак не мог понять, почему его не слушают. А помутившиеся мысли Тодроса прорезал луч света, и он увидел в нем мимолетный образ страшной для себя правды. Что-то шепнуло ему на ухо, что в этих молодых душах, которые с непонятной дерзостью восстали против него, проснулись и заговорили все те усыпленные стремления и протесты, представителем которых был человек, им проклятый, его жертва. Значит, не он один был таким среди Израиля, но их было очень много, подобных ему, и тот был только смелее, был более склонен к борьбе, более порывист и горд! И слышал он еще какой-то голос, шептавший ему на ухо, что над молодыми головами этими, дерзость которых привела его в оцепенение, пролетел, коснувшись их крылом, ангел времени… времени… который, как ему было очень, очень отдаленно и смутно известно, дышал мятежом и бурей, уничтожая все, что стремится стать между людьми и Высшей Правдой! И слышал он еще какой-то голос, нашептывавший ему на ухо, что народ молчал и не заступился за него, не громил тех, которые восстали против него, потому что ангел времени вместе с бурей и борьбой разносит над миром сострадание и прощение, а проклятия и ненависть сметает своими крыльями огненными, и… в то же время ласкающими…
Все это неясно, хаотично, очень туманно слышал и видел Тодрос, но довольно было и этого, чтобы сердце, полное каменной веры и непомерной гордости, замерло у него в груди.
«Бат — Кол!» — подумал он.
Шопот собственной мысли, спутанной и испуганной, он принял за сверхъестественный голос, шепчущий ему на ухо, таинственный голос, присланный самим богом, тот самый, который когда-то, в торжественные и критические моменты жизни, звучал для древних священнослужителей и законодателей Израиля.
— Бат — Кол! — повторил раввин дрожащими губами и медленно начал поворачивать во все стороны свое побледневшее лицо.
Зала синагоги была уже наполовину пуста. Народ уплывал, волна за волной, уплывал медленно, сохраняя молчание, словно им овладела бездонная, непреодолимая задумчивость, словно он объявлял своим молчанием об огромной печали, охватившей его, и о колебаниях своей души, которая не хотела или не могла склониться ни на одну сторону.
Ушли бедняки и богачи, до сих пор верные почитатели раввина, ушли и те, которые всегда держались от него вдали; в галерее время от времени раздавались еще быстрые шаги запоздавшей женщины, а у алтаря не было уже никого.
* * *
Как некогда Иосиф Акиба, в ясную ночь, возвращаясь из долгого путешествия, с дрожью подходил к своей низкой пастушеской хате, так теперь к родному дому своему приближался дрожащий и бледный Меир.
Он шел туда без намерения заглянуть в него. Знал, что должен уйти из него и скитаться по свету среди нужды и отчуждения, идти к той цели, по которой он давно тосковал, но которая была так далека и трудно достижима.
Он хотел только взглядом проститься со стенами того дома, который был колыбелью его молодости. Переступить порог он не думал.
Но среди ряда темных и молчаливых окон он увидел одно, в котором светился мерцающий огонек. Он остановился и посмотрел. За стеклами ясно вырисовывалась тяжелая и неподвижная фигура прабабушки Фрейды, спавшей в глубоком кресле. На нее падала широкая полоса лунного света, зажигая тысячи огней в драгоценностях, покрывавших ее.
Меир медленно взошел на высокое крыльцо и взялся за ручку двери. Против обыкновения, дверь была отперта. Он прошел узкий длинный коридор и остановился в дверях приемной комнаты, тоже открытых настежь.
Во всем доме царила мертвая тишина. Быть может, там глубоко спали? Но этого не могло быть. Ни малейший шелест не должен был помешать последнему прощанию правнука с прабабушкой, ничто не должно отогнать его от ее колен. Меир опустился на землю перед этой уснувшей и улыбающейся сквозь сон женщиной и положил ей на колени голову. Он отдыхал под этой кровлей в последний раз.
— Бобе! — сказал он потихоньку. — Эльте бобе!
Фрейда спала тихо, как дитя. Серебряные лучи месяца играли на ее морщинистом лице, словно мимолетные детские сны.
— Никогда уже я не увижу тебя… никогда…
Он прижался губами к ее маленькой сухой руке, которая так часто баюкала и ласкала его в детстве, а потом защищала от всяких ударов и, наконец, отдала ему его сокровище, его спасение и гибель, его жизнь и смерть. Фрейда слегка пошевелила головой, бриллиантовые серьги ее зазвенели, ударившись о жемчуг, и снопами искр загорелись в лучах луны.
— Клейнискинд! — шепнула прабабушка, не открывая глаз; потом усмехнулась и снова заснула.
Меир глубоко-глубоко задумался. Прислонившись лицом к коленям прабабушки, он мысленно прощался со всеми и со всем. Наконец встал и очень медленно покинул приемную комнату. В темном коридоре он вдруг почувствовал, что кто-то обнял его сильными руками, и в тот же момент чья-то рука опустила ему в карман какой-то тяжелый предмет.
— Это я, Меир! Я — Бер. Дед твой искал смельчака в своей семье, чтобы передать тебе на дорогу горсть денег, и нашел меня. Все в доме жалеют тебя… Женщины плачут, лежа в постелях… Дяди твои сердятся на раввина и кагальных… Дед чуть не умирает с горя… Но видеть тебя никто уж не хочет… У нас всегда так!.. Разум тянет в одну сторону, а старая вера в другую… И притом страх! Но ты, Меир, не очень огорчайся! Ты счастливый! Я завидую тебе! Ты не испугался того, чего испугался я, ты выйдешь к свету! Сегодня приятели твои заступились за тебя, а народ молчал и не заступился за раввина! Это начало, но конец еще далек! Если бы ты показался завтра здешним людям, они опять почувствовали бы в сердцах своих злобу против тебя! Иди! Иди в свет! У тебя молодость, у тебя великая смелость! Перед тобой вся жизнь! Быть может, когда-нибудь ты вернешься к нам и положишь конец нашей темноте и грехам! У нас здесь много бриллиантов, но их надо отделить от фальшивых камней! Ты сделаешь это когда-нибудь, когда станешь там, в широком свете, ученым и сильным! Теперь иди на великую борьбу со всеми препятствиями. Их будет множество! Борись с ними! Будь баал-трессим, вооруженным, как были прежние великие мужи наши, и пусть с тобой всегда будут мои благословения и благословения тех, кто, как я, хотел и не мог, жаждал и не получил, шел и не дошел!..
Они обнялись. Бер исчез за какими-то дверями, которые тихо открылись и снова закрылись. Ничто в доме не шелохнулось. Немые, как гроб, стены родного дома словно кричали проклятому: уходи! уходи!
Меир ушел. На дворе светало. Площади и улицы местечка спали, окутанные серой мглой почти осеннего утра. Мгла спускалась также и на пустыри, по которым шел Меир быстрым уже и уверенным шагом.
Он спешил уйти отсюда скорей, скорей, но хотел проститься с той, которая обещала ему быть верной Рахилью, и хотел взять у нее свое сокровище.
Двери и окна в караимской хате были открыты.
— Голда! — позвал он тихо. — Голда!
Никто не ответил ему.
Он позвал еще раз. Внутри избушки царила глубокая тишина. Меир приблизился, взглянул на то место, где сидел обыкновенно старый Абель. Там никого не было. Им овладела какая-то тревога, в которой он не давал себе отчета.
Он посмотрел кругом, на холм, на пустыри, еще дальше и закричал уже полным голосом:
— Голда!
Поблизости раздался довольно громкий шелест. Он донесся из большого куста боярышника, росшего в нескольких шагах от мазанки; из-за его густых ветвей поднялся теперь, весь орошенный сырым туманом, с глазами, щурившимися от сна, маленький Лейбеле.
Меир быстро приблизился к нему. Ребенок уже совсем вышел из кустов боярышника и сейчас же сунул руку, за сюртучок.
— Где Голда? — спросил Меир.
Лейбеле не ответил, только подал ему вытащенный им из-за пазухи сверток бумаг.
— Кто дал тебе это? — быстро спросил он.
— Она! — указывая на хату, ответил Лейбеле.
— А когда она дала тебе это? Зачем она дала тебе это?
Ребенок ответил:
— Когда шли люди, она выбежала из хаты… разбудила меня… сунула мне это за сюртучок и сказала: «Отдашь Меиру, когда он придет сюда».
Меир задрожал.
— А потом, — спросил он, — потом?
— Потом, морейне, она спрятала меня в тот куст, а сама побежала в свою хату…
— А много было этих людей?
— Двое, морейне… трое… десять… не знаю!..
— А что делали эти люди? Что они делали?
— Люди пришли, морейне, и кричали на нее, чтобы она отдала им какую-то рукопись… долго кричали… А она кричала, что не даст, не даст, не даст!.. А коза в сенях так бегала… бегала и блеяла…
Меир дрожал все сильнее и сильнее, но ласково держал руку на голове ребенка и продолжал расспрашивать:
— А потом, что было? Что было потом?
Слезы навернулись на глаза у ребенка.
— Морейне! Она взяла потом в руки прялку и стала перед своим зейде… Я видел из-за куста… Она была такая белая, и прялка была белая, а люди были черные… И среди них бегала белая коза и кричала все громче и громче…
— А потом… а потом…
— Потом, морейне, я уже не смотрел и спрятался в куст и очень дрожал от страха, потому что в хате был такой шум… такой шум и такие стоны… Потом люди пошли… и понесли ее… и деда понесли, а коза блеяла и побежала за гору, и не знаю, куда девалась…
Меир выпрямился и посмотрел в небо помертвевшими глазами. Он знал уже все.
— Куда их понесли? — спросил он глухим голосом.
— Туда!
Вытянутая рука ребенка указала в ту сторону, где в отдалении виднелась зеленая лужайка и среди нее пруд с лилиями, а за прудом были болота, трясины, вязкая, зыбучая почва, в которой так легко может погрузиться и утонуть мертвое застывшее тело.
Там, за тем прудом, из которого она достала весной водяную лилию и из чащи тростников протягивала ему… Там, за той лужайкой, среди которой она в первый раз призналась ему в своей любви, любви свежей и пламенной, как дикий цветок, выросший на богатой почве… там… в глубине той рощи, в чаще которой скоро хором запоют птицы, свободные, счастливые в своих гнездах, полные любви… там… где-то… скрытая от всякого человеческого глаза, она лежит у ног своего деда, вся обернутая плащом своих черных волос.
Из груди его вырвался вопль, трижды раздалось имя Иеговы. Потом у открытых дверей остался только Лейбеле, неподвижно державший в несколько приподнятой руке сверток бумаг.
Меир вбежал в хату.
Что рассказали ему там стебли соломы, выброшенные из нищенской подстилки Абеля, и кораллы Голды, устилавшие пол, рассыпанные среди этой соломы красневшие, будто капли крови? Что рассказала ему лежавшая на полу переломленная пополам прялка девушки и старая, очень старая Библия старика, изорванная в клочки?.. Это было длинное мучительное, кровавое повествование. Юноша слушал его, прижавшись лицом к холодной дырявой стене, заломив руки над головой. Это было такое длинное повествование, что часы уплывали, а он все слушал его и вторил ему отчаянным биением своего сердца и глухими стонами, время от времени вырывавшимися сквозь его сжатые и посиневшие губы.
Когда Меир снова появился у открытых дверей хаты, солнце позолотило уже часть горизонта. При свете дня видно было, как он ужасно изменился. Его лоб с красным шрамом был измят и покрыт морщинами, словно за эту ночь и утро над ним пронеслись долгие и тяжелые годы, полные горя. Мрачным отчаянием горели его глаза из-за полуопущенных век, а руки его бессильно повисли, словно в изнеможении или от смертельной усталости. Минуту он стоял так; было видно, что воображением и памятью он прислушивался к звукам того голоса, которого он уже никогда не услышит… Вдруг он почувствовал, что какая-то слабая рука потянула его за одежду, и услышал чей-то голос, сказавший:
— Mopeйне!
Перед ним стоял Лейбеле, смотрел на него своими огромными грустными глазами и протягивал к нему руку, державшую желтый сверток бумаг.
Казалось, что вид этого свертка напомнил Меиру что-то важное, пробудил его от сна, призвал его к чему-то, что было для него свято и непреложно. Меир провел по лицу обеими руками, а потом взял из рук ребенка предсмертную рукопись Сениора и, когда почувствовал ее в своей руке, поднял голову, глаза его снова блеснули отвагой и решимостью.
Он смотрел на местечко, пробуждавшееся от сна, и долго что-то тихо говорил, не столько, может быть, внятными словами, сколько еще только ищущей слов мыслью. Говорил что-то о доме Израиля, о старом величии его и о великих его грехах, о том, что никогда не покинет его и не отплатит ему проклятием за проклятие; что понесет к чужим народам завет примирения, что будет пить из источника мудрости и когда-нибудь вернется сюда…
— Когда-нибудь… когда-нибудь… — долго повторял он, думая о далеком, наверное, далеком будущем, обводя взглядом, стены низкой хаты, словно навеки прощаясь в душе со своим мимолетным, горячим и чистым, но так ужасно прерванным сном любви.
Потом он стал медленно подыматься в гору.
Ребенок, оставшийся у дверей хаты, стоял некоторое время неподвижно, смотря вслед уходящему. Через минуту его глаза, широко открытые, начали заволакиваться слезами. Когда же Меир дошел до половины холма, ребенок громко заплакал, но тотчас же замолчал и направился вслед за ним; сначала он шел торопливо, но, очутившись в нескольких шагах от уходившего Меира, замедлил шаги и, засунув руки в рукава одежды, пошел дальше уже медленно и важно.
Таким образом, идя друг за другом, проклятый юноша и дитя бедняка исчезли за холмом. Перед ними развернулась лентой песчаная дорога, ведущая в широкий, неведомый мир.
* * *
Достиг ли цели, к которой так жадно рвался этот униженный, проклятый, лишенный всего человек? Нашел ли он в широком неведомом ему мире таких людей, которые настежь открыли бы перед ним двери и сердца свои и проторили бы ему дорогу к источнику мудрости?
Вернулся ли, вернется ли он когда-нибудь в свои родные места, чтобы принести туда вместе с прощением тот свет, силой которого «кедр ливанский» подымется там, где стелется «низкий терновник»? Не знаю.
Слишком недавняя это история, чтобы она могла уже иметь свой конец. Но именно потому, что эта история и многие, многие, подобные ей, еще далеки от своего конца, — читатель! какая бы кровь ни текла в твоих жилах, какому богу ты сам ни поклонялся бы, — если встретишь когда-нибудь на своем пути Меира Эзофовича, поторопись искренно подать ему руку братской помощи и дружбы!
Примечания
1
Влука — 16,8 гектара.
(обратно)2
Нет, сударыня, это впервые… (франц.).
(обратно)3
У меня было… было состояние… но сын мой, к несчастью, его потерял (франц.).
(обратно)4
Он умер от отчаяния! (франц.).
(обратно)5
Географию, историю, начальные правила арифметики… (франц.)
(обратно)6
Ну что, сударыня, графиня приедет в Варшаву? (франц.)
(обратно)7
Ах, вы не одна! Продолжайте, продолжайте, я могу подождать! (франц.)
(обратно)8
«Молитва девы» (франц.).
(обратно)9
Но ведь это ужас! Как она играет! (франц.)
(обратно)10
Т-с-с! Мадемуазель Дельфина! (франц.)
(обратно)11
Она фальшивит, сударыня! Эге, как она фальшивит! (франц.)
(обратно)12
Помолчите, пожалуйста, мадемуазель Дельфина! (франц.)
(обратно)13
Ну, сударыня! (франц.)
(обратно)14
В те времена злотый равнялся в Польше пятнадцати копейкам.
(обратно)15
Перевод латинской поговорки: «Quod licet lovi, non licet bovi».
(обратно)16
Фи, это дурной тон! (франц.)
(обратно)17
Прошедшее несовершенное время (франц.).
(обратно)18
Прошедшее совершенное время (франц.).
(обратно)19
Лодка (франц.).
(обратно)20
Вот так горе! (франц.)
(обратно)21
Ramages — разводы (франц.).
(обратно)22
Цвета морской воды, в крупных горошинах (франц.).
(обратно)23
Яркий (франц.).
(обратно)24
Лучше цвета не найти (франц.).
(обратно)25
Оборочка с зубчиками и без зубчиков (франц.).
(обратно)26
А, это вы, Мари! (франц.)
(обратно)27
«Нума Помпилий» — псевдоисторический роман французского писателя Жан Пьера Флориана (1755–1794). В Польше был распространен анекдот о читательнице, не понявшей, что Нума Помпилий одно лицо, и ожидавшей с нетерпением, что в конце романа Нума выйдет замуж за Помпилия.
(обратно)28
Самопомощь (англ.).
(обратно)29
Жить — значит страдать (франц.).
(обратно)30
Это ни к чему не обязывает (франц.).
(обратно)31
Имеются в виду строки из поэмы А. Мицкевича «Дзяды».
(обратно)32
Все хороши в своем роде, кроме старых и некрасивых (франц.).
(обратно)


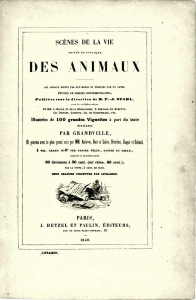


Комментарии к книге «Том 1. Марта. Меир Эзофович», Элиза Ожешко
Всего 0 комментариев