РАМОН ДЕЛЬ ВАЛЬЕ-ИНКЛАН СОНАТЫ ЗАПИСКИ МАРКИЗА ДЕ БРАДОМИНА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1966 — ЛЕНИНГРАД
RAMON DEL VALLE-INCLAN
SONATAS MEMORIAS DEL MARQUES DE BRADOMIN
Вступительная статья Г. Степанова
Примечания А. Энгельке
Художник Эдди Мосиэв
ЧЕТЫРЕ «СОНАТЫ» ВАЛЬЕ-ИНКЛАНА
Осенью 1901 года в солидном литературном еженедельнике «Лос лунес де эль импарсиаль», издававшемся в Мадриде, появились фрагменты «Осенней сонаты» Рамона дель Валье-Инклана, одного из самых замечательных писателей Испании XX века. В течение трех последующих лет вышли из печати и другие сонаты, также названные в соответствии с наименованием вечно сменяющихся времен года: «Летняя» (1903), «Весенняя» (1904), «Зимняя» (1905). Уже в самом порядке следования сезонов года (или «сезонов» жизни!) проявилось беспокоящее своей нарочитостью нарушение общежитейских представлений об обычной точке отсчета и привычном беге времени. С другой стороны, названия эти, столь различные по своим символическим возможностям, указывают на единство четырехчастных «Записок», несмотря на их (объявленную автором) фрагментарность.
Характеристика героя этого «перевернутого музыкального цикла» маркиза де Брадомина, данная самим автором, могла привести в смятение не только «рядового», но и самого искушенного читателя и почитателя испанской литературы. «Книга эта, — пишет Валье-Инклан, — является частью „Приятных записок“, которые уже совсем седым начал писать в эмиграции маркиз де Брадомин. Это был удивительный донжуан. Может быть, самый удивительный из всех! Католик, некрасивый и сентиментальный». В этом «Предуведомлении» («Nota») все озадачивает и все требует объяснения.
Только в самом конце последней сонаты («Зимняя соната») читатель обнаружит происхождение ошеломляющей характеристики удивительного маркиза: в «Предуведомлении» автор «Записок» нашел нужным процитировать слова тетки, обращенные к нему, своему седому, постаревшему племяннику.
Попробуем разобраться в тех эпитетах и определениях, которыми Валье-Инклан наделил своего нового Дон Жуана:[1] католик, некрасивый и сентиментальный. Определение «католик» (в оригинале — прилагательное católico — «католический», то есть человек, связанный догмами, предписываемыми католической церковью) не является тем дифференцирующим признаком, который отделяет маркиза де Брадомина от его севильского тезки (Дон Жуан Тирсо де Молины), оно не ставит его в положение единственного в своем роде. Католическая мораль была обязательна для «севильского обольстителя» (el burlador de Sevilla) так же, как, например, для сервантесовских героев: для Санчо, девиц с постоялого двора, да и для самого Дон Кихота из Ламанчи. Но родоначальник Дон Жуанов не мог «величаться» католиком вследствие того, что преступил законы божьей и человеческой морали. Сочетание имени маркиза де Брадомина с прилагательным católico исполняет функцию, как выразились бы логики, «предиката суждения», то есть сообщает нам нечто новое о «предмете суждения» — Дон Жуане — так же, как и два других — некрасивый и сентиментальный. О религиозности маркиза де Брадомина (да и самого Валье-Инклана) писали почти все зарубежные исследователи. Иные из них пытались представить Брадомина как личность (или персонаж), традиционно сочетающую в себе католическую религиозность с отступничеством, совершаемым «по наущению сатаны». На наш взгляд, смысл правонарушений новоявленного Дон Жуана заключается не в том, что он преступает моральные законы католицизма, а в том, что католические запреты активно и сознательно используются им как элементы, усиливающие наслаждение греховностью.
Католическая догма и внешние аксессуары католицизма не противоположны греху и аморальности (богоотступничество севильского Дон Жуана, в известной мере, противопоставлялось католической морали), а становятся непременными компонентами «дьявольских поступков». Такого поворота в истории «донжуанианы» еще не было. Это не просто эстетизация противоречий в области морали, но прямое свидетельство кризиса католической веры. Атмосфера религиозного благочестия превращается у Валье-Инклана не только в сопутствующий признак аморальных поступков католика маркиза де Брадомина, но в прямой знак греховности, возникающей в спертом воздухе келий, в обманчивой тиши монастырских садов под аккомпанемент гнусавых песнопений и лицемерных формул чинопочитания. Светские дамы, одержимые религиозным фанатизмом, греховные епископы, прехорошенькие куртизанки-святые, щеголеватые святоши, честолюбивые попы, лукавые иезуиты — вот тот общий людской фон, в который отлично вписывается фигура духовного наследника кавалера Казановы. Католик Брадомин все видит и все замечает: и языческую прелесть монастырского сада и языческую пышность апрельского солнца на церковных крестах («Весенняя соната»). Все это приводит его к кощунственному выводу: — «Лучшее в святости — это искушения».
В отличие от севильского обольстителя новый Дон Жуан не только некрасив, но и немощен плотью. Однако самым удивительным его качеством является сентиментальность, чувствительность. Сдвиг привычных характеристик не является для Валье-Инклана каким-то формальным приемом, простым оригинальничаньем. Маркиз де Брадомин являет собой не просто новую копию ранее кем-то сконструированного (хотя бы и великим Тирсо де Молиной) типажа, предназначенного для другой эпохи и пересаженного в современную действительность. Дон Жуан Валье-Инклана предстает перед читателем как эволюционировавшая личность. Маркиз де Брадомин это не только «Дон Жуан наизнанку». Валье-Инклан усложнил характер своего героя и самый его облик: он получил характеристические черты и черточки «сентиментального путешественника», в качестве нового «доспеха» — плащ Альмавивы (который никак не гармонирует с шлемом Мамбрина); он приобрел предприимчивость кавалера Казановы; к скептицизму и цинизму подлинного Дон Жуана добавилась чувствительность Вертера и вертерианское желание прославиться верностью. И во всем этом или над всем этим — обостренное чувство испанского интеллигента, вступающего в новый, XX век после катастрофы 1898 года.
Творческое начало Валье-Инклана подсказало ему дерзкую мысль заставить прежнего Дон Жуана эволюционировать (развиться или деградировать — это уже другое дело). При таком сдвиге (некрасивый, сентиментальный) вся литературно-техническая проблематика, связанная с сюжетными ходами, непременными аксессуарами в виде статуи и могил, грома и молний отпадает как принципиально необязательная. В «Записках» некрасивого, сентиментального и постаревшего (!) Дон Жуана нет ни ледяного дыхания мрамора, ни пылающих огнем рук, ни прочего аппарата устрашения.
Следует вспомнить, что «Приятные записки» появились в тот период, когда знаменитые испанские романисты реалистического направления (Валера, Гальдос, Переда, Пардо Басан) уже сумели сказать испанскому читателю много неприятных слов по поводу современной испанской действительности. На первый взгляд может показаться, что творчески сконструированный мир, в котором живет маркиз де Брадомин, идеологически несовместим с реальным миром, увиденным писателями-реалистами. Однако несовместимость эта мнимая. Совмещение достигается на почве критики и отрицания тех же самых уродливых явлений испанской действительности, мимо которых не мог пройти ни один подлинный реалист, наделенный даром любви к родине. Однако отрицание Валье-Инклана носит специфический характер, ибо самый эффект отрицания достигается особым, я бы сказал, сервантесовским способом, примененным в самом великом произведении испанской литературы — в «Дон Кихоте». Маркиз де Брадомин, «рыцарь спасающей сердце мечты», сродни рыцарю из Ламанчи. Оба они забегают вперед, хотя и оглядываются в прошлое: один — в прошлое своей юности, другой — в юные годы народа, именовавшего себя испанским. Так же как Дон Кихот, выходец из XV века, борется против несправедливостей великого XVI столетия, маркиз де Брадомин, духовное дитя XVIII века, вступает в резкий конфликт с веком нынешним. В этих драматических турнирах двух рыцарей нельзя не увидеть символа непрестанной и непримиримой борьбы против извечных врагов Испании, то являющихся в облике фантастических гигантов, то принимающих облик вполне реального заурядного мещанина.
Однако поиски литературных прототипов героя четырехчастного цикла и эстетических образцов, послуживших основой для сочинения «Сонат», обнаружат сомнительную ценность, если мы не обратимся к той реальной действительности, которая вызвала к жизни одно из главных произведений Валье-Инклана.
Культурно-политическая эволюция Испании конца XIX — первого десятилетия XX века во многом определила творческую судьбу писателя. Давно осел уже даже пепел, взмывшийся было ввысь возрожденческим порывом. Блеск золота, блеск костров инквизиции, два столетия тоски по былой славе, и вдруг — национальная катастрофа 1898 года. Близорукие потомки «славных» конкистадоров окончательно лишились «права на иллюзии», которыми они тешили себя в послевозрожденческий период.
В течение четырех месяцев (почти один сезон года!) Испания вела войну с Соединенными Штатами Америки и потерпела позорное поражение. Некогда великая держава вдруг превратилась в задворки Европы, в маленькое провинциальное государство дальнего европейского Запада. В Манильском заливе на Филиппинах американцы полностью разгромили испанскую эскадру. Противник поплатился за это жизнью… семи своих солдат. В морской битве в заливе Сант-Яго (Куба) американцы, потеряв одного солдата, разбили испанскую эскадру и взяли в плен свыше полутора тысяч человек. Испанская колония Порто-Рико была отдана без боя. Испания утратила все свои колонии в Атлантическом и Тихом океанах. Теперь уже ничто не связывало Испанию с Новым Светом, некогда открытым и ею завоеванным. «Нет уже ни нации, ни войска, ни флота, ни народа, ни денег, ни стыда — ничего нет», — писал пятнадцатью годами позже испанский историк Анхель Сальседо. Валье Инклан устами маркиза де Брадомина через четыре года произнес полные горечи слова: «О, мой старый народ, народ солнца и быков, сохрани же на веки вечные твой дух лжи и кичливых преувеличений и погружайся в сон под звуки гитары, утешаясь в своей великой скорби по монастырской похлебке, которую ты привык раздавать неимущим, и по утраченным тобою навсегда, далеким вест-индским владениям». Вряд ли эти слова мог произнести «циничный и галантный аристократ», каким представляют себе Брадомина иные литературные критики. Непохоже, чтобы «типичный» Дон Жуан обладал столь острым восприятием истории.
Далеко не все мыслящие испанцы сумели осмыслить разразившийся кризис как закономерный финал, как вынесение сурового приговора той политике правивших и правящих классов, групп и каст, которые формировали национальную историю по законам классового эгоизма и личного произвола. Только выдающиеся испанцы могли понять, что катастрофа конца века — не фатальная случайность, а историческая необходимость. Именно такой конец и можно было ожидать для страны, где религиозный фанатизм обрел материальное выражение в кострах инквизиции, где национальная нетерпимость возводилась в ранг высшей добродетели, где отстаивание принципа «каждый человек есть сын дел своих», защита понятия чести переродились в чванливую болтовню о благородстве по крови. Испания долго, слишком долго паразитировала за счет колониальных народов. Средневековый «империализм» с его суровыми уроками не стал предостережением для поборников «настоящего» современного империализма. Методы правления в Испании всегда напоминали «худшие образцы восточной деспотии» (Маркс), а номинальность суверенов не мешала им быть деспотами. Старые общества часто провожались смехом. Старая Испания тоже заслуживала таких проводов. Однако она не уходила и не ушла. Она и до сих пор дает себя знать, порой очень злобно и по-средневековому жестоко.
В обстановке всеобщего уныния, разброда и шатаний образовалось и течение, которое сами его создатели — творческая интеллигенция — назвали «поколением девяносто восьмого года». Хронологический принцип наименования не скрывал более жестокого названия: «поколение катастрофы», поскольку сама жизнь, исторический опыт испанцев свел в синонимическую пару дату «девяносто восьмой год» и слово «катастрофа». Различия наблюдаются не только в поколении отцов и детей, но и внутри самих поколений. «Поколение девяносто восьмого года» было весьма пестрым и неоднородным по составу. К нему принадлежали люди разных идейных принципов и ориентаций: сторонник «европеизации» провинциальной Испании социолог и публицист Хоакин Коста, сочувствующий анархистам Пио Бароха, философ-аристократ, ненавидевший «вульгарную» массу Ортега-и-Гасет и темпераментный защитник идеи о самостоятельности испанского пути духовного обновления Испании Мигель де Унамуно.
Годы идейных исканий не сцементировали этих людей в единую политическую группу. Наоборот, с течением времени выяснилось, что сама надежда на более или менее прочное единение — это иллюзия. Рамиро Маэсту позже превратился в яростного противника «советского коммунизма», а защитник «испанского пути духовного возрождения» Мигель де Унамуно — в защитника Советского Союза. Рамон дель Валье-Инклан, которого буржуазные критики называли «традиционалистом, живущим настроениями», «мистиком» и «карлистом», смело говорил о своем намерении посетить Советский Союз как о «сильнейшем желании своего сердца».
Когда разразилась национальная катастрофа, Валье-Инману было около тридцати лет.
Начало творческой деятельности Валье-Инклана и достижение им неоспоримого успеха в такой традиционно литературной стране, как Испания, хронологически совпадают, что случается не столь уж часто.
Биографы Валье-Инклана не забывают упомянуть о том, что великий писатель, выдающийся стилист и реформатор литературного языка испытал во время обучения в школе два жестоких провала. Будущий классик испанской литературы не сумел сдать экзаменов по испанскому языку и по латыни. Однако эти курьезные провалы, равно как и провал по университетскому курсу «международного права», никак не отразились на последующей судьбе писателя. Гораздо важнее обратить внимание на другие факты биографии Валье-Инклана.
Уже первая поездка в Мадрид дала возможность провинциалу-галисийцу увидеть собственными глазами «огромное страшилище» (inmenso esperpento). Первые яркие впечатления от этого «чудища» и «путала» найдут позже отражение в его цикле «эсперпентос» (общее название «Вторник карнавала»: «Рога дона Фриолеро» — 1923; «Светоч богемы» — 1924; «Пара платья покойника» — 1927). В начале 1892 года он отправился в Мексику. Юноша давно мечтал увидеть своими глазами ту историческую площадку, на которой разворачивались события четырехвековой давности: завоевание страны ацтеков.
В составленной позже автобиографии факт самого путешествия излагается в свойственной Валье-Инклану манере: «Как только я достиг того возраста, который называется юностью, и как только я испытал первые любовные неудачи, я отправился в Мексику на корабле „Далила“, который во втором рейсе потерпел крушение у берегов Юкатана. В то время я был немного поэт, не имел житейского опыта, а голова была полна всяких историй… Я мечтал совершить великие подвиги, вроде тех, которые совершали искатели приключений в прошлые века, и совершенно ни во что не ставил славу литератора. На борту „Далилы“ — я с гордостью вспоминаю об этом — я убил сэра Роберта Джонса. Это была месть, достойная Бенвенуто Челлини. Я расскажу, как это произошло, хотя вы вряд ли сумеете оценить красоту подобного поступка. Впрочем, лучше будет, если я вам ничего не скажу, иначе вы содрогнетесь от ужаса». В связи с этим способом преображения действительности (например, смещение временного плана, «домысленные факты», «наговоры» на себя) мы получаем счастливую возможность сопоставить три вида явлений: реальный факт, преображенный «факт» в автобиографии и мексиканская атмосфера в великолепно написанной «Летней сонате». Необходимо подчеркнуть, что факты биографии Валье-Инклана весьма своеобразно отразились в самой тональности «Сонат». Первый мотив, который зазвучал к «Осенней сонате», был галисийским мотивом. Символика осени, традиционно связанная и связываемая с увяданием, уходом, расставанием, приобрела у Валье-Инклана особый смысл, особое содержание. Отнесение любви в прошлое дало возможность умножить тоску по утрате высшего дара. Это личная тема. Но с нею переплетается и другая, более широкая общественная и историческая тема давно увядшей Галисии.
Судьба Галисии драматична. Галисийцы, принимавшие участие в формировании двух прославленных в европейской и мировой истории наций — португальской и испанской, в итоге оказались представителями самого отсталого «малого отечества» среди десятка «малых отечеств» большой родины — Испании. Галисийская литература, главным образом лирическая, любовная (иногда сатирическая или религиозная), некогда являла собой блестящий образец средневековой куртуазной лирики. Многочисленные кансионеруш (cancioneiros) стали школой для прославленных лириков Прованса, Кастилии, Леона и даже Италии. Галисийская тематика и галисийские лирические формы оказывали сильное влияние на формирование вкуса придворных и феодальных кругов. Поэзия эта выражала комплекс идеалов феодального сеньора. Закат Галисии начался с тех пор, когда эта прославленная страна оказалась включенной в политико-экономическую систему и вынуждена была переключиться на культурную орбиту Испании.
Вся последующая история знаменует превращение Галисии в окраинную провинцию. Судьба страны хорошо может быть обрисована на примере судьбы ее языка. Прославленный язык куртуазной лирики постепенно опускался на уровень просторечия, а это значит, что употребление его ограничивалось домашним или узко местным обиходом. Порвав с португальским и не растворившись в кастильском, он стал своеобразно восприниматься и той и другой стороной, как нечто смешное, странное и отсталое. Так же как леонский диалект, он стал использоваться испанскими писателями для речевой характеристики социально низких персонажей. В отличие от леонского диалекта, галисийским пользовались для достижения комического эффекта не только испанские, но и португальские драматурги. Опустившийся до уровня просторечия, галисийский не мог привлекать к себе сколько-нибудь серьезного внимания. Однако в связи с интересом к народной старине, пробудившимся в Испании XVIII века (возможно, под воздействием идей Руссо), галисийский снова привлек к себе внимание. Возрождение былой славы оказалось, само собой разумеется, невозможным. Этот интерес к местной старинной утвари и к старинному языку носил явно выраженный археологический характер. Валье-Инклан также своеобразно проявил археологический интерес к духовным ценностям, грузу и наследию своего «малого отечества» — Галисии, провинции с сильно расшатанной наследственностью.
В маркизе де Брадомине, как и в самом Валье-Инклане, романтические порывы умеряются и охлаждаются скептицизмом людей неромантической эпохи. В отличие от костумбристов, для которых галисийская старина любого сорта — от дымоходов до куртуазных пьес — представляла объект детального описания и любования, Валье-Инклан берет Галисию целокупно, в реальности ее драматической истории и в доподлинности сурового пейзажа. Он хорошо знает неяркую палитру галисийских природных красок. Он отлично чувствует старинность запущенных садов, покрытых пятнами ржавчины шпаг, огромных дубов, кельтских танцев, звучных дворянских имен. Эпитет «старинный» (antiguo) приобретает концепционный идеологический смысл, когда галисиец Валье-Инклан говорит о «старинных запахах» и «старинной любви».
«Сентиментальное путешествие» маркиза де Брадомина начинается с Италии («Весенняя соната») и завершается Наваррой («Зимняя соната»). На всех этапах этого географического маршрута (Италия — Мексика — Галисия — Наварра) ему сопутствуют любовные приключения. Однако было бы неправильно думать, что целью этих странствий являются только поиски сильных чувств, утраченных, по его собственному выражению, «декадентами нового поколения». Вряд ли можно думать и о том, что охота к перемене мест есть свойство, черта характера, унаследованные от предков-скитальцев. В этой страсти к путешествиям нужно видеть не только физические, но и духовные импульсы. Валье-Инклан своеобразно составил маршрут для своего необыкновенного героя. Три четверти географического и жизненного пути маркиза де Брадомина проходят в поисках утраченной родины и утраченного времени. Он ищет утерянную Испанию, ее былую славу и величие. Силой собственного воображения стремится воссоздать характеры и типы, достойные эпохи Возрождения, великих экспедиций за океан, крестовых походов. Но тщетно. В современном мире нет деяний, из которых в прежние времена могли вырасти эпопеи. «В наши дни это бывает все реже, ибо в душах наших нет прежней пылкости, стремительности и силы. Грустно видеть, что духовные братья этих заокеанских авентуреро обречены на самый обыкновенный разбой» («Летняя соната»). Замки древней Галисии разрушаются временем, и полчища рыцарей давно уступили место ватагам клириков («Осенняя соната»). Желание обрести великую родину приводит постаревшего и усталого маркиза в стан карлистов. «Я всегда отдавал предпочтение низверженному монарху, а не тому, кто восходит на престол, и защищал прошлое лишь из соображений эстетического порядка». В карлистах он хотел «найти ту же величавую красоту, что и в огромных соборах, и даже в годы войны мог бы удовлетвориться тем, что их объявили бы памятниками нашей национальной старины» («Зимняя соната»). Официальный вариант «сказки о родине» оказывается не более, чем фарсом. И тогда маркиз де Брадомин (а вместе с ним и Валье-Инклан) объявляет веселым вздором придуманную им вереницу героических масок, непридуманных героев испанской истории, бутафорское Возрождение, иллюзорные страсти. Реальными оказываются только воспоминания и щемящая тоска по утраченным радостям и надеждам. Сентиментальное путешествие по странам и эпохам завершается хвалой выдумке и вздору.
Почему Валье-Инклан назвал свое произведение, для которого материальным субстратом служит слово, музыкальным термином «Сонаты»? Обычно критики связывают этот перенос названия с традицией французской поэтической школы второй половины XIX в., провозгласившей принцип «транспозиции искусства» (transpositions d’art), принцип, направленный на разрушение старых жанровых границ отдельных видов искусства, на сознательное перемещение материальных компонентов, составляющих основу искусства слова, звука, цвета (вспомним музыкальные названия некоторых стихотворений Т. Готье или знаменитый сонет А. Рембо «Гласные»), Валье-Инклан никогда и ни в чем не проявлял себя как подражатель. И в данном случае выбор термина «сонаты», хотя и совпадает с модой, имеет более веские основания — и содержательные и формальные, — нежели дань примитивному литературному инстинкту имитации. Сонатой называют музыкальное произведение, состоящее из трех-четырех контрастирующих частей, объединенных общим художественным замыслом. Произведение Валье-Инклана — застывшее и пламенное, тоскливое и жестокое звучащее слово — как раз и состоит из четырех контрастирующих по тону и настроению частей в соответствии с контрастирующей символикой времен года и тоже объединено единой мыслью и единым художественным замыслом. Внутренним содержанием термина «сонаты», используемым Валье-Инкланом, является не транспозиция искусства, заключающаяся в перестановке элементов (подмена смыслового словесного содержания звуком), а транспонировка (в смысле переложения музыкально звучащего слова из одной тональности в другую).
«Сонаты» внешне непохожи ни на одно из последующих произведений Валье-Инклана, но внутренне они тесно связаны со всем его творчеством.
В предвоенные годы Валье-Инклан создает своеобразные по форме и актуальные по содержанию драматургические произведения, в которых проходит целая вереница гротескных персонажей («Маркиза Розалинда» — 1913 г. и др.). Мировая война и революция в России активизировали не только рабочий класс, но и передовую интеллигенцию Испании. В пьесах, памфлетах и романах этого периода Валье-Инклан отразил рост критических настроений и прямые протесты против абсолютистского произвола, засилья клерикалов, трусости правящих буржуазных партий, паразитизма военщины. Валье-Инклан приходит к пониманию единственно правильного выхода из ужаса испанской действительности — к революции. Наиболее значительными произведениями этого периода являются публицистические новеллы в диалогической форме («эсперпентос») и сатирический роман-памфлет «Тиран Бандерас» (1926), направленный против военно-фашистской диктатуры Примо де Риверы, — яркий образец оппозиционной литературы, представители которой (Бласко Ибаньес, Асорин, Унамуно и др.), правда с неодинаковых позиций, критиковали реакционную политику господствующих классов Испании, а также часть задуманного цикла исторических романов «Арена иберийского цирка» — «Двор чудес» (1927) и «Да здравствует мой властелин!» (1929), рисующие положение классов, партий и групп в Испании накануне революции 1868 г. Валье-Инклан был горячим сторонником и другом Советского Союза, он явился инициатором и участником многих начинаний, предпринятых прогрессивной испанской интеллигенцией, испытавшей на себе благотворное влияние идей русской социалистической революции и деятельности молодой испанской компартии.
Творчество Валье-Инклана относится к числу труднейших объектов изучения. Жанровое и стилистическое разнообразие его произведений столь велико, что к ним трудно применить цельную исследовательскую программу. Может быть, поэтому Валье-Инклан не стал «баловнем» литературоведов, хотя и давал повод для множества самых противоречивых, резких, приблизительных, интуитивистских и невнятных суждений. Цель настоящего предисловия заключалась в том, чтобы помочь читателю разобраться в сложностях творческой личности Валье-Инклана и помочь отрешиться от некоторых предубеждений, которые могли у него возникнуть в связи с чтением зарубежной критической литературы об этом, бесспорно, выдающемся писателе Испании, которая так удивительно богата первоклассными художниками слова.
Для прогрессивной испанской литературы и общественности ими Валье-Инклана было и остается символом неустанных исканий и смелых творческих находок, образцом суровой непримиримости ко всему трафаретному, вялому, пошлому и несправедливому.
Г. Степанов
СОНАТЫ ЗАПИСКИ МАРКИЗА ДЕ БРАДОМИНА
SONATAS
MEMORIAS DEL MARQUES DE BRADOMIN
СЕНЬОРУ МАРКИЗУ ДЕ БРАДОМИНУ ОТ ЕГО ДРУГА РУБЕНА ДАРИО{1}
Божественный маркиз, тебя смиренно Приветствую. Октябрь. Версаль туманный. Аллеи. Людно. Холодно… Фонтана Молчит струя, пленявшая Верлена. Я долго перед мраморной Каменой Стоял один, уныньем обуянный. Вдруг крыльев шорох — и, по связи странной, Мне о тебе подумалось мгновенно. Версаль скорбящий, мраморное чудо, Вспорхнувший голубь, праздных толп круженье, И в памяти — узоры тонкой прозы И твой триумф недавний… Но не буду В подробности вдаваться — восхищенье Мое прими: кустов осенних розы. Рубен ДариоПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Книга эта является частью «Приятных записок», которые уже совсем седым начал писать в эмиграции маркиз де Брадомин. Это был удивительный донжуан. Может быть, самый удивительный из всех! Католик, некрасивый и сентиментальный.
ВЕСЕННЯЯ СОНАТА
Начало темнеть, когда наша почтовая карета оставила позади Саларийские ворота и мы поехали по равнине, полной неясных и таинственных звуков. То была классическая итальянская равнина с ее виноградниками и оливковыми рощами, с руинами акведуков и мягкими очертаниями холмов, округлых как женские груди. Карета катилась по старой мощеной дороге. Мулы потрясали своей увесистою упряжью, и, в ответ на веселый прерывистый звон колокольчиков, в цветущих рощах пробуждалось далекое эхо. По краям дороги то и дело попадались старинные могилы; печальные кипарисы укрывали их своей благодатною тенью.
Карета катилась по старой дороге, и глаза мои, уставшие вглядываться во тьму, начали понемногу слипаться. В конце концов я уснул и проснулся лишь на заре, когда очертания луны, совсем уже бледной, таяли в небе. Вскоре, все еще скованный сном и холодом ночи, я услышал пение петухов и журчание ручейка, который, казалось, пробуждался вместе с солнцем. Вдали, на бледном розовеющем небе, вырисовывались черные силуэты зубчатых стен. То был старинный, благородный, благочестивый город Лигурия.
Мы въехали в город через Лаурентинские ворота. Карета катилась медленно, и колокольчики наших мулов пробуждали на пустынных, поросших травою улицах эхо, казавшееся какой-то насмешкой, едва ли не кощунством. Три похожие на тени, сгорбленные старухи ждали у дверей церкви, все еще запертой, хотя в других церквах звонили уже к ранней мессе. Карета выехала на улицу садов, больших домов и монастырей, старинную улицу, вымощенную плитами, гулко разносившими каждый звук. Под темными карнизами крыш порхали воробьи, а в глубине улицы, в нише, догорала лампада. Мулы шагали не спеша, и мне удалось хорошо разглядеть статую мадонны. На коленях у нее был младенец. Он весело вытянул ручонки, чтобы достать ими рыбку, которую мать его держала в руке и показывала ему, словно играя с ним в игру простосердечную и блаженную. Карета остановилась. Мы оказались у ворот Клементинской коллегии.
То были счастливые времена папы-короля,{2} и Клементинская коллегия сохраняла все свои былые прерогативы, привилегии и доходы. В то же время это была обитель знаменитых мужей, которую называли также «сокровищницей наук». Ректором ее долгие годы был знаменитый прелат, монсиньор Стефано Гаэтани, епископ бетулийский, происходивший из рода князей Гаэтани. Для этого-то мужа — воплощения евангельских добродетелей и теологической премудрости — я и привез кардинальскую шапочку. Его святейшеству было угодно оказать мне в мои молодые годы великую честь, избрав меня из числа своих гвардейцев для этой почетной миссии. Я происхожу из рода Бибьена ди Риенцо по линии моей бабки со стороны отца, Джулии Альдегрины, дочери князя Массимо ди Бибьена, отравленного в 1770 году знаменитой актрисой Симонеттой де ла Кортичелли, которой отведена пространная глава в «Мемуарах» кавалера де Сентгальта.{3}
Два педеля в сутанах и шапочках прогуливались по дворику. Оба были стары и церемонно вежливы. Увидев меня, они устремились мне навстречу:
— Великое несчастье, ваша светлость! Великое несчастье!
Я остановился и посмотрел на того и другого:
— Что случилось?
Оба педеля вздохнули. Один из них начал:
— Наш досточтимый ректор…
Другой, весь в слезах, назидательным тоном его поправил:
— Возлюбленный наш отец, ваша светлость! Наш любимый отец, наш учитель, наш пастырь умирает. Вчера, будучи в доме сестры, он почувствовал себя плохо…
И тогда другой педель, который молчал и только утирал слезы, в свою очередь, поправил его:
— У княгини Гаэтани. Испанки, которая была замужем за старшим братом его высокопреосвященства, князем Филиппо Гаэтани. Года еще не прошло, как он погиб на охоте. Еще одно великое несчастье, ваша светлость!..
Я не дал ему договорить и нетерпеливо спросил:
— Монсиньора перевезли в коллегию?
— Княгиня не согласилась. Я ведь уже сказал вам, что он при смерти.
Я горестно опустил голову:
— Да свершится воля господня!
Оба педеля благочестиво перекрестились.
В глубине галереи строго прозвучал серебряный колокольчик, словно призывая к литургии. Люди шли со святыми дарами к монсиньору; оба педеля обнажили головы. Вскоре под сводами вереницей потянулись семинаристы — это было длинное шествие гуманитариев и теологов, бакалавров и докторов. Они проходили двумя рядами и глухо бормотали молитвы. Скрещенными руками они прижимали к груди шапочки; развевающиеся полы накидок скользили по каменным плитам. Преклонив колена, я смотрел, как они проходят мимо. Бакалавры и доктора разглядывали меня. Мой плащ папского гвардейца, не оставлял сомнений насчет того, кто я такой, и они шепотом переговаривались об этом друг с другом. После того как все прошли, я поднялся с колен и направился вслед за ними. Колокольчик, возвещавший о соборовании, звучал уже на углу улицы. Время от времени какой-нибудь благочестивый старец выходил из дома с зажженной лампадой в руке и, осенив себя крестным знамением, присоединялся к процессии. Мы остановились на пустынной площади напротив дворца, все окна которого были освещены. Процессия постепенно заходила в просторный вестибюль. Под сводами здания гул толпы стал тише, и серебряный звук колокольчика победоносно воспарил над приглушенными, едва слышными голосами.
Мы поднялись по парадной лестнице. Все двери были открыты, и старые лакеи со свечами в руках повели нас по безмолвным залам. Спальня, где умирал монсиньор Стефано Гаэтани, была погружена в таинственный полумрак. Прелат лежал на старинной кровати под шелковым пологом. Глаза его были закрыты. Голова глубоко провалилась в подушки, и его гордый профиль римского патриция вырисовывался во мраке, неподвижный, мертвенно-бледный и словно изваянный из мрамора. В глубине комнаты, возле алтаря, на коленях молились княгиня и ее пять дочерей.
Княгиня Гаэтани, белокурая женщина с нежным цветом лица, была еще хороша собой; у нее были ярко-красные губы, руки ослепительной белизны, золотистые глаза и золотистые волосы. Заметив мое появление, она впилась в меня изумленным взором и слегка улыбнулась горестною улыбкой. Я поклонился и стал разглядывать ее. Княгиня Гаэтани напомнила мне портрет Марии Медичи,{4} написанный во время ее бракосочетания с королем Франции и принадлежавший кисти Петера Пауля Рубенса.
Когда священник, принесший святые дары, приблизился к кровати, монсиньор лишь слегка приоткрыл глаза и немного приподнялся на подушках. Как только он приобщился святых тайн, голова его снова бессильно упала, но едва шевелившиеся губы все еще продолжали благоговейно шептать слова латинской молитвы. Процессия стала тихо удаляться. Вышел из спальни и я. В прихожей меня остановил один из келейников монсиньора:
— Вы, верно, посланный его святейшества?
— Да. Я маркиз де Брадомин.
— Княгиня мне это только что сказала.
— Княгиня меня знает?
— Она знала ваших родителей.
— А когда я смогу засвидетельствовать ей свое почтение?
— Княгиня желает говорить с вами сейчас же.
Мы удалились в амбразуру окна, чтобы продолжить наш разговор. Когда последние посетители ушли и прихожая опустела, я невольно бросил взгляд на двери спальни и увидел княгиню, которая вышла оттуда вместе со своими дочерьми; кружевным платком она вытирала слезы. Я подошел к ней и поцеловал ей руку. Она прошептала:
— При каких печальных обстоятельствах мы увидались с тобою, дитя мое.
Голос княгини Гаэтани пробудил в моей душе целый мир далеких воспоминаний, смутных и несказанно счастливых, какими бывают воспоминания детства. Княгиня продолжала:
— А мать свою ты помнишь? Мальчиком ты был очень похож на нее, теперь — нет… Сколько раз ты сидел у меня на коленях! Ты не помнишь меня?
— Голос ваш мне знаком, — нерешительно пробормотал я.
И замолчал, погрузившись в воспоминания. Княгиня Гаэтани все смотрела на меня и улыбалась. И вдруг, вглядываясь в глубину ее таинственных золотистых глаз, я угадал, кто она такая. Я, в свою очередь, улыбнулся.
— Ну как, вспомнил? — сказала она.
— Да, как будто.
— Так кто же я?
Я снова поцеловал ей руку и тотчас ответил:
— Вы дочь маркиза де Агара.
Вспомнив свои молодые годы, княгиня печально улыбнулась и представила мне своих дочерей:
— Мария-дель-Росарио, Мария-дель-Кармен, Мария-дель-Пилар, Мария-де-ла-Соледад, Мария-де-лас-Ньевес.{5} Все пять — Марии.
Одним общим поклоном я почтительно поздоровался со всеми. Старшая, Мария-дель-Росарио, была двадцатилетней девушкой, младшая — Мария-де-лас-Ньевес — пятилетнею девочкой. Все пять показались мне красивыми и очень милыми. Мария-дель-Росарио была бледнолицей, с черными, томными, полными огня глазами. У других, в общем похожих на мать, и глаза и волосы были золотистого цвета. Княгиня села на широкий, обитый красным дамасским шелком диван и вполголоса начала со мной разговаривать. Дочери ее тихо удалились и на прощание улыбнулись мне застенчиво, и вместе с тем приветливо. Мария-дель-Росарио вышла последней.
Если не ошибаюсь, тогда улыбнулись мне не только губы ее, но и глаза, но с тех пор прошло уже столько лет, что полной уверенности у меня в этом быть не может. Помню только, что когда она удалилась, я почувствовал, что на душу мне ложится какая-то безотчетная, смутная грусть. Княгиня, на мгновение забывшись, глядела на двери, за которыми скрылись ее дочери, и потом со всем обаянием женщины благочестивой и светской сказала:
— Теперь ты их знаешь!
— Они так же хороши собой, как их мать, — сказал я с поклоном.
— Они добрее, а это значит гораздо больше.
Я ничего не ответил, ибо всегда считал, что в женщине доброта души — качество еще более эфемерное, чем красота тела. Но эта бедная синьора была иного мнения. Она продолжала:
— Мария-Росарио через несколько дней уйдет в монастырь. Да поможет ей господь стать второй Беатой Франческою Гаэтани!
— Но ведь это разлука не менее страшная, чем смерть, — внушительно сказал я.
Княгиня не дала мне договорить.
— Разумеется, это очень тяжело, но вместе с тем утешаешь себя мыслью, что никакие мирские соблазны, никакие опасности не будут угрожать любимому существу. Если бы все мои дочери стали монахинями, я с легким сердцем проводила бы их. К сожалению, не все они такие, как Мария-Росарио.
Замолчав, она глубоко вздохнула; взгляд ее сделался рассеянным, и мне показалось, что где-то на самом дне ее золотистых глаз вспыхнул темный и трагический огонек фанатизма.
В эту минуту один из келейников, дежуривших у постели монсиньора Гаэтани, показался в дверях спальни и замер в нерешительности, боясь нарушить наше молчание, пока княгиня сама не удостоила спросить его, наполовину приветливо, наполовину высокомерно:
— В чем дело, дон Антонио?
Дон Антонио в лицемерном благоговении сложил руки и сощурил глаза.
— Дело в том, ваша светлость, что монсиньор хочет поговорить с посланцем его святейшества.
— А разве монсиньор знает о его прибытии?
— Да, знает, ваша светлость. Он заметил его, когда принимал святые дары. Хоть и можно было подумать, что он в забытьи, в действительности монсиньор ни на минуту не терял сознания.
Я поднялся. Княгиня протянула мне руку, которую, как ни печальна была эта минута, я поцеловал скорее галантно, нежели почтительно. Потом я вошел в спальню, где умирал монсиньор.
Досточтимый прелат воззрился на меня угасающим взглядом. Он хотел благословить меня, но рука его бессильно опустилась на грудь и скорбная слеза тихо скатилась по щеке.
В тишине спальни были слышны только хрипы умирающего. Спустя несколько мгновений монсиньор, задыхаясь, пробормотал:
— Синьор капитан, я хочу, чтобы вы засвидетельствовали мою благодарность его святейшеству…
Он умолк и долго пролежал с закрытыми глазами. По его пересохшим синеватым губам прошел какой-то трепет. Казалось, что губы эти силятся произнести слова молитвы. Снова открыв глаза, монсиньор продолжал:
— Часы мои сочтены. Почести, величие, высокое положение, к которым я стремился в моей жизни, — теперь, в эти последние часы, все это на глазах у меня превращается в горсточку пепла. Господь, наш отец, не покидает меня, он являет мне суровую и неприкрытую правду всего сущего… Я погружаюсь уже в волны мрака, но душа моя озарена внутренним светом, безмерной ясностью благодати божьей…
Он снова вынужден был остановиться и, обессилен, закрыл глаза. Один из келейников подошел к нему и тихо, благоговейно вытер тонким батистовым платком его потный лоб. Потом, подойдя ко мне, прошептал:
— Синьор капитан, монсиньору нельзя говорить.
Я кивнул головой. Епископ приоткрыл глаза и посмотрел на нас обоих. Губы его что-то невнятно зашептали. Наклонившись к нему, я старался разобрать слова, но не мог. Келейник неслышно отвел меня в сторону и, наклонившись над умирающим, учтиво, но решительно сказал:
— Ваше преосвященство, вам надо сейчас отдохнуть! Вы не должны говорить…
Прелат жестом пытался удержать меня. Келейник снова вытер ему лоб платком, и его проницательный взгляд клирика-итальянца дал мне понять, что разговор продолжаться не может. Я и сам так думал и поэтому, почтительно простившись, направился к двери. Келейник снова уселся в стоявшее у изголовья кровати кресло и, незаметно подобрав полы рясы, приготовился погрузиться в раздумье, может быть даже в дремоту. Но в ту же минуту монсиньор заметил, что я собираюсь уйти. Напрягши последние силы, он приподнялся и окликнул меня:
— Не уходи, сын мой! Я хочу, чтобы ты отвез мою исповедь его святейшеству папе.
Он выждал, пока я подойду к нему снова, и, устремив взор на белый алтарь в углу, начал:
— Господи, я скорблю о своем грехе, и мне стыдно покаяться в нем! Но да послужат во искупление его и скорбь эта и этот стыд!
Глаза прелата наполнились слезами. Голос его стал прерывистым и хриплым. Келейники окружили кровать и стояли, низко склонив головы. Все были глубоко удручены и, казалось, заранее прониклись благоговением, чтобы выслушать покаяние, которое собирался принести перед ними умирающий епископ бетулийский. Я стал на колени. Прелат молча творил молитву, не сводя глаз со стоявшего на алтаре распятия. По его бледным щекам струились слезы. Спустя несколько мгновений он начал так:
— Греховные помыслы мои берут начало с тех дней, когда монсиньор Феррати известил меня, что его святейшество хочет посвятить меня в кардиналы. Как немощна природа человека! Из какой хрупкой глины все мы сотворены! Я был убежден, что мое княжеское происхождение значит больше, чем все знания и достоинства других претендентов. В душе мой зародилась гордость, самая страшная из искусительниц; я вообразил, что в один прекрасный день мне будет дана власть над всем христианским миром. В роду нашем были папы и святые, и я полагал, что смогу стать таким, как они. Вот как ослепляет нас дьявол! Я сам был уже стар и, однако, надеялся, что смерть другого поможет мне достичь моей цели. Господу нашему не было угодно, чтобы я облачился в священный пурпур, но когда до слуха моего стали долетать неопределенные и тревожные вести, я испугался, что со смертью его святейшества, которой так все боялись, надежды мои рухнут. Господи, я осквернил алтарь твой, моля тебя о том, чтобы ты продлил эту драгоценную жизнь ради того только, чтобы смерть его святейшества наступила позднее, тогда, когда она могла бы меня осчастливить. Господи, ослепленный дьяволом, я до сегодняшнего дня не сознавал, сколь я греховен! Господи, ты, который читаешь все, что начертано в глубине сердец, ты, который знаешь грех мой и раскаяние мое, не оставь меня милостью своей.
Он замолчал, и все тело его передернулось в предсмертных судорогах. Он говорил тихим голосом, в котором слышалась спокойная, умиротворенная скорбь. Глазницы его, казалось, стали шире; всё глубже западавшие глаза подернулись тенью смерти. Умирающий лежал простертый, безразличный ко всему, закинув голову; рот его был полуоткрыт, грудь вздымалась. Все стояли на коленях, не зная, что делать, не решаясь ни обратиться к нему, ни даже пошевелиться, чтобы не нарушить этот покой, который сам по себе уже вселял в нас ужас. Внизу по-прежнему слышно было неумолчное всхлипывание фонтана и голоса игравших вокруг детей: они напевали старинную песенку, томную и грустную. Луч утреннего апрельского солнца сверкал на священных сосудах алтаря; вполголоса молились келейники; когда они слышали голос приора, которого мучила совесть, души их преисполнялись благоговением. Меня, грешного, начинало клонить ко сну — ведь всю ночь я провел в карете, а столь долгие переезды до крайности утомительны.
Выходя из комнаты, где умирал монсиньор Гаэтано, я столкнулся со старым и церемонно-вежливым мажордомом, который ждал меня у дверей.
— Ваша светлость, княгиня послала меня, чтобы я показал вам приготовленные для вас покои.
Я почувствовал, что дрожу, и едва совладал с собой. В воздухе повеяло каким-то неуловимым ароматом весны, и я вдруг ощутил рядом с собою присутствие всех пяти дочерей княгини. Мне было очень приятно думать, что я буду жить во дворце Гаэтани. И, однако, я набрался мужества и отказался:
— Передайте вашей госпоже, княгине Гаэтани, что я очень ей благодарен, но что я остановился в Клементинской коллегии.
Мажордома мой ответ поразил:
— Ваша светлость, поверьте мне, вы очень этим огорчите княгиню. Но даже если вы отказываетесь, я все равно должен буду доложить ей о вашем решении — так мне приказано. Благоволите подождать несколько минут, пока окончится месса.
Я покорно сложил руки:
— Не говорите ей ничего. Господь простит меня, если я предпочту этот дворец с его пятью заколдованными красавицами суровым богословам Клементинской коллегии.
Мажордом посмотрел на меня удивленно, словно не веря. Потом он как будто хотел заговорить со мной, но, после некоторых колебаний, начал с того, что, улыбнувшись, показал мне дорогу. Я последовал за ним. Это был старик, бритый, одетый в длинный подрясник, почти касавшийся украшенных серебряными пряжками башмаков. Его звали Полонио; ходил он на цыпочках, бесшумно и каждую минуту оборачивался и обращался ко мне с какими-нибудь словами голосом тихим и таинственным.
— Трудно надеяться, что монсиньор выживет… — Сделав несколько шагов, он добавил: — Девять дней подряд творил я молитвы божьей матери. — Пройдя еще немного, он сказал, раздвигая драпировку: — Я должен был это сделать. Монсиньор обещал отвезти меня в Рим. Господь не привел! Господь не привел! — воскликнул он, продолжая идти.
Так мы прошли прихожую, полутемную гостиную и совершенно пустовавшую библиотеку. Тут мажордом остановился перед запертой дверью и стал шарить в широких карманах:
— Господи Иисусе! Я потерял ключи… — Он продолжал рыться в карманах. Наконец ключ был найден. Мажордом отпер дверь и пропустил меня вперед: — Княгине угодно, чтобы вы располагали гостиной, библиотекой и этой вот комнатой.
Я вошел. Комната, в которой я очутился, показалась мне похожей на ту, где лежал монсиньор Гаэтани. Такая же просторная, тихая, со старинными портьерами из алого дамасского шелка. Я бросил на кресло мой плащ папского гвардейца и стал разглядывать висевшие на стене картины. Все это были старинные холсты флорентийской школы, изображавшие библейские сцены: Моисей, спасенный из вод, Сусанна и старцы, Юдифь с головой Олоферна.
Чтобы я мог получше их рассмотреть, мажордом обежал всю комнату и отдернул занавеси на окнах. Потом он умолк, дав мне возможность погрузиться в созерцание. Он только следовал за мной по пятам как тень, не переставая улыбаться своей странной, назидательною улыбкой. Решив, что я налюбовался картинами вдоволь, он подошел ко мне на цыпочках и сказал голосом, который стал еще более вкрадчивым и таинственным:
— Ну что, каковы? Все они — кисти одного и того же художника! И какого художника!
— По всей вероятности, Андреа дель Сарто!{6} — воскликнул я.
Лицо синьора Полонио приняло серьезное, почти торжественное выражение:
— Их приписывают Рафаэлю.
Я еще раз обернулся к картинам. Синьор Полонио продолжал:
— Заметьте, что я говорю только «приписывают». По моему скромному разумению, это больше, чем Рафаэль! По-моему, это сам Божественный.
— А кто это Божественный?
Мажордом в совершенном изумлении развел руками:
— И вы еще спрашиваете, ваша светлость? Кто же это, как не Леонардо да Винчи?
И он умолк, поглядывая на меня с искренним сожалением. Я не мог сдержать насмешливой улыбки. Синьор Полонио сделал вид, что не заметил ее, и, хитрый как римский кардинал, льстиво сказал:
— До сегодняшнего дня я в этом не сомневался… Сейчас, должен признаться, усомнился. Может быть, вы и правы, ваша светлость. Андреа дель Сарто много работал в мастерской Леонардо, и в этот период оба они писали так похоже, что картины одного не раз уже приписывали другому. В Ватикане, например, есть мадонна с розой. Одни считают, что это Леонардо да Винчи, другие — что это Андреа дель Сарто. Мне думается, что писал ее муж донны Лукреции дель Феде,{7} но потом несомненно подправил сам Божественный. Знаете, такое бывает нередко между учителем и учеником.
Мне надоело его слушать, и я не стал этого скрывать.
Окончив свою речь, синьор Полонио низко поклонился и, расставив руки, снова забегал от окна к окну, задергивая занавеси. Комната погрузилась в полумрак, который навевал сон. Синьор Полонио простился со мной совсем тихо, словно мы были в церкви, и вышел бесшумно, заперев за собою дверь. Я до того устал, что уснул еще до наступления вечера. Проснулся я с мыслью о Марии-Росарио.
В библиотеке было три двери, выходившие на мраморную террасу. В саду вечно юные голоса фонтанов, казалось, звучали сладостным аккомпанементом к мечте о любви. Я облокотился о перила и почувствовал, что в лицо мне пахнуло весной. Этот старый сад с его миртами и лаврами под лучами заходящего солнца был исполнен какой-то языческой прелести. В глубине сада показались пять сестер; они гуляли по лабиринту аллей, набрав полные подолы роз, словно девушки античных легенд. Вдали, усеянное множеством треугольных парусов, которые казались янтарными, расстилалось Тирренское море. Волны покорно замирали на золотистом песке. Звук раковин, которым рыбаки оповещали о своем возвращении, и хриплый рокот моря — все сливалось в одно с благоуханием старого сада, где в тени олеандров пять сестер рассказывали друг другу свои девичьи сны.
Все пять уселись на большой каменной скамье и стали плести венки. На плече Марии-Росарио сидела голубка, и я увидел в этом какой-то таинственный символ. В деревне по-праздничному звонили колокола; вдалеке, на вершине зеленого пригорка, вырисовывалась окруженная кипарисами церковь. Вокруг нее двигалась процессия; видны были носилки с фигурами святых в шитых золотом одеждах, горевших на солнце; алые хоругви, которые несли впереди, победоносно сверкали. Все пять сестер стали на колени прямо в траву и, продолжая держать розы, молитвенно сложили руки.
На деревьях пели дрозды, и песни их сплетались в едином отдаленном ритме, словно набегающие одна на другую волны моря, Сестры снова сели на скамейку. Они молча плели венки, связывали цветы в букеты; руки их, словно белые голуби, скользили среди пурпурных роз, а солнечные лучи, проникавшие сквозь листву, трепетали на них мистическим пламенем. Тритоны и сирены фонтанов смеялись своим химерическим смехом; юношеским задором журчали серебряные воды, струясь по илистым бородам древних морских чудовищ, которые низко наклонялись, чтобы целовать лежавших в их объятиях сирен. Сестры поднялись с мест, собираясь возвращаться во дворец. Они медленно шли по тропинкам лабиринта, словно околдованные принцессы, которым снится один и тот же сон. Когда они говорили между собою, голоса их растворялись в вечернем гуле, и слышен был только веселый смех, разливавшийся волнами под тенью классических лавров.
Когда я вошел в залу, все огни были уже зажжены. В тишине раздавался низкий голос старшего члена коллегии; он разговаривал с дамами, собравшимися на тертулию.{8} Зала сверкала золотом; отделана она была во французском духе, с изысканною роскошью и изяществом. Амуры с гирляндами, нимфы в кружевах, галантные охотники и олени с ветвистыми рогами заполняли гобелены на стенах, а на консолях стройные фарфоровые герцоги-пастушки обнимали нежные талии пастушек-маркиз. На мгновение и остановился в дверях. Увидав меня, находившиеся в зале дамы вздохнули, а старший член коллегии встал:
— Разрешите мне, синьор капитан, приветствовать вас от имени всей Клементинской коллегии.
И он протянул мне свою пухлую белую руку, на которой, казалось, должен был бы уже сиять пастырский аметист. Как высшее духовное лицо, он носил бархатную ленту, которая придавала еще больше аристократической изысканности его величественной фигуре. Это был совсем еще молодой человек, но уже седой, с глазами, полными огня, орлиным носом и узким, резко очерченным ртом. Княгиня представила мне его движением руки, полным сентиментальной томности:
— Монсиньор Антонелли. Мудрец и святой!
Я поклонился.
— Мне рассказывали, княгиня, что римские кардиналы испрашивают совета монсиньора в самых трудных вопросах богословия. Добродетели его славятся повсюду.
Член коллегии прервал меня своим низким голосом, мягким и учтивым:
— Я всего лишь философ, разумея под философией, как древние, любовь к мудрости. — Он снова сел и, уже сидя, продолжал: — Видели вы монсиньора Гаэтани? Какое несчастье! Столь же великое, сколь и неожиданное!
Все пребывали в печальном молчании. Две пожилые дамы, обе одетые в очень строгие шелковые платья, одновременно одним и тем же голосом спросили:
— Нет никакой надежды?
Княгиня вздохнула:
— Нет… Разве только чудо…
Снова воцарилось молчание. В другом конце залы дочери княгини, усевшись в круг, вышивали парчовое покрывало. Они вполголоса говорили между собою и, низко склонив головы, улыбались друг другу. Одна только Мария-Росарио молчала и вышивала медленно, словно о чем-то мечтая; тихо дрожала вдетая в иглу золотая нить, и из-под пальцев пяти вышивальщиц рождались розы и лилии райского сада, которыми принято украшать церкви. Неожиданно среди этой тишины раздались три громких удара. Княгиня побледнела как смерть. Монсиньор Антонелли поднялся:
— Позвольте мне уйти. Я не думал, что сейчас так поздно… Разве уже заперли двери?
— Нет, их не запирали, — ответила княгиня дрожа.
— Верно, какой-нибудь наглец, — прошептали обе одетые в черный шелк пожилые дамы.
Они робко поглядели друг на друга, словно для того, чтобы набраться храбрости, и стали внимательно слушать, слегка дрожа. Удары послышались снова, на этот раз уже в самом дворце Гаэтани. Порыв ветра пронесся по зале, несколько свечей потухло. Княгиня вскрикнула. Все окружили ее. Она глядела на нас; губы ее дрожали, в глазах был испуг.
— Так было, — тихо сказала она, — когда умирал князь Филиппо. А он рассказывал, что так же было с его отцом.
В эту минуту в дверях появился синьор Полонио и замер на месте. Княгиня поднялась с дивана и вытерла слезы. Потом с гордым спокойствием спросила:
— Умер?
— Преставился!
В зале послышались стон и плач. Дамы окружили княгиню, которая, прижимая платок к глазам, бессильно опустилась на диван. Член коллегии перекрестился.
Мария-Росарио долго глядела на иголки и золотые нити глазами, полными слез. Наблюдая за ней с другого конца залы, я видел, как она наклонилась над маленьким резным ларчиком, который держала на коленях открытым. Губы ее чуть шевелились — должно быть, она шептала слова молитвы. Тени ресниц падали ей на щеку, и мне чудилось, что это бледное лицо дрожит где-то в глубинах моей души так, как в глубинах озера дрожит зачарованный лик луны. Мария-Росарио заперла свой ларец и оставила золотой ключик в замке. Потом она поставила его на ковер и взяла на руки самую маленькую девочку, плакавшую в испуге. Склонившись над ней, она поцеловала ее. Я видел, как белокурые детские локоны Марии-Ньевес упали на руку Марии-Росарио; сцена эта была полна простосердечной прелести старинных картин, тех, что писали монахи, благоговевшие перед святою девой. Девочка прошептала:
— Спать хочется!
— Позвать няню, чтобы она тебя уложила?
— Мальвина оставляет меня одну. Она думает, что я сплю, и потихоньку уходит, а когда я остаюсь одна, мне страшно.
Мария-Росарио поднялась, держа девочку на руках, и, словно тихая и бледная тень, скользнула по зале. Я кинулся раздвинуть портьеры. Мария-Росарио с опущенными глазами прошла, даже не взглянув на меня. Девочка, напротив, обратила на меня свои ясные, полные слез глаза и ласковым голосом сказала:
— Покойной ночи, маркиз. До завтра.
— Покойной ночи, милая.
С болью в сердце от презрения, которое выказала мне Мария-Росарио, вернулся я в залу, где княгиня все еще сидела, прижав к глазам платок. Явившиеся на тертулию старушки окружили ее и время от времени обращали свои благоразумные и наставительные речи к девочкам, которые тоже тихо вздыхали, но не так скорбно, как их мать.
— Дети мои, надо уложить ее спать.
— Надо заказать траур.
— Куда ушла Мария-Росарио?
Несколько раз вмешивался в разговор низкий и мягкий голос члена коллегии. Каждое слово его вызывало среди дам шепот восхищения. В самом деле, все, что изрекали его уста, казалось, было проникнуто богословской ученостью и христианской благостью. По временам он бросал на меня быстрый и проницательный взгляд, от которого я вздрагивал. Я понимал, что эти черные глаза хотят разгадать, что творится у меня в душе; я был единственным из всех, кто хранил молчание, и, быть может, единственным, кто был опечален. Впервые в жизни я ощутил, сколь велико может быть обаяние католических прелатов, и в памяти моей всплыли рассказы о любовных похождениях нашего собеседника. Должен признаться, что были минуты, когда я забывал о том, где нахожусь, и даже о седых волосах этих благородных дам, и что меня охватила ревность, неистовая ревность к члену коллегии. Я вздрогнул от неожиданности: среди всеобщего безмолвия он вдруг подошел ко мне. Фамильярно положив мне руку на плечо, он сказал:
— Дорогой мой маркиз, надо послать нарочного к его святейшеству.
Я склонил голову:
— Да, надо, монсиньор.
— Мне приятно думать, что вы со мной согласны, — ответил он с изысканною любезностью. — Какое великое несчастье, маркиз!
— Да, монсиньор, великое несчастье.
Мы внимательно посмотрели друг на друга, оба глубоко убежденные в том, что в одинаковой мере притворяемся, — и расстались. Член коллегии подошел к княгине, а я вышел из залы, чтобы написать письмо кардиналу Камарленго, должность которого исполнял тогда монсиньор Сассоферрато.
В эти часы Мария-Росарио, может быть, не спала и стояла возле тела монсиньора Гаэтани! Мысль эта пришла мне в голову, когда я входил в библиотеку, темную и погруженную в тишину. Она дохнула на меня издалека, словно откуда-то из иного мира, ветром, тронувшим спокойную гладь сокрытого ото всех озера. Мне показалось, что висков моих касаются чьи-то руки; вздрогнув, я вскочил. Я оставил на столе лист бумаги, на котором успел только нарисовать крест, и направился в комнату, где лежал покойник. Всюду во дворце слышен был запах воска. Безмолвные слуги стояли в широких коридорах, а по прихожей расхаживали взад и вперед келейники; они здоровались со мною кивком головы. Слышен был только шум шагов и потрескивание горевших в алькове свечей.
Я подошел к дверям и остановился: монсиньор Гаэтани лежал окоченевший в своей постели, одетый во францисканскую рясу. В его похолодевшие руки был вложен серебряный крест, а колыхавшееся пламя с свечей то бросало свой отблеск на его цвета слоновой кости лицо, то погружало его в тень. Поодаль, в глубине комнаты, молилась Мария-Росарио. Несколько мгновений я смотрел на нее. Она подняла глаза, перекрестилась три раза, поцеловала свои сложенные крестом пальцы и, поднявшись с колен, направилась к дверям:
— Скажите, маркиз: что, моя мать в зале?
— Я оставил ее там.
— Ей надо отдохнуть, она уже две ночи не спит… До свидания, маркиз!
— Вы не позволите мне проводить вас?
Она обернулась:
— Проводить меня, да… Сказать по правде, Мария-Ньевес заразила меня своим страхом…
Мы прошли прихожую. Келейники прекратили на минуту свое молчаливое хождение, и их испытующие взгляды устремились нам вслед, сопровождая нас до самых дверей. Мы вышли в коридор, где никого не было, и тут, не в силах совладать с собой, я схватил руку Марии-Росарио и хотел поцеловать ее, но девушка с явным недовольством ее отдернула:
— Что вы делаете?
— Как я люблю вас! Как я люблю вас!
Испуганная, она побежала прочь от меня по широкому коридору. Я последовал за ней:
— Люблю вас! Люблю!
Дыхание мое почти касалось ее шеи, белой, как мрамор, и пахнувшей цветами и девической свежестью.
— Люблю вас! Люблю!
— Оставьте меня. Умоляю вас, оставьте! — прошептала она с тоской.
И, не повернув головы, вся дрожа от страха, побежала по коридору. Совсем обессилев и едва дыша, она остановилась в дверях залы. А я все еще шептал:
— Люблю вас! Люблю!
Мария-Росарио закрыла глаза рукой и вошла в залу. Разглаживая усы, я последовал за ней. Мария-Росарио остановилась под лампой и, испуганно взглянув на меня, внезапно покраснела. Потом она побледнела — побледнела как смерть. Шатаясь, она подошла к сестрам и села среди них, а те, низко к ней наклонившись, о чем-то стали ее расспрашивать. Говорили все очень тихо, медлительно, робко, и в наступившие вдруг минуты молчания слышно было, как тикают часы.
Понемногу все разошлись. В комнате остались только две седые синьоры в черных шелковых платьях. Уже около полуночи княгиня согласилась наконец пойти прилечь, дочери же ее продолжали оставаться в зале до самого рассвета в обществе двух синьор, которые рассказывали им о днях своей молодости, — они вспоминали старинные дамские моды и войны, которые вел Бонапарт. Я слушал их рассказы, сидя в глубине кресла, погруженный во мрак, а сам не сводил глаз с Марии-Росарио. Можно было подумать, что она спит: ее губы, бледные от бдений и молитв, были чуть разжаты, словно она разговаривала с невидимым существом, и ее неподвижные глаза, устремленные в бесконечность, ничего, казалось, не видели вокруг.
Глядя на нее, я чувствовал, что в сердце моем разгорается любовь, пылкая и трепетная, как некое мистическое пламя. Все страсти мои словно очистились в этом священном огне; теперь они источали аромат, как арабские благовония. С тех пор прошло уже много лет, и, однако, я каждый раз вздыхаю, вспоминая об этом!
Уже светало, когда я вернулся в библиотеку. Надо было написать кардиналу Камарленго, и я решил сделать это в тягучие часы скорби, когда все колокола Лигурии пробуждались и звонили по умершему, а священники латинскими молитвами препоручали господу душу усопшего епископа бетулийского. В письме своем я пространно докладывал обо всем монсиньору Сассоферрато. Запечатав конверт пятью печатями с папским гербом, я позвал мажордома и передал ему письмо, чтобы тот сию же минуту послал нарочного в Рим. После этого я направился в молельню княгини, где еще до рассвета начались мессы; они следовали одна за другой. Первыми служили их келейники, бодрствовавшие у тела монсиньора Гаэтани, затем дворцовые капелланы, а после них некий тучный член коллегии, который прибыл в большой поспешности и задыхался. Княгиня приказала отворить двери дворца, и по всем коридорам слышно было, как перешептываются люди, пришедшие проститься с покойным. И прихожей дежурили слуги; причетники проходили взад и вперед в своих красных подрясниках и белых стихарях, с трудом пробираясь среди толпы.
Едва я вошел в молельню, как сердце мое забилось. Там была Мария-Росарио, и мне посчастливилось слушать мессу, стоя неподалеку от нее. Получив благословение, я подошел поздороваться с нею. Она ответила на мой поклон, вся дрожа. Дрожало и мое сердце, но глаза Марии-Росарио не могли этого увидеть. Я уже готов был попросить ее приложить руку к моей груди, но побоялся, что мольба моя останется без ответа. Девушка эта была жестока, как и все праведницы с пальмовой ветвью в деснице. Должен признаться, что я предпочитаю тех, что были прежде великими грешницами. К несчастью, Мария-Росарио так и не поняла, что участь ее далеко не столь прекрасна, как участь Марии Магдалины. Бедняжка не ведала, что самое лучшее в святости — это искушения. Я хотел подать ей святой воды и со всею галантностью поспешил к купели. Мария-Росарио едва коснулась моих пальцев и, осенив себя крестным знамением, тут же вышла из молельни. Я последовал за ней и несколько мгновений мог еще видеть, как она разговаривала с мажордомом в глубине полутемного коридора. Должно быть, она шепотом отдавала ему какие-то распоряжения. Обернувшись и увидев, что я иду за ней, она густо покраснела.
— А вот и синьор маркиз! — воскликнул мажордом. И тут же, очень низко мне поклонившись, продолжал: — Простите, ваша светлость, что я позволяю себе вас беспокоить, но скажите мне, за что вы на меня сердитесь. Может быть, я совершил какую-нибудь оплошность, позабыл что-нибудь для вас сделать?
— Замолчите, Полонио, — с раздражением остановила его Мария-Росарио.
Медоточивый мажордом, казалось, был поражен:
— Чем я заслужил такое…
— Говорю вам, замолчите!
— Я повинуюсь вам, но раз вы упрекаете меня в том, что я был невнимателен к синьору маркизу…
Щеки Марии-Росарио пылали; голос ее дрожал от гнева и слез. Она снова не дала мажордому договорить:
— Приказываю вам, молчите. Не могу я слушать ваших объяснений.
— Что я такое сделал, голубка моя, что я сделал?
Мария-Росарио, на этот раз уже несколько более снисходительно, прошептала:
— Довольно!.. Довольно!.. Простите меня, маркиз.
И, попрощавшись со мной едва заметным кивком головы, она удалилась.
Мажордом продолжал стоять посреди коридора, обхватив голову руками; глаза его были заплаканы:
— Попробовал бы я обойтись так с одной из ее сестер, попробовал бы посмеяться… Самая маленькая из них отлично знает, как она знатна… Нет, я не стал бы смеяться, ведь это мои госпожи. Но она, она, которая в жизни ни на кого не сердилась, так рассердиться вдруг на бедного старика! Ах, какая несправедливость! Какая несправедливость!
Я слушал его с участием, которого раньше в себе не замечал:
— А что, разве она самая лучшая из всех сестер?
— Она — лучшая из всех созданий, Эта девочка — сущий ангел.
И синьор Полонио, совсем расчувствовавшись, пустился в длинные разглагольствования о добродетелях, которые украшали душу благородной девушки, и рассказ его был безыскусствен и простосердечен, как жития «Золотой легенды».{9}
Приехали за телом монсиньора!.. И мажордом, очень расстроенный, заторопился уйти. Все колокола древнего города зазвонили разом. Слышны были латинские псалмы клириков под портиком дворца и гул заполонившей площадь толпы. Четыре старших члена коллегии подняли на плечи гроб, и погребальная процессия двинулась в путь. Монсиньор Антонелли оставил для меня место по правую руку от себя и со смирением, которое показалось мне напускным, принялся сетовать о великой потере, понесенной Клементинской коллегией с кончиной столь праведного и мудрого мужа. Я соглашался на все легким кивком головы и, делая вид, что слушаю все, что он говорит, смотрел на открытые окна домов, из которых выглядывало множество женщин. Монсиньор это вскоре заметил и сказал мне с улыбкой столь же любезной, сколь и догадливой:
— Вы, должно быть, впервые в нашем городе.
— Да, монсиньор.
— Если вы задержитесь здесь немного дольше и если у вас будет желание познакомиться с городом, я готов стать вашим гидом. Здесь столько сокровищ искусства!
— Благодарю вас, монсиньор.
Мы продолжали наш путь молча. В воздухе звучал колокольный звон, и торжественное пение клириков, казалось, уходило в землю, где всё — только прах и тлен.
Аллилуйя, мизерере, ответы хора лились на гроб, словно святая вода с кропила. Колокола над нашими головами всё звонили и звонили, и солнце, апрельское солнце, свежее и златокудрое, как лик юноши, пламенело на ризах священников, на шелке хоругвей и на церковных крестах всей своей языческой пышностью.
Мы прошли почти весь город. Монсиньор завещал предать свое тело земле в монастыре францисканцев, в котором уже более четырех столетий хоронили всех князей Гаэтани. Существует предание, что Франциск Ассизский сам основал этот монастырь в Лигурии и какое-то время жил в нем. В саду и поныне еще растет старый розовый куст, который расцветал каждый раз, когда святой Франциск посещал эту благословенную обитель. Мы подошли к церкви, откуда слышался погребальный звон. В дверях, выстроившись в два ряда, ожидала вся коллегия. Впереди — послушники, бледные, изнуренные, простодушные. Потом монахи — мрачные, истерзавшие свою плоть, преисполненные раскаяния. Склонив головы, все молились, и свечи капля за каплей роняли им на сандалии свои желтоватые слезы.
Отслужили несколько литий, отпели длинную заупокойную мессу, и гроб опустили в могилу, приготовленную еще на рассвете. Сверху водрузили плиту. Один из семинаристов, изысканно учтивый юноша, подошел ко мне, чтобы отвести меня в сакристию. Монахи последовали за нами, бормоча слова молитв, и церковь постепенно опустела и погрузилась во мрак. В сакристии я нашел много мудрых и досточтимых теологов, которые напутствовали меня своими благостными речами. Туда пришел приор, седобородый старик, проведший долгие годы в Палестине. Он приветствовал меня с евангельской кротостью и, усадив подле себя, стал расспрашивать о здоровье его святейшества. Важные теологи обступили меня со всех сторон, чтобы услыхать от меня новости, но так как мне особенно нечего было им рассказать, мне пришлось сочинить по этому поводу целую легенду о благочестии и чуде. Его святейшество вернул себе молодость, ему помогли некие мощи! Приор с лицом, светившимся верой, спросил меня:
— А мощи какого святого, сын мой?
— Одного святого из моего рода.
Все поклонились так, словно святым этим был я сам. Трепет молитвы охватил длинные бороды, пробивавшиеся из-под таинственных капюшонов, и в эту минуту я испытал желание стать на колени и поцеловать руку приора. Ту руку, которая имела власть перечеркнуть все мои грехи словами: «Ego te absolvo».[2]
Вернувшись во дворец, я нашел Марию-Росарио возле дверей часовни; она раздавала милостыню толпе нищих, которые протягивали к ней высунутые из лохмотьев изможденные руки. Мария-Росарио была воплощением идеала: она напоминала мне тех святых — королевских и княжеских дочерей, девушек редкостной красоты, которые своими нежными руками лечили прокаженных. Душа этой девушки была охвачена таким же пламенным стремлением к праведной жизни. У одной сгорбленной старухи она спросила:
— Ну, как твой муж, Либерата?
— Все так же, синьорина! Все так же!
Получив подаяние и поцеловав его, старуха удалилась, опираясь на палку и повторяя без устали благословения. Мария-Росарио с минуту смотрела на нее, а потом ее исполненные сострадания глаза обратились на другую нищенку, которая кормила грудью исхудалого младенца, завернутого в полу платья.
— Это твой ребенок, Паола?
— Нет, синьорина. Это сын одной бедной женщины, которая умерла. Бедняжка оставила троих, это самый маленький.
— И ты взяла его себе?
— Мать мне его отдала, когда умирала.
— А что с остальными двумя?
— Побираются по улицам. Одному пять, другому семь. Смотреть на них жалко. Голенькие, как ангелочки!
Мария-Росарио взяла ребенка на руки и поцеловала. На глазах у нее были слезы. Обратившись к нищенке, она сказала:
— Приходи сюда вечером и спроси синьора Полонио.
— Спасибо, синьорина!
Почерневшие, искривленные нуждою рты невнятно зашептали слова, похожие на молитву:
— Несчастная мать возблагодарит вас там, на небе.
Мария-Росарио продолжала:
— А увидишь двух других малюток, приводи их тоже с собой.
— И не знаю, где уж я найду их, синьорина.
Старик с лысой головой, длинной белоснежной бородой и просветленным, евангельски кротким лицом вышел вперед и сказал:
— Другие как-никак тоже нашли себе приют. Их подобрала старуха Барберина — прачка, вдова, что и меня приютила.
И старик, который, сам того не замечая, сделал несколько шагов вперед, отступил теперь назад, ощупывая землю палкой и выставив вперед руку — это был слепой. Мария-Росарио тихо плакала. Лицо ее светилось кротостью и лаской, как лицо мадонны, посреди этой грязной толпы нищих, которые, окружив ее и став на колени, целовали ей руки. Их смиренно склоненные головы, их изможденные, жалкие лица выражали любовь. Я вспомнил в эту минуту старинные картины, виденные мною столько раз в одном старом умбрийском монастыре, картины в духе прерафаэлитов,{10} которые писал у себя в келье некий неизвестный монах. Художник этот был влюблен в наивные чудеса, которыми полны легенды о королеве Тюрингии.{11}
Мария-Росарио стала сама живою легендой, и белые лилии милосердия распространяли на нее свое благоухание. Во дворце она жила, как в святой обители. Она приносила из сада полный подол лаванды, которую потом раскладывала среди белья, и, когда руки ее принимались за монашескую работу, душа ее предавалась грезам. То были мечты светлые, как притчи Иисуса, и в мыслях своих она ласкала эти мечты, так же как руки ее ласкали голубок, мягких и теплых. Марии-Росарио хотелось бы превратить дворец в странноприимный дом, куда могли бы приходить старики и калеки, сироты и помешанные, те, что заполняли часовню, прося милостыню и бормоча молитвы. Она вздыхала, вспоминая историю принцесс-праведниц, которые принимали у себя в замках паломников, возвращавшихся из Иерусалима. Она тоже была святой и происходила из знатного рода. Дни ее текли, как тихие ручейки, которые словно несут в глубинах своих уснувшее небо. Она молится и вышивает в тишине огромных зал, пустынных и скорбных. На губах ее дрожат слова молитвы, в руках у нее дрожит иголка с вдетой в нее золотою нитью, и на парчовом покрывале расцветают те самые розы и лилии, которые украшают ризы священнослужителей. И после дня, проведенного в смиренных, тихих, истинно христианских деяниях, ночью она становится на колени в своем алькове и, исполненная простодушной веры, молится младенцу Иисусу, сверкающему в свете лампады, одетому в белое шелковое одеяние, вышитое бисером и блестками. И кажется, что от нее исходит покой и, точно жаворонок, что вылетел из гнезда, парит по всему дворцу и поет над дверьми у входа в большие залы.
Мария-Росарио была моей единственною любовью в жизни. С тех пор прошло много лет, но когда я вспоминаю ее, то даже и теперь глаза мои, высохшие и почти совсем уже слепые, наполняются слезами.
Во дворце все еще пахло воском. Княгиня лежала у себя в будуаре на диване: у нее была мигрень. Дочери ее, одетые в траур, разговаривали шепотом; время от времени одна из них бесшумно выходила из комнаты и так же бесшумно возвращалась туда снова. Среди всей этой мертвой тишины княгиня вдруг слегка приподнялась и обратила ко мне свое все еще красивое лицо, которое под черной кружевною наколкой казалось еще бледнее:
— Ксавьер, когда ты должен вернуться в Рим?
Я вздрогнул:
— Завтра, синьора.
Я взглянул на Марию-Росарио. Она опустила голову, щеки ее зарделись. Не заметив этого, княгиня прижала руку ко лбу. Глядя на эту руку, я вспомнил руки дам на старинных портретах, держащие цветок или кружевной платочек. На какое-то мгновение она замерла в этой исполненной изящества позе, а потом принялась снова меня расспрашивать:
— Почему же завтра?
— Потому что миссия моя окончена, синьора.
— И ты не можешь пробыть у нас еще несколько дней?
— Мне для этого нужно разрешение его святейшества.
— Тогда я сегодня же напишу в Рим.
С притворным равнодушием я посмотрел на Марию-Росарио. Ее красивые черные глаза взирали на меня с испугом, ее совершенно бескровные губы, приоткрытые словно для вздоха, дрожали.
В это время мать повернулась к ней:
— Мария-Росарио!
— Да, синьора.
— Будь добра, напиши от моего имени монсиньору Сассоферрато. Я подпишу.
Мария-Росарио, все еще красная от смущения, ответила со спокойной мягкостью, которая, казалось, источала благоухание:
— Вам угодно, чтобы я сделала это сейчас?
— Как хочешь, дочь моя.
Мария-Росарио поднялась:
— А что я должна написать монсиньору?
— Напиши ему про наше горе и добавь, что живем мы очень уединенно и надеемся, что он будет столь добр, что разрешит маркизу де Брадомину некоторое время у нас погостить.
Мария-Росарио направилась к двери; ей пришлось проходить мимо меня. Набравшись храбрости, я воспользовался этим и шепнул ей:
— Я остаюсь, потому что люблю вас!
Она притворилась, что не расслышала моих слов, и вышла из комнаты. Тогда я повернулся к княгине, которая все время пристально на меня глядела, и с напускным равнодушием спросил:
— Когда постригается Мария-Росарио?
— День еще не назначен.
— Может быть, это отложится в связи с кончиною монсиньора Гаэтани?
— Почему?
— Потому что это будет для вас новым горем.
— Я не из тех, кто думает только о себе. Я отлично понимаю, что дочь моя будет счастлива в монастыре, что ей будет там много лучше, чем здесь, со мною, и покоряюсь.
— А Мария-Росарио давно уже решила посвятить себя богу?
— С самого детства.
— И у нее никогда не было колебаний?
— Никогда!
Я расправил усы; рука моя слегка дрожала:
— Значит, она истинная праведница.
— Да, праведница… Заметь, что уже не первая в нашем роду. Святая Маргарита Лигурийская, аббатиса Фьезоланская, была дочерью одного из князей Гаэтани. Тело ее покоится во дворцовой часовне, и спустя четыреста лет она выглядит так, словно только что опочила. Можно подумать, что она спит. Ты никогда не спускался в склеп?
— Нет, синьора.
— Ну, так спустись как-нибудь.
Мы оба замолчали. Княгиня снова принялась вздыхать и подносить руки ко лбу. Дочери ее тихо переговаривались в глубине будуара. Я улыбнулся им, и они мне ответили тоже улыбками; их шаловливая, детская резвость составляла разительный контраст с их черными траурными платьями. Начинало темнеть, и княгиня велела открыть окно, выходившее в сад.
— Мне нехорошо от запаха этих роз, дети мои.
И она указала на стоявшие на столах вазы с цветами. Когда открыли окно, в комнату ворвался легкий ветерок, ароматный, благоуханный и нежный, вестник весны. Незримые крылья его разметали локоны на юных головках, глядевших на меня из глубины комнаты и мне улыбавшихся. Белокурые, золотистые светящиеся локоны, очаровательные головки! Сколько раз вы являлись мне в грешных снах моих! И вы были красивее, чем головки крылатых ангелов, которые в блаженных видениях нисходят к отшельникам, живущим праведной жизнью!
Княгиня легла спать рано, сразу после того как прочли молитвы. В зале, погрузившемся в полумрак, тихо разговаривали старые дамы, которые вот уже двадцать лет неизменно принимали участие в тертулиях во дворце Гаэтани. В комнате становилось душно; стеклянные двери, выходившие в сад, были распахнуты.
Две дочери княгини, Мария-Соледад и Мария-дель-Кармен, принимали посетительниц. Разговор был тягуч и томительно праведен. По счастью, когда на церковных часах пробило девять, почтенные синьоры поднялись с мест. Мария-дель-Кармен и Мария-Соледад пошли проводить их. Я остался один в огромной зале и, не зная, как убить время, спустился в сад.
Была весенняя ночь, тихая и благоуханная. Ветер нежно шелестел ветвями деревьев. Луна на мгновение озарила таинственную густую тень. Слышно было, как по саду пронесся какой-то трепет, потом все смолкло и воцарился зовущий к любви покой, которым осенены такие вот безмятежные ночи. В иссиня-черном небе дрожали звезды, и казалось, что в саду в этот час еще тише, чем там, на небе. Издали доносился вечно тревожный и таинственный рокот моря. Сонные волны светились на бегу, захлестывая дельфинов, и треугольный парус маячил на горизонте, озаренный бледным светом луны.
Я пошел по аллее, обсаженной цветущими розами. Над кустами блестели светлячки, в воздухе струился аромат, и малейшего дуновения было достаточно, чтобы лепестки увядших цветов во множестве осыпались на землю. Я ощутил ту смутную и романтическую грусть, которая околдовывает влюбленных, окрашивая чувства их великим трагизмом древних легенд.
Я считал рану сердца своего неизлечимой и думал, что только какая-нибудь роковая развязка может решить мою участь. Как истый вертерианец, мечтал я превзойти всех влюбленных на свете, которые прославились верностью своей и жестокой судьбой и чей скорбный, омытый слезами образ воскресал потом не раз в песнях народа. На мое несчастье, я никогда не мог превзойти их, ибо все мои юношеские увлечения были только слегка овеяны ароматом этой романтики.
Сладостные и скоротечные безумства, вы длились всего лишь часы, но ведь именно потому — я в этом уверен — всю жизнь я улыбался вам и по вас вздыхал!
Внезапно мысли мои рассеялись. На старых часах собора пробило двенадцать, и каждый удар отдавался в безмолвии сада величественно и звучно.
Я вернулся в залу, где уже потушили огни. На оконных стеклах трепетал лунный луч, а в глубине комнаты светился циферблат часов, которые в это мгновение тоже били двенадцать своим нежным, серебряным боем. Я остановился в дверях, чтобы освоиться с темнотой, и мало-помалу глаза мои начали различать неясные очертания предметов. На стоявшем на возвышении диване сидела женщина. Я разглядел только ее белые руки. Все остальное тонуло во тьме. Я решил подойти поближе и вдруг увидел, что она бесшумно поднялась с места и столь же бесшумно исчезла. Я мог бы, вероятно, подумать, что все это только мне привиделось, если бы вдруг до слуха моего не донеслось сдавленное рыдание. Возле дивана лежал пахнувший розами мокрый от слез платок. Я с жаром поцеловал его. Я уже не сомневался в том, что видением моим была Мария-Росарио.
Всю ночь я протомился без сна. Я дождался, когда в окнах спальни стала брезжить заря. Уснул я только под звон колокольчика, который радостно сзывал на утреннюю молитву. Проснулся я, когда было уже совсем поздно, и с чувством великой благодарности узнал, как княгиня Гаэтани заботится о спасении моей души. Благородная синьора была огорчена тем, что я лишил себя счастья присутствовать на ранней мессе.
Наступил вечер, и снова явились обе седые дамы, шурша своими черными шелковыми платьями. Княгиня поднялась и поздоровалась с ними голосом любезным и совсем слабым:
— Где вы были?
— Мы обегали всю Лигурию!
— Как, вы?..
Увидав испуганное лицо княгини, обе дамы с улыбкою посмотрели друг на друга:
— Расскажи ты, Антонина.
— Расскажи ты, Лоренчина.
И обе принялись рассказывать наперебой. Они слушали проповедь в соборе. Они отправились в монастырь кармелиток, чтобы осведомиться о здоровье матери настоятельницы, которая болеет. Они помолились перед святыми дарами. Тут княгиня остановила их:
— А как себя чувствует мать настоятельница?
— До сих пор еще не выходит из кельи.
— Кого же вы там видели?
— Мать наставницу. Бедняжка такая добрая, такая любящая! Ты не можешь себе представить, сколько она расспрашивала нас о тебе и твоих дочерях. Показывала нам рясу для Марии-Росарио. Пришлет на примерку. Сама ее шила. Говорит, что эта уже последняя: она почти совсем ослепла.
Княгиня вздохнула:
— А я и не знала, что она ослепла.
— Еще не ослепла, но глаза у нее совсем стали слабые.
— Но ведь не так уж ей много лет.
Едва найдя в себе силы договорить, усталым движением княгиня снова поднесла руки ко лбу. Потом она взглянула на двери, где появилась изможденная фигура синьора Полонио. Остановившись на пороге, мажордом отвесил низкий поклон:
— Вы разрешите, ваша светлость?
— Говори, Полонио. Что случилось?
— Пришел ризничий из монастыря кармелиток с рясой для синьориты.
— А она это знает?
— Она уже примеряет.
Услыхав это, другие дочери княгини, которые, усевшись в круг, вышивали мантию святой Маргариты Лигурийской, едва слышно обменялись несколькими словами и вышли из комнаты, весело перешептываясь, похожие на девственниц с картины Сандро Боттичелли.{12} Княгиня посмотрела им вслед — на лице ее появилась материнская гордость. Потом она знаком приказала мажордому уйти, но тот вместо этого подошел ближе и тихо сказал:
— Я уже последние фигуры Крестного пути{13} отделал. Сегодня начинаются процессии страстной недели.
— Ты что же, думал, я этого не знаю? — с презрительным высокомерием сказала княгиня.
Мажордом, казалось, был поражен:
— Что вы, ваша светлость!
— Но раз так…
— Когда мы стали говорить о религиозных процессиях, ризничий обители кармелиток сказал, что те процессии, которые обычно устраивает ее светлость княгиня, в этом году могут не состояться.
— Почему?
— По случаю кончины монсиньора и траура в доме.
— Это не имеет отношения к религии, Полонио.
При этих словах княгиня нашла нужным вздохнуть. Мажордом поклонился:
— Разумеется, ваша светлость, разумеется. Ризничий именно это и говорил, когда увидел мою работу. Ваша светлость уже знает… Крестный путь… Я надеюсь, что госпожа княгиня соблаговолит посмотреть.
Мажордом остановился, церемонно улыбаясь.
Княгиня кивнула головой в знак согласия и тут же, повернувшись ко мне, с легкой иронией сказала:
— Ты, может быть, не знаешь, что мой мажордом — большой художник.
Старик поклонился:
— Художник! В нашу эпоху художников нет. Художники были только в давние времена.
Со свойственной моему возрасту бесцеремонностью я вмешался в их разговор:
— Ну а вы-то в каком веке живете, синьор Полонио?
— Вы правы, ваша светлость, — улыбаясь, ответил мажордом, — по правде говоря, я не могу утверждать, что это мой век.
— Ну да, вы принадлежите к временам более классическим и более отдаленным. Какого же рода искусством занимаетесь вы, синьор Полонио?
— Всеми, ваша светлость! — смиренно ответствовал синьор мажордом.
— Вы истый потомок Микеланджело.
— Если я занимаюсь всеми искусствами, ваша светлость, это еще не значит, что я во всех преуспел.
Княгиня улыбнулась с той деликатной иронией, в которой одновременно сквозили и высокомерие и ласковое снисхождение к старому мажордому:
— Ксавьер, тебе надо взглянуть на его последнее произведение. Крестный путь! Это настоящее чудо!
Обе старушки по-детски восхищенно всплеснули своими высохшими руками:
— Если бы в дни молодости он надумал поехать в Рим! О!
Мажордом, растроганный, плакал:
— Синьоры! Мои благородные покровительницы!
Внезапно послышался гомон молодых голосов, которые всё приближались, и спустя несколько мгновений в зале появились все пять сестер. На Марии-Росарио была белая ряса, которую ей предстояло носить теперь до конца дней; остальные сестры толпились вокруг, глядя на нее как на святую. Завидев их, княгиня встала и побледнела еще больше. На глазах ее выступили слезы, и она напрасно старалась сдержать их. Когда Мария-Росарио подошла, чтобы поцеловать ей руку, она обняла ее и нежно прижала к груди. Она не сводила с нее глаз и не могла подавить горестного стона.
Я был до такой степени растроган, что голос мажордома доносился до меня словно сквозь сон. После того как все долго молчали, он заговорил:
— Если я заслужил эту честь… Простите меня, только это слабое творение моих грешных рук сейчас унесут отсюда. Раз вы хотите видеть его, пойдемте, времени совсем мало.
Обе дамы поднялись, громко шурша складками шелковых платьев:
— О да! Пойдемте!
Еще до того как мы вышли из комнаты, синьор Полонио приступил к своим объяснениям:
— Надо вам сказать, что фигуры Назареянина и Киринеянина{14} остались старые. Моей работы только фигуры иудеев. Я вылепил их из папье-маше. Вы знаете мою давнюю страсть делать маски. Это поистине страсть, и одна из самых пагубных. Она завлекает людей на карнавалы, а ведь это празднества сатаны. Здесь до этого никогда не носили масок, но после того как я роздал всем мои маски из папье-маше — да простит меня господь! — лигурийские карнавалы прославились на всю Италию. Пожалуйте сюда.
Мы вошли в большую залу, окна которой были закрыты. Синьор Полонио побежал открывать их, а потом вернулся, рассыпаясь в извинениях, и мы вошли.
Я остолбенел: посреди комнаты стоял постамент, а на нем — фигуры Иисуса Назареянина и четырех страшных бородатых иудеев. Обе дамы в умилении плакали.
— Подумать только, сколько господь наш выстрадал за нас!
— Да, подумать только!
Не приходилось сомневаться, что благочестивые синьоры, глядя на этих четырех иудеев, одетых как солдаты Карла II,{15} старались представить себе в воображении всю трагедию страстей Христовых. Синьор Полонио расхаживал вокруг постамента и косточками пальцев тихонько постукивал по головам четырех свирепых христоубийц:
— Все это из папье-маше! Да, синьоры, так же как и маски! Сам даже не знаю, как я до этого додумался.
Молитвенно сложив руки, дамы повторяли:
— Какое вдохновение!
— Вдохновение свыше!
Синьор Полонио улыбнулся:
— Никто, ни один человек не верил, что я смогу воплотить эту идею… Надо мной смеялись. Теперь, наоборот, все стали моими доброжелателями. И я им прощаю насмешки! Целый год я вынашивал этот замысел!
Слыша это, обе синьоры только повторяли:
— Вдохновение!
— Вдохновение!
Иисус Назареянин с растрепанными волосами, мертвенно-бледный, окровавленный, согнувшийся под тяжестью креста, пронзал нас своим угасающим кротким взглядом. Его окружали четверо свирепых иудеев, одетых в красные одежды. Шедший впереди трубил в трубу, двое других, следовавшие за ним по правую и левую руку, несли каждый по бичу, а шедший позади показывал народу приговор Пилата. В руках у него был свиток нот, и мажордом предусмотрительно пояснил нам, что во времена язычества почерки были хуже, чем в наши дни, и люди писали каракулями, очень похожими на наши нотные знаки. Обернувшись ко мне, он с важным видом настоящего ученого продолжал:
— Мавры и евреи, те и сейчас пишут так же. Не правда ли, ваша светлость?
В то время как синьор Полонио произносил эти ученые речи, явился ризничий в сопровождении четверых прихожан, которые должны были отнести знаменитый Крестный путь в церковь капуцинов. Синьор Полонио накрыл свои фигуры покрывалом и помог поднять их. Потом он проводил всю компанию до самых дверей:
— Осторожно! Не ударьте об стену… Осторожно!
Он вытер слезы и открыл окно, чтобы видеть, как понесут его творение. Очутившись на улице, ризничий прежде всего посмотрел на небо — оно было сплошь затянуто тучами. Потом он возглавил шествие. Помощники его почти бежали. Завернутые в красное покрывало фигуры подпрыгивали у них на плечах. Синьор Полонио обернулся к нам:
— Скажите откровенно — как вам понравилось?
Обе синьоры, как всегда, держались одного мнения:
— Назидательно!
— Назидательно!
Синьор Полонио блаженно улыбнулся. Это была улыбка влюбленного в муз ученого мужа. Подойдя к окну, он высунул руку, чтобы узнать, не идет ли дождь.
В тот вечер дочери княгини собрались на террасе при лунном свете, похожие на сказочных фей. Они окружили там одну из своих юных подруг, очень красивую девушку, которая время от времени поглядывала на меня с любопытством. В зале негромко разговаривали старушки; они улыбались, слыша девические голоса, доносившиеся к ним при каждом дуновении ветерка вместе с ароматами лилий, окружавших террасу.
Из залы виден был притихший сад, озаренный сиянием луны, которое обволакивало белой пеленою высокие верхушки кипарисов и балкон, где прогуливался королевский павлин, распустивший веером свой причудливый пестрый хвост.
Несколько раз пытался я подойти ближе к Марии-Росарио. Все было напрасно. Она угадывала мои намерения и осторожно, бесшумно удалялась, опустив глаза и скрестив руки на монашеской рясе, которая все еще была на ней. Я заметил, что она очень боится меня; мое донжуанское самолюбие было польщено, и несколько раз, только для того, чтобы смутить ее, я переходил из одного конца комнаты в другой. Бедная девушка старалась сию же минуту скрыться. Тогда я как ни в чем не бывало проходил дальше, сделав вид, что не замечаю ее. Мой юношеский, двадцатилетний задор подстегивал меня. Время от времени я заходил в залу и усаживался возле старых дам, принимавших знаки внимания, которые я им оказывал, с застенчивостью молодых девушек. Помнится, я разговаривал с благочестивой маркизой де Тескара, когда, движимый каким-то смутным предчувствием, вдруг повернул голову и стал искать глазами белую фигуру Марии-Росарио. Но праведницы уже не было.
Душу мою заволокла печаль. Я покинул старуху маркизу и вышел на террасу. Долгое время, опершись на увитую зеленью каменную балюстраду, я старался вглядеться в сад. В благоуханной тишине распевал соловей, и голос его, казалось, звучал в унисон с журчанием фонтанов. Отблеск луны освещал обсаженную розовыми кустами аллею, по которой я шел накануне вечером. Нежный, ласкающий ветерок, словно созданный для того, чтобы пробуждать вздохи любви, чуть слышно шелестел и, уносясь вдаль, там, среди недвижных мирт, слегка колыхал поверхность пруда. В памяти моей снова всплыло лицо Марии-Росарио, и я непрерывно думал о ней:
«Что она чувствует?.. Любит она меня или нет?»
Не спеша спустился я к пруду. Лягушки попрыгали в воду, на миг замутив ее хрустальную гладь. На берегу была каменная скамейка — я сел на нее. И ночь и луна располагали к мечтам, и я погрузился в созерцание, которое было близко к экстазу.
Смутные образы прежних лет и прежней влюбленности всплывали в памяти. Прошлое воскресало, овеянное неизбывной грустью и великим раскаянием. Юность моя казалась мне морем одиночества и душевных терзаний, погруженным в вечную тьму. Душа моя томилась в этом безлюдном саду, и одна и та же мысль возвращалась, словно мотив какой-то далекой песни:
«Что она чувствует?.. Любит она меня или нет?..»
Белые перистые облака бродили вокруг луны и, казалось, устремлялись вслед за нею в ее странный и таинственный путь. Подгоняемые неведомым ветром, они совсем заволокли ее, и сад погрузился во мрак. Вода, блестевшая в просветах неподвижных мирт, померкла. Только верхушки кипарисов по-прежнему были освещены. И, словно сопутствуя наступившему мраку, поднялся вдруг ветер, огласивший шелестом веток всю эту тишину вокруг. До меня донесся запах увядших роз. Медленно пошел я назад во дворец. Глаза мои привлекло одно из окон, которое было освещено, и от какого-то смутного предчувствия сердце мое забилось. Окно это, расположенное совсем невысоко над террасой, оставалось открытым, и занавески колыхались от ветра. Мне показалось, что в глубине комнаты промелькнула бледная тень. Я хотел подойти поближе, но шум шагов на кипарисовой аллее меня удержал: старый мажордом прогуливался при свете луны, погруженный в свои мечты художника. Я замер, недвижимый, в глухом углу сада, и, в то время как я смотрел на эту полосу света, сердце мое разрывалось:
«Что она чувствует? Любит она меня или нет?..»
Бедная Мария-Росарио! Я был убежден, что она влюблена, и вместе с тем сердцем моим овладело какое-то странное и тревожное предчувствие. Мне хотелось вновь погрузиться в мечты о любви, но крик жабы, монотонно повторявшийся под сводами кипарисов, отвлекал меня и перебивал мои мысли. Помню, мальчиком я много раз читал в молитвеннике, по которому молилась бабушка, что дьявол принимал образ жабы, чтобы смутить праведника монаха. Со мной легко могло произойти то же самое. Оклеветанный, не понятый людьми, я всегда ведь был не чем иным, как галантным мистиком вроде Хуана де ла Круса.{16}
В мои самые цветущие годы я охотно отдал бы всю мирскую славу за то, чтобы иметь право написать на визитной карточке: «Маркиз де Брадомин, духовник княгинь».
Кто из нас не грешил, охваченный страстью? Я убежден, что дьявол всегда искушает самых праведных. В ту ночь рогатый князь тьмы пламенным дыханием своим разжег мне кровь и разбудил немощную плоть мою, начав хлестать ее своим черным хвостом. Я уже шел по террасе, как вдруг стремительный порыв ветра приподнял колыхавшуюся занавеску окна, и смертным глазам моим в глубине комнаты предстала бледная тень — тень Марии-Росарио. Я бессилен описать, что произошло со мною тогда, Должно быть, сначала это был горячий порыв страсти, а вслед за тем толчок, холодный, жестокий — та смелость, что проступает в губах и глазах божественного Чезаре Борджа на портрете его, который написал божественный Рафаэль.{17} Я вернулся и стал оглядываться кругом. С минуту я прислушивался: в дворцовом саду не шелохнулся ни один лист. Я осторожно подкрался к окну и впрыгнул в него. Девушка вскрикнула. Она беззвучно упала лицом вниз, точно подкошенный ветром цветок, и осталась простертой на полу без чувств. В памяти моей поныне дрожат ее бледные холодные руки — руки прозрачные, как облатка причастия.
Увидав, что она лишилась чувств, я поднял ее и положил на кровать, походившую на алтарь из белого полотна и гофрированных кружев. Потом не без тайного страха погасил лампу. Комната погрузилась во мрак, и я стал пробираться ощупью, вытянув вперед руки. Я уже коснулся края ее кровати и видел ее белую монашескую одежду, как вдруг на террасе послышался шум шагов. Кровь у меня похолодела, я застыл на месте. Чьи-то невидимые руки приподняли колыхавшуюся занавеску, и луна озарила комнату. Шаги стихли. В освещенной амбразуре окна показалась чья-то тень. Она нагнулась, разглядывая внутренность комнаты; а потом снова выпрямилась. Занавеску задернули, и я снова услышал шум шагов, которые на этот раз удалялись. Меня не заметили. Неподвижный, оцепеневший, я стоял, задыхаясь от волнения. Время от времени занавеска вздрагивала. Луч луны освещал тогда комнату, и глаза мои с великой нежностью и страхом обращались к девической кровати и невинному существу, лежавшему в ней, словно статуя какого-нибудь надгробия.
Я испугался и на цыпочках вернулся к окну. Слышно было, как под сводами кипарисов кричит жаба, и казалось, что она безраздельно властвует в этом саду, сыром и тенистом, полном ночных шорохов и погруженном во мрак. Я выскочил из окна, как вор, и, крадучись, пошел по террасе вдоль самой стены. Неожиданно послышался шум шагов; казалось, кто-то идет за мной по пятам. Остановившись, я оглянулся, но все вокруг тонуло в огромной тени, которую дворец бросал на террасу и сад, и я ничего не увидел. Я пошел дальше, но не успел сделать и нескольких шагов, как ощутил на шее своей чье-то прерывистое дыхание. В тот же миг клинок кинжала распорол мне плечо. Мгновенно обернувшись, я увидал человека, убегавшего прочь и скрывшегося в глубине сада. Я узнал его с изумлением, можно даже сказать — со страхом, в ту минуту, когда он перебегал озаренный луною газон, и не стал его догонять, чтобы не поднимать шума. Но от сознания того, что я оставил его безнаказанным, когда проучить его было совершенно необходимо, мне стало еще больнее, чем от самой раны. Входя во дворец, я ощущал струившуюся у меня по телу теплую кровь. Слуга мой Мусарело, спавший в прихожей, разбуженный моим приходом, зажег свечи канделябра, после чего он вытянулся передо мной по-военному:
— Что прикажете, синьор капитан?
— Подойди ко мне, Мусарело.
Мне пришлось прислониться к двери, чтобы не упасть. Мусарело был старым солдатом, находившимся у меня в услужении с того самого дня, как я вступил в папскую гвардию. Тихо и спокойно я сказал:
— Меня ранили.
Он испуганно посмотрел на меня:
— Куда, синьор?
— В плечо.
Мусарело всплеснул руками и, как истый фанатик, вскричал:
— Верно, из-за угла!
Я улыбнулся: Мусарело не допускал мысли, чтобы кто-то мог ранить меня в поединке.
— Да, из-за угла. Перевяжи меня, и пусть никто об этом не знает.
Солдат стал расстегивать мое одеяние. Когда он увидел рану, я почувствовал, что руки его задрожали:
— Смотри не упади в обморок, Мусарело.
— Не беспокойтесь, капитан.
И пока он перевязывал меня, он все время повторял:
— Разыщем мы этого негодяя.
Нет, разыскать его было невозможно. Негодяй находился под покровительством княгини и, может быть, в эту минуту докладывал ей о подвиге, который он совершил, вооружившись кинжалом. Мучимый этой мыслью, я провел лихорадочную, тревожную ночь. Я хотел угадать, что будет, и терялся в догадках.
До сих пор помню, что, когда я снова предстал перед княгинею Гаэтани, сердце у меня билось, как у провинившегося мальчишки.
Подойдя к дверям библиотеки, где было темно и, как мне показалось, никого не было, я вдруг услыхал голос княгини Гаэтани:
— Какая наглость! Какая наглость!
С этой минуты я окончательно убедился, что досточтимая синьора все знает, и, странное дело, вместе с сомнениями рассеялся и страх. Улыбаясь и разглаживая усы, вошел я в библиотеку:
— Мне послышался ваш голос, и я не хотел пройти, не поздоровавшись с вами, княгиня.
Княгиня Гаэтани была бледна как смерть:
— Благодарю тебя.
За креслом, в котором сидела княгиня, в погруженном в полумрак помещении библиотеки стоял мажордом, и я догадался, что он бросает на меня пронзительные взгляды. Княгиня склонилась над книгой и начала ее перелистывать. Над всей этой огромной комнатой реяла тишина, словно зловещая летучая мышь, выдающая свое присутствие лишь холодком, который поднимают в воздухе ее крылья. Я понимал, что благородная синьора решила уничтожить меня своим презрением, и остановился посреди комнаты. Время от времени меня охватывал порыв гордости, но на дрожащих губах моих играла улыбка. Сумев справиться со своей обидой, я подошел к княгине, галантный и развязный:
— Вам худо, синьора?
— Нет.
Княгиня продолжала перелистывать книгу, и в комнате снова воцарилась тишина. Наконец она скорбно вздохнула и, поднявшись, сказала:
— Пойдем, Полонио.
Мажордом посмотрел на меня искоса; взгляд этот напомнил мне старого Банделоне, который в труппе Лодовико Страцы играл роль предателя.
— Слушаю вас, ваша светлость.
И княгиня, даже не взглянув на меня, прошла из одного конца библиотеки в другой. Мажордом последовал за нею. Почувствовав себя оскорбленным, но совладав с собой, я сказал:
— Разрешите мне рассказать вам, княгиня, как меня ранили этой ночью.
В голосе моем, который дрожал от волнения, появилась какая-то кошачья вкрадчивость, видимо испугавшая княгиню. Я заметил, как она побледнела и, остановившись, взглянула на мажордома.
— Ты говоришь, тебя ранили? — пробормотала она холодно и глухо, едва шевеля губами.
Взгляд ее впился в меня, и я ощутил ненависть в ее глазах, круглых и переливающихся, как глаза змеи. На мгновение я даже подумал, что она сейчас позовет слуг и прикажет им выгнать меня вон из дворца. Но оскорбить меня на глазах у всех она не решалась. Исполненная презрения, она пошла к дверям и лишь у порога остановилась и медленным движением повернулась ко мне:
— Ах, да! Я так и не получила письма с разрешением для тебя оставаться в Лигурии.
— Надо, чтобы написали еще раз в Рим, — ответил я с улыбкой, не сводя с нее глаз.
— Кто же будет писать?
— Тот, кто писал первое письмо, — Мария-Росарио.
Княгиня не ожидала от меня такой дерзости — она вздрогнула. Моя юношеская запальчивость, моя неистовая страсть вложили в эти слова поистине сатанинское ехидство. Глаза княгини наполнились слезами, и, так как глаза эти были еще хороши, моим сердцем странствующего рыцаря овладело раскаяние. По счастью, слезы эти не успели скатиться вниз и только слегка замутили ее прозрачные, светлые глаза. У княгини было сердце светской дамы — она умела побеждать страх. Губы ее, привыкшие улыбаться, собрались в складки, глаза глядели на меня с учтивым безразличием, и все лицо ее стало торжественным, спокойным и ясным, как у деревенских статуй святых, которые благосклонно взирают на верующих. Остановившись на пороге, она спросила:
— А где же это тебя ранили?
— В саду, синьора.
Продолжая стоять на пороге, княгиня выслушала историю, которую мне хотелось ей рассказать. Она слушала, ничем не выражая своего изумления, даже не шевельнув губами, не сделав ни одного лишнего движения. Этой немотой своей она хотела сломить мою дерзость. Я разгадал ее намерение, и мне захотелось говорить без умолку, чтобы испытывать это ее молчание. Договорив все до конца, я низко ей поклонился, но у меня не хватило смелости поцеловать ей руку.
— До свидания, княгиня! Дайте мне знать, если прибудет письмо из Рима.
Полонио незаметно делал рукою рожки.{18} Княгиня продолжала молчать. Я прошел сквозь безмолвную библиотеку и вышел. Оставшись один, я стал думать, уезжать мне или нет из дворца Гаэтани. И я решил остаться. Мне захотелось показать княгине, что когда другие приходят в отчаяние, я умею улыбаться и что там, где всякий на моем месте был бы унижен, я чувствую себя победителем. Моей самой высокою добродетелью всегда была гордость!
Весь следующий день я провел у себя в комнате. Я чувствовал себя усталым, как после долгого путешествия; мне казалось, что под веками у меня песок, что это лихорадка и что мысли мои свились в клубок и уснули во мне, как змеи. По временам они пробуждались и бежали, быстрые, молчаливые, смутные. То были уже не прежние мои мысли о гордости и победе, которые летали, как орлы, выпустив когти. Теперь воля моя ослабла, я чувствовал себя побежденным и хотел только одного — покинуть дворец. Я был всем этим совершенно подавлен, когда вдруг вошел Мусарело:
— Синьор капитан, тут отец капуцин с вами говорить желает.
— Скажи ему, что я нездоров.
— Сказал уже, ваша светлость.
— Скажи, что я умер.
— Сказал уже, ваша светлость.
Я посмотрел на Мусарело, стоявшего передо мной с невозмутимым и до смешного нелепым выражением лица:
— Ну так чего ж все-таки он хочет, этот отец капуцин?
— Прочесть над вами молитвы, ваша светлость.
Я хотел было ответить, но в эту минуту чьи-то руки приподняли роскошную драпировку малинового бархата:
— Простите, что я беспокою вас, юный кабальеро.
В дверях стоял старик с длинной бородой, одетый в рясу капуцина. Его почтенный вид располагал к себе и внушал уважение.
— Войдите, преподобный отец.
Поднявшись ему навстречу, я указал на кресло. Капуцин отказался сесть, и из-под его серебряной бороды засияла смиренная улыбка святых угодников.
— Простите, что я вас побеспокоил, — снова сказал он. И замолчал, ожидая, пока Мусарело выйдет из комнаты, а потом продолжал: — Юный кабальеро, запомните то, что я вам сейчас скажу, и да хранит вас небо от того, чтобы пренебречь моим советом. Это может стоить вам жизни. Обещайте мне, что, выслушав меня, вы не захотите узнать больше, чем я вам сообщу, ибо я все равно не смогу ответить на ваши вопросы. Вы поймете, что этой тайны требует мое положение священника, а каждый христианин обязан его уважать. Вы ведь христианин!
Я низко поклонился;
— Я великий грешник, преподобный отец.
Лицо капуцина снова озарилось снисходительною улыбкой:
— Все мы грешники, сын мой.
Сказав это, он приложил руки ко лбу и несколько мгновений, казалось, о чем-то думал. Его глубоко запавшие глаза едва просвечивали из-под бескровных, желтоватых век. Помолчав немного, он продолжал:
— Слова мои и веру нельзя заподозрить ни в чем дурном, ибо явился я к вам без всякой корысти. Руководит мною только неодолимое божественное наитие, и я не сомневаюсь, что это ваш ангел-хранитель, не будучи в состоянии дать вам знать об этом иным путем, воспользовался моим посредничеством, чтобы спасти вам жизнь. Теперь скажите мне, убедили ли вас мои слова и могу ли я дать вам совет, который храню в своем сердце.
— Не сомневайтесь в этом, преподобный отец! Слова ваши заставили меня испытать чувство, похожее на ужас. Клянусь вам, что последую вашему совету, если исполнение его не заставит меня нарушить мою честь кабальеро.
— Хорошо, сын мой. Что бы ни случилось, вы, я надеюсь, не станете никому рассказывать все, что услышите от бедного капуцина.
— Клянусь вам в этом моей христианской верой, преподобный отец. Только говорите, прошу вас.
— Сегодня, как только стемнеет, выходите через садовую калитку, спускайтесь вниз и идите потом вдоль ограды. Вы увидите глинобитный домик и бычий череп на крыше. Постучите. Вам откроет старуха. Вы скажете ей, что вам с ней надо поговорить. Только после этого она впустит вас в дом. Очень может быть, что она даже не спросит, кто вы такой, но, если спросит, назовите ей какое-нибудь вымышленное имя. Когда войдете внутрь, попросите ее выслушать вас и потребуйте, чтобы она сохранила в тайне все, что вы ей скажете. Она бедна, и поэтому вы должны быть с нею щедры, тогда она захочет вам услужить. Вы увидите, что она сразу же закроет за вами двери, чтобы вы могли говорить без страха. Тогда вы дадите ей понять, что хотите получить от нее перстень и все, что ей было передано с ним вместе. Не забудьте: кольцо и все, что ей передано с ним вместе. Если она будет отказываться, пригрозите ей, только не поднимайте шума и не доводите ее до того, чтобы она стала звать на помощь. Постарайтесь убедить ее, предложите ей денег вдвое больше той суммы, которую ей предлагали, чтобы вас погубить. Я уверен, что в конце концов она согласится сделать все, чего вы от нее требуете, и что все это вам обойдется не слишком дорого. Но если даже уговорить ее окажется не так просто, помните, что жизнь ваша должна быть для вас дороже всего золота Перу. Не спрашивайте меня больше ни о чем, ибо больше я ничего не могу вам сказать. Теперь, прежде чем я покину вас, поклянитесь, что вы сделаете все, как я вам сказал.
— Да, преподобный отец, я последую велению ангела, пославшего вас.
— Да будет так!
Капуцин сотворил крестное знамение, а я, наклонив голову, принял его благословение. Должен признаться, что, когда он ушел, мне было не до смеха, С крайним изумлением, почти со страхом я заметил, что на руке моей не было перстня, который я носил уже давно и которым пользовался всегда как печаткой. Я никак не мог вспомнить, где я его потерял.
Это был старинный перстень с аметистом, на котором был выгравирован герб, и принадлежал он моему деду, маркизу де Брадомину.
Я спустился в сад. В голубоватых сумерках порхали ласточки. Тропинки среди вековых миртов, густых и безмолвных, казались какими-то идеальными стезями, созданными для созерцания и забвения. Воздух был полон ароматов, которые струили разные травы, скромные и сокрытые от глаз, словно добродетели. До слуха моего донеслось неумолчное журчание фонтанов, погребенных среди вечной зелени миртов, лавров, самшита. Казалось, весь этот безлюдный сад охвачен таинственной дрожью. Какая-то смутная тяжесть легла мне на сердце. Я шел под кипарисами, верхушки которых роняли на землю покровы тени. Вдалеке, словно сквозь длинный ряд портиков, я увидел Марию-Росарио: она сидела возле родника и читала. Я устремился вперед, не отрывая глаз от сладостного видения. Услышав мои шаги, девушка вскинула голову, Щеки ее зарделись, и она тут же снова склонилась над книгой. Я остановился, ибо ждал, что она убежит от меня, и не находил тех нежных слов, которые были бы под стать ее чистой красоте, делавшей ее похожей на белую лилию. Увидав ее возле родника, среди этих старых самшита, с открытой книгою на коленях, я догадался, что мое вчерашнее появление в ее спальне она приняла за сон. Спустя мгновение она снова подняла голову и, моргая, бросила на меня беглый взгляд.
— Что это вы читаете в таком уединенном месте? — спросил я.
Она застенчиво улыбнулась:
— Житие праведницы Марии.
Я взял книгу из ее рук. Краска снова залила ей щеки.
— Смотрите не выроните засушенные цветы, которые я вложила между страницами, — сказала она.
— Не бойтесь.
С чувством благоговения раскрыл я книгу, вдыхая тонкий аромат засушенных цветов, который казался мне ароматом святости. Тихим голосом я прочел:
— «Таинственный град сестры Марии, прозванной Марией Агредской».
Я возвратил ей книгу, и она, не решаясь посмотреть мне в глаза, спросила:
— Вы, должно быть, знаете эту книгу?
— Да, знаю. Мой духовный отец читал ее, когда он был узником тюрьмы Пьомби в Венеции.
Несколько смутившись, Мария-Росарио пробормотала:
— Ваш духовный отец! А кто ваш духовный отец?
— Кавалер Казанова.{19}
— Испанский идальго?
— Нет, венецианский авантюрист.
— И авантюрист…
Я не дал ей договорить:
— В последние годы он раскаялся в жизни, которую вел.
— Он постригся в монахи?
— Не успел, хоть он и написал свою исповедь.
— Как блаженный Августин?
— Совершенно так же. Но, как человек смиренный и истый христианин, он не позволяет себе равняться с этим ученым богословом и назвал ее просто «Мемуарами».
— Вы их читали?
— Это мое любимое чтение.
— Они очень назидательны?
— О! Сколько бы вы всего из них почерпнули! Джакомо ди Казанова был большим другом одной венецианской монахини.
— Так, как святой Франциск{20} был другом святой Клары?{21}
— Другом еще более близким.
— А к какому ордену принадлежала монахиня?
— Она была кармелиткой.
— Я тоже собираюсь стать кармелиткой.
Мария-Росарио покраснела и, замолчав, устремила взгляд на поверхность воды и на свое отражение в ней. Это был запущенный, кое-где покрытый плесенью водоем. Поток воды, журчанием своим словно о чем-то моливший, пробегал под круглой площадкой, осененной сводами старых самшитов. Я наклонился и, словно разговаривая с отражением, слегка дрожавшим на поверхности воды, пробормотал:
— А вы вот уйдете в монастырь и, верно, не захотите стать мне подругой!
Мария-Росарио резким движением отшатнулась от меня:
— Замолчите! Умоляю вас, замолчите!
Она побледнела и, сложив руки, глядела на меня своими прекрасными глазами, в которых была тревога. Я был так смущен, что мог только поклониться ей, умоляя простить меня. Она простонала:
— Замолчите, иначе я не смогу сказать вам…
Она закрыла лицо руками и оставалась так несколько минут. Я видел, что она вся дрожит. Вдруг с какой-то трагической стремительностью она отняла руки от лица и надорванным голосом вскричала:
— Жизнь ваша в опасности! Уезжайте сегодня же!
И она убежала, чтобы встретить сестер, которые шли под низко склоненными миртами друг за другом, разговаривая и собирая цветы, чтобы украсить ими алтарь в часовне. Я медленно удалился. Начинало темнеть. На каменном гербе, венчавшем ворота сада, ворковали два голубя; при моем появлении они улетели. На шеях у них были яркие шелковые ленточки, должно быть повязанные пламенными руками праведницы, которые способны творить на земле одно лишь добро. Кусты левкоев цвели в расщелинах стены, ящерицы нежились на разогретых солнцем камнях, обросших сухими желтоватыми лишаями. Я отворил калитку и несколько мгновений глядел на этот сад, где было столько тени и благодатного покоя. Заходящее солнце золотило окна башни, на которой расположилась целая стая черных стрижей. В вечерней тишине слышно было только журчание фонтанов и голоса всех пяти сестер.
Пройдя вдоль садовой ограды, я очутился возле глинобитного домика с бычьим черепом на крыше. У порога сидела старуха и пряла. Вздымая клубы пыли, по дороге брело стадо овец. Увидав меня, старуха встала:
— Что вам от меня надо?
Осторожным движением она поднесла большой палец руки к сморщенным губам, послюнявила его и снова взялась за пряжу.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал я.
Увидав в руке у меня два цехина, старуха приветливо улыбнулась:
— Заходите! Заходите!
Внутри было совсем темно, и старухе пришлось ощупью отыскивать светильник. Она зажгла его и, повесив на гвоздь, повернулась ко мне:
— Так что же надобно благородному синьору?
Она улыбалась широко открытым беззубым ртом.
Я сделал ей знак закрыть дверь, и она старательно прикрыла ее, бросив сначала взгляд на дорогу, по которой, звеня колокольчиками, лениво тянулось стадо. Потом она села под светильником на табуретку, скрестив на коленях руки, похожие на связки костей, и сказала:
— Вестимое дело, вы влюблены и сами виноваты, что счастья у вас нет. Приди вы ко мне раньше, вы бы давно знали, как поступить.
Услыхав такие речи, я понял, что имею дело с колдуньей, но нисколько этому не удивился, вспомнив загадочные слова капуцина. Несколько мгновений я молчал; ожидавшая моего ответа старуха уставилась на меня своими хитрыми и подозрительными глазами.
— Знайте, вы, ведьма, — крикнул я вдруг, — что единственно, зачем я пришел сюда, — это получить перстень, который у меня украли.
Старуха выпрямилась; она переменилась в лице и сделалась страшной:
— Что вы такое говорите?
— Я пришел за моим перстнем.
— Нет у меня вашего перстня! Я вас не знаю.
Она хотела кинуться к двери и распахнуть ее, но я приставил ей к груди пистолет; старуха забилась в угол, она едва дышала. Тогда, не сходя с места, я сказал:
— Я собираюсь дать вам вдвое больше денег, чем вам обещали за ваши злые чары, и вы не только в накладе не останетесь, но еще и выгадаете, — отдайте только кольцо и все, что вам принесли вместе с ним.
Старуха поднялась с пола, все еще тяжело дыша, и снова села на табуретку под светильником, который, мерцая, то озарял пергаментную кожу ее лица и рук, то вдруг погружал всю ее во тьму. Со слезами в голосе она пробормотала:
— Пропали мои пять цехинов, но вы мне дадите вдвое больше, когда услышите… Теперь ведь я знаю, кто вы.
— Так говорите, кто я.
— Вы — испанский кабальеро, который служит в гвардии его святейшества папы.
— Вы не знаете, как меня зовут?
— Сейчас, постойте…
Она опустила голову и на мгновение замолчала, стараясь вспомнить. Я увидел, что на губах ее дрожат какие-то слова, расслышать которые я не мог.
— Вы маркиз де Брадомин, — сказала она вдруг.
Тут я решил, что настало время вытащить из кошелька обещанные десять цехинов и показать их. Расчувствовавшись, старуха заплакала:
— Ваша светлость, я никогда бы не стала вас умерщвлять, но силы бы я вас лишила.
— А как?
— Пойдемте со мной…
Она провела меня за рваную черную занавеску, которая скрывала очаг, где, дымясь, догорал огонь и пахло серой. Должен признаться, что меня охватил смутный страх перед таинственными чарами этой ведьмы, которыми она могла лишить меня моей мужской силы.
Старуха сняла светильник с гвоздя; она подняла его над головой, чтобы лучше осветить свое жилище, и глазам моим предстала дальняя половина комнаты, которую до этого я не замечал, ибо она была погружена в темноту. В этом мерцающем свете я отчетливо разглядел на черных от дыма стенах ящериц, сложенные крест-накрест кости, искрящиеся камни, гвозди:, щипцы. Старуха поставила светильник на пол и, наклонившись, стала рыться в золе:
— Вот ваш перстень.
Она старательно вытерла его подолом платья и надела мне на палец.
— Зачем вам принесли этот перстень?
— Чтобы я околдовала вас, нужен был камень, который бы вы носили на себе много лет.
— А как же его у меня украли?
— Когда вы спали, ваша светлость.
— А что вы собираетесь теперь делать?
— Я уже говорила вам… Мне велели отнять у вас всю вашу мужскую силу… Вы стали бы что новорожденное дитя.
— А как бы вы это сделали?
— А вот взгляните.
Она снова стала шевелить золу и вытащила спрятанную в ней восковую фигурку обнаженного человека. Фигурка эта, вылепить которую мог, разумеется, только мажордом, выглядела очень забавно и чем-то была на меня похожа. Я громко расхохотался.
— Теперь вот вы веселитесь, — пробурчала колдунья, — но уж хватили бы вы горя, окуни я эту фигурку в женскую кровь, как того требует моя наука. И еще больше горя было бы, если бы я ее на углях растопила.
— И это все?
— Да…
— Забирайте ваши десять цехинов и откройте мне дверь.
Старуха изумленно на меня посмотрела:
— Вы уже уходите, ваша светлость? Вы ни о чем не просите? А ведь стоит вам дать мне еще десять цехинов, и я сделаю так, что княгиня загорится любовью к вам. Не желаете, ваша светлость?
— Нет, — сухо ответил я.
Тогда старуха подняла с полу светильник и открыла дверь. Я вышел на дорогу, совершенно пустынную. Было уже совсем темно, и начинавшие падать крупные капли дождя заставили меня ускорить шаги. Дорогой я думал о почтенном капуцине, который сумел так точно все разузнать. Калитка сада оказалась запертой, мне пришлось пойти в обход и сделать порядочный крюк. Когда я проходил арку, которая вела на площадь к дворцу Гаэтани, на соборных часах пробило девять. Балконы были освещены, а из доминиканской церкви с зажженными свечами выходила процессия. Как сейчас вижу я эту процессию, многолюдную, мрачную, гудевшую, тянувшуюся под проливным дождем. Процессия эта все шла и шла — и на рассвете, и вечером, и глубокой ночью. Конгрегациям и братствам не было конца. В те времена в древнем епископальном городе страстная неделя праздновалась особенно торжественно.
В течение всего вечера княгиня ничего не сказала мне и ни разу на меня не взглянула. Боясь, что пренебрежение это может быть всеми замечено, я решил уехать. С улыбкой на губах я подошел к благородной синьоре, которая в это время была занята разговором и то и дело вздыхала. Я смело взял ее руку и крепко ее поцеловал. Я увидел, как побледнело лицо княгини, как в глазах ее загорелась ненависть; тем не менее я галантно и покорно склонил голову и попросил у нее позволения уехать.
— Ты волен поступить как тебе угодно, — холодно ответила она.
— Благодарю вас, княгиня.
Сопутствуемый глубоким молчанием, я вышел из залы. Я почувствовал себя униженным и понимал, что с этой минуты дальнейшее мое пребывание во дворце невозможно.
Всю ночь я не спал и, слушая в тишине библиотеки, как монотонно стучат по стеклу капли дождя, не мог отделаться от этой навязчивой мысли. Меня охватила мучительная, жгучая тоска, какое-то безумное недовольство собой, и этой ночью, и всем, что меня окружало. Здесь, в темной библиотеке, я почувствовал себя как в тюрьме и старался прийти в себя, чтобы со свежей головой обдумать все, что произошло со мною за этот день. Я хотел что-то решить, на что-то решиться, но мысли не слушались меня, воля моя исчезла, все усилия были тщетны.
Это были часы неописуемой муки! Порывы бешеной ярости сотрясали мне душу. Таинственные козни, замышлявшиеся против меня в полумраке этих благоуханных зал, завлекали меня куда-то в бездну, доводили до головокружения. Напрасно пытался я совладать со своим самолюбием и убедить себя, что самым гордым и самым независимым шагом было бы в ту же ночь среди всей этой бури покинуть дворец Гаэтани. Я увидел, что непривычное волнение охватило меня, и в то же время понял, что не могу справиться с ним и что все личинки, которые начали копошиться во мне, неизбежно превратиться в фурий и змей. Какое-то мрачное предчувствие говорило мне, что недуг мой неизлечим и что воля моя бессильна перед искушением совершить поступок смелый и непоправимый. Это было головокружение перед гибелью!
Невзирая на дождь, я распахнул окно. Надо было подышать свежим ночным воздухом. Небо было черно. Порыв бури пронесся у меня над головой. Несколько птичек, которым было некуда деться, приютились под скатом крыши; дрожа от холода, они отряхивали свои намокшие перья и печально чирикали. С площади доносилось пение удаляющейся процессии. Двери монастырской церкви были открыты, и в глубине сверкал освещенный алтарь. Слышен был дребезжащий старушечий голос. Молящиеся выходили из церкви и укрывались под аркой, чтобы посмотреть процессию. В глубине темной улицы, высокой и узкой, между двумя рядами зажженных свеч, покачивались носилки с изображениями святых. На площадях скопилось множество любопытных; они пели молитвы в стихах.
Барабанная дробь ударявшихся о зонты дождевых капель и хлюпанье ног по лужам контрастировали с нежным и сладостным шуршанием белых юбок, которые вились вкруг черных одежд, как в бурю вкруг ревущих темных волн вьется светлая пена. Две синьоры в хрустящих черных шелковых платьях вышли из церкви и на цыпочках перебегали через площадь, чтобы увидеть процессию из окон дворца. Накидки их развевались по ветру.
Крупные капли оставляли на камнях мостовой темные пятна. Щеки мои были мокры, и мне казалось, что это струятся слезы. Вдруг балконы осветились, и на них появились юные дочери княгини и с ними несколько дам. Когда шествие уже укрылось под сводами, хлынул настоящий ливень. Я смотрел на процессию с балкона библиотеки, и меня то и дело окатывало холодными брызгами подгоняемого ветром дождя. Первыми прошли братья Голгофы, молчаливые и с низко надвинутыми капюшонами. За ними — братья Страстей господних — в желтых сутанах, со свечами в руках. Потом несли изображение страстей: Иисус в Гефсиманском саду, Иисус перед Пилатом, Иисус перед Иродом, Иисус, привязанный к столбу. Под холодным, пепельно-серым дождем все фигуры выглядели суровыми и какими-то безнадежно мрачными. Последним несли Крестный путь. Позабыв о том, что кругом вода, дамы подползали на коленях к самой балюстраде балкона. Послышался дрожащий голос мажордома:
— Идут, идут!
Творение его действительно несли, но как оно было теперь непохоже на то, что мы видели в зале дворца! Четыре иудея потеряли под дождем всю свою гордую осанку. Их головы из папье-маше полиняли. Тела размякли, и ноги подогнулись, словно все четверо встали на колени. Казалось, они даже сожалели о том, что содеяли. Обе сестры в старинных шелковых платьях сочли это чуть ли не за чудо и благоговейно повторяли:
— Назидательно, Антонина!
— Назидательно, Лоренчина!
Дождь шел не переставая, словно посланный во искупление грехов; с соседнего балкона доносилось едва слышное поэтичное воркование голубей; их призрела одетая в траур изможденная старуха, которая молилась за стеклом, между двумя горевшими в высоких канделябрах свечами. Я стал искать глазами синьора Полонио. Он исчез.
Вскоре вслед за тем, печальный и мрачный, я сидел у себя в комнате, погруженный в свои мысли, как вдруг кто-то постучал в дверь и надтреснутый голос мажордома на мгновение вывел меня из тягостного раздумья:
— Ваша светлость, вам письмо.
— Кто его принес?
— Курьер, который только что прибыл.
Я распечатал конверт и пробежал взглядом письмо. Монсиньор Сассоферрато приказывал мне явиться в Рим. Не дочитав, я повернулся к мажордому и, с глубоким презрением посмотрев на него, сказал:
— Синьор Полонио, велите карету закладывать.
— Ваша светлость собирается уезжать? — лицемерно спросил мажордом.
— Да, сейчас.
— А княгиня об этом знает?
— Вы ей об этом скажете.
— Простите меня, ваша светлость! Но вы знаете, что ваш кучер болен. Надо будет найти другого. Если вы позволите, я позабочусь об этом и подыщу вам такого, что вы будете довольны.
Голос старика и его уклончивый взгляд показались мне подозрительными. Я решил, что доверяться ему небезопасно, и сказал:
— Я пойду сам проведаю моего кучера.
Мажордом низко мне поклонился и хотел было уйти, но я удержал его:
— Постойте, синьор Полонио…
— Слушаю вас, ваша светлость.
Кланялся он с каждым разом все почтительнее. Я впился в него глазами и молча его разглядывал. Мне показалось, что он забеспокоился. Подойдя ближе к нему, я сказал:
— Я хочу, чтобы на память о моем пребывании здесь вы приняли от меня в подарок вот этот камень.
И, улыбаясь, я вынул из кармана перстень с аметистом, на котором был выгравирован мой герб, тот самый.
Мажордом вытаращил глаза:
— Простите!
Дрожащими руками он отстранил перстень.
— Берите же, — продолжал настаивать я.
Мажордом поклонился и, все еще продолжая дрожать, принял мой подарок.
Повелительным жестом я указал ему на дверь:
— А теперь уходите.
Он дошел до порога и, остановившись, испуганно, но вместе с тем решительно пробормотал:
— Не возьму я вашего перстня.
С лакейской наглостью он швырнул его на стол. Я грозно на него посмотрел:
— Боюсь, что вам придется уходить через окно, синьор Полонио.
Он отступил назад и во весь голос закричал:
— Я знаю, чего вы добиваетесь! Чтобы отомстить мне, вы погубили иудеев, творение моих рук. Но вам этого мало, вы хотите околдовать меня этим перстнем. Я сделаю так, что об этом узнает святая инквизиция.
И он убежал от меня, крестясь, словно я был самим дьяволом.
Я не мог удержаться от смеха. Потом позвал Мусарело и велел ему узнать, чем заболел мой кучер. Но Мусарело был так пьян, что не в силах был исполнить мое поручение. И я имел случай убедиться только в одном — кучер и Мусарело ужинали вместе с синьором Полонио.
Как горестно мне вспоминать этот день! В глубине залы Мария-Росарио расставляла в вазы предназначавшиеся для часовни букеты. Когда я вошел, девушка несколько мгновений пребывала в нерешительности. Она растерянно посмотрела на дверь и тут же обернулась ко мне; в глазах ее была робкая и пламенная мольба. В эту минуту она наполняла цветами последнюю вазу. Одна из роз осыпалась у нее под руками.
Тогда я сказал, улыбнувшись:
— Даже розы умирают оттого, что целуют ваши руки!
Она тоже улыбнулась, взглянув на оставшиеся у нее в руках лепестки, и сдула их своим легким дыханием. Мы оба молчали. Был вечер, и последние отблески заката золотили окно. А в саду, под этими поблескивавшими стеклами, верхушки кипарисов задумчиво тянулись к бледному небу. В комнатах уже с трудом можно было различить очертания предметов; в опустевшей зале розы струили свой аромат, а слова затихали медленно вместе с догорающим днем. Глаза мои искали глаза Марии-Росарио; они были полны жгучего желания приковать их к себе в темноте. Девушка тяжело вздохнула, словно ей не хватало воздуха, и, смахнув обеими руками пряди волос со лба, отошла к окну. Боясь испугать ее, я не пошел за нею и только сказал:
— Вы не дадите мне розу?
Она тихо повернулась ко мне и ответила своим нежным голосом:
— Если вам этого хочется…
Какое-то мгновение я колебался, потом снова подошел к ней. Она старалась казаться спокойной, но я видел, что руки ее дрожат над вазами; она выбирала розу. Печально улыбнувшись, она сказала:
— Я хочу вам дать самую красивую.
И она все выбирала и выбирала. Я мечтательно вздохнул:
— Самая красивая — это ваши губы.
Она посмотрела на меня и отпрянула, бледная и печальная:
— Вы недобрый человек. Зачем вы мне это говорите?
— Чтобы вас рассердить.
— Значит, вам это доставляет удовольствие? Иногда мне кажется, что вы сам дьявол…
— Дьявол не умеет любить.
Она замолчала. Зала была погружена в полумрак. Лица ее мне не было видно. И, только услыхав ее сдавленное рыдание, я понял, что она плачет:
— О, простите меня!
Голос мой сделался нежным, страстным и кротким. Услыхав его, я вдруг сам ощутил, сколько в нем было соблазна.
Наступила блаженная минута, и в предчувствии ее сердце мое забилось в той тоске, какая вас охватывает, когда вы чего-то ждете и близко большое счастье. Мария-Росарио в испуге закрыла глаза, словно перед ней была бездна. Ее бескровные губы, казалось, ощущали сладостную тоску. Я взял ее застывшие в неподвижности руки. Она не сопротивлялась, рыдая в скорбном отчаянии:
— Зачем вы заставляете меня страдать и еще упиваетесь этим? Вы же знаете, что все это невозможно!
— Невозможно! Да я никогда и не надеялся на вашу любовь… Я знаю, что не заслужил ее! Единственное, чего я хочу, — это попросить у вас прощения и услышать из ваших уст, что, когда я буду далеко, вы помолитесь за меня.
— Замолчите! Замолчите!
— Вы для меня так недосягаемо высоки, мне так далеко до вас, до идеала. Я знаю, ваши молитвы — все равно что молитвы святой.
— Замолчите! Замолчите!
— Сердце мое томится без надежды. Может быть, я и смогу забыть вас, но эта любовь была для меня очистительным огнем.
— Замолчите! Замолчите!
На глазах у меня были слезы, а я знал, что, когда глаза плачут, руки могут вдруг сделаться смелее. Бедная Мария-Росарио! Она побледнела как смерть, и я уже думал, что вот-вот она потеряет сознание у меня в объятиях. Девушка эта была настоящей святой; видя, до чего я несчастен, она не могла решиться ни на какую жестокость. Она закрыла глаза и только со стоном молила:
— Уйдите! Уйдите!
— За что вы меня так ненавидите? — пролепетал я.
— За то, что вы сам дьявол!
Она глядела на меня в страхе, словно звук моего голоса разбудил ее, и, вырвавшись из моих объятий, кинулась к окну, все еще озаренному последними лучами солнца. Прижавшись лбом к стеклу, она зарыдала. В саду запел соловей, и в голубоватых сумерках пение его напоминало о праведной жизни.
Мария-Росарио окликнула самую младшую свою сестру, которая с куклой в руке только что появилась в дверях залы. Она звала ее в мучительной тревоге. Бледное лицо Марии-Росарио зарделось ярким румянцем:
— Иди сюда! Иди!
Она звала ее из амбразуры окна, протягивая к ней руки. Девочка, не двигаясь с места, показала ей куклу:
— Это мне Полонио сделал.
— Покажи.
— А разве ты отсюда не видишь?
— Нет, не вижу.
Наконец Мария-Ньевес решилась и подбежала к сестре. Волосы ее золотистым облаком раскинулись по плечам. Она была полна изящества и порхала, как птичка.
Когда она подошла, зардевшееся, заплаканное лицо Марии-Росарио озарилось улыбкой. Она наклонилась, чтобы поцеловать девочку, а та обняла ее и ласково шепнула ей на ухо:
— А платье ты моей кукле сошьешь?
— Какое платье ты хочешь?
Мария-Росарио прижала сестру к груди и стала гладить ее по голове, Я видел, как пальцы ее скрылись в детских волосах, душистых и пышных. Едва слышно я спросил ее:
— Почему вы боитесь меня?
Щеки ее горели. «Я вас не боюсь», — прочел я у нее на лице.
И эти глаза — других таких я не видел в жизни и, вероятно, уже не увижу — посмотрели на меня: в них были робость и любовь. Оба мы были взволнованны и молчали. Девочка начала рассказывать нам историю своей куклы. Звали ее Иоландой, и это была королева. После того как ей сошьют платье, на голову ей наденут корону. Мария-Ньевес болтала без умолку. Голос ее все время весело журчал. Она вспоминала, сколько у нее было кукол, и хотела рассказать историю каждой из них. Одни были королевы, другие — пастушки. Это были длинные и путаные истории, в которых неизменно повторялось одно и то же. Девочка заблудилась в этих рассказах, как три сестры — маленькие Андара, Магалона и Аладина — в заколдованном саду людоеда. Вдруг она убежала в другой конец комнаты. Мария-Росарио поднялась и стала звать ее:
— Иди сюда! Не уходи!
— Я никуда не ухожу.
Девочка бегала по зале, и ее золотистые локоны падали ей на плечи. Как два пленника, следили за нею всюду глаза Марии-Росарио. Она снова молила ее:
— Не уходи!
— Да я никуда не ухожу.
Слова девочки доносились из темного угла залы. Воспользовавшись этой минутой, Мария-Росарио едва слышно прошептала:
— Маркиз, уезжайте из Лигурии…
— Но тогда я вас больше никогда не увижу.
— А разве сегодня мы видимся не в последний раз? Завтра я ухожу в монастырь. Исполните мою просьбу, маркиз!
— Я хочу страдать здесь… Хочу, чтобы глаза мои, которые никогда не плачут, заплакали, когда вас будут одевать в монашеские одежды, когда вам обрежут волосы, когда за вами запрут железные ворота. Кто знает, быть может, когда я увижу, как вы даете обет, моя земная любовь станет любовью к богу! Вы святая!
— Маркиз, не кощунствуйте!
И она впилась в меня печальными, молящими глазами, в которых, словно капельки хрусталя, блестели слезы. Она, должно быть, уже позабыла о девочке, а та, сидя на диване, укачивала куклу и напевала старинную песенку, которую пели еще наши бабушки. В полумраке этой огромной залы, где розы струили свой аромат, песенка девочки полна была очарования старины, галантного века, который, должно быть, исчез навсегда с последними звуками менуэта.
От каждого моего взгляда Мария-Росарио дрожала, как ветка мимозы. Я угадывал по ее губам, что она сгорает от желания что-то сказать мне и в то же время меня боится.
Вдруг она взглянула на меня тревожным взглядом, мигая словно спросонок. Протянув ко мне руки, она прошептала взволнованно, почти гневно:
— Сегодня же уезжайте в Рим. Вам грозит опасность, вы должны защитить себя. На вас донесли в святую инквизицию.
— Донесли в святую инквизицию? — повторил я с нескрываемым удивлением.
— Да, вас обвиняют в колдовстве. Вы потеряли перстень и с помощью дьявольских чар вернули его. Так говорят, маркиз.
— И говорит это ваша мать? — воскликнул я с усмешкой.
— Нет, не она!
Я печально улыбнулся:
— Ваша мать, которая меня ненавидит, потому что вы меня любите!
— Неправда! Неправда!
— Бедная девочка, сердце ваше трепещет за меня. Оно предчувствует опасность, которая мне грозит, и хочет предотвратить ее.
— Замолчите, пожалейте меня! Не обвиняйте ни в чем мою мать.
— А разве жестокость ее не дошла до того, что она решилась обвинить даже вас? Разве она поверила вашим словам, когда вы поклялись ей, что не видели меня ночью?
— Да, поверила!
Мария-Росарио перестала дрожать. Она поднялась, уверенная в своей правоте, как истая героиня, как святая перед зверями Колизея. Я продолжал настаивать, не изменяя тона, испытывая в эту минуту наслаждение палача, скорбное и сладостное:
— Нет, она вам не поверила. Вы это знаете! А сколько слез глаза ваши пролили в темноте!
Мария-Росарио ушла в амбразуру окна:
— Вы в самом деле колдун! Это правда! Вы колдун!..
Потом, придя немного в себя, она хотела убежать, но я удержал ее:
— Выслушайте меня.
Она посмотрела на меня испуганными глазами и осенила себя крестным знамением:
— Вы колдун!.. Умоляю вас, оставьте меня!
— Так, значит, и вы меня обвиняете, — прошептал я в отчаянии.
— Скажите тогда, как вы могли узнать?
Я долго глядел на нее в молчании, пока не почувствовал, что на дух мой снизошло пророческое наитие:
— Узнал, потому что вы долго молились об этом. Мне все это явилось во сне!
Мария-Росарио тяжело дышала. Она снова хотела убежать, и я снова ее удержал. Измученная и покорная, она только посмотрела в угол залы и позвала девочку:
— Иди сюда, милая! Иди!
И она раскрыла объятия. Девочка подбежала к ней. Мария-Росарио подняла ее и прижала к груди, но так ослабела, что не могла удержать ее на руках; тогда, тяжело вздохнув, она посадила ее на подоконник. Лучи заходящего солнца ложились вокруг детской головки, как нимб. Душистые шелковистые локоны волнами света рассыпались по плечам девочки. Я стал искать в темноте руку Марии-Росарио:
— Исцелите меня!
— Как? — прошептала она, отстраняясь от меня.
— Поклянитесь, что вы меня ненавидите!
— Не могу.
— А любить меня?
— Тоже нет. Любовь моя не принадлежит этому миру.
Когда она произнесла эти слова, голос ее был так печален, что меня охватило сладостное волнение — словно эти непорочные слезы проступили на сердце моем росою. Наклонившись, чтобы вобрать в себя ее дыхание и аромат ее тела, я прошептал голосом тихим и страстным:
— Вы принадлежите мне. Всюду, даже в монастырскую келью, за вами последует моя мирская любовь. Зная, что я буду жить в ваших воспоминаниях и в ваших молитвах, я умру счастливым.
— Молчите! Молчите!
Мария-Росарио, бледная как смерть, дрожащими руками потянулась к девочке, сидевшей на подоконнике. Освещенная отблесками последних лучей, малютка была похожа на архангела со старинных витражей. При воспоминании об этой минуте меня и сейчас бросает в холодный пот. Наступила та тишина, которая предшествует катастрофе, предрешенной неведомо где и неотвратимой. К ужасу нашему, окно распахнулось. Фигура девочки какое-то мгновение была еще видна на фоне вечернего неба с его едва мерцавшими звездами, и вдруг, когда сестра уже кинулась к ней и готова была подхватить ее, — Мария-Ньвес упала в сад.
— Дьявол!.. Дьявол!.. — В ушах у меня все еще звучит крик Марии-Росарио. Прошло уже столько лет, а я все еще вижу ее, божественную и скорбную, как мраморная статуя. До сих пор ощущаю я ужас этого голоса: «Дьявол!.. Дьявол!..»
Девочка лежала недвижная на каменной лестнице. Сквозь сетку волос проступало ее лицо, белое как лилия, струйка крови сочилась из виска и растекалась по волосам.
— Дьявол!.. Дьявол!.. — как одержимая кричала Мария-Росарио.
Я взял девочку на руки: глаза ее на мгновение приоткрылись, они были полны грусти. Окровавленная головка бессильно упала мне на плечо, а глаза снова закрылись в предсмертной агонии.
— Дьявол!.. Дьявол!.. — все еще слышалось в глубине притихшего сада.
Золотистые волосы, те самые волосы, которые струились как лучи света и пахли цветущим садом, почернели от крови. Тело ее давило мне на плечо бременем трагической обреченности. Держа девочку на руках, я поднялся по лестнице. Сверху навстречу мне выбежали ее перепуганные сестры. Я слышал их плач, крики, увидел их бледные, вопрошавшие без слов лица, полные страха глаза. В отчаянии протянулись ко мне их руки; они подняли тело сестры и понесли во дворец. Не чувствуя в себе сил сойти с места, вернуться в дом, я глядел и глядел на забрызгавшую мне руки кровь. Из глубины комнат до меня донеслись рыдания сестер и, ставшие уже хрипами, крики той, которая в безумии своем повторяла:
— Дьявол!.. Дьявол!..
Мне стало страшно. Я прошел в конюшню и с помощью одного из слуг запряг свою карету. Уехал я галопом. Проезжая под аркой площади, я обернулся и глазами, полными слез, простился с дворцом Гаэтани. Во все еще открытом окне видна была тень, трагическая и скорбная. Бедная тень! Она успела состариться, лицо ее — покрыться морщинами! И все так же пугливо бродит она по этим комнатам; ей все еще кажется, что откуда-то из темноты я ее выслеживаю. Мне рассказывали, что и теперь, после того как прошло столько лет, она все еще повторяет без страсти, без боли, монотонно, так, как старухи повторяют молитвы:
— Дьявол!
ЛЕТНЯЯ СОНАТА
Я хотел позабыть мою несчастную любовь и задумал совершить романтическое путешествие по свету. При воспоминании о нем я до сих пор вздыхаю. Женщина, о которой пойдет сейчас речь, осталась в истории моей жизни образом сладостным, жестоким и овеянным славой, как Таис{22} — в истории Греции и Нинон{23} — в истории Франции, две куртизанки, судьбы которых были прекраснее, чем они сами. Может быть, это единственная достойная зависти участь! Родись я женщиной, я стяжал бы не меньшую славу, а может быть, и большую; я бы добился того, чего мне никогда не удавалось добиться. Чтобы быть счастливой, женщине достаточно не иметь угрызений совести, а у этой воображаемой маркизы де Брадомин их, по всей вероятности, не было бы. С божьей помощью я поступил бы как прелестницы маркизы времен моей юности, которые грешили каждый день, а теперь исповедуются по пятницам. Иные из них, правда, начинали жалеть о содеянном, еще не утратив своей красоты и всех ее чар, — они забывали, что, когда приближается старость, достаточно и одной крупицы раскаяния.
Во время этого сентиментального путешествия я был молод и даже немного поэт. Я был еще неискушен, и голова моя была забита фантазиями. Я наивно верил в то, в чем теперь сомневаюсь, и, не тронутый еще скептицизмом, спешил насладиться жизнью. Хоть я и не признавался себе в этом и, может быть, сам этого не знал, я был счастлив тем неописуемым счастьем, когда любишь всех женщин на свете. Не будучи донжуаном, я прожил молодость, отмеченную влюбленностью и страстью, но то была кипучая юношеская страсть, здоровая и полнокровная. Декаденты нового поколения не имеют о ней понятия. Даже теперь, после того как я столько в жизни грешил, у меня бывают утра, восхитительные своей свежестью, и я могу только улыбаться, вспоминая то далекое время, когда я был уверен, что сердце мое навек омертвело, истерзанное ревностью, бессильной яростью и любовью.
Решив объехать чужие страны, я вначале колебался, не зная, куда направить свои стопы. Потом, захваченный страстью ко всему романтическому, я устремился в Мексику. Я почувствовал, что в душе моей оживает, подобно некоей Одиссее, прошлое моих предков-скитальцев. Один из них, Гонсало де Сандоваль, основал на этих землях королевство Новую Галисию, другой был там Великим Инквизитором, и у маркиза де Брадомина сохранились еще остатки майората, уцелевшие после многочисленных тяжб.
Я не стал больше ни о чем раздумывать и решил пересечь океан. Меня влекла мексиканская старина — ее древние династии и ее жестокие боги.
Я отплыл туда из Лондона, где жил в эмиграции после Вергарской измены,{24} на паруснике «Далила», который потом затонул у берегов Юкатана. Подобно путешественнику былых времен, я пустился в странствие по необъятным просторам древней империи ацтеков, империи, история которой неведома и навеки погребена вместе с мумиями царей среди развалин и циклопических построек — далеких свидетелей давно вымерших цивилизаций, давно позабытых культур и народов, словом, всего того, что найти можно еще только на далеком и таком же таинственном Востоке.
Несмотря на то, что в продолжение всего пути море было спокойно, я не мог отделаться от любовной тоски — я не вступал ни с кем в разговор и почти не выходил из каюты. Разумеется, я бросился в это путешествие, чтобы забыться, но сами муки мои так меня увлекли, что я не мог заставить себя предать их забвению. Помогало мне и то, что фрегат был английский и все пассажиры — еретики и купцы. Вероломные глаза и шафрановые бороды! Саксонскую расу я ненавижу больше всех на свете. Глядя на все эти кулачные бои на палубе, нелепые и ребячливые, я испытал особую разновидность стыда — стыд зоологический.
Как непохоже на это было мое первое морское путешествие на борту генуэзского корабля с его разноплеменными пассажирами! Помнится, уже на третий день я был на ты с неаполитанским князем, и все девушки, страдавшие морской болезнью, бледные и растрепанные, хватались за мою руку, ища поддержки. Мне доставляло удовольствие присоединяться к людям, которые кучками собирались на палубе в тени больших тюков хлопка, и проводить там время, то болтая с грехом пополам по-итальянски с греческими купцами в красных фесках и с тоненькими черными усиками, то закуривая сигару от трубки миссионера-армянина. Люди там были всякие: шулера, которых можно было принять за дипломатов, певцы, чьи пальцы были унизаны кольцами, щегольски одетые аббаты, от которых пахло мускусом, американские генералы, испанские тореро, русские евреи и английские лорды. Экзотический, живописный хоровод! От всей этой тарабарщины кружилась голова и начинало тошнить. Это было в Средиземном море, когда мы шли в Яффу. Я отправлялся паломником в Святую Землю.
Рассвет в тропических лесах, часы, когда крикливые макаки и стаи зеленых попугаев приветствуют солнце, не раз напоминали мне трехпалубный генуэзский — корабль с его вавилонским смешением типов, языков и одежд. Но еще больше мне его напоминали напоенные опиумом часы, из которых слагалась жизнь на борту «Далилы». Красные веснушчатые лица, шафрановые волосы и злые глаза надвигались со всех сторон. Еретики и купцы на палубе, еретики и купцы в кают-компании! Было от чего сойти с ума. Но я все терпел. Сердце мое было мертво, так мертво, что не только трубы Страшного суда, но даже кастаньеты не могли бы его оживить. С тех пор как несчастное испустило последний вздох, я, должно быть, стал другим человеком. Я облачился в траур и в присутствии женщин, если только у них были красивые глаза, принимал вид скорбного жреца кладбищенской музы. У себя в каюте я возвышал дух долгими размышлениями, раздумывая о том, как мало на свете людей, которым выпадает на долю оплакивать женскую неверность, ту, о которой когда-то слагал стихи божественный Петрарка.
Чтобы не видеть всего этого скопища лютеран, я почти не появлялся на палубе. Только когда солнце садилось, я выходил посидеть на юте и там, освободившись от назойливых спутников, часами вглядывался в кормовую струю, которую фрегат оставлял на воде. Карибское море с его трепещущим изумрудным лоном, которое проницал взгляд, привлекало меня, чаровало, как чаруют зеленые, неверные глаза фей, живущих в глубинах озер, в хрустальных дворцах. Я беспрерывно думал о первом моем путешествии. Там, далеко-далеко, в голубоватой дымке, куда уходят все наши счастливые дни и часы, рождались причудливые образы былых наслаждений. Смутные, звучавшие как симфонии стенания волн пробуждали во мне целый мир воспоминаний: черты исчезнувших лиц, отзвуки смеха, рокот чужих языков, хлопанье в ладоши и щелканье вееров вместе с мотивом тирольской песенки, которую Лили пела в комнате с зеркалами. Это было воскресение чувств, какая-то пленительная растушевка прошлого, что-то воздушное, светящееся, покрытое золотистой пыльцою, как те клочки позабытой жизни, которые порой оживают в снах.
Первой нашей гаванью в мексиканских водах был Сан-Хуан-де-Тукстлан. Помню, что поздним утром, под жгучим солнцем, от которого сохло дерево и плавилась смола, мы бросили якорь в этих зеркально гладких серебряных водах. Индейские торговцы, зеленоватые, как старинная бронза, с обоих бортов штурмуют наш парусник и извлекают со дна своих лодок экзотические товары: покрытые резьбой кокосовые орехи, пальмовые веера, трости с черепаховыми ручками. Улыбаясь, как нищие, индейцы показывают все это перегнувшимся через борт пассажирам. Подняв глаза на прибрежные скалы, на их торчащие из воды бурые верхушки, я вижу множество голых мальчиков, которые оттуда прыгают в море и далеко потом уплывают, переговариваясь и перекликаясь с оставшимися на берегу. Иные из них отдыхают, усевшись на прибрежных камнях и свесив ноги в воду. Другие взбираются наверх, чтобы обсушиться в косых лучах солнца, стройные в своей наготе, словно статуи Парфенона.
Спасаясь от томительной скуки морского пути, я решил перебраться на берег. Никогда не забуду те три мучительных часа, которые занял переезд. Жгучий зной навеял на меня сон, и я все время лежал на дне лодки. Негр из Африки греб с медлительностью, способной довести до отчаяния. Сквозь полузакрытые веки я видел, как надо мною сгибался и снова выпрямлялся в такт ударам весел, нагоняя на меня тошноту, его черный как уголь торс; толстые губы великана то улыбались мне, то насвистывали напевы, которые погружали в какую-то мистическую дремоту, — мотив их повторял не более трех печальных нот; подобным пением иные дикие племена заклинают огромных змей. Так, должно быть, древние греки перебирались в Аид на ладье Харона: жгучее солнце, выжженные добела берега, спокойное море без бриза, без рокота волн, воздух, раскаленный, как в кузнице Вулкана.
Когда мы пристали к берегу, повеяло прохладой, и море, которое только что лежало недвижной свинцовой гладью, покрылось рябью. После долгих дней затишья «Далила» непременно захочет воспользоваться этим ветром. Значит, в моем распоряжении всего лишь несколько часов, чтобы осмотреть индейскую деревушку.
От прогулки по песчаным улицам Сан-Хуан-де-Тукстлана у меня осталось какое-то смутное, навевавшее сон воспоминание, словно от книги эстампов, которую перелистывал, лежа в гамаке, в знойные часы сьесты. Кажется даже, что стоит закрыть глаза — и воспоминание это вновь оживает и становится выпуклым. Я снова ощущаю томление жажды и пыли. Вслушиваюсь в тихие шаги индейцев, похожих на привидения в саванах, слышу мелодичные голоса креолок, одетых с прелестною простотою античных статуй; волосы их распущены, а плечи едва прикрыты покрывалом из прозрачного шелка.
Рискуя опоздать к отплытию фрегата, я нанял лошадь и поехал посмотреть развалины Текиля. В проводники я взял индейского мальчика. Стоял нестерпимый зной. Почти галопом проскакал я по равнинам Жаркой полосы, по бесконечным плантациям сахарного тростника и агав. На горизонте — вулканические горы, окутанные густым зеленоватым туманом. Над нами, наподобие гигантского зонта, раскинулись ветви каменных дубов. Несколько индейцев, усевшись в круг, едят свой скудный завтрак, состоящий из тамали, испеченных из маисовой муки. Мы движемся тропинкой, покрытой красною пылью. Мальчик проводник, почти голый, бежит впереди моей лошади. Ни разу не остановившись в пути, мы прибываем в Текиль.
Там-то, среди руин дворцов, пирамид и гигантских храмов, где растут запыленные смоковницы и снуют зеленые ящерицы, впервые увидел я удивительную женщину, которую индейцы, ее слуги, я бы даже сказал — ее рабы, смиренно называли Нинья Чоле. Среди всех этих дворцов она чем-то напоминала мне Саламбо.{25} Она направлялась той же дорогой, что и я, в Сан-Хуан-де-Тукстлан и отдыхала в этот час в тени пирамид, окруженная целою свитою слуг.
Как она была хороша своей бронзовой экзотической красотой, той ни на что не похожей томною прелестью, которая отличает женщин народов-кочевников, своим гибким станом жрицы, при виде которой вспоминались принцессы — дочери солнца, пленительные героини индейских поэм, возбуждающие в вас желание и вселяющие священный трепет! Одета она была, как все креолки из Юкатана, в белый ипиль, расшитый цветными шелками, — индейскую одежду, напоминающую собою античную тунику, и андалузское сагалехо,{26} которое в этой стране, недавно еще принадлежавшей Испании, называют старинным словом «фустан». Черные волосы были распущены, ветерок раздувал ипиль на ее античной груди.
К сожалению, лицо ее я видел только в те редкие минуты, когда она поворачивалась в мою сторону, а Нинья Чоле сидела как божество, в экстатическом и священном спокойствии народа майя, такого древнего, благородного и таинственного, что, казалось, он переселился в эти края из глубин Ассирии. Но, не видя ее лица, я вознаграждал себя тем, что глядел на контуры ее тела, которых не могло скрыть покрывало, — я восхищался линией нежных точеных плеч и тонко очерченной шеи, Боже правый! Мне казалось, что это загоревшее под знойным солнцем Мексики тело источает токи, исполненные истомы. Я вбирал их в себя, я их пил, я ими себя опьянял… Один из индейцев-слуг подвел моей Саламбо верховую лошадь, и на своем древнем языке она ему что-то сказала и улыбнулась. В это мгновение я заглянул ей в лицо, и сердце мое забилось. Это была улыбка Лили! Лили, которую я, сам не знаю, любил или ненавидел!
Я остановился на отдых в хижине, построенной среди руин, и уснул у дверей ее, в гамаке, подвешенном к гигантскому кедру, тень которого осеняла вход в убогое жилище. Долина замирала, медленно погружаясь в тишину этого пышущего любовью, раскаленного вечера. Щеки мои ощущали пряное дыхание тропических сумерек. Долина вся трепетала, словно негритянка на брачном ложе, охваченная желанием и влюбленная; воздух был пропитан горячими испарениями ее крепкого тела.
Измученный усталостью, зноем и пылью, я погрузился в забытье, и мне, как арабу, снились врата рая. Надо ли говорить, что все семь гурий, которые подарил мне пророк, были креолками, одетыми в ипили и фустаны, и что у всех у них была улыбка Лили и взгляд Ниньи Чоле. В самом деле, Саламбо текильских дворцов начинала что-то уж слишком меня тревожить. Обнаружив это, я испугался: я был уверен, что все кончится тем, что я до безумия полюблю ее необыкновенные глаза, если, на мое горе, мне доведется их снова увидеть. По счастью, женщины, которые сводят нас так с ума при первой же встрече, появляются в жизни всего лишь раз. Они проходят как тени, окутанные таинственной дымкой мечты. Может быть, вернись они вновь, очарование бы пропало. Да и зачем возвращаться, если одного лишь взгляда их довольно, чтобы заразить нас любовной тоскою и тайной грустью!
О, романтические мечтания, незадачливые дети нашего идеала, зачатые где-то в пути! Можно ли прожить жизнь и не ощутить, как трепещет сердце под вашим ласковым белым крылом? Сколько такой любви хранил я в душе!.. Даже теперь, когда голова моя убелена преждевременной сединою, я не могу без грусти вспомнить лицо женщины, которую я видел однажды утром между Урбино и Римом, когда служил в дворянской гвардии его святейшества папы. Это лицо из сновидения, бледное и печальное; оно парит в моем прошлом и овевает все мои юношеские воспоминания далеким ароматом засохших цветов, которые хранятся вместе с письмами и локонами любимой и, спрятанные на самом дне ларца, все еще источают благоговейную свежесть первой любви.
Глаза Ниньи Чоле воскресили в моей душе эти далекие образы, нежные, как привидения, и белые, словно омытые лунным светом. Эта улыбка, напомнившая улыбку Лили, зажгла в крови моей неистовые желания, а в душе — смутную жажду любви. Помолодевший и счастливый особым, смешанным с грустью счастьем, я вздыхал по все еще жившему во мне чувству и в то же время опьянял себя ароматом апрельских роз, которые снова разукрасили старый куст. Сердце, давно уже заглохшее, мертвое, ощущало, как вместе с хлынувшими вновь молодыми соками вернулось и сожаление об утраченных радостях. Оно погружалось в туман былого и упивалось сладостным спокойствием — удел прикованного к постели больного, который когда-то много и очень по-разному любил. Ах, до чего восхитительна была эта дрожь, которую разгоряченное воображение передавало каждой частице тела!
А тем временем ночь заволакивала долину своей тенью, которая столько всего обещала, и птицы большими стаями улетали прочь. Я прошел среди развалин и позвал своего маленького проводника-индейца; многовековое эхо дворцов повторило мой оклик. Мальчик появился из-за огромного изваяния, высеченного из красного камня. Рыжая лошадь была уже взнуздана. Я вскочил в седло, и мы тронулись в путь. На горизонте полыхали зарницы. Едва уловимый запах моря и водорослей примешивался порою к благоуханию полей, и там, вдали, где темнел восток, виден был красноватый отблеск пылавшего леса. Природа, дикая и сладострастная, все еще трепетавшая от дневной жары, казалось, уснула сном насытившего свое вожделение зверя и глубоко дышала во сне. В этой тьме, где слышны были глухие шорохи страсти, где среди высокой травы с неистовой быстротой сновало множество светлячков, мне казалось, что я вдыхаю нектар, сладостный, нежный, божественный. Нектар, который в разгаре лета природа наливает в чашечки цветов и в сердца людей.
Было совсем темно, когда мы прибыли в Сан-Хуан-де-Тукстлан. Я сошел с лошади и, передав поводья проводнику, один по пустынной улочке спустился на берег. В лицо мне повеяло ветром с моря, и я с тревогой начал было думать, что фрегат уже снялся с якоря. В этом раздумье я и шел, когда почувствовал за спиною мягкие шаги босых ног. Ко мне подошел завернутый во все белое индеец:
— Господину ничего не угодно приказать?
— Нет, ничего.
Индеец сделал вид, что собирается уйти:
— Может быть, проводить вас, ниньо?
— Нет, не надо.
Что-то мрачно бормоча себе под нос, он еще плотнее завернулся в свою хламиду и тут же исчез. Я побрел вдоль берега дальше.
Вдруг до меня снова донесся смиренный и кроткий голос. Я обернулся и увидел все ту же фигуру в нескольких шагах от себя. Индеец бежал за мной и распевал гимны Гваделупской божьей матери. Догнав меня, он пошел со мной рядом и прошептал:
— Послушайте меня, ниньо, заблудитесь, тогда не выбраться вам из песков…
Человек этот начал уже мне надоедать, и я ничего ему не ответил. Молчание мое, видимо, его приободрило: он идет за мной еще долго. Первое время он молчит, а потом таинственным голосом предлагает:
— Хотите, господин мой, я вас к одной девочке сведу? Пятнадцать лет; тут, в двух шагах. Пойдемте, ниньо, увидите, как она танцует харапе.{27} Ниньо Начо знаете, хозяина ранчо в Уаксиле? Месяца нет, как она от него ушла.
Вдруг он умолкает и, сделав прыжок, преграждает мне путь. Держа в одной руке шляпу, как щит, он приседает и диким рывком заносит другую за спину: в ней блестит узкий нож. Признаюсь, я струсил. Нельзя было лучше выбрать место для засады. Зыбучие пески; то тут, то там — темные лужи, в которых отражалась луна, а вдали — подозрительная лачуга, где сквозь щели виден был свет. Может быть, я и дал бы себя ограбить, если бы грабитель не был так учтив, если бы он говорил со мною гневно и грозился распороть мне живот и выпить всю мою кровь, Я ожидал от него яростных и повелительных требований, но он вдруг пробормотал тем же тихим голосом раба:
— Не подходите, господин мой, можете напороться.
Услышав это, я мгновенно пришел в себя. Индеец весь съежился, как дикая кошка, готовясь на меня прыгнуть. Мне показалось, что ледяная сталь уже впивается мне в кость. Меня охватил ужас при мысли, что я могу умереть от ножа, и я вдруг почувствовал себя сильным и храбрым. Решив, что буду себя защищать, я не без дрожи в голосе закричал:
— Пошел прочь, или от тебя мокрое место останется!
Индеец не шевельнулся. Смиренный голос раба преисполнился иронии:
— Храбрец какой нашелся! А хотите пройти, так положите деньги туда вон, на камень. Тогда ступайте.
В воздухе снова сверкнул нож, и снова мной овладел страх, однако я сказал:
— Это мы еще посмотрим, негодяй!
Оружия при мне не было. Но в развалинах Текиля мне пришло в голову купить у одного из индейцев, торговавших шкурами ягуаров, палку; она восхитила меня своим необычайным своеобразием. Я храню ее до сих пор. Можно подумать, что это скипетр какого-нибудь царька — в отделке есть что-то восточное, и вместе с тем все выглядит удивительно просто.
Я надел очки, поднял палку и, с решительным видом выступив вперед, приблизился к грабителю, который успел отскочить в сторону, рассчитывая пырнуть меня ножом в бок. На мое счастье, луна светила вовсю, и я вовремя заметил его движение. Смутно помню, что решил разоружить его ударом по голове и по руке и что индеец избежал этого удара, очень ловко загородив мне свет. Что было потом — не знаю. У меня осталось после всего чувство тоски и страха, словно после кошмара. Освещенные луною холмы, темный песок, в котором увязают ноги, ослабевшая рука, застилающая взгляд пелена, индеец, который то исчезает, то возвращается снова, не дает мне покоя, пригибается к земле, прыгает, как разъяренная дикая кошка, и, когда палка выпадает у меня из руки, его бегущая фигура и блеск ножа, который проносится над моей головой, словно серебряная змея, и впивается в крест из двух обгоревших черных стволов…
Несколько минут я был в совершенном замешательстве, я ничего не соображал. Словно сквозь густой туман, увидел я, как дверь лачуги тихо приотворилась и двое мужчин, выйдя оттуда, пошли по берегу. Я стал опасаться, как бы не встретить еще кого-нибудь, и быстрыми шагами направился к морю; я подоспел как раз вовремя: одна из шлюпок только что отчалила — она везла на «Далилу» старшего помощника капитана. Я крикнул, и шлюпка вернулась за мной.
Возвратившись на парусник, я затворился у себя в каюте и, так как чувствовал себя очень усталым, улегся спать. Но едва только я потушил свет, как не уснувшие еще змии желания, которые я целый день носил в своем сердце, начали терзать меня. В ту же минуту я ощутил прилив смутной тоски, таинственной, безысходной. Это была тоска по женщине, пробуждающая в человеке великую грусть, Воспоминание о Нинье Чоле преследовало меня, как легкое и вместе с тем назойливое трепетание ночной бабочки. Ее восточная красота и облик богини, ее змеиная гибкость и взгляд сивиллы, ее волнистые бедра, ее искушающая улыбка, тонкие, как у девочки, ноги, ее голые плечи — все, что я видел и что только мог угадать, — все было раскаленным горнилом и жгло мою плоть. Я представил себе, как восхитительные формы этой бронзовой Венеры расцветают, овеянные зефирами, и как, сначала смутные, они потом обнажаются, упругие, свежие, пышные, пахучие, словно александрийские розы в садах Жаркой полосы. И власть этого воспоминания была так велика, что по временам мне казалось, будто я вдыхаю сладостный аромат духов, которые, когда она проходила, распространяли ее нежно шуршавшие одежды.
Понемногу усталость сомкнула мне веки, и мерное покачивание волн повергло меня в сон любви, лихорадочный и тревожный, в котором, как в капле воды, отразилась вся моя жизнь.
Проснулся я на рассвете. Я весь горел, словно после ночи, проведенной в теплице среди экзотических растений с необычайным, возбуждающим, пряным запахом. Наверху слышен был гул голосов и топот босых ног, к которым присоединилось хлюпанье воды. Начиналось мытье палубы. Я оделся и вышел наверх. Воздух в эти утренние часы упоителен. Он колышется от теплого ветерка. Горизонт улыбается восходящему солнцу.
Окутанная розоватою дымкой, которую заря набросала на морскую лазурь, к нам приближалась маленькая лодочка, такая стройная, такая легкая, такая белая, что классическое сравнение с чайкой и лебедем как нельзя более к ней подходило. На веслах было шестеро гребцов. На корме, под голубым тентом, укрывалась от солнца одетая в белое фигура. Едва только лодка подошла и спустили трап, как я уже был там, весь охваченный смутным ожиданием. За рулем сидит женщина. Из-под навеса мне виден только край ее юбки и царственные ножки в белых атласных туфельках.
Но я уже угадал, кто эта женщина. Это она, моя Саламбо текильских дворцов!..
Да, это была она; она казалась еще очаровательнее, чем накануне, в своем полупрозрачном шелковом покрывале. Она стояла на скамейке, упершись обеими руками в геркулесовы плечи негра-матроса. Ее пухлые алые губы креолки улыбались обольстительною улыбкою египтянки или персиянки. В глазах ее, укрытых тенью ресниц, было что-то таинственное, призрачное, далекое, что-то напоминавшее древние и благородные народы, которые в далекие времена основали великие империи в странах солнца…
Подойдя к нашему паруснику, шлюпка кренится. Креолка, то ли испугавшись, то ли забавы ради, вцепляется в курчавые волосы гиганта, который, не задумываясь, ее подхватывает и кидается к трапу. Их обдает волною — оба смеются. Поднявшись на палубу, огромный негр оставляет ее одну и уходит, о чем-то тихо переговариваясь с боцманом.
Я иду в кают-компанию, через которую они непременно должны будут пройти. Никогда у меня так не билось сердце. Отлично помню, что кают-компания была пуста и в ней было не очень светло. Стекла полыхали отблесками зари. Проходит несколько мгновений. Слышу громкие голоса. Луч солнца, веселый, яркий, живой, врывается внутрь; я вижу отраженную в зеркале Нинью Чоле.
Это был один из тех долгих дней, какие бывают, когда плывешь на парусном судне, душных и тихих; кажется, что такому дню никогда не будет конца. Только время от времени порыв горячего ветра вдруг раздувал паруса. Настороженный, бродил я по палубе: я надеялся, что Нинья Чоле вот-вот там появится. Напрасно. Нинья Чоле не выходила из своей каюты; может быть, именно оттого часы тянулись для меня необычайно тягостно, необычайно томительно. Обманутый улыбкой, которую я видел и любил на других губах, я уселся один на корме.
На изумрудной сонной воде парусник оставлял позади себя бурлящую струю. Не знаю почему, мне вспомнилась американская песенка, которой Ньевес Агар, любимая подруга моей матери, учила меня много лет назад, еще в те времена, когда я был ребенком и привык засыпать на коленях у женщин, собиравшихся на тертулии во дворце Брадоминов. Привычку эту я сохранил на всю жизнь. Бедная Ньевес Агар! Сколько раз ты укачивала меня на коленях в такт романсу, который рассказывает историю креолки, девушки красивее, чем Атала,{28} уснувшей в шелковом гамаке под тенью кокосовых пальм. Может быть, историю другой Ниньи Чоле!
Задумчивый и грустный, оставался я целый день под тенью кливера, нависшего над головой. Только на закате подул ветер, и фрегат, распустив все паруса, мог обогнуть остров Сакрифисиос и стать на якорь в водах Веракруса. Охваченный благоговейным волнением, взирал я на выжженный солнцем берег, где, опередив все остальные народы старой Европы, первыми высадились испанские завоеватели, потомки варвара Алариха{29} и мавра Тарика.{30} Я видел, как основанный ими город, в котором жива еще была их доблесть, гляделся в свинцовое зеркало моря, словно восхищаясь стезею, проложенной белыми. На пустынном гранитном острове — замок Улуа, романтическая тень, воскрешающая в памяти феодальное прошлое, которого совсем не знал этот край, а вдали — фантастические, смутные очертания горной цепи Орисабы, белой, как старческие седины, на фоне прозрачной глубины классического синего неба.
Мне вспоминались полузабытые книги, читая которые я еще в детстве мечтал об этой рожденной солнцем стране, книги, где история смешивалась с фантастикой, где неизменно изображались люди медного цвета кожи, мрачные и молчаливые, как и полагалось быть побежденным героям, и девственные леса, где щебечут разноцветные птицы, и женщины, такие как Нинья Чоле, темноволосые и пылкие, воплощающие страсть, воспетую несчастным поэтом этой эпохи.
А так как человеку свойственно любить свое отечество, мое сердце, сердце истого испанца и рыцаря, наполнялось восторгом, перед глазами вставали героические образы, в памяти оживало прошлое. Воображение мое разгоралось — я представлял себя искателем приключений из Эстремадуры, поджигающим свои корабли, а рядом — людей, рассеянных по песчаному берегу, которые взирают на это зрелище, У всех закрученные усы, какие носили воины в те времена, загорелые мужественные лица, покрытые патиной, словно на старинных картинах. Следуя велению скитальческой жизни, я готовился высадиться на этот священный берег и затеряться, может быть, навсегда в просторах древней империи ацтеков. В душе моей, душе авентуреро,{31} идальго и христианина, торжественно звучала история.
Как только мы бросили якорь, с берега к нам устремилась с разных сторон живописная флотилия лодочек и каноэ. Они были еще далеко, когда мы услышали монотонный шум весел. Сотни голов осаждают борт, и вся эта пестрая толпа кишит, суетится и разбегается по палубе. Все громко кричат, переговариваются по-английски, по-испански и по-китайски. Пассажиры подзывают знаками лодочников-индейцев. Они спрашивают, сколько с них возьмут за перевоз, спорят, торгуются и в конце концов, подобно рассыпанным зернам четок, валятся на дно лодок, окружающих трап. А там уже ждут с поднятыми веслами. Флотилия рассеивается. Она уже совсем далеко, но все еще видишь, как движутся едва заметные фигуры гребцов, еще слышишь их голоса, которые становятся отчетливее и звучнее среди торжественной тишины этой подогретой солнцем воды. Ни одна голова не повернулась к судну, чтобы последний раз попрощаться. Все движимы только одним желанием — поскорее добраться до берега. Все это — охотники за золотом. Начинает темнеть. В эти сумеречные часы горячее желание, которое возбуждает во мне Нинья Чоле, как бы испытывает себя и очищается, превращаясь в смутное томление любви, высокой и поэтичной. Постепенно вое погружается во тьму. Стенает ветер, светит луна, бирюзовое небо становится черным, и в этой торжественной тьме звезды обретают прозрачность и глубину. Это ночь Америки, ночь поэтов.
Я только что вернулся в каюту; лежа на койке, я раскуривал трубку и, должно быть, думал о Нинье Чоле. Вдруг открывается дверь и глазам моим предстает Юлий Цезарь — молодой мулат, которого мне подарил на Ямайке один португальский авентуреро, впоследствии ставший генералом Доминиканской республики. Юлий Цезарь останавливается в дверях под ламбрекеном:
— Господин! Тут один чернокожий прибыл. Охотится на акул с ножом. Идите, господин, скорее!
Он мгновенно исчезает, как те тюремщики-эфиопы, которые охраняют принцесс в заколдованном замке. Разбираемый любопытством, я иду за ним вслед. И вот я на палубе, освещенной сиянием полной луны. Огромного роста негр; с одежды его струится вода; окруженный пассажирами, он отряхивается, как горилла, и улыбается, показывая ряды белоснежных зубов. В нескольких шагах от него, перегнувшись через правый борт, два матроса тянут раненую акулу. Она бьется над водой у самого борта, но неожиданно снасть обрывается, и акула исчезает в облаке пены.
— Трусы! — бормочет негр, презрительно поджав свои толстые губы.
И он уходит, оставив на палубе следы мокрых босых ног.
— Эй, негр! — зовет его издалека чей-то женский голос.
— Иду, иду! Сию минуту!
На фоне черной двери кают-компании появляется белая женская фигура. Сомнений нет, это она!
Но как я не догадался? Что же ты молчало, сердце, и ничего мне не подсказало? Ах, с каким удовольствием я бы швырнул тебя в наказание ей под ноги, под ее прелестные ножки! Негр возвращается:
— Нинье Чоле что-нибудь угодно?
— Хочу посмотреть, как ты убьешь акулу.
Негр улыбается белозубой улыбкою дикаря и говорит, скандируя слова и не отрывая глаз от волн, посеребренных луной:
— Это невозможно, госпожа. Поймите, они теперь ходят стаями.
— Трусишь?
— А то что же! Ничего нет удивительного… Пусть ваша милость взглянет…
Нинья Чоле не дает ему договорить:
— Сколько тебе предлагают эти сеньоры?
— Двадцать тостонов. Две сотни.
В эту минуту по палубе проходит боцман, отдававший какие-то распоряжения. Он слышит эти слова. И, не обернувшись, не вынув даже изо рта дудку, со всей грубою прямотою морского волка кричит:
— Четыре золотых, и не будь дураком!
Негр, казалось, раздумывал. Он перевесился через борт и несколько мгновений глядел на море, в котором трепетали потускневшие звезды. По поверхности скользили причудливые серебристые рыбы; они оставляли после себя светящуюся полосу и исчезали, словно растворившись в сиянии луны. В той стороне, где на волны ложилась тень от фрегата, темным пятном шевелилась стая акул. Матрос отошел от борта; он все думал. Но он еще раза два возвращался и все глядел на сонные воды, казалось тронутый их жалобным стоном, обращенным к ночной тишине. Он обрезал ногтем сигару и подошел к нам ближе:
— Четыре сотни. Как вы на это смотрите, госпожа?
Нинья Чоле с тем патрицианским презрением, какое богатые креолки испытывают к неграм, величественно обернулась к нему и, гордо обратив на него свой лик индейской царицы, медленно и тягуче, так что слова, казалось, застывали от скуки в уголках рта, прошептала:
— Кончишь ты наконец?
Пухлые губы негра расплылись в улыбку — улыбку каннибала, чувственную и жадную. Потом он сбросил блузу, вытащил из-за пояса нож и, как ньюфаундлендская собака, взяв его в зубы, вспрыгнул на борт.
На его обнаженном торсе, словно выточенном из черного дерева и отполированном, еще блестели капли морской воды. Негр склонился над морем, словно измеряя бездну глазами. Едва только акулы показались на поверхности, он, стоя на борту, освещенном луною, весь черный, как некое древнее божество, выпрямился вдруг во весь рост, выставил руки вперед и, бросившись головой вниз, исчез в пучине. И экипаж корабля и пассажиры — все, кто только в эту минуту находился на палубе, кинулись к борту. Акулы нырнули и погнались за негром. Взгляды всех были прикованы к бурлящей воде, которая так и не успела успокоиться, ибо, почти в то же мгновение, на поверхности появились клочки кровавой пены и под радостные крики матросов и громкие хлопки темных и грубых рук купцов из-под воды показалась курчавая голова негра; он плыл, выгребая одной рукой, а другой волоча за собой акулу, в горло которой был всажен нож. Матросы заторопились поднять негра на борт и бросили ему приготовленные для этого концы. Но, когда он уже высунулся по пояс из воды, раздался вдруг душераздирающий крик, и, на глазах у всех, несчастный вскинул руки и тут же исчез — акулы растерзали его на куски. Я все еще не мог прийти в себя, как вдруг услышал позади голос:
— Вы позволите мне пройти, сеньор?
В то же мгновение кто-то мягко коснулся моего плеча. Это была Нинья Чоле. На губах ее играла все та же обольстительная улыбка; она быстро сжимала и разжимала руку, в которой блестело несколько золотых монет. Когда я пропустил ее, она с таинственным видом склонилась над бортом и бросила монеты далеко в море. Вслед за тем она изящным движением повернулась ко мне:
— Теперь ему будет чем заплатить Харону.
Должно быть, я был бледен как смерть, но, когда она посмотрела на меня своими чудесными глазами и улыбнулась, восторг мой победил остальные чувства, и мои все еще дрожавшие губы ответили на эту улыбку древней царицы улыбкой раба, который слепо одобряет все поступки своей госпожи, Жестокость креолки ужасала меня и вместе с тем притягивала. Никогда еще она не казалась мне такой соблазнительной и красивой. Из морских глубин, темных и загадочных, доносились какие-то звуки, струились запахи. Бледная луна придавала всему ни с чем не сравнимую тревожную прелесть. Трагическая гибель колосса негра, немой испуг, который застыл на всех лицах, жалобные звуки скрипок в кают-компании — все стало для меня в эту ночь, под этой луной, источником наслаждения, утонченного и изощренного.
Нинья Чоле ушла своей мерно колыхающейся походкой, напоминающей поступь тигрицы, и, когда она исчезла, мучительное сомнение охватило вдруг мою душу. До этого времени я не заметил, что рядом со мною стоял красивый белокурый юноша. Я вспомнил, что видел его, когда высаживался на берег в Сан-Хуан-де-Тукстлане. Не ему ли предназначалась улыбка этих уст, которые, казалось, скрывали загадку какого-то древнего культа, дьявольски бесстыдного и жестокого?
С первыми лучами зари я высадился в Веракрусе. Я боялся этой улыбки Лили, улыбки, которая явилась мне теперь снова на устах другой женщины. Я боялся этих губ, губ Лили, свежих, ярких, ароматных, как спелые вишни из нашего сада, которыми она так ласково угощала меня — прямо с губ. Если бедное сердце щедро, если оно не раз и не два давало приют любви, вкушало ее редкие радости и переносило ее бесчисленные печали, оно не может не задрожать от взгляда и от улыбки, когда их расточают глаза и губы, такие, как у Ниньи Чоле. Глядя на них тогда, я дрожал; я, верно, дрожал бы и теперь, когда снега стольких зим легли мне на голову, чтобы больше уже не растаять!
Мне и прежде случалось испытывать этот страх перед любовью. Но в тот момент, когда бывало нужно порвать, у меня каждый раз не хватало решимости — в эти минуты я походил на романтически настроенную девицу. Малодушие, на которое я обрек себя всей моей изнеженной жизнью и которое всю жизнь причиняет мне огорчения! Теперь я из собственного опыта знаю, что только великий святой и великий грешник находят в себе мужество устоять перед искушением любви. Я со всем смирением сознаюсь, что в самом деле надо быть тем или другим, чтобы, услыхав шелест ее крыльев, не дать ей приюта у себя на груди. Может быть, именно потому судьба так упорно испытывала мою стойкость!
Подойдя к берегу в шлюпке, мы увидели, что к причалу только что приблизилась другая шлюпка, украшенная пестрыми флагами и вымпелами, и глаза мои угадали Нинью Чоле в белой, укрытой покрывалом фигуре женщины, которая соскочила с кормы. Мне, должно быть, на роду было написано испытать соблазн и быть побежденным. Есть на свете мученики, с которых дьявол забавы ради срывает венец, и, на мое несчастье, я всю жизнь был одним из них. Я прошел по земле как святой, упавший с алтаря и разбивший голову. Счастье еще, что иногда белым рукам праведниц случалось перевязывать раны моего сердца. Теперь, когда я гляжу на рубцы от этих ран и вспоминаю, как я бывал побежден, сама мысль об этом меня почти утешает. Из одной книги по истории Испании, которую я читал еще мальчиком, я узнал, что победить или погибнуть славною смертью — одно и то же.
Когда мы высадились в Веракрусе, душа моя преисполнилась героических чувств. Я прошел перед Ниньей Чоле, надменный и гордый, как конкистадор былых времен. Мой предок Гонсало де Сандоваль, основавший в Мексике королевство Новую Галисию, вряд ли держал себя холоднее со взятыми в плен ацтекскими принцессами. Нинья Чоле была, разумеется, одной из таких принцесс, побежденных, поруганных и возгоревшихся любовью: глаза ее долго смотрели на меня, и это для меня она улыбалась прелестнейшей из своих улыбок. Губы ее, казалось, обрывали эту улыбку лепесток за лепестком, как когда-то рабыни обрывали розы во время шествия триумфаторов. Но смотрел я на нее все так же высокомерно.
По этому берегу, покрытому золотистым песком, мы пошли вместе: Нинья Чоле — с сопровождавшими ее слугами-индейцами, я — со своим единственным слугою-мулатом, который шел впереди. Летевшие над нами стаи уродливых черных птиц почти касались наших голов. Непрерывные взмахи их испуганных крыльев застилали нам солнце. Мне казалось, что меня все время кто-то ударяет веером по лицу. Птицы то шуршали крыльями по земле, то взмывали в прозрачное небо. Их огромные темные стаи кружили в высоте, описывая причудливые фигуры, а потом низвергались вдруг на белые мавританские террасы, покрывая их черною вязью, или садились на прибрежные кокосовые пальмы и сбрасывали с веток орехи. Это были какие-то зловещие птицы, из тех, что ютятся в развалинах: оголенные головы, крылья с бахромой, траурное оперение тусклого черного цвета, без блеска и переливов. Их были сотни, может быть — тысячи.
В доминиканской церкви, мимо которой мы проезжали, зазвонили к утренней мессе. Нинья Чоле вошла туда со своими слугами. В дверях она улыбнулась мне снова. Это проявление благочестия окончательно меня покорило.
В Веракрусе, в кварталах Вилья-Рика, я остановился на весьма достойном постоялом дворе, напомнившем мне счастливые времена вице-королей.{32} Я собирался пробыть там всего несколько часов. Я хотел в тот же день подобрать себе надежных спутников и отправиться в поместье, некогда принадлежавшее моему роду. Пускаться в путь по мексиканским дорогам, на которых хозяйничали шайки разбойников, тогда можно было только с хорошо вооруженной охраной. Это были времена Адриано Куэльяра и Хуана де Гусмана, знаменитых разбойников, прославившихся своими свирепыми набегами и безмерной храбростью.
Вскоре в залитом солнцем патио в сопровождении слуг появилась Нинья Чоле. Величественная и высокомерная, она шла неторопливо и отдавала распоряжения своему конюху, который выслушивал ее, опустив глаза, и отвечал на юкатанском языке, на этом древнем языке, в котором итальянская звучность сочетается с живописностью и образностью языков примитивных. Завидев меня, она любезно мне поклонилась и послала ко мне трех индианок, должно быть из своей свиты. Они все говорили по очереди, медлительно и смиренно, как юные послушницы, которые заучили литанию и читают наизусть те места, которые лучше всего помнят. Говорили они медленно и смиренно, не поднимая глаз:
— Это Нинья нас послала, сеньор…
— Она велела передать вам…
— Нинья узнала, что вы, сеньор, набираете охрану, а она тоже собирается в дорогу.
— И далекую дорогу, сеньор!
— Очень далеко, сеньор!
— Больше двух дней пути, сеньор!
Я последовал за служанками. Увидав меня, Нинья Чоле всплеснула руками:
— О сеньор, простите, что я вас побеспокоила!
Голос у нее был тихий, ровный и нежный; это был голос жрицы или принцессы. Пристально на нее поглядев, я поклонился — древнее искусство любви, которому научил меня старик Овидий! Нинья Чоле продолжала:
— Я сейчас узнала, что вы набираете людей, чтобы отправиться в путь. Нам с вами, кажется, по дороге. Так, может быть, мы объединим наших людей? Я еду в Некокстлу.
Я поклонился с версальской вежливостью и, вздохнув, сказал:
— Некокстла мне как раз по дороге.
— А вы далеко едете? Может быть, в Нуэва-Сигуэнсу?
— Я еду в равнины Тиксуля; я даже не знаю, где это. Там у меня есть поместье еще со времен вице-королей, где-то между Грихальбой и Тлакотальпаном.
Нинья Чоле удивленно на меня посмотрела:
— Что вы говорите, сеньор? Наши пути лежат в совершенно разные стороны. Грихальба — это на побережье, и вам лучше было бы не сходить с фрегата.
Я еще раз любезно поклонился:
— Некокстла мне по пути.
Она презрительно улыбнулась:
— Но людей наших объединять мы все-таки не будем.
— Почему?
— Не надо этого делать. Прошу вас, сеньор, поезжайте своей дорогой. А я поеду своей.
— Дорога у нас одна. Как только мы выедем на безлюдное место, я вас увезу с собой.
Глаза Ниньи Чоле, в которых до этого было только презрение, вдруг просветлели:
— Скажите, сеньор, а что, испанцы все сумасшедшие?
— Испанцы разделяются на две большие категории, — надменно ответил я. — Одна — это маркиз де Брадомин, другая — все остальные.
Нинья Чоле посмотрела на меня и улыбнулась:
— Какой вы хвастун, сеньор!
В эту минуту конюх пришел доложить своей госпоже, что лошади поданы и что, если ей будет угодно, можно трогаться в путь.
Услыхав это, Нинья Чоле молча на меня посмотрела. Глаза ее были серьезны. Потом, повернувшись к слуге, она спросила:
— Какую лошадь вы мне приготовили?
— Вот эту рыжую, госпожа. Посмотрите.
— Рыжую в яблоках?
— Что вы, Нинья! Другую, с белой мордой, ту, что пьет. Взгляните, красавица-то какая! А и быстра! И рот-то у нее шелковый. А на седло хоть кувшин с водой ставь. Ни капельки не прольет, даже если галопом поскачет.
— Где мы будем ночевать?
— В монастыре Сан-Хуан-де-Тегуско.
— Мы приедем туда ночью?
— Приедем, как только взойдет луна.
— Ну что же, скажи людям, чтобы садились на лошадей. Сейчас же, скорее!
Конюх повиновался. Мне показалось, что Нинья Чоле с трудом сдержала улыбку:
— Сеньор, нам неудобно ехать вместе. Поэтому я уезжаю сию же минуту.
— Я тоже.
— А разве ваши люди уже готовы?
— Достаточно того, что готов я.
— Не забудьте, что я еду этой дорогой, чтобы встретиться с мужем, и не ищите столкновения с ним. Спросите, и вам скажут, кто такой генерал Диего Бермудес.
Тут уж я презрительно улыбнулся. В эту минуту возвратился конюх и остановился на некотором расстоянии от нас; он смиренно молчал. Нинья Чоле позвала его:
— Поди сюда. Надень мне шпору.
Он уже наклонялся, когда я взял из его рук серебряную шпору и опустился на колени перед Ниньей Чоле, которая, улыбнувшись, протянула маленькую ножку, заточенную в шелковую туфельку. Дрожащими руками я надел на нее шпору. Мой благородный друг Барбе д'Оревильи{33} сказал бы об этой ножке, что она создана для того, чтобы ступать по фаросскому камню. Я ничего не сказал, но поцеловал эту ножку с такой страстью, что Нинья Чоле вскричала:
— Сеньор, не переходите границ!
И она опустила подол юбки, который ее тонкие пальцы держали, слегка приподняв. Сопровождаемая своими служанками, как оскорбленная царица, прошла она по просторному патио, затянутому тентами, которые солнце золотило, как паруса. Вокруг ярко сверкавшей серебряной трубки фонтана звенели комары. Струйка воды стекала в алебастровый водоем, переливаясь всеми цветами радуги. На этой раскаленной солнцем площадке, под синим небом, глядя на раскинувшуюся шатром пальму, слушая полную свежести музыку журчащей воды, я вдруг как-то физически ощутил и трудный путь по пустыне и упоительное отдохновение в оазисе. Время от времени в патио въезжали всадники. Охрана, которая должна была сопровождать нас по песчаным равнинам Жаркой полосы, постепенно начинала собираться. Наши люди быстро объединились. Те и другие были воинственны и молчаливы. Бывшие разбойники, уставшие от необеспеченной скитальческой жизни, они предпочитали служить тому, кто больше заплатит. Их ничто не страшило. Преданность их была поистине легендарна. Моя лошадь была уже оседлана, пистолеты вложены в седельные кобуры, а на крупе были водружены яркие мавританские сумки с едой на дорогу, когда Нинья Чоле снова появилась в патио. Увидав ее, я подошел к ней. С притворным нетерпением она топнула своей хорошенькой ножкой.
Мы сели в седла и поехали городом. Уже миновав городские ворота, мы остановились, чтобы сосчитать число всадников. А потом начался путь, утомительный, длинный. Там и тут на склонах песчаных холмов виднелись одинокие хижины; среди огромных кактусов показывались их остроконечные крыши из серой, наполовину сгнившей соломы. Женщины медного цвета кожи, с кроткими глазами появлялись в дверях и смотрели на нас, равнодушные и немые. Сами позы этих словно отлитых из бронзы фигур говорили о том, что они издавна повержены в печаль и что это — печаль порабощенного народа. Покорные лица, белоснежные зубы; большие черные глаза, дикие, томные, с поволокой. Казалось, женщины эти рождены, чтобы жить в дуарах{34} и возлежать у подножия пальм и кипарисов.
Солнце уже зашло, когда на горизонте показалась индейская деревня. Она была еще очень далеко, озаренная голубоватым светом, погруженная в безмятежную тишину. По глинистой дороге, среди полей гигантского маиса, в облаке пыли, проходили стада. Колокольня, увенчанная огромным ястребиным гнездом, возвышалась над рядами пальмовых крыш. Эта тихая и мирная деревушка, притаившаяся в глубине долины, напомнила мне те индейские деревни, жители которых разбегались при приближении испанских завоевателей. Все двери были уже заперты, и из труб поднимался белый дымок; он стлался среди сумеречного света и, казалось, с патриархальным радушием встречал путников. Мы остановились у ворот и попросили приюта в старинной обители монахинь ордена святого Иакова. Слуга постучал в дверь; за решеткой появилась женская голова в токе, и завязался долгий разговор. Мы с Ниньей Чоле отстали от всех; мы ехали медленно, опустив поводья, поглощенные друг другом. Когда мы подъехали к обители, монахиня уже отошла от решетки. Вслед за тем тяжелые створки ворот медленно распахнулись, и сестра привратница во всем белом вышла нам навстречу:
— Входите, братья и сестры, если вам угодно отдохнуть в нашей святой обители.
Монахини ордена святого Иакова никогда не отказывали в гостеприимстве. Каждый путник легко мог найти у них пристанище. Так предписывал статут доньи Беатрисы де Сайас, фаворитки и придворной дамы вице-короля, которая и основала эту обитель. Герб ее все еще красовался над сводом портала. Сестра привратница провела нас по открытой галерее, под густою сенью апельсиновых деревьев. То было монастырское кладбище. Шаги наши гулко раздавались по каменным плитам, на которых еще можно было прочесть полустертые надписи. Монотонно и печально журчал фонтан. Стемнело; светлячки заплясали среди совсем уже черной листвы. Пройдя по галерее, мы остановились перед дверью, обитой кожей и окованной бронзой. Монахиня открыла ее. Связка ключей, которую она носила за поясом, громко зазвенела и дребезжала потом еще долго. Сестра привратница скрестила руки на своем нарамнике и, отойдя к стене, чтобы пропустить нас, прогнусавила:
— Вот наша гостиница, братья и сестры.
Это была большая чистая комната с затейливыми решетками окон, выходивших в сад. На одной из стен висел портрет основательницы обители; у ног ее был свиток, повествующий о ее деяниях, а у другой стены стоял покрытый тонким полотняным покрывалом аналой. В полумраке с трудом можно было разглядеть развешанные по стенам картины с изображением крестного пути. Сестра привратница тихо спросила меня, кто я и куда мы едем. Голосом таким же тихим и благочестивым я ответил:
— Сестра, я маркиз де Брадомин, и путь мой завершается в этой святой обители.
— Если вам угодно видеть мать аббатису, — робко и вкрадчиво продолжала монахиня, — я доложу ей о вашем приезде. Только придется немного подождать: мать аббатиса беседует сейчас с его преподобием епископом колимским, который прибыл позавчера.
— Я подожду, сестра моя. Я повидаюсь с матерью аббатисой, когда это будет удобно.
— Ваша милость ее знает?
— Нет, сестра моя. Я прибыл в эту обитель исполнить обет.
В эту минуту к нам подошла Нинья Чоле, и монахиня, почтительно на нее глядя, спросила:
— А госпожа маркиза тоже?
Нинья Чоле лукаво на меня посмотрела; взгляд этот меня воодушевил. Одновременно мы оба ответили:
— Тоже, сестра моя, тоже.
— Тогда я сию же минуту предупрежу мать аббатису. Она будет очень рада узнать, что к нам прибыли такие высокопоставленные особы. Она ведь тоже истая испанка.
И сестра привратница, низко поклонившись, ушла, шлепая сандалиями и шурша складками одежды. Наши слуги последовали за ней, и Нинья Чоле осталась со мной вдвоем. Я поцеловал ей руку, а она с улыбкой, в которой была какая-то удивительная жестокость, прошептала:
— Если только генерал Диего Бермудес когда-нибудь узнает об этой проделке, вы погибли!
Нинья Чоле подошла к аналою и, накрыв голову шалью, стала на колени. Слуги, столпившиеся у дверей, последовали ее примеру, и все стали креститься, благоговейно шепча. Нинья Чоле громко прочла молитву. Она благодарила бога за счастливый исход нашего путешествия. Слуги хором ей вторили. Как то подобало кавалеру ордена святого Иакова, я молился стоя, воспользовавшись правом, дарованным нам монахами-августинцами.
Вошли две прислужницы, неся большое серебряное блюдо с закуской и сластями, а вслед за ними — мать аббатиса в своей развевавшейся по воздуху белой рясе, на которой красным шелком был вышит крест святого Иакова. Она остановилась в дверях и с легкой улыбкой, любезной и вместе с тем высокомерной, приветствовала нас по-латыни:
— Deo gratias![3]
Мы ответили по-испански:
— Тебе, господи!
Мать аббатиса выглядела настоящей аристократкой. Это была белолицая блондинка, державшаяся непринужденно и чрезвычайно учтиво. Она встретила нас словами:
— Я тоже испанка. Родом я из Вьяны-дель-Приор. Еще девушкой я знала очень уже немолодого кабальеро, который носил титул маркиза де Брадомина. Это был настоящий святой!
— Не только святой, но и мой дед, — с гордостью сказал я.
Мать аббатиса приветливо улыбнулась, а потом вздохнула:
— Он давно уже умер?
— Давно!
— Царствие небесное! Я хорошо его помню. Он много ездил по свету и, если я не ошибаюсь, побывал даже здесь, в Мексике.
— Он воевал здесь во время восстания священника Идальго.{35}
— Верно! Верно! Хоть я и была тогда совсем маленькой, я помню, как он об этом рассказывал. Маркиз был большой друг нашего дома. Я из рода Андраде де Села.
— Андраде де Села! Старинный майорат!
— Со смертью моего отца он перестал существовать. Печальная участь всех дворянских родов! Ах, в какие тяжелые времена мы живем! Всюду правят враги религии и старинных устоев. Здесь, так же как и в Испании.
Мать аббатиса вздохнула, воздев глаза к небу, скрестив на груди руки. На этом разговор наш окончился. Потом она подошла к Нинье Чоле с любезной и высокомерной улыбкой королевской дочери, посвятившей себя созерцательной жизни:
— Маркиза, разумеется, мексиканка?
Нинья Чоле опустила глаза и покраснела:
— Да, мать аббатиса.
— Но родом вы из Испании?
— Да, мать аббатиса.
Нинья Чоле отвечала не сразу, и щеки ее пылали. Поэтому я со всей учтивостью пришел к ней на помощь. В ее честь я придумал целую любовную историю, рыцарственную и романтичную, какие тогда были в моде. Мать аббатиса была до того растрогана моим рассказом, что на ресницах ее затрепетали две светлые слезинки. Время от времени я поглядывал на Нинью Чоле в надежде обменяться с ней улыбками, но глаза ее ни разу не встретились с моими. Она слушала меня, неподвижная и глубоко взволнованная. Я сам удивлялся, слыша, как легко с уст моих слетает повесть о приключениях, заимствованных из старинной комедии. Говорил я так вдохновенно, что Нинья Чоле закрыла вдруг лицо руками и горько зарыдала. Мать аббатиса, совсем растроганная, сняла с себя нарамник и стала обмахивать лицо новоявленной маркизе; в это время я с силой сжал Нинье Чоле руки. Постепенно она успокоилась, и мать аббатиса повела нас в сад, чтобы, подышав вечерней прохладой, маркиза могла окончательно прийти в себя… Там мать аббатиса оставила нас вдвоем, ибо ей надо было подготовить себя к мессе.
Сад был со всех сторон окружен оградой, как крепость. Большой и тенистый, он был полон шорохов и ароматов. Ветви деревьев так плотно сплетались над нашими головами, что только изредка нам удавалось видеть листву, посеребренную лунным светом. Шли мы молча. Маркиза вздыхала, я пребывал в задумчивости, бессильный ее утешить. Сквозь листву мы увидели открытую площадку; за ней светлели извилистые аллеи, обсаженные темными миртами. Луна изливала на них свое сияние, далекое и непостижимое, как чудо. Маркиза остановилась. Две сестры послушницы сидели у подножия фонтана, окруженного карликовыми лаврами, обладающими свойством отводить удар молнии. Нельзя было понять, молятся ли послушницы или рассказывают друг другу монастырские секреты, — шепот их сливался с журчаньем воды. Они наполняли свои кувшины. Когда мы подошли к ним, они приветствовали нас по христианскому обычаю:
— Славься, Мария пречистая!
— Без греха зачатая!
Я хотел выпить воды из фонтана, но они остановили меня громкими криками:
— Сеньор! Как можно, сеньор!
Я остановился, пораженный.
— Разве вода эта отравлена?
— Перекреститесь, сеньор. Это священная вода. Только у наших монахинь есть разрешительная булла на то, чтобы ее пить. Булла его святейшества папы, присланная из Рима. Это святая вода младенца Иисуса.
И обе послушницы, перебивая друг друга, показали мне голенького мальчика, который отправлял свою надобность, шаловливо и простодушно пуская тоненькую струйку в алебастровый водоем. Они сказали мне, что это младенец Иисус. Услыхав это, маркиза благоговейно перекрестилась. Я уверил послушниц, что у маркизы де Брадомин есть тоже папская булла на то, чтобы пить воду младенца Иисуса. Они с глубоким почтением на меня посмотрели и стали наперебой предлагать мне кувшин, но я уверил их, что госпожа маркиза предпочитает утолить жажду, припав губами к самому священному источнику, из которого струится вода. Нинья Чоле откинула покрывало и наклонилась к фонтану. Но стоило ей начать пить, как ее разобрал такой смех, что она едва не поперхнулась. Когда мы уходили, она шепнула мне, что совершила кощунство.
Как только месса окончилась, за нами пришла монахиня и провела нас в трапезную, где нас ждал ужин. Шла она, благоговейно сложив руки. Это была старуха, и говорила она гнусаво. Мы следовали за ней, но на пороге трапезной Нинья Чоле заколебалась:
— Сестра моя, я сегодня пощусь и не могу сейчас идти в трапезную ужинать со всеми.
В это время ее глаза индейской царицы молили меня о помощи. Я с готовностью эту помощь ей оказал. Я понял, что Нинья Чоле боится, как бы кто-нибудь из путников не узнал ее. Ведь все прибывшие в обитель должны были, когда ударит колокол, собраться на ужин. Преисполненная почтения к постнице, монахиня озабоченно спросила:
— Сеньоре что-нибудь понадобится?
— Я хочу только лечь отдохнуть, сестра моя.
— Как вам будет угодно, сеньора. Вы, верно, долго были в пути?
— Мы едем из Веракруса.
— Бедняжка! Конечно, вы очень устали.
Мы прошли длинным коридором. Сквозь окна туда проникал бледный свет луны. От звяканья моих шпор священная тишина оглашалась эхом, воинственным и похожим на кощунство. Смущенные этими звуками, монахиня и маркиза шли впереди, стараясь, чтобы шаги их были легки и благоговейны. Старуха отворила украшенную старинными арабесками дверь и, став в стороне, тихо сказала:
— Проходите, сеньора. Я не заставлю вас ждать. Только провожу господина маркиза в трапезную и сразу вернусь. Сию же минуту.
Маркиза вошла в комнату, даже не взглянув на меня. Монахиня закрыла дверь и удалилась, как тень, знаками приглашая меня следовать за нею. Так она довела меня до трапезной и, простившись со мною голосом еще более гнусавым, чем прежде, исчезла.
Я вошел в трапезную, и в то время как я искал глазами, где лучше сесть, капеллан монастыря поднялся и с великой учтивостью объявил мне, что для меня оставлено место во главе стола. Это был доминиканец, высокообразованный человек и поэт. Долгие годы он жил изгнанником в Мексике, куда его выслал архиепископ, лишивший его права исповедовать и служить мессу. И все по навету. Угощая меня, он все рассказал мне сам. И рассказ свой завершил такими словами:
— Теперь вы знаете, сеньор маркиз де Брадомин, удивительную жизнь брата Лопе Кастельяра. Если вам понадобится капеллан, поверьте, что я с великой радостью покину всех этих благочестивых сеньор. Пусть даже только для того, чтобы очутиться по ту сторону океана, господин маркиз.
— В Испании у меня свои капелланы.
— В таком случае извините меня. Мне осталось только служить вам здесь, в этой Мексике, посланной мне за грехи, где мгновенно разделываются с христианами. Поверьте, что тот, кто может позволить себе иметь здесь собственного капеллана, должен это сделать хотя бы для того, чтобы перед смертью ему отпустили грехи.
Ужин окончился, и под шум отодвигаемых скамеек все мы поднялись, чтобы прочесть благодарственную молитву, сочиненную благочестивой основательницей обители, доньей Беатрисой де Сайас. Послушницы стали убирать со стола. Вошла мать аббатиса и приветливо всем улыбнулась:
— Может быть, господин маркиз предпочтет, чтобы ему предоставили отдельную келью?
Краска на лице матери аббатисы мне все объяснила, и, не в силах сдержать улыбки, я ответил:
— Маркиза очень пуглива, и я буду с ней — разумеется, если это не нарушит устава вашей святой обители.
— Устав святой обители не может идти против религии.
Я слегка вздрогнул. Мать аббатиса опустила глаза и, не поднимая их, сказала назидательным тоном, растягивая слова:
— Господь наш Иисус Христос одинаково любит как творения, которых он соединяет своими святыми узами, так и те, которые его же милостью живут в мире раздельно. Господин маркиз, я не хочу уподобиться фарисею, который думал, что он лучше всех остальных.
В своей белой рясе мать аббатиса была очень хороша собой, и, так как она показалась мне светской дамой, способной понимать и жизнь и любовь, я почувствовал искушение попросить ее, чтобы она приняла меня у себя в келье. Но то было всего лишь искушение. Гнусавая старуха, провожавшая меня в трапезную, явилась снова. В руке у нее был зажженный светильник. Мать аббатиса велела ей проводить меня и пожелала мне спокойной ночи. Должен признаться, что мне стало немного грустно, когда она удалилась по коридору и ее развевавшаяся по воздуху ряса забелела во мраке. Вернувшись к старухе монахине, которая ждала меня со светильником в руке, я спросил:
— Должен ли я целовать руку матери аббатисе?
Монахиня поправила току и ответила:
— Мы целуем руку только его преподобию епископу, когда он удостаивает нас своим посещением.
И едва слышными шагами она пошла вперед, освещая мне дорогу к брачной келье. Это была просторная келья, пахнувшая альбаакой, с открытым окном в сад, где на серебристой листве тропической ночи смутно выступали чернеющие верхушки кедров. Ровное и монотонное стрекотание цикады нарушало тишину. Я запер дверь кельи на ключ, задвинул засов и бесшумно приоткрыл белый москитник, которым с приличествующей обители стыдливостью была задернута единственная в келье кровать.
Нинья Чоле спала блаженным сном праведницы. По губам ее, казалось, все еще пробегали слова молитвы. Я наклонился, чтобы поцеловать ее. Это был мой первый супружеский поцелуй. Нинья Чоле проснулась и вскрикнула:
— Что вы здесь делаете, сеньор!
Я ответил ей галантно и покровительственно:
— Царица моя и сеньора, я охраняю твой сон.
Нинья Чоле не могла понять, каким образом я попал к ней в келью. И мне пришлось напомнить ей о моих супружеских правах, которые были признаны матерью аббатисой. Это приятное напоминание ее, видимо, огорчило. Впившись в меня глазами, она повторяла:
— О! Как ужасна будет месть генерала Бермудеса!
И, вне себя от гнева — потому что при этих словах я улыбнулся, — она прикрыла мне руками лицо; то были руки индейской принцессы, и я сразу же захватил их в плен. Не отрывая от них глаз, я сжал их так, что она вскрикнула, и, совладав со своей досадою, поцеловал их. Нинья Чоле зарыдала и опустилась на подушки. Не пытаясь ее утешить, я отошел в сторону. Гордое презрение овладело мною, оскорбительные слова готовы были сорваться с языка, и, чтобы скрыть, как у меня дрожат губы, должно быть совсем побелевшие, я улыбнулся. Я долго стоял у окна, глядя в темный сад, где шелестела листва. Цикада все еще стрекотала, откуда-то издалека доносилось ее однообразное пение. Время от времени до меня долетали рыдания Ниньи Чоле, такие приглушенные и слабые, что сердце мое, от природы склонное прощать, смягчилось. Вдруг в ночной тишине зазвонил монастырский колокол. Дрожащим голосом Нинья Чоле позвала меня:
— Сеньор! Узнаете вы этот звон? Кто-то кончается!
В ту же минуту она благоговейно перекрестилась.
Не разжимая губ, я подошел к ее кровати и, остановившись, поглядел на нее пристально и мрачно.
— Кто-то сейчас умрет! — испуганно прошептала она.
Тогда, взяв ее руки в свои, я сказал ей с нежностью:
— Может быть, это буду я!
— Вы, сеньор?
— Да, если у дверей монастыря появится генерал Диего Бермудес.
— Нет! Не может этого быть!
И, стиснув мои руки, она заплакала. Я хотел осушить ее слезы губами, но, уткнувшись в подушки, она взмолилась:
— Ради бога! Ради бога!
Голос ее, тихий и глухой, совсем замер. Она посмотрела на меня; ресницы ее дрожали, губы были полуоткрыты. Колокол все звонил, медлительно и печально. В саду шелестели листья, и вместе с ветерком, развевавшим белые складки москитника, оттуда доносился запах цветов. Наконец траурный звон окончился, и, улучив удобную минуту, я поцеловал Нинью Чоле. Она не сопротивлялась, как вдруг новый удар колокола возвестил о смерти. Нинья Чоле вскрикнула и прижалась к моей груди. Дрожа от страха, она искала спасения в моих объятиях. Руки мои рассеянно и успокоительно коснулись ее грудей. Она вздохнула, зажмурила глаза, и мы отпраздновали нашу свадьбу семью обильными жертвоприношениями, принесенными богам во имя торжества жизни.
Птицы на деревьях уже запели, приветствуя солнце, когда мы подошли к окну, готовые продолжать путь. Влажные от росы цветы альбааки пахли сильно и необычно, и аромат их навевал воспоминания о мавританском гареме и о ночных празднествах. Склонив голову мне на плечо, Нинья Чоле тихо вздохнула, и глаза ее, прекрасные глаза, магнетические и священные, ласково на меня посмотрели.
— Тебе грустно, дитя мое? — спросил я.
— Мне грустно, оттого что нам придется расстаться. Малейшее подозрение может нам стоить жизни.
Я с нежностью провел пальцами по ее шелковистым волосам и высокомерно сказал:
— Не бойся, я сумею заставить твоих слуг молчать.
— Это индейцы, сеньор. Сейчас они станут на колени и пообещают все, что угодно, а стоит только их господину грозно на них посмотреть, и они всё расскажут. Мы должны расстаться!
Я поцеловал ей руки страстно и покорно:
— Дитя мое, не говори так! Мы вернемся в Веракрус. «Далила», может быть, еще стоит в порту. Мы поедем в Грихальбу. Мы скроемся в моем поместье в Тиксуле.
Нинья Чоле посмотрела на меня долгим взглядом, в нем была несказанная ласка. Ее томные глаза, глаза индейской царицы, блестели. Мне показалось, что она упрекает меня и в то же время покоряется мне.
Она завернулась в покрывало и, залившись краскою, прошептала:
— Жизнь моя так печальна!
И, словно для того, чтобы не осталось во мне никаких сомнений, на глазах ее появились слезы. Я как будто все угадал и сказал галантно и великодушно:
— Можешь не рассказывать. Печальные истории напоминают мне мою собственную.
Она зарыдала:
— В жизни моей есть то, чего простить нельзя.
— Такие люди, как я, прощают все.
Она закрыла лицо руками:
— Я совершила ужаснейший из грехов. Грех, простить который может только его святейшество папа.
Видя, что она так удручена, я нежно положил ее голову себе на грудь и сказал:
— Дитя мое, можешь рассчитывать на мое влияние в Ватикане. Я был капитаном папской гвардии. Если хочешь, мы отправимся с тобою в Рим паломниками и падем в ноги Григорию Шестнадцатому.{36}
— Я поеду одна… Это мой грех, я одна виновата.
— Любовь моя и честь требуют, чтобы и я совершил такой же грех. А что, если я уже совершил его?
Нинья Чоле взглянула на меня глазами, полными слез, и сказала с мольбой:
— Не говори так. Этого быть не может!
Я недоверчиво улыбнулся. Вырвавшись из моих объятий, она убежала в глубину кельи. Глядя на меня глазами, полными слез, она с негодованием вскричала:
— Если бы это была правда, я бы тебя возненавидела… Ведь когда я сделалась жертвой этой несчастной любви, я была невинной, неопытной девочкой.
Она снова закрыла лицо руками. В это мгновение я угадал ее грех. Это был великолепный грех античных трагедий. Над Ниньей Чоле тяготело то же проклятие, что над Миррой и Саломеей. Я подошел к ней; я все ей прощал и запечатлел на губах ее умиротворяющий поцелуй. Потом тихо и кротко сказал:
— Я знаю все. Генерал Диего Бермудес — твой отец.
— О, горе мне, это сущая правда, — в отчаянии простонала она. — Когда он вернулся из эмиграции, мне было двенадцать лет; я его почти не помнила.
— И теперь тоже больше не вспоминай.
Нинья Чоле в порыве благодарности и любви прильнула головой к моему плечу:
— Ты такой великодушный!
Губы мои дрожали, коснувшись ее уха, похожего на маленькую раковинку, нежную и отливающую перламутром.
— Нинья, вернемся в Веракрус.
— Нет.
— Ты боишься, что я тебя покину? Ты не понимаешь, что теперь я на всю жизнь твой раб?
— На всю жизнь! Она будет такой короткой у нас обоих.
— Почему?
— Потому что он убьет нас. Он поклялся!
— Все сложится так, что он не сможет исполнить своей клятвы!
— Исполнит.
Задыхаясь от рыданий, она повисла у меня на шее. Она не сводила с меня глаз, полных слез, словно пытаясь что-то прочесть в моих. Сделав вид, что я ослеплен этим взглядом, я зажмурил глаза. Она вздохнула:
— Ты хочешь увезти меня с собой, не зная истории моей жизни.
— Я ее уже знаю.
— Не всю.
— Ты доскажешь мне остальное, когда мы разлюбим друг друга, если такой день когда-нибудь настанет.
— Ты должен узнать все, сейчас, даже если после этого будешь меня презирать… Ты единственный, кого я любила, клянусь тебе, ты единственный на свете… А ведь один раз, для того чтобы убежать от отца, я взяла себе любовника. Отец убил его.
Она умолкла и зарыдала. Дрожа от страсти, я целовал ее в глаза, в губы. В эти кроваво-красные губы, в эти темные глаза, прекрасные как ее жизнь.
В монастыре зазвонили к мессе. Нинья Чоле решила помолиться, перед тем как пускаться в путь. Это была длинная заупокойная месса. Служил ее брат Лопе Кастельяр, и, чтобы искупить мои грехи, я взялся ему прислуживать. Монахини хором пели покаянные псалмы, и их величественные фигуры во влачившихся по полу длинных белых одеждах проплывали вокруг аналоя, на котором лежал требник. На раскрытой странице бросались в глаза красные заглавные буквы.
В глубине церкви, на черном сукне, окруженный свечами, стоял гроб усопшей монахини. Руки ее были скрещены на груди; посиневшие пальцы сжимали четки. Подбородок был подвязан белым платком, чтобы закрыть рот, который ввалился, как будто в нем не было зубов. Синеватые веки были полуоткрыты. Тока{37} на голове усиливала линию висков. Покойница была завернута в рясу, из-под подола которой выступали обнаженные ноги, желтые как воск.
Когда, закончив ответные возгласы, брат Лопе Кастельяр обернулся, чтобы благословить молящихся, несколько человек сопровождавших нас наемников, которые стояли у входа, вдруг ринулись вперед; как коршуны, налетели они на стоявшего на коленях молодого человека и стали его избивать. Тот отчаянно защищался; пригнувшись и рыча от боли под градом ударов, он боролся до тех пор, пока окончательно пе обессилел и не упал на ступеньки амвона. Монахини с криком убежали. Брат Лопе Кастельяр, прижав чашу к груди, вышел вперед:
— Что вы делаете, нечестивцы?
Человек, лежавший на полу, едва дыша, вскричал:
— Брат Лопе! Друзей не предают!
— Не говори так, Гусман!
Как раненый кабан, который отбивается от собак, молодой человек вдруг вскочил на ноги, высвободил руки, отбросил навалившихся на него противников и кинулся в противоположный конец церкви. Добежав до дверей и увидав, что они заперты, он бесстрашно вернулся назад, сорвал цепь, при помощи которой звонили в колокола, и, кружа ею вокруг себя, стал обороняться. Восхищенный его мужеством, я вытащил пистолет и стал рядом с ним:
— Стойте!
Наемники на мгновение остановились в нерешительности. В это время остававшийся в алтаре брат Лопе широко распахнул двери сакристии. Юноша, продолжая размахивать изо всей силы цепью, в ту же минуту перескочил через гроб, опрокинул стоявшие возле него подсвечники и вбежал в сакристию. Преследователи его кинулись за ним, но дверь захлопнулась, и тогда они повернули в мою сторону, угрожающе размахивая руками. Прислонившись к решетке хоров, я дал им подойти ближе и выстрелил из обоих пистолетов. Толпа мгновенно поредела. Двое упало. Нинья Чоле поднялась, красивая и похожая на героиню трагедии:
— Прочь! Прочь отсюда!
Наемники не слушали ее слов; с яростными воплями они кинулись вперед, направив на меня пистолеты. Целый град пуль вонзился в решетку хоров. Каким-то чудом оставшись в живых, я схватился за свой мачете:
— Назад! Назад, негодяи!
Испуганная Нинья Чоле подбежала к ним, крича:
— Если вы сохраните ему жизнь, я заплачу вам сколько хотите!
Возглавлявший разбойников старик повернулся к ней и посмотрел на нее своими горящими яростью глазами. Его козлиная бородка тряслась от гнева:
— Нинья, за голову Хуана Гусмана назначена награда.
— Я это знаю.
— Если мы его доставим живым, нам заплатят сто унций.
— Вы их получите.
Поднялась новая волна криков, яростных и неистовых. Старик поднял руку, призывая всех к молчанию:
— Дайте людям сказать!
И, продолжая трясти бородкой, он повернулся к нам:
— А что же, по-вашему, за тех, кого вы как собак пристрелили, ничего не надо платить?
— Ладно! Сколько ты хочешь? — спросила Нинья Чоле в тревоге.
— Об этом надо подумать…
— Ну что же…
— Одних слов мало, залог нужен.
Нинья Чоле сорвала с себя кольца, в которых ее руки походили на руки богини, и высокомерно кинула их ему:
— Поделите между собой. А теперь оставьте нас в покое.
В нерешительности люди эти пошептались между собою и потом медленно прошли через неф. На амвоне они остановились в раздумье. Нинья Чоле положила мне руки на плечи и, впиваясь в меня глазами, вскричала:
— О сумасшедший испанец! Настоящий лев!
Я ответил едва заметной улыбкой. Я смотрел на эти два бездыханных тела, простертых посреди церкви, и меня охватило тревожное чувство. Вокруг них уже образовалась лужа крови, и кровь эта растекалась между плит. Слышались клокотание ран и хрип лежавшего снизу. Время от времени он вздрагивал и судорожно шевелил совсем побелевшей рукой.
Брат Лопе де Кастельяр ожидал нас в сакристии, читая молитвы. На резном ларе с великой тщательностью было разложено церковное облачение. В сакристии было мрачно: ветки кедра закрывали свет, проникавший туда сквозь окно с решеткой. Увидав нас, отец Лопе поднялся со скамьи:
— Я думал, вас уже нет в живых! Это просто чудо! Садитесь. Сеньора должна успокоиться. Я угощу вас вином, которое берегу для его преподобия, когда ему бывает угодно посетить нас и отслужить мессу. Это испанское вино. Индейская пословица гласит: «Женщины, вино и сукно „бретания“ — все из Испании».
Продолжая говорить, он подошел к большому полированному стенному шкафу и распахнул его настежь. Потом он извлек оттуда увесистый кувшин и с видимым удовольствием его понюхал:
— Сейчас вы увидите, что это за нектар. Ваш покорный слуга монах, по скромности своей, пользуется для мессы вином попроще, ведь оно тоже кровь господа нашего Иисуса Христа.
Дрожащей рукой он наполнил серебряный кубок и протянул его Нинье Чоле: та молча его приняла и молча передала мне. Но брат Лопе тут же наполнил другой кубок:
— Что вы делаете, ваша светлость! Для господина маркиза есть еще один…
Нинья Чоле мечтательно улыбнулась:
— Составьте вы ему компанию, брат Лопе.
Брат Лопе загоготал. Он уселся на скамью и поставил кубок рядом с собой:
— Ваша светлость разрешит мне задать один вопрос? Откуда вы знаете Хуана де Гусмана?
— Я его не знаю.
— Как же вы могли так храбро его защищать?
— Просто пришла такая фантазия.
Брат Лопе покачал головой, на которой белела тонзура, и выпил глоток вина:
— Фантазия! Фантазия! Хуан де Гусман — мой друг. Но я бы никогда не мог на это решиться.
— Мужчина мужчине рознь, — с нескрываемым презрением сказала Нинья Чоле.
Умиротворенный отличным вином, которое мне подливал брат Лопе, я учтиво заметил:
— Чтобы служить мессу, нужно еще больше мужества!
Брат Лопе весело на меня посмотрел:
— Это не называется мужеством. Это благодать.
Мы подняли бокалы и вместе выпили. Брат Лопе наполнил их снова:
— Ваша светлость, вероятно, даже не имеет представления о том, кто такой Хуан де Гусман?
— Я впервые услышал это имя вчера, набирая провожатых в Веракрусе. Верно, какой-нибудь знаменитый разбойник.
— Знаменитый. За голову его назначена награда.
— Ну а теперь-то он убережется?
Брат Лопе сложил руки и многозначительно опустил глаза:
— Кто знает, ваша светлость!
— Как это он рискнул войти в церковь?
— Он очень благочестив. К тому же аббатиса — его крестная мать.
В эту минуту крышка ларя приоткрылась, и оттуда высунулась голова. Это был Хуан де Гусман. Брат Лопе стремительно подбежал к дверям и запер их на засов. Хуан Гусман выскочил из ларя и прямо посреди сакристии кинулся целовать мне руки.
Брат Лопе сел с нами рядом и дрожащим от волнения голосом пробормотал:
— Тому, кто рискует головой, головы не сносить.
Хуан де Гусман презрительно улыбнулся:
— Двум смертям не бывать, одной не миновать, брат Лопе!
— Хоть бы говорил-то потише.
Брат Лопе настороженно смотрел то на дверь сакристии, то на решетку окна. Мы последовали его благоразумному совету, и, пока мы продолжали наш разговор в дальнем углу сакристии, Нинья Чоле, отойдя в сторону, в страхе творила молитву.
По словам брата Лопе, за голову знаменитого разбойника, за великолепную голову испанского авентуреро, была назначена награда. В XVI веке Хуан Гусман завоевал бы права дворянства, сражаясь под знаменами Эрнана Кортеса.{38} Может быть, тогда бы он оставил по себе славную память. У этого предводителя разбойников были рыцарские замашки; казалось, он рожден для того, чтобы прославить свое имя в Новой Испании,{39} грабя города, насилуя принцесс и обращая в рабство императоров. Старый и усталый, изувеченный рубцами от ран и увенчанный славой, он, вернувшись домой, привез бы с собою свою добычу, завоеванную то ли в Отумбе, то ли в Мангорэ и превращенную в испанские дублоны. Славные битвы! Гордо звучащие имена! Он воздвиг бы башню; с соизволения господина своего короля он основал бы майорат и был бы с почестями погребен в церкви какого-нибудь монастыря. Надгробная плита с гербом и пространной надписью напоминала бы о подвигах кабальеро, и еще много лет спустя его каменною статуей под сводами церкви матери продолжали бы пугать непослушных детей.
Я преклоняюсь перед благородством аббатисы, которая сумела сделаться его крестной матерью, продолжая оставаться святой. Что до меня, то скорее всего меня искусил сам дьявол, ибо предводитель разбойников имел вид суровый и галантный. Такими на старинных портретах изображали военачальников эпохи Возрождения. Он был красив, как незаконный сын Чезаре Борджа. Рассказывают, что, подобно герцогу, он умел убивать спокойно, без ярости, как убивают люди, презирающие жизнь и поэтому не считающие убийство за преступление… Его кровавые подвиги — это именно те деяния, из которых в прежние времена могли вырасти эпопеи. В наши дни это бывает все реже, ибо в душах наших нет прежней пылкости, стремительности и силы. Грустно видеть, что духовные братья этих заокеанских авентуреро обречены на самый обыкновенный разбой!
У предводителя этих бандитов были свои любовные похождения. Он был одинаково знаменит и своей неистовой храбростью и своими повадками галантного кабальеро. Он властвовал над дорогами и тавернами. У него хватало храбрости разъезжать верхом в одиночестве, высоко заломив поля украшенной золотом шляпы. Его белый сарапе{40} развевался по ветру, как мавританский плащ. Он был красив суровой, мужественной красотой: маленькие блестящие глаза, которые пронизывали насквозь, гордый излом носа, загорелое лицо, прямые усы, шелковистая черная борода. В его пламенном взгляде трепетала душа великого полководца, твердая и готовая к любым поворотам, как рукоять шпаги. К сожалению, таких натур остается совсем уже мало.
Как прекрасна была бы участь этого Хуана де Гусмана, если бы на склоне лет он раскаялся и удалился в один из монастырей, чтобы искупить там грехи, подобно святому Франциску де Сена!
Мы вернулись в Веракрус в сопровождении только нескольких верных нам слуг. «Далила» все еще стояла на якоре близ замка Улуа, и мы увидели ее издалека, когда усталые и измученные жаждою лошади поднимались по песчаному склону холма. Мы проехали городом, нигде не остановившись, и направились к берегу, спеша переправиться на фрегат. Вскоре после того как мы поднялись на борт, «Далила» подняла паруса, чтобы воспользоваться попутным ветром, налетевшим издалека и покрывшим рябью море, зеленое, как во сне. Едва только парус заполоскал, как Нинья Чоле, растрепанная и бледная, кинулась к борту — ей стало худо.
Капитан в белом кителе и пальмовом сомбреро расхаживал взад и вперед по юту. У правого борта, укрывшись в тени парусов, спало несколько матросов; под тентом двое харочо,{41} севшие на фрегат в Тукстлане, играли в ландскнехт. Это были отец и сын. Оба худые и желтые. Старик с козлиной бородкой, молодой — еще безусый. Партия неизменно кончалась ссорой, и проигравший грозил убить другого. После игры каждый сосчитывал свои деньги и, что-то бормоча, стремительно прятал их в кошелек. Несколько мгновений разбросанные карты лежали на постеленном между ними сарапе. Потом старик медленно их собирал и тасовал снова. Тогда сын его, которому все время не везло, вынимал из-за пояса кожаный кошелек с золотом и опрокидывал на сарапе, после чего игра возобновлялась.
Я подошел к ним и стал смотреть. Старик, у которого в эту минуту в руках были карты, вежливо пригласил меня и велел сыну подвинуться, чтобы я мог сесть в тень. Я не заставил себя просить. Усевшись между обоих харочо, я отсчитал десять дублонов Фернанда и поставил их на первую выпавшую карту. Я выиграл, и это раззадорило меня продолжать игру, хоть я и сразу сообразил, что старик — опытный шулер. Его загорелая исхудавшая рука, похожая на ястребиную лапу, медленно метала. Сын его, по-прежнему мрачный и молчаливый, искоса смотрел на игру отца и каждый раз ставил на те же карты, что и я. Старик все время проигрывал мне и нисколько этим не огорчался. Я заподозрил, что он собирается меня надуть, и удвоил внимание. Но я продолжал выигрывать.
Когда солнце зашло, на палубе появилось несколько пассажиров. Старый харочо начал собирать вокруг себя компанию и теперь уже выигрывал. Среди игроков был молчаливый и красивый юноша, которому, как мне показалось, однажды улыбнулась Нинья Чоле. Едва только взгляды наши встретились, я начал проигрывать. Может быть, это было простое суеверие, но, так или иначе, я предчувствовал, что мне уже больше не повезет. Не везло и юноше. Я стал вглядываться, и он показался мне человеком загадочным и странным. Он был очень высокого роста. Голубые глаза, светлые брови, румяные щеки и совсем бледный лоб. Причесан он был как древний назареянин и, когда говорил, наполовину закрывал глаза, словно в каком-то мистическом экстазе. Внезапно он обеими руками схватил за руку старика, который в это время взял колоду и начал метать. На какое-то мгновение он задумался, а потом медленно и размеренно сказал:
— Ставлю на все. Снимаю.
Молодой парень, не сводя глаз со старика, вскричал:
— Отец, он снимает!
— Я не глухой. Деньги считай.
Он перевернул колоду и начал метать. Все взгляды устремились на руку старика. Метал он не спеша. Это была рука садиста, которая делала боль сладостной и ее продлевала. Вдруг все зашептали:
— Валет! Валет!
Это была карта, на которую ставил красавец юноша. Старик встал и с негодованием швырнул карты:
— Сын, плати!
И, накинув сарапе на плечи, он ушел. Компания распалась, но все долго еще не могли успокоиться:
— Семьсот дублонов выиграл!
— Больше тысячи!
Я машинально повернул голову и увидел Нинью Чоле. Она стояла рядом у борта; разметанные ветром волосы падали ей на глаза. Она поправила их медлительным движением и улыбнулась белокурому красавцу. Меня охватил порыв неистовой ревности и гнева; я почувствовал, что бледнею. Если бы в глазах моих была сила василиска, я бы тут же испепелил их обоих. Но силы этой у меня не было, и Нинья Чоле могла спокойно продолжать профанацию этой улыбки, улыбки античной царицы!
Я был еще на палубе, когда на паруснике зажгли огни. Припав к моему плечу, Нинья Чоле стала ласкаться ко мне, как льстивая и хитрая кошка. Я не выказал своей ревности, но держал себя с ней высокомерно, и она остановилась, не сводя с меня глаз, в которых можно было прочесть немой упрек. Потом посмотрела вокруг и, поднявшись на цыпочки, крепко меня поцеловала:
— Ты грустишь?
— Нисколько.
— Тогда, выходит, ты на меня сердишься?
— Нет.
— Нет, сердишься.
Мы остались вдвоем на палубе; Нинья Чоле прижалась ко мне и жалобно вздыхала:
— Ты меня больше не любишь! Что теперь со мной будет! Я умру! Я покончу с собой.
И ее красивые, полные слез глаза обратились к морю, которое искрилось от лунного света.
Я продолжал молчать, хоть и был глубоко растроган. Мне уже хотелось утешить ее, как вдруг на палубе появился молчаливый белокурый юноша. Немного смущенная, Нинья Чоле вытерла слезы. Выражение моего лица, должно быть, ее испугало — руки ее дрожали. Спустя мгновение голосом страстным и сокрушенным она шепнула мне на ухо:
— Прости меня!
— Ты хочешь, чтобы я тебя простил? — переспросил я.
— Да.
— Мне не за что тебя прощать.
Она улыбнулась; глаза ее были еще влажны.
— Почему ты не признаешься? Ты сердишься оттого, что я посмотрела на этого… Я понимаю, что ты ревнуешь, ведь ты ничего не знаешь.
Она замолчала, и на ее алых полных губах появилась ехидная улыбка. Белокурый юноша разговаривал с юнгой мулатом. Потом они оба удалились и продолжали стоять, облокотившись о борт. Охваченный яростью, я спросил:
— Кто это такой?
— Один русский князь.
— Он влюблен в тебя?
— Нет.
— Ты два раза ему улыбнулась.
Весело и задорно Нинья Чоле ответила:
— Не только два, но и три и четыре. Только можешь не сомневаться: твои улыбки для него значат больше, чем мои. Посмотри!
Белокурый рослый красавец юноша продолжал разговаривать с мулатом и, перегибаясь за борт, обнимал его за талию. Тот весело смеялся. Это был один из тех юнг, которые стали совсем коричневыми от плавания в тропиках. Он был почти обнажен, и тело его радовало глаз своим красивым, теплым терракотовым цветом. Нинья Чоле с презрением повернулась к нему спиной:
— Теперь ты видишь, что тебе нечего к нему ревновать.
Успокоившись, я улыбнулся:
— Ревновать должна бы ты…
Нинья Чоле посмотрела мне в глаза, гордая и счастливая.
— Ты забываешь, Нинья, что можно одновременно посвятить себя и Гебе и Ганимеду.
И вдруг, неожиданно загрустив, я положил ей голову на грудь. Я не хотел больше ни на что смотреть, только думал, отчего это я всегда любил древних классиков не меньше чем женщин. Результат воспитания в дворянской семинарии. Читая любезного Петрония, я не раз вздыхал о том, что божественные празднества в честь наслаждения стали с течением веков постыдным грехом. В наши дни только на священных таинствах блуждают тени немногих избранных, возрождающих времена греков и римлян, когда увенчанные розами эфебы возлагали жертвоприношения на алтарь Афродиты. Счастливые и гонимые тени: они зовут меня, но я не могу последовать за ними!
Этот прекрасный грех, дар богов и соблазн поэтов, для меня — запретный плод. Всегда враждебное ко мне, провидение повелело, чтобы в моей душе цвели только розы Венеры, и чем старше я становлюсь, тем больше это меня огорчает. Я уверен, что на склоне лет бывает сладостно проникать в сады необычной любви. К несчастью моему, у меня не осталось этой надежды. На душу мне дохнул дьявол: он в ней разжег все грехи. На душу мне дохнул архангел: он разжег в ней все добродетели. Я претерпел все разновидности человеческой скорби, я вкусил все виды радости. У всех источников утолял я жажду мою, преклонял голову в пыли всех дорог. Было время, когда женщины любили меня, когда голоса их мне были привычны. Только две тайны остались для меня за семью печатями: любовь эфебов и музыка одного тевтона по имени Вагнер.
Всю ночь мы оставались на палубе. Наш парусник лавировал, дожидаясь ветра, который как будто появился вдалеке, там, где море светилось. С левого борта начал вырисовываться берег, то ровный, то в изгибах холмов. Так мы проплыли долго. Звезды постепенно бледнели, и небо с тою же постепенностью становилось белым. Два матроса, забравшись на крюйс-марс, укрепляли снасти и пели. Раздался свисток боцмана. Фрегат пошел против ветра, и паруса слегка заколыхались. Мы направлялись к берегу.
Вскоре на реях взвились яркие флаги. Показалась Грихальба. Светило солнце.
В эти часы жара доставляла наслаждение. Свежий ветерок доносил запахи водорослей и смолы. Токи воздуха были полны сладостной дрожи. Даль улыбалась, озаряемая ослепительным солнцем. Порывы ветра, доносившегося из девственных лесов, теплого и нежного, как дыхание любовницы, играли снастями, и душа исходила истомой от едва ощутимого запаха воды. Можно было подумать, что необъятный Мексиканский залив зелеными глубинами своими впитал всю леность этого утра, напоенного таинственной и животворной пыльцою, что он стал гаремом целой вселенной. Стоя в тени кливера, я разглядывал город в морской бинокль. Вид Грихальбы с моря напоминает фантастические пейзажи, которые рисуют развитые не по годам дети. Она белая, голубая, красная — всех цветов радуги. Это город с улыбкой на устах; это креолка в пестром весеннем платье, спустившая в воду хорошенькие голые ножки. Есть что-то необычное в ее террасах — в уступах их сверкающих изразцов, в прозрачных окраинах, где высятся стройные пальмы, напоминая о далекой пустыне и об усталости измученных зноем караванов, которые располагаются на привал в их гостеприимной тени.
Густые леса окружают гавань, и над переплетающейся листвою поднимаются величественные верхушки гигантских деревьев. Тихая и сонная река с ее молочно-белыми водами пробивает в этом лесу глубокую брешь, вырывается на прибрежный простор и образует множество островков. По ее водам облачной белизны, в которых не отражается небо, проносились вырванные с корнем деревья; в их наполовину погруженных в волны ветвях порхали диковинные пестрые птицы. Позади плыл индеец в лодке; он греб, сидя на носу. Ветер гнал по небу облака, и под лучами восходящего солнца изумрудная бухта ласково светилась, как море древних легенд, море сирен и тритонов.
Какими прекрасными кажутся мне еще и сейчас эти далекие тропические пейзажи! Тот, кто видел их хотя бы раз, их никогда не забудет. Эта безмятежная лазурь моря и неба, это солнце, которое слепит и сжигает, этот ветер, напоенный всеми ароматами Жаркой полосы, — это все равно что женщины, с которыми мы были близки и которые оставляют в нашем теле, в чувствах, в душе такие сладостные следы, что желание еще раз ими обладать угасает только в глубокой старости.
Меня молодит еще и сейчас воспоминание о необъятной серебристой глади великолепного Мексиканского залива, увидеть который мне больше не довелось. В памяти моей вереницей проходят башни Веракруса, леса Кампече, пески Юкатана, дворцы Паленке, пальмы Тукстлана и Лагуны… И всякий раз, всякий раз вместе с картинами этой далекой прекрасной страны воскресает та Нинья Чоле, какую я увидел впервые, когда, окруженная слугами, она отдыхала в тени пирамиды с распущенными волосами, одетая в белый ипиль и похожая на жрицу древнего племени майя.
Едва только мы сошли на берег, как нас окружила жалостная толпа негров, просивших милостыню. Они не давали нам проходу, пока наконец мы не добрались до старинного постоялого двора, видом своим напоминавшего монастырь; перед большим каменным порталом сидели древние старухи и расчесывали волосы. На этом постоялом дворе я снова встретил обоих харочо, игравших в карты у нас на фрегате. Они сидели в глубине патио, возле широкой и низкой двери, через которую ежеминутно входили и выходили объездчики, конюхи, слуги. Оба харочо и здесь играли в ландскнехт и все так же ссорились. Завидев меня издалека, оба встали и очень учтиво мне поклонились. Передав карты сыну, старик подошел ко мне и начал рассыпаться в любезностях:
— Мы рады служить вам, сеньор. Если вам хочется убедиться в том, как искренне мы к вам расположены, вам стоит только сказать слово, сеньор. — И, обняв меня так, что я едва устоял на ногах, обычай, которым мексиканцы выражают свою любовь и удаль, старик харочо продолжал: — Если вашей милости угодно попытать счастья, вы знаете, где нас найти. Мы здесь живем. Когда вы уезжаете, господин маркиз?
— Завтра утром, а может быть, даже сегодня вечером.
Старик погладил бороду и улыбнулся лукавой, плутовской улыбкой:
— Так или иначе, мы еще увидимся. Надо же вам на себе проверить поговорку: «Жизнь игрока в пути легка».
Я рассмеялся:
— Что же, посмотрим. Эта глубокая мысль нуждается в подтверждении.
Старик почтительно поклонился в знак того, что он со мною согласен:
— Я уже вижу, что сеньору маркизу не терпится узнать все получше. Это не худо. За это одно его следовало бы сделать архиепископом Мексики. — Он снова плутовато улыбнулся. Потом, выждав, пока пройдут двое конюхов-индейцев, продолжал тихо и таинственно: — Должен вам сказать еще одну вещь. Начнем мы с пятисот унций. У меня припасено больше тысячи на случай, если не повезет. Приятеля тут одного деньги. Мы еще об этом поговорим пообстоятельнее. А то, глядите, паренек мой места себе не находит. Молод он. На рожон лезть готов. Ни к чему все это. Ну да ладно, увидимся!
И он ушел, делая сыну какие-то знаки, чтобы его успокоить. Расположившись в тени, старик взял карты и стал их тасовать. Вокруг него тут же собрались игроки. Каждый конюх, гуртовщик, слуга, который входил и выходил, непременно хотел поставить карту. Два всадника, пригнувшиеся к седлу, чтобы въехать в ворота, на минуту придержали лошадей и, не слезая, швырнули свои кошельки. Молодой харочо поднял их и прикинул на вес. Отец вопросительно на него посмотрел. Парень ответил ему неопределенным жестом. Тогда старик, потеряв терпение, сказал:
— Оставь эти кошельки, сынок. Успеем потом посчитать.
В ту же минуту выпала карта. Харочо выиграл, и всадники удалились. Круг игроков все ширился. Молодой парень вывернул на сарапе кошельки и начал считать. Явились чарро,{42} звеня великолепными шпорами, в лихо заломленных шляпах, отделанных серебром, хвастливые и воинственные. Пришли индейцы, закутанные как привидения, робкие и молчаливые, ступавшие совсем тихо. Пришли еще несколько харочо, вооруженные как пехотинцы, с пистолетами за поясом и мачете в вышитой портупее. Время от времени по залитому солнцем патио проходил какой-нибудь бродяга, неся бойцового петуха, хитрый и злобный: насмешливые глаза и растрепанные волосы, искривленные губы циника и совсем высохшие черные руки, какие бывают у воров и у нищих. Он рыскал среди игроков, ставил какую-нибудь мелкую монету и, паясничая и ворча, удалялся.
Мне не терпелось остаться вдвоем с Ниньей Чоле. Наша свадебная ночь в монастырской келье казалась мне уже чем-то далеким, счастливым сном, который часто вспоминается, но никогда не превращается в явь. С той самой ночи мы были вынуждены обречь себя на воздержание, и мои ничего еще не видевшие глаза ревновали к рукам, которые всё уже знали.
На этом замызганном постоялом дворе я вкусил величайшие радости любви, какие только фантазия могла выткать своей золотою нитью. Прежде всего я захотел, чтобы Нинья Чоле распустила волосы и, одетая в белый ипиль, говорила со мной на своем древнем языке, как принцесса и пленница конкистадора. Она повиновалась с улыбкой. Я держал ее в объятиях и целовал непонятные мне звучные слова, слетавшие с ее уст. Потом вдохновителем нашим сделался Пьетро Аретино,{43} и я прочел, как молитвы, семь его сонетов, составляющих славу итальянского Возрождения. Каждый из них посвящен особому виду священнодействия. Последний я повторил два раза. Это был тот божественный сонет, в котором появляется кентавр без лошадиного тела и с двумя головами. Потом мы уснули.
На рассвете Нинья Чоле встала и открыла балкон. Луч солнца проник в альков, такой веселый, живой, задорный, что, увидав себя в зеркале, он разразился золотыми брызгами смеха. В клетке зашевелился скворец, и в воздух полились его рулады. Нинья Чоле тоже запела, и песня ее была свежа, как утро. Она была удивительно хороша, едва прикрытая прозрачной шелковою туникой, сквозь которую просвечивало ее тело богини. Она посмотрела на меня, сощурив глаза, и, продолжая петь и смеяться, стала целовать жасмин, который заглядывал к нам в окно. Как она была обольстительна: смуглая, с улыбкой на губах, с распущенными волосами, ниспадавшими на обнаженные плечи! Это была сама заря, радостная и торжествующая! Вдруг она повернулась ко мне и, скорчив восхитительную рожицу, вскричала:
— Вставай, ленивец! Вставай! — В ту же минуту она плеснула мне в лицо розовой водой, простоявшей ночи на балконе. — Вставай! Вставай!
Я вскочил с гамака. Видя, что я уже встал, она быстро побежала, сотрясая весь дом своими трелями. Она перескакивала с песенки на песенку, как канарейка с жердочки на жердочку, в каком-то сладком упоении, по-детски радуясь тому, что день ясный, что солнце заливается смехом в зачарованных глубинах зеркал. Внизу раздавался голос конюха, который торопился взнуздать наших лошадей. Опущенные занавески трепетали от дуновения свежего ветерка, и цветы жасмина качались на ветке, чтобы напоить их своим ароматом.
Нинья Чоле снова вернулась. Я увидел в зеркале, как она на цыпочках приближается ко мне в своих атласных туфельках, как плутовато улыбаются ее губы. Она весело крикнула мне на ухо:
— Для кого это ты так прихорашиваешься?
— Для тебя, Нинья!
— Правда?
Она посмотрела на меня, сощурив глаза, и, погрузив пальцы мне в волосы, взлохматила их. Потом она расхохоталась и протянула мне золотую шпору. Я надел эту шпору на ее царственную ножку и не мог удержаться от поцелуя.
Мы вышли во дворик, где наш индеец уже ждал нас, держа под уздцы лошадей, сели в седла и двинулись в путь. Голубые вершины гор искрились в золотистых лучах торжествующего солнца. Ветер налетал порывами; в них была и речная влага и благоухание долин. Утро вздрагивало, как белокурая красавица новобрачная. Освещенные восходящим солнцем верхушки кедров были алтарем, у которого обручались птицы. Нинья Чоле то гнала свою лошадь галопом, то отпускала поводья и давала ей попастись в вереске.
На протяжении всего пути мы встречали веселые группы всадников — креолов и мулатов, ехавших в облаках пыли рысью на породистых лошадях. Как то принято в Мексике, седла были расшиты золотом; попоны, тоже вышитые, ослепительно блестели, как церковные облачения. Всадники быстро промчались по равнине. Звякали мундштуки и шпоры, щелкали хлысты. Солнце бросало светлые отблески на сбруи и по временам сверкало на свисавших с седельных лук мачете. Начался сезон ярмарок, знаменитых ярмарок Грихальбы, которые устраивались и в самом городе и в его окрестностях, на зеленых лугах и пыльных дорогах, без всякого сговора, по воле одного только случая. Мы придержали наших лошадей, которые ржали и трясли гривой. Нинья Чоле посмотрела на меня с улыбкой и протянула мне руку, чтобы ехать так, рядом, ни на миг не разлучаясь в пути.
Выбравшись из пальмовой рощи, мы очутились возле шумного базара; в глазах рябило от потока лошадей и людей. Громко спорили торговцы; эхо далеко разносило звон колокольчиков. Казалось, что равнина совсем задыхается от этого хвастливого и вызывающего стука копыт, от звяканья уздечек, сбруй, щелканья хлыстов. Едва только мы появились, как нас окружила огромная толпа калек. Все они кричали; слепые и паралитики, карлики и прокаженные ринулись на нас и не давали нам проходу; они ползали между ног наших лошадей, тащились по дороге, оглашая воздух воплями и молитвами; покрытые запыленными язвами, они шли и шли, заложив за спину руки, высохшие, безобразные, страшные. Они цеплялись один за другого, дрались, срывали друг с друга шляпы, наперерыв хватая монеты, которые мы им походя бросали.
Так вот, окруженные целой свитой бродяг, добрались мы до хижины отпущенного на свободу негра. Заслышав стук копыт и непрерывные стенания нищих, хозяин ее показался в дверях раньше, чем мы успели сойти с лошадей. Увидав нас, он кинулся нам навстречу, разгоняя толпу оборванцев ударами хлыста, схватил стремя Ниньи Чоле, помог ей сойти с лошади и осыпал руки ее поцелуями так смиренно и с таким счастливым видом, словно это была принцесса. На зов его собрались все дети и внуки. Негр этот был, оказывается, женат на андалузке, бывшей горничной Ниньи Чоле. Жена его, увидав нас, воздела руки к небу:
— Пресвятая дева Мария! Да это же мои господа! — И, взяв Нинью Чоле за руку, она повела ее в хижину: — Только бы солнцем ее не сожгло, царицу мою, золото мое, что приехала сюда на радость мне, бедной!
Негр улыбнулся, уставивши на меня свои большие глаза; в них была неимоверная собачья кротость. Муж и жена переглянулись и одновременно начали говорить:
— Тут у одного харочо есть две кобылки белые! Красавицы такие, как голубки. Понимаете? Уж и подошли бы они нашей госпоже для ее шарабана.
Нинья Чоле не вытерпела:
— Хочу их видеть! Хочу, чтобы ты мне их купил! — Она вскочила и поспешно накинула на плечи шаль: — Идем! Идем!
Андалузка лукаво засмеялась:
— Сразу видно, что госпожа моя не очень-то избалована вашей милостью. — Перестав улыбаться, она добавила так, будто все уже было решено: — Господин пойдет с моим мужем. Очень уж сейчас жарко, Нинье трудно будет туда идти.
Негр отворил дверь, и Нинья Чоле выпроводила меня, ласково на меня глядя и весело ухмыляясь. Едва только мы вышли и бывший невольник увидел, что мы остались вдвоем, он, вздыхая, стал сетовать на свою горькую долю. Он шел рядом со мной, опустив голову, не отходя от меня ни на шаг, сквозь толпу, как старый пес, время от времени останавливался и снова начинал расписывать все неудачи своей жизни, жизни парии и ревнивца:
— Она только и делает, что мужчин себе ищет, господин! Горе мне с ней! И не белых, нет! Ах, господин мой, если бы еще белых! Этой потаскухе нужны только темнокожие. Ну не мерзость ли это, ниньо! Скажите.
Голос у него был жалобный, покорный, в нем слышалось страдание. Его огорчали отнюдь не рога, которые ему наставляли, а дурной вкус андалузки. Ревновал он избирательно, как то случается с людьми светскими, которые строят свое благополучие на похождениях собственной жены. Герцог де Сен-Симон{44} воздал бы ему хвалу в своих «Мемуарах» с той же изощренностью и тем же глубокомыслием, с какими он говорит об Испании, приходя в восторг перед скрытым смыслом двух таких верных слов: cornudo, consentido.[4]
Мы проехали по всей ярмарке, У самого края леса, в тени кокосовых пальм, креолы пели и плясали, громко крича «браво» и хлопая в ладоши. Вино пенилось в бокалах, и испанская гитара, султанша этого празднества, плакала в своей мавританской ревности и рассказывала о горестях любви под луной Альпухарры. Протяжная жалоба индианок заглушалась стуком подков. Азиаты — китайские и японские купцы — проходили, затолканные буйною ярмарочною толпой, вечно понурые, вечно мрачные, с неизменно повисшими косами, которых ни разу не встрепенуло веселье. Желтые, словно вылитые из воска, они шлепали своими туфлями среди окружавших их чернокожих и тонкими, бабьими голосами предлагали веера из сандалового дерева и трости с черепаховыми ручками. Мы обошли всю ярмарку, а обещанных белых лошадей так и не увидали. Когда мы уже возвращались, кто-то схватил меня за руку. Это была Нинья Чоле. Она была очень бледна; она пыталась мне улыбнуться, но губы ее дрожали, и в глазах ее я прочел тревогу. Положив мне обе руки на плечи, она воскликнула с притворной веселостью:
— Только, пожалуйста, не сердись. — И, припав к моей руке, добавила: — Мне стало скучно, и я вышла… За хижиной были петушиные бои. Понимаешь? Ну так я пошла туда, поставила и проиграла!
Она вдруг умолкла, грациозно повернула голову и показала мне на рослого белокурого юношу, который весь как-то выгнулся и поклонился.
— Этот господин теперь мой кредитор.
Столь неожиданный поворот дела поверг меня в какое-то глухое уныние, к которому примешивалась и ревность. Я высокомерно спросил:
— А сколько проиграла сеньора?
Я думал, что ее партнер окажется настолько галантным, что не потребует выигранных денег, и хотел даже подсказать ему эту мысль своим холодным и презрительным видом. Белокурый юноша очень вежливо мне улыбнулся:
— Прежде чем начать играть, сеньора предупредила меня, что денег у нее нет. И мы уговорились, что за каждые сто унций она заплатит одним поцелуем. Она проиграла, и я выиграл три поцелуя.
Я почувствовал, что бледнею. Но до чего же я был поражен, когда Нинья Чоле, заломив руки, бледная, с видом трагической героини, воскликнула:
— Я заплачу! Я заплачу!
Движением руки я заставил ее замолчать и, приблизившись к молодому человеку вплотную, закричал, после каждого слова прищелкивая языком, словно хлыстом:
— Сеньора — моя жена, и ее долг — мой долг.
И я ушел, уводя с собой Нинью Чоле. Некоторое время мы шли молча. Потом, прижавшись к моей руке, она прошептала:
— Ты действительно настоящий кабальеро.
Я ничего не ответил. Нинья Чоле стала тихо плакать. Уткнув голову мне в плечо, рыдая в своей неуемной страсти, она вскричала:
— Боже мой! Я не знаю, что готова для тебя сделать!
Сидевшие у дверей хижин индианки в лохмотьях, обвешанные амулетами и коралловыми ожерельями, продавали бананы и кокосовые орехи. Это были тридцатилетние старухи, одряхлевшие и в морщинах, своим фантастическим уродством напоминавшие идолов. Их лоснившиеся спины блестели на солнце; их черные отвислые груди напоминали об оргиях, ведьмах и колдунах. Сидя на корточках у края дороги, с растрепанными волосами, полуобнаженные, они под этим жгучим солнцем, казалось, дрожали от холода. Можно было подумать, что это сивиллы какого-то древнего культа, похотливого и кровожадного. Дети их, совсем бурые от солнца, ловкие, как дьяволята, подглядывали сквозь щели хижин и пробирались под навес, где завывали расстроенные шарманки. Мулатки и крестьянки харочо кружились в странных сладострастных танцах, которые негры привезли с собою из Африки, и их яркие сагалехо колыхались в поворотах и фигурах священных плясов, с которыми некогда приносили в жертву пленных под патриархальною тенью баобаба.
Мы вернулись в хижину. Мрачный и раздраженный, я опустился в гамак и громко приказал конюхам седлать лошадей, чтобы сию же минуту уехать. В дверях показалась темная тень индейца:
— Сеньор, у пегой лошади, на которой ехала госпожа, отскочила подкова. Прикажете подковать ее?
Я вскочил с гамака с такой яростью, что индеец в испуге попятился. Улегшись снова, я крикнул:
— Делайте все, только скорее! Черт бы вас всех побрал, Куактемосин!
Нинья Чоле, побледнев, смотрела на меня с мольбою:
— Не кричи. Если бы ты знал, как ты меня пугаешь!
Ничего не ответив, я закрыл глаза. В темной и душной хижине надолго воцарилось молчание. Негр неслышными шагами ходил взад и вперед, поливая устланный травою пол.
Снаружи доносилось фырканье лошадей и голоса индейцев, которые, взнуздывая их, с ними говорили. В освещенном солнцем проеме двери большие мухи жужжали свою монотонную летнюю песню. Нинья Чоле встала и подошла ко мне. Не говоря ни слова, а только вздыхая, она погладила мне лоб своими пальцами феи. Потом она сказала:
— Скажи, если бы этот русский был настоящим мужчиной, ты мог бы меня убить?
— Нет!
— Ты убил бы его?
— Тоже нет.
— Ты бы ничего не сделал?
— Ничего.
— Это значит, что ты меня презираешь?
— Это только значит, что ты не маркиза де Брадомин.
Она на минуту задумалась. Губы ее дрожали. Я зажмурил глаза и ждал, что она разразится слезами, жалобами, оскорблениями, но Нинья Чоле по-прежнему молчала и только гладила мои волосы, покорная как невольница. Наконец ее пальцы отогнали хмурую тень, которая легла мне на лоб, и я почувствовал, что готов ее простить. Я знал, что грех Ниньи Чоле — извечный грех женщины, и моя влюбленная душа не могла не растрогаться и не снизойти к ней. Разумеется, Нинья Чоле была любопытна и развратна, как жена Лота, превращенная в соляной столб. Но после стольких веков даже суд божий стал милостивее, чем был когда-то, и снисходительнее как к мужчинам, так и к замужним женщинам. Сам того не зная, я поддался искушению: я любовался, точно славою предков, этим многовековым родством, облеченным в покров библейской легенды, и, поверив без колебаний, что провидение простило грех Ниньи Чоле, я понял, что то же самое остается сделать и маркизу де Брадомину. И после того как на сердце у меня не осталось ни обиды, ни неприязни, а невидимые пальцы нежно щекотали меня, я раскрыл глаза и пробормотал улыбаясь:
— Нинья, каким зельем ты меня опоила? Я все позабыл!
Щеки ее зарделись. Она ответила:
— Это потому, что я не маркиза де Брадомин.
Она умолкла, ожидая, быть может, полного любви объяснения. Но я, в свою очередь, предпочел промолчать и решил, что заглажу все, поцеловав ей руку. Обманутая в своих ожиданиях, она отдернула ее, и среди затянувшейся тишины ее прекрасные глаза восточной принцессы оросились слезами. По счастью, слезы эти еще не успели потечь по щекам, когда индеец снова появился в дверях, ведя под уздцы наших лошадей, и я мог выйти из хижины, сделав вид, что ничего не заметил. Когда Нинья Чоле показалась в дверях, она выглядела спокойной. Я подал ей стремя, и несколько мгновений спустя она быстро поскакала.
Какой-то всадник, сделав круг, пересек нам путь. Мне показалось, что, завидев его, Нинья Чоле побледнела и укрылась покрывалом. Я сделал вид, что ничего ее заметил, и молчал, стараясь ничем не выказывать свою ревность. Потом, когда мы выехали на покрытую красной пылью дорогу, я увидел на холмике еще несколько всадников. Как видно, они ожидали нас и, едва только мы начали огибать этот холм, галопом стали спускаться. Заметив это, я придержал лошадь и приказал моим людям остановиться. Ехавший во главе другого отряда всадник что-то свирепо кричал и изо всех сил пришпоривал лошадь. Узнав его, Нинья Чоле вскрикнула и, соскочив с седла, кинулась к нему, простирая руки:
— Наконец-то глаза мои тебя видят снова! Вот я, убей меня! Мой повелитель! Мой царь!
Всадник выпрямился на лошади и, яростный и грозный, ринулся на меня. Нинья Чоле не дала ему подъехать ближе; в страшном отчаянии она ухватилась за поводья:
— Не убивай его! Нет, только не это!
Увидав это последнее свидетельство любви, я был растроган. Я ехал впереди. Люди мои, следовавшие за мною, должно быть, испугались. Всадник, приподнявшись на стременах, пересчитывал их своими жестокими глазами. Наконец он бросил на меня разъяренный взгляд. Готов поклясться, что и ему стало страшно. Не разжимая губ, он поднял хлыст и полоснул им Нинью Чоле по лицу. Она опять застонала:
— Мой повелитель! Мой царь!
Всадник наклонился к седельной луке, где торчали пистолеты. Грубым движением он поднял красавицу креолку, посадил к себе в седло и, подобно похитителю героических времен, ускакал, оглашая воздух страшными проклятиями. Бледный, я в молчании смотрел, как он увозит ее от меня. Я мог бы отбить ее, но я для этого ничего не сделал. При других обстоятельствах я бы неминуемо ввел себя в грех. Но теперь, узнав, кто этот человек, я почувствовал вдруг раскаяние, Нинья Чоле принадлежала этому свирепому сеньору как жена и как дочь, и перед лицом этих двух священных прав сердце мое покорно смирилось.
Навсегда разочаровавшись и в любви и во всем мире, я пришпорил лошадь и помчался галопом по пустынным равнинам Тиксуля в сопровождении моих людей, которые вполголоса обсуждали между собою случившееся. Все эти индейцы с большим удовольствием последовали бы за похитителем Ниньи Чоле. Как и креолка, они были околдованы хлыстом генерала Диего Бермудеса. Я почувствовал, что суровая и скорбная гордость берет во мне верх над всем. Враги мои, те, которые осмеливаются обвинять меня во всех преступлениях, не могут по крайней мере обвинить меня в том, что я дрался из-за женщины. Больше чем когда-либо в жизни я был верен девизу: «Презирать других и не любить самого себя».
Согнувшись под жгучим солнцем, опустив поводья, молчаливые, усталые, истомленные жаждой, мы ехали по песчаной саванне, видя все время перед собою вдали озеро Тиксуль, лениво колыхавшиеся воды и опущенные в них длинные кудри ив, отраженных загадочными глубинами. Мы пересекали огромные дюны, пустыни без единого шороха, без единого ветерка. По раскаленному песку прогуливались ящерицы, в блаженстве своем похожие на столетних факиров, а жестокое солнце все жгло и жгло землю, которая, казалось, искупала теперь некий тайный грех, содеянный еще прежней геологической эрой. Лошади наши, истомленные тяжелой дорогой, вытягивали шеи, которые снова опускались, бессильно повисая в сонном качанье. Изможденные, окровавленные, они с великим трудом погружали свои копыта в темный, зыбучий песок. Глаза устали без конца смотреть на белесый, выжженный горизонт. Голова кружилась, отяжелевшие веки устало смыкались, но спустя какую-нибудь минуту глазам представали опять все те же пустынные, забытые богом дали.
Так прошел у нас долгий день пути по темным пескам. Я был до того измучен, меня так клонило ко сну, что, для того чтобы пришпорить лошадь, мне надо было чем-то себя подбодрить. Я едва держался в седле. Словно грешнику в Дантовом аду, мне маячило вдали зеленоватое озеро Тиксуль, где я надеялся устроить привал.
Солнце клонилось к закату; лучи его оставляли в водах озера золотистую борозду, и казалось, что по ним только что прошел сказочный корабль. Мы были еще далеко от озера, когда вдруг услышали запах мускуса и увидели крокодилов, лежавших у самой воды на илистом берегу.
Лошадь моя забеспокоилась. Насторожившись, она запрядала ушами и затрясла гривой; я выпрямился, укрепился в седле и натянул поводья, лежавшие на луке. Испугавшись кайманов, лошадь вздыбилась и, фыркая, стала подаваться назад. Мне пришлось вонзить шпоры ей в бока и пустить ее галопом. Люди мои последовали моему примеру. Когда мы были уже близко, крокодилы лениво вошли в воду. Мы все спустились к берегу. Несколько длиннокрылых птиц, укрывшихся в тростнике, поднялись в воздух, напуганные шумом, который подняли мои спутники, когда погрузили лошадей по самую подпругу в воду. На другом берегу продолжал дремать крокодил, разинув пасть и повернувшись к солнцу, ко всему равнодушный, страшный, неподвижный как древнее божество.
Прибежал мой конюх, чтобы помочь мне сойти с лошади, но я отослал его. Я передумал и решил, что нам надо перейти Тиксуль вброд, не устраивая привала, ибо уже начинало смеркаться. Послушные моему приказанию, индейцы, все отличные ездоки, стремительно направились вперед. Они стали искать брод, нащупывая дно своими длинными заостренными палками. Большие странные цветы скользили по гладкой поверхности воды среди зеленоватых склизких водорослей. Полуголые всадники молча и осторожно шагом продвигались вперед. Это было какое-то стадо черных кентавров. Дальше перед нами возникли плавучие островки гигантских кувшинок, и юркие ящерицы, резвясь, прыгали с одной на другую, как шаловливые гномы. Над этими цветущими островками порхали стаями пестрые бабочки; медленно и плавно, почти сливаясь с воздухом и водою, трепетали их шитые золотом белые и синие крылья. И казалось, что это озеро из сказки, чудесный сад, который взрастила мечта.
Когда я был ребенком, меня убаюкивали рассказами о таком вот саде. Тот тоже рос на озере, и жила в нем волшебница. Белокурых принцев и принцесс волшебница эта превратила в фантастические диковинные цветы.
Стадо кентавров было уже на середине Тиксуля, как вдруг крокодил, лежавший на другом берегу и, казалось, погруженный в созерцание, медленно вошел в воду и в ней исчез. Я не захотел больше ждать и, осторожно поглаживая лошадь, въехал на ней в лагуну. Войдя по брюхо в воду, она пустилась вплавь, и почти в то же мгновение я увидел вокруг себя множество глаз, круглых, желтоватых и мутных. Казалось, вся вода была заполнена ими. Глаза эти уставились на меня, в меня впились! Должен сказать, что в эту минуту я весь похолодел и дрожал от страха. Лучи заходившего солнца били мне прямо в лицо, и надо было отвести взгляд от этого слепящего света. И я вынужден был глядеть на темные воды Тиксуля, хоть у меня и кружилась голова от магнетической силы кайманов, от их чудовищных, не обрамленных веками глаз, которые то бродят взад и вперед, то вдруг впиваются в вас, неподвижные и зловещие… Я едва переводил дыхание. Но вот наконец лошадь выбралась из воды, и копыта ее ступили на прибрежный песок. Мои люди добрались до берега раньше меня. Я собрал их вместе, и мы снова пустились в путь по темным пескам.
Солнце село за тучи. Все предвещало бурю. Ветер яростными порывами кружил и разбрасывал песок, словно собираясь завладеть этой необъятной пустыней, которая целый день лежала неподвижно, усыпленная зноем. Я пришпорил лошадь и поскакал навстречу ветру и пыли. Перед нами расстилались дюны, озаренные тусклым светом сумерек, тоскливых и безнадежных, взъерошенные апокалипсической мощью циклона. Низко, почти касаясь земли, медленно и как-то неуверенно пролетали ястребиные стаи. Стемнело, и вдали мы увидели множество огоньков. Время от времени на горизонте вспыхивала молния, освещая дюны, мертвенно-бледные и безлюдные. Начали падать крупные капли дождя. Лошади прядали ушами и дрожали, как в лихорадке. Далекие огни то колыхались, колеблемые ураганом, то вдруг тускнели и совсем исчезали.
Вспышки молнии разражались все чаще и чаще. По временам перед нами открывалась пустыня, недружелюбная и угрюмая. Лошади неслись под ливнем во тьме, стараясь не потерять друг друга из виду, оглашая воздух испуганным ржанием; гривы их развевались по ветру. Озаренная беспорядочными зигзагами света, местность эта становилась похожей на бескрайние пустыни песка и пепла, которые тянутся вокруг ада.
Направившись в сторону огней, мы прибыли на большое, поросшее травою пространство, где на ветру качалось несколько карликовых кокосовых пальм. Ливень вдруг стих, и буря как будто уже пронеслась. При нашем приближении выбежало несколько собак; они лаяли, а вдалеке на этот лай откликались другие. Возле очагов двигались фигуры людей, вид которых не предвещал ничего хорошего. Пламя освещало их черные лица и белоснежные зубы. Все это были харочо, наполовину гуртовщики, наполовину бандиты; они перегоняли большие стада в Грихальбу и расположились здесь на ночлег.
Вслед за собаками навстречу нам выбежало несколько негров, таких стройных, какими бывают только сыны пустыни. В облике их было великолепие истых варваров, царьков кровожадных племен… Луна в небе, одетая в черное, как примерная вдова, улыбалась этим страшным людям своей едва заметной улыбкой. По временам, среди неумолкающего лая собак и громких криков пастухов, слышалось блеяние овец и доносились густые запахи хлева. Все здесь дышало сельскою простотой. Легким звоном звенели колокольчики, на кострах пылали кучки соломы, и белый пахучий дым поднимался к небу, как дым жертвоприношений, безыскусных и патриархальных.
Языки пламени бросали свой отсвет на темную женскую фигуру, извивавшуюся в танце и совсем обнаженную. Даже когда я закрывал глаза, она возникала передо мной с навязчивостью полубезумных, лихорадочных снов. Горе мне! Это было одно из тех видений, мистических и плотских, которыми некогда дьявол умел соблазнять отшельников. Я был уверен, что никогда уже больше не попадусь в коварные сети греха, и небеса покарали меня за мою гордыню, предоставив меня самому себе. Эта обнаженная женщина, плясавшая среди пламени, была вылитая Нинья Чоле… Ее улыбка, ее глаза. Душою моей овладела грусть, и я вздыхал, погружаясь в романтические мечты. Мое хилое тело дрожало от ревности и от гнева. Все мое существо тянулось к ней, к Нинье Чоле, Я горячо раскаивался, что не убил похитившего ее тирана; мысль о том, что я должен разыскать ее на мексиканской земле, становилась все неотвязней. Она легла мне на сердце, свернувшись клубком, как змея; она томила меня своим ядом. Чтобы избавиться от этой пытки, я позвал индейца проводника. Он прибежал, весь дрожа от холода.
— Что прикажете, сеньор?
— Собирайтесь в дорогу!
— Худое время, сеньор.
Я на минуту задумался:
— Сколько езды отсюда до поместья Тиксуль?
— Два часа, сеньор.
— Скажи, чтобы седлали.
Греясь у огня, я стал ждать, пока проводник передаст мое приказание и люди соберутся в дорогу. Тень моя колыхалась вместе с пламенем костра, и ее причудливые очертания растягивались по темной земле. Меня охватил какой-то безотчетный страх, какое-то таинственное предчувствие. Я готов уже был переменить свое решение, как вдруг явились индейцы и привели мою лошадь. При свете костра они взнуздали ее и оседлали. Проводник, молчаливый и робкий, взял ее под уздцы. Я вскочил в седло, и мы тронулись в путь.
Мы долго ехали по холмистой местности среди гигантских кактусов, которые качались на ветру, издавая звук, похожий на шум потока. Время от времени луна разрывала черные тучи и освещала нам путь своим холодным сиянием. Впереди моей лошади парила какая-то ночная птица. По временам она подлетала к нам, а потом, при моем приближении, взмахивала своими черными крыльями и садилась где-нибудь дальше, испуская жалобный стон, заменявший ей песню. Проводнику моему, суеверному, как и все индейцы, казалось, что в крике ее слышится слово «ере-тик», и каждый раз, когда птица взмахивала крыльями и кричала, он совершенно серьезно ей отвечал:
— Христианин, самый настоящий христианин.
— Что это за птица?
— Козодой, сеньор.
Так мы доехали до моих владений. Построенный по приказу вице-короля, дом имел вид господской усадьбы, совсем как в Испании. У ворот я увидел нескольких всадников; судя по их обличью, это были разбойники. Они образовали круг и передавали друг другу тыквенные чаши с кофе. При свете луны их широкополые вышитые шляпы блестели. Один из них, отдалившись от остальных, чего-то выжидал. Это был однорукий старик с ореховым цветом кожи. Глаза его свирепо сверкали.
Когда мы подъехали ближе, он вскричал:
— Стой! Кто идет?
Выпрямившись в седле, я раздраженно ответил:
— Маркиз де Брадомин!
Старик умчался галопом и присоединился к тем, что пили кофе у ворот. При свете луны я ясно видел, как всадники повернулись друг к другу и шепотом говорили между собой и как потом они повернули лошадей и ускакали. Когда я приблизился, у ворот уже никого не было, и слышен был галоп лошадей. Мажордом, дожидавшийся в дверях, вышел меня встретить и, взяв мою лошадь под уздцы, повернулся к дому, крича:
— Свет дайте! Сюда, на лестницу!
Наверху в окне появилась фигура старухи со свечой в руке:
— Слава тебе господи, сеньор наш благополучно миновал все опасности!
И, чтобы лучше посветить нам, она высунулась из окна и протянула оттуда свою темную руку, которая дрожала, держа свечу. Мы вошли в галерею, и почти в ту же минуту старуха появилась наверху, на лестничной площадке:
— Слава тебе господи, сеньор наш достоин своей благородной крови!
Старуха провела нас в чисто выбеленную комнату, где все окна были открыты. Поставив свечу на стол, она удалилась:
— Слава тебе господи, что сеньор наш так молод!
Я сел; мой мажордом, стоя поодаль, внимательно меня разглядывал; это был старый солдат дона Карлоса, эмигрировавший после вергарской измены. В его глубоких черных глазах стояли слезы. Я дружески протянул ему руку:
— Садись, Брион… Что это за люди?
— Разбойники, сеньор.
— Это твои друзья?
— Да, и друзья верные! Здесь, в этой стране, приходится жить, как в своем андалузском поместье жила моя госпожа, графиня Барбасонская, бабушка вашей светлости. Моя госпожа была крестной матерью Хосе Марии. Потому-то он и чтил ее как королеву.
— А что, эти мексиканские бандиты стоят тех, андалузских?
Брион понизил голос:
— Воровать они умеют… Убивать им ни к чему. Язык у них, правда, ладно привешен. И все-таки андалузцам они не чета. Нет у них настоящего обхождения, а ведь в этом вся соль. Ну, а насчет одежды, оружия — так у андалузцев все куда лучше! Этим до них далеко!
В эту минуту вошла старуха и доложила, что ужин готов. Я встал; она взяла со стола свечу и повела меня за собой.
Измученный усталостью, я уснул, но еще до рассвета был разбужен воспоминанием о Нинье Чоле. Напрасно я старался его отогнать. Образ ее возвращался снова, пробираясь сквозь туман моих мыслей и чувств. Это было легкое, воздушное видение, и оно терзало меня. Много раз, переходя от бессонницы ко сну, я вдруг пробуждался как от толчка. Наконец, совсем обессилев, я забылся тяжелым, лихорадочным сном, полным кошмаров. Неожиданно я открыл глаза. Было совсем темно. К моему великому удивлению, я увидел, что окончательно проснулся. Я старался еще раз умилостивить мой сон — мне это не удалось. Под окном залаяла собака, и тут мне стало казаться, что лай этот я слышал чуть раньше, еще сквозь сон. Изведенный бессонницей, я сел в кровати. Было душно, и, ложась спать, я оставил окна открытыми. И теперь луна освещала глубину комнаты. Мне показалось, что я слышу приглушенные голоса людей. Собака замолчала, голоса притихли. Все снова погрузилось в тишину, и в этой тишине послышался удалявшийся стук копыт. Я встал, чтобы закрыть окно. Калитка была открыта, и, несмотря на то, что пролегавшая по маисовому полю дорога была пустынна, в душу мою закралось сомнение. Я насторожился и стал ждать. На озаренных луной полях царила мертвая тишина. И только ветер слегка шелестел в маисе. Почувствовав, что сон возвращается ко мне, я закрыл окно. Меня колотила дрожь; я снова улегся. Не успел я закрыть глаза, как прогремело несколько выстрелов, отдавшихся гулким эхом. Потом послышались свистки, за ними другие. И опять стук копыт. Я хотел было уж встать, но все снова погрузилось в тишину. Так прошло какое-то время, после чего из сада донесся стук кирки, как будто кто-то рыл яму. Было уже близко к рассвету, и я уснул. Когда мажордом пришел будить меня, я не был уверен, что все это мне не приснилось. Однако я спросил:
— Что у вас за перепалка была сегодня ночью?
Мажордом печально склонил голову:
— Сегодня убили самого храброго мексиканца.
— Кто его убил?
— Пуля, сеньор.
— А кто же стрелял?
— Проходимец какой-то.
— Что же, выходит, не повезло бедняге?
— Не повезло.
— И ты тоже принимал в этом участие?
— Что вы, сеньор!
Он с такой гордостью приложил руку к сердцу, что я улыбнулся. Старого солдата дона Карлоса, с его загорелым лицом и с надвинутой на лоб широкополой шляпой, с мрачным взглядом и мачете за поясом, можно было бы принять и за идальго и за разбойника.
На минуту он задумался, а потом, разглаживая бороду, сказал:
— Знаете, ваша светлость, если я и дружу с бандитами, то только потому, что надеюсь, что в один прекрасный день они мне пригодятся. Это народ храбрый — будет нужно, они помогут. С тех пор как я прибыл в эту страну, меня преследует одна мысль. Знайте, ваша светлость: я хочу сделать дона Карлоса Пятого императором.{45}
Старый солдат вытер набежавшую слезу. Я продолжал пристально на него смотреть:
— А как же мы можем дать ему империю, Брион?
Мажордом нахмурил седые брови. В глазах его вспыхнул темный огонек:
— Можем, сеньор… А потом — испанскую корону…
— Но откуда же мы все-таки для него добудем эту империю? — иронически спросил я.
— Вернем ему Вест-Индию. Самым трудным делом было завоевать ее в давние времена Эрнана Кортеса. У меня даже есть книга об этом. Ваша светлость читали?
Глаза мажордома были полны слез. Он был не в силах совладать с одолевающей его дрожью — берберийская борода его тряслась. Он высунулся из окна и, глядя на дорогу, молчал. Потом он вздохнул:
— Сегодня ночью мы лишились человека, который помог бы нам как никто. Его похоронили под этим кедром.
— Кто это был?
— Предводитель разбойников, которого ваша светлость видели вчера.
— А люди его тоже погибли?
— Разбежались. Поднялась паника. Они похитили красивую креолку, очень богатую, и бросили едва живую посреди дороги. Мне стало ее жалко, и я привез ее сюда. Вашей светлости угодно посмотреть?
— Она действительно красивая?
— Как ангел.
Я встал и последовал за Брионом. Креолка была в саду; она лежала в гамаке, привязанном к деревьям. Полуголые индейские ребятишки спорили о том, кто будет ее качать. Глаза креолки были закрыты платком; она вздыхала. Заслышав наши шаги, она медленно обернулась ко мне и вскричала:
— Мой повелитель! Мой царь!
Не открывая рта, я принял ее в свои объятия. Я всегда думал, что в делах любви все сводится к евангельской заповеди, которая велит нам прощать обиды.
Счастливая, Нинья Чоле забавлялась, кусая мне руки: она не хотела, чтобы я ее трогал. Медленно, очень медленно она сама стала расстегивать корсаж и распускать волосы и с улыбкой смотрела на себя в зеркало. Обо мне она, казалось, совсем позабыла. Раздевшись, она продолжала любоваться собою и улыбаться. Она умастила тело благовонными маслами, как какая-нибудь восточная принцесса. Потом завернулась в шелк и кружева, снова легла в гамак и стала ждать, зажмурив глаза. Сомкнутые веки ее дрожали, губы все еще улыбались своей удивительной улыбкой, которой современный поэт посвятил бы целую строфу, где нашли бы себе место и снег и розы. Как это ни покажется странным, я даже не подошел к ней ближе. Я упивался ни с чем не сравнимым наслаждением видеть ее и, проникнутый изощренной, садистической мудростью декадента, хотел, чтобы другие наслаждения подольше не наступали, дабы в священной тишине этой ночи я мог вкушать их потом все по одному. С открытого балкона видно было темно-синее небо, едва посеребренное светом луны. Ночной ветерок доносил до нас шелесты и ароматы — это в саду осыпались розы. Мы сидели в романтическом уголке, где все источало любовь, где все искушало. Пламя свечей колыхалось, и на стенах плясали тени. Где-то в глубине темного коридора часы с кукушкой, напоминавшие о временах вице-королей, пробили двенадцать. Вскоре запел петух. Это был торжественный час, час объятий. Нинья Чоле прошептала:
— Скажи мне, есть ли на свете что-нибудь сладостнее нашего примирения!
Я ничего не ответил и прижал свои губы к ее губам, чтобы запечатать их поцелуем, ибо молчание — это священный ковчег наслаждения. Но у Ниньи Чоле была привычка говорить в минуты высшего счастья, и она очень скоро со вздохом сказала:
— Ты должен меня простить. Если бы мы с тобой всегда были вместе, мы не были бы теперь так счастливы. Ты должен меня простить.
Хоть бедное сердце мое и обливалось капельками крови, я простил ее. Мои губы снова встретились с этими жестокими губами. Должен все же признаться, что я не был героем, как можно было подумать. В словах этих было страстное и растленное очарование, которое есть в искривленных наслаждением губах, которые кусают, когда целуют.
Задыхаясь в моих объятиях и не помня себя, она прошептала:
— Никогда мы так не любили друг друга! Никогда!
Великое пламя страсти лизало нас огненным языком. Охваченные им, мы не знали усталости, в нас рождалась та безмерная сила, которой в наслаждении отмечены боги. Тела наши сливались в одно, и от этого поцелуи становились нам еще радостнее, они снова расцветали, как цветы в мае. Розы Александрии! Я обрывал ваши лепестки у нее на губах. Туберозы Иудеи! Я обрывал вас у нее на груди! Нинья Чоле дрожала от восторга, руки ее вдруг цепенели, целомудренно оробев.
Бедная Нинья Чоле, изведав столько греха, все еще не знала, что выше всего на свете то наслаждение, которое приходит после жестокой разлуки, вместе с малодушием новой, всепримиряющей встречи. Мне досталась честь посвятить ее в эту тайну. Мне все казалось, что в глубине этих глаз скрыта загадка ее измен. Но я не мог не знать, как дорого достается приближение к алтарю Мятежной Венеры. С той поры я сочувствую всем несчастным, которые, будучи однажды обмануты женщиной, чахнут, так и не поцеловав ее больше ни разу. Эти люди никогда не могут понять, что значит великое торжество плоти.
ОСЕННЯЯ СОНАТА
«Любимый мой, я умираю и хочу только одного видеть тебя!» Ах! Это письмо бедняжки Кончи давно уже не давало мне покоя. Оно было полно тревоги и тоски и пахло фиалками и прежней любовью. Не дочитав его до конца, я поцеловал его. Около двух лет уже она не писала мне, а теперь просила приехать. Это была пламенная, исступленная мольба. На всех трех листах бумаги с гербами были отчетливо видны следы ее слез. Бедная Конча умирала в уединении старинного дворца Брандесо и, тоскуя, звала меня туда. Эти бледные, тонкие, пахнувшие духами руки, которые я так любил, теперь снова писали мне, как прежде. Я почувствовал, что глаза мои наполняются слезами. Я никогда не переставал надеяться, что наша любовь оживет. Это была смутная, порожденная тоскою надежда; вместе с ней в мою жизнь приходила вера. Это была иллюзия, сладостная иллюзия, спрятанная где-то на дне голубых озер, в которых отражаются звезды судьбы. Как печально сложились ваши судьбы! Старый розовый куст нашей любви снова зацветал, чтобы благоговейно осыпать лепестки свои на могилу.
Бедная Конча умирала!
Письмо это я получил во Вьяне-дель-Приор, где я охотился каждую осень. Это было на расстоянии нескольких лиг от дворца Брандесо. Прежде чем отправиться в путь, я хотел знать, что мне скажут Мария Исабель и Мария Фернанда, сестры Кончи, и поехал к ним. Обе они — монахини ордена святого Иакова. Они вышли в приемную и сквозь решетки протянули мне свои нежные руки праведниц, руки невест Христовых. Обе, тяжело вздохнув, сказали мне, что бедная Конча умирает, и обе, как и в былые времена, называли меня на ты. Сколько раз мы играли вместе в больших залах старого королевского дворца!
Когда я вышел из приемной, душа моя была полна грусти. Прозвонил колокольчик, звавший к мессе. Я вошел в церковь и, укрывшись в тени колонны, опустился на колени. В церкви было еще темно и безлюдно. Послышались шаги двух женщин, одетых в траур и мрачных: они обходили по очереди все алтари; казалось, что это сестры, что оплакивают они одно и то же горе и молят об одной и той же милости. Время от времени они тихо что-то говорили друг другу, а потом вздыхали и снова погружались в молчание. Так они обошли семь алтарей, все время держась рядом и словно застывшие в своей безутешной скорби. Неясный и слабый свет лампады на одно мгновение озарял обеих сеньор и тотчас же погружал их опять в темноту. Слышно было, как они робко шепчут слова молитвы. Шедшая впереди держала в бледных руках четки. Они были коралловые, а крест и крупные зерна — золотые. Я вспомнил, что Конча, молясь, перебирала такие же четки и что она не позволяла мне играть ими. Бедная Конча была очень благочестива и страдала оттого, что любовь наша представлялась ей смертным грехом. Сколько раз, входя вечером к ней в будуар, где она назначала мне свидание, я заставал ее на коленях! Она обычно не говорила ни слова и только взглядом призывала меня к молчанию. Я усаживался в кресло и смотрел, как она молится: зерна четок медленно и благоговейно, сменяя друг друга, скользили в ее бледных пальцах. Иногда, уже не надеясь, что она когда-нибудь сама окончит свои молитвы, я подходил ближе и прерывал их. Она еще больше бледнела и закрывала глаза руками. Мне до безумия нравились эти скорбные уста, эти искривленные дрожавшие губы, холодные как у покойницы! Конча нервно вздрагивала, поднималась с колен и прятала четки в шкатулку. Потом ее руки обвивали мне шею, она прижималась к моему плечу и плакала, плакала от любви и от страха перед вечными муками.
Когда я вернулся домой, было уже совсем темно. Вечер я провел в одиночестве и печали, сидя в кресле возле огня. Я уже задремал, как вдруг раздался сильный стук в дверь: в полуночном безмолвии стук этот казался каким-то загробным, вселял ужас. Я тут же вскочил и распахнул окно. Это был мажордом, привезший мне письмо от Кончи; он приехал, чтобы сопровождать меня к ней.
Мажордом, старый крестьянин, одетый в камышовый плащ с капюшоном и обутый в деревянные башмаки, приехал верхом на муле, ведя другого на поводу, и теперь дожидался у двери. Кругом царила мертвая тишина.
— Что-нибудь случилось, Брион? — спросил я.
— Светает уже, сеньор маркиз.
Я поспешно сошел вниз, не успев даже закрыть окно, которое содрогнулось от порыва ветра. Мы тут же тронулись в путь.
Когда мажордом постучал в дверь, на небе еще догорало несколько звезд. Как только мы покинули дом, в деревне запели петухи. Так или иначе, добраться до места мы могли не раньше, чем к вечеру. Предстояло проделать девять лиг горами, по плохим конным дорогам. Ехавший впереди мажордом указывал путь, и мы рысью проследовали мимо Кинтаны-Сан-Клодио, сопровождаемые лаем цепных собак, которые охраняли амбары. Когда мы выехали в поле, заря уже занималась. Вдали виднелись холмы, пустынные и печальные, окутанные туманом. Мы переваливали через них, и перед нами возникали всё новые и новые. Все было окутано серым саваном измороси. Казалось, холмам этим не будет конца. И так на протяжении всего нашего пути. Вдали по Пуэнте-дель-Приор пестрою нитью извивалось стадо овец; погонщик, восседавший боком на кляче, которая плелась вослед, по кастильскому обычаю распевал песни. Солнце начинало золотить вершины гор. Овцы, черные и белые, поднимались по ущелью, а над башней замка летела большая стая голубей, отчетливо выделяясь на фоне зеленого луга.
Боясь дождя, мы решили устроить привал на старой мельнице Гундара и, как будто это был наш феод, стали громко стучать в дверь. На стук выбежали две тощие собаки, которых мажордом тут же прогнал, а вслед за тем вышла женщина с веретеном в руке. Старый крестьянин приветствовал ее по христианскому обычаю:
— Славься, Мария пречистая!
— Без греха зачатая! — ответила женщина.
Это была тихая, любвеобильная душа. Она увидела, что мы совсем закоченели, увидела мулов под навесом, увидела затянутое грозовыми тучами небо и отворила нам дверь радушно и смиренно:
— Заходите, усаживайтесь у огня. Ну и погода! Беда тому, кто в дороге! Так весь хлеб погниет. Нелегкий нам годик достанется.
Едва только мы вошли в дверь, как мажордом отправился за нашими дорожными сумками. Я подошел к очагу, где едва теплился огонь. Женщина раздула угли и принесла охапку совсем сырых прутьев; они задымились, посыпались искры. В задней стене ветхая и плохо прикрытая дверь с белыми от муки перекладинами все время хлопала: трах! трах! Из-за этой двери доносился голос старика, напевавшего песенку, и шум мельничного колеса. Мажордом вернулся, неся на плече наши сумки:
— Ну вот и еда есть. Хозяйка пошла все для нас приготовить. С вашего позволения, мы тут передохнем. А то как дождь хлынет, так и до самой ночи не прояснится.
Мельничиха подошла к нам, озабоченная и робкая.
— Я поставлю таган на огонь, — сказала она. — Может быть, что-нибудь подогреть себе захотите.
Она поставила таган, и мажордом начал вынимать содержимое сумок. Он вытащил большую камчатую салфетку и постелил ее на камне перед очагом. Тем временем я вышел на воздух. Я долго глядел на серую завесу дождя, которую колыхали порывы ветра. Мажордом подошел ко мне и почтительно и вместе с тем запросто сказал:
— Как только ваша светлость пожелает… Могу вас уверить, обед у нас будет отличный!
Я вернулся на кухню и уселся возле огня. Есть мне не хотелось, и я велел мажордому налить мне стакан вина. Старик повиновался, не сказав ни слова. Он порылся в сумке и, найдя на дне бурдюк, поднес мне того пенистого красного вина, каким славятся виноградники Паласьо, в одном из тех серебряных стаканчиков, которые бабушки наши отделывали перуанскими монетами, украшая каждый стаканчик монетой достоинством в один соль. Я пригубил вино и, так как кухня наполнилась дымом, снова вышел на воздух. Стоя за дверью, я сказал, чтобы мажордом и мельничиха садились обедать. Мельничиха спросила моего разрешения позвать старика, который все пел. И стала громко кричать:
— Отец! Отец!
Мельник явился, весь белый от муки, в колпаке, съехавшем набок, продолжая напевать свою песенку. Это был дряхлый старик с бегающими глазками и густой серебряной гривой, веселый и плутоватый, как книжка старинных прибауток. К очагу принесли грубо сколоченные скамейки, совсем почерневшие от дыма, и, возблагодарив бога, все уселись. Обе тощие собаки бродили вокруг. Это было настоящее празднество. Бедная Конча все сумела предусмотреть. Эти бледные руки, которые мне так нравились, так умели накрыть стол нищих, словно то были умащенные благовониями руки святых принцесс! Перед тем как выпить вино, старик мельник поднялся и певучим голосом проговорил:
— За здоровье славного кабальеро, который нас угощает! За то, чтобы нам еще долгие годы отведывать вино вместе с ним!
После этого женщина и мажордом выпили столь же церемонно, как и старик. За едой они говорили между собой вполголоса. Мельник спросил, куда мы держим путь, и мажордом ответил, что мы едем в замок Брандесо. Мельник хорошо знал эту дорогу. Он издавна платил владелице замка подати натурой: две овцы, семь мер пшеницы и столько же ржи. А в прошлом году была засуха, и она с него вообще ничего не взяла — посочувствовала его бедности.
Стоя у дверей, я глядел на дождь и слушал их речи, растроганный и умиленный. Я повернулся к ним и пытался рассмотреть сквозь клубы дыма лица сидевших у очага. Заметив это, те стали говорить еще тише, и мне показалось, что говорят они обо мне.
Мажордом встал:
— Если ваша светлость не возражает, мы покормим сейчас наших мулов и двинемся в путь.
Он вышел вместе с мельником, который вызвался ему помочь. Женщина стала подметать золу у очага. В глубине кухни собаки глодали кости. Подбирая горсточки угля, женщина не переставала благословлять меня, повторяя свои благословения как молитвы:
— Да хранит вас господь, да пошлет он вам в жизни счастье, и, когда вы прибудете в замок, пусть вас там ожидает большая радость!.. Да пошлет господь сеньоре здоровья, и да встретит она вас румяная, как роза!
Обходя вокруг очага, мельничиха монотонно повторяла:
— Да встретит она вас такой, как роза на кусточке!
Решив воспользоваться тем, что дождь перестал, мажордом пришел забрать из кухни сумки; мельник в это время отвязал мулов и вывел их под уздцы на дорогу, чтобы мы могли на них сесть. Видя, что мы уезжаем, дочь его подошла к двери:
— Счастливого пути нашему славному кабальеро! Да не оставит его господь!
Когда мы уже сели на мулов, она вышла на дорогу, накрыв голову плащом, чтобы уберечься от дождя, который хлынул снова, и подошла ко мне, исполненная таинственности. Она была похожа на вставшую из могилы тысячелетнюю тень. Тело ее дрожало, и глаза под капюшоном лихорадочно горели. В руке у нее был пучок каких-то трав. Она протянула его мне с видом сивиллы и тихо сказала:
— Когда будете у госпожи графини, положите ей эти травы под подушку, только чтобы она не видела. Это целебные травы. Души что соловьи — все хотят улететь. Соловьи поют в садах, во дворцах королей они чахнут и умирают…
Она подняла руки, словно призывая далекое пророческое наитие снизойти к ней, и снова их опустила. Подошел старый мельник; он улыбался. Он отвел дочь в сторону, чтобы дать дорогу моему мулу:
— Не обращайте внимания, сеньор! Она у меня дурочка!
Какое-то суеверное предчувствие, словно черная птица, коснулось моей души, и, не говоря ни слова, я взял из ее рук этот мокрый от дождя пучок трав, душистых трав, трав священных, тех, что излечивают скотину от порчи, а людей — от душевной муки, тех, что умножают семейные добродетели и урожаи… Недолго пришлось мне ждать, чтобы травы эти расцвели на могиле Кончи, на зеленом благоуханном кладбище Сан-Клодио-де-Брандесо!
Я смутно помнил дворец Брандесо, где в детстве мне приходилось бывать с матерью, его старинный парк и его лабиринт, который меня и пугал и притягивал. Спустя много лет я вернулся туда по зову девушки, с которой столько раз играл в запущенном саду без цветов. Заходящее солнце бросало свой золотистый отблеск на темно-зеленую, почти черную зелень вековых деревьев — кедров и кипарисов, — которые были сверстниками дворца. В сад вели сводчатые ворота; карниз их был увенчан четырьмя щитами и гербами четырех древних родов — предков первого владельца. Завидев знакомые места, ваши усталые мулы резво поскакали, стуча копытами, и остановились только у самых ворот. Крестьянин в шерстяной куртке, ожидавший у входа, поспешил помочь мне сойти с седла. Спрыгнув на землю, я отдал поводья. Охваченный воспоминаниями, я ступил в темную аллею каштанов, усыпанную сухими листьями. В глубине виднелся дворец; все окна были закрыты; на стеклах играли отблески солнца. В одном из окон я увидел светлую тень, увидел, как она остановилась, как приложила руки ко лбу. Потом среднее окно медленно отворилось, и тень стала махать мне руками, похожая на привидение. Это длилось всего какой-то миг. Ветви каштанов скрестились и заслонили окно. Свернув с аллеи, я снова взглянул на дворец. Все окна были закрыты. И среднее тоже! Сердце у меня забилось. Я вошел в большой подъезд, темный и тихий. Я шел по большим каменным плитам, и шаги мои отдавались гулом. Плательщики податей ожидали, сидя на дубовых скамьях, потертых от времени. В глубине стояли старинные лари с пшеницей; они были открыты. Увидав меня, посетители встали и почтительно пробормотали:
— Добрый вечер, сеньор!
Потом они неторопливо уселись опять у стены, фигуры их тонули во мраке. Я стал быстро подниматься по парадной лестнице с широкими ступеньками и грубыми гранитными перилами. Не успел я взойти наверх, как дверь тихо приотворилась и из комнаты вышла старуха служанка, которая вынянчила Кончу. Со светильником в руке она стала спускаться мне навстречу:
— Благодарение господу, приехали наконец! Сейчас вы увидите сеньориту. Сколько времени она, бедняжка, по вас тосковала! Решила, что вы ее забыли. Это уж я ее разуверила. Но ведь вы не могли ее позабыть, господин маркиз?
— Конечно, не мог, — мечтательно ответил я. — Так где же она?
— Весь день лежит. Хотела к вашему приезду одеться. Что дитя малое. Ну, да сеньор знает. От нетерпения вся дрожала, зуб на зуб не попадал. Пришлось ей лечь.
— Она так больна?
Глаза старухи наполнились слезами:
— Очень больна, сеньор! Не узнаете вы ее.
Старуха смахнула рукой набежавшие слезы и едва слышно добавила, указывая на освещенную дверь в конце коридора:
— Она там.
Мы пошли туда молча. Конча услышала мои шаги и закричала голосом, полным томления и тоски:
— Это ты! Это ты, любимый!
Я вошел. Конча приподнялась в кровати. Она снова вскрикнула и, вместо того чтобы протянуть мне руки, закрыла ими лицо и зарыдала. Служанка поставила светильник на столик и удалилась вздыхая. Я подошел к Конче, взволнованный и растроганный. Я целовал ее руки и ласково старался открыть ей лицо. Ее глаза, ее прекрасные, лихорадочно блестевшие, полные любви глаза долго глядели на меня в тишине. Потом в томном и счастливом забытьи Конча зажмурила их. Какое-то мгновение я смотрел на нее. До чего же она была бледна! Я почувствовал, что к горлу у меня подкатился комок. Конча тихо открыла глаза и, сжав мне виски своими пылающими руками, снова посмотрела на меня тем же немым взглядом, который, казалось, угасал в томлении любви и смерти, уже стоявшей у ее изголовья:
— Я боялась, что ты не приедешь!
— А теперь?
— Теперь я счастлива.
Ее бескровные губы дрожали.
Она снова закрыла глаза, упиваясь восторгом, словно для того, чтобы увидеть вновь милое сердцу видение. Сердцем, иссушенным до боли, я понял, что она умирает.
Конча поднялась, чтобы позвонить. Я нежно взял ее за руку:
— Что ты хочешь?
— Я хочу позвать служанку, чтобы она одела меня.
— Сейчас?
— Да. — Она наклонила голову и добавила с печальной улыбкой: — Я хочу сама принять тебя в моем дворце.
Я пытался убедить ее, чтобы она не вставала.
Конча настаивала:
— Я велю затопить камин в столовой. Пусть он ярко горит! Мы будем ужинать вместе.
Она оживилась, и в ее влажных глазах, во всем ее бледном лице появилась счастливая истома любви:
— Я хотела встать к твоему приезду — и не смогла. Я сгорала от нетерпения! Совсем от него заболела!
Я держал ее руку в своих руках и целовал ее. Глядя друг на друга, оба мы улыбались.
— Почему ты не позвал служанку?
— Позволь мне быть твоей камеристкой! — тихо сказал я.
Конча высвободила руку:
— Что за глупости тебе приходят в голову!
— Никакие не глупости. Где твое платье?
Конча улыбнулась, как улыбнулась бы мать капризу маленького ребенка:
— Не знаю.
— Ну скажи мне…
— А если я не знаю?..
И в то же мгновение едва уловимым движением глаз и губ она показала мне на большой дубовый платяной шкаф рядом с кроватью. Ключ был в замке, и я открыл дверцу. Из шкафа донесся нежный, старинный аромат. Там, в глубине, висело платье, которое Конча в тот день надевала.
— Вот это?
— Да, вот это, белое. И больше ничего.
— Холодно тебе не будет?
— Нет.
Я снял с вешалки это открытое платье, которое, казалось, еще хранило аромат тела.
— И капризы же у тебя! — шепнула Конча, покраснев.
Она высунула из-под одеяла ноги, бледные, детские, тоненькие ножки с голубыми прожилками, ждавшие моих поцелуев.
Слегка дрожа, она всунула их в бабуши из куньего меха и сказала удивительно мягко:
— Открой теперь вот этот большой ящик. Выбери мне шелковые чулки.
Я выбрал черные шелковые чулки, на которых были вышиты тонкие розовые стрелки:
— Эти?
— Да какие хочешь.
Чтобы надеть их ей на ноги, я опустился на колени на тигровую шкуру. Конча запротестовала:
— Встань! Не хочу я этого.
Я улыбнулся, но не послушался. Ноги ее, казалось, ускользали из моих рук. Бедные ноги, можно ли было не целовать их!
Конча вздрогнула и, как околдованная, повторяла:
— Ты все такой же! Все такой же!
После черных шелковых чулок я надел на нее подвязки, тоже шелковые, две белые ленты с золотыми застежками. Я одевал ее с тем возвышенным и проникновенным старанием, с каким благочестивые дамы убирают статуи святых, считая себя призванными быть их служанками. Когда мои дрожащие руки коснулись ее бледной нежной шеи, тесемок ее длинного, как монашеская ряса, белого платья, Конча встала, опираясь на мои плечи. Медленными шагами пошла она к туалету, едва касаясь ногами пола, той воздушной поступью, какая бывает иногда у больных женщин, и, поглядев в полукруглое зеркало, поправила прическу:
— Какая я бледная! Теперь ты видишь, что от меня остались кожа да кости!
— Ничего этого я не вижу, — запротестовал я.
Она весело улыбнулась:
— А скажи по правде, как ты меня находишь?
— Раньше ты была принцессой солнца. Теперь ты — принцесса луны.
— Обманщик!
Она повернулась спиною к зеркалу, чтобы посмотреть на меня. И в ту же минуту ударила в стоявший возле столика гонг.
Прибежала старая служанка:
— Сеньорита звала меня?
— Да, скажи, чтобы затопили в столовой.
— Туда уже отнесли большую жаровню.
— Пусть ее уберут оттуда. Разожги сама огонь во французском камине.
Старуха посмотрела на меня:
— Сеньорита все-таки хочет идти в столовую? Не забудьте, что в передней очень холодно.
Конча села на край дивана и, с наслаждением завертываясь в свое широкое монашеское платье, сказала, вся дрожа:
— Когда я пойду по коридорам, я накину шаль. — И, повернувшись ко мне, в то время как я молчал, не желая ни в чем ей перечить, с нежной покорностью в голосе прошептала — Если ты возражаешь, я не пойду.
— Я не возражаю, Конча, — с болью ответил я, — только боюсь, что это может тебе повредить.
— Мне не хочется оставлять тебя одного.
Тогда старуха няня с тем грубоватым простодушием, какое бывает у старых, преданных слуг, сказала:
— Ну, ясное дело, вам вместе быть хочется. Вот мне и подумалось, уж лучше вам тут поужинать, за маленьким столиком. Что вы на это скажете, сеньорита Конча? А вы, господин маркиз?
Конча положила руку мне на плечо и ответила улыбаясь:
— Да, няня, да. Ты хорошо все придумала, Канделария. Господин маркиз и я, мы оба тебе благодарны. Скажи Тересине, что мы будем ужинать здесь.
Мы остались одни. С глазами, полными слез, Конча протянула мне руку, и, как когда-то, губы мои припали к ее пальцам, отчего кончики их порозовели. В камине весело запылал огонь. Усевшись на ковер и опершись локтем мне о колена, Конча раздувала его, шевеля поленья бронзовыми щипцами. Вспыхнувшее и взвившееся ввысь пламя бросало на ее совсем бледное лицо розовый отблеск, похожий на отблеск солнца на древних статуях фаросского мрамора.
Она положила щипцы и протянула мне руку, чтобы подняться с полу. Мы смотрели друг на друга, и глаза наши светились радостью, как у детей, которые только что много плакали, а теперь, позабыв обиды, смеются. Тем временем на столике уже накрыли ужин, и мы, все еще не разнимая наших сплетенных рук, уселись в кресла, которые пододвинула нам Тересина. Конча сказала:
— Помнишь, сколько лет уже прошло, с тех пор как ты был здесь с твоей покойной матерью, тетушкой Соледад?
— Да, а ты помнишь?
— Прошло двадцать три года. Мне было тогда восемь; тогда еще я в тебя влюбилась. Как я страдала, когда видела, что ты играешь с моими старшими сестрами! Кто поверит, что восьмилетняя девочка мучилась от ревности. Позднее, уже взрослой, я столько раз из-за тебя плакала, но в ту пору упрекать тебя было для меня утешением.
Конча замолчала, чтобы дать упасть дрожавшим на ресницах слезинкам.
— Ну конечно, ты ведь была уверена, что я тебя люблю. Да и в письме твоем ты об этом пишешь.
— Я никогда не была уверена, что ты меня любишь, знала только, что ты жалеешь меня.
Губы ее печально улыбались, а на дне ее глаз светились слезы. Я хотел встать, чтобы ее утешить, но она остановила меня движением руки. Вошла Тересина. Мы стали ужинать в молчании. Чтобы скрыть слезы, Конча подняла бокал и начала медленно пить вино. Когда она хотела снова поставить его на скатерть, я взял бокал у нее из рук и прикоснулся губами к стеклу там, где его касались ее губы. Конча повернулась к горничной:
— Скажите Канделарии, чтобы подавала ужин.
Тересина вышла, и мы с улыбкой посмотрели друг на друга.
— Почему ты велишь позвать Канделарию?
— Потому что я боюсь тебя. А бедную Канделарию все равно уже ничем не удивишь.
— Канделария снисходительна к нашей любви как истый иезуит.
— Не будем возвращаться к старому! Не будем!
Конча покачала головой, прелестная в своей досаде, и приложила палец к бледным губам:
— Я не позволю тебе изображать собой ни Аретино, ни Чезаре Борджа.
Бедная Конча была очень благочестива, и мое эстетическое преклонение перед сыном Александра VI{46} в дни моей молодости пугало ее, как культ дьявола. На лице ее появилось выражение испуга — меня это забавляло.
— Замолчи! Замолчи! — вскричала она и, глядя на меня искоса, медленно повернула голову: — Канделария, налей мне вина!..
Канделария, в эту минуту стоявшая за спинкой кресла, скрестив руки на своем накрахмаленном белом переднике, кинулась исполнять ее приказание. Голос Кончи, в котором сквозила радость, вдруг зазвучал жалобно. Я увидел, что она с болью закрыла глаза и что губы ее цвета блеклой розы побледнели еще больше. В испуге я вскочил:
— Что ты? Что с тобой?
Конча не могла ничего сказать. Она откинулась на спинку кресла. В лице ее не было ни кровинки. Канделария подбежала к столику и принесла флакон с нашатырным спиртом. Конча вздохнула и открыла глаза, мутные и блуждающие, словно она только что пробудилась от страшного сна. Глядя на меня, она едва слышно сказала:
— Пустяки. Плохо только, что ты испугался.
Потом, протерев рукой глаза, она тревожно вздохнула. Я заставил ее проглотить несколько ложек бульона. Она пришла в себя, и на ее бледном лице появилась улыбка. Она велела мне есть и продолжала есть сама, уже без моей помощи. Потом дрожащей тонкой рукой подняла бокал и мне его протянула. Чтобы доставить ей удовольствие, я пригубил вино. Тогда Конча выпила бокал залпом и в тот вечер больше уже ничего не пила.
Мы сидели на диване и долго-долго говорили. Бедная Конча рассказывала мне, какой была ее жизнь за те два года, что мы не видались. Это была тихая и смиренная жизнь, когда с грустной улыбкой глядят на бегущие дни и проливают слезы во мраке ночи. Мне не пришлось рассказывать ей свою. Глаза ее, как видно, следили за нею издалека и всю ее знали. Бедная Конча! Видя, как ее изнурила болезнь, как она непохожа на прежнюю, я жестоко раскаивался, что послушался ее в ту ночь, когда, стоя на коленях и плача, она молила меня забыть ее и уехать. Ее мать, суровая и мрачная женщина, добилась своего — мы расстались. Никто из нас не хотел вспоминать прошлое, и мы сидели молча. Она — исполненная смирения; я — в той несколько трагической, скорбной позе, которая сейчас вызывает во мне улыбку. Красивая поза, которую я, верно, уже успел позабыть, потому что в стариков никто не влюбляется и она подходит только для донжуана в молодости. Ах, если бы, невзирая на седину, на впавшие щеки и величественную патриаршью бороду, меня могла полюбить юная девушка, духовная дочь, целомудренная и нежная, я бы счел преступлением вести себя с ней иначе, чем пристало почтенному прелату, духовнику принцесс и теологу, погруженному в науку любви! Но бедная Конча при виде этой позы кающегося сатаны вся дрожала и сходила с ума. Она была очень добра и поэтому очень несчастна. Улыбнувшись мне скорбным изломом губ, изломом вянущего цветка, она прошептала:
— Все у нас с тобой могло быть иначе!
— В самом деле!.. Сейчас я даже не понимаю, как я мог тогда тебя послушаться. Должно быть, оттого что ты плакала.
— Не обманывай меня. Я верила, что ты вернешься… И моя мать всегда этого боялась!
— Я не возвращался, потому что ждал, что ты меня позовешь. О, этот бес гордыни!
— Ну какая там гордыня… То была другая женщина… Ты давно уже изменял мне с ней. Когда я узнала, я думала, что не переживу. Я была в таком отчаянии, что согласилась вернуться к мужу! — Она скрестила руки, пристально на меня глядя; бледные губы ее задрожали — она глухо зарыдала. — Чего только я не вынесла, когда догадалась, почему ты не приехал! И все равно, не было ни одного дня, когда бы я думала о тебе с неприязнью.
Я не решался обманывать ее в эту минуту и, растроганный, замолчал. Конча стала гладить мне волосы и, обхватив руками мою голову, вздохнула:
— Какую бурную жизнь ты вел все эти два года! Ты почти совсем седой!
Я, в свою очередь, скорбно вздохнул:
— Ах, Конча, это все — страдания.
— Нет, это не страдания. Это другое… Твои страдания не могут сравниться с моими, а я-то ведь не поседела.
Я поднялся и стал глядеть на нее; я вытащил у нее из волос золотую булавку; шелковистые черные нити скатились ей на плечи.
— Теперь твой лоб, как небесное светило, сияет под черными сводами волос. Ты белая и бледная, как луна. Помнишь, как я хотел, чтобы ты секла меня твоими густыми прядями? Конча, укрой меня ими.
Ласково и покорно она накинула мне на голову копну волос. Я вдохнул их аромат, и мне показалось, что я опустил лицо в прохладный родник; меня охватило какое-то блаженное чувство — нахлынули счастливые воспоминания. Сердце Кончи неистово билось; дрожащими руками я расстегивал ей платье, а губы мои целовали ее тело, упиваясь бальзамом любви:
— Жизнь моя!
— Жизнь моя!
Конча на минуту закрыла глаза и, встав, начала приводить в порядок растрепанные волосы:
— Уйди! Ради всего святого, уйди!
Я глядел на нее улыбаясь:
— Куда ты хочешь, чтобы я ушел?
— Уйди! Всякое волнение меня убивает, я должна отдохнуть. Я писала тебе, чтобы ты приехал, потому что между нами уже ничего не может быть, кроме чистой любви. Пойми, я так больна, что ничто другое невозможно. Умереть за смертным грехом! Какой это ужас!
И, побледнев больше прежнего, она скрестила руки, обхватив ими плечи, и застыла в привычной для нее позе, полной высокого самоотречения. Я направился к двери:
— Покойной ночи, Конча.
Она вздохнула:
— Покойной ночи.
— Может быть, ты позовешь Канделарию, чтобы она проводила меня по этим коридорам?
— Ах, верно! Ты же еще не знаешь.
Подойдя к столику, она ударила в гонг. Мы молча стали ждать, но на зов никто не явился. Конча нерешительно на меня посмотрела:
— Может быть, Канделария уже легла?
— Если так, то…
Видя, что я улыбаюсь, она только покачала головой:
— Если так, то я тебя провожу сама.
— Тебе не следует выходить на холод.
— Ничего, ничего!
Она взяла со столика подсвечник и стремительно вышла, волоча за собой шлейф своего длинного монашеского платья. У дверей она повернулась ко мне, глазами зовя меня за собою, и, белая как привидение, исчезла во тьме коридора.
Я бросился за ней и догнал ее:
— Ты с ума сошла!
Она тихо засмеялась и оперлась о мою руку. На стыке двух коридоров была дверь в круглую прихожую — это была большая пустынная комната, где висели изображения святых и стояли старинные лари. В переднем углу догорала лампада, озаряя тусклым светом мертвенно-бледные, израненные ноги Иисуса Назареянина. Мы остановились, увидав в проеме балконной двери темную фигуру склоненной женщины. Скрестив руки и опустив голову на грудь, она спала. Это была Канделария. От шума наших шагов она проснулась и вскочила:
— Ах! А я ждала здесь, чтобы показать господину маркизу его комнату.
— Я уже думала, дорогая, что ты спишь!
Мы молча пошли к запертой двери; сквозь щели был виден свет. Конча отпустила мою руку и остановилась бледная как полотно, вся дрожа. Наконец она вошла. Эта комната была приготовлена для меня. На старинной консоли горели свечи в серебряных подсвечниках. В глубине видна была кровать со старинным пологом из дамасского шелка. Конча оглядела все с материнской заботой. Она остановилась, чтобы понюхать в вазе свежие розы, а потом простилась со мной:
— Покойной ночи, до завтра!
Я поднял ее на руки, как девочку:
— Я не пущу тебя.
— Ради бога, пусти!
— Нет, нет.
Глаза мои улыбались, прижавшись к ее глазам, губы прижались к ее губам. Турецкие бабуши свалились у нее с ног. Не опуская ее на пол, я принес ее прямо к кровати и осторожно ее уложил. Она покорилась мне и была счастлива. Глаза ее горели, на белых щеках вспыхнули красные пятна. Нежным движением она отстранила мои руки и, немного смущенная, начала расстегивать свое белое монашеское платье; оно тут же соскользнуло с ее бледного дрожащего тела. Она отвернула простыни, укрылась ими и вдруг зарыдала. Я сел у изголовья кровати, пытаясь ее утешить.
Всю ночь ощущал я подле себя ее бедное тельце. Полыхавшая в этом хрупком фарфоровом сосуде жизнь догорала лихорадочным пламенем. Голова ее лежала на подушке, обрамленная волнами черных волос, от которых мертвенно-бледное лицо казалось еще бледнее. Губы без кровинки; ввалившиеся щеки; пергаментные виски. Восковые веки прикрывали провалившиеся в глубокие лиловатые впадины глаза и делали ее похожей на прекрасную святую, изможденную поклонами и постами. Шея возникала из плеч, словно увядшая лилия, груди были похожи на две белые розы пред алтарем; руки, тонкие и нежные, были закинуты за голову наподобие ручек амфоры. Приподнявшись на подушках, я глядел на ее сон, на умиротворенное лицо, на котором проступали капельки пота. Два раза уже пропел петух, и белый свет зари пробивался сквозь щели балконной двери. На потолке колыхались тени от пламени свеч — они прогорели всю ночь и оплывали теперь в своих серебряных подсвечниках. Возле кровати на кресле лежал мой охотничий костюм, мокрый от дождя, а на нем — волшебные травы, действие которых знала только полоумная дочь мельника. Я тихо поднялся, чтобы взять их. Со странным чувством, смесью суеверия и иронии, положил я таинственный пучок под подушку Кончи, не разбудив ее. Потом лег, припал губами к ее ароматным волосам и незаметно заснул. В снах моих долго витало, словно в тумане, виденное за день и оживали все слезы, все улыбки. Должно быть, я даже один раз открыл во сне глаза и увидел Кончу, лежавшую рядом, и она поцеловала меня в лоб, улыбаясь призрачною улыбкой, и поднесла палец к губам. Я невольно закрыл глаза и снова отдался во власть сновидений. Когда я проснулся, от балкона в глубь комнаты протянулся луч солнца, в котором играли пылинки. Кончи не было, но вскоре дверь скрипнула, и она вошла осторожно, на цыпочках. Я притворился спящим. Она подкралась к кровати, вздохнула, посмотрела на меня и поставила в воду свежие розы. Потом направилась к балкону, задернула занавески и удалилась так же неслышно, как и вошла. Я окликнул ее со смехом:
— Конча, Конча!
Она обернулась:
— Ах, вот как! Ты проснулся!
— Я грезил тобою.
— Но я ведь здесь!
— А как ты себя чувствуешь?
— Хорошо!
— Любовь — это великий врач!
— Только уж лучше не будем злоупотреблять медициной!
Мы смеялись радостным смехом, лежа в объятиях друг друга, положив головы на одну подушку и припав губами к губам. Конча была мертвенно-бледна, совсем как скорбящая божья матерь, и вместе с тем так хороша собой именно от этой своей худобы, от этой болезни, что глаза мои, губы и руки черпали наслаждение в том самом, что ввергало меня в печаль. Признаюсь, я никогда еще не любил ее так неистово, как в эту ночь.
Я не привез с собой никого из слуг, и Конча, у которой бывали свои причуды, как у принцесс плутовских новелл, предоставила в мое распоряжение пажа, чтобы по-настоящему оказать мне честь, как она сказала смеясь. Это был мальчик, которого приютили в замке. Я видел, как он появился в дверях и, сняв берет, почтительно и смиренно спросил:
— Вы позволите?
— Войди.
Он вошел, опустив голову и держа в обеих руках белый беретик:
— Сеньорита, моя госпожа, послала меня узнать, не угодно ли вам чего-нибудь.
— Где она?
— В саду.
Он продолжал стоять посреди комнаты, не осмеливаясь и шага ступить. Видимо, это был старший сын одного из управляющих землями Лантаньо и один из ста крестников ее дяди, дона Хуана Мануэля Монтенегро, этого идальго, визионера и мота, который жил в Лантаньонском поместье. Воспоминание это и сейчас вызывает во мне улыбку. Любимец Кончи не был ни белокурым, ни грустным, как пажи в балладах — у него были черные глаза и плутовские щеки, позлащенные солнцем. И все же в мальчика этого могла влюбиться принцесса. Я велел ему открыть двери на балкон, и он побежал исполнять мое приказание. Свежий благоуханный ветерок ворвался в комнату, и занавески буйно заколыхались. Паж оставил на стуле свой берет и теперь взял его снова.
— Ты служишь во дворце?
— Да, сеньор.
— Давно?
— Да года два уже.
— А что ты делаешь?
— Все, что мне прикажут.
— Родители у тебя есть?
— Есть, сеньор.
— А чем они занимаются?
— Да ничем. Землю обрабатывают.
Это были стоические ответы парии. Его шерстяная курточка, робкие глаза, вестготский говор и волосы, подстриженные на темени наподобие монашеской тонзуры, делали его похожим на сына землепашца былых времен.
— Так это сеньорита тебя послала?
— Да, сеньор. Я был во дворе, обучал там нового дрозда ривейране, которую старые уже разучили. Сеньорита пришла в сад и позвала меня.
— Выходит, ты тут ведаешь дроздами.
— Да, сеньор.
— А теперь ты еще к тому же у меня в услужении?
— Да, сеньор.
— Ничего не скажешь, высокие должности.
— Да, сеньор.
— А сколько тебе лет?
— Должно быть… Должно быть… — Мальчик смущенно смотрел на свой берет, перекладывая его из руки в руку, погруженный в размышления. — Должно быть, двенадцать. Только в точности сказать не могу.
— А где ты был перед тем, как поступил во дворец?
— Служил в доме дона Хуана Мануэля.
— Что же ты там делал?
— Приручал хорька.
— Еще одна придворная должность!
— Да, сеньор.
— А сколько у сеньориты дроздов?
Мальчик презрительно пожал плечами:
— Хоть бы один был!
— Так чьи же они?
— Мои… Когда я их совсем обучу, я их продаю.
— Кому же ты их продаешь?
— Да сеньорите — она у меня их всех покупает. Вы разве не знаете, что ей нравится их выпускать на волю? Сеньорите хотелось бы, чтобы они летали на свободе у нее по саду и насвистывали ривейрану. Только они далеко улетают. Как-то раз в воскресенье, о ту пору, когда день святого Иоанна празднуют, я шел вместе с сеньоритой. Мы уже за луга Лантаньона зашли и вдруг видим — дрозд. Сидит себе на ветке черешни и ривейрану распевает. Помнится, сеньорита сказала тогда: «Гляди-ка, куда этот кабальеро залетел!»
Слушая этот простодушный рассказ, я рассмеялся, а на меня глядя, рассмеялся и мальчик. Хоть он и не был ни белокурым, ни грустным, он заслуживал того, чтобы быть пажом принцесс и хронистом какого-нибудь царствования.
— А что почетнее — хорьков или дроздов приручать?
Подумав немного, мальчик ответил:
— Все одно!
— А почему же ты ушел от дона Хуана Мануэля?
— Да у него очень уж много слуг… И знатный же кабальеро дон Хуан Мануэль! Могу вас уверить, в поместье все слуги его боятся. Дон Хуан Мануэль мне крестным отцом приходится. Он ведь и привел меня во дворец, чтобы я к сеньорите на службу поступил.
— А где тебе было лучше?
Мальчик посмотрел на меня своими черными, совсем еще детскими глазами и, не выпуская из рук берета, многозначительно сказал:
— Тому, кто умеет быть скромным, хорошо везде.
Это была реплика, достойная Кальдерона.{47} Этот паж, оказывается, умел говорить сентенциями! Я уже больше не сомневался в его предназначении. Он был создан для того, чтобы жить во дворце, обучать дроздов, приручать хорьков, воспитывать принца и сделать из него настоящего короля.
Конча была в саду. Она весело меня позвала. Я вышел на поляну, согретую золотым лучом утреннего солнца. Впереди были буколические поля: запряженные волами повозки, виноградники, пашни. Конча стояла у самого края поляны.
— Флорисель у тебя?
— Флорисель — это паж?
— Да.
— Кажется, он рожден, чтобы служить феям.
— Позови его сюда.
— Зачем он тебе понадобился?
— Хочу велеть ему отнести тебе эти розы.
И Конча показала мне все еще покрытые капельками росы, облетавшие розы, — она набрала их полный подол; изобилие их радовало, словно возвышенная любовь, которая не идет дальше поцелуев.
— Все это тебе. Весь сад обобрала.
Я смутно припоминал этот старинный сад, где вековые мирты обрамляли четыре щита с гербами вокруг заброшенного фонтана. И сад и дворец были полны той старины, аристократической и грустной, которой отмечены места, где в былое время царили изысканные и галантные нравы. Под сенью этого лабиринта, на террасах и в залах раздавался веселый смех и звучали мадригалы; белые руки, те, что держат кружевные платки на старинных портретах, обрывали лепестки маргариток, хранящие тайны неискушенного сердца. Прекрасные и далекие воспоминания! Они-то и явились мне в то далекое утро в золоте осеннего сада, освеженные, зазеленевшие после прошедшего ночью ливня. Осененные прозрачным небом цвета геральдической лазури, величественные кипарисы, казалось, хранили в себе все очарование монастырской жизни. Ласковый свет трепетал на цветах, как золотистая птица, и ветерок чертил на бархате травы фантастические узоры, словно это танцевали невидимые феи. Конча стояла возле лестницы — она набирала большой букет роз. Иные из них осыпались ей в подол, и она показывала их мне с улыбкой:
— Смотри, какая жалость! — И она погружала свои бледные щеки в бархатистые свежие лепестки. — Ах, как они пахнут!
— Они пахнут тобой, — ответил я улыбаясь.
Она подняла голову и с наслаждением вдыхала аромат роз, зажмурив глаза и улыбаясь. На лице ее были капли росы, и оно само походило на белую розу. На фоне этой нежной тенистой зелени, окутанная светом, как прозрачным золотистым покрывалом, она казалась мадонной, приснившейся серафическому монаху. Я спустился к ней. Когда я шел по лестнице, она кинула в меня весь этот дождь из роз, осыпавшихся у нее в подоле… Мы вместе пришли в сад. Дорожки были усыпаны сухими желтыми листьями, которые шуршали от ветра. Улитки, неподвижные, как разбитые параличом старики, вытянулись на каменных скамейках и грелись на солнце. Цветы начинали вянуть в версальских корзинах, оплетенных миртами, и источали свой смутный аромат — аромат печальных воспоминаний. В глубине лабиринта слышен был звук окруженного кипарисами фонтана, и журчание воды, казалось, разносило по саду умиротворяющую мелодию старости, отрешенности и уединения.
— Отдохнем здесь, — сказала Конча.
Мы сели в тени акаций на каменной скамье, покрытой сухими листьями. Перед нами открылась дверь таинственного зеленого лабиринта. Над сводом арки высились две химеры, заросшие мохом, и тенистая тропинка — одна-единственная тропинка — извивалась среди мирт, как стезя одинокой жизни, безвестной и тихой. Флорисель прошел вдали, среди деревьев, неся в руках клетку с дроздами.
Конча показала мне на него:
— Вот он!
— Кто?
— Флорисель.
— Почему ты зовешь его Флориселем?
Весело смеясь, она сказала:
— Флорисель — имя пажа, в которого влюбилась безутешная принцесса из сказки.
— Чьей сказки?
— Сказки всегда ничьи.
Глаза ее, таинственные и изменчивые, посмотрели куда-то вдаль, и смех ее прозвучал так странно, что меня бросило в холод. В холод, оттого что я понимал все виды извращенности! Мне показалось, что Конче тоже стало холодно. Может быть, просто потому, что начиналась осень и тучи закрыли солнце. Мы вернулись во дворец.
Дворец Брандесо, хоть он и относится к XVIII веку, почти весь выдержан в стиле платереско.{48} Этот дворец в итальянском вкусе — с эркерами, застекленными балконами, фонтанами и садами — был выстроен по распоряжению епископа коринфского, отца дона Педро де Бенданьи, кавалера ордена святого Иакова и духовника королевы доньи Марии Амелии Пармской. Если не ошибаюсь, у деда Кончи и у моего деда, маршала Бенданьи, были тяжбы из-за права наследования дворца. Я не вполне в это верил, хотя, вообще говоря, тяжбы у деда моего были даже с королем. Из-за этих тяжб я унаследовал от него огромные кипы бумаг. История дворянского рода Бенданьи — это история апелляционного суда в Вальядолиде.
У бедной Кончи была страсть к воспоминаниям, и поэтому ей захотелось обойти со мной весь дворец, воскрешая в памяти те далекие времена, когда я приезжал туда вместе с матерью, а сама Конча и ее сестры были бледными девочками, которые целовали меня и вели за руку играть то в башне, то на террасе, то на балконе, что выходил на дорогу и в сад… Утром, когда мы поднимались по полуразрушенной лесенке, голуби выпорхнули и уселись на каменный щит с гербом. Солнце бросало золотые отблески на стекла, из щелей стен выглядывали многолетние левкои; ящерица бежала по балюстраде. Конча улыбнулась мне в каком-то томном забытьи:
— Помнишь?..
И я ощутил в этой нежной улыбке все мое прошлое, как некий дорогой мне аромат увядших цветов, вызывающий радостные и смутные воспоминания… Это там благочестивая и всегда грустная сеньора имела обыкновение рассказывать нам жития святых. Сколько раз, сидя в амбразуре окна, она раскрывала на коленях «Христианский календарь» и показывала мне гравюры. Я все еще помню ее тонкие, прозрачные руки, которые медленно перевертывали страницы. У сеньоры этой было чудесное старинное имя — Агеда. Это была мать Фернандины, Исабель и Кончи, трех бледных девочек, которые играли со мной. После стольких лет мне довелось вновь увидеть эти парадные залы и эти интимные комнаты! Комнаты с ореховыми паркетами, прохладные и тихие, хранящие весь год аромат терпких осенних яблок, положенных дозревать на подоконники. В залах были старинные драпировки из дамасского шелка, помутневшие зеркала и фамильные портреты. Дамы в черных юбках, прелаты со снисходительною улыбкою на устах, бледные аббатисы, свирепые полководцы. В этих комнатах шаги наши отдавались, как в пустынных церквах, и, когда медленно открывались двери с затейливой железной отделкой, из безмолвных и темных глубин вас обдавал запах прожитых жизней. Только в одной зале, где пол был устлан пробкой, шаги наши не отозвались ни единым звуком, и было такое чувство, что это ступают привидения. Благодаря зеркалам залы уходили вглубь, словно заколдованное озеро, и от этого кружилась голова. Фигуры с портретов — все эти епископы, закладывавшие камни дворца, все эти грустные девушки, эти потемневшие от времени владетельные сеньоры — жили здесь особою жизнью, забытые всеми в своем многовековом покое. Конча остановилась на месте пересечения коридоров, в круглой прихожей, большой обветшалой комнате со старинными сводами. У одной из стен лампада трепетавшим, как бабочка, пламенем озаряла слабым светом бледный лик Христа, его развевающиеся волосы.
— Помнишь эту комнату? — тихо прошептала Конча.
— Круглую комнату?
— Да, мы тут играли.
В амбразуре окна сидела старуха и пряла. Конча молча показала мне на нее:
— Это Микаэла… Горничная моей матери. Бедняжка совсем ослепла! Тише!
Мы пошли дальше. Конча несколько раз останавливалась в дверях и, показывая погруженные в гробовое безмолвие помещения, говорила мне с нежной улыбкой, которая, казалось, тоже таяла, исчезая где-то в давно минувшем:
— Помнишь?
Она вспоминала самое далекое прошлое. То время, когда мы были детьми и прыгали перед консолями, чтобы посмотреть, как будут дрожать вазы с цветами, абажуры, украшенные старинными золотыми узорами, серебряные канделябры и дагерротипы, таинственные как звезды! То время, когда наш безумный счастливый смех нарушал торжественную тишину дворца и таял в сводчатых гостиных и в темных коридорах с узкими окнами, на которых ворковали голуби!..
К вечеру Конча почувствовала сильный озноб, и ей пришлось лечь. Встревоженный ее болезнью и ее мертвенной бледностью, я хотел послать за врачом во Вьяну-дель-Приор, но она воспротивилась этому и через час уже ласково и томно мне улыбалась. Положив голову на белую подушку, она прошептала:
— Ты не поверишь, но быть больной для меня теперь счастье!
— Почему?
— Потому что ты за мной ухаживаешь.
Я ничего не ответил и только улыбнулся. Она очень нежно, но упорно повторяла:
— Ты не знаешь, как я тебя люблю!
В полумраке спальни приглушенный голос Кончи обретал глубокое очарование. Я был растроган:
— Я люблю тебя больше, чем раньше, моя принцесса!
— Нет, нет. Раньше я очень нравилась тебе. Как бы невинна ни была женщина, она это всегда чувствует, а ты знаешь, какая я была тогда невинная.
Я наклонился и поцеловал ее в глаза, которые заволокли слезы, и сказал, чтобы ее утешить:
— Ты что же, думаешь, я этого не помню, Конча?
Она засмеялась:
— Какой ты циник!
— Скажи лучше — какой забывчивый! Это было так давно.
— А когда это было, давай вспомним!
— Не огорчай меня, не заставляй вспоминать, сколько прошло лет!
— Но признайся, что я действительно была невинной.
— Да, насколько может быть невинной замужняя женщина.
— Невиннее, намного невиннее! Ах! Ты был моим учителем во всем.
Последние слова Кончи были похожи на вздохи, она закрыла глаза рукой. Я глядел на нее, и во мне пробуждалась сладостная память чувств. Конча сохранила для меня все свое первое очарование: оно стало только чище от божественной бледности, которую сообщила ей болезнь. Я действительно был ее учителем во всем. В этой девочке, выданной замуж за старика, сохранялась вся чистота, вся неискушенность девичества. Есть брачные ложа, холодные, как могилы, и мужья, которые спят, как статуи гранитных надгробий.
Бедная Конча! На ее губах, благоухавших молениями, губы мои первые запели песнь торжествующей любви, первые эту любовь прославили. Мне пришлось обучить ее всей гамме любви: стих за стихом, всем тридцати двум сонетам Пьетро Аретино. Эта девушка, только что вышедшая замуж и похожая на неразвернувшийся белый кокон, едва могла пролепетать только первый. Есть мужья и есть любовники, которые не способны даже стать нашими предшественниками, и господь бог свидетель, что кроваво-красная роза разврата — это цветок, которому в моей любви я никогда не давал раскрыться. Мне всегда больше нравилось быть маркизом де Брадомином, чем божественным маркизом де Садом.{49} Может быть, единственно поэтому иные женщины считали меня гордецом. Но бедная Конча никогда не была в их числе. После того как оба мы долго молчали, она спросила:
— О чем ты думаешь?
— О прошлом, Конча.
— Я ревную тебя к нему.
— Не будь ребенком! Я говорю о прошлом нашей с тобой любви.
Она улыбнулась, зажмурив глаза и словно воскрешая какое-то воспоминание. Потом она пробормотала с милой покорностью, овеянной любовью и грустью:
— Я об одном только молила непорочную деву Марию, и я верю, что она исполнит мою просьбу: чтобы, когда я буду умирать, ты был возле меня.
Мы снова погрузились в печальное безмолвие. Немного погодя Конча поднялась на кровати. Глаза ее были полны слез. Очень тихим голосом она сказала:
— Ксавьер, дай мне шкатулку с драгоценностями, ту, что на столике. Открой ее. Там у меня лежат и твои письма… Мы вместе их сожжем. Я не хочу, чтобы они пережили меня.
Это был серебряный ларчик, выкованный со всей упадническою роскошью XVIII века. Он источал сладостный аромат фиалок. Я стал вдыхать этот аромат и закрыл глаза:
— А других писем, кроме моих, у тебя нет?
— Нет, никаких.
— Ах, вот оно что! Твоя новая любовь не умеет писать.
— Моя новая любовь? Какая новая любовь? Тебе, верно, взбрело в голову какое-нибудь непотребство?
— Пожалуй что да.
— Какое?
— Не скажу.
— А если я угадаю?
— Ты не можешь угадать.
— Тебе пришла в голову какая-нибудь гадость?
— Флорисель! — воскликнул я смеясь.
Глаза Кончи подернулись тенью:
— И ты мог это подумать! — Она запустила руки мне в волосы и взлохматила их. — Что мне с тобой делать? Убить тебя?
Видя, что я смеюсь, она, в свою очередь, засмеялась звонким, веселым, чувственным смехом:
— Нет, это невозможно — не мог ты этого подумать!
— Скажи лучше — это кажется невозможным.
— Значит, ты все-таки подумал?
— Да.
— Не верю! Как это могло прийти тебе в голову?
— Просто я вспомнил свою первую победу. Мне было одиннадцать лет, когда одна дама в меня влюбилась. Это была тоже красавица!
— Тетя Аугуста, — прошептала Конча.
— Да.
— Ты мне уже рассказывал… Но ведь ты же был красивее Флориселя?
Я на минуту задумался и решил уже, что губам моим придется осквернить себя ложью. В конце концов я набрался мужества и признался:
— Ах, Конча! Я был не таким красивым.
Насмешливо на меня посмотрев, она закрыла ларчик с драгоценностями:
— Мы сожжем твои письма в другой раз. Сегодня не будем. Твоя ревность привела меня в хорошее настроение.
И, уткнувшись в подушку, она опять засмеялась все тем же радостным и раскатистым смехом. Время сжигать эти письма для нас еще не настало: мне всегда бывало жаль сжигать любовные письма. Я любил их так, как поэты любят свои стихи. Когда Конча умерла, серебряная шкатулка с этими письмами и с ее драгоценностями по наследству перешла к ее дочерям.
Души влюбленные и больные больше всего склонны поддаваться игре воображения. Никогда в жизни не видел я Кончу такой веселой и такой счастливой. Это возрождение нашей любви напоминало осенний вечер с золотистыми облаками в небе, сладостный и грустный.
Вечер и облака, которыми я мог любоваться с балконов дворца, когда Конча мечтательно и устало оперлась на мое плечо! Солнце садилось. По зеленому, влажному полю вилась дорога — светлая и пустынная. Глядя вдаль, Конча вздохнула:
— По этой дороге мы пройдем с тобой оба!
И, подняв свою бледную руку, она указала на далекие кипарисы кладбища. Бедная Конча говорила о смерти, сама в душе не веря, что смерть так близка. Я отшучивался:
— Конча, не заставляй меня вздыхать. Ты же знаешь, что я — принц, которого ты околдовала в своем дворце. Если ты не хочешь, чтобы чары потеряли силу, ты должна сделать мою жизнь здесь похожей на веселую сказку.
Забыв о том, как в сумерки ей было грустно, Конча улыбнулась:
— Ведь по этой же дороге ты и пришел сюда.
Бедная Конча старалась казаться веселой. Она знала, что слезы всегда горьки и что все вздохи, даже когда они нежны и благоуханны, не должны длиться дольше, чем порыв ветра. Бедная Конча! Она была так бледна, так бела, как те лилии, которые кладут в гроб: начиная увядать, они пахнут особенно нежно. Она снова подняла руку, прозрачную как рука феи:
— Видишь там, вдалеке, всадника?
— Ничего не вижу.
— Проезжает сейчас Фонтелу.
— Да, вижу.
— Это дядя, дон Хуан Мануэль.
— Великолепный лантаньонский идальго!
Конча огорченно опустила руки:
— Бедняга! Я уверена, что он едет повидаться с тобою.
Дон Хуан Мануэль остановился на дороге и, приподнявшись в стременах и сняв шляпу, приветствовал нас. Потом зычным голосом, который эхо несколько раз повторило, закричал:
— Конча! Конча! Вели отворить ворота!
Конча, подняв обе руки, показала ему, что уже пошли отворять. Потом она обернулась ко мне и вскричала смеясь:
— Скажи ему, что уже идут отворять.
Сложив ладони рупором, я закричал:
— Уже пошли отворять! Уже пошли!
Но дон Хуан Мануэль сделал вид, что меня не слышит. Привилегия быть услышанным на таком расстоянии принадлежала исключительно ему. Конча зажала уши:
— Молчи, он все равно никогда не признается, что тебя слышит.
Я продолжал орать:
— Уже пошли! Уже пошли!
Все напрасно. Дон Хуан Мануэль наклонился и гладил шею лошади. Он, должно быть, решил меня не слышать. Потом он снова приподнялся в стременах:
— Конча! Конча!
Конча высунулась из окна, хохоча весело, как девочка:
— Он великолепен!
А старик все кричал:
— Конча! Конча!
Он действительно был великолепен, этот дон Хуан Мануэль Монтенегро. Он, разумеется, решил, что никто особенно не торопится впустить его во дворец, и, пришпорив лошадь, галопом ускакал прочь. Он был уже далеко, когда мы снова услыхали его крик:
— Некогда мне. Еду во Вьяну-дель-Приор. Надо там одного писца отколотить.
Флорисель, который успел уже выбежать, чтобы открыть ворота, остановился и смотрел, как быстро старик ускакал. Потом он вернулся и поднялся по старой, увитой плющом лестнице. Проходя мимо нас, он даже не поднял головы и произнес торжественно и назидательно:
— Настоящий сеньор, самый настоящий сеньор — дон Хуан Мануэль!
Сказано это было, должно быть, в осуждение нам, ибо мы смеялись над старым идальго. Я позвал его:
— Послушай, Флорисель!
Он остановился, весь дрожа:
— Что прикажете?
— По-твоему, дон Хуан Мануэль такой уж знатный сеньор?
— Да, даже познатнее вашей светлости будет.
И его детские глаза, устремленные на Кончу, просили прощения. Конча ответила ему милостивым, поистине королевским жестом. Но потом расхохоталась как сумасшедшая. И этим совсем его смутила. Паж молча удалился. Мы кинулись целовать друг друга и, прежде чем разняли губы, услыхали далекое пение дроздов, которых обучал, играя на тростниковой дудочке, Флорисель.
Была лунная ночь, и в глубине лабиринта, как притаившаяся в ветвях птица, пел свою песню фонтан. Мы сидели молча; руки наши сплелись. Вдруг среди тишины послышались неторопливые и усталые шаги по коридору. В комнату вошла Канделария с зажженной лампой. Словно пробудившись от сна, Конча воскликнула:
— Ах! Унеси этот свет.
— Что же, в темноте, что ли, будете сидеть? Попомните, лунный свет до добра не доводит.
— Почему, Канделария? — спросила Конча с улыбкой.
Понизив голос, старуха ответила:
— Сами хорошо знаете, сеньорита… Нечистая сила!
Канделария ушла, унося лампу и по дороге то и дело крестясь, и мы стали снова слушать пение фонтана, который рассказывал луне о том, как ему живется в плену, в лабиринте. Часы с кукушкой, напоминавшие о временах, когда строился этот дворец, пробили семь.
— Как рано стало темнеть! — прошептала Конча. — Всего только семь!
— Дело идет к зиме.
— А когда тебе надо ехать?
— Когда надо? Когда ты меня отпустишь.
— Отпущу тебя! Да никогда!
Она крепко сжала мне руку. Мы сидели в глубине застекленного балкона. Оттуда был виден сад, освещенный луной, печальные силуэты кипарисов на фоне увенчанного звездами неба и черный фонтан с серебристой водой. Конча сказала:
— Вчера я получила письмо. Я должна тебе его показать.
— Письмо. От кого?
— От твоей кузины Исабель. Она приезжает сюда с девочками.
— Исабель Бенданья?
— Да.
— Разве у Исабели есть дочери?
— Нет. Это мои дочери, — робко сказала Конча.
Мне показалось, что в саду моих воспоминаний повеяло вдруг весной. Когда-то эти две девочки — дочери Кончи — очень меня любили; любил их и я. Я поднял глаза, чтобы взглянуть на их мать. Никогда я не видел на губах Кончи такой печальной улыбки.
— Что с тобой? Что случилось?
— Ничего.
— А девочки что, у отца живут?
— Нет, они воспитываются в монастыре.
— Они, должно быть, совсем уж взрослые?
— Да. Они очень высокого роста.
— Раньше они были прелестны. Не знаю, как теперь.
— Они похожи на мать.
— Ну нет, на мать они никогда не были похожи.
Конча снова улыбнулась печальной улыбкой и, задумавшись, стала разглядывать свои руки:
— У меня к тебе просьба.
— Какая?
— Если приедет Исабель с моими дочерьми, нам надо будет разыграть маленькую комедию. Я скажу им, что ты в Лантаньоне — охотишься с дядей. Ты явишься вечером, и либо из-за непогоды, либо потому, что мы будем бояться разбойников, ты останешься во дворце нас охранять.
— А сколько дней должно длиться мое изгнание в Лантаньон?
— Нисколько! — воскликнула Конча. — Ты приедешь в первый же вечер, когда они явятся. Ты ведь не обидишься, правда?
— Нет, жизнь моя.
— Как ты меня порадовал. Я со вчерашнего дня все об этом думаю и никак не могу решиться сказать.
— И, по-твоему, мы сумеем обмануть Исабель?
— Я делаю это не ради Исабели, а ради моих дочерей — они ведь уже почти взрослые девушки.
— А как же дон Хуан Мануэль?
— Я все ему скажу. На этот счет он не очень щепетилен. Это тоже один из отпрысков рода Борджа. Он ведь тебе дядей приходится, не правда ли?
— Не знаю. Может быть, он мне родня по тебе.
— Нет уж, вряд ли, — возразила она со смехом, — помнится, еще твоя мать называла его кузеном.
— О, моя мать знает историю всех древних родов. Придется нам теперь справиться у Флориселя.
— Он будет нашим придворным геральдиком.
И в то же мгновение на ее бледно-розовых губах заиграла улыбка. Потом она вдруг насторожилась и, скрестив на груди руки, стала смотреть в сад. В клетке из тростника, повешенной над дверью балкона, дрозды — питомцы Флориселя — насвистывали свою старинную песенку. Среди ночной тишины этот веселый деревенский мотив вызывал в памяти беззаботные кельтские танцы в тени дубов. Конча тоже запела. Голос ее был нежен, как ласка. Она поднялась и пошла на балкон. Там, в глубине, вся белая от лунного света, она начала танцевать одно из па веселой пасторальной эклоги. Вдруг она остановилась, едва переводя дух:
— Ах, до чего я устала! Видел? Я научилась танцевать ривейрану?
— Так и ты училась у Флориселя? — засмеялся я.
— Да.
Я кинулся, чтобы поддержать ее. Она положила руки крест-накрест мне на плечи и, откинув голову, посмотрела на меня прекрасными страдальческими глазами. Я поцеловал ее, и она впилась мне в губы своими поблекшими губами.
Бедная Конча!.. Такая изможденная, такая бледная, она в наслаждении была вынослива, как богиня. В эту ночь пламя страсти надолго охватило нас своими золотистыми языками, уже угасающее, уже исступленное. Слушая пение птиц в саду, я уснул в объятиях Кончи. Когда я проснулся, она сидела в кровати, и на лице у нее было выражение такой боли, такого страдания, что я весь похолодел. Бедная Конча! Видя, что я открыл глаза, она все же улыбнулась. Гладя ей руки, я спросил ее:
— Что с тобой?
— Не знаю. Мне что-то худо.
— Но что такое?
— Не знаю… Как будет стыдно, если я вдруг тут умру.
Когда я услыхал эти слова, мне захотелось согреть ее:
— Ты дрожишь, моя бедная!
Я сжал ее в своих объятиях. Она закрыла глаза; так она всегда прикрывала веки, когда ждала моих поцелуев! Она вся дрожала; я решил согреть ей все тело губами и неистово покрывал поцелуями ее руки до плеч и шею, на которой следы их остались ожерельем из роз. Потом, подняв голову, я стал смотреть на нее. Она скрестила свои бледные руки и меланхолически на них смотрела. Бедные, тонкие, бескровные руки, точно фарфоровые!
— У тебя руки скорбящей божьей матери, — сказал я.
Она улыбнулась:
— У меня руки покойницы.
— Для меня ты чем бледнее, тем красивее.
Глаза ее засветились счастьем:
— Правда? Правда? Я все еще нравлюсь тебе, ты все еще меня чувствуешь?
Она обняла меня и рукою приподняла груди — белоснежные розы, которые дрожали, как в лихорадке. Тогда я крепко ее обнял и вдруг, в разгаре желания, меня охватили угрызения совести — я испугался, что она может умереть у меня на руках. Я услыхал ее вздохи, и мне стало казаться, что это агония. Я поцеловал ее, весь дрожа, словно принимая причастие. Со скорбным и еще не изведанным дотоле сладострастием душа моя опьянялась ароматом этого больного цветка, который обрывали по лепестку мои благоговейные и нечестивые пальцы. Ее полные страсти глаза открылись и встретились с моими. Ах! Я угадал в них великое страдание. На следующий день Конча уже не могла встать.
К вечеру хлынул ливень. Я уединился в библиотеке и читал там «Цветник божьей матери» — сборник проповедей, составленный епископом Коринфским, доном Педро де Бенданьей, строителем дворца. По временам я отвлекался от чтения, слушая завывание ветра в саду и шелест сухих листьев, которые вихрями неслись по аллеям вековых мирт. Голые ветви деревьев стучались в стекла запертых окон. В библиотеке царила монастырская тишина, священный покой учености. Слышно было, как дышат старинные ин-фолио в пергаментных переплетах, книги по гуманитарным наукам и богословию — предметам занятий епископа. Неожиданно я услыхал громкий голос. Он звал меня из глубины коридора:
— Маркиз!.. Маркиз де Брадомин!
Положив развернутый «Цветник» на стол, чтобы не потерять страницу, я встал. Дверь отворилась, и в ту же минуту дон Хуан Мануэль появился на пороге, отряхая стекавшую с плаща воду:
— Худой вечер, племянничек!
— Худой, дядюшка!
Этими словами родство наше было скреплено.
— Ты тут все взаперти читаешь? Послушай, дорогой мой, ты же так ослепнешь!
Он подошел к камину и стал греть над огнем руки:
— Дождь-то какой полил! Прямо ледяной!
Потом он повернулся спиной к огню и, выпрямившись, воскликнул своим вельможным голосом:
— Племянник, ты унаследовал манию своего деда. Тот тоже проводил целые дни за чтением. На этом он и помешался. А что это за книга?
Его глубокие зеленоватые глаза устремили на «Цветник божьей матери» взгляд, полный презрения. Он отошел от огня и сделал несколько шагов по библиотеке, звякая шпорами. Вдруг он остановился:
— Маркиз де Брадомин, во дворце Брандесо больше не осталось крови Христовой!
Поняв, чего он хочет, я поднялся. Дон Хуан Мануэль величественно протянул руку, чтобы меня удержать:
— Не смей никуда ходить! Неужели во всем дворце не найдется слуг?
И из глубины библиотеки он принялся кричать:
— Арнелас! Брион! Идите кто-нибудь поскорее!
Он начал уже терять терпение, когда в дверях появился Флорисель:
— Что прикажете, крестный?
Он поцеловал руку идальго, а тот погладил его по голове:
— Принеси-ка мне красного вина, того, что из Фонтелы.
И дон Хуан Мануэль снова стал расхаживать по библиотеке. Время от времени он останавливался перед огнем и грел свои бледные, бескровные, костлявые руки, похожие на руки короля-аскета. Несмотря на годы, убелившие его сединою, он продолжал оставаться таким же высокомерным и гордым, как в лучшую пору своей жизни, когда он служил в личной гвардии короля. Он уже долгие годы пребывал в своих лантаньонских владениях, ведя там жизнь помещика — торгуя на ярмарках, играя в соседних поместьях в карты и трапезничая с аббатами на всех праздниках. С тех пор как Конча уединилась во дворце Брандесо, его часто можно было встретить и там. Он привязывал лошадь у ворот сада и с громкими криками входил во дворец. Он требовал вина и пил до тех пор, пока не насыщал в кресле. Проснувшись, будь то день или ночь, он кричал, чтобы ему взнуздали лошадь, и, покачиваясь в седле, возвращался к себе в поместье. У дона Хуана Мануэля было пристрастие к фонтельскому вину, хранившемуся в большой бочке, которая напоминала о времени владычества французов. В нетерпении, оттого что вино все еще не несли из погреба, он остановился посреди библиотеки:
— Все никак принести не могут! Может, они еще только виноград собирают?
Весь дрожа, появился Флорисель с кувшином, который он поставил на стол. Дон Хуан Мануэль скинул свой плащ и уселся в кресло:
— Маркиз де Брадомин, могу тебя уверить, что вино это — самое лучшее в округе. А то, что в графстве делают, знаешь? То — лучше всех. И если бы еще виноград брали отборный, лучше вина и на свете бы не было.
С этими словами он наполнил бокал, который был из граненого хрусталя с крестом Калатравы на дне — один из тех тяжелых старинных бокалов, которые напоминают о монастырских трапезных. Дон Хуан Мануэль пил спокойно, неторопливо, опустошая бокал до дна и наливая его снова.
— Племяннице моей надо было пить так, как я. Не была бы она такой, как сейчас!
В эту минуту на пороге библиотеки появилась Конча, влача за собою шлейф своего монашеского платья. Улыбаясь, она сказала:
— Дядя дон Хуан Мануэль хочет, чтобы ты ехал с ним. Я тебе говорила. Завтра у нас престольный праздник святого Росендо Лантаньонского. Дядя уверяет, что тебя будут принимать с почетом.
Дон Хуан Мануэль высокомерно кивнул головою в знак согласия:
— Ты знаешь, что уже в течение трех столетий маркизы де Брадомины пользуются особой привилегией — их принимают с почетом в приходских церквах святого Росендо Лантаньонского, святой Байи Кристамильской и святого Мигеля Дейрского. Эти три прихода были созданы на средства Брадоминов. Верно ведь, племянник?
— Верно, дядюшка.
Конча не дала ему договорить.
— Не спрашивайте его, — вскричала она со смехом. — Это очень печально, но последний маркиз де Брадомин обо всех этих вещах понятия не имеет.
Дон Хуан Мануэль многозначительно покачал головой:
— Я это знаю! Я должен это знать!
Конча опустилась в кресло, в котором я только что сидел, открыла «Цветник божьей матери» и назидательным тоном сказала:
— Я уверена, что он даже не знает происхождения рода Брадоминов!
Дон Хуан Мануэль обернулся ко мне и сказал великодушно и примиряюще:
— Не обращай внимания! Твоя кузина хочет тебя разозлить!
— Знал бы он хотя бы, из каких частей состоит герб славного рода Монтенегро! — не унималась Конча.
Дон Хуан Мануэль нахмурил свои густые седые брови:
— Это и малые дети знают!
— Потому что это знаменитейший из всех испанских родов! — добавила Конча с улыбкой, в которой была тонкая и нежная ирония.
— Испанских и германских, дорогая моя. По линии галисийских Монтенегро мы происходим от немецкой императрицы. Это единственный из испанских гербов, в котором металл наложен на металл: золотые шпоры на серебряном поле. Род Брадоминов тоже очень древний. Но изо всех титулов твоего рода — маркиза де Брадомина, маркиза де Сан-Мигеля, графа Барбансона и сеньора де Падина — самый древний и самый славный титул — это последний. Он восходит к Роланду{50} — одному из двенадцати пэров. Вы уже знаете, что Роланд не погиб в Ронсевале, как то утверждают историки.
Ничего этого я не знал, но Конча кивнула головой в знак того, что я обо всем осведомлен. Она-то уж, без сомнения, знала эту семейную тайну. Осушив еще один бокал, дон Хуан Мануэль продолжал:
— Сам-то ведь я происхожу от Роланда — вот почему мне все так хорошо известно! Роланд спасся. Он добрался в лодке до острова Сальвора и, завлеченный сиреной, потерпел крушение у его берега. Там у сирены родился от него сын, которого в честь Роланда назвали Падином, а это ведь то же самое, что Паладин. Вот почему сирена обнимает и поддерживает твой герб в лантаньонской церкви.
Он подошел к окну и посмотрел сквозь стекло, не прекратился ли дождь. Солнце едва проглядывало из-за густых туч. Несколько мгновений дон Хуан Мануэль присматривался к небу. Потом он вернулся к нам:
— Сейчас к себе на мельницы поеду. Тут недалеко. На обратном пути заеду за тобой… Раз у тебя такая страсть читать, то, когда ты приедешь ко мне, я подарю тебе одну книгу. Она напечатана большим, ясным шрифтом, и все эти истории в ней подробно рассказаны.
Дон Хуан Мануэль допил последний бокал и вышел из библиотеки, звеня шпорами. Когда эхо от его шагов замерло в длинном коридоре, Конча встала и, держась за кресло, подошла ко мне. Она была бледна, как привидение.
В глубине лабиринта, как птица, пел фонтан. Заходящее солнце золотило стекла балкона, где мы сидели и ждали. Было прохладно, и воздух был напоен ароматами сада. С двух сторон балкон замыкали стройные арки с витражами; архитектура этих арок носила печать галантного века, создавшего паваны и гавоты. В каждой арке витражи располагались в форме триптиха, и сквозь них сад представал глазам то в разгаре бури, то под ливнем, то под падавшим светом. В этот вечер осеннее солнце проникало в самую середину балкона, словно усталое копье античного героя.
Сидя неподвижно под аркой двери, Конча глядела на дорогу и вздыхала. Вокруг летали голуби. Бедная Конча сердилась на меня за то, что я улыбался, слушая ее рассказ о небесном видении, которое снизошло на нее, когда она уснула в моих объятиях. Такие сны видели святые великомученицы, чьи жития рассказывала мне, когда я был еще ребенком, благочестивая и печальная сеньора, жившая тогда во дворце. Я смутно припоминаю этот сон. Конче снилось, что она заблудилась в лабиринте, сидит у фонтана и горько плачет. В эту минуту ей явился архангел; у него не было ни щита, ни меча, он был невинен и грустен, как лилия. Конча поняла, что этот юноша явился не для того, чтобы единоборствовать с сатаной. Она улыбнулась ему сквозь слезы, и архангел простер над нею свои светлые крылья и увлек ее за собой. Лабиринт был тем грехом, в котором погрязла Конча, а вода фонтана — теми слезами, которые ей придется выплакать в чистилище. Несмотря на нашу греховную любовь, Конча не считала, что ее ждут муки ада. После того как архангел довел ее сквозь недвижные зеленые мирты до арки ворот с глядевшими друг на друга химерами, он взмахнул крыльями, чтобы улететь. Конча встала на колени и спросила, должна ли она войти в свой монастырь, но архангел ничего не ответил. Ломая в отчаянии руки, Конча спросила, не должна ли она развеять по ветру цвет своей любви, но архангел ничего не ответил. Ползая по камням, Конча спросила его, не смерть ли это пришла. Архангел и на этот раз ничего не ответил, но Конча почувствовала, что на руки ей упали две слезинки. Они блестели между пальцами, как бриллианты. Тогда Конча окончательно разгадала значение сна. Рассказав мне все, она вздохнула:
— Это господь меня призывает, Ксавьер.
— Это всего-навсего сон, Конча.
— Я умру!.. Ты не веришь в видения?
Я улыбнулся, потому что тогда еще в них не верил. Конча медленными шагами пошла к двери балкона. Над ее головой летали голуби. Это было счастливым предзнаменованием. Мокрое зеленое поле улыбалось вечернему покою. Тут и там были видны хутора и далекие мельницы, исчезавшие за увитыми виноградом воротами, и голубые горы, на вершинах которых лежал первый снег. Озаренные ласковыми лучами солнца, светившего сквозь дождь, по дорогам шли крестьяне с хуторов. Пастушка в красном платке гнала стадо овец по направлению к церкви святого Гундиана; женщины, распевая песни, несли воду, дряхлый старик подгонял волов, которые то и дело останавливались, чтобы пощипать травку, и белый пар поднимался над смоковницами… Дон Хуан Мануэль появился на вершине холма во всем своем великолепии; плащ его развевался по ветру. Стоя у подножия лестницы, мажордом Брион держал под уздцы старую лошадь, осмотрительную, задумчивую и важную, как прелат. Это была белая лошадь с длинной, почтенного вида гривой; она с незапамятных времен жила при дворце. Услыхав ее благородное ржание, Конча вытерла слезы, от которых ее страдальческие глаза казались еще красивее:
— Ты завтра приедешь, Ксавьер?
— Да.
— Клянешься?
— Да.
— Ты на меня не сердишься?
— Нет, Конча, не сержусь, — с легкой насмешкой ответил я.
И мы поцеловались старинным романтическим поцелуем. Я был крестоносцем, ехавшим в Иерусалим, а Конча — дамой, плакавшей по нему у себя в замке при свете луны. Должен признаться, что пока я носил, подобно Эспронседе и Сорилье, спадавшую на плечи меровингскую гриву,{51} я никогда не прощался иначе. Сейчас годы отметили меня тонзурой, словно какое-нибудь духовное лицо, и мне дано только шептать грустные слова прощания! Дни юности — счастливые дни! Быть бы таким, как этот фонтан, что в глубине лабиринта, — он все еще смеется своим хрустальным смехом, у которого нет ни возраста, ни души!..
Стоя за стеклами балкона, Конча махала нам своей белой рукой. Солнце еще не зашло, но тонкий серп молодой луны начинал уже светить на печальном осеннем небе. До поместья Лантаньон было около двух лиг; вела туда конная дорога, каменистая и покрытая лужами, перед которыми наши лошади останавливались и прядали ушами. В это время на другом берегу крестьянский парень поил своих уставших с дороги быков и молча на нас глядел. Пастухи, которые спускались с гор вслед за своими стадами, задерживались на поворотах и сгоняли овец в одну сторону, чтобы дать нам проехать. Дон Мануэль ехал первым. Перед глазами у меня все время мелькала его фигура, качавшаяся на лошади, неспокойной и непривычной к седлу. Это была необъезженная кобыла, серая в яблоках, невысокая, с дикими глазами и тугоуздая. Должно быть, в наказание за все ее грехи увенчанный тонзурой хозяин подрезал ей хвост и гриву. Дон Хуан Мануэль обращался со своей лошадью довольно жестоко. Он вонзал ей в бока шпоры и в то же время натягивал поводья. Лошадь становилась на дыбы, но сбросить всадника ей не удавалось — в решительную минуту старый идальго проявлял большую ловкость.
Мы успели проехать только полпути, как совершенно стемнело. Фигура дона Хуана Мануэля продолжала мелькать впереди — он все так же раскачивался в седле, но это не мешало ему на трудных переходах своим зычным голосом предупреждать меня, чтобы я сдерживал лошадь. Когда мы доехали до разветвления трех дорог, где стояла скульптура, изображавшая души чистилища, молившиеся возле нее женщины поднялись с колен. Испуганная лошадь дона Хуана Мануэля рванула, и старик вылетел из седла. Богомолки подняли крик. В это время лошадь проскакала меж них галопом, волоча за собою дона Хуана Мануэля, зацепившегося ногой за стремя. Я кинулся вдогонку… Глухо зашуршал росший у дороги репейник, по которому потащилось бесчувственное тело. Мы находились на тенистом склоне, спускавшемся к реке, и в темноте видны были искры, которые выбивались из-под лошадиных копыт. Наконец, поднявшись выше по склону, я сумел перерезать дорогу умчавшейся вперед лошади дона Хуана Мануэля. Она остановилась вся в мыле и заржала; бока ее вздымались. Я соскочил на землю. Дон Хуан Мануэль был весь в крови и в грязи. Когда я похлопал его по плечу, он медленно открыл глаза, мутные и печальные. Даже не застонав, он снова закрыл их. Увидав, что старик теряет сознание, я поднял его и взвалил к себе на лошадь. Мы поехали назад. Неподалеку от дворца мы вынуждены были остановиться. Ноша моя соскользнула, и мне пришлось положить ее поперек седла. Когда я коснулся бессильно повисших холодных рук, меня бросило в дрожь. Я взял поводья серой кобылы, которая все еще не могла успокоиться и ржала, и мы поехали дальше. Несмотря на темноту, я увидел, что через ворота сада на дорогу выехали три молодых парня на мулах. Я издали их окликнул:
— Вы что, с господами прибыли?
— Да, сеньор, — ответили все трое хором.
— Кого же вы привезли во дворец?
— Молодую сеньору и двух маленьких сеньорит. Они прибыли на лодке из Флавиа-Лонга.
Парни придержали своих мулов у обочины дороги, чтобы меня пропустить. Когда они увидели лежавшее поперек седла тело дона Мануэля, они стали переговариваться шепотом. Расспрашивать меня, они, разумеется, не посмели. По-видимому, они решили, что я кого-то убил и теперь везу его тело. Готов поклясться, что всех троих пробрала дрожь. Дорогой я остановился и велел одному из них сойти с мула и придержать мою лошадь, чтобы я успел предупредить людей во дворце. Парень в молчании спешился. В ту минуту, когда я передавал ему поводья, он узнал дона Хуана Мануэля:
— Пресвятая дева Мария! Это же наш лантаньонский господин…
Дрожащими руками он схватился за поводья и тихим, исполненным благоговейного почтения голосом спросил:
— Несчастье какое, господин маркиз?
— Упал с лошади.
— Видать, уже мертвый?
— Должно быть, да!
— Нет, еще только полумертвый, племянничек! — произнес дон Хуан Мануэль, с трудом приподнимаясь.
Сделав над собой усилие и подавив стон, старик вздохнул. Окинув парней испытующим взглядом, он повернулся ко мне.
— Что это за люди? — спросил он.
— Слуги; прибыли вместе с Исабелью и девочками.
— Где же мы находимся?
— Перед дворцом.
После этого я снова взял поводья и проехал по аллее вековых каштанов. Парни стали прощаться:
— Покойной ночи!
— Счастливого вам пути!
— Да хранит вас господь!
Они удалились. Мулы медленно побрели вперед. Дон Хуан Мануэль обернулся в их сторону, вздохнул и, опершись на обе луки седла, крикнул, когда они были уже далеко, все тем же свирепым голосом:
— Если вам где моя лошадь попадется, отведите ее во Вьяну-дель-Приор.
В ответ на слова идальго откуда-то из ночной тишины послышался голос, доносимый ветром:
— Не беспокойтесь, крестный!
Под сенью знакомых каштанов лошадь моя, почуяв близость конюшни, снова заржала. Чуть дальше, у самых стен дворца, нам повстречались еще двое слуг; говорили они на диалекте. Шедший впереди нес фонарь, который мерно покачивался у него в руке. Сквозь запотевшие от росы стекла масляный огонек озарял мерцающим светом сырую землю и деревянные башмаки обоих слуг. Тихо разговаривая, они на мгновение остановились перед каменной лестницей и, узнав нас, пошли нам навстречу, высоко подняв фонарь, чтобы на расстоянии осветить нам дорогу. Это были конюхи, они несли в конюшню вечерний корм лошадям — влажную и пахучую траву. Оба подбежали к нам и робко и довольно неловко помогли дону Хуану Мануэлю сойти с лошади. Фонарь они поставили на балюстраду. Идальго поднялся наверх, опираясь на плечи слуг. Я пошел вперед предупредить Кончу. Бедняжка ведь была до того впечатлительна, что, казалось, всякий раз только и ждала удобного случая, чтобы испугаться.
Я застал Кончу в будуаре. С ней были ее дочери. Она расчесывала длинные волосы младшей. Другая сидела на диване в стиле Людовика XV, рядом с матерью. Белокурые, с золотистыми глазами, девочки напоминали двух маленьких инфант позднего Тициана. Старшую звали Мария Фернанда, младшую — Мария Исабель. Обе говорили одновременно, рассказывая Конче, какие приключения у них были в дороге, а мать слушала их и улыбалась, сияя восторгом и счастьем, погрузив свои бледные пальцы в золотистые волосы девочек. Когда я вошел, она привскочила от удивления, но сумела, однако, с собой совладать. Обе девочки смотрели на меня, покраснев от смущения. С легкой дрожью в голосе мать их воскликнула:
— Какой приятный сюрприз! Ты что, из Лантаньона?.. Ты, конечно, знаешь, что мои дочери приехали?..
— Я уже во дворце узнал. Чести видеть вас я обязан дону Хуану Мануэлю: он упал с лошади, когда мы спускались по склону Брандесо.
— Это лантаньонский дядя? — спросили обе девочки разом.
— Да, дети.
В ту же минуту Конча воткнула в золотистую косу дочери гребень из слоновой кости и, высвободив бледную руку, молча протянула ее мне. Девочки не сводили с нас своих вопрошающих глаз. Мать их воскликнула:
— Господи боже мой! Упасть с лошади в его годы!.. А откуда вы приехали?
— Из Вьяны-дель-Приор.
— Как же это вы не встретили дорогой Исабель и моих дочерей?
— Мы ехали лесом.
Конча отвела от меня глаза, чтобы не рассмеяться, и принялась снова расчесывать распущенные волосы девочки. Это были пышные волосы венецианской матроны, спадавшие на детские плечи. Очень скоро вошла Исабель:
— Я уже знаю, что вы здесь, кузен!
— Откуда вы узнали?
— Видела дона Хуана Мануэля. Это просто чудо, что он остался жив!
Конча встала, опираясь на дочерей, которые стояли по обе стороны и улыбались, словно играя в какую-то игру.
— Пойдемте, проведаем его, дети мои. Бедняга!
— Отложи это на завтра, Конча, — сказал я.
Исабель подошла к ней и усадила ее на диван:
— Лучше пусть он сейчас отдохнет. Мы только что сделали ему уксусные примочки. Канделария вместе с Флориселем уложили его в кровать.
Мы все уселись. Конча велела старшей дочери позвать Канделарию. Девочка побежала. Когда она была уже у дверей, мать спросила:
— Куда же ты идешь, Мария Фернанда?
— А ты мне не сказала?..
— Ты права, моя милая. Так вот, тебе надо только ударить в гонг. Там, около туалета.
Мария Фернанда побежала быстро и легко, словно порхая. Мать нежно ее поцеловала, а потом, улыбнувшись, поцеловала и маленькую девочку, глядевшую на нее своими большими топазовыми глазами. Вошла Канделария, неся белый платок, из которого она выдергивала нитки:
— Вы меня звали?
— Это я позвала, Кандела. Мама мне велела.
Девочка побежала навстречу старой служанке и выхватила у нее из рук платок, чтобы вытаскивать нитки самой. Мария Исабель, которая сидела на ковре, уткнувшись в колени матери, капризно вскинула головку и сказала:
— Кандела, дай я буду вытаскивать нитки.
— Сестра твоя первая подошла, голубка моя.
И Канделария с благодушной улыбкой старой служанки показала ей свои морщинистые руки, в которых ничего уже не было. Мария Фернанда снова уселась на диван. Тогда моя кузина Исабель, любимицей которой была младшая девочка, взяла из рук старшей холщовый платок, от которого пахло полем, и разорвала его на две части:
— Бери, милая.
Мария Фернанда, которая в это время вытаскивала нитку за ниткой, прошептала со старушечьей важностью:
— Ну и капризница!
Канделария, сложив руки на белом гофрированном переднике, стояла посреди комнаты и ожидала распоряжений. Конча спросила ее о доне Хуане Мануэле:
— Вы его одного оставили?
— Да, сеньорита. Уже перенесли.
— Где вы его уложили?
— В комнате, что в сад выходит.
— Вам надо будет приготовить помещение для господина маркиза… Не возвращаться же ему в Лантаньон.
И бедняжка Конча улыбнулась мне той отрешенной улыбкой, какая бывает у больных. Морщинистый лоб старой няни покраснел. Она нежно посмотрела на девочек, а потом сказала со старозаветной строгостью дуэньи, благочестивой и точной:
— Господину маркизу приготовлены покои епископа.
Она молча удалилась. Обе девочки принялись вытягивать из платка нитки, поглядывая украдкой друг на друга, чтобы увидеть, которая вытянет больше. Конча и Исабель о чем-то перешептывались между собой. Пробило десять, и на коленях у девочек в светлом круге, брошенном масляной лампой, стлались белые нитки, постепенно складываясь в пучки.
Я уселся возле огня и стал шевелить дрова старинными бронзовыми щипцами затейливой работы. Обе девочки спали: старшая — положив головку на плечо матери, младшая — на руках у моей кузины Исабели. Слышно было, как хлещет о стекла дождь и как завывает ветер в таинственном темном саду. В камине рубиновыми огоньками догорали угли; время от времени по ним пробегало легкое и веселое пламя.
Чтобы не разбудить девочек, Конча и Исабель продолжали говорить тихо. Увидавшись после стольких лет разлуки, обе погрузились в воспоминания и воскрешали в памяти прошлое. Они долго шептались так, перебирая свою дальнюю, давно забытую родню. Вспоминая, они говорили о своих благочестивых тетках, старых и больных, о бледных старых девах — кузинах, о бедной графине де Села, без памяти влюбленной в студента, об Амелии Камараса, которая умирала от чахотки, о маркизе де Торе, который усыновил двадцать семь своих незаконных детей. Они говорили о нашем благородном и почтенном дяде, епископе Мондоньедо, об этом исполненном милосердия святом, который приютил у себя во дворце вдову генерала-карлиста, адъютанта короля! Я не стал особенно прислушиваться к перешептыванию Исабели и Кончи. Время от времени они задавали мне какой-нибудь вопрос, после которого снова надолго оставляли меня в покое.
— Ты, верно, знаешь, сколько лет епископу?
— Скоро семьдесят.
— Я же тебе говорила!
— А я думала, ему больше!
И снова лился их теплый и легкий женский разговор, и так до тех пор, пока они снова не обращались ко мне:
— А ты помнишь, когда сестры мои постриглись в монахини?
Конча и Исабель говорили со мною так, как если бы я был хроникером всех их семейных событий. Так мы проговорили весь вечер. Около полуночи разговор наш погас вслед за огнем в камине. После продолжительного молчания Конча поднялась, вздыхая от усталости, и стала будить Марию Фернанду, спавшую у нее на плече:
— Ах, милая моя! Ну не могу же я так!..
Мария Фернанда открыла совсем сонные глаза. Это был чудесный невинный детский сон. Мать ее нагнулась, чтобы взять из шкатулки часы, где они лежали вместе с кольцами и четками:
— Двенадцать, а девочки все еще не легли. Не спи, милая, — И она стала поднимать Марию Фернанду, которая теперь дремала, прислонив голову к ручке дивана. — Сейчас вас уложат. — И с улыбкой, таявшей на ее похожих на увядшую розу губах, она смотрела на маленькую девочку с распущенными волосами, которая спала на руках у Исабели, словно ангел, окруженный волнами золота. — Бедняжка! Жалко ее будить! — И, обернувшись ко мне, добавила: — Ты позвонишь, Ксавьер?
В ту же минуту Исабель постаралась подняться с девочкой на руках:
— Нет, не могу. Она такая тяжелая.
И она улыбнулась, окончательно покорившись и не сводя с меня глаз. Я подошел к ней и осторожно взял девочку на руки. Золотые волны волос рассыпались по моему плечу. В эту минуту мы услыхали в коридоре медленные шаги Канделарии, которая пришла за детьми, чтобы уложить их спать. Увидав, что я держу Марию Исабель на руках, она подошла ко мне:
— Сейчас я ее возьму, господин маркиз. Не беспокойтесь.
И она улыбнулась кроткой и добродушной улыбкой беззубой старухи. Все так же молча, боясь разбудить девочку, я сделал ей знак не трогать ее. Кузина моя Исабель поднялась и взяла за руку Марию Фернанду, которая плакала оттого, что мать хотела уложить ее в постель.
— Ты хочешь, чтобы Исабель обиделась, — сказала ей мать, поцеловав ее.
И Конча нерешительно на нас посмотрела, не желая, должно быть, огорчать девочку:
— Скажи, ты хочешь, чтобы Исабель обиделась?
Девочка повернулась к Исабели, умоляюще глядя на нее все еще сонными глазами:
— Ты что, обиделась?
— Да, обиделась и теперь не буду там спать, — ответила Исабель.
— А где же ты будешь спать? — с большим интересом спросила девочка.
— Куда же мне идти? В дом священника!
Девочка была убеждена, что сеньоре из рода Бенданья положено находиться не иначе, как во дворце Брандесо, и попрощалась с матерью. Глаза ее были очень грустны. Конча осталась одна в будуаре. Вернувшись из детской, где девочек уложили спать, мы увидели, что сна плачет.
— С каждым днем она все безумнее тебя любит! — прошептала Исабель.
Конче показалось, что она шепчет мне нечто совсем другое, и она посмотрела на нас сквозь слезы. В глазах ее была ревность. Исабель сделала вид, что ничего не заметила. Улыбнувшись, она прошла вперед и села на диван рядом с Кончей:
— Что с тобою, кузина?
Вместо ответа Конча поднесла к глазам платок, а потом зубами разорвала его в клочья. Я посмотрел на нее, сочувственно ей улыбнулся и увидел, что на щеках ее зарделись розы.
Когда я закрывал двери комнаты, служившей мне спальней, я заметил в глубине коридора белую тень; она пробиралась медленно, держась за стену. Это была Конча. Я не слышал, как она подошла.
— Ты один, Ксавьер?
— Наедине с моими мыслями, Конча.
— Невеселая компания!
— Ты угадала. Я думал как раз о тебе.
Конча остановилась на пороге. В глазах у нее был испуг. На губах проступала едва уловимая улыбка. Она посмотрела в глубь темного коридора и задрожала, совсем бледная:
— Паук! Черный! Бежал по полу! Громадный! Уж не на мне ли он?
И она принялась отряхивать свой длинный белый шлейф, после чего мы вошли внутрь, бесшумно закрыв за собою двери. Конча остановилась посреди комнаты и, вынув спрятанное на груди письмо, показала его мне:
— Это от твоей матери!
— Тебе или мне?
— Мне.
Она протянула мне письмо, закрыв рукою глаза. Я видел, что она кусает губы, чтобы не расплакаться. Не выдержав, она разразилась рыданиями:
— Боже мой! Боже мой!
— Что она тебе пишет?
Конча сжала руками виски, почти совсем прикрытые прядями черных волос, суровых, трагических, словно растрепанное ветром густое облако дыма:
— Читай! Читай! Читай! Вот! Хуже меня нет женщины на свете! Я живу возмутительной жизнью! Я приговорена к смерти! Я похитила у нее сына!
Я спокойно сжег письмо на пламени свечи.
— Мне хотелось, чтобы ты его прочел! — простонала Конча.
— Нет уж, милая… Почерк у нее преплохой!
Видя, что письмо обратилось в пепел, Конча вытерла слезы:
— Чтобы тетя Соледад могла написать мне такое! Ведь я до того ее люблю, до того почитаю! Чтобы она могла так меня ненавидеть, так проклинать — меня, для которой было бы радостью заботиться о ней как о родной матери, все для нее делать! Господи, за что она меня так оскорбляет! Написать, что я делаю тебя несчастным!
Хоть я и не прочел письмо моей матери, я хорошо его себе представил. Я знал этот стиль. Вопли отчаяния и гнева, похожие на пророчества сивилы! Библейские заклинания! Сколько подобных писем я уже получил! Бедная сеньора была настоящей святой. Ее не канонизировали только потому, что она родилась владелицей поместья и хотела увековечить свой герб, столь же прославленный, как и гербы дона Хуана Мануэля. Если бы на ней не лежало обязанности производить на свет наследников и если бы ее не отвлекали всякого рода имущественные дела, она бы постриглась в монахини и сделалась истой испанской святой, аббатисой и визионеркой, воительницей и фанатичкой.
Уже много лет как моя мать — Мария-Соледад-Карлота-Элена Агар-и-Бенданья — жила в своем поместье, во дворце Брадоминов, уединенной и благочестивой жизнью. Это была седовласая старуха, очень высокая, очень добрая, доверчивая и деспотичная. Я навещал ее каждую осень. Она много болела, но стоило ей увидать своего первенца — и она, казалось, оживала. Дни свои она проводила на большой застекленной веранде и пряла для своих слуг, сидя в отделанном серебром малиновом бархатном кресле. Вечерами солнечные лучи, пробиравшиеся в глубь веранды, ложились там золотыми бороздами, словно отсветы тех видений, которые бывали у Марии-Соледад в детстве. Тишину эту денно и нощно нарушал далекий шум воды в открытых шлюзах плотины, где у нас были мельницы. Моя мать могла целыми часами просиживать за своей прялкой пахучего благородного священного дерева. Сморщенные губы ее всегда дрожали, шепча слова молитв. Смертельно ненавидя Кончу, она обвиняла ее во всех моих пороках. Как обиду, нанесенную ее сединам, вспоминала она, что любовь наша началась во дворце Брадоминов как-то летом, когда Конча приехала туда вместе с нею. Конча была ее крестницей, и в то время крестная мать ее очень любила. С тех пор она ее не видела. И вот случилось так, что однажды, когда я был на охоте, Конче навсегда пришлось покинуть этот дворец. Ушла она одна, с закрытым лицом, как уходили еретики, которых инквизиция изгоняла из старинных испанских городов. Из глубины коридора моя мать посылала ей вслед проклятия. Рядом с ней, бледная, потупив глаза, стояла служанка; она-то и донесла моей матери о нашей любви. Может быть, и на этот раз из уст той же самой служанки она услыхала о том, что я нахожусь во дворце Брандесо!
Конча не переставала со стоном повторять:
— О, как я наказана! Как наказана! — По щекам ее катились слезы, как хрустальные бусинки рассыпавшегося ожерелья, крупные, светящиеся. Голос ее прерывался вздохами. Губы мои пили эти слезы у нее на глазах, на щеках, в уголках рта. Конча прильнула головой к моему плечу, вся похолодев и продолжая вздыхать. — Она напишет и тебе! Что ты думаешь делать?
— То, что ты захочешь, — прошептал я ей на ухо.
Она замолчала и на несколько мгновений закрыла глаза. Потом, когда она вновь открыла их, они были полны любви, кротости и грусти:
— Слушайся своей матери, если она тебе напишет…
И она поднялась, чтобы выйти. Я удержал ее:
— Ты не говоришь то, что думаешь, Конча.
— Говорю. Видишь, как я каждый день позорю моего мужа… Только, клянусь тебе, когда я буду умирать, прощение твоей матери будет для меня значить больше, чем его прощение…
— Ты получишь прощение от всех, Конча. И даже благословение папы.
— Ах, если бы господь мог тебя услыхать! Но господь не услышит нас, он никого не услышит!
— Мы поручим все дону Хуану Мануэлю — у него такой зычный голос.
Конча стала в дверях, подобрав шлейф своего монашеского одеяния. Она огорченно покачала головой:
— Ксавьер! Ксавьер!
Я подошел ближе:
— Ты уходишь?
— Да, завтра я приду.
— Завтра все будет так же, как сегодня.
— Нет! Обещаю тебе, что приду…
Она пошла по коридору и потом тихим голосом позвала меня оттуда:
— Проводи меня… Такие страшные пауки! Только не говори громко. Тут спит Исабель.
И в темноте этой, похожая на привидение, она показала мне запертую дверь, из-под которой был виден свет.
— Что, она спит со светом?
— Да.
Я на минуту остановился и обнял ее. Потом сказал:
— Видишь!.. Исабель не может спать одна… Так давай последуем ее примеру!
Я взял Кончу на руки, словно маленькую девочку. Из тишины прозвучал ее смех. Я донес ее до дверей ее спальни, которые были открыты во мрак, и простился с ней на пороге.
В изнеможении я лег спать и все утро слышал сквозь сон беготню, смех и крики двух маленьких девочек, игравших внизу, на террасе. Три двери комнаты, в которую меня поместили, выходили туда. Спал я мало, на душе было тягостно, мысли путались. И когда в этом состоянии я заметил, что девочки остановились возле одной из моих дверей и стали кричать на балконах, кошмар зеленоватым оводом закружился в мозгу моем, словно прялка, вокруг которой суетились три парки. Вскоре мне показалось, что девочки ушли. Они действительно пробежали мимо трех дверей. Чей-то голос позвал их из сада. Терраса опустела. Охваченный тяжелым сном, который мучительным образом парализовал мне волю, я смутно догадывался, что мысль моя блуждает по темным лабиринтам, и слышал гудение того осиного гнезда, где рождаются дурные сны, навязчивые мысли, вздорные и нелепые, проносящиеся в неистовом плясе. В наступившей тишине на террасе раздался звон бубенчиков, и весело залаяли собаки. Низкий, протяжный голос откуда-то издалека звал:
— Ко мне, Карабель!.. Ко мне, Капитан!..
Это был аббат Брандесо, явившийся во дворец после мессы, чтобы засвидетельствовать свое почтение моим благородным кузинам.
— Ко мне, Карабель! Ко мне, Капитан!
Конча и Исабель прощались со святым отцом с террасы:
— Прощайте, дон Бенисио!
Аббат отвечал им, сходя по лестнице:
— Прощайте, сеньоры! Идите скорее в комнаты, ветер холодный. Ко мне, Карабель! Ко мне, Капитан!
Вдали показались резво бежавшие собаки. Тогда среди полной тишины раздался вдруг томный голос Кончи:
— Дон Бенисио, завтра вы служите мессу у нас в часовне! Пожалуйста, не забудьте!..
На это низкий, протяжный голос прогудел:
— Не забуду!.. Не забуду!..
И речь его долго еще звучала из глубины сада, сопровождаемая звоном бубенчиков и похожая на григорианское пение. Потом обе сеньоры попрощались еще раз. И низкий, протяжный голос еще раз прогудел:
— Ко мне, Карабель! Ко мне, Капитан! Скажите господину маркизу де Брадомину, что несколько дней назад, когда мы охотились с Сумильером, мы целый выводок куропаток нашли. Скажите, что, как только время придет, поедем стрелять их. Только Сумильеру об этом ни слова, если он вдруг во дворец явится. Он мне по секрету сказал.
Конча и Исабель прошли мимо трех дверей. Голоса их звучали сладостно и свежо. Терраса снова погрузилась в безмолвие, и эта тишина окончательно меня разбудила. Сколько я ни старался, уснуть я больше не мог. Я позвонил в серебряный колокольчик, который в полумраке спальни блестел на старинном, покрытом малиновым бархатом столе своим благородным церковным блеском. Пока я одевался, на зов прибежал Флорисель. Спустя некоторое время я снова услыхал голоса обеих маленьких девочек, возвращавшихся вместе с Канделарией с голубятни. Они несли оттуда пару голубей. Девочки оживленно разговаривали; старая служанка говорила им, словно рассказывая сказку, что если голубям подрезать крылья, их можно будет пустить разгуливать по дворцу.
— Когда матушка ваша была такой, как вы, она очень любила так делать.
Флорисель открыл три выходивших на террасу двери, и я вышел туда позвать дочерей Кончи, которые прибежали поцеловать меня, неся каждая по белому голубку.
Увидав их, я вспомнил о небесных дарах, ниспосланных маленьким инфантам, жизни которых наполняют своим благоуханием «Золотую легенду» подобно лилиям геральдической лазури. Девочки спросили меня:
— Не знаешь, это не на твоей лошади на рассвете лантаньонский дядя уехал?
— Кто это вам сказал?
— Мы пошли к нему, а там все было открыто — двери, окна, постель не убрана. Канделария сказала, что видела, как он уехал. Флорисель — тоже.
Я не мог сдержать смех:
— А ваша мать об этом знает?
— Да.
— И что она говорит?
Девочки нерешительно переглянулись. Они плутовато улыбнулись друг другу, а потом вместе вскричали:
— Мама говорит, что он с ума сошел!
Канделария позвала их, и они убежали подрезать крылья голубям, чтобы пустить их разгуливать по залам дворца; они хотели играть так, как маленькой любила играть бедная Конча.
В залитой светом вечерней истоме, когда стекла балкона золотились от солнца, а голуби летали над нашими головами, Исабель и девочки говорили о том, чтобы поехать вместе со мной в Лантаньон узнать, как добрался туда дядя дон Хуан Мануэль. Исабель спросила:
— Это далеко отсюда, Ксавьер?
— Не больше лиги.
— Значит, мы можем пойти пешком.
— А маленькие не устанут?
— Они отличные ходоки.
Девочки, запыхавшись, сияя от радости, закричали обе вместе:
— Нет! Не устанем! В прошлом году мы в Пико-Сагро ходили и не устали.
Исабель посмотрела на сад:
— Кажется, вечер хороший будет.
— Кто знает! Тучи дождевые.
— Да, только они, верно, стороной пройдут.
Исабель верила, что тучи окажутся достаточно галантными, чтобы не помешать нашей затее. Мы разговаривали с ней, стоя в амбразуре окна, глядя на небо и на поле, в то время как девочки хлопали в ладоши, чтобы голуби испугались и взлетели. Обернувшись, я увидел Кончу; она стояла в дверях, совсем бледная, губы ее дрожали. Она посмотрела на меня какими-то не своими глазами: в них было волнение, гнев, мольба. Прижав руки ко лбу, она проговорила:
— Флорисель сказал мне, что вы в саду.
— Мы там действительно были.
— Вы словно прячетесь от меня.
— Да, у нас тут заговор, — улыбаясь, ответила Исабель.
Она взяла девочек за руки и вышла вместе с ними. Я остался наедине с бедной Кончей; сделав несколько шагов, она бессильно опустилась в кресло. Потом она вздохнула, как вздыхала прежде, сказав, что умирает. Я подошел к ней с веселым лицом. Она возмутилась:
— Ты смеешься!.. Что же, правильно делаешь. Оставь меня одну, иди к своей Исабели!
Я взял ее руку и, закрыв глаза, стал целовать собранные вместе, бледные, чуть розоватые, ароматные пальцы:
— Конча, не заставляй меня страдать!
Она повела полными слез ресницами и тихим покаянным голосом сказала:
— Почему тебе так нравится оставлять меня одну?.. Понимаю, что это не твоя вина… Это она ходит за тобой по пятам, как сумасшедшая, и ищет тебя!..
Я вытер ей слезы и сказал:
— Если кто и сумасшедший, так это ты, моя бедная Конча. Но это безумие так идет тебе, что я не хотел бы, чтобы когда-нибудь ты от него исцелилась.
— Я не сумасшедшая.
— Да, ты сумасшедшая. Ты сходишь по мне с ума.
— Нет! Нет! Нет! — повторила она с раздражением, которое делало ее еще более восхитительной.
— Да.
— Какой ты самонадеянный.
— Но если это не так, то почему тебе хочется, чтобы я непременно был около тебя?
Конча обхватила мне руками шею, поцеловала меня и, смеясь, воскликнула:
— Уж если моя любовь позволяет тебе столько возомнить о себе, то, значит, она многого стоит!
— Да, очень многого!
Конча медленно и ласково провела мне рукой по волосам:
— Пусть они идут, Ксавьер… Ты же видишь, что я больше хочу быть с тобой, чем с моими девочками…
Как брошенный и послушный ребенок, я прижал голову к ее груди и закрыл глаза, вдыхая этот восхитительный и печальный аромат благоухающего цветка:
— Я сделаю так, как ты хочешь. Разве ты этого не знаешь?
— Значит, ты не пойдешь в Лантаньон? — тихо спросила Конча, поглядев мне в глаза.
— Нет.
— Тебя это огорчает?
— Нет… Жалко только девочек — они ведь такие своенравные.
— Могут пойти с Исабелью. Мажордом их проводит.
В эту минуту хлынул дождь, забарабанив по стеклам и листьям деревьев. Тучи заволокли солнце. Освещение сразу стало осенним и грустным, и эта грусть располагала к раздумью.
Вошла Мария Фернанда. Вид у нее был огорченный:
— Ты видишь, как нам не везет, Ксавьер? Дождь!
Вслед за нею пришла Мария Исабель:
— А если дождь перестанет, ты позволишь нам пойти, мама?
— Перестанет, так идите, — ответила Конча.
Обе девочки побежали к окну. Припав к стеклу, они глядели на дождь. Тяжелые свинцовые тучи нависли над Сьеррой-де-Сельтигос, сливаясь с водным простором на горизонте. Пастухи в камышовых плащах, покрикивая на свои стада, быстро спускались по дорогам. Над садом повисла радуга; темные кипарисы и мокрые зеленые мирты дрожали в оранжевом луче света. Канделария в деревянных башмаках, подобрав подол, укрывшись большим синим зонтиком, рвала розы для алтаря часовни.
В часовне было сыро, мрачно; каждый звук отдавался гулом. Над алтарем высился геральдический щит, поделенный на шестнадцать полей, крытых червленью, лазурью, зеленью, чернью, золотом и серебром. Это был герб, пожалованный милостью католических королей капитану Алонсо Бенданье, основателю майората Брандесо. Тому самому капитану, о котором в родословных книгах Галисии написаны страшные вещи! Там говорится, что, взяв во время охоты в плен своего врага, аббата де Моса, он завернул его в волчью шкуру и, связав, оставил в лесу, где его растерзали собаки. Няня Кончи Канделария, которая, как и все старые слуги, знала историю и генеалогию дома своих господ, любила в прежнее время рассказывать нам легенду о капитане Алонсо Бенданье так, как ее рассказывают старые родословные книги, которых теперь никто уже не читает. К тому же Канделария твердо знала, что два карлика негра утащили тело капитана в ад. Такова уж была традиция: в роду Брадоминов мужчины все были жестоки, а женщины благочестивы!
Я еще помню то время, когда во дворце был свой капеллан, и тетка моя, Агеда, следуя старому дворянскому обычаю, со всеми своими дочерьми слушала мессу в церкви на особо устроенном для господ возвышении, рядом с налоем, на котором лежало Евангелие. На возвышении этом стояла крытая малиновым бархатом скамья с высокой спинкой, украшенной двумя дворянскими гербовыми щитами. Но почетным правом сидеть на этой скамье пользовалась одна только тетка Агеда, ввиду своего преклонного возраста и болезни. Справа от алтаря были погребены капитан Алонсо Бенданья и другие знатные кабальеро его рода. Надгробие Алонсо было украшено статуей коленопреклоненного воина. Слева были погребены донья Беатриса де Монтенегро и другие именитые дамы: надгробие было украшено статуей молящейся монахини, одетой в белую рясу, наподобие монахинь ордена святого Иакова. Лампада амвона, тончайшей, поистине ювелирной отделки, денно и нощно горела перед алтарем. Золотистые гроздья евангельского вертограда, казалось, предлагали свои сочные плоды. Святым покровителем этой церкви был тот из благочестивых волхвов, который принес мирру младенцу Иисусу. Его шелковая, вышитая золотом туника сверкала священным светом, являя собой настоящее чудо Востока. Свет лампады, озарявшей тяжелые серебряные цепи, трепетал, словно крылья пойманной птицы, и, казалось, стремился выпорхнуть и подлететь к лику святого.
Конча хотела в этот вечер сама поставить у ног волхва вазы с цветами, поднеся их как дар благочестия. Потом она вместе с дочерьми опустилась на колени перед алтарем. Стоя на возвышении, я слышал только звучание ее тихого голоса. Но зато, когда отвечали девочки, я мог уже ясно различить каждое слово молитвы. Конча поднялась с колен, поцеловала четки и, перекрестившись, прошла к амвону и позвала дочерей, чтобы помолиться над могилой воина, где, кроме него, был также похоронен дон Мигель Бенданья. Этот сеньор Брандесо был дедом Кончи. Он был при смерти, когда моя мать в первый раз привезла меня во дворец. Дон Мигель Бенданья был истым кабальеро своего времени. Деспот и вместе с тем радушный хозяин, он был верен аристократическим традициям своего рода и его провинциальным деревенским привычкам. Прямой, как копье, он прошел по жизни, не снисходя до плебейских пиршеств. Прекрасное и благородное безумие! Умер он восьмидесяти лет с душой по-прежнему гордой, радостной, исполненный чувства меры, как рукоять старинной испанской шпаги. Пять дней пролежал он в предсмертных муках и не захотел исповедаться. Моя мать уверяла, что ей никогда не приходилось видеть подобного упорства. Этот идальго был еретик. Однажды ночью после его смерти я слышал переданный шепотом рассказ о том, как он убил своего слугу. Конча хорошо сделала, что помолилась за упокой его души!
Вечер догорал; звуки молитв отдавались в безмолвии погруженной во мрак часовни, глубокие, печальные и торжественные, словно эхо страстей Христовых. Я задремал. Девочки расположились на ступеньках алтаря; одежды их были белы, как покрывавшее алтарь полотно. В полумраке я разглядел только темную фигуру женщины, молившуюся под лампадой амвона, — это была Конча. В руках у нее была открытая книга, которую она читала, склонив голову. По временам ветер шевелил занавеску на высоком окне. В эти минуты я увидел небо, уже совсем темное, и полную луну, бледную и сверхъестественную, как богиня, алтари которой притаились в озерах и рощах… Конча закрыла книгу, вздохнула и снова позвала девочек. Я увидел, как их белые тени проскользнули мимо амвона и скрылись. Я догадался, что они стали подле матери на колени. Колеблющееся пламя лампады едва озаряло руки Кончи. Она снова открыла книгу и в тишине этой читала молитвы, медленно и благочестиво. Девочки слушали ее, и, не видя, я почти угадывал в этом мраке широко распущенные волосы их и белые платья. Конча читала.
Было двенадцать часов ночи. Я писал, когда Конча, завернутая в свое монашеское одеяние, бесшумно вошла ко мне в спальню.
— Кому это ты пишешь?
— Секретарю доньи Маргариты.{52}
— И о чем же ты ему докладываешь?
— О приношении, которое я сделал на алтарь апостола от имени королевы.
На минуту в комнате воцарилось молчание. Конча, которая стояла, положив руки мне на плечи, наклонилась; волосы ее коснулись моего лба:
— Ты пишешь секретарю или самой королеве?
Я неторопливо к ней обернулся и холодно сказал:
— Я пишу секретарю. Ты что, ревнуешь и к королеве?
— Нет, нет, — решительно запротестовала она.
Я посадил ее к себе на колени и приласкал.
— Донья Маргарита не такая, как та, другая…{53}
— На другую тоже немало всякой клеветы возвели. Моя мать ведь была у нее придворной дамой — она всегда это говорила.
Видя, что я улыбаюсь, бедная Конча опустила глаза; щеки ее восхитительно зарделись:
— Вы, мужчины, верите всему дурному, что говорят о женщинах… К тому же у королевы столько врагов!
И, так как улыбка все еще не сходила у меня с губ, она воскликнула, закручивая бледными пальцами мои черные усы:
— Какие бесстыжие губы!
Она встала, собираясь уйти. Я взял ее за руку:
— Останься, Конча.
— Ты знаешь, что этого не может быть, Ксавьер!
— Останься, — повторил я.
— Нет! Нет! Завтра я иду на исповедь. Я так боюсь прогневить господа!
После этого я снова встал и с ледяной и высокомерной вежливостью сказал:
— Так, выходит, у меня есть соперник?
Конча посмотрела на меня; во взгляде ее была мольба:
— Не мучай меня, Ксавьер!
— Я тебя больше не буду мучить. Завтра же я отсюда уеду.
— Нет, не уедешь! — гневно вскричала она и залилась слезами.
И она не сняла, а почти сорвала с себя свое белое монашеское платье, в котором обыкновенно приходила ко мне в эти часы. Теперь она стояла передо мной обнаженная. Я задрожал и протянул к ней обе руки:
— Бедняжка моя милая!
Сквозь слезы она смотрела на меня, немая и бледная:
— Какой ты жестокий! Теперь я не могу завтра пойти на исповедь.
Я поцеловал ее и, чтобы утешить, сказал:
— Мы с тобой пойдем на исповедь вместе, перед тем как я буду уезжать.
Я видел, как глаза ее осветились улыбкой.
— Если ты собираешься купить этим обещанием себе свободу, знай, ты ничего не добьешься.
— Почему?
— Потому что ты мой пленник на всю жизнь.
И она рассмеялась, обвив мне шею руками. Ее связанные узлом волосы распустились, и, подхватив своими белыми руками их ароматную черную волну, она хлестнула меня ею.
Замигав глазами, я вздохнул:
— Это бич божий!
— Молчи, нечестивец!
— Помнишь, как когда-то я доходил до потери сознания?
— Помню я все твои сумасбродства.
— Хлещи меня, Конча! Хлещи меня, как Иисуса Назареянина! Захлещи меня до смерти!
— Молчи! Молчи!
И дрожащими руками она принялась приводить в порядок свои черные пахучие волосы. Глаза ее дико блуждали:
— Мне страшно, когда я слышу от тебя эти кощунственные речи… Да, страшно, потому что это не ты говоришь: это дьявол! Даже голос не твой! Это дьявол!
Вся дрожа, она закрыла глаза. Я нежно обнял ее. Мне показалось, что по губам ее пробегали слова молитвы, и, запечатлевая на них поцелуй, я продолжал шептать:
— Аминь!.. Аминь!.. Аминь!..
Мы замерли в молчании. Потом я услышал, как из губ ее, слитых с моими, вырвался стон:
— Умираю!
Ее тело, плененное моими объятиями, задрожало, словно его ударило крыло смерти. Лицо покрылось бледностью, голова бессильно упала на подушку. Веки приоткрылись, но слишком поздно — в глазах, полных тоски, уже не было света.
— Конча! Конча!..
Словно спасаясь от моего поцелуя, ее бледные, закоченевшие губы искривились в жестокой гримасе.
— Конча!.. Конча!..
Я приподнялся на подушке и спокойно и осторожно разжал ее руки, все еще обвивавшие мне шею. Они были точно восковые. Я замер в нерешительности, боясь сдвинуться с места:
— Конча!.. Конча!..
Вдали залаяли собаки. Я бесшумно соскользнул на пол. Я поднял свечу и смотрел на лицо, в котором уже не было жизни. Рука моя коснулась ее лба. Меня охватил ужас перед этим покоем и холодом смерти. Нет, ответить мне она уже не могла. Мне захотелось убежать, и я осторожно открыл окно и заглянул в темноту. Волосы мои стали дыбом. А в это время в глубине спальни заколыхался полог моей кровати, замерцало пламя свечей в серебряном канделябре. Собаки всё лаяли где-то очень далеко, ветер стонал в лабиринте, как стонут души в аду, облака проплывали мимо луны, а звезды загорались и гасли, как наши жизни.
Я оставил окно открытым и, ступая бесшумно, словно боясь, как бы мои шаги не разбудили бледные привидения, подошел к двери, которую всего лишь несколько минут назад заперли эти сейчас уже похолодевшие руки. Со страхом заглянул я в черный коридор и углубился во мрак. Пробирался я с трудом, ощупывая рукой стену. Ступал я так осторожно, что шагов моих почти не было слышно, но в воображении моем они отдавались страшным гулом. Там, в глубине прихожей, колыхалось слабое пламя лампады, которая денно и нощно горела перед изображением Иисуса Назареянина, и его растрепанные волосы и бледный, как полотно, лик вселяли в меня больше страха, чем мертвое лицо Кончи. Весь дрожа, я подошел к дверям ее спальни и остановился, завидев полоску света, резко обозначившуюся между дверями и темным полом. То были двери в спальню кузины моей Исабели. Я боялся, что она испугается, заслышав мои шаги, и крики ее поднимут на ноги весь дворец. Поэтому я решил пойти к ней сам, чтобы ей все рассказать. Тихо подошел я к дверям и оттуда приглушенным голосом окликнул ее:
— Исабель! Исабель!
Остановившись, я стал ждать. Ни звука. Я сделал несколько шагов и потом снова окликнул:
— Исабель! Исабель!
Никакого ответа. Комната была большая, и голос мой замирал в ней, словно боясь прозвучать. Исабель спала. При слабом отблеске света, мигавшем в хрустальной вазе, глаза мои разглядели в полумраке деревянную кровать. Среди царившей в комнате тишины слышно было дыхание моей кузины Исабели, медленное и мерное. Под шелковым одеялом виднелись неясные контуры ее тела; распущенные волосы, словно темный покров, распластались на белоснежных подушках.
— Исабель! Исабель!
Я подошел уже к изголовью кровати и случайно наткнулся рукой на обнаженные, теплые плечи. Я вздрогнул. Сдавленным голосом я закричал:
— Исабель! Исабель!
Исабель вскочила:
— Не кричи! Конча услышит!..
Глаза мои наполнились слезами; наклонившись к ней ближе, я прошептал:
— Бедная Конча нас уже не услышит!
Локон кузины моей Исабели коснулся моих губ; он был нежен и соблазнителен. Должно быть, я поцеловал его. Я ведь из тех святых, которые печаль свою превозмогают любовью. Бедная Конча, верно, простит мне это там, на небесах. Она и здесь, на земле, знала мою слабость. Задыхаясь, Исабель прошептала:
— Если бы я могла заподозрить, что так случится, я бы заперла на задвижку.
— Что?
— Дверь, негодяй! Дверь!
Я не стал рассеивать подозрения кузины моей Исабели. Было бы очень жалко да и неучтиво с моей стороны ее разочаровывать. Исабель была очень благочестива, и, если бы она узнала, что наклеветала на меня, она бы потом очень страдала. Ах! Всем святым патриархам, всем святым отцам, всем святым монахам было легче победить искушение, чем мне! Красавицы, которые их искушали, не были их кузинами. Судьба жестоко над нами шутит! Когда она мне улыбается, лицо ее всякий раз искажается безобразнейшей гримасой, как у тех кривоногих карликов, которые при свете луны скачут по трубам старинных замков. Совсем задыхаясь от моих поцелуев, Исабель прошептала:
— Я боюсь, что явится Конча!
При имени несчастной покойницы мне стало страшно — по телу моему пробежала дрожь. Но Исабель, должно быть, подумала, что я дрожу от любви. Она так никогда и не узнала, почему я пришел к ней тогда.
Когда мои смертные глаза снова увидели пожелтевшее и искаженное лицо Кончи, когда мои дрожащие руки коснулись ее окоченевших рук, я испытал такой ужас, что начал молиться, и мною еще раз овладело искушение выпрыгнуть из открытого окна в таинственный темный сад. Тихий ночной ветерок раздувал занавески и трепал мне волосы. На светлом небе начали уже бледнеть звезды. Ветер успел погасить свечи в канделябре — горела только одна. Старые кипарисы под окном медленно склоняли свои темные верхушки; луна скользила меж них, стремительная и белая, похожая на душу чистилища. Среди всей этой тишины где-то запел петух, возвещая приближение утра. Я вздрогнул и в ужасе посмотрел на бездыханное тело Кончи, простертое на моей кровати. Потом, мгновенно придя в себя, зажег все свечи в канделябре и поставил его на пороге комнаты, чтобы осветить коридор. Я вернулся, и руки мои в страхе сжали бледную тень, которая столько раз в этих руках засыпала. Я вышел из комнаты, прижимая к груди мою страшную ношу. В дверях безжизненно свисавшая рука обожглась о пламя свечи и, задев канделябр, его уронила. Упавшие на пол свечи продолжали гореть мрачным дымящимся пламенем. На какое-то мгновение я стал прислушиваться. Слышно было только журчание воды в фонтане лабиринта. Я прошел вперед. Там, в глубине прихожей, перед изображением Иисуса Назареянина, горела лампада, и мне стало страшно проходить перед этим мертвенно-бледным ликом, обрамленным растрепанными черными волосами. Мне стало страшно его неживого взгляда. Я воротился назад.
Для того чтобы попасть в комнаты Кончи, минуя прихожую, надо было пройти через весь дворец. Я не стал колебаться. Одну за другой прошел я все залы, один за другим — все темные коридоры. Были залы, где лунный свет забирался далеко вглубь, проникая в самые глухие углы. Как тень, проходил я мимо этого длинного ряда окон с вечно запертыми рамами, изъеденными червями и почерневшими, со стеклами в свинце, заплаканными и мрачными. Проходя мимо зеркал, я закрывал глаза, чтобы не видеть в них себя. На лбу моем выступил холодный пот. По временам я попадал в такую темноту, что сбивался с пути, и мне приходилось идти наугад. Так я шел, застывши в тоске и страхе, придерживая тело Кончи одной рукой, а другую протянув вперед, чтобы не споткнуться. В притворе одной из дверей ее волнистые, разметанные, как у героини трагедии, волосы за что-то зацепились. Ощупью пытался я отцепить их, но мне это не удавалось. От этого они только запутывались еще больше. Я совсем оробел, движения мои были неловки, руки дрожали, а дверь все открывалась и закрывалась, громко скрипя. В страхе увидел я, что уже светает. У меня закружилась голова, и я с силой потянул… Тело Кончи едва не выпало у меня из рук. В отчаянии я стал еще сильнее тянуть его, прижимая к груди, и вдруг темная кожа на лбу натянулась и восковые веки начали открываться. Я закрыл глаза и, крепко сжав свою ношу в руках, кинулся прочь. Мне пришлось сильным толчком рвануться вперед. И волосы ее, такие любимые мною, благоуханные волосы, порвались…
Я донес ее до спальни, двери которой были открыты. Там было темно, и темнота была таинственна, ароматна и тепла, словно она хранила еще тайну наших любовных свиданий. Какую другую, страшную тайну ей придется хранить теперь! С большой осторожностью положил я тело Кончи на ее постель и так же тихо ушел. В дверях я остановился, не зная, на что решиться, и только вздрогнул. Я раздумывал, не вернуться ли мне, чтобы запечатлеть на этих оледеневших губах мой последний поцелуй. Но я устоял от соблазна. Это было похоже на сладостные терзания мистика. Я боялся, как бы охватившая меня грусть не превратилась в кощунство. Теплый аромат ее спальни был для меня настоящей пыткой — он воспламенял во мне всю сладострастную память чувств.
Мне захотелось отдохновения, сна, но сон не приходил. Ведь даже и мистикам самые чистые видения оборачивались порой самой странной чертовщиной. Еще и сейчас память о милой усопшей является для меня источником грусти, изысканной и порочной. Будто изможденный кот с горящими глазами скребет мне сердце. Сердце мое обливается кровью и переворачивается в груди, а где-то внутри меня хохочет дьявол, умеющий превращать всякую скорбь в наслаждение. Воспоминания мои — утраченные радости души — похожи на музыку, застывшую и пламенную, тоскливую и жестокую; под необычные звуки этой музыки пляшет печальный призрак моей любви. Бедный и белый призрак! Выеденные червями глаза! Потоки слез из пустых глазниц! Он пляшет, а вокруг него — хоровод его юных воспоминаний. Ноги его не касаются земли, он парит в волне аромата. Те эссенции, которыми Конча любила умащать себе волосы, пережили ее самое! Бедная Конча! Проходя по жизни, она оставила после себя только этот реющий в воздухе аромат. Но, может быть, самая целомудренная и чистая из всех любовниц на свете и всегда-то была лишь флаконом, одетым в божественную эмаль, флаконом, полным эссенций, возбуждающих безудержные желания.
Явились Мария Исабель и Мария Фернанда. Сначала они постучали своими детскими ручонками в дверь. Потом зазвучали их свежие, чистые голоса, похожие на журчание ручейков, привыкших говорить с травою и птицами:
— Можно войти, Ксавьер?
— Заходите, милые.
Было уже поздно. Девочек послала ко мне Исабель — спросить, как я спал. Вот так вопрос! В душе моей пробудились угрызения совести! Девочки окружили меня в дверях балкона, выходившего в сад. Свежие зеленые ветви ели печально роняли на землю прозрачные слезы. С гор дул ветер; ель эта вздрагивала от холода и, стряхивая с себя прозрачные капли, казалось, зазывала к себе детей в старинный, таинственный сад, который тосковал по их играм. Едва поднимаясь над землей, в глубине лабиринта летала стая голубей, а сверху, с синего холодного неба, не сводя с них глаз, медленно спускался коршун с длинными мерными крыльями.
— Убей его, Ксавьер! Убей!
Я побежал за ружьем, которое висело в углу комнаты, покрытое пылью, и тут же вернулся на балкон. Девочки захлопали в ладоши:
— Убей его! Убей!
В эту минуту коршун камнем ринулся прямо на испуганных голубей. Я прижал ружье к плечу и, улучив минуту, выстрелил. Где-то залаяли собаки. Напуганные пороховым дымом, голуби переполошились. Коршун упал, девочки подбежали к нему и вдвоем притащили его, держа за крылья. На груди у него сквозь перья сочилась кровь… Торжествуя, девочки убежали с птицей в руках. Меня снова охватила тревога.
— Куда вы идете?
Стоя в дверях, они обернулись ко мне, счастливые и улыбающиеся:
— Вот увидишь, как мы маму напугаем, когда она проснется!..
— Нет! Не надо!
— Да мы пошутить хотим!
Я не решился удерживать их и остался один со своей тоской. Какое горькое ожидание! И как вынести эту минуту! Это утро, радостное, озаренное солнцем. И вдруг где-то в глубине дворца душераздирающие крики детей, их безудержные рыдания!.. Меня охватил какой-то безотчетный глухой страх перед немым, холодным призраком смерти, которая уничтожила все, что цвело у меня на душе. Я ощутил странную грусть, словно на жизнь мою спустились сумерки и жизнь сама, подобно тоскливому зимнему дню, угасала теперь, чтобы снова начаться только с рассветом. Бедная Конча умерла! Она, красавица из сказки, которой все, что я говорил, казалось прекрасным! Красавица из сказки, которой все, что я делал, казалось высоким!.. Встречу ли я еще когда-нибудь другую бледную принцессу с печальными, зачарованными глазами, которые смотрели бы на меня всегда восхищенным взглядом? Задумавшись надо всем, я заплакал. Я плакал, как античный бог, которому перестали приносить жертвы!
ЗИМНЯЯ СОНАТА
Глазам печальным… и бархатным.
Я уже очень стар, я пережил всех женщин, по которым когда-то вздыхал. Одной я собственными руками закрыл глаза, другая прислала мне грустное письмо, в котором прощалась со мной; остальные умерли, успев стать бабушками и позабыть о том, что я существую. И хотя на свете было немало женщин, в которых я умел пробудить великую любовь, душа моя пребывает теперь в тоскливом и беспросветном одиночестве, и всякий раз, когда я, начав причесываться, бросаю взгляд на свои седины, глаза мои наполняются слезами. Ах! Я вздыхаю, вспоминая, что в былые времена волос этих ласково касались руки благороднейших дам. Путь мой по жизни отмечен буйным цветением всех страстей. Дни ее, один за другим, раскалялись на огромном костре любви. Самые чистые души отдавали мне всю свою нежность и обливались слезами, оттого что я презирал их и был к ним жесток; белоснежные пальцы нетерпеливо обрывали лепестки маргариток, скрывавшие тайны сердца. Чтобы вечно хранить тайну, которую мне не терпелось угадать, покончила с собою девушка, которую я теперь, в дни моей старости, буду оплакивать день и ночь. В ту пору, когда я пробудил в ней эту ставшую роковою любовь, я был уже сед.
Я приехал в Эстелью,{54} где в то время находился двор короля. Я устал от долгих скитаний по свету. Я начал испытывать чувство, доселе не знакомое мне в моей веселой жизни искателя приключений, жизни, полной риска и превратностей, как у тех младших сыновей идальго, которые вербовались в сражавшиеся в Италии терции,{55} чтобы обрести в этой стране любовь, богатство и славу. Все иллюзии, которыми я жил, рушились, я окончательно разочаровался во всем на свете.
Это был первый холод старости, более страшный, чем холод смерти. Я ощутил его в то время, когда на плечах моих еще был плащ Альмавивы, а на голове — шлем Мамбрина!{56} В жизни моей пробил час, когда утихает жар крови и когда страсти наши — любовь, гордость, гнев, — благородные и священные страсти, которые обуревали богов древности, становятся рабами разума.
Я достиг тех преклонных лет, когда в человеке разгораются честолюбивые помыслы, того возраста, когда он сильнее, чем в юные годы, ибо уже способен отказаться от любви женщины.
Ах, почему я этого не сделал!
Бежав и переодевшись в рясу, которую монах-француз оставил на кухне загородного дома, я прибыл в Эстелью, чтобы явиться ко двору дона Карлоса VII. Колокола церкви святого Иоанна звонили, возвещая начало королевской мессы, и я захотел услышать ее тут же, не отряхнув дорожной пыли, дабы возблагодарить господа за то, что он спас мне жизнь. Когда я вошел в церковь, священник был уже в алтаре. Мерцающий свет лампады озарял ступени амвона, на которых расположилась свита. Лица всех были погружены в темноту, и глаза мои разглядели только высокую фигуру его величества, который выделялся среди своих приближенных благородством и непринужденностью в обращении, делавшими его похожим на короля древних времен. Во всем облике его было столько мужества, столько гордости, что, казалось, ему недостает только богатых доспехов чеканки миланского мастера и покрытого кольчугой боевого коня. Его пламенному орлиному взгляду как нельзя лучше подходило бы сверкать из-под забрала шлема, увенчанного зубчатой короной с украшениями в виде листьев аканфа. Дон Карлос Бурбон-и-д’Эсте — единственный из монархов, который с достоинством мог бы носить горностаевую мантию, держать в руках золотой скипетр и украсить голову усеянной драгоценными камнями короной, непременным атрибутом королей на старинных миниатюрах.
Когда месса окончилась, один из монахов поднялся на кафедру и с заметным баскским акцентом обратился к солдатам бискайских терций, которые прибыли, чтобы впервые сопровождать своего короля, и провозгласил священную войну.{57} Я был растроган. Эти мужественные, твердые слова, угловатые, как оружие каменного века, произвели на меня неизгладимое впечатление. Они звучали, как в старину. Они были просты и торжественны, как борозды, проведенные плугом, когда в них роняют семена пшеницы или маиса. Не понимая смысла, я чувствовал, что они правдивы, прямолинейны, сдержанны и суровы. Дон Карлос слушал их, окруженный своими приближенными, стоя и повернувшись лицом к проповеднику. Донья Маргарита и все ее придворные дамы стояли на коленях. Теперь я уже различал отдельные лица. Помнится, этим утром в королевской свите были князья Касерта, маршал Вальдеспина, графиня Мария Антониетта Вольфани, фрейлина доньи Маргариты, маркиз де Лантана, прозванный Неаполитанским, барон Валатье, французский легитимист, бригадный генерал Аделантадо и дядя мой, дон Хуан Мануэль Монтенегро.
Боясь, как бы меня не узнали, я продолжал стоять на коленях, скрытый тенью колонны, до тех пор пока монах не окончил проповедь и королевская чета со своею свитой не покинула церковь. Рядом с доньей Маргаритой шла некая дама высокого роста, укрытая черным покрывалом, которое почти волочилось по полу. Она прошла совсем близко от меня, и, не видя ее лица, я, однако, догадался, что глаза ее узнали меня под моей картезианскою рясой. На мгновение мне показалось, что и я ее узнал, но возникший вдруг в памяти моей смутный образ растаял, прежде чем успел обозначиться сколько-нибудь ясными чертами. Это было похоже на порыв ветра, который налетел и вдруг притих, на огоньки, которые загораются и тухнут где-нибудь на ночных дорогах.
Едва только церковь опустела, я направился в сакристию. Озаренные бледными лучами, два старых священника разговаривали в углу, а ризничий, еще более глубокий старик, раздувал угли в кадильнице, стоя перед высоким окном с решеткой. Я остановился в дверях. Священники не обратили на меня никакого внимания, но ризничий впился в меня покрасневшими от дыма глазами и сухо спросил:
— Вы пришли служить мессу, ваше преподобие?
— Нет, я только ищу друга моего, брата Амвросия Аларкона.
— Брат Амвросий придет попозже.
— Он, верно, гуляет сейчас где-нибудь около церкви, — поспешно добавил другой. — Если он вам очень нужен, вы его там найдете.
В эту минуту в дверь постучали, и ризничий побежал открыть задвижку. Второй священник, до сих пор хранивший молчание, пробормотал:
— Должно быть, это он и есть.
Ризничий открыл двери, и из темноты вынырнула фигура знаменитого монаха, который всю жизнь молился за душу Сумалакарреги.{58} Это был человек огромного роста, сутуловатый, костлявый, с пергаментной кожей и глубоко запавшими глазами. Голова его непрерывно дрожала: он воевал еще в первую войну и был ранен в шею. Остановив вошедшего в дверях, ризничий тихо сказал:
— Тут вас монах один ищет. Должно быть, из Рима.
Я ждал. Брат Амвросий окинул меня взглядом с ног до головы. Он не узнал меня. Но это не помешало ему просто и по-дружески положить мне руку на плечо:
— Вам угодно говорить с братом Амвросием Аларконом? Вы не ошиблись?
Вместо ответа я поднял капюшон. Старый вояка посмотрел на меня с веселым изумлением. Потом, повернувшись к священникам, он воскликнул:
— Этот брат в миру зовется маркизом де Брадомином.
Меня окружили. Пришлось рассказывать, почему я в монашеской рясе и как мне удалось перейти через границу{59} и пробраться в Эстелью. Брат Амвросий весело смеялся, а священники смотрели на меня поверх очков, и их полуоткрытые беззубые рты выражали недоумение. Став между ними, под лучом солнца, падавшим сквозь узкое окно, ризничий слушал все это недвижимый и всякий раз, когда эсклаустрадо{60} прерывал меня, сухо говорил:
— Дайте же наконец ему досказать!
Но брат Амвросий не хотел верить, что я прибыл из монастыря и что туда меня забросило разочарование в мирской суете и раскаяние в содеянных мною грехах. И пока я говорил, он не раз оборачивался к священникам и шептал:
— Не верьте ему. Наш знаменитый маркиз все это выдумал.
Чтобы он больше не выражал сомнений по этому поводу, мне пришлось торжественно заверить его, что это правда. С этой минуты он сделал вид, что сам совершенно в этом убежден, и, чтобы показать, как он изумлен, то и дело крестился.
— Вот уж истинно говорится, что чем больше живешь, тем больше видишь! Нечестивцем я, правда, его никогда не считал, но никогда бы не подумал, что в маркизе де Брадомине так много религиозного рвения.
— Раскаяние не возвещают трубными звуками, это вам не кавалерия, — сказал я рассудительно и тихо.
В эту минуту как раз протрубили сигнал седлать коней. Все рассмеялись. Один из священников с очаровательным простодушием спросил меня:
— Значит, раскаяние подкралось к вам осторожно, как змий?
Я печально вздохнул:
— Оно пришло ко мне, когда я однажды поглядел на себя в зеркало и заметил, что волосы мои поседели.
Священники улыбнулись друг другу так вкрадчиво, что с этой минуты я не сомневался, что передо мною иезуиты. Я скрестил руки на нарамнике и, напустив на себя покаянный вид, принялся снова вздыхать:
— Превратности судьбы опять бросают меня в житейское море. Я сумел побороть в себе все страсти, кроме гордыни. Даже когда на мне была ряса, я не мог позабыть, что я маркиз.
Брат Амвросий воздел руки и своим низким голосом, который от привычных монастырских шуток, казалось, стал мягче, изрек:
— Наш Карл Пятый тоже вспоминал о своей империи в обители святого Юста.{61}
Священники улыбнулись своей едва заметной назидательною улыбкой. Ризничий, озаренный бледными лучами солнца, проникавшими сквозь узкое окно, процедил сквозь зубы:
— Нет, он не даст ему рассказать!
Кончив говорить, брат Амвросий громко расхохотался. Его раскатистый смех долго еще глухим эхом отдавался под сводами сакристии. В это время в церковь вошел семинарист. Ярко-красные, как у девушки, губы резко контрастировали с мертвенно-бледным заостренным профилем, и от этого его крючковатый нос и едва проступавшие из-под век круглые глаза приобретали выражение жестокости. Брат Амвросий пошел ему навстречу, преувеличенно низко наклонив свою долговязую фигуру. Казалось, что его непрерывно дрожащая голова вот-вот скатится с плеч.
— Добро пожаловать, безвестный и знаменитый полководец! Новоявленный Эпаминонд,{62} о подвигах которого через много веков расскажет нам новый Корнелий Непот.{63} Извольте приветствовать маркиза де Брадомина!
Семинарист, хорошо сложенный юноша, одетый в сильно поношенную сутану, снял свой черный берет и, краснея, мне поклонился. Брат Амвросий положил ему руку на плечо, грубоватым движением потряс его и сказал, обращаясь ко мне:
— Если этому молодцу удастся собрать человек пятьдесят, он заставит о себе говорить. Это будет новый дон Рамон Кабрера!{64} Храбр как лев!
Семинарист сделал шаг назад, чтобы освободиться от руки, которая все еще сдавливала ему плечо, и, впившись в меня своими птичьими глазами, сказал, словно угадывая мои мысли и отвечая на них:
— Иные считают, что, для того чтобы сделаться великим полководцем, вовсе не надо быть храбрым. Что, если они правы? Кто знает, может быть, если бы дон Рамон де Кабрера не был так храбр, его военный гений от этого бы только выиграл.
Брат Амвросий посмотрел на него с презрением:
— Эпаминонд, сын мой, если бы он был менее храбр, он бы распевал где-нибудь мессу, как то может случиться с тобой.
Семинарист улыбнулся восхитительною улыбкой:
— Со мной этого не случится, брат Амвросий.
Оба священника, сидевшие перед жаровней, молчали и только улыбались. Один грел над горячими углями озябшие руки, другой перелистывал молитвенник. Ризничий зажмурил глаза, собираясь последовать примеру кота, дремавшего у него на коленях. Брат Амвросий, сам того не замечая, понизил голос:
— Ты говоришь такое потому, что ты молокосос. Ты принимаешь на веру все, чем стараются оправдать свой страх кое-какие генералы, — им бы уж лучше епископами быть. Немало я всего в жизни видал. Когда грянула первая война,{65} я был монахом в галисийской обители. Я снял с себя сан и семь лет сражался в войсках короля.{66} А что до того, как я одет, то должен тебе сказать: для того чтобы стать великим полководцем, надо сначала быть великим солдатом. Брешет тот, кто уверяет, что Наполеон был трусом.
Глаза семинариста сверкали так, как под лучами солнца поблескивают своей чернью пули.
— Брат Амвросий, — сказал он, — если бы в моем распоряжении было сто человек, я бы повел их в бой как солдат; если бы их была тысяча — пусть только тысяча, я командовал бы ими как полководец. Мне бы хватило их, чтобы обеспечить победу Правого дела. В этой войне нет недостатка в больших армиях. С тысячью солдат я бы захватил все сразу, как тридцать пять лет тому назад это сделал Мигель Гомес,{67} самый великий полководец минувшей войны.
Брат Амвросий прервал его речь шуткой, презрительной и высокомерной:
— Знаменитый молокосос, слыхал ты когда-нибудь о доне Томасе Сумалакарреги? Это был величайший из полководцев, сражавшихся за Правое дело. Если бы у нас теперь нашелся такой человек, победа была бы за нами.
Семинарист молчал, но оба священника обомлели от неожиданности. Один из них сказал:
— В том, что мы победим, сомневаться не приходится.
— Самый великий полководец — это правота нашего дела, — добавил другой.
Почувствовав под грубой шерстью моей покаянной одежды жар, который воодушевил святого Бернарда,{68} когда он призывал к крестовому походу, я воскликнул:
— Самый великий полководец — это помощь господа нашего!
Послышался шепот одобрения, горячий, как шепот молитвы. Семинарист только улыбнулся и не сказал ни слова. Ко всему этому прибавился низкий бас колоколов, при звуке которых старый ризничий поднялся с места, отряхивая свою сутану, на которой спал кот. Вошли несколько каноников, чтобы пропеть литию. Семинарист надел стихарь; ризничий вручил ему кадильницу. Огромное помещение наполнилось ароматным дымом. Послышался глухой гул старческих голосов, которые перешептывались между собой; священники облачились в белые полотняные стихари, вышитые руками монахинь фелони и шитые золотом ризы, хранившие запах мирры, сожженной еще сто лет назад. Позвякивая цепями кадильницы, вошел семинарист. Священники, которые успели уже завершить свое облачение, последовали за ним. Мы остались вдвоем с эсклаустрадо. Раскрыв объятия, он прижал меня к груди и растроганно прошептал:
— Маркиз де Брадомин, выходит, еще не забыл, как я учил его латыни в монастыре в Собрадо!
Старик раскашлялся, а потом, вновь обретя свою улыбку старого богослова, тихим и вкрадчивым голосом, словно мы были в исповедальне, сказал:
— Ваша светлость простит меня, если я признаюсь ему, что не поверил истории, которой он нас только что развлекал!
— Той, что я рассказал?
— Да, истории обращения! Могу я узнать правду?
— Конечно, только там, где нас никто не услышит, брат Амвросий.
Монах многозначительно кивнул. Я замолчал — мне стало жаль несчастного эсклаустрадо, который предпочитал историю вымыслу и хотел услышать нечто менее занимательное, менее поучительное и менее красивое, чем все, что я только что выдумал. О ложь, веселая и крылатая! Когда же наконец люди убедятся, как важно, чтобы ты восторжествовала! Когда постигнут они, что души, которые знают только свет правды, — это души мрачные, истерзанные, иссушенные, которые в тишине разговаривают со смертью, а жизнь свою посыпают пеплом! Слава тебе, веселая ложь, светлая птичка, которая умеет петь нежные песни!
А вы, иссушенные Фиваиды, принадлежащие истории города, чей удел — уединение и молчание, вы, заживо погребенные под звон колоколов, не дайте ей ускользнуть сквозь пролом в стене, не дайте исчезнуть так, как исчезло столько всего другого. Она — это любовное свидание сквозь решетку окна, и блеск изъеденных червями гербов и зеркальная поверхность реки, которая мутнеет, проходя под романской аркадой моста. Она, как исповедь, приносит утешение страждущим душам, позволяет им расцвести, возвращает им благодать. Не забывайте, это ведь тоже дар небес!..
О, мой старый народ, народ солнца и быков, сохрани же на веки вечные твой дух лжи и кичливых преувеличений и погружайся в сон под звуки гитары, утешаясь в своей великой скорби по монастырской похлебке, которую ты привык раздавать неимущим, и по утраченным тобою навсегда, далеким вест-индским владениям. Аминь!
Брат Амвросий почел своим долгом приютить меня у себя, и мне ничего не оставалось, как воспользоваться его гостеприимством. Мы вместе покинули церковь и пошли по улицам верного города, оплота Правого дела. Перед этим только что шел снег, и позади темных зданий он лежал еще ровным, нетронутым слоем. С чернеющих крыш капала вода. Время от времени открывалось окно, и оттуда высовывалась старуха. Завернутая в мантилью, она смотрела, прояснилось ли и можно ли идти в церковь. Мы очутились возле старинного дома, примыкавшего к высоким стенам, над которыми едва были видны верхушки кипарисов. Решетки все проржавели; окованные железом двери, увенчанные большим гербом, вели в полутемную прихожую, где стояли лоснившиеся от времени скамейки и висел большой железный фонарь.
— Дом герцогини Уклеоской, — сказал брат Амвросий.
Я улыбнулся, угадав лукавую мысль монаха:
— Она все такая же красавица?
— Говорят, что да… Лица ее я ни разу не видел — она всегда его закрывает.
Я только вздохнул:
— Когда-то мы с ней были большими друзьями!
Монах осторожно кашлянул:
— Кое-что я об этом знаю.
— Рассказала на исповеди?
— Какая там исповедь! У бедного эсклаустрадо нет таких сиятельных духовных дочерей.
Мы продолжали наш путь молча. Мне невольно вспомнилась лучшая пора моей жизни, время, когда я был влюбленным и поэтом. Далекие годы всплывали в памяти, полные того очарования, каким проникнуто все полузабытое и доносящееся до нас вместе с ароматом увядших роз и звучанием старинных стихов.
Ах, эти розы, эти стихи того блаженного времени, когда моя любимая была еще танцовщицей! Стихи в восточном духе, которыми я прославлял ее, в которых говорил, что тело ее изящно, как пальма в пустыне, и что все грации собираются вокруг нее, и поют, и смеются под звуки золотых бубенцов. По правде говоря, я не находил похвал, достойных ее красоты. Ее звали Кармен, и она была хороша собой, как само это имя, исполненное андалузской нежности, имя, которое по-латыни означает «песнь», а по-арабски — «сад». Вспоминая ее, я вспоминал также и годы, которые прожил вдали от нее, и подумал, как она бы рассмеялась в то время своим звонким смехом, увидав меня в монашеской рясе. Почти машинально я спросил брата Амвросия:
— Герцогиня и сейчас живет в Эстелье?
— Она — придворная дама королевы нашей, доньи Маргариты. Но, кроме церкви, она нигде не бывает.
— Мне хочется вернуться и зайти в этот дом.
— Еще будет время.
Мы достигли церкви пресвятой девы Марии и вынуждены были подняться на ступени, чтобы пропустить ехавших впереди всадников. Это были кастильские уланы, которые возвращались из окрестностей города, где они несли караул. В звуки горнов вторгалось конское ржание, по древней мостовой звенели подковы воинственным и благородным звоном, каким в рыцарских романсах звенит оружие паладинов. Кавалеристы проскакали, и мы могли продолжить наш путь.
— Ну вот и пришли, — сказал брат Амвросий.
И он показывает мне на маленький домик в конце улицы с высоким деревянным балконом на столбах. Старая гончая, дремлющая у входа, увидав нас, рычит, но даже не поднимается с места. В передней темно, как в хлеву, пахнет травой и навозом. Ощупью взбираемся по лестнице, ступени которой дрожат. За одно мгновение монах взбегает наверх, дергает висящую возле двери цепочку, и внутри уже дребезжит звонок. Слышатся шаги и ворчливый голос хозяйки:
— Можно ли так названивать! Что случилось?
— Открывай! — повелительно кричит монах.
— Пресвятая дева! Что за спешка!
Она продолжала ворчать, пока не отперла дверь. Монах, в свою очередь, раздраженно пробормотал:
— Терпения нет с этой бабой!
Дверь распахнулась, но старуха все еще не могла уняться:
— Никак, видно, нельзя, чтобы никого с собой не приволочь! Так много всякой снеди в доме, что каждый день надо людей приводить, чтобы управляться помогали!
Брат Амвросий, бледный от гнева, угрожающе поднял свои огромные желтые пергаментные руки, и растопыренные пальцы их закачались над его неизменно дрожавшей головой:
— Замолчи, скорпионий язык! Замолчи, научись людей уважать. Знаешь, кого ты сейчас последними словами обругала? Знаешь? Знаешь, кто перед тобой? Сейчас же проси прощения у маркиза де Брадомина!
До чего же обнаглели все эти потаскухи! Услыхав мое имя, эта баба не испытала ни раскаяния, ни сожаления. Она впилась в меня своими пронзительными черными глазами, какие бывают у старух на картинах Гойи, и, едва шевеля губами, недоверчиво пробормотала:
— Если вы в самом деле кабальеро, доброго вам здоровья и долгих лет жизни. Аминь!
Она отошла в сторону, чтобы дать нам пройти. Но мы слышали, как она все еще бурчала:
— И грязи же мне нанесли! Праведный боже, что они с моими полами сделали!
Мы действительно самым варварским образом испакостили ей полы, чистые, свеженатертые, сверкающие, не полы, а сущие зеркала, в которые можно было глядеться, которые она любила, как любят их старые домовитые хозяйки. Я оглянулся и в ужасе увидел содеянное мною кощунство. Старуха воззрилась на меня с такой ненавистью, что мне стало жутко:
— Добро бы еще дело делали — керосинщиков проклятых убивали! Во что только вы мои полы обратили! Креста на вас нет!
— Молчи! — крикнул брат Амвросий из комнаты. — Шоколаду нам поскорее подай!
В доме было так тихо, что голос его грянул, точно выстрел. То был голос, которым он в былые времена приказывал своим соратникам, единственный голос, которого они боялись. Но старуха эта, по всей вероятности, в душе была все же сторонницей Изабеллы, потому что, едва только брат Амвросий снова замахал своими пергаментными руками, она еще кислее пробормотала:
— Поскорее!.. Когда подам, тогда и подам! Ах, господи Иисусе, дай только мне терпение!
Брат Амвросий стал раскатисто кашлять, а где-то в глубине дома все еще продолжало слышаться глухое ворчание хозяйки. Когда же на несколько мгновений наступила тишина, раздалось тикание часов, словно это бился пульс дома, где жил монах и где властвовала эта окруженная котами старуха: тик-так, тик-так! То были стенные часы с маятником и гирями. Кашель брата Амвросия, брюзжание хозяйки, говор часов — казалось, что все эти звуки подчинялись одному ритму, странному и ни с чем не сообразному, словно подслушанному в заклинаниях какой-нибудь ведьмы.
Я снял монашескую рясу и остался в одежде папского зуава.{69} Брат Амвросий смотрел на меня с детским восхищением, широко разводя своими несуразными длинными руками:
— Подумать только, какой диковинный наряд!
— А вы разве никогда не видали?
— Только на картинах, на одном портрете инфанта дона Альфонсо.{70}
Голова его с зиявшей на ней тонзурой дрожала. Ему не терпелось узнать правду о моих приключениях:
— А может быть, вы все-таки соблаговолите сказать, откуда у вас эта ряса?
— Просто-напросто переоделся, — равнодушно ответил я, — чтобы не попасть в руки проклятому попу.
— Санта-Крусу?{71}
— Ну да.
— Штаб-квартира его сейчас в Оярсоне.
— А я приехал из Арьяменди; лежал там в одном загородном доме в лихорадке.
— Подумать только! А почему это Санта-Крус так вас не любит?
— Он знает, что я добился от короля приказа Лисарраге{72} расстрелять его.
Брат Амвросий выпрямился во весь свой огромный рост:
— Худое дело! Худое! Худое!
— Этот поп — бандит! — решительно сказал я.
— Для войны бандиты необходимы. Впрочем, откровенно говоря, это же не война, а масонский фарс.
Я не мог сдержать улыбки.
— Масонский? — спросил я, развеселившись.
— Да, масонский: Доррегарай{73} — масон.
— Но кто настоящий охотник за этой дичью, так это Лисаррага. Он поклялся ее уничтожить.
— Не дело затеял дон Антонио. — Монах подошел ко мне; он обхватил руками свою дрожащую голову, словно боялся, что она вдруг соскочит с шеи. — Дон Антонио воображает, что на войне проливают не кровь, а святую водицу. Он хочет все уладить причастием, а на войне люди причащаются свинцовыми пулями. Дон Антонио такой же убогий, никчемный монах, как и я. Да что я говорю — куда никчемнее! Хоть он и не давал обета. Нам, старикам, тем, кто в прошлую войну воевал, когда мы видим все это, становится стыдно, попросту стыдно!.. Я от этого, можно сказать, заболел.
И, еще крепче обхватив руками голову, он уселся в кресло и стал ждать шоколада, ибо в коридоре уже послышались шаги хозяйки и на металлических подносах зазвенели рюмки и чашки. Хозяйку нельзя было узнать. На лице у нее сияла благодарная улыбка, какая бывает у благодушных старух, занятых стряпней, молитвами и штопанием чулок:
— Чудны дела твои, господи! Господин маркиз меня не признал. А ведь он у меня на коленях сиживал. Я красотки Микаэлы сестра. Помните Микаэлу-красотку? Служанку, что много лет у бабушки вашей, и моей госпожи графини, жила?
Приглядевшись к старухе, я сказал растроганно:
— Ну конечно, сеньора, бабушку-то я ведь помню.
— Святая была женщина. Уж кому, как не ей, на небесах пребывать одесную господа нашего Иисуса Христа.
Она поставила на столик два подноса с шоколадом и, сказав что-то на ухо монаху, ушла. Шоколад дымился и распространял совершенно восхитительный аромат. Это был соконуско,{74} который привыкли пить в монастырях, тот самый шоколад, который в прежнее время посылали в подарок аббатам вице-короли Новой Испании. Мой старый школьный учитель помнил еще эти блаженные времена. О, благодатное раздолье, несказанная роскошь, сладостное эпикурейство королевского и императорского монастыря в Собрадо!
Соблюдая обычай, брат Амвросий пробурчал вначале какие-то латинские молитвы, а потом припал к чашке. Допив ее до дна, он изрек, словно некий афоризм, в изящном и сжатом стиле римского классика эпохи Августа:
— Чудесно! Такого шоколада, как у этих благословенных монахинь святой Клары, нигде не найти! — Он с удовольствием вздохнул и вернулся к прерванному разговору: — Бог ты мой! Правильно вы сделали, что не стали рассказывать, как и почему вы переоделись, там, в сакристии. Священники эти — ярые сторонники Санта-Круса.
Несколько мгновений он молчал, о чем-то раздумывая. Потом протяжно зевнул и перекрестил свой черный, как у волка, рот:
— Бог ты мой! А что же вам угодно, господин маркиз де Брадомин, от бедного эсклаустрадо?
— Сейчас мы об этом поговорим, — сказал я с напускным равнодушием.
— Может быть, это и не нужно… — лукаво заметил монах. — Словом, сеньор, я продолжал исполнять обязанности капеллана в доме графини де Вольфани. Графиня — женщина добрая, хоть, может быть, чересчур уж мрачная… В эти часы ее как раз можно видеть.
Я едва кивнул головой и вытащил из кошелька золотую унцию:
— Оставим мирские разговоры, брат Амвросий. Возьмите эти деньги и отслужите мессу в благодарение за счастливый исход дня.
Монах в молчании посмотрел на деньги, а потом предложил мне свою кровать, чтобы я мог немного соснуть после утомительной дороги.
Весь день лил дождь. Когда он на некоторое время стихал, тусклый, пепельно-серый свет озарял гребни гор, окружавшие священный город карлистов, привыкший к ударам капель о стекла. Время от времени унылая тишина зимнего вечера оглашалась звуками горна и колокольным звоном, которым монахини созывали к девятидневным молениям, Я должен был явиться к королю, и я ушел, не дождавшись возвращения брата Амвросия. Ветер колыхал затянувшие все небо тучи. Два солдата шли через площадь тихим шагом; с плащей их капала вода. Слышно было монотонное пение школьников. В сумерках эта покрытая лужами, пустынная, погруженная в гробовое молчание площадь выглядела особенно мрачной.
Несколько раз я сбивался с пути, попадая на глухие, безлюдные улицы, — не у кого было даже спросить дорогу. Когда я добрался до королевского дворца, совсем стемнело.
— Скорее снимай свою рясу, Брадомин!
Такими словами встретил меня дон Карлос.
— Государь, — тихо ответил я, стараясь, чтобы слышал меня только он один, — они устроили мне засаду.
— Мне тоже устроили. Только, к сожалению, я не могу их повесить.
— Вам надо было бы расстрелять их, государь, — дерзко сказал я.
Дон Карлос улыбнулся и увел меня в амбразуру окна:
— Я знаю, что ты говорил с Кабрерой. Это его идеи. Так вот, знай: Кабрера объявляет себя врагом партии ультрамонтанов{75} и мятежных священников. И напрасно — в наше время это могучая сила, с которой надо считаться. Поверь мне, без их помощи мы не можем воевать.
— Вы знаете, государь, что генерал тоже не сторонник войны.
Король немного помолчал.
— Я это знаю. Кабрера воображает, что молчаливые усилия хунт привели бы к более надежным результатам.{76} По-моему, он ошибается. Впрочем, мне тоже не по душе это мятежное духовенство. Я тебе об этом как-то уж говорил, когда ты сказал, что надо расстрелять Санта-Круса. Если я какое-то время противился образованию военного совета, то я это делал для того, чтобы помешать республиканским войскам{77} — тем, что его преследовали, — объединиться и подойти к нам близко. Видел, что из этого вышло. Из-за Санта-Круса мы потеряли Толосу.
Король снова замолчал и окинул взглядом помещение, темную залу, пол которой был устлан ореховым паркетом, а стены завешаны оружием и знаменами; знамена эти взяли с бою за семь лет первой войны старые генералы, чьи имена стали легендарными. В глубине залы вполголоса разговаривали епископ урхельский, дон Карлос Кальдерон и дон Диего Вильядариас. Король слегка улыбнулся, улыбкой печальной и снисходительной, какой я никогда еще не видал на его устах:
— Они, видишь ли, ревнуют, оттого что я говорю с тобой, Брадомин. Можешь быть уверен, что епископ урхельский не очень к тебе благоволит.
— Почему вы так думаете, государь?
— Я вижу, какие он на тебя бросает взгляды. Поди поцелуй ему руку.
Я пошел исполнить его приказание, как вдруг король достаточно громко, чтобы все присутствующие могли услыхать, окликнул меня:
— Брадомин, не забудь, что ты обедаешь у меня.
Я низко поклонился:
— Благодарю вас, государь.
Я направился к епископу, который в это время занят был разговором. Когда я подошел, все вдруг замолчали. Его преосвященство встретил меня любезно, но холодно:
— Добро пожаловать, господин маркиз.
Я ответил ему с барской снисходительностью, как будто епископ де ла Сео де Урхель был моим капелланом:
— Здравствуйте, ваше преосвященство.
И с почтением, в котором было больше светской вежливости, нежели благочестия, я поцеловал пастырский аметист на его перстне. В его преосвященстве было живо высокомерие тех феодальных епископов, которые под облачением своим носили оружие; он нахмурил лоб и пожелал прочесть мне нотацию:
— Господин маркиз де Брадомин, мне только что рассказали нелепую историю, которую вы придумали сегодня утром, чтобы посмеяться над двумя бедными священниками, полными простодушной веры. Вместе с тем вы надругались над монашеской рясой, не пощадив святого храма, ибо случилось-то ведь это в церкви Сан-Хуан-де-Эстелья.
— В сакристии, ваше преосвященство, — поправил я.
Епископ, который просто задыхался от негодования, замолчал и перевел дух:
— Мне сказали, что это было в церкви… Но пусть это было даже в сакристии, все равно это похоже на насмешку над жизнью иных праведников, господин маркиз. Если, как я полагаю, ряса не была для вас маскарадным костюмом, в том, что вы надели ее, нет никакого кощунства. Но история, рассказанная священникам, — это злая шутка, достойная нечестивца Вольтера!
Не приходилось сомневаться, что прелат пустится сейчас разглагольствовать об энциклопедистах и о французской революции. Разгадав его намерения, я весь задрожал от раскаяния:
— Я признаю свою вину и готов подвергнуться епитимье, которую ваше преосвященство соблаговолит на меня наложить.
Видя, что красноречие его увенчалось успехом, святой отец благосклонно мне улыбнулся:
— Епитимье мы подвергнемся вместе.
Я смотрел на него, ничего не понимая. Положив мне на плечо свою белую, пухлую, всю в ямочках руку, он разъяснил мне смысл своего иронического замечания:
— Мы оба сегодня обедаем у короля, а там нам придется умерить свой аппетит. Дон Карлос воздержан, как солдат.
— Его предок-беарнец,{78} — ответил я, — мечтал о том, чтобы у каждого из королевских подданных была курица в супе. Дон Карлос, понимая, что это фантазия поэта, предпочитает, по примеру своих вассалов, жить в воздержании.
— Не будем шутить, маркиз, — остановил меня епископ. — Особа короля тоже священна!
Я приложил руку к сердцу:
— Даже если бы я хотел забыть об этом, я не мог бы, алтарь его здесь.
И я простился, потому что хотел засвидетельствовать свое почтение донье Маргарите.
Войдя в маленькую залу, где королева и ее придворные дамы вышивали ладанки для солдат, я испытал чувство благоговения, смешанное со светской влюбленностью. В эту минуту я понял все великое простодушие, которым полны рыцарские романы, и тот культ красоты и женских слез, который заставлял биться под кольчугой сердце Тиранта Белого.{79} Больше чем когда-либо я чувствовал себя рыцарем, борцом за Правое дело. Я жаждал умереть за даму, чьи руки белы, как лилии, и чье имя, имя бледной святой далекой принцессы, окутано ароматом легенды, и смерть эта была бы для меня даром небес. Донья Маргарита вдохновила меня на верность былых времен. Она встретила меня с улыбкой, полной очарования, благородного и грустного:
— Не обижайся, если я буду вышивать при тебе эту ладанку, Брадомин. Я принимаю тебя запросто, как старого друга. — И, воткнув на минуту иголку в шитье, она протянула мне руку, которую я с глубоким почтением поцеловал. Королева продолжала: — Мне говорили, что ты был болен. Ты что-то побледнел. Ты, видно, мало заботишься о себе, а это худо. Надо беречься, если не для себя, то для короля, которому нужны такие верные слуги, как ты. Брадомин, нас окружают предатели.
Донья Маргарита на мгновение замолчала. При последних словах ее серебристый голос дрогнул, и я думал, что она зарыдает. Может быть, я ошибся, но мне показалось, что ее глаза мадонны, красивые и безгрешные, помутнели от слез; в эту минуту донья Маргарита склонилась над ладанкой, которую вышивала, и я не мог проверить, так это или нет. Прошло какое-то время. Королева вздохнула; она подняла голову, и из-под уложенных в виде двух раковин волос показался ее бледный, как луна, лоб.
— Брадомин, надо, чтобы вы, верные люди, служили королю.
Тронутый ее волнением, я ответил:
— Государыня, я готов пролить свою кровь до капли, для того чтобы он мог получить корону.
Королева посмотрела на меня проникновенным, исполненным величия взглядом:
— Ты плохо понял мои слова! Я прошу тебя защищать не его корону, а его жизнь… Пусть не говорят об испанских кабальеро, что они отправились невесть куда за принцессой только для того, чтобы одеть ее в траур!{80} Говорю тебе еще раз, Брадомин: нас окружают предатели.
Королева опять замолчала. Слышен был барабанивший в стекла дождь и трубивший вдали горн. При королеве были три придворные дамы: донья Хуана Пачеко, донья Мануэла Осорес и Мария Антониетта Вольфани, которая прибыла вместе с королевой в Испанию. Взгляд Вольфани приковал меня к себе, как магнит, едва только я вошел в залу. Воспользовавшись молчанием, она поднялась с места и подошла к королеве:
— Не угодно ли вам, государыня, чтобы я сходила за принцами?
— А что, они кончили занятия? — спросила королева.
— Да уже пора бы им кончить.
— Тогда сходи. Маркиз с ними познакомится.
Я поклонился и, улучив удобный момент, поздоровался с Марией Антониеттой.
Ничем не выказав своего волнения, она ответила мне ничего не значащими словами, не помню уж какими, но взгляд ее черных глаз был так жгуч, что сердце мое забилось, как в двадцать лет. Она вышла из комнаты, и тогда королева сказала:
— Беспокоюсь я за Марию Антониетту. Последнее время она что-то грустит, и я боюсь, не больна ли она той же болезнью, что и ее сестры. Те обе умерли от чахотки… Бедняжка так несчастна со своим мужем!
Королева воткнула иголку в красную шелковую подушечку, лежавшую на серебряном рукодельном столике, и, улыбнувшись, протянула мне ладанку:
— Вот, возьми. Это мой подарок тебе, Брадомин.
Я подошел, чтобы принять подарок из ее царственных рук. Вручая мне ладанку, королева сказала:
— Да сохранит она тебя на веки вечные от вражеских пуль!
Донья Хуана Пачеко и донья Мануэла, старые дамы, которые помнили еще семилетнюю войну,{81} пробормотали:
— Аминь!
Снова наступила тишина. Вдруг глаза королевы засветились радостью: в комнату вошли двое старших детей; их привела Мария Антониетта. Переступив порог, они побежали к матери, обняли ее и поцеловали.
— Ну, кто из вас лучше выучил уроки? — мягко, но вместе с тем строго спросила донья Маргарита.
Инфанта только вспыхнула и ничего не сказала. Дон Хайме,{82} как более храбрый, ответил:
— Оба одинаково.
— Выходит, оба не выучили.
И, чтобы скрыть улыбку, донья Маргарита стала их целовать. Потом, указав на меня своей тонкой белой рукой, она сказала:
— Этот кабальеро — маркиз де Брадомин.
Уткнувшись в плечо матери, инфанта прошептала:
— Тот самый, который воевал в Мексике?{83}
Королева погладила дочь по голове:
— Кто тебе сказал?
— А разве нам не рассказывала об этом Мария Антониетта?
— Как ты все помнишь!
Девочка подошла ко мне; в глазах ее были робость и любопытство:
— Маркиз, вы и в Мексике носили этот мундир?
Тогда дон Хайме, стоя возле матери, повысил голос и внушительно и громко, как старший, сказал:
— Какая ты глупая! Ничего-то ты не понимаешь в мундирах. Это же мундир папских зуавов, как у дяди Альфонса.
Принц тоже подошел ко мне и стал говорить со мной любезно, но вместе с тем запросто, как со старым знакомым:
— Маркиз, а правда, что в Мексике лошади целый день могут скакать галопом?
— Правда, ваше высочество.
— А правда, что там есть змеи, которых называют стеклянными? — в свою очередь, спросила инфанта.
— И это правда, ваше высочество.
Несколько мгновений дети о чем-то раздумывали.
— Расскажите маркизу Брадомину, что вы сейчас учите, — попросила их мать.
Услыхав эти слова, принц выпрямился и с гордым видом сказал:
— Маркиз, спрашивайте меня все, что хотите, по истории Испании.
Я улыбнулся:
— Какие у нас были короли, носившие ваше имя, ваше высочество?
— Только один. Хайме Завоеватель.{84}
— А где он царствовал?
— В Испании.
Инфанта покраснела и пролепетала:
— В Арагоне. Правда, маркиз?
— Правда, ваше высочество.
Принц с презрением посмотрел на сестру:
— А что это, по-твоему, не Испания?
Инфанта заглянула мне в глаза в надежде найти в них поддержку и робко, но внушительно ответила:
— Это не вся Испания.
Она снова покраснела. Это была прелестная девочка с глазами, полными жизни, и длинными локонами, ласкавшими ее бархатные щеки. Несколько осмелев, она принялась снова расспрашивать меня о моих путешествиях:
— Маркиз, а это правда, что вы и в Святую Землю ездили?
— Да, я и там был, ваше высочество.
— И видели гробницу господа нашего? Расскажите, как она выглядит!
И она приготовилась слушать, усевшись на табуретку, положив локти на колени и обхватив руками лицо, которое почти совсем потонуло в распущенных волосах.
Донья Мануэла Осорес и донья Хуана Пачеко, которые разговаривали вполголоса, замолчали и тоже приготовились слушать мой рассказ… И незаметно наступило время выполнить мою епитимью так, как сказал его преосвященство, — за королевским столом.
Мне выпала на долю честь присутствовать на тертулии королевы. Напрасно старался я улучить удобную минуту, чтобы поговорить с глазу на глаз с Марией Антониеттой. Уходя, я с тоскою подумал, что весь вечер она старалась уклониться от разговора со мной. Когда меня обдало холодом улицы, я вдруг увидел перед собой высокую, почти исполинскую тень. Это был брат Амвросий:
— Хорошо, видно, вас принимал король. Господину маркизу де Брадомину жаловаться не приходится!
— Король знает, что другого такого верного слуги он не найдет, — мрачно сказал я.
— Найдет, — столь же глухо, но только тоном ниже пробормотал монах.
Мы продолжали наш путь молча, пока не повернули за угол, где горел фонарь. Эсклаустрадо остановился:
— Да, но куда же мы идем? Известная вам сеньора просила передать, чтобы вы, если можно, повидали ее сегодня же вечером.
Сердце у меня забилось:
— Где?
— У нее в доме. Только войти туда надо будет потихоньку. Я вас проведу.
Мы вернулись обратно, пройдя еще раз по улице, мокрой и безлюдной. Брат Амвросий прошептал:
— Графиня только что ушла… Сегодня утром она велела мне ее дожидаться. Разумеется, она хотела передать со мной ее просьбу господину маркизу. Она боялась, что ей не удастся поговорить с вами в королевском дворце.
Монах вздохнул и замолчал. Потом он засмеялся своим странным, раскатистым, ни с чем не сообразным смехом:
— Ну, слава богу!
— Что с вами, брат Амвросий?
— Ничего, господин маркиз. Просто мне приятно, что я выполнил это поручение, столь почетное для старого воина! Ах! Как радуются все мои семнадцать ран…
Он замялся, ожидая, должно быть, что я ему что-нибудь отвечу, но, так как я молчал, продолжал с той же горькой усмешкой:
— Да, это так, нет должности лучшей, чем быть капелланом у ее светлости, графини де Вольфани. Как жаль, что она не могла лучше выполнить своих обещаний!.. Она говорит, что это не ее вина, что виноват дворец короля… Там собрались враги мятежных священников, и нельзя ни в чем им перечить. Ах, если бы это зависело от моей славной покровительницы!..
Я не дал ему окончить. Потом, помолчав немного, очень решительно сказал:
— Брат Амвросий, терпение мое истощилось, больше я ни слова не хочу слышать.
Он опустил голову:
— Господи помилуй! Хорошо, хорошо.
Мы продолжали идти молча. Время от времени на пути нашем попадался фонарь, вокруг которого плясали тени. Проходя мимо зданий, где были размещены войска, мы слышали звуки гитары и молодые сильные голоса, распевавшие хоту. Потом снова наступала тишина — ее нарушали только окрики часовых и лай собак. Мы вошли в подъезд и продолжали идти в темноте. Брат Амвросий шел впереди, указывая мне дорогу. Совсем тихо перед ним отворилась дверь. Эсклаустрадо вернулся и сделал мне знак рукой. Я последовал за ним и услыхал его голос:
— Можно зажечь свечу?
И другой голос, голос женщины, ответил из мрака:
— Да, сеньор.
Дверь снова закрылась. Я ждал, окутанный темнотой, пока монах не зажег огарок свечи, от которого запахло церковью. В просторной прихожей задрожало бледное пламя, и его неясные отблески озарили голову монаха, тоже дрожавшую. Мелькнула какая-то тень. Это была служанка Марии Антониетты. Монах передал ей свечу и увел меня в темный угол. Я скорее угадывал, нежели видел, как отчаянно дрожала его голова с выстриженной на ней тонзурой.
— Ваша светлость, я больше не могу выполнять обязанности сводника. Это недостойное дело! — И его костлявая рука впилась мне в плечо. — Господин маркиз, настало время произвести расчет. Вы должны дать мне сто унций. Если у вас их нет при себе, вы можете попросить у сеньоры графини. В конце-то концов, она ведь мне их сама предложила.
Как я ни был всем этим поражен, я совладал с собою и, подавшись назад, схватился за шпагу:
— Худой вы выбрали путь. Угрозами вы ничего от меня не добьетесь, брат Амвросий, и гордыми жестами вам меня не запугать.
Эсклаустрадо опять засмеялся своим странным, издевательским смехом:
— Не говорите так громко. Может пройти ночная стража, и нас услышат.
— Вы что, боитесь?
— Никогда я ничего не боялся. А сейчас вот, если вдруг явится кто-нибудь из свиты графини…
Догадавшись о коварном намерении монаха, я сказал глухим, сдавленным голосом:
— Это ловушка! И подлая!
— Это военная хитрость, господин маркиз. Лев попал в западню!
— Мерзкий монах, мне хочется убить тебя этой шпагой.
Эсклаустрадо растопырил свои длинные костлявые руки, открыв грудь, и его дотоле робкий голос стал громче.
— Убивайте! Труп мой молчать не будет.
— Ну хватит!
— Деньги вы мне дадите?
— Да.
— Когда?
— Завтра.
Несколько мгновений он молчал, а потом робко и вместе с тем решительно стал настаивать:
— Надо, чтобы это было сегодня.
— А разве моего слова недостаточно?
— Я верю вашему слову, — почти униженно пробормотал монах, — но надо, чтобы это было сегодня. Завтра, может быть, у меня не хватит храбрости от вас их требовать. К тому же сегодня вечером я собираюсь уехать из Эстелви. Деньги эти предназначаются не для меня, я не какой-нибудь мошенник. Они нужны мне, чтобы бежать. Я оставлю вам расписку. Я связал себя обещанием, и мне необходимо было решиться. Брат Амвросий привык держать свое слово.
— А почему же вы не попросили эти деньги у меня по-дружески? — печально спросил я.
Монах вздохнул:
— Не посмел. Не умею я просить. Совестно. Мне легче убить, чем попросить. Не потому, что я что-то дурное задумал, просто совестно…
Измученный, не в силах больше вымолвить ни слова, он замолчал и устремился на улицу, не обращая внимания на проливной дождь, который хлестал по каменным плитам мостовой. Дрожавшая от страха служанка повела меня к своей госпоже.
Мария Антониетта только что пришла и сидела у жаровни, скрестив руки; ее мокрые волосы были растрепаны. Когда я вошел, она подняла на меня глаза, печальные и подернутые лиловатою тенью:
— Почему ты так добивался прийти сюда именно сегодня?
Задетый сухостью ее тона, я остановился посреди комнаты:
— Мне неприятно тебе об этом говорить, но это проделки твоего капеллана.
— Когда я вошла, — жестко сказала она, — я увидела, что он по твоему приказанию дожидается моего прихода.
— По моему приказанию?
Я замолчал, продолжая смиренно выслушивать ее упреки, решив, что, рассказав о том, что со мной приключилось, я могу ее испугать. Устремив на меня бесстрастный взгляд, она прерывающимся голосом сказала:
— Сейчас тебе так захотелось меня видеть. А ведь за все время не написал ни одного письма! Молчишь!.. Что тебе от меня надо?
Мне захотелось ее успокоить:
— Мне надо тебя, Мария Антониетта!
В красивых, таинственных глазах графини вспыхнул огонек презрения:
— Ты хочешь скомпрометировать меня, чтобы королева отдалила меня от себя. Ты мой палач!
Я улыбнулся:
— Я твоя жертва.
Я взял ее руки, собираясь поцеловать их, но она гордо их отдернула. Мария Антониетта была больна той болезнью, которую древние называли священной,{85} и, так как у нее была душа праведницы и кровь куртизанки, то в зимнее время она подчас отказывала себе в любви. Бедняжка принадлежала к той породе замечательных женщин, которые в старости являют собой поучительный пример созерцанием своей прежней жизни и смутными воспоминаниями о совершенных когда-то грехах. Погруженная во мрак, она хранила молчание и только по временам вздыхала; глаза ее были устремлены вдаль. Я снова схватил ее руки и держал в своих, уже не целуя их, боясь, что она снова их отдернет. Я ласково умолял ее:
— Мария Антониетта!
Она молчала. Спустя несколько мгновений я опять взмолился:
— Мария Антониетта!
Она обернулась, отдернула руки и холодно бросила:
— Что тебе надо?
— Знать, что тебя печалит.
— Зачем?
— Чтобы тебя утешить.
Она утратила вдруг свое гордое спокойствие и, повернувшись ко мне, яростно, страстно вскричала:
— Вспомни свою неблагодарность! От нее-то я и страдала.
Глаза ее горели тем огнем любви, который, казалось, испепелял ее всю. Это были глубокие, подернутые тайной глаза; такие прячутся порою под монашескими токами в монастырских приемных.
Прерывающимся голосом она сказала:
— Мой муж назначен адъютантом короля.
— А где же он был все это время?
— С инфантом, доном Альфонсом.
— Неприятная история, — сказал я.
— Это больше чем неприятная история, потому что мне придется жить вместе с ним. Королева меня к этому понуждает, а что до меня, то я хотела бы больше всего вернуться в Италию… Ты молчишь?
— Единственное, что мне остается, — это исполнять твою волю.
Она посмотрела на меня, стараясь не показывать свои чувства:
— Что же, выходит, ты бы согласился делить меня с ним? Боже мой, как бы я хотела быть старой, старой старухой!
Растроганный, я поцеловал руки моей возлюбленной.
Хоть мне и не случалось никогда ревновать к мужьям, для меня все эти сомнения были источником еще большего очарования, может быть — величайшего счастья, какое только могла мне подарить Мария Антониетта. С годами человек всегда узнает, что слезы, угрызения совести и кровь помогают наслаждаться любовью тем, что изливают на эту любовь свой возбуждающий нектар. О, священное вдохновение, пробужденное в нас сладострастием, матерью божественной грусти и матерью мира! Сколько раз за эту ночь ощущал я на губах своих слезы Марии Антониетты! Мне все еще памятна та нежная жалоба, которую она шептала мне на ухо, когда веки ее вздрагивали, губы трепетали, когда вместе с теплым дыханием меня согревало каждое ее слово:
— Я не должна была любить тебя… Я должна была задушить тебя в моих объятиях, вот так, вот так…
— Умереть в такой петле — это же счастье, — вздохнул я.
Сжимая меня еще крепче, она простонала:
— Ах! Как я тебя люблю! За что я люблю тебя так? Чем ты меня опоил? Ты с ума меня сводишь! Скажи мне что-нибудь! Скажи!
— Лучше уж я буду тебя слушать.
— Но я хочу, чтобы ты что-нибудь мне сказал!
— Я скажу тебе то, что ты уже знаешь. Томлюсь я по тебе!
Мария Антониетта снова принялась меня целовать; раскрасневшись и улыбаясь, она едва слышно прошептала:
— Ночь такая длинная…
— Разлука с тобой была еще длиннее.
— Сколько раз еще ты меня обманешь!
— Не будет этого никогда!
— Подумай о том, что ты говоришь, — сказала она смеясь, краснея от волнения.
— Вот увидишь.
— Смотри, я буду очень требовательной!
Должен признаться, слова эти меня испугали. Ночи мои теперь уже не были теми победными тропическими ночами, когда я был упоен страстью к Нинье Чоле. Мария Антониетта выскользнула из моих объятий и убежала в свою уборную. Я немного подождал ее, а потом устремился вслед за ней. Заслышав мои шаги, она выскочила оттуда вся в белом и спряталась за полог кровати. Это была старинная кровать полированного ореха, классическое ложе, на котором до самой старости почивали со своими женами наваррские идальго, простодушные христиане, не помышлявшие ни о чем дурном, не искушенные в науке страсти, которой тешился лукавый, слегка сдобренный теологией талант учителя моего Аретино.
Мария Антониетта была требовательна, как догаресса,{86} но я был мудр, как старый кардинал, который изучал тайное искусство любви в исповедальнях и во дворцах эпохи Возрождения. Божественная Мария Антониетта была распалена страстью, а женщины страстные всегда поддаются обману. Господь, который знает все, знает, что страшны не они, а другие, медлительные и томные, которым не столько хочется наслаждаться самим, сколько чувствовать, что наслаждаются ими. Мария Антониетта была простосердечна и эгоистична как дитя и в исступлении своем забывала о том, что я вообще существую. В эти мгновения, когда груди ее трепетали, как белые голубки, когда глаза были подернуты поволокой, а полуоткрытые губы обнажали два ряда белоснежных зубов, она была поразительно хороша этой своей пышной, чувственной красотой, щедрая и священная, как жена из Песни песней.
Совсем обессилев, она сказала:
— Ксавьер, это последний раз!
Думая, что она говорит об эпопее нашей любви и чувствуя себя способным на новые подвиги, я только вздохнул, едва коснувшись своим поцелуем ее обнаженной груди. Она, в свою очередь, вздохнула и, скрестив руки, обхватила ими плечи, как кающаяся грешница на старинных картинах:
— Когда мы теперь увидимся, Ксавьер?
— Завтра.
— Нет! Завтра начинается моя Голгофа… — С минуту она молчала. Потом со всею страстью обвила обнаженными руками мою шею и едва слышно прошептала: — Королева хочет, чтобы я с ним помирилась, но, клянусь тебе, ни за что… Как-нибудь да отговорюсь, скажу, что больна.
Когда я расстался с Марией Антониеттой, было еще совсем темно, но горнисты уже трубили зорю. Луна озаряла заснеженный город мертвенным, скорбным светом. Не зная, где искать в этот час пристанища, я побрел куда глаза глядят и после долгих блужданий неожиданно очутился на площади, где жил брат Амвросий. Я остановился под деревянным балконом, чтобы укрыться от дождя, который пошел снова. Вскоре я заметил, что дверь не заперта. Ветер завывал протяжно и жалобно. Ночь была такая ненастная, что, долго не думая, я решил войти в дом и ощупью поднялся по лестнице. Сидевший возле конуры пес зазвенел цепью и залился лаем. Наверху появился брат Амвросий с лампой в руках. На его долговязое худое тело была накинута коротенькая сутана, а дрожавшая голова была увенчана остроконечным, как у астролога, колпаком, от которого вся его фигура выглядела презабавно. Я вошел с мрачным и решительным видом, не сказав ни слова, и монах последовал за мною, подняв лампу, чтобы осветить коридор. Из глубины дома доносились приглушенные голоса и звон монет. В комнате, за столом сидели и играли в карты несколько человек; все были в шляпах и в свисавших до полу плащах. По их бритым лицам можно было заключить, что это люди духовного звания. Банк метал юноша с орлиным носом и грустным лицом. Как раз в ту минуту, когда я вошел, он стал сдавать карты:
— Делайте ставки.
Исполненный религиозного рвения голос проговорил:
— Дама-то какая!
Другой голос таинственно, словно в исповедальне, спросил:
— На чем игра?
— Не видишь, что ли… На худиях! Семерки тоже идут.
— Пожалуйста, не мешайте, — сухо заметил метавший банк. — Так легко и сбиться. Все, как волки, на одну карту кидаются.
Беззубый старик в очках с поистине евангельским спокойствием сказал:
— Не волнуйся, Мигелучо, пусть каждый за себя играет. Дону Николасу кажется, что это худии.
— Семерки тоже идут, — упорствовал дон Николас.
Старик в очках сочувственно улыбнулся:
— Девятки, с вашего позволения. Только это ни какие не худии. Игра на фосках.{87}
Несколько голосов прошептали, словно литанию:
— Мечи, Мигелучо.
— Не слушай!
— Посмотрим, что будет.
— А ты не дурака валяешь?
— Нет, — сухо ответил Мигелучо.
Он начал метать. Все смотрели молча. Кое-кто беспокойно оглядывался, окидывая меня быстрым взглядом, и снова впивался в карты. Брат Амвросий знаком подозвал к себе семинариста, сидевшего на краю стола, и подошел ко мне.
— Господин маркиз, — сказал монах, — забудьте о том, что было сегодня ночью, ради всего святого забудьте! Чтобы решиться на это, мне надо было весь вечер пить вино. — Он еще что-то бормотал и, положив свою цепкую руку на плечо семинариста, который подошел к нам и слушал, со вздохом сказал: — Вот кто во всем виноват… Я привел его как свидетеля.
Мигелучо впился в меня своими смелыми глазами и в ту же минуту покраснел, как девушка:
— Деньги так или иначе надо найти. Вы с этим согласитесь, господин маркиз. Брат Амвросий рассказал мне, как великодушен его друг и покровитель.
Монах открыл свой черный рот и рассыпался в неуклюжих похвалах:
— Необычайно! И в этом и во всех других отношениях он первый кабальеро во всей Испании.
Некоторые из игроков с любопытством смотрели на нас, пока Мигелучо тасовал карты. Окончив, тот сказал старику в очках:
— Снимай, дон Кинтильяно.
Дон Кинтильяно снял дрожащей рукой колоду и тут же с улыбкой заметил:
— Берегись, я сдаю только фоски.
Мигелучо еще раз метнул банк и повернулся ко мне:
— Я не приглашаю вас играть, это ведь настоящее разорение.
А старик в очках все с тем же евангельским видом добавил:
— Все мы — люди бедные.
Другой назидательно сказал:
— Выиграть здесь можно разве только гроши какие, зато проиграть — целые миллионы.
Видя, что я колеблюсь, Мигелучо встал и, держа в руках колоду карт, стал приглашать меня. Все преподобные отцы потеснились и пустили меня к столу. Улыбаясь, я обернулся к эсклаустрадо:
— Брат Амвросий, сдается мне, что предназначенные на отъезд деньги здесь останутся.
— Боже сохрани! Игре конец.
И монах мгновенно погасил лампу. Уже начинало светать; послышались звуки горна, заглушавшие гулкое цоканье копыт по мостовой.
— Это уланы Бурбона, — сказал семинарист, — вчера еще я их ждал.
Несмотря на ненастье, ветер и снег, дон Карлос решил выступить в поход. Мне сказали, что давно уже ожидали кавалерию Бурбона — дело было только за нею. Триста заслуженных улан, которые впоследствии стали именоваться воинами Сида!{88} Прибывший с этим отрядом граф Вольфани был одним из адъютантов короля. Мы оба обрадовались этой встрече, ибо, разумеется, мы были большими друзьями, и поехали рядом. Звуки горна врывались в марш, ветер развевал гривы лошадей, а на улицах народ восторженно кричал:
— Да здравствует Карл Седьмой!{89}
В проемах узких окон, занавешенных темными занавесками, время от времени появлялась какая-нибудь старуха; своими высохшими руками она отворяла створку окна и неистовым голосом кричала:
— Да здравствует король истых христиан!
А мощный голос толпы отвечал:
— Ура!
Выехав на большую дорогу, мы на минуту остановились. С гор внезапно подул ветер, резкий, холодный. Ветер этот колыхал плащи, срывал с голов береты{90} и отбрасывал их назад с каким-то неистовством, трагическим и величественным. Лошади вздымались на дыбы, испуганно ржали, и нам приходилось делать усилия, чтобы удержаться в седлах. Потом весь отряд двинулся в путь. Дорога шла между холмов, вершины которых были увенчаны одинокими домиками. Так как дул сильный ветер и непрерывно шел дождь, было приказано завернуть в городок Сабальсие. Королевская штаб-квартира была на большом хуторе, на перекрестке двух дорог — колесной и конной. Сойдя с лошадей, мы сразу же собрались все на кухне, у очага, а хозяйка побежала в комнату, чтобы принести кресло, на котором сидел дед, и предложила это кресло его величеству королю дону Карлосу. Дождь громко хлопал по стеклам, и разговор свелся главным образом к жалобам на непогоду, которая помешала нам разделаться, как мы собирались, с соединением альфонсистов,{91} занявшим дорогу на Отейсу. По счастью, к концу дня буря утихла.
Дон Карлос тихо сказал мне:
— Брадомин, что нам делать, чтобы не умереть от скуки?
Я позволил себе ответить:
— Государь, женщины здесь все старые. Может быть, мы помолимся богу?
Король пристально на меня посмотрел. Глаза его улыбались:
— Вот что, прочти-ка нам сонет, который ты написал в честь моего кузена Альфонса.
Придворные рассмеялись. С минуту я смотрел на них, а потом, поклонившись королю, сказал:
— Государь, я слишком себя уважаю, чтобы позволить шутить над собой.
Дон Карлос задумался. Потом, что-то решив, подошел и обнял меня:
— Я не хотел тебя обидеть, Брадомин. Ты должен это понять.
— Я-то понимаю, государь, но боюсь, что другие не поймут.
Король взглянул на свою свиту и проникновенно сказал:
— Ты прав.
Наступила глубокая тишина, которую нарушали только порывы ветра и потрескивание огня в очаге. Тени на кухне стали сгущаться, но вместе с тем сквозь мокрые стекла окон видно было, что солнце еще не зашло. Обе дороги, и колесная и конная, исчезали среди суровых скал, и в этот час обе были одинаково безлюдны. Стоявший в амбразуре окна дон Карлос подозвал меня таинственным жестом:
— Брадомин, ты и Вольфани будете меня сопровождать. Мы поедем в Эстелью, но никто не должен об этом знать.
— Вам угодно, чтобы я предупредил об этом Вольфани, государь? — спросил я, стараясь сдержать улыбку.
— Вольфани предупрежден. Это он устраивал торжество.
Я поклонился и стал расхваливать моего друга:
— Я восхищен тем, что вы воздаете должное великим талантам графа!
Король промолчал, словно желая этим показать, что слова мои ему неприятны. Потом он открыл окно и, протянув руку, сказал:
— Дождь кончился.
На затянутом небе начала проглядывать луна. Вскоре явился Вольфани:
— Все готово, ваше величество.
— Подождем, пока стемнеет, — тихо сказал король.
Из глубины кухни, где было уже совсем темно, доносились голоса: дон Антонио Лисаррага и дон Антонио Доррегарай говорили о военном искусстве. Они вспоминали выигранные битвы и строили планы новых побед. Заведя речь о солдатах, Доррегарай расчувствовался. Он высоко ценил спокойное мужество кастильцев, храбрость каталонцев и пыл наваррцев. Вдруг чей-то властный голос прервал его:
— Наваррцы — самые лучшие солдаты на целом свете!
По другую сторону очага медленно поднимается сгорбленная фигура старого генерала Агирре. Красноватые отблески пламени колыхались на его морщинистом лице, а глаза горели из-под темных седых бровей юношеским огнем. Дрожащим голосом, волнуясь, как мальчик, он продолжал:
— Наварра — вот истинная Испания!{92} Преданность, вера и героизм там незыблемы с тех времен, когда она была великой державой.
В голосе его слышались слезы. Этот испытанный солдат был тоже человеком старого закала. Должен признаться, я восхищаюсь этими чистыми душами — они всё еще верят, что счастливая судьба народов зависит от их древней, суровой доблести. Я восхищаюсь ими и вместе с тем жалею их, потому что народы, как женщины, счастливы только тогда, когда позабывают о том, что именуется долгом. В этом проявляется эгоистический инстинкт грядущего, который лежит по ту сторону добра и зла и побеждает самое смерть. Не приходится сомневаться, что настанет день, когда в памяти живых всплывет тот тяжкий приговор, который они вынесли еще нерожденным на свет. Какой это кладезь мудрости — человек, решившийся надеть колпак с бубенцами на желтый череп, наполнявший сумеречными раздумьями души старых отшельников! Какой это кладезь мудрости — тот, кто, поправ закон всего сущего, высший закон, который един для муравьев и для небесных светил, отказывается в эту счастливую эру дать жизнь и готовится к смерти! Разве это не было бы самым забавным способом прекратить существование рода человеческого на земле, подобно апофеозу Сафо и Ганимеда.
Пока я предавался всем этим мыслям, стало совсем темно и свет луны озарил амбразуру окна. Скалы вдоль дороги выглядели грозно, а с ближайших гор в ночной тишине доносился шум низвергающихся потоков. Окно было открыто, и в комнату проникала струя свежего сыроватого воздуха, вслед за которой, словно смиряя ее, из очага поднимались горящие языки пламени. Дон Карлос сделал нам знак следовать за ним. Мы вышли и некоторое время шли пешком, пока не достигли скалистого ущелья, где нас дожидался вестовой с нашими лошадьми. Дон Карлос вскочил в седло и погнал лошадь галопом; мы последовали его примеру. Когда мы проезжали мимо часовых, во тьме послышался окрик:
— Кто идет?
— Карл Седьмой! — крикнул в ответ солдат.
— Чей отряд?
— Бурбона.
Нас пропустили. У ворот города нам пришлось снова оставить лошадей на попечение вестового и, соблюдая все предосторожности, идти пешком.
Мы остановились перед домом с решетками. Это был дом моей прелестной танцовщицы, которая стала герцогиней Уклесской. Мы тихо постучались, и дверь открыли… Нас встретил какой-то человек; светя нам большим железным фонарем, он повел нас, открывая одну дверь за другой и оставляя их потом все открытыми. Несколько раз человек этот с любопытством нас оглядывал. Я тоже стал всматриваться в него — лицо его мне показалось знакомым. У него была деревянная нога; роста он был высокого, худощавый, смуглый; глаза цыгана, лысина и профиль Цезаря. И вдруг, заметив движение, которым он приглаживал волосы на висках, я все вспомнил: Цезарь с деревянной ногой был не кто иной, как знаменитый пикадор, большой щеголь, завсегдатай классических пирушек, в которых принимали участие певцы и аристократы. Давным-давно еще ходили слухи, что он заменил меня в сердце знаменитой танцовщицы. Я никогда не делал попыток эти слухи проверить, ибо считал своим долгом странствующего рыцаря относиться с уважением к маленьким тайнам женских сердец. С великой грустью вспомнил я былые счастливые времена! У меня было такое чувство, будто я проснулся вдруг от стука этой деревянной ноги, в то время как мы проходили широкими коридорами, стены которых украшали старинные эстампы, изображавшие историю любви доньи Марины и Эрнана Кортеса.{93} Сердце мое все еще трепетно билось, когда в дверях показалась герцогиня.
— Приехала? — спросил дон Карлос.
— Сейчас прибудет, ваше величество.
Герцогиня хотела пропустить короля вперед, но он со всей галантностью этому воспротивился:
— Сначала пусть пройдут дамы.
Мы очутились в просторной зале, освещенной канделябрами на консолях; на эстраде, пол которой сверкал, стоял диван, а перед ним горела медная жаровня с ножками в виде львиных лап. Грея над жаровней руки, дон Карлос сказал:
— Только женщины умеют заставлять себя ждать… Это их великий дар!
Он замолчал, и из уважения к нему молчали и мы. Герцогиня мне улыбнулась. Увидав ее во вдовьем наряде, я вспомнил даму в черной вуали, выходившую из церкви в свите доньи Маргариты. Из коридора снова доносится стук деревянной ноги и шум голосов. Неожиданно появляются две запыхавшиеся женщины, закутанные в мокрые от дождя мантильи; они едва переводят дух. Увидев нас, одна из них, раздосадованная, хочет вернуться назад. Дон Карлос подходит к ней и что-то ей говорит, после чего они вместе уходят.
Другая, дуэнья, вошедшая совершенно бесшумно, следует за ними, но вскоре возвращается и, чуть высунув из мантильи руку, делает знак Вольфани. Тот поднимается и идет за нею. Увидев, что мы остались одни, герцогиня смеется и тихо мне говорит:
— Они от вас прячутся.
— А разве я их знаю?
— Как сказать… Не спрашивайте меня ни о чем.
Я замолчал, не испытывая ни малейшего любопытства, и хотел поцеловать изящные руки моей подруги, но она отдернула их и улыбнулась:
— Веди себя прилично. Помни, что мы оба уже старики.
— Ты такая же юная, как прежде, Кармен!
Несколько мгновений она смотрела на меня, а потом ответила жестоко и зло:
— А вот про тебя этого не скажешь.
Но ее жалостливой натуре захотелось залечить нанесенную мне рану, и, обвив мою шею своим боа из куньего меха, она подставила мне губы для поцелуя. Божественные губы! Они расточали ароматы молитв, похожих на цыганские пляски. Но она тут же отпрянула — в коридоре снова послышался стук деревянной ноги, отдававшийся эхом по всему дому.
— Чего ты боишься? — спросил я улыбаясь.
Нахмурив свои прелестные брови, герцогиня ответила:
— Ничего. Так, значит, и ты веришь этой клевете? — Сложив пальцы крестом и поцеловав их, она благоговейно и по-цыгански страстно прошептала: — Клянусь тебе!.. У меня никогда ничего не было с этим… Мы с ним из одной провинции, и я только соблюдаю обычай нашего края. Поэтому, когда бой быков сделал его калекой и он не мог заработать себе кусок хлеба, я его подобрала. Ты бы поступил так же.
— Да, так же.
Хоть сам я и не был в этом окончательно убежден, я торжественно заверил ее, что иначе и быть не могло. Словно для того, чтобы я больше не вспоминал об этом, герцогиня сказала мне с нежным упреком:
— Ты даже не спросил меня про нашу дочь!
Я сначала смутился, потому что вовсе об этом не думал. Но потом голос сердца вложил мне в уста слова оправдания:
— Я не смел.
— Почему?
— Я приехал сюда случайно, вместе с королем, и не хотел называть ее имя.
Глаза герцогини подернулись печалью:
— Ее здесь нет… Она в монастыре.
Я почувствовал вдруг любовь к этой далекой дочери, которую мне даже было трудно себе представить:
— Она похожа на тебя?
— Нет… Она некрасивая.
Опасаясь новой насмешки, я засмеялся сам:
— А она действительно моя дочь?
Герцогиня Уклесская снова принялась клясться и целовать сложенный из пальцев крест, и, может быть, тут дело было уже в моих собственных чувствах, но с этой минуты мне стало казаться, что в клятвах ее нет ничего цыганского. Уставившись на меня своими большими мавританскими глазами, она сказала с тем томным очарованием, которого полны иные цыганские песни:
— Эта девушка так же твоя дочь, как и моя, — я никогда этого не скрывала ни от кого, даже от мужа. А как он, бедный, любил ее!
Она вытерла набежавшую слезинку. Овдовела она в начале войны, когда неожиданно и неизвестно от чего умер кроткий герцог Уклесский. Бывшая танцовщица, верная традиции, как истая аристократка, ничего не жалела для Правого дела. Она одна взяла на себя расходы по вооружению и экипировке сотни кавалеристов, сотни улан, которым было присвоено имя дона Хайме. Заговорив о наследнике, она вся преисполнилась нежностью, словно это был ее сын:
— Так, значит, ты видел моего милого принца?
— Да.
— А кого из инфант?
— Донью Бланку.
— Какая она пикантная, правда? Вот будет настоящая сердцеедка!
В воздухе еще парили прелестные звуки этих пророческих слов, когда из глубины дома донесся голос короля. Герцогиня встала:
— Что случилось?
Вошел дон Карлос. Он был бледен. Мы вопросительно на него посмотрели. Он сказал:
— Вольфани стало плохо. Дамы уже ушли, и мы с ним разговаривали. Вдруг, вижу, он весь согнулся и падает на ручку кресла. Я едва успел его поддержать.
Король вышел из комнаты, а мы, повинуясь распоряжению, хоть и не высказанному вслух, последовали за ним. Вольфани сидел в кресле, перекошенный, согнутый и недвижимый; голова его бессильно повисла. Дон Карлос подошел к нему и, приподняв его своими могучими руками, усадил поудобнее:
— Ну как, Вольфани?
Видно было, что Вольфани силится что-то ответить, но не может. Из его открытого искривленного рта текла слюна. Герцогиня вытерла ему лицо, нежно и заботливо, как Вероника.{94} Вольфани посмотрел на нас тусклыми глазами умирающего. Герцогиня, с тем самообладанием, какое бывает у женщин в критические минуты, сказала:
— Не бойтесь, граф. С моим мужем, человеком довольно тучным…
Вольфани пошевелил повисшей рукой. Силясь произнести какие-то слова, он только хрипел. Решив, что он умирает, мы переглянулись. Хрип возобновился, на губах несчастного выступила пена. Из затуманенных глаз хлынули слезы и полились по желтоватым, восковым щекам. Дон Карлос говорил с ним, как с ребенком, внушительно и вместе с тем нежно:
— Сейчас тебя перенесут домой. Хочешь, чтобы Брадомин с тобой шел?
Вольфани молчал. Король отозвал нас в сторону, и мы стали тихо говорить втроем. Сначала, как подобает добрым христианам, мы потужили о горе бедной Марии Антониетты. Потом мы все трое сошлись на том, что это конец. И обсудили, как лучше перенести умирающего, чтобы избежать лишних разговоров. Герцогиня заметила, что слуг ее посвящать не следует, и после некоторых раздумий мы решили поручить все Рафаэлю и Ронденьо. Цезарь с деревянной ногой вошел в комнату, пригладил волосы и сказал пришепетывая:
— А может быть, все это от вина?
Герцогиню слова эти привели в негодование, и она приказала ему молчать. Цезарь все с той же невозмутимостью продолжал приглаживать волосы:
— Не волнуйтесь. Графа Вольфани отнесут два сержанта, те, что живут на чердаке дома. Это люди верные. Они сделают вид, что явились прямо с дороги. Хорошо?
Мы переглянулись, и король тут же ответил:
— Хорошо!
Мы вернулись туда, где оставили лошадей. Король не мог скрыть своего горя. Он то и дело сокрушенно повторял:
— Бедный Вольфани! Это был преданный друг.
Некоторое время слышно было только цоканье копыт. Луна, ясная зимняя луна освещала заснеженную пустыню Монте-Хурра. Ветер, порывистый и холодный, дул нам навстречу. Дон Карлос стал что-то говорить, но порывом ветра голос его уносило куда-то в сторону. Я с трудом разобрал слова:
— Как по-твоему, он умрет?..
Приставив кулак ко рту, я крикнул:
— Боюсь, что да, государь!
Эхо донесло до нас невнятные, бесформенные слова. Дон Карлос умолк и за всю дорогу больше ничего не сказал. Мы сошли с лошадей у самого хутора, возле груды камней, и, передав поводья сопровождавшему нас вестовому, пошли пешком. У дверей мы остановились и несколько мгновений глядели на освещенные луной черные тучи, которые гнал ветер.
— И чертова же погода! — пробормотал дон Карлос.
Он последний раз посмотрел на грозное небо, которое предвещало метель, и вошел в дом. Не успели мы переступить порог, как услыхали голоса, которые о чем-то спорили. Я успокоил короля:
— Не обращайте внимания, государь. Это кричат будущие солдаты.
Дон Карлос снисходительно улыбнулся:
— А ты знаешь, кто они такие?
— Догадываюсь, государь. Вся королевская штаб-квартира.
Мы вошли в отведенную королю комнату. На столе горела лампа, кровать была покрыта роскошным покрывалом из кротовых шкурок; между двумя плетеными креслами стояла жаровня; из-под пепла вырывались языки пламени. Усевшись в кресло, дон Карлос сказал мне с ироническою усмешкой:
— Ты знаешь, Брадомин, что сегодня вечером мне рассказывали про тебя всякие ужасы. Говорят, твоя дружба приносит несчастье. Меня умоляли тебя удалить.
— По всей вероятности, это была дама, государь, — улыбаясь, сказал я.
— Дама, которая тебя никогда не видала. Но она говорит, что бабушка ее всю жизнь проклинала тебя, как исчадие рода человеческого.
Меня разобрал смутный страх:
— А кто была эта бабушка, государь?
— Римская княгиня.
Пораженный, я замолчал. Это было самое печальное воспоминание моей жизни, и, всплыв, оно леденило мне душу. Я вышел из комнаты в смертельной тоске. Ненависть, которую старуха завещала своим внучкам, напомнила мне о первой, самой большой в моей жизни любви, которую навсегда отняла у меня безжалостная судьба. С какой грустью вспомнил я мои молодые годы, прожитые на итальянской земле, время, когда я служил в дворянской гвардии его святейшества папы. Именно в те годы, однажды ранней весной, когда в воздухе раздавался звон колоколов и слышен был запах только что распустившихся роз, прибыл я в древний епископский город и во дворец княгини, которая приняла меня, окруженная своими дочерьми, так, словно это был дворец любви. Воспоминания эти заполонили мне душу. Прошлое, тревожное и бесплодное, обрушило на меня свои горькие воды, и я тонул в них.
Мне захотелось остаться одному, я вышел в сад и долго бродил там в тишине, наедине со своей тоской, при свете луны, бывшей некогда свидетельницей моей любви и славы. Слушая, как шумят разлившиеся от дождя ручьи, я думал о своей жизни, то клокочущей, раздираемой страстями, то немой и бесплодной, как высохшее русло реки. И так как луна не рассеяла моих мрачных мыслей, я понял, что напрасно ищу забвения в тишине, и, смиренно вздохнув, вернулся в королевскую штаб-квартиру, к своим добрым друзьям.
Ах, горько в этом признаваться, но карты целительнее для скорбной души, чем свет бледной луны!
Пропел петух, горнист протрубил зорю, и, оставшись в выигрыше, я снова погрузился в глубокое раздумье. Вскоре явился адъютант сказать, что король меня ждет. Я нашел дона Карлоса за чашкою кофе. Он был уже при шпорах и сабле.
— Ну вот мы и вдвоем, Брадомин!
— Слушаю вас, государь.
Король сделал последний глоток и, отставив чашку, отозвал меня в амбразуру окна:
— Выступил еще один мятежный священник!.. Человек, как говорят, верный и храбрый, но фанатик… Это падре из Орио.
— Соперник Санта-Круса? — спросил я.
— Нет. Несчастный старик; весь в прошлом и воюет так, как воевали при моем деде. По слухам, он собирается сжечь, как еретиков, двух русских путешественников. Ясное дело, сумасшедший. Я хочу, чтобы ты повидался с ним и дал ему понять, что времена изменились. Посоветуй ему вернуться в церковь и отпустить своих пленников. Ты ведь знаешь, что я вовсе не намерен ссориться с Россией.
— А что делать, если он себе это крепко вбил в голову?
Дон Карлос величественно улыбнулся:
— Разбить ему голову.
Король отошел в сторону, чтобы принять прибывшего курьера. Я не сдвинулся с места и дожидался окончательных распоряжений. Дон Карлос оторвал на мгновение глаза от письма, которое читал, и лаконично сказал:
— Отбери людей, которых ты хочешь взять с собой.
— Слушаю, государь.
Я вышел и спустя несколько мгновений уже скакал на лошади, взяв с собою в качестве эскорта десять улан Бурбона.
Мы нигде не останавливались до самого Сан-Пелайо-де-Ариса. Там я узнал, что одна из частей альфонсистов отрезала мост через Омельин. Я спросил, можно ли перебраться на ту сторону реки. Мне ответили, что нельзя: вода настолько прибыла, что перейти реку вброд нет никакой возможности, а лодку сожгли. Приходилось возвращаться назад, ехать горной дорогой и переезжать реку по Арнаисскому мосту. Больше всего я думал о возложенном на меня поручении и без колебания выбрал эту дорогу, хоть и отлично понимал, что ехать по ней очень рискованно, что в весьма решительных выражениях подтвердил и наш проводник, старик крестьянин, три сына которого служили в войсках его величества короля дона Карлоса.
Прежде чем отправиться в путь, мы спустились к реке, чтобы дать лошадям напиться. Взглянув на противоположный берег, я почувствовал искушение переправиться на ту сторону вплавь. Я поговорил со своими людьми и, когда увидел, что одни готовы идти на риск, а другие боятся, решил положить конец всяким колебаниям и вошел на лошади в воду. Лошадь вся дрожала и прядала ушами. Она уже плыла, когда на другом берегу появилась старуха с вязанкой дров на спине и начала нам что-то кричать. В первую же минуту я подумал, что она предупреждает нас об опасности. Когда я достиг середины реки, до меня долетели ее слова:
— Дети мои, ради всего святого реку не переходите. Всю дорогу проклятые альфонсисты запрудили…
Она скинула свою вязанку с плеч, спустилась к самой воде и, воздев руки к небу наподобие некоей сельской сивиллы, вскричала сурово и исступленно:
— Господь испытывает нас, он хочет узнать, сколько веры в душе у каждого и сколь тверды мы в поступках наших! Они без конца кричат, что одержали великую победу! Абуин, Тафаль, Эндрас, Отаис — все это в их руках, дети мои!
Я оглянулся, чтобы посмотреть, как переправляются мои люди, и заметил, что они испугались и стали возвращаться назад. В ту же минуту я услыхал звуки выстрелов: несколько пуль упало в воду невдалеке от меня. Я стал поспешно перебираться на другой берег. И когда лошадь моя уже врезалась ногами в песок, я почувствовал вдруг боль в левом плече; по бессильно повисшей руке побежала горячая струя. Мои солдаты, припав к седельным лукам, мчались уже галопом по влажным прибрежным зарослям. Лошади все были в мыле, когда мы наконец добрались до деревни. Я вызвал лекаря; он перевязал мне руку, укрепив ее на четырех шинах. Нисколько не отдохнув и не приняв никаких других мер предосторожности, я отправился со своими десятью уланами по горной дороге. Проводник наш, который шел впереди, пророчил нам еще новые беды.
Раненая рука моя так нестерпимо болела, что сопровождавшие меня солдаты, видя, что глаза мои блестят от лихорадки, лицо стало восковым, а подбородок и скулы почернели, словно покрытые двухдневной щетиной, почтительно молчали. От боли у меня потемнело в глазах; поводья я бросил и, проезжая деревней, чуть-чуть не наехал на двух женщин, они шли рядом; ноги их увязали в грязи. Отскочив в сторону, они закричали, уставившись на меня испуганными глазами. Одна из них узнала меня:
— Маркиз!
Я обернулся, ко всему равнодушный от боли:
— Что вам угодно, сеньора?
— Вы что, меня не помните?
Она подошла ближе и откинула укрывавшую ее голову мантилью наваррской крестьянки. Я увидел морщинистое лицо; на меня глядели черные глаза, светившиеся энергией и добротой. Я стал припоминать:
— Это вы?..
И замолчал, не зная, что сказать.
— Сестра Симона, маркиз, — договорила она за меня. — Неужели вы меня не помните?
— Сестра Симона, — повторял я, напрягая память.
— Мы много раз с вами виделись, когда были на границе с королем! Но что с вами? Вы ранены?
Вместо ответа я показал ей совсем побелевшую руку с синеватыми и холодными ногтями. Она мгновенно ее осмотрела и порывисто вскричала:
— Маркиз, ехать вам нельзя!
— Я должен выполнять приказ короля.
— Даже если бы вам надо было выполнить сто приказов. За эту войну мне привелось видеть немало раненых, и могу вас уверить — эта рана требует неотложного вмешательства… Поэтому пусть уж король подождет.
И, взяв мою лошадь под уздцы, она отвела ее в сторону. Я снова взглянул на ее смуглое морщинистое лицо. Черные сверкающие глаза аббатисы были полны слез.
Повернувшись к солдатам, она приказала:
— Следуйте за мной.
Голос ее был властен и вместе с тем мягок. Так в прежние времена часто говорили со мною старые бабушки.
Несмотря на то, что я совсем обессилел от боли, верный своим светским привычкам, я стал пытаться сойти с лошади. Сестра Симона не дала мне это сделать:
— Поезжайте! Поезжайте!
У меня не было сил настаивать, я покорился, и мы очутились на улице с низенькими, утопавшими в садах домиками, трубы которых дымились в тишине сумерек, распространяя вокруг запах горелой хвои. Как сквозь сон, услышал я голоса игравших детей и сердитые окрики матерей. Ветки ивы, свисавшие из-за ограды, ударили меня по лицу. Пригнувшись к седлу, я осторожно проехал в их влажной тени. Остановились мы возле одной из усадеб; над дверями дома был высеченный из камня герб. В просторной прихожей пахло виноградным суслом, и запах этот гостеприимно зазывал в дом. Вокруг все поросло травою. Тишина оглашалась ударами кузнечного молота и песней сидевшей за шитьем женщины. Помогая мне сойти с лошади, сестра Симона сказала:
— Вот где мы нашли прибежище, с тех пор как республиканцы сожгли монастырь в Абарсусе… Они совсем озверели, когда генерал их погиб!
— Какой генерал? — спросил я задумчиво.
— Дон Мануэль де ла Конча!
Тут я вспомнил, что слышал, уж не помню когда и где, что известие это как будто принесла в Эстелью переодетая крестьянкой монахиня. И несмотря на то, что разразилась буря, монахиня эта, чтобы поспеть, всю ночь шла пешком, так что, когда она явилась туда, все сочли ее сумасшедшей. Это была сестра Симона. Напомнив мне все эти обстоятельства, она с улыбкой добавила:
— Ах, маркиз, я была уверена, что в ту ночь меня застрелят!
Опираясь на ее плечо, я поднялся по широкой каменной лестнице, и мы увидели помощницу сестры Симоны. Это была почти девочка с бархатными глазами, сладостными и полными любви. Она пошла вперед, постучала в дверь. Нам открыла сестра привратница:
— Deo gratias.
— Благодарение господу.
— Вот наш полевой госпиталь, — сказала сестра Симона.
В полумраке белой залы, отделанной орехом, я увидел нескольких женщин в токах, щипавших корпию и разрывавших бинты.
Сестра Симона распорядилась:
— Приготовьте койку в келье, где лежал дон Антонио Доррегарай.
Две монахини поднялись и вышли. У одной из них за поясом была большая связка ключей. Сестра Симона с помощью сопровождавшей нас девушки принялась разбинтовывать мне руку:
— Посмотрим рану. Кто это вам наложил шины?
— Лекарь из Сан-Пелайо-де-Ариса.
— Боже ты мой! Очень болит?
— Очень.
Когда с меня сняли бинты, которые стягивали руку, я почувствовал облегчение и вдруг откуда-то появившуюся силу и выпрямился:
— Наложите какую-нибудь временную повязку, чтобы я мог ехать дальше.
— Сядьте, — очень спокойно ответила сестра Симона, — и не говорите глупостей. Лучше скажите, что это за приказ короля… Если это необходимо, я доставлю его сама.
Уступив ее настоянию, я сел:
— В каком мы городе?
— В Вильяреале Наваррском.
— Сколько отсюда до Амельсу?
— Шесть лиг.
— Приказ, который я везу, адресован падре из Орио, — прошептал я, подавляя стон.
— Что это за приказ?
— Выдать мне пленных. Мне надо сегодня же повидать его.
Сестра Симона покачала головой:
— Говорю вам, это было бы безрассудством. Я все сделаю сама. Кто эти пленные?
— Два иностранца; он собрался их сжечь, как еретиков.
Монахиня рассмеялась:
— Что он вытворяет, этот блаженный!
Я тоже рассмеялся, снова подавив стон. На какое-то мгновение глаза мои встретились с глазами девочки, которые только что с тревогой и сочувствием смотрели на мою пожелтевшую руку и на лиловатый след пули. Сестра Симона тихо сказала:
— Максимина, приготовь койку сеньору маркизу. Распорядись, чтобы полотняные простыни постелили.
Та поспешно ушла. Сестра Симона продолжала:
— Я уж видела, что она вот-вот расплачется. Добра, как ангел!
Я почувствовал большую нежность к этой девушке с бархатными глазами, полными сострадания и печали. Лихорадочно что-то припоминая, я стал упрямо повторять:
— Дурнушка! Дурнушка! Дурнушка!
Я улегся с помощью солдата и старухи служанки. Вечером пришла сестра Симона и, усевшись у моего изголовья, сказала:
— Я предупредила алькальда, чтобы он разместил людей, которых вы везете с собой… Врач сейчас приедет, он кончает обход больных в зале Сантьяго.
Я кротко улыбнулся в знак того, что готов принять его. Минуту спустя в коридоре послышался дребезжащий, привыкший распоряжаться голос, говоривший что-то монахиням, которые отвечали ему певучими голосами.
— Он уже здесь, — сказала сестра Симона.
Прошло, однако, какое-то время, прежде чем врач появился в дверях, напевая сорсико.{95} Это был бодрый румяный старик с живыми, лукавыми глазами. Остановившись на пороге, он воскликнул:
— Что мне прикажете делать? Снимать берет?
— Не надо, сеньор, — едва слышно пробормотал я.
— Тогда не стану снимать. Даже если бы сама мать аббатиса приказала мне это сделать… Посмотрим, что стряслось с храбрым капралом.
— Этот капрал — маркиз де Брадомин, — сказала сестра Симона строго и церемонно, как сеньора былых времен.
Живые глаза старика внимательно на меня посмотрели:
— Много о вас слышал.
Он замолчал и поклонился, собираясь осмотреть мою руку. Начав разбинтовывать ее, он вдруг на мгновение обернулся:
— Сестра Симона, будьте так добры, посветите мне!
Монахиня поспешила к нему со свечой. Врач обнажил мне руку до самого плеча и стал нажимать на нее в разных местах, а потом удивленно поднял голову:
— Больно?
— Немножко! — тихо ответил я.
— Что же вы не кричите! Я нарочно это делаю; надо же мне знать, где вам больно.
Он снова принялся нажимать, выжидая и вопросительно на меня глядя. Нащупав пулевую рану, он стал нажимать сильней:
— Здесь больно?
— Очень.
Он надавил еще сильнее, послышался хруст костей. Лицо врача омрачилось; направившись к монахине, стоявшей недвижно со свечою в руке, он тихо сказал:
— Перелом локтевой и лучевой кости. И притом размозженный.
Сестра Симона ответила ему взглядом. Врач осторожно спустил рукав и, глядя мне в глаза, добавил:
— Я уже убедился, что вы человек храбрый.
Я печально улыбнулся, и все на мгновение замолчали. Сестра Симона поставила свечу на стол и повернулась к краю койки. В полумраке я увидел два обращенных на меня лица, сосредоточенных и серьезных. Догадавшись о причине воцарившегося молчания, я спросил:
— Придется ампутировать руку?
Врач и монахиня переглянулись. Я прочел в их глазах приговор и подумал только о том, как мне теперь надо будет вести себя с женщинами, чтобы окружить мое увечье поэтическим ореолом. Мог ли кто приобрести его при более знаменательных обстоятельствах, какие только видели века! Должен признаться, что тогда именно этой славе Божественного Солдата завидовал я больше, чем тому, что он написал «Дон Кихота».{96} Пока я предавался этим безрассудным мыслям, врач снова все развязал и в конце концов объявил, что начинается гангрена и дела плохи. Сестра Симона знаком подозвала его, и, уединившись в углу, они стали о чем-то перешептываться между собою. Потом монахиня подошла к моему изголовью:
— Наберитесь мужества, маркиз.
— Я уже набрался его, сестра Симона, — ответил я.
— Вам надо быть очень мужественным, — добавила добрая аббатиса.
Я пристально посмотрел на нее и сказал:
— Бедная сестра Симона, вы не знаете, как меня лучше подготовить.
Монахиня замолчала, и слабая надежда, которая все еще теплилась у меня, исчезла, как птичка, которая улетает в сумерках. Я почувствовал, что душа моя стала похожа на старое, заброшенное гнездо. Сестра Симона прошептала:
— Надо претерпеть страдания, которые нам посылает господь.
Она неслышно удалилась, и к изголовью моему подошел врач.
— Доктор, а вам часто приходилось ампутировать руки? — недоверчиво спросил я.
— Не раз, не раз.
Вошли две монахини; врач стал помогать им раскладывать на столе корпию и бинты. Я следил за этими приготовлениями, испытывая горькую и жестокую радость, которая превозмогала малодушное желание пожалеть себя. Меня поддерживала гордость — великое мое достоинство. Я ни разу не застонал — ни тогда, когда мне резали мягкие ткани, ни тогда, когда перепиливали кость, ни тогда, когда зашивали культю. Когда кончили бинтовать, глаза сестры Симоны заблестели от сочувствия ко мне, и она сказала:
— В жизни мне не приходилось видеть такого мужества!
А все присутствовавшие при этом священнодействии вскричали:
— Какая выдержка!
— Какое присутствие духа!
— Мы восхищены нашим генералом!
Я догадался, что все меня поздравляют, и слабым голосом прошептал:
— Спасибо, дети мои!
Врач, который в это время смывал с рук кровь, весело сказал:
— Теперь дайте ему отдохнуть…
Я закрыл глаза, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, и, не открывая их, мог заметить, что комната погрузилась в темноту. Вокруг меня слышались чьи-то тихие шаги, а там — не знаю, был то сон или обморок, но я впал в забытье.
Все вокруг было тихо; возле кровати видна была чья-то тень. Открыв глаза, я увидел слабо освещенную комнату. Тень тут же приблизилась. Бархатные глаза, сострадающие и печальные, заботливо вопрошали:
— Вам очень больно, сеньор?
То были глаза девушки, и, когда я узнал их, мне показалось, что освежающий поток утешения пролился на мою иссушенную душу. Мысль моя вспорхнула, как птица, разрывая туман полузабытья, сквозь который я видел мир в обличье тревожном, мучительном и смутном. С трудом поднял я единственную оставшуюся у меня руку и погладил ею голову, словно окруженную сиянием божественной и совсем еще детской скорби. Девушка наклонилась и поцеловала мне руку. Когда она подняла голову, в ее бархатных глазах блестели слезы.
— Не огорчайся, дитя мое, — сказал я.
Она сделала над собой усилие, чтобы успокоиться, и, растроганная, прошептала:
— Вы такой храбрый!
Я улыбнулся, немного возгордившись от этого простодушного выражения восторга:
— Эта рука мне была совсем не нужна…
Девушка посмотрела на меня; губы ее дрожали, ее большие глаза глядели на меня, как два цветочка святого Франциска, которые пахнут скромно, но благостно.{97} Мне захотелось еще раз услышать ее тихий, успокоительный голос:
— Ты не знаешь, что наши две руки даны нам в память о первобытных временах, когда человеку приходилось лазать по деревьям, единоборствовать со зверями… Но в нашей теперешней жизни достаточно и одной, дитя мое… К тому же я надеюсь, что обрубленный сук продлит мне жизнь, — теперь ведь я стал похож на старое дерево.
Девушка зарыдала:
— Не говорите так, ради всего святого! Мне очень тяжело это слышать!
В ее почти детском голосе звучало то же очарование, которое светилось во взгляде; из полумрака алькова на меня глядело ее маленькое бледное личико; под глазами видны были синие круги. Уткнув голову в подушки, я прошептал:
— Говори, дитя мое.
Простодушно, почти смеясь, словно губ ее коснулся порыв детского веселья, она ответила:
— Почему вы хотите, чтобы я говорила?
— Потому что мне от этого хорошо. Голос твой — как бальзам.
— Как бальзам!.. — повторила девушка, словно ища в моих словах какой-то скрытый смысл.
И, опустившись на плетеный стул в изголовье кровати, она молчала, медленно перебирая зерна четок. Я глядел на нее сквозь сетку ресниц, глубоко провалившись в подушки, горячие, жгучие, томившие меня лихорадочным жаром. Мало-помалу меня окутали сны, легкие, словно парившие в воздухе, смутные, как череда облаков. Как только я открыл глаза, девушка сказала:
— Только что приходила мать настоятельница. Она бранила меня: говорит, что я своей болтовней утомляю вас. Поэтому вам тоже лучше молчать.
Она улыбалась, и на ее грустном лице с синими кругами под глазами улыбка светилась, как отблеск солнца на увлажненном росою цветке. Сидя на плетеном стуле, она глядела на меня глазами, полными раздумья и грусти. Глядя на нее, я чувствовал, как душа моя проникается тихой нежностью, простодушной, как любовь старика, который хочет согреть свои последние годы, утешая горести маленькой девочки и выслушивая ее детские сказки. Чтобы еще раз услыхать звук ее голоса, я спросил:
— Как тебя зовут?
— Максимина.
— Какое хорошее имя.
Она посмотрела на меня, вся зардевшись, и ответила искренне и правдиво:
— Единственное, что у меня есть хорошего!
— У тебя еще глаза хорошие.
— Глаза, может быть… Но сама я ничего ее стою!..
— Ну!.. А мне вот кажется, что ты стоишь очень многого!
Она прервала меня, огорченная:
— Нет, господин маркиз, меня даже нельзя назвать хорошей.
Я протянул ей свою единственную руку:
— Ты — лучшая из девочек, каких я знал.
— Девочек!.. Карлиц, господин маркиз. Сколько мне, по-вашему, лет?
Она встала и скрестила руки, смеясь сама тому, что она так мала ростом. Я сказал ей ласково и насмешливо:
— Должно быть, лет двадцать!
Она весело на меня посмотрела:
— Вы смеетесь надо мной… Мне еще нет пятнадцати, господин маркиз… Я думала, вы скажете, что мне двенадцать! Ах, что я делаю, я все время вызываю вас на разговор, а ведь мать настоятельница мне это запретила.
Опечаленная, она снова села и поднесла палец к губам, глазами умоляя простить ее. Но я не унимался:
— Ты давно уже послушница?
Улыбаясь, она снова призвала меня к молчанию, Потом тихо проговорила:
— Я не послушница, я воспитанница.
И, снова усевшись на свой плетеный стул, она погрузилась в раздумье. Я замолчал, ощутив на себе все очарование этих мечтательных глаз. Глаза девочки, мечты женщины!
— Слава всевышнему! Да здравствует король!
Королевские войска прошли по улице. Послышались исступленные крики народа, вышедшего им навстречу.
Одни кричали: «Слава всевышнему!», другие: «Да здравствует король!»
Я вдруг вспомнил о приказе, который мне надлежало выполнить, и попытался приподняться, но боль в культе помешала мне это сделать. Это была тупая боль: мне казалось, что рука еще цела и что, тяжелая как свинец, она оттягивает мне плечо. Повернувшись к послушнице, я сказал ей полупечально-полушутливо:
— Сестра Максимина! Может быть, ты позовешь мать настоятельницу помочь мне?
— Матери настоятельницы нет… Может быть, я могу сама!
Я посмотрел на нее с улыбкой:
— И ты решишься ради меня подвергнуть себя такой опасности?
Девушка опустила глаза, и бледные щеки ее зарделись румянцем:
— Да.
— Бедная девочка!
Я замолчал, волнение перехватило мне голос; мне было грустно и вместе с тем сладостно. Я угадывал, что эти бархатные печальные глаза — последние, которые глядят на меня с любовью. Это было то ощущение, которое испытывает умирающий, глядя на золотисто-огненные краски заката и понимая, что видит их последний раз в жизни. Подняв на меня глаза, девушка прошептала:
— Не обращайте внимания на то, что я так мала ростом, господин маркиз.
— Ты мне кажешься очень большой, дитя мое! Мне чудится, что глаза твои сливаются с небом.
Она весело на меня посмотрела и вместе с тем с прелестной серьезностью старой бабушки повторила:
— Что он такое говорит! Что он говорит, этот сеньор!
Я замолчал, глядя на очаровательное, почти детское личико, полное грусти. Спустя несколько мгновений она спросила меня, восхитительная в своей застенчивости, заливавшей ее щеки румянцем:
— Почему вы спрашиваете, решусь ли я подвергнуть себя опасности?
Я улыбнулся:
— Я сказал тебе другое, дитя мое. Я спросил, решишься ли ты подвергнуть себя опасности ради меня.
Девушка замолчала, и я увидел, что губы ее побледнели и задрожали. Потом, не решаясь взглянуть на меня, неподвижная на своем плетеном стуле, скрестив на груди руки, она прошептала:
— И ради вас тоже. Разве вы не мой ближний?
— Бога ради, молчи, дитя мое, — сказал я со вздохом.
И, закрыв лицо рукой, я застыл в трагической позе. Так я пробыл довольно долго, ожидая, что девушка станет расспрашивать меня, но она не произнесла ни слова, и я решил первым нарушить это длительное молчание:
— Как мне больно от твоих слов. Они жестоки, как долг.
— Долг сладостен, — прошептала девушка.
— Да, когда он порожден сердцем, а не доводами рассудка.
Печальные бархатные глаза внимательно на меня смотрели:
— Я не понимаю, что вы говорите, сеньор. — И спустя несколько мгновений, поднявшись, чтобы взбить мне подушки и огорченная тем, что я нахмурился, она спросила: — А почему это опасно, господин маркиз?
Я строго на нее посмотрел:
— Это я просто так сказал, сестра Максимина.
— А для чего вы хотели видеть мать настоятельницу?
— Чтобы напомнить ей о том обещании, которое она мне дала и о котором забыла.
Глаза девушки просветлели:
— Я знаю, что это за обещание: увидеться с падре из Орио. Но кто вам сказал, что она об этом забыла? Она входила сюда, чтобы проститься с вами, только вы спали, и она не стала вас будить.
Девушка замолчала и кинулась к окну. С улицы снова доносились крики, которыми народ приветствовал королевские войска:
— Слава всевышнему! Да здравствует король!
Девушка уселась на одну из скамеек, стоявших возле единственного в этой комнате окна, узкого, с мелкими зеленоватыми стеклами.
— Почему ты так далеко от меня ушла?
— А я слышу вас и отсюда.
И она посылала мне взгляды, исполненные грусти, сидя у окна, за которым тянулась окаймленная голыми тополями дорога, а за нею, вдалеке, — убеленные снегом горы. Совсем как во времена средневековья, когда сердца людей были полны веры, с улицы доносились голоса:
— Слава всевышнему! Да здравствует король!
Я метался в жару — мысли беспорядочно набегали одна на другую. На несколько минут я засыпал и внезапно пробуждался от приступа боли где-то далеко, в кисти моей отрезанной руки. Весь остаток дня я чувствовал себя плохо. К вечеру явилась сестра Симона; она поздоровалась со мной своим низким и мужественным голосом, в котором звучало эхо древних испанских доблестей:
— Ну как дела, господин маркиз?
— Плохи, сестра Симона.
Монахиня резким движением руки отряхнула свою мокрую от дождя мантилью простой крестьянки:
— И пришлось же мне потрудиться, чтобы уговорить тупоголового падре из Орио.
— Так вы его видели? — слабым голосом спросил я.
— Да, я только что оттуда… Пять лиг пути и час его проповеди, пока я наконец не устала и не заговорила с ним по-другому… Меня так и подмывало отхлестать его по щекам, поступить как инфанта Карлотта. Прости господи! Уж и не знаю, что говорю. У этого несчастного и в мыслях не было сжигать своих пленных — он просто хотел задержать их и попытаться склонить на свою сторону. Во всяком случае, они уже здесь.
Я приподнялся на подушках:
— Сестра Симона, будьте так добры, попросите их войти!
Аббатиса подошла к двери и крикнула:
— Сестра Химена, проведите сюда этих сеньоров.
Потом, снова подойдя к моему изголовью, тихо сказала:
— Известно, что это люди высокопоставленные. Один из них — настоящий великан. Другой — совсем молодой. Лицо что у девушки; видно, там, у себя на родине, он был студентом: по-латыни он говорит лучше, чем сам падре из Орио.
Аббатиса умолкла, прислушиваясь к неторопливым, усталым шагам по коридору, которые становились все ближе, и стала ждать, не спуская глаз с дверей, где вскоре появилась старая монахиня, вся в морщинах, в накрахмаленной токе и синем переднике.
— Матушка, — сказала она, — эти кабальеро совсем окоченели и так устали после дороги, что я отвела их на кухню немножко согреться. Поглядели бы вы, как они накинулись на суп с чесноком, который я им налила. Должно быть, уже дня три они как следует не ели. Вы, матушка, и сами заметили, какие у них холеные руки; видно, это люди высокого звания.
Сестра Симона снисходительно улыбнулась:
— Да, я что-то такое заметила.
— Один сердитый, будто главный алькальд, другой красавец юноша — прямо для процессии: одеть только шелковую тунику да крылья нацепить, так вылитый архангел Рафаил.
Аббатиса слушала ее с улыбкой. Голубые прозрачные глаза старушки, окруженные морщинистыми веками, светились совсем детским простодушием. Потом аббатиса весело оказала:
— Сестра Химена, к супу с чесноком больше подойдут не ангельские крылья, а глоток доброго вина.
— И то верно, матушка. Сейчас пойду и налью им винца, чтобы поскорее согрелись.
Сестра Химена вышла, горбясь и торопливо семеня ногами. Глаза аббатисы смотрели на нее со снисходительным сочувствием:
— Бедная сестра Химена, совсем в детство впала.
Потом она села у моего изголовья и скрестила руки. Стемнело, и сквозь мокрые стекла едва можно было различить контуры гор, снежные вершины которых озаряла луна. Издалека доносились звуки горна.
— Солдаты, которые прибыли с вами, — сказала сестра Симона, — натворили тут всяких ужасов. Народ возмущается ими, да и теми молодыми парнями тоже, что вчера явились. Нотариусу Акунье они влепили сто палок за то, что он отказался открыть бочку и пригласить их распить вино. Хотели исколотить донью Росу Педрайес, за то что муж ее был другом Эспартеро,{98} а он уж лет двадцать как умер. Рассказывают, что они лошадей на верхний этаж втащили и там кормить стали, а ячмень насыпали на консоли. Просто ужас!
Снова звонко и радостно зазвучал горн; казалось, что звуки его колышутся в воздухе, как полотнища боевых знамен. Я почувствовал, как во мне пробуждается воинственный дух, деспотический, феодальный, тот благородный атавистический дух, который делал меня человеком другой эпохи, а в этой обрекал на несчастье. О, великолепный герцог Альба! Овеянный славой герцог де Сеса, де Терранова и Сантанхело! Несравненный Эрнан Кортес! Живи я в те времена, я нес бы ваши знамена. Я, как и вы, понимаю, что ужас прекрасен, я люблю царственный пурпур крови, и отданные на разграбление города, и старых жестоких солдат, и тех, кто насилует девушек, сжигает нивы — тех, кто совершает беззакония, прикрываясь законами войны. Поднявшись на подушках, я сказал монахине:
— Сеньора, мои солдаты хранят обычай кастильских улан, обычай прекрасный, как рыцарский роман и священный обряд. Так я и скажу почтенным жителям Вильяреаля Наваррского, если они явятся ко мне со своими жалобами.
В полумраке я заметил, что монахиня утирала слезы. Она взволнованно сказала:
— Господин маркиз, я тоже это говорила… Не такими словами, не умею я говорить так красноречиво, но на том же испанском языке, языке моей родины. Солдаты должны быть солдатами, а война должна быть войной!
В эту минуту другая монахиня — старуха в белой накрахмаленной токе — робко открыла дверь и появилась со свечой в руке, прося разрешения ввести пленных. Несмотря на то, что прошло немало лет, я узнал высокого мужчину: это был тот самый русский князь, который разозлил меня однажды там, в далекой стране солнца. Когда я увидал обоих пленных, мне больше чем когда-либо стало жаль, что я не могу вкусить этого упоительного греха, дара богов и соблазна поэтов. Если бы это было так, моя военная добыча была бы для меня и сладостной местью, ибо спутник великана был красивейшим из эфебов. Вспомнив о своей печальной участи, я покорно вздохнул. Эфеб заговорил со мной по-латыни, и звучавшая в его устах божественная речь напомнила мне о блаженных временах, когда других эфебов, его собратий, императоры умащали благовониями и украшали венками из роз:
— Сеньор, отец мой благодарит вас.
Слово «отец» он произнес так гордо, так звучно, как собратья его произносили имена императоров.
— Да избавит тебя господь от всех несчастий, сын мой, — сказал я растроганно.
Оба пленных поклонились. Глядя им вслед, я вспомнил о девушке с грустными бархатными глазами и горестно вздохнул, пожалев о том, что она не так хороша собою, как этот эфеб.
Всю ночь слышна была далекая стрельба; она то затихала, то возобновлялась снова. На рассвете начали приносить раненых, и мы узнали, что части альфонсистов вторглись в Сан-Форнесио. Солдаты шли перемазанные в грязи, плащи их промокли; в беспорядке спускались они по горным дорогам. Упавшие духом и перепуганные, они говорили, что их предали.
Мне разрешили подняться, и, прижавшись лбом к оконному стеклу, я смотрел на горы, окутанные серой дымкой дождя. Я чувствовал себя совсем слабым, и, когда я стоя взглянул на свою культю, то, должен признаться, мне стало очень грустно. Гордость моя не давала мне покоя, и я страдал, представляя себе, как будут радоваться иные из моих недругов, те, о которых я никогда не стану рассказывать в моих «Записках», ибо не хочу для них бессмертия. Весь день я провел в унынии и тоске, сидя на одной из скамеек у окна. Девушка с грустными бархатными глазами подолгу оставалась со мной. Я вдруг сказал ей:
— Сестра Максимина, а ты знаешь, какой ты для меня живительный бальзам?
Она улыбнулась, исполненная робости, и села на другую скамейку у окна. Я схватил ее за руку и продолжал:
— Сестра Максимина, ты владеешь тремя великими дарами: один — это твои слова, другой — твои улыбки, третий — твои бархатные глаза…
Тихим и немного грустным голосом я стал говорить с ней так, как говорят с девочкой, которую хотят развлечь волшебной сказкой. Она ответила:
— Я вам не верю, но слушать вас мне очень приятно… Вы все умеете сказать так, как никто не умеет!
И, покраснев, она умолкла. Потом стала протирать запотевшие стекла и, глядя в сад, задумалась. В саду царило уныние. Земля под деревьями заросла, как на кладбище, низкой густой травой; капли дождя стекали с голых веток, черных и сухих. По закраине колодца прыгали прелестные маленькие птички, а у глинобитной ограды блеяла овца, дергая веревку, на которой была привязана. По затянутому небу летела стая ворон.
— Сестра Максимина! — повторил я тихо.
Она медленно повернулась ко мне, как больной ребенок, которого не радуют никакие игрушки:
— Что вам угодно, господин маркиз?
В ее бархатных глазах отразилась вся грусть зимней природы.
— Сестра Максимина, — сказал я, — раны моей души открылись, и ты должна утешить меня. Какой из своих трех даров ты отдашь мне?
— Берите, какой захотите.
— Я хочу твои глаза.
И я по-отечески поцеловал ее в глаза. Она вдруг заморгала и, сделавшись серьезной, стала глядеть на свои нежные и хрупкие руки — руки юной принцессы. Я почувствовал, как душа моя наполняется глубокой нежностью, каким-то совсем новым, неизведанным наслаждением. Мне казалось, что минуты моего счастья орошены блаженнейшими слезами.
— Сестра Максимина… — прошептал я.
Не поднимая головы, она ответила голосом смутным и скорбным:
— Говорите, господин маркиз.
— Я хочу сказать, что ты скрываешь от меня свои сокровища. Почему ты не глядишь на меня? Почему ты не говоришь со мной? Почему ты не улыбаешься мне, сестра Максимина?
Она подняла глаза, печальные и томные:
— Я думала о том, что вы слишком много ходите. Вам это не повредит?
Я взял ее за обе руки и притянул к себе:
— Мне это не повредит, если ты подаришь мне одно из твоих сокровищ.
В первый раз я поцеловал ее в губы. Они были холодны. Тут я оставил прежний сентиментальный тон и со всем пылом молодости спросил вдруг:
— А ты могла бы меня полюбить?
Она вздрогнула и ничего не ответила. Я повторил свой вопрос:
— Могла бы ты полюбить меня своей детской душой?
— Да… Я люблю вас! Люблю!
И она вырвалась из моих объятий; переменившись в лице, она дрожала, словно перед ней было привидение. Она убежала, и весь этот день я ее больше не видел.
Долго сидел я на скамейке возле окна. Над вершинами гор, среди причудливо разметавшихся туч, всходила луна. В саду было темно. Весь дом погрузился в праведный сон. Я почувствовал, что к глазам моим подступают слезы. Это была любовь, осеняющая закат нашей жизни глубокой грустью. Как о величайшем счастье, мечтал я о том, чтобы слезы эти осушила девушка с печальными бархатными глазами. Молитвы, которые шепотом читали, собравшись вместе, монахини, доносились до моего слуха, словно эхо этих исполненных смирения блаженных душ, которые ухаживали за страдальцами, как за кустами роз в саду, и любили господа бога. По темному небу плыла одинокая луна, далекая и бледная, словно послушница, убежавшая из своей кельи.
Вылитая сестра Максимина!
После ночи, проведенной в борьбе с бессонницей и грехом, ничто так не очищает душу, как молитва, как месса, которую слушаешь на рассвете. Молитва в эти часы — как утренняя роса: она может охладить адское пекло. Будучи великим грешником, я познал это еще на самой заре своей жизни, и теперь вот все вдруг припомнилось.
«Во имя отца, и сына, и святого духа». Как только зазвенел колокольчик, я поднялся и встал на колени перед алтарем. Весь дрожа в своем военном плаще, я стал ждать начала мессы, которую служил капеллан. У той и другой стены с трудом можно было различить коленопреклоненные фигуры молодых людей, изможденных, кутавшихся в плащи. Головы их были перевязаны. Под сводами раскатами эха отдавался надрывный чахоточный кашель нищего и заглушал читавшуюся шепотом латинскую литургию. Когда месса окончилась, я вышел в патио; плиты блестели, мокрые от дождя. Выздоравливающие солдаты ходили взад и вперед. После перенесенной лихорадки лица их были бледны, глаза ввалились. Озаренные лучами утреннего солнца, они были похожи на привидения. Все это были крестьянские парни, измученные усталостью и стосковавшиеся по родной деревне. Только один из них был ранен на войне. Я подошел и заговорил с ним. Увидав меня, он вытянулся по-военному.
— Что с тобой, паренек? — спросил я.
— Да вот жду, что на улицу выкинут.
— Где тебя ранили?
— В голову.
— Я спрашиваю — в каком сражении?
— Да тут, близ Отаиса, стычка у нас была.
— Каких войск?
— Мы одни были, а против нас из Сьюдад-Родриго две роты.
— А кто это вы?
— Да отряд монаха. Я первый раз в бою.
— А кто этот монах?
— Да из тех, кто в Эстелье был.
— Брат Амвросий?
— Сдается, что да.
— А ты разве его не знаешь?
— Нет, сеньор. Нами командовал Мигелучо. Монах, говорят, ранен.
— А ты не из их отряда?
— Нет, сеньор. Меня и еще троих взяли в плен, когда мы через Омельин переходили.
— И они заставили вас примкнуть к ним?
— Да, сеньор. Они набирали людей.
— А как дрался отряд монаха?
— По мне, так хорошо. Семерых красноштанников сцапали.{99} За холмиком у самой дороги укрылись. Ну и подкараулили. Им и невдомек было, песни распевали…
Паренек умолк. Послышались испуганные женские крики. Они все приближались. До нас донеслись слова:
— Пресвятая дева!
— Несчастье-то какое!
— Господи Иисусе!
Крики вдруг смолкли — дом снова погрузился в блаженную тишину. Солдаты обменивались между собою мнениями и по-разному объясняли случившееся. Я прогуливался под сводами и не стал вслушиваться в их разговор. До меня долетали только отдельные фразы, смысл которых нелегко было уловить. Одни рассказывали о какой-то монахине, очень старой и не встававшей с постели, которая подожгла полог кровати, другие — о послушнице: та умерла у себя в келье, возле жаровни. Устав ходить под сводами, куда проник косой дождь, я решил вернуться к себе. В коридоре я столкнулся с сестрой Хименой.
— Скажите, сестра, кто это так плачет? Что случилось?
Монахиня на минуту призадумалась, а потом, невинно улыбаясь, ответила:
— Плачет? Ах, так вы ничего не знаете!.. Это детей кормят. Пресвятая дева! Тяжело на них, бедняжек, смотреть!
Я не стал больше расспрашивать и заперся у себя в келье. Лучи утреннего солнца, бледного зимнего солнца, дрожали на стеклах узкого окна, сквозь которое видна была дорога, окаймленная двумя рядами голых тополей; за ними тянулась гряда темных гор с белыми пятнами снега. Солдаты шли в беспорядке. Монахини, собравшиеся в саду, встречали их ласково; они промывали им раны святою водой, а потом старательно их лечили.
До слуха моего донесся глухой гул голосов — в нем были и тоска и бессильный гнев. Солдаты говорили, что их предали. Я понимал, что близок конец войны, и, глядя на эти голые вершины, с которых спускались не только орлы, но и предатели, вспомнил о словах королевы: «Брадомин, пусть не говорят об испанских кабальеро, что они отправились невесть куда за принцессой только для того, чтобы одеть ее в траур!»
— Рада вас видеть таким бодрым!
Я повернул голову и увидал сестру Симону. Я даже не узнал ее голоса, так он переменился. Глядя на меня своим властным взглядом, монахиня сказала:
— Господин маркиз, я пришла сообщить вам приятную новость.
Дабы придать больше веса своим словам, она сделала паузу и, все еще стоя в дверях и не сделав ни шагу вперед, продолжала:
— Врач разрешил вам ехать, и вы можете спокойно отправляться в путь.
Я удивленно посмотрел на монахиню, стараясь разгадать ее мысли. Но тень от токи скрывала ее лицо, и оно по-прежнему оставалось непроницаемым. Стараясь говорить тоном еще более высокомерным, чем она, я сказал, растягивая слова:
— Когда я должен уехать?
— Когда хотите.
Сестра Симона собиралась уйти, но я жестом остановил ее:
— Послушайте, сеньора!
— Что вам угодно?
— Я хочу проститься с девушкой, которая ухаживала за мной в эти печальные дни.
— Она больна.
— И ее нельзя увидеть?
— Нет, в кельи входить запрещено.
Сестра Симона уже переступила было порог, но потом вернулась и, снова войдя в комнату, закрыла за собой дверь. Прерывающимся, дрожащим от негодования голосом она сказала:
— Вы совершили величайшую подлость тем, что влюбили в себя эту девушку.
Должен признаться, что обвинение пробудило в моей душе раскаяние, сладостное и сентиментальное:
— Сестра Симона! Неужели вы думаете, что седой старик, да еще безрукий, может в себя кого-то влюбить!
Монахиня впилась в меня взглядом. Выглядывавшие из морщинистых век глаза ее метали искры гнева:
— Девушку, которая чиста, как ангел, конечно, может. Вы понимали, что внешностью своей вы уже прельщать женщин не можете, и напустили на себя притворную грусть, чтобы разжалобить ее сердце. Бедная девочка! Она мне во всем призналась.
— Бедная девочка! — повторил и я, склонив голову.
— Вы это знали! — воскликнула сестра Симона уходя.
Я был поражен; меня охватило раскаяние. Тяжелая черная туча заволокла мне душу, и я услыхал вдруг внутри себя тайный голос, без эха, без живых интонаций, голос вещий и как бы от меня не зависящий. Мне стало страшно своей греховности так, как будто уже наступил смертный час. Годы былого казались мне полными теней, словно то были цистерны со стоячей водой. Пророческий голос внутри меня неумолимо, назойливо твердил слова, которые когда-то неотступно меня преследовали. Сложив руки, монахиня со все возрастающим ужасом повторяла:
— Вы это знали!
Голос ее, прерывавшийся от страха за мою вину, взбудоражил меня. Мне стало казаться, что я умер и слышу его из могилы, как обвинительный акт жизни моей на этом свете. В таинственных, томных, бархатных глазах была заключена тайна грусти моей той поры, когда я был еще пылким юношей и поэтом. Милые глаза! Я любил их, потому что они воскрешали во мне романтические воздыхания моей юности, тревожные порывы пробуждавшейся страсти. Ведь когда страсть эта осталась неразделенной, я начал сомневаться во всем на свете; это была грусть опустошенной души, души Дон Жуана, который губит жизни, чтобы потом оплакивать свои жертвы. Слова монахини, которые она непрестанно повторяла, падали мне на сердце каплями раскаленного металла:
— Вы это знали!
Я продолжал хранить мрачное молчание. В мыслях я перебирал все свои поступки; мне хотелось, чтобы раскаяние стало для меня власяницей, чтобы я очистил им душу, но и это последнее утешение от меня ускользало. Потом мне пришло в голову, что грех мой не идет в сравнение с первородным грехом, и, проливая слезы, я сетовал на то, что отцы наши не могли во все времена сделать своих дочерей счастливыми. Монахиня, сложив руки, голосом, исполненным ужаса и сомнения, повторяла:
— Вы это знали! Вы это знали!
И вдруг, впившись в меня своими жгучими глазами фанатички, сотворила крестное знамение и излила на меня целый поток заклинаний. Тогда я — словно я действительно был дьяволом — вышел из комнаты. Я спустился в патио, где несколько солдат моего отряда разговаривали с пленными, и велел трубить сигнал седлать коней. Вскоре послышались звуки горна, громкие и задорные, как пение петуха. Десять улан моего отряда собрались на площади. Лошади били копытами перед украшенными гербом воротами. Садясь в седло, я так остро ощутил отсутствие руки, что мне стало горько. Стремясь найти утешение в бархатных глазах, я стал смотреть на окна. Но сверкавшие в лучах утреннего солнца узенькие слуховые окна по-прежнему были наглухо закрыты. Я натянул поводья и, погруженный в печальные мысли, поехал впереди, в голове отряда моих улан. Поднявшись на холм, я обернулся, чтобы последний раз проститься со старым домом, где я нашел самую прекрасную в моей жизни любовь. Одно из окон отливало на солнце всеми цветами радуги, и предчувствие несчастья, которое монахини хотели от меня скрыть, хлестнуло мне душу крылом взметнувшейся вдруг летучей мыши. Опустив поводья, я закрыл лицо рукой, чтобы солдаты не видели, что я плачу. И в то время как я ехал, погруженный в уныние, подавленный всем происшедшим, не ведая, что ждет меня впереди, во взбудораженной памяти моей настойчиво звучало все то же слово далеких лет:
— Дурнушка! Дурнушка! Дурнушка!
Это была самая печальная пора моей жизни! От тоски, от раздумий я окончательно потерял покой. Я трясся в лихорадке, стуча зубами. По временам на меня вдруг находило какое-то безнадежное отчаяние, и мысли, вздорные, ни с чем не сообразные, бредовые мысли, настигали меня, как кошмары, овладевали мной одна за другой. Когда с наступлением темноты мы вошли в Эстелью, я едва держался в седле; сходя с лошади, я чуть не упал.
Меня приютили у себя две пожилые благочестивые дамы, двоюродные сестры знаменитого дона Мигеля де Арискуна. Я очень хорошо помню этих сеньор в шерстяных платьях, их поблекшие лица, тонкие руки, тихие шаги и приглушенные голоса. Они заботливо и любовно ухаживали за мной, отогревали меня выдержанным вином и ежеминутно приоткрывали двери моей комнаты, чтобы узнать, сплю ли я и не надо ли мне чего-нибудь. Была уже ночь, когда вдруг весь дом затрясся от отчаянного стука в двери. Одна из сестер вошла, встревоженная:
— Господин маркиз, вас хотят видеть!
В дверях спальни появился мужчина высокого роста; голова его была перевязана. На плечи был накинут плащ. Словно читая молитву, он возопил:
— Приветствую вашу светлость и соболезную вашему горю!
Это был брат Амвросий, и я рад был его увидеть. Он подошел ко мне, звеня шпорами и прижав правую руку к виску, чтобы голова не так дрожала. Уходя, сеньора своим слащавым голосом предупредила его:
— Пожалуйста, не утомляйте больного, говорите потише.
Монах кивнул головой. Мы остались вдвоем; он уселся возле моей кровати и, шамкая, начал причитать:
— О господи! И надо же было! Объехать весь свет, столько всего пережить — и вдруг потерять руку. И где, в этой войне! Да разве это война! О господи! Не знаем мы, где беда нас ждет, где удача, где смерть… Ничего-то мы не знаем. Счастлив еще тот, кого смерть за смертным грехом не застанет!..
Речь монаха-воина немного отвлекла меня от боли. Я догадался, что он хочет направить меня на путь истинный, и с трудом удерживался от смеха. Увидав, как я осунулся, как изможден лихорадкой, брат Амвросий решил, что дни мои сочтены, и с готовностью охладил на время свой пыл солдата, чтобы заняться проводами на тот свет души друга, умиравшего за Правое дело. Монах этот дрался столь же яро с кликою альфонсистов, сколь и с кликою дьявола. Покрывавшая его голову, наподобие тюрбана, повязка сползла на его седые брови и обнажила края рассекшей ему лоб ножевой раны. Совсем провалившись в подушку, я попросил его голосом слабым, но веселым:
— Брат Амвросий, вы мне так и не рассказали о своих подвигах и о том, как вас ранили.
Монах встал. Вид у него был свирепый, и походил он на людоеда. И именно оттого, что он был людоедом из сказки, смотреть на него мне было забавно.
— Как меня ранили?.. Бесславно, так же, как и вас!.. Подвиги? Нет больше ни подвигов, ни войны, все стало комедией. Генералы альфонсистов удирают от нас, а мы — от них. Все только норовят побольше галунов нацепить, а на деле-то стыд да срам. Помяните мои слова: война эта кончится куплей-продажей, как и та. У альфонсистов таких генералов немало найдется. Теперь им уже третий галун подавай!
Он совсем упал духом и, замолчав, стал снова поправлять свою злополучную повязку; руки его дрожали, голова тоже. Своим ужасным голым черепом он напоминал мне огромных мавров, которые встают, истекая кровью, из-под копыт коня святого Иакова.{100}
— Брат Амвросий, поверьте, я радуюсь тому, что поборники дона Карлоса терпят поражение, — сказал я с улыбкой.
Монах удивленно на меня поглядел:
— Вы это серьезно?
— Совершенно серьезно.
Это была правда. Я всегда отдавал предпочтение низверженному монарху, а не тому, кто восходит на престол, и защищал прошлое лишь из соображений эстетического порядка. В карлистах я находил ту же величавую красоту, что и в огромных соборах, и даже в годы войны мог бы удовлетвориться тем, что их объявили бы памятниками нашей национальной старины. Могу без хвастовства сказать, что и сам король держится того же мнения, что и я.
Монах растопырил руки и закричал:
— Правое дело не может победить, слишком много изменников!
Некоторое время он простоял молчаливый и хмурый, с повязкой в руке, обнажив страшную рану, рассекавшую ему лоб.
— Ну так что же, брат Амвросий, — спросил я снова, — узнаем мы наконец или нет, при каких обстоятельствах вас ранили?
Пытаясь еще раз укрепить повязку, монах пробормотал:
— Не знаю… Не помню…
Я посмотрел на него, ничего не понимая. Монах стоял возле моей кровати, его все время дрожавшая лысая голова поблескивала из полутьмы. Остальная часть комнаты тонула во мраке. Неожиданно он разорвал повязку и, бросив ее на пол, вскричал:
— Господин маркиз, мы с вами старые знакомые! Вы отлично знаете, как я получил эту рану, и расспрашиваете только для того, чтобы терзать мне душу.
Услышав это, я приподнялся на подушках и высокомерно сказал:
— Брат Амвросий, я слишком настрадался за эти дни, чтобы заниматься еще и вашими делами.
Он нахмурил лоб и наклонил голову:
— Это верно!.. У вас своих дел хватает. Так знайте: ранил меня этот негодяй Мигелучо. Предатель, которого наши заправилы возвысили. Уж как-нибудь да я с ним рассчитаюсь… Поверьте, мне неприятно вспоминать о том, что было в ту ночь. Только теперь уж ничего не поделаешь… По счастью, господин маркиз де Брадомин отлично может сам во всем разобраться.
— И оправдать вас, брат Амвросий, — прервал его я.
Гнев его утих, и, вздохнув, он упал на стул возле изголовья кровати. Некоторое время он рылся в складках своего платья, после чего изрек:
— Я всегда это говорил!.. Первый кабальеро во всей Испании… Но получите с меня четыре золотых унции… Надеюсь, что сиятельнейший маркиз не станет проверять пробу. Это дело ростовщиков.
Он вытащил из кармана плаща деньги, завернутые в грязную бумагу из-под табака, и рассмеялся раскатистым смехом, напомнившим мне просторные монастырские трапезные.
— Брат Амвросий, отслужите за эти четыре унции мессу, — сказал я величественно.
Беззубый рот монаха разверзся в улыбке:
— По какому случаю?
— За победу Правого дела.
Монах встал со стула, собираясь уйти. Продолжая лежать на подушках, я пристально на него посмотрел и, видя, что он замешкался, молчал, едва сдерживая смех. Наконец он сказал:
— Я должен передать вам просьбу от сеньоры…
Я прервал его:
— Как только вы пришли, я все угадал.
— Знаю. Она по-прежнему вас любит, но умоляет не добиваться встречи с ней…
Я привскочил, удивленный и раздраженный. Я вспомнил о том, какую ловушку мне прошлый раз приготовил монах, и решил, что за словами его таится новый обман. С гордым презрением я сказал ему:
— Второй раз я на эту удочку не попадусь, брат Амвросий.
И я показал ему на дверь. Он хотел что-то возразить, но я больше ничего не стал говорить и повторил тот же жест. Монах ушел взбешенный, бормоча проклятия и угрозы. Весь дом огласился шумом, и в дверях появились обе сеньоры, испуганные и недоумевающие.
Я проспал всю ночь целительным и блаженным сном. Утром меня разбудил звон колоколов в соседней церкви. Вскоре обе ухаживавшие за мной дамы подошли к дверям моей спальни. Обе были уже в мантильях, с молитвенниками в руках; вокруг запястий у них были обмотаны четки. Голосом, манерами и одеждой обе сестры походили друг на друга как две капли воды.
— Как вы изволили спать, господин маркиз?
— Прекрасно.
— Вы теперь чувствуете себя бодрее?
— Я так бодр, как никогда.
— Это хорошо.
Обе дамы улыбнулись своей простодушной и елейной улыбкой, которая, казалось, находила себе продолжение в таинственных складках их мантилий, заколотых большими агатовыми булавками.
— Вы идете в церковь? — спросил я.
— Нет, мы уже пришли из церкви.
— Что говорят в Эстелье?
— А что бы вы хотели узнать?
Голоса их звучали в унисон, как в литании, и окружавший полумрак, казалось, еще усиливал их благочестивые интонации.
— Как чувствует себя граф Вольфани?
Дамы переглянулись, и мне показалось, что на их поблекших лицах заиграл румянец. Наступило молчание — и младшая сеньора вышла из комнаты, повинуясь знаку, который ей сделала сестра, привыкшая на протяжении сорока лет оберегать ее невинность. В дверях она остановилась с улыбкою на устах. Это была целомудренная улыбка старой девы, прожившей весь век без греха:
— Рада сказать вам, что ему лучше, сеньор маркиз.
И, выйдя из комнаты осторожно, размеренным шагом, она исчезла в темноте коридора. Напустив на себя равнодушный вид, я продолжал разговаривать с оставшейся в комнате сеньорой:
— Вольфани мне как брат. В тот самый день, когда мы выехали, с ним случилось это несчастье, и я так ничего о нем и не знал…
— Да!.. — вздохнула она. — Сознание к нему не вернулось. Впрочем, я больше всего беспокоюсь за графиню. Пять дней и пять ночей она провела у постели мужа, после того как его принесли домой… Говорят, что и сейчас она ухаживает за ним, как святая Изабелла!
Должен признаться, эта почти что посмертная любовь, которую выказала мужу Мария Антониетта, поразила меня и наполнила мне душу тоской. Сколько раз за последние дни, глядя на мою культю, я погружался в раздумье и приходил к мысли, что кровь моей раны и слезы ее глаз лились на нашу грешную любовь и ее искупали! Я испытывал удивительное успокоение оттого, что ее любовь женщины преобразилась в любовь францисканской монахини, возвышенную и мистическую. Дрожа от волнения, я пробормотал:
— А графу и сейчас еще не лучше?
— Лучше, но он стал как ребенок. Его одевают, сажают в кресло, и так он проводит весь день. Говорят, он никого не узнает.
Продолжая говорить, сеньора скинула с себя мантилью и, заботливо сложив ее, заколола двумя булавками с черными аграфами.
Видя, что я молчу, она решила, что ей пора уходить:
— До свидания, господин маркиз. Если вам что-нибудь понадобится, вам стоит только позвать.
Уходя, она остановилась на пороге, прислушиваясь к шуму шагов, который все приближался. Она выглянула за дверь и, увидав, кто идет, сказала:
— Оставляю вас в хорошем обществе. Вот брат Амвросий.
Удивленный, я приподнялся на подушках. Монах вошел, бормоча:
— Ноги моей не должно было быть в этом доме, после того как знаменитый маркиз так меня оскорбил… Но когда обиду нанес друг, недостойный брат Амвросий всё прощает.
Я протянул ему руку:
— Не будем говорить об этом. Я уже слышал об обращении графини Вольфани.
— Что вы на это скажете? Вы понимаете, что бедный монах не заслужил вчера вашего сиятельного гнева. Я всего только посланец, смиренный посланец.
Брат Амвросий пожал мне руку так, что кости захрустели.
— Не будем об этом говорить, — повторил я.
— Нет, поговорить мы об этом должны. Вы что, все еще будете сомневаться, что я вам друг?
Это была решительная минута, и я воспользовался ею, чтобы высвободить руку и поднести ее к сердцу:
— Никогда!
Монах весь выпрямился:
— Я виделся с графиней.
— И что же говорит наша святая?
— Она говорит, что готова увидеть вас еще раз, чтобы проститься с вами навсегда.
Вместо радости какая-то безотчетная грусть овладела моей душой, как только я узнал о решении Марии Антониетты. Может быть, меня огорчила мысль, что теперь, став одноруким, я лишусь того поэтического ореола, которым она меня окружила.
Опираясь на руку монаха, я покинул свое пристанище, чтобы отправиться во дворец короля. Сквозь свинцовые тучи пробивались бледные солнечные лучи, и пласты снега, которые лежали уже несколько дней, укрытые темными громадами стен, начали таять. Я шел молча. С мечтательной грустью вспоминал я историю моей любви и упивался предвкушением последнего свидания, которое собиралась подарить мне Мария Антониетта. Монах сказал мне, что праведница настолько щепетильна, что не хочет видеть меня у себя в доме, и что она рассчитывает встретиться со мною во дворце короля. Я же, будучи тоже человеком щепетильным, вздохнув, сказал, что если я и явлюсь туда, где она будет, то не затем, чтобы видеть ее, а лишь затем, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве.
Входя в покои дворца, я боялся, что из глаз моих хлынут слезы. Я вспоминал день, когда, целуя царственную белую руку с голубыми прожилками, я почувствовал в себе рвение паладина и возжелал посвятить всю свою жизнь королеве. Я взглянул на мою покалеченную руку и в первый раз почувствовал, что доволен и горд собою; доволен тем, что пролил кровь за эту принцессу, которая теперь, сидя среди своих придворных дам, вышивает ладанки для солдат, сражающихся за Правое дело, бледная и праведная, как принцессы старинных легенд. Когда я вошел, несколько дам встали, как принято было, когда входили высокопоставленные духовные лица.
— Я узнала о твоем несчастье, — сказала королева, — ты не можешь себе представить, сколько я молилась, чтобы господь сподобил тебя остаться в живых.
Я низко поклонился:
— Господь не сподобил меня умереть за вас.
Растроганные моими словами, дамы вытерли слезы. Я печально улыбнулся, думая, что именно так должен я теперь вести себя с женщинами, чтобы окружить мой физический недостаток ореолом поэзии. Королева сказала мне с достоинством и участием:
— Таким, как ты, руки не нужны, — достаточно того, что у них есть сердце.
— Благодарю вас, государыня.
Некоторое время все молчали; присутствовавший тут же епископ тихо прошептал:
— Господь наш привел тебя сохранить правую руку, потребную для пера и для шпаги.
Слова прелата вызвали в дамах шепот восхищения. Я обернулся, и глаза мои встретились с глазами Марии Антониетты. Они блестели от слез. Здороваясь с ней, я постарался улыбнуться. Она осталась серьезной и только пристально на меня посмотрела. Прелат подошел ко мне и заговорил назидательно и с участием.
— Пришлось, верно, немало всего выстрадать, милый маркиз?
— Да, немного пришлось, — ответил я, и его преосвященство отвел от меня свой опечаленный взор.
— Милосердный боже!
Дамы вздохнули. Одна только донья Маргарита оставалась безмолвной и невозмутимой. Ее царственное сердце подсказывало ей, что для человека гордого, как я, всякое проявление сочувствия равносильно унижению.
— Теперь, когда вам поневоле придется дать себе некоторый отдых, — продолжал прелат, — вы должны написать книгу о своей жизни.
— Записки твои будут очень интересны, Брадомин, — сказала королева и улыбнулась.
— О самом интересном он все равно ничего не расскажет, — ворчливо заметила маркиза де Тор.
Я поклонился:
— Я буду писать только о своих грехах.
Маркиза де Тор, моя тетка, снова что-то пробормотала, но слов ее я не расслышал. Прелат продолжал так, как будто говорил проповедь:
— О нашем знаменитом маркизе рассказывают замечательные истории! Всякая исповедь, когда она искренна, бывает весьма поучительна. Вспомним об «Исповеди» блаженного Августина.{101} Нередко, правда, гордость ослепляет нас, смертных, и в книгах своих мы выставляем напоказ пороки наши и наши грехи. Вспомним признания нечестивого философа из Женевы.{102} В таких случаях ясная премудрость, которой услаждает нас исповедь — этот прозрачный родник познания, — замутняется…
Дамы, которым скучно было слушать эти назидательные речи, тихо переговаривались между собою. Сидевшая несколько поодаль Мария Антониетта сделала вид, что она поглощена своим вышиванием, и не произнесла ни слова. Только мне одному слова прелата показались поучительными, но, не будучи по натуре эгоистом, я сумел принести себя в жертву дамам и смиренно прервал проповедника:
— Я хочу не поучать, а развлекать. Все мои убеждения заключаются в одной фразе: «Да здравствует вздор!» Для меня высочайшее достижение человечества в том, что люди научились улыбаться.
Послышались шутки и смешки — дамы не хотели верить, что в течение долгих веков люди были совершенно серьезны и что есть целые эпохи, от которых история не сохранила ни одной знаменитой улыбки. Я настаивал:
— В Библии мы читаем, что патриархи и пророки были всегда серьезны, что на устах их никогда не играла улыбка.
Его преосвященство подобрал свою рясу и воинственно и вместе с тем с улыбкой, тоном, каким умеют говорить богословы на семинарских контроверсиях, начал:
— Очень вероятно, пожалуй даже несомненно, что древние патриархи и пророки не говорили: «Да здравствует вздор!», как наш прославленный маркиз…
— Однако, когда надо было, они и пели, и плясали, и играли на арфе, — перебил его я.
Его преосвященство распустил рясу и воздел руки к небу:
— Господин маркиз де Брадомин, пожалуйста, не осуждайте себя за вздор. В аду вы, верно, тоже будете всегда улыбаться.
Я хотел было возразить, но королева строго на меня посмотрела, и я ничего не ответил.
Маркиза де Тор взглядом суровым и повелительным, одним из тех взглядов, которыми нередко награждали меня все мои старые благочестивые тетушки, отозвала меня в амбразуру балконной двери:
— Я не рассчитывала тебя здесь увидеть. Надеюсь, ты уже уезжаешь?
— Я охотно бы послушался тебя, — сказал я с нежностью, — но сердце мешает мне это сделать.
— Этого требую не я, а она, эта несчастная. — И глазами она показала мне на Марию Антониетту.
Я вздохнул и закрыл глаза рукою:
— И что же, это несчастное создание не захочет проститься со мной, перед тем как мы расстанемся навсегда?
Моя благородная тетушка задумалась. Несмотря на все ее морщины и суровый взгляд, она, как и все старухи, которые были молодыми девицами в тысяча восемьсот тридцатом, хранила в сердце своем нежность и доброту:
— Ксавьер, но ты же ведь не собираешься разлучать ее с мужем!.. Ксавьер, ты, как никто другой, должен оценить ее жертву!.. Она хочет остаться верной этой тени, которую только каким-то чудом удалось вырвать у смерти…
Древняя старушка произнесла эти слова вдохновенным, трагическим голосом, держа мою руку своими высохшими руками. Я ответил совсем тихо, боясь, как бы от волнения мне не перехватило горло:
— Но она же этого сама захотела!..
— Потому что ты этого потребовал, а у бедняжки не хватило духу тебе отказать. Мария Антониетта хочет навсегда остаться в твоем сердце. Она хочет отказаться от тебя, но не от твоей любви. Я столько лет уже прожила на свете, что успела узнать людей и понимаю, что это сущее безумие. Ксавьер, если ты не способен уважать ее жертву, то по крайней мере не заставляй несчастную страдать еще больше.
Маркиза де Тор утерла слезы. Я пробормотал обиженно и печально:
— Ты боишься, что я не сумею оценить ее жертву? Ты несправедлива ко мне, но, впрочем, ты в этом отношении следуешь примеру всей нашей семьи. Как горько мне, оттого что вы все так плохо обо мне думаете! Господь, который читает в сердцах…
Моя тетка и госпожа вновь заговорила со мной прежним назидательным тоном:
— Молчи!.. Ты самый удивительный из донжуанов: католик, некрасивый и сентиментальный.
Добрая женщина была так стара, что позабыла, сколь переменчиво женское сердце, позабыла, что мужчине, который лишился руки и чья голова поседела, приходится отказаться от донжуанства. Ах, я знал, что бархатные грустные глаза, которые открылись мне на рассвете как два цветочка святого Франциска, последними глядели на меня с любовью. При встречах с женщинами мне оставалось только изображать собой поверженного кумира, быть холодным и равнодушным. В первый раз почувствовав это, я с печальной улыбкой показал почтенной сеньоре пустой рукав своего мундира. Но вдруг, взбудораженный воспоминанием о девушке, оставленной мною в старом загородном доме, я решил, говоря о Марии Антониетте, поступиться немного правдой:
— Мария Антониетта — единственная из женщин, которая все еще меня любит. Ее любовь — это все, что у меня осталось на свете. Смирившись с тем, что я больше никогда ее не увижу, разочаровавшись во всем, я уже стал подумывать о том, чтобы постричься в монахи, как вдруг узнал, что она хочет проститься со мной навсегда…
— А если я попрошу тебя сейчас же уехать?
— Ты?
— От имени Марии Антониетты.
— Мне кажется, я заслужил, чтобы она мне сама об этом сказала!
— А разве она, бедняжка, не заслужила, чтобы ты уберег ее от новых страданий?
— Если бы я сегодня исполнил ее просьбу, завтра она, может быть, позвала бы меня снова. Неужели ты думаешь, что христианское милосердие, которое приковывает ее сейчас к мужу, продлится вечно?
Раньше чем старушка успела ответить, глухой, прерывающийся от слез голос произнес за моей спиной:
— Вечно, Ксавьер!
Я обернулся: передо мной стояла Мария Антониетта. Недвижная, словно окаменев, она смотрела на меня, скрестив руки на груди. Я показал ей свой обрубок, и она в ужасе закрыла глаза. Она настолько переменилась, что казалась состарившейся на много лет. Мария Антониетта была очень высокого роста, вся фигура ее была исполнена величия; в ее темных волосах появились теперь седые пряди. Губы ее казались высеченными из мрамора, а щеки были словно поблекшие цветы. То были щеки кающейся грешницы, бескровные и надменные, и казалось, они не знают ни поцелуев, ни ласки. Черные глаза ее обжигали, низкий голос звучал, будто гул расплавленного металла. У нее был странный вид — словно она слышала шорох покидающих тело душ и ночами общалась с ними. После долгого скорбного молчания Мария Антониетта снова повторила:
— Вечно, Ксавьер.
Я пристально на нее посмотрел:
— Дольше, чем моя любовь?
— Столько же, сколько твоя любовь.
Маркиза де Тор, оглядев своими близорукими глазами залу, предупредила нас спокойно и внушительно:
— Если вам надо поговорить, пойдите по крайней мере в другую комнату.
Мария Антониетта глазами дала ей понять, что она повинуется, и, не проронив ни слова, с тем же строгим видом вышла. Иные из находившихся в комнате дам начинали уже бросать в нашу сторону любопытные взгляды. Почти в ту же минуту в залу вбежали две собаки короля. Вслед за ними явился дон Карлос. Увидав меня, он подошел ко мне и, не сказав ни слова, крепко меня обнял. И только потом заговорил прежним шутливым тоном, как будто со мной ничего не случилось. Должен признаться, никакие знаки внимания с его стороны не могли меня так растрогать, как растрогало меня это утонченное, поистине королевское великодушие.
Моя тетка маркиза де Тор делает мне знак следовать за ней и ведет к себе в комнату, где меня дожидается Мария Антониетта. Она одна и плачет. Завидев меня, она встает и впивается в меня своими сверкающими, покрасневшими от слез глазами. Она дышит порывисто и резким, решительным голосом говорит:
— Ксавьер, нам надо проститься. Ты не можешь себе представить, сколько я всего выстрадала после той ночи, когда мы расстались!
Я прерываю ее слова горькой и нежной улыбкой:
— А ты помнишь, что мы поклялись друг другу в вечной любви?
Она, в свою очередь, прерывает меня:
— Ты что же, требуешь, чтобы я покинула несчастного, беспомощного человека? Ни за что! Ни за что! Ни за что! Это было бы подлостью.
— Любовь заставляет идти на подлость, но, к моему огорчению, я уже слишком стар, чтобы какая-либо женщина могла совершить ее из-за меня.
— Ксавьер, я должна принести себя в жертву.
— Бывают жертвы слишком поздние, Мария Антониетта!
— Ты жесток!
— Жесток!
— Ты хочешь сказать мне, что я должна была принести себя в жертву раньше, что я не должна была его обманывать.
— Да, может быть, так было бы лучше, но, обвиняя тебя, я вместе с тем обвиняю и себя самого. Ни один из нас двоих не умел посвятить себя другому — наука эта постигается только с годами, когда сердце покрывается коркой льда.
— Ксавьер, мы видимся с тобою в последний раз. Какую горькую память ты оставишь по себе этими словами!
— Ты думаешь, что это последний раз? По-моему, нет. Если бы я исполнил твою просьбу, ты бы снова стала призывать меня, моя бедная Мария Антониетта!
— Зачем ты мне это говоришь! А если бы я была настолько малодушна, что позвала бы тебя опять, ты бы не пришел. Нам уже невозможно любить друг друга.
— Я бы пришел всегда.
Мария Антониетта воздевает к небу глаза, которые от слез становятся еще прекраснее, и шепчет так, как шепчут молитвы:
— Господи, а что, если настанет день, когда воля моя ослабеет, когда крест этот будет для меня слишком тяжек!
Я подхожу к ней так близко, что ощущаю теплоту ее дыхания, беру ее за руки:
— День этот уже настал!
— Ни за что! Ни за что!
Она хочет высвободить руки, но ей это не удается. Я шепчу ей на ухо:
— Почему ты дрожишь? Почему колеблешься? Он уже настал.
— Уходи, Ксавьер! Оставь меня!
— Как ты терзаешь меня своими сомнениями, моя бедная Мария Антониетта!
— Уйди! Уйди! Не говори мне ничего: я не хочу ничего слушать.
Я целую ей руки:
— Как божественны терзания праведницы!
— Замолчи!
Она отдаляется от меня. В глазах ее испуг. Оба мы долго молчим. Мария Антониетта прижимает руки к голове, тяжело дышит. Потом понемногу успокаивается. Глаза ее сверкают отчаянной решимостью. Она говорит мне:
— Ксавьер, я сейчас причиню тебе боль. Я добивалась, чтобы ты любил меня как пятнадцатилетнюю девушку. Я сошла с ума! И я скрыла от тебя мое прошлое. Когда ты меня спрашивал, я все отрицала, а теперь, теперь… Ты обо всем догадываешься и не говоришь мне, что прощаешь меня, Ксавьер!
— Да, догадываюсь. У тебя были любовники?
— Да.
— А для чего ты мне это говоришь?
— Для того, чтобы ты меня презирал.
Я улыбаюсь, потому что не вижу основания быть столь суровым:
— Кто они?
— Один уже умер.
— Один, и больше никого?
— Больше никого.
— А со мной — двое. И тот любовник, разумеется, был после меня…
— Нет!
— Это утешительно. Есть мужчины, которым нравится быть первой любовью. Я всегда предпочитал быть последней. Но, может быть, так оно и будет?
— Последней и единственной, мой Ксавьер!
— Почему ты отрекаешься от прошлого? Неужели ты думаешь, что этим ты меня утешаешь? Большей кротостью с твоей стороны было бы обо всем промолчать.
Мария Антониетта еще раз воздела глаза, словно вопрошая небеса:
— Что я наделала, господи Иисусе! Ксавьер, забудь все, что я тебе говорила, прости меня… Нет, ты не должен ни забывать, ни прощать!
— Выходит, я должен быть менее великодушен, чем твой муж?
— Как жестоки твои слова!
— Как жестока жизнь, когда мы перестаем быть в ней невинными детьми!
— Как ты меня презираешь!.. Это мне за мои грехи.
— Презираю тебя? Нет. Ты была как все женщины, ни лучше, ни хуже! Прощай, моя бедная Мария Антониетта!
Мария Антониетта рыдает; она раздирает зубами кружевной платочек. Она падает на диван. Я стою перед ней. Наступает молчание, слышатся только вздохи. Мария Антониетта вытирает слезы, смотрит на меня и печально улыбается:
— Ксавьер, если все женщины такие, какими ты их считаешь, я, должно быть, все же была не такой, как они… Пожалей меня, не думай обо мне плохо!
— Я не думаю о тебе ничего плохого, просто мне грустно, оттого что я обманулся в своих надеждах. Грусть эта ложится мне на душу, как зимний снег, и душа моя покрывается саваном; она как пустынное поле.
— Тебя еще будут любить другие женщины.
— Я боюсь, что буду ненужен им, седой и однорукий.
— Что из того, что ты однорукий! Что ты седой!.. Седого я бы любила еще больше. Прощай, Ксавьер, прощай навсегда!
— Кто знает, что ждет меня в жизни? Прощай, моя бедная Мария Антониетта!
Слова эти были последними. Потом она молча протягивает мне руку, я целую ее, и мы расстаемся.
Примечания
1
Сюжет о Дон Жуане трактуется не только Тирсо де Молиной в «Севильском обольстителе» (1630), но и Мольером в его «Дон-Жуане» (1665) и аббатом Л. да Понте, автором либретто к моцартовскому «Дон-Жуану» (1787). Из недраматических произведений можно назвать сатирическую поэму Байрона («Дон-Жуан»), новеллу Гофмана («Дон-Жуан»), повесть Мериме («Души чистилища»). Подробнее см. Б. А. Кржевский. Об образе Дон-Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молины. В кн.: «Статьи о зарубежной литературе», Гослитиздат, М. — Л. 1960, стр. 208–214.
(обратно)2
Отпускаю тебе грехи твои (лат.).
(обратно)3
Благодарение господу.
(обратно)4
Рогатый, довольный (исп.).
(обратно)Комментарии
1
Рубен Дарио (1867–1916) — известный никарагуанский поэт и критик. Оказал большое влияние на современную ему испанскую и латиноамериканскую поэзию.
(обратно)2
То были счастливые времена папы-короля… — Речь идет об одном из последних римских первосвященников, обладавших не только духовной, но и — в пределах Папской области — светской властью, которой они лишились после присоединения Рима к Италии (1870), завершившего национальное объединение страны. Скорее всего имеется в виду Григорий XVI (1831–1846).
(обратно)3
Кавалер де Сентгальт — Джованни Джакомо Казанова де Сентгальт (1725–1798), венецианский авантюрист, прославившийся любовными похождениями и романтическими приключениями.
(обратно)4
Мария Медичи (1573–1642) — французская королева, вторая жена Генриха IV и мать Людовика XIII. Портрет ее, кисти Рубенса, о котором здесь идет речь, написан в 1621–1625 гг.; находится в Лувре.
(обратно)5
Мария-дель-Росарио, Мария-дель-Кармен, Мария-дель-Пилар, Мария-де-ла-Соледад, Мария-де-лас-Ньевес. — Все эти имена даны в честь девы Марии. Вторая часть каждого из пяти имен представляет собою своего рода эпитет, который указывает на конкретное художественное изображение богоматери, связанное обычно с той или иной евангельской легендой. В частности, эпитет дель-Росарио вызывает в памяти изображение богоматери с четками в руке (исп. rosario — четки); эпитет дель-Кармен происходит от названия горы Кармел в Ливане, где, по преданию, богоматерь почиталась якобы еще при жизни Иисуса Христа; кроме того, он связан с названием женского ордена кармелиток, покровительницей которого считалась дева Мария; эпитет дель-Пилар связан с легендой о чудесном явлении девы Марии апостолу Иакову, перед которым она будто бы предстала на мраморной колонне (исп. pilar — столб, колонна); эпитет де-ла-Соледад (исп. soledad — уединенность, уныние, скорбь по утраченному) — в какой-то мере сродни русскому «утоли моя печали»; имя Мария-де-лас-Ньевес напоминает о храме, воздвигнутом в честь богоматери на склоне Эсквилинского холма у ворот Рима; по легенде, однажды августовской ночью патрицию Иоанну и его жене, молившим о чуде, явилась богоматерь и повелела им выстроить храм на той стороне холма, где поутру выпадет снег (исп. nieve — снег).
(обратно)6
Андреа дель Сарто (Андреа д’Аньоли или д’Аньола, 1486–1531) — итальянский художник флорентийской школы, ученик Леонардо да Винчи.
(обратно)7
Донна Лукреция дель Феде — жена Андреа дель Сарто.
(обратно)8
Тертулия — вечернее собрание, беседа.
(обратно)9
«Золотая легенда». — Так были названы составленные ок. 1260 г. Якопо де Вораджине «Жития святых», канонизированных католической церковью.
(обратно)10
Прерафаэлиты. — Имеются в виду итальянские художники (в частности, тосканцы) эпохи раннего Возрождения (XIV–XV вв.), жившие до Рафаэля. Манере их письма присущи известная наивность и непосредственность.
(обратно)11
Королева Тюрингии. — Имеется в виду Елизавета Венгерская (1207–1231), называемая также Елизаветой Тюрингенской, жена ландграфа Тюрингии Людовика IV Святого, известная своей праведностью и благотворительностью. Была канонизирована церковью. Валье-Инклан ошибочно называет ее королевой, видимо потому, что она была дочерью короля Андрея II Венгерского.
(обратно)12
Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филиппепи, 1444–1510) — итальянский художник, родившийся и работавший во Флоренции. Говоря о девственницах Боттичелли, Валье-Инклан имеет в виду фигуры девушек на переднем плане картины «Весна». Находится в галерее Уффици во Флоренции.
(обратно)13
…фигуры Крестного пути. — В католических странах Европы, особенно в Италии и Испании, на страстной неделе, перед пасхой, устраиваются религиозные процессии, участники которых проносят аллегорические фигуры, как бы призванные напоминать верующим о последних днях жизни Христа на земле, в частности — о его крестном пути к месту распятия на Голгофе.
(обратно)14
Назареяиин и Киринеянин — то есть Иисус и человек по имени Симон, который помог Христу нести крест.
(обратно)15
…одетых, как солдаты Карла II. — Имеются в виду солдаты испанского короля Карла II (1665–1700).
(обратно)16
Хуан де ла Крус (1542–1591) — испанский теолог и поэт-мистик; основал совместно со святой Тересой орден босоногих кармелиток.
(обратно)17
…на портрете его, который написал божественный Рафаэль. — Упоминаемый здесь портрет правителя Романьи, князя и кардинала Чезаре Борджа (ок. 1476–1507) находится в галерее Боргезе в Риме.
(обратно)18
Полонио незаметно делал рукою рожки — жест, широко известный в Италии под названием «джеттатура»: растопыривают указательный и средний пальцы руки, желая этим как бы оградить себя и присутствующих от воздействия нечистой силы.
(обратно)19
Казанова — см. прим. к стр. 20.
(обратно)20
Святой Франциск — монах и мистик Франциск Ассизский (1182–1226), основатель ордена францисканцев.
(обратно)21
Святая Клара (1193–1253) — увлеченная учением Франциска Ассизского девушка, сделавшаяся монахиней, а впоследствии основательницей женского монашеского ордена.
(обратно)22
Таис — знаменитая греческая гетера, жившая в IV в. до н. э., возлюбленная Александра Македонского.
(обратно)23
Нинон. — Имеется в виду Нинон де Ланкло (1620–1705), великосветская куртизанка, одна из красивейших и умнейших женщин Франции 40—60-х гг. XVII в. Ее салон посещали самые видные представители той эпохи.
(обратно)24
Вергарская измена — презрительное наименование, которое карлисты (сторонники претендента на испанский престол инфанта дона Карлоса) дали соглашению, подписанному 31 августа 1839 г. в г. Вергаре (провинция Гипускоа) их предводителем, генералом Марото, и генералом Эспартеро, командующим правительственными войсками королевы Марии Кристины. Это соглашение, положившее конец первой гражданской войне в Испании (1833–1839), рассматривалось наиболее непримиримыми карлистами как прямая измена их движению.
Поводом к так называемым карлистским смутам, терзавшим Испанию почти непрерывно с начала 30-х по середину 70-х гг. XIX в., послужила отмена королем Фердинандом VII в 1830 г. так называемого салического закона, по которому испанский трон могли наследовать только мужчины. После этой реформы наследницей престола становилась дочь Фердинанда VII — Изабелла. Ущемленный этим в своих правах, брат короля, инфант дон Карлос (Карлос Мария Исидро де Бурбон, 1784–1855) объявил себя претендентом на престол и после смерти Фердинанда VII в 1833 г. был провозглашен своими приверженцами королем Испании под именем Карла V. Развязанная им в том же году гражданская война, положившая начало дальнейшим междоусобицам, сразу же приобрела характер острой социальной борьбы между опорой карлистов — сторонниками феодальной реакции (высшее духовенство, верхушка армии, крупные землевладельцы) и силами, заинтересованными в капиталистическом развитии Испании (средняя и мелкая буржуазия, либеральная интеллигенция, рядовое офицерство), которые встали на защиту прав Марии Кристины, вдовы Фердинанда VII, объявленной королевой-регентшей. Немалую поддержку карлисты получили и среди фанатически религиозного и консервативно настроенного, отсталого крестьянства северных провинций, в частности Басконии, которой была торжественно обещана полная автономия.
Признав себя побежденным в результате соглашения в Вергаре, инфант дон Карлос эмигрировал и отрекся от своих прав на престол в пользу старшего сына — Карлоса Луиса, графа Монтемолина.
(обратно)25
Саламбо — героиня одноименного исторического романа Гюстава Флобера (1862), дочь карфагенского военачальника Гамилькара Барка, олицетворение женственности и красоты, внушающей восторженное поклонение и рабскую преданность предводителю восставших наемников варвару Мато.
(обратно)26
Сагалехо — широкая юбка, надеваемая на тонкую накрахмаленную нижнюю юбку.
(обратно)27
Харапе — народный мексиканский танец.
(обратно)28
Атала — красавица индианка, героиня одноименной повести французского писателя Франсуа-Рене де Шатобриана (1801).
(обратно)29
Аларих — по всей вероятности, Аларих II (484–507), король германского племени вестготов, окончательно завоевавших Испанию к началу VI в.
(обратно)30
Мавр Тарик — Тарик-Ибн-Зиад, арабский военачальник, первым вторгшийся в Испанию и одержавший в 711 г. возле теперешнего города Херес-де-ла-Фронтера победу над войсками вестготского короля Родериха, знаменовавшую начало арабского владычества на Пиренейском полуострове.
(обратно)31
Авентуреро. — Это слово по-испански означает «искатель приключений». Как правило, оно применялось к жаждавшим наживы и славы наемникам, из которых состояли войска первых завоевателей Нового Света.
(обратно)32
…счастливые времена вице-королей. — Вице-королевства — территории в американских колониях Испании — были образованы в 1535–1776 гг. Они управлялись вице-королями, наместниками испанского короля. Существовали до войны за независимость испанских колоний (1810–1826).
(обратно)33
Барбе д'Оревильи Жюль (1808–1889) — французский писатель.
(обратно)34
Дуар — арабский поселок из шатров, расположенных более или менее правильными рядами.
(обратно)35
…во время восстания священника Идальго. — Мигель Идальго-и-Кастилья (1753–1811) — руководитель народного восстания 1810–1811 гг., переросшего в национально-освободительную борьбу Мексики против Испании, национальный герой мексиканского народа. 16 сентября 1810 г. в г. Долорес Идальго обратился к народу с призывом подняться на освободительную войну («Клич Долорес») и во главе революционной армии, состоявшей главным образом из крестьян-индейцев, рабочих рудников и пеонов, выступил против испанцев.
(обратно)36
Григорий Шестнадцатый — см. прим. к стр. 20.
(обратно)37
Тока — женский головной убор.
(обратно)38
Эрнан Кортес (1485–1547) — завоеватель Мексики (1519), печально известный жестокими расправами над коренным индейским населением. Был пожалован званием генерал-капитана и титулом маркиза дель Валье.
(обратно)39
Новая Испания — первоначальное название Мексики.
(обратно)40
Сарапе — род широкого шерстяного плаща, весьма распространенного среди сельского населения Мексики.
(обратно)41
Харочо — название крестьян из мексиканского штата Веракрус.
(обратно)42
Чарро — объездчик лошадей в Мексике.
(обратно)43
Пьетро Аретино (1492–1556) — итальянский писатель, автор комедий, памфлетов против пап и монахов, а также сонетов, воспевающих плотскую любовь.
(обратно)44
Герцог де Сен-Симон Луи де Рувруа (1675–1755) — французский писатель, автор мемуаров, охватывающих период с 1691 по 1723 г., где даны колоритные портреты виднейших деятелей той поры. Великолепный рассказчик, он часто бывает пристрастен.
(обратно)45
…сделать дона Карлоса Пятого императором — см. прим. к стр. 82.
(обратно)46
…перед сыном Александра VI — то есть перед Чезаре Борджа (см. прим. к стр. 55), отцом которого был папа Александр VI (1492–1503).
(обратно)47
…реплика, достойная Кальдерона. — Имеется в виду Педро Кальдерон де ла Барка (1600–1681), знаменитый испанский драматург.
(обратно)48
Платереско — архитектурный стиль, который возник в Испании в конце 20-х гг. XVI в. под влиянием искусства итальянского Возрождения. Название «платереско» (стало встречаться с XVII в.) происходит от испанского слова platero (ювелир). Стилю этому, представляющему собой сплав разнородных элементов, присуща изысканная затейливость и пышность.
(обратно)49
Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа, граф (1740–1814) — французский писатель, известный под именем маркиза де Сад, автор ряда романов, где изображается ненормальная страсть к жестокостям, мучительству, наслаждению чужими страданиями (отсюда — садизм).
(обратно)50
Роланд — один из военачальников Карла Великого, погибший в 778 г. в бою с горцами-басками, где он командовал арьергардом, герой замечательного произведения старофранцузского эпоса «Песнь о Роланде». Легенда превратила Роланда в бесстрашного паладина (рыцаря), графа, пэра Франции. В «Песни» Роланд в арьергарде войска императора Карла сражается уже не с басками, а с маврами в Ронсевальском ущелье (Пиренеи) и, потеряв всех своих соратников, умирает сам от ран, полученных в неравной схватке с врагами.
(обратно)51
Эспронседа Хосе де (1808–1842) — крупный испанский лирический поэт романтической школы. Сорилья-и-Мораль Хосе (1817–1893) — один из наиболее популярных испанских поэтов и драматургов XIX в. Герой, говоря, что он в молодости «носил, подобно Эспронседе и Сорилье… меровингскую гриву», намекает на то, что «романтические» кудри до плеч являлись своеобразным отголоском обычаев, относящихся к значительно более древним временам, в частности — к эпохе династии Меровингов, правивших франкским королевством с 448 до 751 г., когда мужчины носили длинные волосы.
(обратно)52
Донья Маргарита — жена дона Карлоса VII, считавшаяся его приверженцами королевой с 1867 по 1876 г. Ее муж — Карлос Мария-де-лос-Долорес Хуан Исидро Хосе Франсиско Кирино Мигель Габриель Рафаэль де Бурбон-и-д'Эсте (1848–1909), внук инфанта дона Карлоса, брата короля Фердинанда VII и первого вождя карлистов (см. прим. к стр. 82). Третий по счету глава карлистского движения, претендовавший на испанский трон. После смерти дяди, графа Монтемолина (1861), именовавшего себя Карлом VI и дважды безуспешно пытавшегося поднять восстание (1848, 1860), был провозглашен своими сторонниками королем под именем Карла VII. С 1872 по 1876 год вел вторую гражданскую войну против центрального правительства Испании. Будучи побежден, отказался от своих притязаний и умер в изгнании.
(обратно)53
…не такая, как та, другая… — Имеется в виду королева-регентша Испании Мария Кристина Бурбонская (1833–1840). С 1854 г. жила в изгнании во Франции. Одна из наименее популярных фигур на испанском престоле.
(обратно)54
Эстелья — город в испанской провинции Наварра, на берегах реки Эги, где разыгрались многие эпизоды первой (1833–1839) и второй (1872–1876) карлистских войн. Во время второй из них в Эстелье находилась штаб-квартира карлистов и «королевский» двор дона Карлоса Бурбона.
(обратно)55
…как у тех младших сыновей идальго, которые вербовались в сражавшиеся в Италии терции… — Терция — старинное название боевого подразделения испанской пехоты, употреблявшееся в значении «полк». В эпоху так называемых итальянских войн, продолжавшихся почти два столетия (XV и XVI вв.), в течение которых германские императоры, французские и испанские короли оспаривали друг у друга права на те или иные земли национально разрозненной в ту пору Италии, в наемные военные отряды вербовались в странах феодальной Европы обычно младшие сыновья дворян, ибо старшие, как правило, наследовали титул и родовое имение (майорат).
(обратно)56
Плащ Альмавивы. — Граф Альмавива — один из главных героев комедии Бомарше «Севильский цирюльник» (1775), молодой аристократ, носивший по моде XVIII в. короткий плащ.
Шлем Мамбрина. — Мамбрин — король мавров, широко известный персонаж многих рыцарских романов; шлем делал его неуязвимым. Шлем Мамбрина фигурирует в романе Сервантеса «Дон Кихот».
(обратно)57
…провозгласил священную войну. — Провозглашенная карлистами война почиталась ими войной за правое дело и потому священной, что было особенно важно для воздействия на умы басков, из которых в основном вербовались военные отряды дона Карлоса и среди которых было много фанатиков.
(обратно)58
Сумалакарреги Томас (1788–1835) — испанский полковник, сражавшийся в первую гражданскую войну (1833–1839) на стороне карлистов; один из их наиболее опытных военачальников, одержавший ряд побед над войсками королевы Марии Кристины. Был смертельно ранен при осаде Бильбао.
(обратно)59
…и как мне удалось перейти через границу… — Очевидно, имеется в виду административная, а в пору второй гражданской войны и фактическая граница, которая отделяла Наварру и басконские провинции Бискайю, Алаву и Гипускоа, ставшие основным очагом карлистского мятежа, от остальной территории Испании.
(обратно)60
Эсклаустрадо — от лат. ex claustro («из монастыря») — монах, которому пришлось сложить с себя сан в связи с упразднением монастыря.
(обратно)61
Наш Карл Пятый тоже вспоминал о своей империи в обители святого Юста. — Речь идет об испанском короле Карле I (1500–1558; правил с 1516 по 1556 г., с 1519 г., одновременно как император Священной Римской Империи германской нации — под именем Карла V). Объединил под своей властью в разных частях света огромные владения. Однако его реакционная идея всемирной католической монархии потерпела крах, и он вынужден был отказаться от испанской короны в пользу своего сына Филиппа (16 января 1556 г.), а от императорской короны — в пользу брата, Фердинанда (12 сентября 1556 г.). После отречения удалился в монастырь св. Юста (Эстремадура), где через два года умер.
(обратно)62
Эпаминонд (род. между 420 и 410 гг. до н. э.) — прославленный полководец, один из наиболее популярных вождей демократии в Фивах, древней столице Беотии. Победитель спартанцев при Левктрах в Мантинее; в последнем из этих сражений (362 г. до н. э.) был смертельно ранен.
(обратно)63
Корнелий Непот — римский писатель и историк I в. до н. э., оставивший после себя ряд биографий знаменитых мужей древности.
(обратно)64
Рамон Кабрера, граф де Морелья (1810–1877) — один из вождей карлистов, сражавшийся в первую карлистскую войну. Был известен храбростью и крайней жестокостью по отношению к противнику. В конце 40-х гг. эмигрировал в Англию. В 1875 г., когда вторая карлистская война была в разгаре, признал Альфонса XII, сына королевы Изабеллы II (1843–1868) и ее кузена, принца Франсиска де Асис, законным королем Испании и обратился к своим бывшим единомышленникам-карлистам с призывом прекратить военные действия.
(обратно)65
Когда грянула первая война… — Имеется в виду первая карлистская война 1833–1839 гг.
(обратно)66
…семь лет сражался в войсках короля — то есть в отрядах инфанта дона Карлоса (см. прим. к стр. 82).
(обратно)67
Мигель Гомес — испанский генерал, карлист, прославившийся в первую гражданскую войну своими смелыми партизанскими действиями на юге Испании, главным образом в Андалузии.
(обратно)68
Святой Бернард (1091–1153) — вдохновитель второго крестового похода против мусульманского Востока (1147–1149).
(обратно)69
…в одежде папского зуава. — В состав папской гвардии, существующей и поныне, на равных правах с основными ее контингентами — дворянской гвардией, швейцарской гвардией и др., в 1860 г. были включены специально созданные папские зуавы, которые комплектовались преимущественно знатными молодыми французами. Они носили форму, сходную с формой зуавов — колониальных частей тогдашней французской армии: широкие шаровары с короткими белыми гетрами, синюю, расшитую золотом куртку и особого рода феску; офицеры носили синий мундир и кепи. В 1870 г. папские зуавы были расформированы.
(обратно)70
Инфант дон Альфонсо — принц Альфонс Бурбонский (1849–1936), младший брат дона Карлоса VII; принимал участие во второй карлистской войне (1872–1876), с 1932 г. карлистский претендент на испанский престол.
(обратно)71
Санта-Крус Мануэль — приходский священник в Эрниальде (пров. Гипускоа); один из вожаков «вольных отрядов», действовавших в войну 1872–1876 гг. на стороне карлистов; не подчиняясь приказам командования мятежных сил, сильно вредил успеху их операций своим сепаратизмом. Был сторонником «беспощадной» войны и отличался крайней жестокостью.
(обратно)72
Лисаррага — Антонио Лисаррага-и-Эскирос (1817–1877) — карлистский генерал, участник обеих гражданских войн. Во второй из них, будучи генерал-губернатором Каталонии, стойко защищал крепость Сео-де-Урхель против войск генерала Мартинеса Кампоса.
(обратно)73
Доррегарай — Антонио Доррегарай-и-Ромигера (1820–1881) — один из наиболее видных представителей карлистского движения, отличившийся в войну 1872–1876 гг.
(обратно)74
Соконуско — ароматный шоколад высшего сорта. Само слово происходит от одноименного названия департамента мексиканского штата Чиапас, где приготовляется этот знаменитый напиток.
(обратно)75
Ультрамонтаны (от лат. ultra — по ту сторону и montes — горы, букв. — находящиеся по ту сторону гор, то есть за Альпами, в Риме). Термин этот возник первоначально во Франции и Германии и означает крайнее направление в католицизме, отрицающее самостоятельность национальных церквей и отстаивающее неограниченное право римского папы на вмешательство в светские дела любого католического государства. Наиболее непримиримые ультрамонтаны — иезуиты.
(обратно)76
…усилия хунт привели бы к более надежным результатам. — «Хунта» буквально означает «объединение». В данном случае имеются в виду временно созданные карлистами государственные органы, ведавшие на подвластной им территории военными, экономическими и административными вопросами.
(обратно)77
…чтобы помешать республиканским войскам… — Имеются в виду правительственные части, сражавшиеся против карлистов. В результате революции 1868 г., свергнувшей Изабеллу II (см. прим. к стр. 224), к власти пришло либеральное правительство, возглавлявшееся генералом Серрано, который был провозглашен регентом королевства. После неудачных переговоров с прусским правящим домом Гогенцоллернов и представителями других европейских дворов испанский трон был предложен итальянскому принцу Амадею Савойскому, который прибыл в Мадрид 2 января 1871 г. Однако дальнейшее углубление революции и начавшаяся в 1872 г. вторая карлистская война вынудили его отречься от престола, и в феврале 1873 г. была провозглашена республика. В дальнейшем, после ряда потрясений (неудача кантонального восстания мелкобуржуазных республиканцев и бакунистов и т. д.), лево-либеральное правительство ушло в отставку, и начался спад революции (важнейшая причина — крестьянство не получило земли и осталось в стороне), что в конечном счете создало условия для ликвидации республики и восстановления монархии (декабрь 1874 г.).
(обратно)78
Беарнец — Генрих IV (1553–1610), уроженец г. По (французская провинция Беарн); с 1572 г. — король Наварры, а с 1589 г. — Франции; родоначальник династии Бурбонов.
(обратно)79
Тирант Белый — герой одноименного рыцарского романа, написанного каталонцем Хуаном Мартореллем (1490) и переведенного на испанский в 1511 г.
(обратно)80
Пусть не говорят об испанских кабальеро, что они отправились невесть куда за принцессой только для того, чтобы одеть ее в траур! — Донья Маргарита была итальянской принцессой.
(обратно)81
…которые помнили еще семилетнюю войну. — Имеется в виду первая карлистская война, длившаяся семь лет (1833–1839).
(обратно)82
Дон Хайме — принц Хайме Хуан Карлос Альфонсо Фелипе Бурбонский (1870–1932), старший сын дона Карлоса Бурбона (см. прим. к стр. 210). На рубеже XIX и XX вв. служил офицером в русских войсках и принимал участие в китайском походе 1900 г. С 1909 г. карлистский претендент на испанский престол.
(обратно)83
Тот самый, который воевал в Мексике? — По-видимому, имеется в виду военная экспедиция, предпринятая против Мексики в 1861 г. Францией, Англией и Испанией.
(обратно)84
Хайме Завоеватель (1213–1276) — король Арагона, одного из двух основных средневековых государств (вторым была Кастилия) на территории современной Испании. Здесь, кстати, принц Хайме ошибается, утверждая, будто в истории Испании был только один король, носивший его имя: помимо Хайме (Иакова) I Завоевателя, известен король Арагона Хайме II (1291–1327).
(обратно)85
…болезнью, которую древние называли священной… — Имеется в виду эпилепсия.
(обратно)86
Догаресса — жена дожа, верховного правителя Венецианской республики, существовавшей со средних веков вплоть до 1797 г.
(обратно)87
На худиях — игра на самых высоких фигурных и самых низких очковых картах; на фосках — игра только на самых низких по достоинству картах.
(обратно)88
…стали именоваться воинами Сида! — Имеется в виду Сид Кампеадор (Родриго Руй Диас де Бивар, ок. 1030–1099), полуисторический-полулегендарный паладин, известный своими ратными подвигами, главным образом против мавров, от которых и пошло его прозвище («Сид» означает «господин»). С XIII в. имя Сида прочно входит в испанский эпос и вдохновляет поэтов на создание бесчисленных романсов, а также известных хроник и поэмы, где прославленный рыцарь является главным героем. В данном случае «воины Сида» звучит как почетный эпитет, заслуженный бесстрашием и мужеством на поле сражения.
(обратно)89
Да здравствует Карл Седьмой! — см. прим. к стр. 210.
(обратно)90
…срывал с голов береты… — Берет, национальный головной убор басков, был принят во всех карлистских воинских частях.
(обратно)91
…которая помешала нам разделаться… с соединением альфонсистов… — Альфонсистами здесь презрительно названы солдаты Альфонса XII (1874–1885, см. прим. к стр. 224), вступившего на престол вслед за ликвидацией Испанской республики, в декабре 1874 г.
(обратно)92
Наварра — вот истинная Испания!.. с тех времен, когда она была великой державой. — Наварра с IX по XV в. была могущественным королевством. Присоединена к Испании королем Фердинандом V (1452–1516).
(обратно)93
…любви доньи Марины и Эрнана Кортеса. — Марина, или Малинче, мексиканская индианка, возлюбленная Кортеса (см. прим. к стр. 120), которому она оказала немаловажные услуги благодаря своему знанию испанского языка. Умерла около 1530 г.
(обратно)94
Герцогиня вытерла ему лицо, нежно и заботливо, как Вероника. — По преданию, некая женщина по имени Вероника вытерла лицо всходившему на Голгофу Иисусу чистым полотенцем, и на холсте якобы запечатлелись черты Христа.
(обратно)95
Сорсико — народный напев, характерный для басконских провинций, а также сопровождающий его танец.
(обратно)96
…именно этой славе Божественного Солдата завидовал я больше, чем тому, что он написал «Дон Кихота». — Намек на то, что Мигель де Сервантес, будучи в молодости солдатом, потерял руку в морском сражении при Лепанто (1571).
(обратно)97
…как два цветочка святого Франциска, которые пихнут скромно, но благостно. — Намек на сборник новелл «Fioretti» («Цветочки»), в которых рассказывается о деяниях Франциска Ассизского (см. прим. к стр. 64).
(обратно)98
Эспартеро Бальдомеро (1792–1879) — испанский генерал и политический деятель. Юношей участвовал в национально-освободительной войне против Наполеона I, а затем, в 20-х годах, сражался в рядах испанских войск в Америке. В 1833 г. объявил себя сторонником Марии Кристины, одержал ряд побед над карлистами и подписал соглашение в Вергаре (см. прим. к стр. 82). В 1841 г. был назначен регентом при малолетней королеве Изабелле (см. прим. к стр. 224); в 1843 г. свергнут реакционным генералом Нарваесом. Вернул себе влияние в 1854–1856 гг., после чего окончательно отошел от политической деятельности.
(обратно)99
Семерых красноштанников сцапали. — Линейная пехота регулярной испанской армии носила в ту пору красные штаны.
(обратно)100
…он напоминал мне огромных мавров, которые встают, истекая кровью, из-под копыт коня святого Иакова. — Имеется в виду апостол Иаков-старший, покровитель Испании. Здесь Брадомину приходит на память популярное изображение Иакова на коне, попирающем копытами побежденных мавров.
(обратно)101
Вспомним об «Исповеди» блаженного Августина. — В своем богословском сочинении «Исповедь» Августин (354–430), один из наиболее почитаемых отцов католической церкви, повествует о собственных заблуждениях в пору юности и о своем обращении в лоно церкви.
(обратно)102
Вспомним признания нечестивого философа из Женевы — то есть «Исповедь» (1782–1789) Жана-Жака Руссо.
А. Энгельке
(обратно)




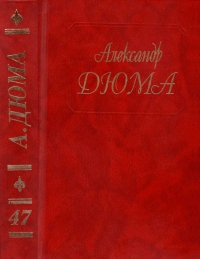
Комментарии к книге «Сонаты: Записки маркиза де Брадомина», Рамон дель Валье-Инклан
Всего 0 комментариев