ПУТЕШЕСТВИЯ В НЕКОТОРЫЕ ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ ЛЕМЮЭЛЯ ГУЛЛИВЕРА СНАЧАЛА ХИРУРГА, А ПОТОМ КАПИТАНА НЕСКОЛЬКИХ КОРАБЛЕЙ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИЛИПУТИЮ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Автор сообщает кое-какие сведения о себе и о своем семействе. Первые побуждения к путешествиям. Он терпит кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лилипутов. Его берут в плен и увозят вглубь страны.
Я уроженец Ноттингемпшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, отец послал меня в колледж Иманьюела в Кембридже. Там я пробыл три года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было не по средствам дольше содержать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джемсу Бетсу, у которого я провел четыре года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я возвратился домой, в Ноттингемпшир. При поддержке отца, дяди Джонса и других родственников мне удалось собрать сорок фунтов, и я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. Родные обещали высылать мне каждый год тридцать фунтов.
В Лейдене я в течение двух лет и семи месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях.
По возвращении из Лейдена я с помощью моего доброго учителя мистера Бетса устроился хирургом на судно «Ласточка», которым командовал капитан Эйбрегем Пеннелл. На этом судне я прослужил три с половиной года и совершил несколько путешествий в Левант и другие страны. Вернувшись на родину, я решил поселиться в Лондоне. Мистер Бетс вполне одобрил мое решение и рекомендовал меня нескольким пациентам. Я снял часть небольшого дома на Олд-Джури и, по совету друзей, женился на мисс Мери Бертон, второй дочери мистера Эдмонда Бертона, чулочника с Ньюгет-стрит, за которой взял четыреста фунтов приданого.
Спустя два года мой добрый учитель Бетс умер; мой заработок сильно сократился. Друзей у меня было мало, а совесть не позволяла мне подражать дурным приемам многих моих собратьев по профессии. Вот почему, посоветовавшись с женой и с некоторыми знакомыми, я решил снова сделаться моряком. В течение шести лет я служил судовым хирургом, переменил два корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. На этой службе я несколько поправил свои дела.
Уходя в плавание, я всегда запасался большим количеством книг и все свободное время посвящал чтению лучших писателей, древних и новых, а высаживаясь на берег, наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык. Благодаря хорошей памяти это давалось мне очень легко.
Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома с женой и детьми. Я переехал с Олд-Джури на Фегтер-Лейн, а оттуда в Уоппинг, рассчитывая получить практику среди моряков, но мои расчеты не оправдались. После трех лет бесплодных ожиданий я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море[1].
Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вандименовой Земли*[2]. Мы находились на 30°2′ южной широты. Двенадцать человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи, остальные были очень изнурены. 5 ноября (начало лета в тех местах) сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед; стоял густой туман. Внезапно на расстоянии какого-нибудь полукабельтова[3] от корабля показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу; предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился.
Шестерым из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около трех миль[4]. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через полчаса налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что сталось с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, что все они погибли.
Сам я, очутившись в воде, поплыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю.
К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже, должно быть, около восьми часов вечера. Я прошел вглубь страны на полмили, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости, жары и полупинты[5] водки, которую я выпил, покидая корабль, меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни.
По моему расчету, сон мой продолжался не менее девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги — а я лежал на спине — были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные и густые волосы. Вместе с тем я чувствовал, что все мое тело от подмышек до бедер перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба.
Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня на левой ноге, осторожно пробралось мне на грудь. и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собой человека ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще по крайней мере около сорока подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Геки на дегуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат.
Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня.
Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на два дюйма вправо. Но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них.
Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Тольго фонак!» В то же мгновенье я почувствовал, как больше сотни стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух, как у нас в Европе стреляют бомбами. Полагаю, что на мое тело (хотя я этого не почувствовал) обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали третий залп, еще более сильный, чем первый; некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить.
Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня.
Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах[6] в четырех от себя увидел помост высотой примерно в полтора фута. На этом помосте могло поместиться три-четыре туземца. Один из них, повидимому знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из трех человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял.
Следует упомянуть, что, прежде чем начать говорить, этот вельможа трижды крикнул: «Ленгро дегиль сан!» Услышав эти слова, человек пятьдесят туземцев тотчас приблизились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего.
На вид ему было лет сорок; ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них — чуть побольше моего среднего пальца, повидимому паж, — держал его шлейф, а двое других стояли по сторонам. Он говорил, как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом и в заключение поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода (в последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения), поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть.
Гурго (так они называют вельмож, как я узнал впоследствии) отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам несколько лестниц. Более сотни туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту.
Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по две-три штуки сразу и заедал тремя караваями хлеба, каждый величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и тысячью знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту.
Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше полупинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне вторую бочку, которую я осушил таким же образом, и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось.
Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание: «Гекина дегуль!» Они знаками предложили мне сбросить обе бочки на землю, но сначала громкими криками «Борач мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик: «Гекина дегуль!»
Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать — они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей, — и слово чести, которое я им дал — ибо я так толковал выказанную мной покорность, — скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение.
Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна.
Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа — посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты[7] с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут десять без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что его величество вместе с государственным советом постановили перевезти меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда.
В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. Повидимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо.
Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставила меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной, как им угодно. После этого гурго и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев.
Вскоре послышались восторженные крики, среди них часто повторялись слова: «Пеплом седан». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мои лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около восьми часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочки с вином сонного зелья.
Повидимому, дело обстояло так: едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали (это было исполнено ночью, пока я спал). Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу.
На первый взгляд такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом.
Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как и великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады.
Люди эти — превосходные математики и благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли — до девяти футов длины — в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю.
Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и четырех часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на три дюйма над землей, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу.
Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили восемьдесят столбов, каждый вышиной в один фут, потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками; к этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. Девятьсот самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в три часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней.
Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают.
Понадобилось полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в четыре с половиной дюйма, чтобы довезти меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на полмили.
Мы были в дороге часа четыре, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, два или три молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через три недели я узнал причину моего внезапного пробуждения.
Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около пятисот гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться.
С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню были в двухстах ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу, но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня.
Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня.
Выходившие на север двери этого здания имели около четырех футов в вышину и около двух футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего шести дюймов от земли, было два окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили девяносто одну цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге тридцатью шестью висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее пяти футов. Император в сопровождении первых сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. C этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше ста тысяч горожан. Думаю, что не менее десяти тысяч из них взбирались на меня. Но вскоре был издан приказ, запрещавший это под страхом смертной казни.
Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни.
Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиной около двух ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Император Лилипутии в сопровождении многочисленных вельмож посещает автора. Описание наружности и одежды императора. Ученым поручают обучить автора языку лилипутов. Своим кротким поведением он завоевывает благосклонность императора. В карманах автора производят обыск. У него отбирают саблю и пистолеты.
Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом; огороженные поля, из которых каждое занимало не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в полстанга; самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации.
Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы; должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В двадцати тележках находились кушанья, в десяти — напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в два или три глотка, а что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее; так же я поступил и с остальным вином.
Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору.
Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных; одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны; губы слегка вывернутые, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная*. Император не первой молодости — ему двадцать восемь лет и девять месяцев*; и он благополучно царствует уже семь лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании.
Одежда императора очень скромная и простая; покрой ее — нечто среднее между азиатским и европейским; на голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены брильянтами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать.
Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали словно разостланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром*.
Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам (так я заключил по их костюму) из своей свиты вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы: по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски, но все эти попытки не привели ни к чему.
Спустя два часа двор удалился, и я остался под сильным караулом — для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протискаться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз.
Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить шестерых зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, пятерых положил в карман камзола, а шестого взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю; он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел очень выгодное для меня впечатление при дворе.
С наступлением ночи я не без труда забрался в свой дом и лег на голой земле. Так я проводил ночи около двух недель, пока по специальному приказанию императора для меня изготовляли матрац и другие постельные принадлежности. Привезли шестьсот матрацев обыкновенной величины, и в моем доме началась работа. Сто пятьдесят штук были сшиты вместе, и таким образом получился один матрац, подходящий для меня в длину и ширину; четыре таких матраца положили один на другой; но твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяла и покрывала. Для человека, давно привыкшего к лишениям, и это было хорошо.
Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения его величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой; им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстояние меньше пятидесяти ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов.
Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи; с другой — возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или же умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве.
В самый разгар совещания у дверей большого зала совета появилось несколько офицеров; двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на его величество и весь государственный совет. Император немедленно издал приказ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах девятисот ярдов от столицы, доставлять каждое утро шесть быков, сорок баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны его величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным.
Кроме того, при мне учредили штат прислуги в шестьсот человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан приказ, чтобы триста портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы шестеро самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне.
Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя три недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие государственного совета и что прежде всего я должен «люмоз кельмин пессо деемарлон Эмпозо», то-есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, добавил он, мое освобождение есть только вопрос времени, и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных.
Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил его величество не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками.
«Разумеется, — сказал он, — я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите».
Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме двух часовых и одного потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали: в одном — серебряные часы, а в другом — кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями и чернилами и составили подробную опись всему, что нашли*. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она слово в слово:
«Тщательно осмотрев правый карман камзола великого Человека-Горы (так я перевожу слова «Куинбус Флестрин»), мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию, Человек-Гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть.
В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки не что иное, как письмена; каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. Двадцать длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом Человек-Гора расчесывает свои волосы, но это только наше предположение. Мы избегали тревожить Человека-Гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним.
В большом кармане с правой стороны средней покрышки Человека-Горы (так я перевожу слово «ранфуло», под которым они разумели штаны) мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева, более широкому, чем сам столб; с одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначения которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины. Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. Повидимому, они изготовлены из серебра.
В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у Человека-Горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим — режут мясо.
Кроме того, на Человеке-Горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-Гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь; она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину; она оказалась похожей на шар; одна половина ее сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним; наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-Гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что Человек-Гора сказал нам (если мы правильно поняли его слова), что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана Человек-Гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность.
Обыскав все карманы Человека-Горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в пять раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с двумя отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить трех подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до пятидесяти зерен.
Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске Человека-Горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний вашего величества.
Скреплено подписью и приложением печати в четвертый день восемьдесят девятой луны благополучного царствования вашего величества.
КЛЕФРИН ФРЕЛОК МАРСИ ФРЕЛОК».Когда эта опись была прочитана императору, его величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал трем тысячам отборных войск (которые в этот день несли охрану его величества) окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на его величество.
Император пожелал, чтобы я обнажил саблю. Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и возможно осторожнее бросить ее на землю футов за шесть от конца моей цепи.
Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и, по просьбе императора, объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его одним порохом (благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим) и, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также и сумку с боевыми припасами. При этом я просил его величество держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец.
Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Гвардейцы надели часы на крепкий шест и, подняв на плечи, унесли прочь, как в Англии таскают бочонки с элем. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и его величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины.
Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с десятью крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне.
Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске, поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров. Описание развлечений при дворе в Лилипутии. Автору на определенных условиях даруется свобода.
Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке.
Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своею ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения.
Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность, вследствие смерти или опалы (что случается часто) какого-нибудь вельможи, пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки*. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдресель, главный секретарь тайного совета — если только привязанность к нему не ослепляет меня, — занимает второе место после канцлера казначейства.
Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга.
Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти.
Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствуют только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол три тонкие шелковые нити — синюю, красную и зеленую, в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале его величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр, иногда же палку держит только министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью; красная дается второму по ловкости, а зеленая — третьему*. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса.
Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок.
Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение. Я попросил достать мне несколько палок длиной в два фута и толщиной с обыкновенную трость. Его величество приказал главному лесничему сделать соответствующие распоряжения, и на следующее утро семь лесников привезли требуемое на шести телегах, с восемью лошадьми в каждой упряжке.
Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в два с половиной фута; на этих девяти кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к четырем углам квадрата еще четыре палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера.
Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двадцать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры: пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями; то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях.
Однажды — дело было за два или за три дня до моего освобождения — я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества. Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное. Однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета; вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полое. В заключение авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет Человеку-Горе, и заявляли, что берутся доставить его с помощью всего только пяти лошадей в столицу.
Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. Повидимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах.
Объяснив его величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не поцеремонились с ней. Они пробили в полях две дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых полмили.
К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал.
Спустя две недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире*. Потом приказал главнокомандующему (старому опытному военачальнику и моему большому покровителю) построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем, с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками — пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию — по шестнадцать. Армия состояла из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие его величеству.
Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что его величество поставил наконец вопрос на обсуждение министров, а потом государственного совета. В совете нашелся только один противник моего освобождения — Скайреш Болголам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болголам занимал пост гальбета, то-есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайреш Болголам доставил мне лично, в сопровождении двух секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа.
«Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло Шефин Молли Олли Гу, могущественнейший император Лилнпутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая пять тысяч блестрегов (около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара; монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей; приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения Человеку-Горе следующие условия, которые Человек-Гора под торжественной присягой обязуется исполнять:
1. Человек-Гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати.
2. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах.
3. Названный Человек-Гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях.
4. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег; он не должен брать в руки подданных без их согласия.
5. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, Человек-Гора обязан — но не чаще одного раза в луну — немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству.
6. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас*.
7. Упомянутый Человек-Гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий.
8. Упомянутый Человек-Гора должен в течение двух лун точно, измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов.
9. Названный Человек-Гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это Человек-Гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования».
Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайреша Болголама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу.
Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем.
Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра, и я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга. Он ответил, что математики его величества, определив при помощи квадранта[8] мой рост и найдя, что я в двенадцать раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышлености лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Описание Мильдендо, столицы Лилипутии, и императорского дворца. Беседа автора с первым секретарем о государственных делах. Автор предлагает свои услуги императору в его войнах.
Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильдендо, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией.
Столица окружена стеной высотой в два с половиной фута и толщиной не менее одиннадцати дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии десяти футов одна от другой, обороняют подступы к городу.
Перешагнув через большие Западные ворота, я медленно, боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей.
Город имеет форму правильного четырехугольника, каждая сторона городской стены равна пятистам футам. Две главные улицы, шириной в пять футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на четыре квартала.
В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от двенадцати до восемнадцати дюймов.
Город может вместить до пятисот тысяч человек. Дома трех- и пятиэтажные. Лавки и рынки полны товаров.
Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Главное здание с двумя внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в два фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения его величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во втором внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только восемнадцать дюймов в высоту и семь дюймов в ширину.
С другой стороны здания внешнего двора достигают высоты не менее пяти футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в четыре дюйма. В то же время и императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец.
Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительные работы.
В императорском парке, в ста ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета высотой около трех футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с двумя табуретами в руках. Подойдя ко дворцу со стороны площади, я стал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на первый внутренний двор шириной в восемь футов. Затем я свободно перешагнул через здания с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг второго внутреннего двора.
Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа; таким образом я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволила улыбнуться мне и грациозно протянула через окно свою ручку, которую я поцеловал.
Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой.
Однажды утром, недели через две после моего освобождения, ко мне приехал Рельдресель, главный секретарь (как его титулуют здесь) по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке.
Прежде всего он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств.
«Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим. Но это впечатление ошибочно. Два страшнейших бедствия нависли над нашей родиной. Около семидесяти лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием Тремексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких*.
Тремексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу, но его величество — сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках его величества на один дрерр ниже, чем у всех придворных (дрерр равняется четырнадцатой части дюйма).
Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что Тремексены, или Высокие Каблуки, превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к Высоким Каблукам. Один каблук у него выше, вследствие чего его высочество немного прихрамывает*.
И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя его величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что сто человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях его величества. Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в шесть тысяч лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску.
Так вот, прошло уже тридцать шесть лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным, под страхом строгого наказания, разбивать яйца с острого конца*.
Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях*. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности.
Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (как известно, это произведение — Алкоран* лилипутов). Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным — тупой или острый, — это, по-моему, личное дело каждого верующего*. В крайнем случае, можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи.
Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже тридцать шесть лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли сорок линейных кораблей и огромное число мелких судов с тридцатью тысячами лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране».
Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но, поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Автор благодаря чрезвычайно остроумной выдумке предупреждает нашествие неприятеля. Его жалуют высоким титулом. Являются послы императора Блефуску и просят мира.
Империя Блефуску — остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии. Только неглубокий пролив шириной в восемьсот ярдов разделяет оба государства.
Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров. А теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе.
С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Не довольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефускуанцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги.
Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения.
Прежде всего я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает семидесяти глюглеффов (около шести европейских футов). Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до пятидесяти боевых кораблей и большое число транспортов.
Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив пятьдесят таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около тридцати ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот.
Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее тридцати тысяч человек. Тогда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел; многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверно, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда.
Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли, но ни один корабль не тронулся с места: все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты; при этом более двухсот стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, к которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей.
Растерявшиеся блефускуанцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь пустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Отойдя на такое расстояние, что их стрелы не долетали до меня, я осторожно извлек впившиеся в лицо и руки стрелы и натер пораненные места целебной мазью. Потом я снял очки и, подождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии.
Император и все придворные стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. На середине пролива вода доходила мне по горло, и они не могли видеть меня. Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул нардака, самый высокий в государстве.
Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. Повидимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки: истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефускуанцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой вселенной*. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободного народа.
Мое смелое и откровенное заявление в корне противоречило честолюбивым мечтам его императорского величества. Он никогда не мог простить мне моего отказа содействовать его планам. Император весьма тонко дал понять это на заседании государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, повидимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени его величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и двух месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Так, даже величайшие услуги, оказываемые монархам, не в силах перевесить в их глазах отказа в потворстве их страстям.
Спустя три недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор.
Посольство состояло из шести посланников и около пятисот человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе — действительному или только кажущемуся — мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление.
При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение его величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться ему перед возвращением в мое отечество.
На первой же аудиенции у нашего императора я почтительно просил позволения посетить блефускуанского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болголам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором*. Тут-то я впервые — хотя еще смутно — начал понимать, что такое министры и придворная жизнь.
Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефускуанцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке.
Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей приводят к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску.
Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
О жителях Лилипутии: их наука, законы и обычаи; система воспитания детей. Образ жизни автора в этой стране. Реабилитация им одной знатной дамы.
Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях.
Средний рост туземцев немного выше шести дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений: так, например, лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюймов; гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам: они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения: мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывавшего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают семи футов: я имею в виду деревья в большом королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры; но я предоставляю самому читателю произвести расчеты.
Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая издавна процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма; лилипуты пишут не так, как европейцы — слева направо:
не так, как арабы — справа налево;
не так, как китайцы — сверху вниз;
но как английские дамы: наискось страницы, от одного ее угла к другому.
Лилипуты хоронят умерших, опуская тело в могилу вниз головою. Они убеждены, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут, а так как к этому времени земля (которую лилипуты считают плоской) перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования. Но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор.
В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго; но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни и с него взыскивается штраф в пользу невинного: за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в четырехкратном размере. Если имущества обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения, и по всему государству объявляется о его невиновности.
Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат всю прибыль.
Мне случилось как-то ходатайствовать перед монархом за одного преступника. Он обвинялся в том, что, получив по доверенности хозяина крупную сумму денег, присвоил ее себе и попытался бежать. Прося о смягчении его участи, я указал императору, что в данном случае было только злоупотребление доверием. Император нашел чудовищным, что я привожу в защиту обвиняемого именно то, что как раз и делает его преступление особенно тяжким: нарушение доверия. Признаюсь, я ничего не мог возразить на это и ограничился простым замечанием, что у различных народов различные обычаи. При этом я был сильно сконфужен.
Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение семи лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то-есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, — лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с шестью глазами — два спереди, два сзади и по одному с боков, — что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать*.
При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Все люди, утверждают лилипуты, обладающие средним умственным развитием, способны занимать ту или иную должность. Ведь провидение никогда не имело в виду превратить управление общественными делами в какую-то тайну — такую глубокую и сложную, что разгадать ее способны только великие гении, рождающиеся не более трех в столетие. Напротив, лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям. Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного уменьем скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага».
В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипутии царит ныне глубокая испорченность нравов — признак, что народ вырождается. Так, например, позорный, обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею, — этот обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора.
Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Поэтому он достоин смерти».
Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут двадцатилунного возраста.
Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек, есть школы для детей знатных и богатых родителей, есть школы для детей ремесленников и бедных горожан. Школами заведуют опытные и образованные педагоги. Они готовят детей к той деятельности, которая наиболее соответствует общественному положению их родителей и собственным способностям и наклонностям детей.
Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек.
Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости; в них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к отечеству. Они всегда заняты: на сон и еду уделяется очень немного времени; два часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено ученью. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, но начиная с этого возраста все это они делают сами. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой. Во время отдыха они всегда находятся под присмотром воспитателя или его помощника. Таким образом они ограждены от всяких сплетен, глупых россказней и дурных влияний. Родителям разрешается посещать своих детей только два раза в год; каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощанье. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного.
Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до пятнадцати лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается.
В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные няни. При этом всегда присутствует воспитательница или ее помощницы. Няням строжайше запрещается рассказывать девочкам какие-нибудь страшные или нелепые сказки или забавлять их глупыми выходками. Виновная в нарушении этого запрета трижды подвергается публичной порке кнутом, заключается на год в тюрьму и затем навсегда ссылается в самую безлюдную часть страны. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы в Лилипутии так же стыдятся трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям, за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие да курс наук у них не так обширен, но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится двенадцать лет, то-есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез.
В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, а остальные до одиннадцати.
Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях; нищенство неизвестно в империи.
Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь девять месяцев и тринадцать дней.
Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу: из самых больших деревьев королевского парка я сделал себе довольно удобные стол и стул.
Двести швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простегать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Самые крупные куски полотна достигают в длину трех футов при ширине в три дюйма. Чтобы белошвейки могли снять с меня мерку, я лег на землю. Одна швея стала около моей шеи, другая у колена; они держали за концы туго натянутую веревку; третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки. Больше им ничего не было нужно. Зная, что окружность кисти вдвое больше окружности большого пальца, а окружность шеи вдвое больше окружности кисти, они сшили мне белье как раз по росту. Образцом для них послужила моя старая рубашка, которую я аккуратно разостлал на земле.
Тогда же тремстам портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу; по этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета.
Стряпали мне триста поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал двадцать лакеев и ставил их на стол; сотня их товарищей прислуживала внизу, на полу: одни подносили кушанья, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части, но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость — птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по двадцать или тридцать штук сразу.
Его величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив (так было угодно ему выразиться) отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах, с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства[9] Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного, во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение его величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко. А между тем содержание Человека-Горы обошлось уже его величеству более полутора миллионов спругов (самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку)». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи.
На мне лежит обязанность обелить честь одной невинно пострадавшей из-за меня почтенной дамы. Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу. Злые языки насплетничали ему, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе. Слух о том, будто она тайно приезжала ко мне, наделал много шума при дворе. Я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета. Ее светлость действительно была дружески расположена ко мне и не раз навещала меня. Но это делалось всегда открыто, причем с ней в карете сидели еще три особы: сестра, дочь и подруга. Такими посещениями удостаивали меня нередко и другие придворные дамы. Призываю в качестве свидетелей моих слуг: пусть кто-нибудь из них скажет, видел ли он хоть раз у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Когда карета подъезжала к моему дому, слуга тотчас докладывал мне, кто приехал. Я немедленно выходил к дверям. Почтительно поздоровавшись с прибывшими, я брал карету с парой лошадей (если она была запряжена шестеркой, форейтор всегда отпрягал четверых) и ставил ее на стол. Предварительно я укреплял по краям стола, во избежание несчастных случаев, передвижные перила высотой в пять дюймов. Очень часто на моем столе стояли четыре кареты с элегантными дамами. Сам я садился в свое кресло и наклонялся к ним.
В то время как я разговаривал с дамами, сидевшими в одной карете, другие кареты тихонько кружились по моему столу. Я очень приятно провел в таких разговорах много послеобеденных часов. Но ни Флимнапу, ни двум его соглядатаям, Клестрилю и Дренло (пусть они делают что угодно, а я назову их имена), никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито. Только однажды меня тайно посетил государственный секретарь Рельдресель. Но, как я уже говорил выше, он действовал по специальному повелению его императорского величества.
Быть может, не стоило так долго распространяться об этом пустом эпизоде. Но в дело замешана честь высокопоставленной дамы. К тому же мне дорого и мое собственное доброе имя. Ведь я имею честь носить титул нардака — титул, которого не было и у самого канцлера казначейства Флимнапа. Всем известно, что он только глюмглюм, а этот титул настолько же ниже моего, насколько у нас титул маркиза ниже титула герцога. Впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня. Как бы то ни было, но все эти сплетни дошли до слуха Флимнапа и на время поссорили его с женой и еще сильнее озлобили против меня. С женой он скоро помирился, так как убедился в лживости этих слухов, однако я навсегда потерял его уважение. Вскоре я почувствовал, что и отношение ко мне императора сильно изменилось к худшему. В этом не было ничего удивительного, ибо его величество находился под сильным влиянием своего фаворита.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Автор узнает, что его собираются обвинить в государственной измене. Он предпринимает побег в Блефуску. Прием, оказанный ему там.
Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство. Но я считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение двух месяцев велись против меня.
До того как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе.
Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг поздно вечером ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе[10] тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне нездоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным, и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не проронил ни слова из его речи и, как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь:
«Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий совета*, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. Два дня тому назад его величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь гальберт Скайреш Болголам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, — знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, который сердит на вас из-за жены, генералом Лимтоком, обер-гофмейстером Лелькеном и верховным судьей Бельмафом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях…»
Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора. Но он попросил меня сохранять молчание и продолжал:
«Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам».
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ
против Куинбуса Флестрина, Человека-Горы
Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно: обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа.
По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору его величества с просьбой о мире вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, ободрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством.
Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На таковое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне.
Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных*.
«…Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта его величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его двадцатитысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение: приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках.
Командующий войсками присоединился к этому мнению.
В течение долгого времени большинство совета было против вас. Но его величество решил по возможности щадить вашу жизнь. В конце концов он привлек на свою сторону обер-гофмейстера.
В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия, этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем; поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию его величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если его величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куиноуса Флестрина и по свойственной ему доброте, пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, — заявил Рельдресель, — я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. А в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками». При этом следует иметь в виду, что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе, благодаря которой вы еще можете быть полезны его величеству; что слепота, скрывая от вас опасность, только увеличит вашу храбрость; что боязнь потерять зрение была для вас главной помехой при захвате неприятельского флота и что вам достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз этим довольствуются даже величайшие монархи.
Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголам не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника; что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы — тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии, то Болголам обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены.
Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют.
Таким образом, если его священное величество и члены совета, обращаясь к своей совести, пришли к твердому убеждению в вашей виновности, то этого довольно, чтобы приговорить вас к смерти, не затрудняясь подысканием формальных доказательств, требуемых буквой закона.
Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражения канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. Доходы его величества, заявил он, всецело находятся в распоряжении самого канцлера. Поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев. Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, пять или шесть тысяч подданных его величества смогут в два или три дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить, как памятник, на удивление потомству.
Таким образом, дружескому расположению секретаря вы обязаны тем, что удалось найти решение, удовлетворительное для обеих сторон. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне; приговор же о вашем ослеплении занесен в книги. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только адмирал Болголам, ставленник императрицы. Под влиянием настойчивых подстрекательств ее величества, он настаивал на вашей смерти. Императрица же питает к вам ненависть из-за разных придворных сплетен: кой-кто из придворных дам, которые считают, что вы не были достаточно внимательны к ним, успели очернить вас в ее глазах.
Через три дня ваш, друг секретарь явится к вам по повелению его величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность его величества и государственного совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому его величество не сомневается, что вы покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. Двадцать хирургов его величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами.
На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться».
С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями.
Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании государственного совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва*. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Например, я (хотя, быть может, и несправедливо) считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился вверить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость его величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему.
Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. Скажу прямо: сохранением своего зрения, а стало быть, и свободы, я обязан моей опрометчивости и неопытности. В самом деле, если бы в то время я так же хорошо знал нравы монархов и министров, как я узнал их потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах, я бы с величайшей радостью и готовностью подчинился такому легкому наказанию. Но я был молод и горяч. У меня уже было разрешение его величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску.
Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня*. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на двести ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний его величества.
Через час я получил ответ, что его величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на сто ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил его величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с соизволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости. Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях.
Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели: мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Благодаря счастливому случаю автор получает возможность оставить Блефуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество.
Через три дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги[11] в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около двухсот или трехсот ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля.
Я тотчас вернулся в город и попросил его императорское величество предоставить в мое распоряжение двадцать самых больших кораблей, три тысячи матросов и большое количество канатов, которые для прочности я ссучил по три. Флот пошел кругом острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку.
Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в ста ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки; другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек.
Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к девяти сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на сорок ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью двух тысяч человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными.
Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня десять дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил его величество снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие.
Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение двух часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником. Его величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену.
Император Блефуску после трехдневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам; к тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец от столь невыносимого бремени*.
С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я просил его величество извинить меня. Не знаю, прибавил я, на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом: напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением.
Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я возможно скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. Пятьсот человек под моим руководством сделали для нее два паруса, простегав сложенное в тринадцать раз самое прочное полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по десять, двадцать и тридцать самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир трехсот коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты; в изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники его величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною вчерне.
По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказания его величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца; я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне; то же сделали императрица и все принцы крови. Его величество подарил мне пятьдесят кошельков с двумястами спругов в каждом и свой портрет во весь рост; портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку.
Я погрузил в лодку сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить четыреста поваров. Кроме того, я взял с собой шесть живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привезти их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увезти с собой и десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это. Не довольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, его величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных даже с их согласия и по их желанию.
Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в шесть часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около четырех лиг по направлению к северу, в шесть часов вечера я заметил на северо-западе, в расстоянии полулиги, небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, повидимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо и, по моим предположениям, не меньше шести часов, потому что проснулся часа за два до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандименовой Земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около трех часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в двадцати четырех милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки.
Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в шестом часу вечера 26 сентября я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом.
Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии. Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда, был в высшей степени любезный человек и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30° южной широты. Экипаж корабля состоял из пятидесяти человек. Между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь.
Когда я вкратце рассказал ему мои приключения, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец. Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с двумястами спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу.
Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауне 13 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность: корабельные крысы утащили одну овечку. Я нашел в щели ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужайку для игры в шары; тонкая и нежная трава, сверх моего ожидания, послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение долгого путешествия, если бы капитан не снабдил меня своими лучшими сухарями. Я растирал эти сухари в порошок, смачивал водою и кормил ими моих животных. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных знатным лицам. Перед началом второго путешествия я продал их за шестьсот фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо; особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу суконной промышленности благодаря своей необыкновенно тонкой шерсти*.
Я провел с женой и детьми не больше двух месяцев. Дольше я не мог усидеть дома: мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя. Я оставил жене полторы тысячи фунтов и нанял ей хороший дом в Редрифе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в товарах, я увез с собой в надежде увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Уоппинга, приносившее в год по тридцати фунтов дохода; столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни «Черный Бык» на Феттер-Лейне. Таким образом, я не боялся, что моя семья окажется на попечении прихода. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал грамматическую школу и был хорошим учеником.
Моя дочь Бетти (которая теперь замужем и имеет детей) училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль «Адвенчер», вместимостью в триста тонн; назначение его было — Сурат, капитан — Джон Николес из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих записок.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Описание сильной бури. Посылка баркаса за пресной водой. Автор отправляется на нем для исследования страны. Он оставлен на берегу; его подбирает один туземец и относит к фермеру. Прием автора на ферме и различные происшествия, случившиеся там. Описание жителей.
Итак, обреченный самой природой и судьбой вести деятельную и беспокойную жизнь, я снова оставил родину и пустился в море.
До мыса Доброй Надежды мы шли с попутным ветром. Здесь мы бросили якорь, чтобы запастись свежей водой. Но на корабле открылась течь. Нам пришлось выгрузить товары и конопатить судно. В заключение капитан заболел перемежающейся лихорадкой. Нам пришлось зазимовать на мысе Доброй Надежды. Только в конце марта мы поставили парус и благополучно прошли Мадагаскарский пролив[12]. Мы держали курс на север, и приблизительно до 5° южной широты нас сопровождали умеренные северные и западные ветры, обычные в этом поясе с начала декабря и до начала мая. Но 19 апреля погода изменилась: с запада налетел чрезвычайно сильный, почти штормовой ветер, дувший двадцать дней подряд. За это время нас отнесло к востоку от Молуккских островов и на три градуса к северу от экватора. Так, по крайней мере, показали вычисления капитана, сделанные 2 мая. В этот день ветер прекратился и наступил полный штиль, немало меня обрадовавший. Но капитан, искушенный в плавании по этим морям, приказал всем приготовиться к буре. Действительно, на следующий же день поднялся жестокий южный ветер, известный под названием муссона. Постепенно он перешел в ураган.
Заметив, что ветер сильно крепчает, мы убрали блинд и приготовились взять на гитовы фок-зейль. Но погода становилась все хуже и хуже. Осмотрев, прочно ли привязаны пушки, мы убрали бизань. Корабль лежал прямо под ветром, и мы решили, что лучше идти по ветру, чем убрать все паруса и дрейфовать. Мы зарифили фок и подняли его; фокашкот мы закрепили на корме. Руль был положен по ветру. Корабль хорошо слушался рулевого. Мы взяли рифы на фоканирале, но парус все же порвало. Тогда мы спустили рею, сняли с нее парус и весь такелаж. Буря была поистине ужасной, волны достигали необычайной высоты. Мы закрепили талями румпель, чтобы облегчить рулевого. Мы не стали спускать стеньги, но оставили всю оснастку, потому что корабль шел по ветру и перед нами было открытое море. Когда буря начала стихать, были подняты грот и фок, и корабль лег в дрейф. Немного позднее мы подняли бизань, большой и малый марсели. Мы держали курс на северо-восток; ветер был юго-западный. Мы осадили галсы по штирборту, ослабили брасы и тоненанты с наветренной стороны, а с подветренной подтянули их. Булиня мы вытянули и закрепили. Маневрирование производилось при помощи бизани; мы все время старались сохранить ветер и держать столько парусов, сколько могли выдержать корабельные мачты*
Во время этой бури нас отнесло, по моим вычислениям, по крайней мере на пятьсот лиг к востоку. Самые старые и опытные моряки не могли сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль в хорошем состоянии, экипаж совершенно здоров. Только нехватка пресной воды внушала нам беспокойство. Мы предпочли держаться прежнего курса и не хотели отклониться к северу, так как при этом нас могло унести к северо-западным областям Великой Татарии[13] или в Ледовитое море.
16 июня 1703 года дежуривший на марсе юнга увидел землю. 17-го мы подошли к большому острову или континенту. Что именно это было, мы не знали. К югу выдавалась в море коса и виднелась бухта, но слишком мелкая, чтобы в нее мог войти корабль более ста тонн водоизмещением. Мы бросили якорь на расстоянии лиги от этой бухты, и капитан послал на берег баркас с десятком хорошо вооруженных людей. Они взяли с собой бочонки на случай, если найдется вода. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним. Мне хотелось по возможности обследовать эту доныне неизвестную землю.
Близ места нашей высадки мы не нашли ни реки, ни источника. Край казался пустынным; никаких признаков населения не было видно. Матросы разбрелись по побережью в поисках пресной воды, а я отправился один в противоположную сторону. Я прошел с милю и не встретил ничего любопытного. Кругом расстилалась все та же бесплодная каменистая пустыня.
Почувствовав усталость, я повернул обратно и медленно направился к бухте. Передо мной открылся широкий вид на море. Внезапно я заметил, что наши матросы уже погрузились в баркас и изо всех сил гребут к кораблю. Я уже хотел окликнуть их, как вдруг заметил, что за ними гонится человек исполинского роста. Вода едва доходила ему до колен; он делал огромные шаги. Но баркас успел почти на пол-лиги опередить его. К тому же море изобиловало острыми скалами, и чудовище не могло догнать лодку. Все это мне рассказали потом. Сам я не имел мужества дождаться исхода погони. Со всех ног бросился я бежать по той самой дороге, по которой только что возвращался к бухте. Запыхавшись, я взобрался на крутой холм, откуда мог осмотреть окрестность. Земля кругом была хорошо возделана, но меня поразила высота травы: она достигала двадцати футов.
Я вышел на большую дорогу — так, по крайней мере, мне казалось, хотя для туземцев это была только тропинка, Пересекавшая ячменное поле. В течение некоторого времени я почти ничего не мог видеть по сторонам, потому что приближалось время жатвы и ячмень был высотой футов сорок. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью не менее чем в сто двадцать футов вышины. Деревья были так велики, что я не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени да еще перешагнуть через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу. Каждая ступень имела шесть футов высоты, а верхний камень — больше двадцати.
Я принялся искать какую-нибудь щель в изгороди, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит такой же исполин, как тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с колокольню, а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам*. Охваченный ужасом и изумлением, я кинулся в сторону и спрятался в ячмене. Притаившись, я наблюдал, как великан взобрался по ступенькам на верхний камень, оглянулся кругом и стал звать кого-то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор. Он раздавался с такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов тотчас появились семь таких же чудовищ с серпами величиной в шесть наших кос в руках. Эти люди были одеты беднее первого; повидимому, они были его слугами или работниками. Хозяин что-то сказал им, и они отправились жать на то поле, где я спрятался.
Я старался убраться подальше от них, но мог передвигаться только с большим трудом: ячмень был так густ, что местами я едва мог протиснуться между стеблями. Тем не менее я кое-как добрался до той части поля, где ячмень был повален дождем и ветром. Здесь я вынужден был остановиться: стебли так переплелись между собой, что не было никакой возможности пробраться между ними, а усики поваленных колосьев были так крепки и остры, что прокалывали мне платье и вонзались в тело.
Разбитый усталостью, в глубоком отчаянии, я лег в борозду и от всего сердца желал смерти. Я оплакивал овдовевшую жену и детей-сирот. Я горько сетовал на свое безрассудство, толкнувшее меня на второе путешествие вопреки советам родных и друзей.
Тоска охватила мое сердце. Я невольно вспомнил Лилипутию. Жители этой страны смотрели на меня, как на величайшее чудо в свете. Там я мог буксировать одной рукой весь императорский флот, мог бы совершить множество других подвигов. Мои деяния были бы увековечены в летописях той империи. И тут же я представил себе все унижение, которое ждет меня у этого народа. Ведь здесь я буду казаться таким же жалким и ничтожным существом, каким казался бы среди нас любой лилипут. И я не сомневался, что это еще не самое ужасное из несчастий, какие ждут меня здесь. Наблюдение подтверждает, что человеческая жестокость и грубость увеличиваются в соответствии с ростом. Чего же я мог ожидать от этих исполинских варваров? Первый же, кто поймает меня, наверно тут же сожрет меня. Философы несомненно правы, утверждая, что понятия великого и малого — понятия относительные. Быть может, судьбе угодно будет устроить так, что и лилипуты встретят людей, таких маленьких сравнительно с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает — быть может, в какой-нибудь отдаленной части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов.
Между тем, пока я предавался этим размышлениям, жнецы постепенно приближались ко мне. Вдруг один из них подошел на десять ярдов к борозде, в которой я лежал. Стоило ему сделать еще шаг или взмахнуть серпом, и он мог растоптать меня или разрезать пополам. Охваченный ужасом, я завопил что было силы. Великан остановился, нагнулся, долго вглядывался в землю у себя под ногами, наконец заметил меня.
С минуту он разглядывал меня с тем нерешительным выражением на лице, какое бывает у нас, когда мы хотим схватить незнакомого зверька и боимся, как бы он не оцарапал и не укусил нас. Наконец великан отважился взять меня сзади за талию большим и указательным пальцами. Он поднес меня поближе к глазам, чтобы получше рассмотреть. Опасаясь, чтобы я не выскользнул у него из пальцев, он страшно стиснул мне ребра. К счастью, я сразу же угадал его намерения и был настолько сообразительным, что не оказал ему никакого сопротивления, когда он держал меня в воздухе на высоте шестидесяти футов от земли. Все, что я позволил себе, это поднять глаза к солнцу, умоляюще сложить руки и произнести несколько слов смиренным и печальным тоном.
Я все время боялся, что великан швырнет меня на землю, как мы бросаем противное маленькое животное, собираясь раздавить его ногой. Но — хвала моей счастливой звезде! — мой голос и жесты, повидимому, понравились великану. Он внимательно разглядывал меня, изумляясь моей членораздельной речи, смысл которой ему был непонятен. Но его пальцы причиняли мне такую нестерпимую боль, что я не мог удержаться от стонов и слез. Различными жестами я старался дать ему понять, что он слишком стиснул мне ребра. Повидимому, он понял, так как, подняв полу камзола, осторожно положил меня туда и бегом пустился к своему хозяину — тому самому фермеру, которого я увидел первым на поле.
Фермер, подробно расспросив своего работника, где он нашел меня, взял соломинку толщиною с трость и стал поднимать ею полы моего кафтана: очевидно, он думал, что это — нечто вроде шкурки, которой одарила меня природа. Затем он дунул на мои волосы, чтобы лучше рассмотреть лицо. Созвав своих батраков, он спросил их (как я потом узнал), не случалось ли им находить на полях других зверьков, похожих на меня. Затем он осторожно опустил меня на землю и поставил на четвереньки. Я тотчас поднялся на ноги и стал расхаживать взад и вперед, желая показать этим людям, что у меня нет ни малейшего намерения бежать.
Они сели в кружок, чтобы лучше наблюдать за моими движениями. Я снял шляпу и сделал глубокий поклон фермеру. Затем, став на колени, я поднял к небу глаза и руки и как можно громче произнес несколько слов. Я вынул из кармана кошелек с золотом и с видом полной покорности вручил его хозяину. Тот положил кошелек на ладонь и поднес его к глазам. Затем он вынул булавку и несколько раз потыкал кошелек. Но это ни к чему не привело: он так и не понял, что это такое. Тогда я сделал знак, чтобы он положил руку на землю, взял кошелек, открыл его и высыпал к нему на ладонь все золото. Там было шесть испанских золотых, по четыре пистоля каждый, и двадцать или тридцать монет помельче. Послюнив кончик мизинца, он поднял им сперва одну большую монету, потом другую, но так и не догадался, что это за вещицы. Он знаком приказал мне положить монеты обратно в кошелек и спрятать кошелек в карман. После нескольких безуспешных попыток убедить его принять от меня кошелек в подарок я повиновался его приказу.
Мало-помалу фермер убедился, что имеет дело с разумным существом. Он часто заговаривал со мной, но шум его голоса отдавался у меня в ушах подобно шуму водяной мельницы, хотя слова произносились им достаточно внятно. Я как можно громче отвечал ему на разных языках, и он часто приближал свое ухо на два ярда ко мне, но все было напрасно: мы совершенно не понимали друг друга. Наконец фермер приказал рабочим приняться за работу, а сам присел, положил на землю левую руку ладонью вверх, покрыл ее сложенным вдвое носовым платком и сделал мне знак взобраться на платок. Это было нетрудно, так как рука была толщиной не более фута. Я счел благоразумным повиноваться и, чтобы не упасть, лег на платок. Для большей безопасности фермер закутал меня в него, как в одеяло, и в таком виде понес домой. Придя туда, он позвал жену и показал меня ей. Та завизжала и попятилась, точь-в-точь как английские дамы при виде жабы или паука. Но мое примерное поведение и полное повиновение всем знакам мужа очень скоро ее успокоили, и она стала обходиться со мной очень ласково.
Был полдень; слуга подал скромный обед: он состоял только из большого куска говядины на блюде около двадцати четырех футов в диаметре. За стол сели фермер, его жена, трое детей и старуха-бабушка. Фермер посадил меня около себя на стол, возвышавшийся на тридцать футов от пола. Боясь свалиться с такой высоты, я отодвинулся подальше от края. Фермерша отрезала ломтик говядины, накрошила хлеб в тарелку и поставила ее передо мной. Сделав ей глубокий поклон, я вынул свою вилку и нож и начал есть, что доставило им чрезвычайное удовольствие. Хозяйка велела служанке подать ликерную рюмочку вместимостью около двух галлонов[14] и налила в нее какого-то питья. Я с трудом взял рюмку обеими руками и самым почтительным образом выпил за здоровье хозяйки. Это до такой степени рассмешило присутствующих, что своим хохотом они едва не оглушили меня. Напиток напоминал слабый сидр и был довольно приятен на вкус.
Хозяин знаками пригласил меня подойти к его тарелке. Проходя по столу, я споткнулся о корку хлеба и шлепнулся. К счастью, я не ушибся. Я тотчас же поднялся; увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, я взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, держал подмышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал «ура» в знак того, что все обошлось благополучно. Но когда я приблизился к хозяину (так я буду называть впредь фермера), сидевший подле него младший сын, десятилетний шалун, схватил меня за ноги и поднял так высоко, что у меня захватило дух. К счастью, отец выхватил меня из рук сына и дал ему такую оплеуху, которая, наверно, сбросила бы с лошадей целый эскадрон европейской кавалерии. Он так рассердился, что приказал мальчику немедленно выйти из-за стола. Но мне не хотелось, чтобы в ребенке затаилась обида и злоба против меня. К тому же я вспомнил, как жестоко обращаются подчас наши дети с воробьями, кроликами, котятами и щенятами. Я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, всеми силами старался дать понять моему хозяину, что умоляю простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял свое место. Я подошел к нему и поцеловал его руку. Хозяин улыбнулся, взял руку сына и нежно погладил ею меня.
Во время обеда на колени к хозяйке вскочила ее любимая кошка. Я услышал позади себя сильный шум, словно десяток вязальщиков работали на станках. Обернувшись, я увидел, что это мурлычет кошка, которую кормила и ласкала хозяйка. Судя по голове и лапам, кошка была, повидимому, в три раза больше нашего быка. Я находился на другом конце стола, на расстоянии пятидесяти футов от животного. Хозяйка крепко держала свою любимицу, опасаясь, как бы она не прыгнула на меня. И все же я пришел в полное замешательство при виде этого свирепого чудовища. Однако мои опасения были напрасны: хозяин поднес меня к кошке на три ярда, и она не обратила на меня ни малейшего внимания. Во время путешествий мне не раз пришлось проверить общеизвестное утверждение, что бежать или выказывать страх перед хищным животным — верный способ подвергнуться его нападению. Поэтому я решил не проявлять ни малейшего беспокойства. Пять или шесть раз я бесстрашно подходил к самой морде кошки, и она пятилась назад, словно была больше испугана, чем я. Обед уже подходил к концу, когда в комнату вбежали три или четыре собаки. Однако они испугали меня гораздо меньше. Одна из них была мастиф[15] величиной в четыре слона, другая — борзая, выше мастифа, но тоньше его.
Затем в столовую вошла кормилица с годовалым ребенком на руках. Увидев меня, младенец, в согласии с правилами ораторского искусства детей, поднял такой вопль, что, случись это в Челси, его, наверно, услышали бы с Лондонского моста: он принял меня за игрушку. Хозяйка, руководясь чувством материнской нежности, взяла меня и поставила перед ребенком. Тот немедленно схватил меня за талию и засунул к себе в рот мою голову. Я так отчаянно завопил, что ребенок в испуге выронил меня. К счастью, хозяйка успела подставить мне свой передник. Иначе я бы непременно разбился насмерть.
Чтобы успокоить младенца, кормилица стала забавлять его погремушкой. Эта погремушка напоминала бочонок, наполненный камнями, и была привязана к поясу ребенка канатом. Унимая ребенка, кормилица присела на низенький табурет так близко от меня, что я мог подробно рассмотреть ее лицо. Признаюсь, это было неприятное зрелище. Вся кожа была испещрена какими-то буграми, рытвинами, пятнами и огромными волосами. А между тем издали она показалась мне довольно миловидной. Это навело меня на некоторые размышления по поводу нежности и белизны кожи наших английских дам. Они кажутся нам такими красивыми только потому, что они одинакового роста с нами; мы не замечаем на их лицах мелких изъянов. Только лупа может нам показать, как, в сущности, груба, толста и скверно окрашена самая нежная и белая кожа.
Помню, во время моего пребывания в Лилипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания. Когда я беседовал на эту тему с одним ученым лилипутом, моим близким другом, то он сказал мне, что мое лицо производит на него более приятное впечатление издали. Он откровенно признался мне, что когда я в первый раз взял его на руки и поднес к лицу, то оно ужаснуло его. По его словам, у меня на коже можно заметить большие рытвины; цвет ее представляет очень неприятное сочетание разных красок, а волосы бороды кажутся в десять раз толще щетины кабана. Считаю нужным заметить, что я нисколько не безобразнее большинства моих соотечественников и, несмотря на долгие путешествия, загорел очень мало. С другой стороны, беседуя со мной о придворных дамах, ученый этот нередко говорил: у этой лицо покрыто веснушками, у другой слишком велик рот, у третьей большой нос, а я ничего не замечал. Разумеется, в этих рассуждениях нет ничего нового. Я говорю все это только для того, чтобы читатель не подумал, будто великаны, к которым я попал, очень безобразны. Напротив, я должен отдать им справедливость: это очень красивая раса.
После обеда хозяин отправился к рабочим, приказав жене, насколько можно было судить по его голосу и жестам, обращаться со мной позаботливее. Я очень устал и хотел спать. Заметя это, хозяйка положила меня на свою постель и укрыла чистым белым носовым платком, который, однако, был больше и толще паруса военного корабля.
Я проспал около двух часов; мне снилось, что я дома, в кругу семьи. Но тем острее была моя печаль, когда, проснувшись, я увидел, что нахожусь один в обширной комнате, шириной в двести или триста футов, а высотой более двухсот, и лежу на кровати в двадцать ярдов ширины. Моя хозяйка отправилась по делам и заперла меня одного. Кровать возвышалась над полом на восемь ярдов. Между тем некоторые естественные потребности побуждали меня сойти на землю. Позвать на помощь я не решался. Впрочем, это было бесполезно: все равно мой слабый голос нельзя было расслышать в кухне, где находилась семья. Пока я раздумывал, что мне предпринять, на постель взобрались по пологу две крысы и принялись обнюхивать ее. Одна подбежала к моему лицу. Я в ужасе вскочил и выхватил кортик. Эти гнусные животные имели дерзость атаковать меня с двух сторон. Одна крыса успела вцепиться передними лапами в мой воротник. К счастью, мне удалось распороть ей брюхо, прежде чем она причинила мне какой-нибудь вред. Она упала к моим ногам, а другая, видя печальную участь товарки, обратилась в бегство. На прощание я нанес ей рану в спину, так что, убегая, она оставила за собой кровавый след. После этого подвига я стал прохаживаться взад и вперед по кровати, чтобы перевести дух и прийти в себя. Крысы были величиной с большую дворняжку, но отличались гораздо большей ловкостью и злобой. Если бы, ложась спать, я снял тесак, они непременно растерзали бы и сожрали меня. Я измерил хвост мертвой крысы и нашел, что он равен двум ярдам без одного дюйма. Однако у меня не хватило присутствия духа сбросить крысу с постели.
Вскоре после этого в комнату вошла хозяйка. Увидя на мне кровавые пятна, она поспешно бросилась ко мне и взяла меня на руки. Я указал на убитую крысу и, улыбаясь, знаками попытался объяснить ей, что сам не ранен. Хозяйка очень обрадовалась этому. Она позвала служанку и велела ей взять крысу щипцами и выбросить за окно, а сама поставила меня на стол. Тогда я показал ей окровавленный кортик, вытер его полой кафтана и вложил в ножны. Но я чувствовал настоятельную потребность сделать то, чего никто не мог сделать вместо меня. Поэтому я всячески старался дать понять хозяйке, что хочу спуститься на пол. Когда это желание было исполнено, стыд помешал мне изъясниться более наглядно, и я ограничился тем, что, указывая пальцем на дверь, поклонился несколько раз. С большим трудом добрая женщина поняла наконец, в чем дело. Взяв меня в руку, она отнесла меня в сад и там поставила на землю. Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды.
Надеюсь, благосклонный читатель извинит меня за то, что я останавливаю его внимание на такого рода подробностях. Пошлые и низменные умы, без сомнения, сочтут их ничтожными и неуместными. Однако истинный философ сумеет найти в них пищу для размышлений на благо общества. Попечение об этом благе является единственной целью опубликования описаний как настоящего, так и других моих путешествий. Больше всего я заботился о правде, нисколько не стараясь блеснуть ни образованностью, ни слогом. Все, что случилось со мной во время этого путешествия, произвело такое глубокое впечатление на мой ум и так отчетливо удержалось в моей памяти, что, поверяя эти события бумаге, я не мог опустить ни одного существенного обстоятельства. Тем не менее, после внимательного просмотра своей рукописи, я вычеркнул много мелочей из опасения показаться скучным и мелочным, в чем так часто и, быть может, не без основания обвиняют путешественников.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Дочь фермера. Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу. Подробности его путешествия.
У моей хозяйки была девятилетняя дочь. Девочка искусно владела иголкой, отлично одевала свою куклу и вообще была развита не по летам. Вместе с матерью она смастерила мне на ночь постель в колыбельке куклы. Колыбельку поместили в небольшой ящик, а ящик поставили на подвешенную к потолку полку, чтобы уберечь меня от крыс. В этом ящике я спал все время, пока жил у фермера. Но моя постель становилась удобнее и удобнее по мере того, как я осваивался с их языком и мог объяснить, что мне нужно. Девочка была настолько сметлива, что, увидя раз или два, как я раздеваюсь, могла и сама одевать и раздевать меня. Но я никогда не злоупотреблял ее услугами и предпочитал, чтобы она позволяла мне делать то и другое самому. Она сшила мне семь рубашек и другое белье из самого тонкого полотна, какое только можно было достать, но, говоря без преувеличения, это полотно было гораздо толще нашей дерюги; она постоянно собственноручно стирала его для меня. Девочка была также моей учительницей и обучала меня своему языку. Я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, а она называла его. Уже через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. Она отличалась прекрасным характером и была для своих лет небольшого роста — всего около сорока футов. Она дала мне имя Грильдриг. Это имя так и осталось за мной. Оно означает «человечек», «карлик».
Этой девочке я обязан тем, что остался цел и невредим среди испытаний, выпавших на мою долю в этой стране. Мы ни разу не разлучались за все время моего пребывания там. Я называл ее моей Глюмдальклич, то-есть нянюшкой, и заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и теплой ко мне привязанности Глюмдальклич. Мне от всей души хотелось отплатить ей по заслугам. А вместо того я, кажется, оказался невольным виновником постигшей ее королевской опалы.
Вскоре после моего появления среди соседей пошли слухи, что мой хозяин нашел в поле странного зверька величиной почти со сплекнока (хорошенького местного зверька шести футов длины), но по виду совершенно похожего на человека. Говорили, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он даже говорит на каком-то своем наречии и уже выучился произносить несколько слов на местном языке. Передавали, что он ходит, держась прямо на двух ногах, что он ручной, покорный, идет на зов и делает все, что ему приказывают, что строение тела у него очень нежное, а лицо белее, чем у дворянской трехлетней девочки.
Один из фермеров, близкий сосед и большой приятель моего хозяина, пришел разведать, насколько справедливы все эти слухи. Меня немедленно вынесли и поставили на стол; я прохаживался взад и вперед, по команде вынимал из ножен кортик и вкладывал его обратно, делал реверанс гостю моего хозяина, спрашивал, как он поживает, говорил, что рад его видеть, — словом, в точности исполнял все, чему научила меня моя нянюшка.
Чтобы лучше рассмотреть меня, фермер, пожилой, подслеповатый человек, надел очки. Взглянув на него, я не мог удержаться от смеха, ибо сквозь очки глаза его казались похожими на полную луну, когда она светит в комнату в два окошка. Домашние, поняв причину моей веселости, тоже рассмеялись. Старик оказался настолько глуп, что рассердился и счел себя обиженным.
Он был известен как большой скряга; на мое несчастье, эта репутация оказалась вполне заслуженной. Он тут же дал моему хозяину поистине дьявольский совет — показывать меня как диковинку в ближайшем городе. От нашего дома до этого города было полчаса езды, то-есть около двадцати двух миль. Когда старик начал что-то шептать хозяину, указывая по временам на меня, я сразу догадался, что затевается что-то недоброе. От страха мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. Моя нянюшка Глюмдальклич искусно выведала все у матери и на другой день утром рассказала мне, о чем шла речь. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась, чтобы грубые, неотесанные люди не причинили мне какого-нибудь вреда. Беря меня на руки, они легко могли задушить или изувечить меня. С другой стороны, она знала мою природную скромность и чувствительность в делах чести и опасалась, что я сочту за тяжкое оскорбление, если меня станут показывать за деньги на потеху толпы.
«Папа и мама, — сказала она, — обещали подарить мне Грильдрига, но теперь я вижу, что они хотят поступить так же, как в прошлом году, когда подарили мне ягненка: как только он отъелся, его продали мяснику».
Признаюсь откровенно, я принял это известие совсем не так близко к сердцу, как моя нянюшка. Я твердо надеялся — и эта надежда никогда не покидала меня, — что в один прекрасный день я верну себе свободу. Конечно, было оскорбительно играть роль какой-то чудесной диковины, которую выставляют напоказ. Но я чувствовал себя совершенно чужим в этой стране и полагал, что в моем несчастье никто не вправе будет упрекнуть меня, если мне случится возвратиться в Англию. Даже сам король Великобритании, окажись он на моем месте, был бы вынужден покориться такому унижению.
Послушавшись совета своего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящике в соседний город. Он взял с собой и мою нянюшку, которую посадил на седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон; в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганое одеяло с кроватки куклы, на которое я мог лечь. Тем не менее поездка страшно растрясла и утомила меня, хотя она продолжалась всего полчаса. Каждый шаг лошади равнялся примерно сорока футам. Она бежала крупной рысью, и ее движения напоминали мне колебания корабля во время бури, когда он то вздымается на волну, то низвергается в бездну. Только у лошади движения были быстрее. Сделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сент-Ольбансом. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где он обычно останавливался. Посоветовавшись с владельцем гостиницы, он нанял грультруда, то-есть глашатая. Этот глашатай должен был оповестить горожан о необыкновенном существе, которое будут показывать в гостинице под вывеской: «Сплекнок очень похож на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки».
Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной, вероятно, в триста квадратных футов. Моя нянюшка стояла на табурете возле самого стола, чтобы охранять меня и давать мне указания. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более тридцати человек сразу. По команде девочки я маршировал взад и вперед по столу; она задавала мне вопросы, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдальклич дала мне вместо рюмки, и выпивал за здоровье публики. Я выхватывал кортик и размахивал им, как это делают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал с ней упражнения, как с пикой. В юности меня обучали этому искусству. За день у меня перебывало двенадцать групп зрителей, и каждый раз мне приходилось сызнова повторять те же штуки. В конце концов все это страшно надоело мне и утомило до полусмерти. Видевшие представления рассказывали обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне; из предосторожности скамьи для зрителей были отставлены далеко от стола. Тем не менее какой-то школьник успел запустить в меня орехом. Орех был величиной с нашу тыкву. К счастью, мальчишка промахнулся, иначе орех наверное раскрошил бы мне череп. К моему удовольствию, озорника отколотили и выгнали вон из зала.
Хозяин объявил по городу, что в ближайший базарный день он снова будет меня показывать. Тем временем он изготовил для меня более удобное походное жилище. Я очень нуждался в нем. Первое путешествие и непрерывное восьмичасовое представление довели меня до полного изнеможения. Я еле держался на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых три дня, чтобы отдохнуть и прийти в себя, тем более что и дома я не знал покоя. Соседние дворяне, наслышавшись обо мне, постоянно приезжали к хозяину посмотреть на диковину. Каждый день у меня бывало не менее тридцати человек с женами и детьми. Мой хозяин наживал на этом хорошие деньги, так как, показывая меня дома, он всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом, в течение нескольких недель я почти не имел отдыха (кроме среды — их воскресенья), несмотря на то что меня не возили в город.
Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мной все крупные города королевства. Собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав распоряжения по хозяйству, он простился с женой, и 17 августа 1703 года, то-есть через два месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этой страны, на расстоянии трех тысяч миль от нашего дома. Хозяин посадил позади себя свою дочь Глюмдальклич. Она держала меня на коленях в ящике, пристегнутом к ее поясу. Девочка обила стенки ящика самой мягкой материей, какую только можно было найти, а пол устлала войлоком, поставила мне кроватку куклы, снабдила меня бельем и всем необходимым и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом.
Мой хозяин показывал меня во всех городах, лежавших на нашем пути. Иногда он сворачивал на пятьдесят и даже на сто миль в сторону от дороги, в какой-нибудь поселок или в имение знатного человека, где надеялся хорошо заработать. Мы делали в день не больше ста сорока или ста шестидесяти миль, потому что Глюмдальклич, заботясь обо мне, жаловалась, что устает от верховой езды. По моему желанию, она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и посмотреть окрестности. При этом она крепко держала меня за помочи. Мы переправились через пять или шесть рек, в несколько раз шире и глубже Нила или Ганга. Едва ли по дороге нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза у Лондонского моста. Мы пробыли в пути десять недель. В течение этого времени меня показывали в восемнадцати больших городах, не считая множества деревень и частных домов.
25 октября мы прибыли в столицу по имени Лорбрульгруд, или Гордость Вселенной. Мой хозяин остановился на главной улице, неподалеку от королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих дарований. Он нанял большой зал, шириной в триста или четыреста футов, и поставил в нем стол футов шестидесяти в диаметре; стол этот был обнесен решеткой, высотой в три фута, чтобы предохранить меня от падения. На нем я должен был проделывать свои упражнения. К общему удовлетворению и восхищению, меня показывали по десяти раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать нетрудные фразы. Этим я был обязан моей Глюмдальклич, которая занималась со мной дома, а также во время путешествия. Она взяла с собой маленькую книжечку, заключавшую в себе краткий катехизис для девочек. По этой книжечке она выучила меня азбуке и чтению.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Автора требуют ко двору. Королева покупает его у фермера и представляет королю. Автор вступает в диспут с великими учеными его величества. Ему устраивают помещение во дворце. Он в большой милости у королевы. Он защищает честь своей родины. Его ссоры с карликом королевы.
Ежедневные представления, продолжавшиеся в течение нескольких недель, сильно подорвали мое здоровье. Чем больше денег получал хозяин, тем ненасытнее он становился. Я совсем потерял аппетит и стал похож на скелет. Заметив это, фермер пришел к заключению, что я скоро умру, и потому решил извлечь из меня все, что только возможно. Но как раз в это время к нему явился слардрал, или королевский адъютант, с требованием немедленно доставить меня во дворец для развлечения королевы и придворных дам. Некоторые из этих дам уже успели посмотреть меня и распустили необыкновенные слухи о моей красоте, хороших манерах и большой сообразительности. Ее величество и свита пришли от меня в неописанный восторг. Я упал на колени и попросил позволения поцеловать ногу ее величества, но королева милостиво протянула мне мизинец, который я обнял обеими руками и с глубоким почтением поднес к губам. Она задала мне несколько вопросов относительно моей родины и путешествий. Я отвечал на них коротко и отчетливо.
Затем она спросила, буду ли я доволен, если меня оставят во дворце. Я низко поклонился королеве и скромно отвечал, что я раб своего хозяина, но что если бы я был свободен распоряжаться своей судьбой, то с радостью посвятил бы свою жизнь служению ее величеству. Тогда королева спросила моего хозяина, согласен ли он продать меня за хорошую цену. Мой хозяин очень обрадовался случаю отделаться от меня, так как боялся, что я не проживу и месяца. Он запросил тысячу золотых, которые тут же ему были отсчитаны. В переводе на английские деньги эта сумма равна примерно тысяче гиней. Когда сделка была закончена, я обратился к королеве с просьбой.
«Теперь, — сказал я, — в качестве преданнейшего вассала вашего величества, я осмеливаюсь просить у вас особой милости. Моя нянюшка, Глюмдальклич, всегда была очень добра и внимательна ко мне. Она прекрасно изучила мои привычки и отлично ухаживает за мной. Поэтому я прошу ваше величество принять ее к себе на службу, чтобы она попрежнему осталась моей нянюшкой и наставницей».
Королева согласилась на мою просьбу. Отец девочки "был очень доволен, что его дочь устроена при дворе, а сама Глюмдальклич не могла скрыть свою радость. Мой бывший хозяин удалился, пожелав мне всякого благополучия. Он прибавил, что оставляет меня на прекрасной службе. Я не ответил ему ни слова и ограничился только легким поклоном.
Королева заметила мою холодность и, когда фермер оставил апартаменты, спросила о ее причине. Я взял на себя смелость подробно ответить ее величеству.
«Этому человеку я обязан только тем, — сказал я, — что мне, бедному, безобидному созданию, не размозжили голову, когда случайно нашли на его поле. Однако фермер с избытком вознагражден за это одолжение. Он выручил за меня столько денег, что стал богатым человеком. А между тем жилось мне у него очень плохо. Любое животное не вынесло бы той жизни, какую он для меня создал. Он принуждал меня с утра до ночи забавлять зевак. Это так подорвало мое здоровье, что фермер опасался за мою жизнь. Только поэтому он и уступил меня так дешево. Но я надеюсь, что его опасения напрасны. Под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенной, услады своих подданных, феникса* творения, мне нечего бояться дурного обращения, и я не сомневаюсь, что я очень быстро поправлюсь. Уж от одного присутствия вашего величества я чувствую себя гораздо лучше и бодрее».
Такова была в общих чертах моя речь. Она была очень нескладна, и я произнес ее с большими запинками. В конце я пустил в ход несколько принятых здесь в обращении к августейшим особам выражений. Им научила меня Глюмдальклич.
Королева весьма снисходительно отнеслась к моему недостаточному знанию языка. Она была крайне удивлена тем, что нашла в таком маленьком создании столько ума и здравого смысла. Она взяла меня в руку и понесла в кабинет к королю. Его величество государь, важный и суровый, мельком взглянул на меня и холодно спросил королеву, с каких это пор она пристрастилась к сплекнокам. Я лежал ничком на правой руке королевы, и, повидимому, он принял меня за это животное. Государыня, отличавшаяся тонким умом и веселым характером, бережно поставила меня на письменный стол и приказала рассказать его величеству о моих приключениях. Я кратко описал все, что со мной случилось. Глюмдальклич, получив позволение войти, подтвердила мои слова.
Король был одним из самых ученых людей во всем государстве и получил отличное философское и особенно математическое образование. Он внимательно рассмотрел меня. Видя, что я хожу прямо, он сначала принял меня за заводную фигурку с часовым механизмом, сделанную каким-нибудь изобретательным мастером. Но когда он услышал мой голос и убедился, что я говорю связно и разумно, то не мог скрыть своего удивления. Он не поверил ни одному слову из моего рассказа. Повидимому, он подозревал, что вся эта история выдумана Глюмдальклич и ее отцом, которые заставили меня заучить ее, чтобы выгоднее меня продать. Ввиду этого он задал мне ряд других вопросов, на которые получил вполне разумные ответы. Единственным недостатком моей речи было плохое произношение и несколько неловких оборотов, свидетельствовавших о дурном знании языка. Кроме того, я употребил несколько неуместных при дворе простонародных выражений, которые часто слышал в семье фермера. Все это было вполне простительно для иностранца.
По обычаям этого государства, при дворе постоянно дежурили ученые, сменявшиеся каждую неделю. Его величество распорядился немедленно пригласить их.
Эти господа долго и тщательно изучали мою внешность и пришли к противоречивым выводам. Только в одном они были единодушны: такое создание, как я, не могло явиться на свет согласно нормальным законам природы, ибо я лишен способности самосохранения: не умею быстро бегать, или взбираться на деревья, или рыть норы в земле. Обследовав внимательно мои зубы, ученые признали, что я животное плотоядное. Но они не могли понять, как я добываю себе пищу, потому что большинство четвероногих сильнее меня, а полевая мышь и некоторые другие отличаются гораздо большим проворством. Сначала они склонялись к мысли, что я питаюсь улитками и разными насекомыми, но после многих ученейших рассуждений и споров это предположение было отвергнуто.
Один из этих мудрецов высказался в том смысле, что я являюсь только зародышем или недоноском. Но двое других опровергли это мнение, указав на то, что все члены моего тела вполне развиты и что я живу уже много лет, о чем красноречиво свидетельствует моя борода, которую они отчетливо видели в лупу. Они не могли также признать меня простым карликом: я был слишком мал для этого. Любимый карлик королевы, самый маленький человек во всем государстве, был ростом в тридцать футов.
После долгих споров они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как рельплюм сколькатс, что в буквальном переводе означает lusus naturae (игра природы). Это определение вполне в духе современной европейской философии. Как известно, наши философы любят разрешать все трудности, встречающиеся при изучении природы, ссылкой на это чудесное, но маловразумительное явление. В этом, без сомнения, сказывается великий прогресс человеческого знания*.
Выслушав это мудрое заключение, я попросил позволения сказать несколько слов. Обратившись к королю, я уверил его величество, что прибыл из страны, где живут миллионы существ одинакового со мной роста. Там все животные, деревья, дома имеют соответственно меньшие размеры, чем здесь. Поэтому у себя дома я так же способен защищаться и добывать себе пищу, как делает это здесь любой подданный его величества, так что все аргументы господ ученых несостоятельны.
На это они с презрительной улыбкой заявили, что фермер давал мне прекрасные уроки. Король, человек гораздо более рассудительный, чем все эти ученые мужи, отпустил их и послал за фермером. К счастью, он еще не успел уехать из города. Расспросив фермера наедине, а потом устроив ему очную ставку со мной и дочерью, его величество стал склоняться к мысли, что все рассказанное мною близко к истине. Он выразил желание, чтобы королева окружила меня особыми заботами, и изъявил согласие оставить при мне Глюмдальклич, потому что сразу заметил нашу взаимную привязанность.
Для девочки было отведено помещение при дворе; ей назначили гувернантку, которая должна была заняться ее воспитанием, горничную, чтобы одевать ее, и еще двух служанок для других услуг. Но попечение обо мне было всецело возложено на Глюмдальклич.
Королева приказала придворному столяру смастерить ящик, который мог бы служить мне спальней. Этот столяр был замечательный мастер: в три недели он соорудил, по моим указаниям, деревянную комнату в шестнадцать футов длины и ширины и двенадцать футов высоты, с опускающимися окнами, дверью и двумя шкафами, как обыкновенно устраиваются спальни в Лондоне. Потолок был устроен так, что его можно было открывать и закрывать. Это давало возможность Глюмдальклич ежедневно проветривать и убирать комнату.
Королевский обойщик изготовил для меня прекрасную кровать, и моя нянюшка каждое утро выносила ее на воздух, собственноручно убирала, а вечером снова ставила на место. Другой мастер, специалист по изящным безделушкам, сделал для меня из какого-то особенного материала, похожего на слоновую кость, два кресла с подлокотниками и спинками, два стола и комод. Все стены комнаты, а также потолок и пол были обиты войлоком для предупреждения несчастных случаев при переноске моего жилища, а также для того, чтобы ослабить тряску во время езды в экипаже.
Я попросил сделать в двери замок, чтобы оградить мою комнату от крыс и мышей. После многих усилий слесарю удалось наконец изготовить самый крошечный замочек, какой здесь только видели, но мне только раз случилось видеть больший у ворот одного барского дома в Англии. Ключ я всегда носил в кармане, боясь, чтобы Глюмдальклич его не потеряла.
Королева приказала сделать мне костюм из самой тонкой шелковой материи, какую только можно было найти. И все же эта материя была толще английских одеял и доставляла мне немало беспокойств, пока я не привык к ней. Костюм был сшит по местной моде, напоминавшей частью персидскую, частью китайскую, и был очень скромен и приличен.
Королева так полюбила мое общество, что никогда не обедала без меня. На стол, за которым сидела ее величество, возле ее левого локтя ставили мой столик и стул. Глюмдальклич стояла около меня на табурете: она присматривала и прибирала за мной.
У меня был полный серебряный сервиз, состоявший из блюд, тарелок и другой посуды; по сравнению с посудой королевы он напоминал детские кукольные сервизы, какие мне случалось видеть в лондонских игрушечных лавках. Моя нянюшка носила этот сервиз в кармане в серебряном ящике; за обедом она ставила что было нужно на моем столе, а после обеда сама все мыла и чистила.
Кроме королевы, за ее столом обедали только две ее дочери-принцессы; старшей было шестнадцать лет, а младшей тринадцать и один месяц. Ее величество имела обыкновение собственноручно класть мне на блюдо кусок говядины, который я резал сам. Наблюдать за моей едой и моими крошечными порциями доставляло ей большое удовольствие. Сама же королева брала в рот сразу такой кусок, который насытил бы дюжину английских фермеров.
Первое время я не мог смотреть без отвращения, как она ела. Она грызла и съедала с костями крылышко жаворонка, хотя оно было в десять раз больше крыла нашей индейки, и откусывала кусок хлеба величиной в две наши ковриги по двенадцать пенни. Она залпом выпивала золотой кубок вместимостью с нашу бочку. Ее столовые ножи были в два раза больше нашей косы, если ее выпрямить. Соответственного размера были также ложки и вилки. Однажды Глюмдальклич снесла меня в столовую, чтобы показать мне лежавшие вместе десять или двенадцать этих огромных ножей и вилок. Мне кажется, что я никогда не видел более страшного зрелища.
Каждую среду (среда здесь считается праздничным днем) король, королева и их дети обыкновенно обедали вместе в покоях его величества. На таких обедах мой стул и стол ставили по левую руку его величества, любимцем которого я сделался.
Государь с удовольствием беседовал со мной. Он подробно расспрашивал меня о Европе, тамошних нравах, религии, знакомых, просвещении, и я по мере сил давал ему обо всем самые подробные сведения. Ум короля отличался большой ясностью, а суждения точностью, и он делал чрезвычайно глубокие и тонкие замечания по поводу сообщаемых мною фактов. Но один раз король не выдержал. Я долго и с увлечением распространялся о моем любезном отечестве, о нашей торговле, войнах на суше и море, о религиозном расколе и политических партиях. Король внимательно слушал, но наконец в нем заговорили предрассудки воспитания. Он взял меня в правую руку и, лаская левой рукой, с громким смехом спросил, кто же я: виг или тори? Затем, обратясь к первому министру, который стоял тут же с белым жезлом длиной в грот-мачту английского корабля «Монарх», король заметил, как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые, как я, могут его перенимать. «Держу пари, — добавил он, — что у этих созданий существуют титулы и ордена; они мастерят гнездышки и норки и называют их домами и городами; они щеголяют нарядами и выездами, они любят, сражаются, ведут диспуты, плутуют, изменяют».
Он довольно долго говорил на эту тему, и краска гнева покрыла мое лицо. Я кипел от негодования, слушая эти презрительные отзывы о моем благородном отечестве, рассаднике наук и искусств, победителе в битвах, биче Франции, третейском суде Европы, кладезе добродетели и набожности, чести и истины, гордости и зависти вселенной.
Но по зрелом размышлении я стал сомневаться, следует ли мне считать себя обиженным, тем более что в моем положении я не мог отвечать на обиды обидами. За несколько месяцев пребывания в этой стране я привык к внешности и разговорам ее обитателей. К тому же все вокруг по своим размерам вполне соответствовало гигантскому росту этих людей. Мало-помалу они перестали возбуждать во мне страх. Мне стало казаться, будто я нахожусь в обществе разряженных в праздничные платья английских лордов и леди, с их важной поступью, поклонами и пустой болтовней. Сказать правду, у меня нередко рождалось такое же сильное искушение посмеяться над ними, какое испытывал король и его вельможи, глядя на меня. Я не мог также удержаться от улыбки над самим собой, когда королева подносила меня к трюмо, где мы оба были видны во весь рост. Ничто не могло быть смешнее этого контраста. Подчас я испытывал такое ощущение, будто не они великаны, а я сам уменьшился в несколько раз.
Больше, чем все другие, меня раздражал и оскорблял карлик королевы. Его рост не превышал тридцати футов, и до моего появления он был самым маленьким человечком во всей стране. Немудрено, что при виде создания, во много раз уступавшего ему ростом, он гордо подбоченивался и нагло поглядывал на меня при встречах в передней королевы.
Когда мне случалось, стоя на столе, беседовать с придворными, он никогда не пропускал случая отпустить какую-нибудь остроту насчет моего роста и наружности. В отместку я называл его своим братом или вызывал на поединок — словом, пускал в ход все уловки, принятые среди придворных пажей.
Однажды за обедом этот злобный щенок так рассердился на какое-то мое замечание, что, взобравшись на ручки кресла ее величества, схватил меня за талию и бросил в серебряную чашку со сливками. Я окунулся с головой в сливки. К счастью, я отличный пловец. В противном случае мне пришлось бы очень плохо. Глюмдальклич в эту минуту находилась на другом конце комнаты, а королева так растерялась, что не могла помочь мне. Наконец прибежала моя нянюшка и вынула меня из чашки. Однако я успел проглотить пинты две сливок. Меня уложили в постель. К счастью, все обошлось благополучно. Только костюм был испорчен, и его пришлось выбросить. Карлика больно высекли и, кроме того, заставили выпить чашку сливок, в которых по его милости я искупался. С тех пор карлик навсегда потерял расположение королевы. Спустя некоторое время она подарила его одной знатной даме, и я его больше не видел. Я был очень рад этому. Трудно сказать, что еще мог придумать этот злобный урод.
Еще раньше он сыграл со мной одну грубую шутку. Однажды за обедом ее величество взяла на тарелку мозговую кость и, вытряхнув из нее мозг, положила обратно на блюдо. Карлик, улучив момент, когда Глюмдальклич пошла к буфету, вскочил на табурет, на котором она всегда стояла, присматривая за мной во время обеда, схватил меня обеими руками и, стиснув мне ноги, засунул выше пояса в пустую кость. Мне казалось унизительным звать на помощь, и прошло, вероятно, не меньше минуты, прежде чем эту проказу заметили и освободили меня из плена. Должно быть, я представлял очень смешную фигуру. При дворе редко подают горячие кушанья. Только этому обстоятельству я обязан тем, что не обжег ног, но мои чулки и панталоны оказались в плачевном состоянии. Хотя королева не могла удержаться от смеха при виде моей плачевной фигуры, но все же она очень рассердилась на карлика. Только мое заступничество спасло его от изгнания.
Королева часто смеялась над моей боязливостью и спрашивала, все ли мои соотечественники такие же трусы. Поводом к насмешкам королевы послужило следующее обстоятельство. Летом здесь множество мух. Эти проклятые насекомые величиной с крупного жаворонка не давали мне за обедом ни минуты покоя. Они садились иногда на мое кушанье, оставляя на нем свои омерзительные испражнения или яйца, которые я легко различал простым глазом. Иногда мухи садились мне на нос или на лоб и кусали меня до крови. От них шел отвратительный запах. А на их лапках я замечал следы того липкого вещества, которое, по словам наших натуралистов, позволяет этим насекомым свободно гулять по потолку. Мне стоило больших хлопот защищаться от гнусных тварей.
Любимой забавой карлика было набрать в кулак несколько мух, как это делают у нас школьники, и неожиданно выпустить их мне под нос, чтобы рассмешить королеву и испугать меня. Единственной моей защитой от мух был кортик, которым я рассекал их на части в то время, когда они подлетали ко мне. Своей ловкостью я вызывал общее восхищение.
В хорошую погоду Глюмдальклич каждое утро ставила мой ящик на подоконник, чтобы я мог подышать свежим воздухом. Замечу кстати, что я никогда не соглашался, чтобы мой ящик вешали за окном, как у нас в Англии вешают клетки с птицами. Помню, как однажды утром она поставила ящик и куда-то ушла. Я открыл окно, сел за стол и принялся завтракать куском сладкого пирога. Вдруг штук двадцать ос, привлеченных запахом, влетели в мою комнату. Комната наполнилась таким жужжаньем, словно в ней заиграло двадцать волынок. Одни завладели моим пирогом и раскрошили его на кусочки, другие кружились у меня над головой, оглушая меня жужжаньем и наводя неописуемый ужас своими жалами. Тем не менее у меня хватило храбрости выхватить кортик и напасть на них. Четырех я убил, остальные улетели, после чего я мгновенно захлопнул окно. Эти насекомые были величиной с куропатку. Я вытащил у убитых жала. Они достигали полутора дюймов в длину и были остры, как иглы. Все четыре жала я тщательно сохранил и потом показывал вместе с другими редкостями в Европе. По возвращении в Англию три я отдал в Грешэм-колледж, а четвертое оставил у себя.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Описание страны. Предлагаемое автором исправление географических карт. Королевский дворец. Несколько слов о столице. Как автор путешествовал. Описание главного храма.
Теперь я намерен дать краткое описание страны — вернее, той ее части, которую я успел осмотреть во время своих поездок, примерно тысячи на две миль вокруг Лорбрульгруда, столицы королевства. Эти поездки я совершал, сопутствуя королеве, а она никогда не удалялась от столицы на большее расстояние; даже сопровождая короля в его путешествиях, она не ехала с ним дальше, а останавливалась и ждала возвращения его величества. Владения этого монарха простираются на шесть тысяч миль в длину и от трех до пяти тысяч миль в ширину. Отсюда я заключаю, что наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией*. Я был всегда того мнения, что здесь непременно должна быть земля, служащая противовесом громадному материку Татарии. По-моему, им необходимо исправить свои карты и нанести на них эту огромную страну. Я охотно окажу им всяческое содействие.
Описываемое королевство представляет полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом высотой до тридцати миль. Этот хребет совершенно непроходим, так как все его вершины — действующие вулканы. Величайшие ученые не знают, кто обитает по ту сторону гор и можно ли там жить. С трех остальных сторон полуостров окружен океаном. Но во всем королевстве нет ни одного удобного порта. Побережье, где реки впадают в море, густо усеяно острыми скалами. Между скал всегда бушует свирепый прибой. Словом, прибрежная полоса моря недоступна даже самым маленьким лодкам. Зато огромные реки покрыты судами и изобилуют превосходной рыбой. Морскую же рыбу они ловят редко, потому что она такой же величины, как и в Европе, и, следовательно, слишком мелка для них.
Читатель видит, что природа, создав животных и растения столь необычайных размеров, ограничила их распространение только этим континентом. Отыскать причины этого явления я предоставляю нашим философам. Впрочем, бури выбрасывают иногда китов на прибрежные скалы; туземцы ловят их и охотно употребляют в пищу. Я видел как-то кита, которого человек с трудом мог нести на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбрульгруд. Однажды мне пришлось видеть огромного кита за королевским столом; его подавали, как редкое блюдо, но я не заметил, чтобы это кушанье понравилось королю. Мне кажется, что он чувствовал отвращение к этому исполину китовой породы.
Страна плотно населена. В ней насчитывается пятьдесят один большой город, около ста крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Для удовлетворения любопытства читателей достаточно будет описать Лорбрульгруд. Город расположен по обоим берегам реки, которая делит его на две почти равные части. В нем свыше восьмидесяти тысяч домов и около шестисот тысяч жителей. Он тянется в длину на три глюнглюнга (что составляет около пятидесяти четырех английских миль), а в ширину — на два с половиной глюнглюнга. Я сам произвел эти измерения на плане величиной в сто квадратных футов, составленном по приказанию короля и нарочно для меня разложенном на земле. Я снял башмаки, взошел на план, шагами измерил несколько раз его диаметр и окружность. После этого я без труда определил по масштабу точные размеры города.
Королевский дворец представляет беспорядочную группу зданий, занимающих семь миль в окружности. Парадные залы имеют по большей части двести сорок футов высоты и соответствующую длину и ширину.
Для меня и моей нянюшки была предоставлена карета. Глюмдальклич в сопровождении гувернантки часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике. Впрочем, по моей просьбе, девочка нередко вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы я мог удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше Вестминстер-Голла[16], но не такая высокая. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок. Воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие. Для моего непривычного европейского глаза это было ужасное зрелище. Среди нищих была женщина с такими ранами на груди, что я легко мог в них забраться и скрыться там, как в пещере. У другого нищего на шее висел зоб величиной в пять тюков шерсти. Третий стоял на деревянных ногах высотой в двадцать футов каждая. Но омерзительнее всего были вши, ползавшие по их одежде. Простым глазом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапки европейской вши. Так же ясно я видел их рыла, которыми они копались в коже несчастных, словно свиньи. В первый раз в жизни мне случилось встретить подобных животных. Я бы с большим интересом анатомировал одно их них, несмотря на то, что их вид возбуждал во мне тошноту. Но у меня не было хирургических инструментов: они, к несчастью, остались на корабле.
Большой ящик, где я жил, был очень неудобен для поездок: он с трудом помещался на коленях Глюмдальклич и загромождал карету. Поэтому королева заказала специальный дорожный ящик, поменьше, около двенадцати футов в длину. Этот второй ящик был сделан, по моим указаниям, тем же самым мастером. Он был квадратный, и в трех его стенках было проделано по окну; для предохранения от всяких неприятных случайностей в пути каждое окно было защищено снаружи железной проволокой. К четвертой, глухой, стороне были прикреплены две прочные скобы; когда мне хотелось прокатиться на лошади, всадник просовывал в них кожаный ремень и пристегивал ящик к своему поясу. Эту обязанность всегда исполнял верный и опытный слуга, на которого я мог положиться. Такие поездки я совершал довольно часто. Иногда я сопровождал короля и королеву в их путешествиях, иногда отправлялся осматривать парки и сады, нередко я делал визиты придворным дамам или министрам. Надо заметить, что очень скоро я познакомился с самыми высокими сановниками. Все они оказывали мне величайшее почтение — конечно, не столько ради моих личных достоинств, сколько потому, что я был в милости у их величеств.
Если во время далеких путешествий меня утомляла езда в карете, слуга, ехавший верхом, пристегивал к поясу мой ящик и ставил его на подушку перед собой. Таким образом я мог из окон осматривать окрестности. В ящике у меня были походная постель — гамак, подвешиваемый к потолку, два стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли опрокинуться во время движения лошади или кареты. Мне самому, как старому моряку, дорожная тряска — по временам очень сильная — не причиняла большого беспокойства.
Каждый раз, когда у меня возникало желание посмотреть город, я входил в свой дорожный кабинет, Глюмдальклич ставила его к себе на колени, садилась в открытый портшез и нас, согласно обычаю этой страны, несли четыре человека в сопровождении двух камер-лакеев королевы. Народ, наслышавшись обо мне, всегда толпился вокруг портшеза. Тогда девочка приказывала носильщикам остановиться и поднимала меня на руке, чтобы любопытным было удобнее меня рассматривать.
Мне очень хотелось посетить главный храм и особенно высившуюся над ним башню, которая считалась самой высокой в королевстве. И вот однажды моя нянюшка поднялась со мной на самый верх. Но, сознаюсь откровенно, я вернулся домой разочарованным. Считая от основания до вершины, высота башни не превышала трех тысяч футов. Если принять во внимание разницу в росте между европейцем и туземцем, такая высота не казалась сколько-нибудь удивительной. Строго говоря, эта башня была намного ниже колокольни собора в Солсбери* — разумеется, пропорционально росту строителей того и другого здания. Но я совсем не хочу умалять даровитость нации, которой я столь многим обязан. Поэтому я рад сказать, что относительно небольшая высота этой башни с избытком искупается ее исключительной красотой и прочностью. Стены ее, толщиной почти в сто футов, сложены из тесаных камней. Каждый из этих камней равен сорока кубическим футам. В стенах устроены ниши, где высятся мраморные статуи богов и императоров больше чем в натуральную величину. В куче мусора возле башни валялся отломанный мизинец от одной статуи. Я измерил его и нашел, что длина его равняется четырем футам и одному дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и положила себе в карман. Как и все дети, она очень любила разные безделушки и с увлечением собирала их.
Королевская кухня — поистине величественное здание со сводами высотой около шестисот футов. Главная печь имеет в ширину только на десять шагов меньше, чем купол св. Павла*, который я нарочно измерил по возвращении в Англию. Но, я думаю, мне никто не поверит, если я стану описывать рашперы[17], чудовищные горшки и котлы и другие гигантские принадлежности этой кухни. Строгие критики, наверно, подумают, что я, подобно всем путешественникам, несколько преувеличиваю. А в то же время я опасаюсь, как бы мне при попытке избежать упреков в преувеличении не впасть в другую крайность. Возможно, что когда-нибудь эти записки будут переведены на бробдингнегский язык (Бробдингнег — название этого королевства), и мне бы очень не хотелось, чтобы король и его подданные имели основание обижаться на меня за то, что я дал ложное и преуменьшенное представление об их стране.
Его величество редко держит в своих конюшнях более шестисот лошадей. Ростом они от пятидесяти четырех до шестидесяти футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает гвардия в количестве пятисот всадников. Долгое время мне казалось, что не может быть зрелища более блистательного и величественного. Но мне пришлось переменить мнение, когда я увидел королевскую армию в полном боевом порядке.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Различные приключения автора. Автор показывает свое искусство в мореплавании.
Моя жизнь была бы довольно счастливой, если бы благодаря своему росту я не подвергался разным смешным и досадным приключениям. Некоторые из этих приключений я позволю себе рассказать читателю.
Глюмдальклич часто выносила меня в дорожном ящике в дворцовый сад. Иногда она вынимала меня из ящика и держала на руке или спускала на землю. Однажды, еще в то время, когда карлик жил при дворе, он пошел в сад следом за нами. Моя нянюшка спустила меня на землю возле карликовых яблонь. Тут же остановился и карлик. Заметив это, я не удержался и довольно плоско пошутил над тем, что и деревья и он одинаково карлики. В отместку злой шут подстерег, когда я проходил под одной из яблонь, и встряхнул ее. С десяток яблок величиной с хороший бочонок посыпалось на меня; одно из них угодило мне в спину и сшибло меня с ног. Я плашмя растянулся на земле. К счастью, я не получил повреждений. Эта шалость прошла для карлика без наказания. Я первый задел его и потому постарался выхлопотать ему прощение.
В другой раз Глюмдальклич отлучилась куда-то со своей гувернанткой и оставила меня одного на садовой лужайке. Внезапно разразился страшный град. Я тотчас был сбит с ног, и градины величиной с теннисные мячи жестоко меня избили. С величайшим трудом на четвереньках добрался я до гряды с тмином и нашел там убежище. Но я был так избит, что пролежал в постели десять дней. В этом нет ничего удивительного. Каждая градина здесь почти в тысячу восемьсот раз больше, чем у нас в Европе. Я могу утверждать это на основании опыта, потому что из любопытства взвешивал и измерял тамошние градины.
В том же саду со мной произошло другое приключение, гораздо более опасное. Мне нередко хотелось побыть в одиночестве, чтобы без помех отдаться своим думам и воспоминаниям. Тогда я просил нянюшку оставить меня одного в каком-нибудь тихом и безопасном уголке сада. И вот однажды Глюмдальклич вынесла меня в сад и, предоставив мне полную свободу, ушла с гувернанткой и знакомыми дамами в другую часть сада, откуда не могла слышать моего голоса. Во время ее отсутствия небольшой белый спаньель[18] принадлежавший одному из садовников, случайно забрался в сад и пробегал недалеко от места, где я лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила в зубы, принесла к хозяину и, виляя хвостом, осторожно положила на землю. К счастью, собака была очень хорошо выдрессирована и несла меня так осторожно, что не только не поранила, но даже не порвала мне платья. Бедный садовник хорошо знал меня и страшно перепугался. Он осторожно поднял меня обеими руками и спросил, как я себя чувствую. Но от неожиданности у меня захватило дух, и я не мог выговорить ни слова. Спустя несколько минут я пришел в себя, и садовник отнес меня невредимым к моей нянюшке. Та уже успела вернуться и в страшной тревоге разыскивала и окликала меня. Она выбранила садовника за собаку. Но мы умолчали об этом случае. Глюмдальклич боялась гнева королевы, а я, говоря откровенно, не хотел разглашать при дворе историю, в которой играл не слишком завидную роль.
После этого случая Глюмдальклич твердо решила ни на минуту не выпускать меня из виду на прогулках. Я уже давно опасался, что она примет такое решение, и потому скрывал от нее некоторые незначительные приключения, случившиеся со мной в ее отсутствие. Раз на меня ринулся коршун, паривший над садом. Он, наверно, унес бы меня в своих когтях. Но я смело вытащил кортик и, обороняясь, убежал под густой шпалерник. В другой раз я взобрался на свежую кротовью кучу и провалился по шею в нору. Чтобы объяснить, почему у меня испорчено платье, я выдумал какую-то небылицу, которую не стоит повторять. Как-то раз, гуляя в одиночестве по садовой дорожке и вспоминая мою бедную Англию, я споткнулся о раковину улитки и сломал себе правую ногу.
Мне трудно сказать — удовольствие или же унижение испытывал я во время моих одиноких прогулок по саду. Даже самые маленькие птицы не выказывали никакого страха при виде меня. Они прыгали на расстоянии какого-нибудь ярда от меня и хватали червяков и букашек с таким спокойствием, словно вблизи никого не было. Как-то раз дрозд обнаглел до того, что выхватил у меня из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала мне на завтрак. Когда я пытался поймать какую-нибудь птичку, она смело поворачивалась ко мне и норовила клюнуть меня в пальцы, а затем как ни в чем не бывало продолжала охотиться за червяками или улитками. Но однажды я взял толстую дубинку и запустил ею изо всей силы в коноплянку. Удар пришелся так ловко, что птица повалилась замертво. Тогда я обеими руками схватил ее за шею и с торжеством побежал к нянюшке. Между тем птица, которая была только оглушена, пришла в себя и начала отчаянно биться у меня в руках. Она наносила мне крыльями такие удары по голове и туловищу, что я едва не выпустил ее. На выручку мне подоспел слуга, который свернул птице шею. На следующий день, по приказанию королевы, мне подали эту коноплянку на обед. Насколько могу припомнить, она была крупнее нашего лебедя.
Королева постоянно беспокоилась, не слишком ли я тоскую по родине, и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы доставить мне какое-нибудь развлечение. Наслушавшись моих рассказов о морских путешествиях, она как-то спросила меня, умею ли я обращаться с парусом и веслами, и не будет ли полезно для моего здоровья заняться греблей. Я отвечал, что хорошо правлю парусом и отлично гребу. В опасные минуты на корабле не приходится чваниться, и мне — врачу по профессии — не раз приходилось исполнять обязанности простого матроса. Но я решительно недоумевал: каким образом могло быть исполнено желание королевы? В этой стране самая маленькая лодка была не меньше нашего первоклассного военного корабля. А такую лодку, управлять которой было бы мне под силу, на любой здешней реке непременно унесет течением. Тогда ее величество сказала, что под моим руководством королевский столяр сумеет сделать мне подходящую лодку, а для катанья она прикажет устроить специальный бассейн. Столяр, весьма искусный мастер, в десять дней соорудил, по моим указаниям, игрушечную лодку со всеми снастями. Эта лодка могла свободно выдержать восемь европейцев. Когда лодка была окончена, королева пришла в такой восторг, что тотчас же понесла показать ее королю. Король приказал пустить ее для испытания в лохань с водой. Однако лохань оказалась слишком тесной, и я не мог действовать веслами. Но у королевы было другое на уме. Она приказала столяру сделать деревянное корыто в триста футов длины, пятьдесят ширины и восемь глубины. Для предохранения от течи это корыто хорошо просмолили и поставили на полу у стены одной из комнат дворца. В дне корыта был устроен кран для спуска застоявшейся воды, а двое слуг легко могли в полчаса наполнить его водой. В нем я часто занимался греблей как для собственного развлечения, так и желая доставить удовольствие королеве и ее фрейлинам, которых очень забавляли мое искусство и ловкость. Иногда я ставил парус, а дамы производили ветер своими веерами. Когда они уставали, то на мой парус дули пажи, а я, как настоящий моряк, искусно лавировал против ветра или шел в бейдевинд[19]. После катанья Глюмдальклич уносила лодку в свою комнату и вешала ее на гвоздь для просушки.
Раз во время этих упражнений случилось происшествие, едва не стоившее мне жизни. Когда паж опустил лодку в корыто, гувернантка Глюмдальклич любезно подняла меня, чтобы посадить в лодку. Но я как-то выскользнул у нее из пальцев и непременно упал бы на пол с высоты сорока футов. Только счастливая случайность спасла мне жизнь. При падении я зацепился за большую булавку в корсаже этой любезной дамы. Головка булавки прошла между рубашкой и поясом моих штанов, и я повис в воздухе. В эту минуту ко мне на помощь прибежала Глюмдальклич.
В другой раз слуга, на обязанности которого лежало каждые три дня менять воду в корыте, не заметил, что в ведро с водой попала огромная лягушка. Лягушка притаилась на дне корыта. Но едва я в своей лодке выплыл на середину, как она вскарабкалась в лодку и сильно накренила ее на одну сторону. Чтобы лодка не опрокинулась, мне пришлось налечь всей тяжестью тела на противоположный борт. Лягушка стала прыгать со скамейки на скамейку над моей головой, обдавая мое лицо и платье вонючей слизью. Она казалась мне самым безобразным животным, какое можно себе представить. Тем не менее я попросил Глюмдальклич предоставить мне самому разделаться с ней. Несколько хороших ударов веслом заставили ее наконец выскочить из лодки.
Но самым опасным из всех приключений, какие я пережил в этом королевстве, было приключение с обезьяной, принадлежавшей одному из служащих королевской кухни.
Глюмдальклич ушла куда-то по делу или в гости и заперла меня в своей комнате. Погода стояла жаркая, и окно комнаты было открыто, точно так же, как окна и дверь моего большого ящика. Я спокойно сидел у стола, погруженный в раздумье; внезапно я услышал, что кто-то вскочил через окно в комнату Глюмдальклич. Я очень испугался, но все же рискнул выглянуть из моего окошка.
Я увидел обезьяну: она резвилась и скакала по комнате. Наткнувшись на мой ящик, обезьяна принялась с большим любопытством рассматривать его, заглядывая во все окна и в дверь. При виде этого страшного животного я забился в самый дальний угол моей комнаты. Я так растерялся, что мне не пришло в голову спрятаться под кровать. Обезьяна скоро заметила меня. Гримасничая и урча, она просунула в дверь лапу и попыталась поймать меня. Напрасно я перебегал из угла в угол, стараясь ускользнуть от нее. Она очень ловко схватила меня за полу кафтана из прочной шелковой материи и вытащила наружу. Правой передней лапой она прижала меня к груди, подобно тому, как кормилица держит ребенка. Я сам видел у себя на родине, как обезьяны берут таким образом котят. Когда я попытался сопротивляться, она так сильно стиснула меня, что я счел более благоразумным покориться. По всей вероятности, она приняла меня за детеныша своей породы; по крайней мере, она нежно гладила меня по лицу свободной лапой. Шум отворяемой двери прервал эти ласки. Обезьяна мгновенно бросилась в окно, а оттуда полезла по водосточным трубам на крышу соседней постройки. В ту минуту, когда обезьяна уносила меня, я услышал крик Глюмдальклич. Бедная девочка едва не помешалась; весь дворец был поднят на ноги, слуги побежали за лестницами. Сотни людей сбежались на двор и глазели на обезьяну, усевшуюся на самом коньке крыши. Одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот яствами, которые вынимала из защёчных мешков. Если я отказывался от этой пищи, она угощала меня тумаками. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину. Мне кажется, что этих людей нельзя очень осуждать за это. Зрелище бесспорно было очень забавным для всех, кроме меня. Кое-кто из толпы стал швырять в обезьяну камнями, надеясь прогнать ее с крыши. Но дворцовая полиция строго запретила это из опасения, чтобы какой-нибудь камень не попал в меня.
Были приставлены лестницы, и по ним поднялось несколько человек. Увидя себя окруженной, обезьяна бросила меня на конек крыши и дала тягу. Я остался на высоте трехсот ярдов от земли, ожидая каждую минуту, что меня сдует ветром или я сам кубарем скачусь с конька.
К счастью, слуга моей нянюшки, смелый парень, взобрался на крышу, положил меня в карман штанов и благополучно спустился вниз.
Я почти задыхался от всякой дряни, которой обезьяна набила мой рот. Моя милая нянюшка иголкой вычистила мне рот, после чего меня вырвало, и я почувствовал большое облегчение. Но мерзкое животное так меня помяло, что я заболел и пятнадцать дней пролежал в постели.
Король, королева и все придворные каждый день осведомлялись о моем здоровье. Ее величество несколько раз навещала меня во время болезни. Обезьяну убили, и был отдан приказ, запрещающий держать во дворце подобных животных.
По выздоровлении я явился к королю благодарить его за оказанные мне милости. Его величество изволил много шутить над моим приключением. Он спрашивал, какие мысли мне приходили в голову, когда я был в лапах обезьяны, как мне понравились ее кушанья и манера угощать, как повлиял на мой аппетит свежий воздух на крыше. Его величеству угодно было осведомиться, как бы я поступил в подобном случае у себя на родине. На эти вопросы я отвечал его величеству, что обезьян в Европе не водится. Их привозят туда, как диковинку, из чужих стран, и они так малы, что я справился бы с целой дюжиной этих животных, если бы они осмелились на меня напасть. Вероятно, я сумел бы расправиться и с тем чудовищем (обезьяна была не меньше слона), которое недавно на меня напало, не растеряйся я от страха и неожиданности. Я мог бы нанести этому страшилищу, когда оно просунуло лапу в мою комнату, такую рану кортиком, что оно радо было бы поскорее убраться подальше. Говоря это, я принял воинственную позу и схватился за рукоятку кортика, как человек, не допускающий никаких сомнений в своей храбрости. Но моя речь вызвала лишь громкий смех придворных, от которого они не могли удержаться, несмотря на все почтение к его величеству. Это навело меня на грустные мысли о бесплодности всех попыток добиться уважения к себе со стороны людей, стоящих неизмеримо выше нас. Впрочем, по приезде в Англию я не раз имел случай встречать людей, поведение которых по внешности напоминало мое поведение в стране великанов. Какой-нибудь ничтожный и презренный плут, не имея никаких заслуг, ни ума, ни здравого смысла, осмеливается подчас принимать важный вид и пытается равняться с величайшими людьми государства.
Каждый день я давал повод для веселого смеха при дворе. Глюмдальклич, несмотря на свою нежную привязанность ко мне, не упускала случая рассказать королеве о моих выходках, если считала, что они способны позабавить ее величество. Однажды девочке нездоровилось, и гувернантка повезла ее за город, миль за тридцать от дворца, подышать чистым воздухом. Карета остановилась у тропинки, пересекавшей поле. Глюмдальклич поставила мой дорожный ящик на землю, и я отправился прогуляться. На пути лежала куча коровьего помета, и мне вздумалось испытать свою ловкость и попробовать перескочить через эту кучу. Я разбежался, но, к несчастью, сделал слишком короткий прыжок и оказался в самой середине кучи, по колено в помете. Немало труда стоило мне выбраться оттуда. Один из лакеев тщательно вытер своим носовым платком мое перепачканное платье, а Глюмдальклич больше не выпускала меня из ящика до возвращения домой.
Королева немедленно была извещена об этом приключении, а лакеи разгласили о нем по всему дворцу, так что в течение нескольких дней я был предметом общих насмешек.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Различные выдумки автора для развлечения короля и королевы. Он показывает свои музыкальные способности. Король интересуется общественным строем Европы. Замечания короля по поводу рассказов автора.
Обыкновенно раз или два в неделю я присутствовал при утреннем туалете короля и видел, как его бреет цирюльник. Сначала это наводило на меня ужас, так как его бритва была почти в два раза длиннее нашей косы. Следуя обычаям страны, его величество брился только два раза в неделю. Однажды я попросил цирюльника собрать для меня мыльную пену и вытащил оттуда около сорока или пятидесяти самых толстых волос. Затем я раздобыл тоненькую щепочку, обстрогал ее в виде спинки гребешка и просверлил в ней, с помощью самой тонкой иголки, какую можно было достать у Глюмдальклич, ряд отверстий. В отверстия я вставил волоски, обрезав и оскоблив их на концах моим перочинным ножом. Получился довольно сносный гребень. Эта обновка оказалась очень кстати, потому что на моем гребне зубцы пообломались, а ни один здешний мастер не мог сделать мне нового.
В связи с этим мне пришла в голову одна забавная мысль. Чтобы привести ее в исполнение, мне потребовалось много времени и труда. Я попросил камеристку королевы сохранять для меня вычески волос ее величества. Постепенно у меня набралось их довольно много. Тогда я поручил моему приятелю-столяру, которому было приказано исполнять все мои маленькие заказы, сделать под моим наблюдением два стула такой же величины, как те, что стояли у меня в спальне, и просверлить тонким шилом в деревянных рамах спинок и сидений небольшие дырочки. Сквозь эти дырочки я просустил самые крепкие волосы и переплел их, как это делают у нас с камышовыми стульями. Окончив работу, я подарил стулья королеве. Она поставила их в своем будуаре и показывала всем как редкость. Королева изъявила желание, чтобы я сел на один из этих стульев, но я наотрез отказался ей повиноваться. Я сказал, что скорее предпочту умереть, чем присесть на драгоценные волосы, украшавшие когда-то голову ее величества. Из этих же волос я сплел маленький изящный кошелек длиной около пяти футов, с вензелем ее величества, вытканным золотыми буквами. С согласия королевы, я подарил его Глюмдальклич. Говоря правду, этот кошелек был сделан только напоказ. Пользоваться им было нельзя, так как он не мог выдержать тяжести больших монет. Поэтому Глюмдальклич клала туда только безделушки, которые так нравятся девочкам.
Король любил музыку, и при дворе часто давались концерты. Иногда я присутствовал на этих концертах. Мой ящик приносили в концертный зал и ставили на стол. Но оркестр гремел так оглушительно, что я с трудом различал мотив. Я уверен, что все барабанщики и трубачи английской армии не могли бы произвести такого шума, заиграй они все разом. Во время концерта я старался устраиваться подальше от исполнителей, запирал в ящике окна и дверь, задергивал гардины и портьеры. Только при этих условиях я мог получить известное удовольствие от их музыки.
В молодости я учился играть на спинете. Такой же инструмент стоял в комнате Глюмдальклич. Два раза в неделю к ней приходил учитель давать уроки. Я называю этот инструмент спинетом прежде всего потому, что на нем играют так же, как на спинете. Мне пришла в голову мысль развлечь короля и королеву исполнением английских мелодий на этом инструменте. Но это оказалось чрезвычайно трудным и сложным делом. Инструмент имел в длину до шестидесяти футов, и каждая его клавиша была шириной в фут. Вытянув обе руки, я не мог захватить больше пяти клавиш, а чтобы надавить клавишу, я должен был изо всей силы ударить по ней кулаком. Понятно, что при таких условиях я не достиг бы никаких результатов, кроме страшной усталости. Поразмыслив, я приготовил две круглые дубинки; один конец у них был толще другого; толстые концы я обтянул мышиной кожей, чтобы не испортить клавишей и заглушить звук от ударов. Перед спинетом поставили скамью, которая была фута на четыре ниже клавиатуры. Я бегал по этой скамье взад и вперед и колотил дубинками по клавишам. Таким образом я ухитрился сыграть джигу[20], величайшему удовольствию их величеств. Но это было самое изнурительное физическое упражнение, какое мне случалось проделывать. И все же при всем старании я мог пользоваться только шестнадцатью клавишами. Одновременная игра в обоих ключах, на басах и дискантах, была мне недоступна, и это, разумеется, сильно вредило моему исполнению.
Король был, как я уже упоминал, чрезвычайно умным и любознательным человеком. Он часто приказывал приносить меня в ящике к нему в кабинет. Затем он предлагал мне взять из ящика стул, сажал меня на расстоянии трех ярдов от себя на комоде, почти на уровне своего лица, и подолгу беседовал со мной. Однажды я осмелился заметить его величеству, что презрение, выражаемое им к Европе и всему остальному миру, не согласуется с высокими качествами его благородного ума. Ведь умственные способности не возрастают пропорционально размерам тела. Напротив, в нашей стране самые высокие люди очень часто уступают другим по своему умственному развитию. Достойно также внимания, продолжал я, что среди животных пчелы и муравьи пользуются славой самых изобретательных, искусных и смышленых. А ведь они далеко не самые крупные из живых существ. Конечно, что касается меня, то каким бы ничтожным ни выглядел я в глазах короля, я все же надеюсь, что рано или поздно мне удастся оказать его величеству какую-нибудь важную услугу. Король выслушал меня очень внимательно. Вообще после этих бесед его величество значительно изменил к лучшему свое мнение обо мне. Однажды он попросил меня по возможности подробнее и точнее рассказать ему, как и на основании каких законов управляется Англия. «Ибо, — прибавил он, — хотя государи всегда крепко держатся обычаев своей страны, но я был бы рад найти в других государствах что-нибудь достойное подражания».
О, как страстно желал я обладать тогда красноречием Демосфена или Цицерона*, чтобы прославить дорогое мне Отечество в словах, достойных его величия, мощи и преуспеяния!
Прежде всего я сообщил его величеству, что наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства[21] под властью одного монарха; к ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке. Я долго распространялся о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата. Потом я подробно рассказал об устройстве нашего парламента, который состоит из двух палат.
В славной палате пэров* заседают лица самого знатного происхождения, владельцы древнейших и обширнейших вотчин. Я описал, с какой исключительной заботливостью относятся к воспитанию и обучению будущих пэров, этих прирожденных советников короля и королевства, участников в делах законодательства, членов верховного суда, решения которого не подлежат обжалованию, храбрых, благородных и преданных воинов, всегда готовых первыми выступить на защиту своего монарха и отечества.
Эти люди, продолжал я, служат украшением и оплотом королевства. Они являются достойными наследниками своих знаменитых предков и неизменно пользуются всеми почестями, какие те завоевали себе своей личной доблестью. В состав этого высокого собрания входит также определенное число духовных особ, носящих сан епископов. На их обязанности лежат заботы о преуспеянии религии и наблюдение за теми, кто обучает ее истинам народ. Король и его мудрейшие советники выбирают в епископы духовных лиц, наиболее отличившихся святостью жизни и глубиной учености; поэтому они действительно являются наставниками и духовными отцами всего духовенства и народа.
Другую часть парламента, продолжал я, образует собрание, называемое палатой общин. Это собрание перворазрядных джентльменов, свободно избранных самим народом из членов этого влиятельного и зажиточного сословия.
Вполне понятно, что народ выбирает их представлять мудрость всей нации исключительно за их великие способности и любовь к родной стране. Поэтому обе палаты являются самым величественным собранием в Европе. Им вместе с королем поручено все законодательство.
Затем я перешел к описанию наших судебных палат, руководимых почтенными судьями, истыми мудрецами и толкователями законов, на которых возложено разрешение тяжб, наказание порока и ограждение невинности. Я рассказал о бережливом управлении финансами и о храбрых подвигах нашей армии как на суше, так и на море. Я подсчитал общее количество населения в нашей стране, припомнив, сколько миллионов людей числится в каждой религиозной секте и в каждой политической партии. Я упомянул также об играх и увеселениях англичан и вообще не упустил ничего, что, по моему мнению, могло послужить к возвеличению моего отечества. Свое изложение я заключил кратким обзором истории Англии за последнее столетие.
Мой доклад его величеству занял пять аудиенций, каждая из которых тянулась несколько часов. Король слушал меня очень внимательно, многое записывал и намечал те вопросы, которые собирался задать мне.
Когда я окончил свое длинное повествование, его величество в шестой аудиенции высказал целый ряд сомнений и вопросов по каждой из затронутых мною тем. Он спросил: что именно делается для телесного и духовного развития знатной молодежи и в каких занятиях проводит она годы школьной жизни, когда человек легче всего поддается влияниям и внушениям? Король поинтересовался также: как производится пополнение палаты лордов в случае смерти последнего представителя какого-нибудь знатного рода? Кого и за какие заслуги возводят в звание лорда? Не было ли случаев, когда главную роль в этих назначениях играла прихоть короля или деньги, ловко и во-время предложенные какой-нибудь придворной даме или министру, или, наконец, стремление усилить в ущерб общегосударственным интересам определенную партию? Действительно ли эти лорды хорошо знают законы своей страны и способны выступать в качестве вершителей важнейших государственных дел? Все ли они настолько независимы, беспристрастны и чужды корысти, что могут устоять против подкупа, лести, узких партийных соображений? Всегда ли лорды-епископы обязаны этим высоким званием своему глубокому знанию религиозных доктрин и святой жизни? Неужели среди них нет ни одного, кто бы, в бытность простым священником, не угождал суетным интересам знатных мирян? Ни одного капеллана какого-нибудь вельможи, оставшегося послушным рабом своего покровителя и в этом высоком собрании?
Затем король пожелал узнать, какая система практикуется при выборах тех депутатов, которых я назвал членами палаты общин. Разве не может какой-нибудь пришелец, вполне равнодушный к местным интересам, при помощи тугого кошелька убедить избирателей голосовать за него вместо гораздо более достойного кандидата из местных жителей? Почему, наконец, все эти люди так страстно мечтают сделаться членами парламента, если это звание требует огромных издержек, способных привести к полному разорению, и не вознаграждается ни жалованьем, ни пенсией? Подобное бескорыстие требует от человека такой гражданской доблести, что его величество выразил сомнение в его искренности. Ему хотелось выяснить: нет ли у этих страстных поклонников народного представительства надежды вознаградить себя за все тревоги и издержки, потворствуя, во вред общественным интересам, желаниям слабого и порочного монарха и его развращенных министров? Задавая мне эти вопросы, король попутно сделал ряд замечаний, повторять которые я считаю неудобным и неблагоразумным*.
Далее его величеству было угодно получить более подробные сведения о деятельности наших судов. В этом вопросе мне было не трудно полностью удовлетворить его любопытство. В свое время я сам едва не был доведен до полного разорения затянувшимся процессом в верховном суде. И это при том условии, что процесс был мной выигран с присуждением мне судебных издержек. Король спросил: сколько времени требуется суду для выяснения, кто прав и кто виноват, и каких это требует расходов? Дозволено ли адвокатам и стряпчим выступать ходатаями по заведомо несправедливым и беззаконным делам? Оказывает ли влияние на постановление судей принадлежность тяжущихся к религиозным сектам и политическим партиям? Обязаны ли адвокаты иметь специальное юридическое образование или же с них довольно простого знакомства с местными, провинциальными и национальными обычаями? Принимают ли участие эти адвокаты, а равно и судьи, в составлении тех законов, толкование и комментирование которых предоставлено на их усмотрение? Не случалось ли, чтобы одни и те же лица выступали защитниками в том самом деле, в котором раньше выступали в качестве обвинителей? Какое денежное вознаграждение получают они за свои советы и за ведение дел в суде? Могут ли эти люди быть членами нижней палаты?*
Затем король обратился к нашим финансам. Он выразил уверенность, что я ошибся, называя цифры государственных доходов и расходов, так как я определил доходы в пять или шесть миллионов в год, тогда как расходы, по моим словам, нередко больше чем вдвое превышают означенную цифру. Король, по его словам, особенно тщательно записал все, что я говорил по поводу наших финансов, так как надеялся извлечь для себя пользу из знакомства с нашей финансовой системой. Поэтому он не допускал, чтобы его заметки были неточны. Но раз мои цифры были правильны, то король недоумевал, каким образом государство может допускать такие перерасходы, словно оно частный человек. Он спрашивал, откуда оно берет дополнительные средства и где находит деньги для уплаты долгов. Он был поражен, слушая мои рассказы о бесконечных и дорого стоящих войнах. Ему казалось вполне бесспорным, что либо мы сами — сварливый народ, либо окружены дурными соседями. Он сказал, что наши генералы, наверно, богаче королей. Он спрашивал, что за дела могут быть у нас за пределами наших островов, кроме торговли, дипломатических сношений и защиты берегов с помощью флота. Особенно поразило короля то обстоятельство, что нам, свободному народу, необходима наемная регулярная армия в мирное время. Ведь если у вас существует самоуправление, недоумевал король, кого же вам бояться и с кем воевать? И он спросил меня: разве хозяин с детьми и домочадцами не лучше защитят дом, чем полдюжины случайно завербованных на улице мошенников?
Король много смеялся над той странной арифметикой (как угодно было ему выразиться), при помощи которой я определил численность нашего народонаселения, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий.
Короля поразило, что в числе развлечений, которым предается наша знать и наше дворянство, я назвал азартные игры. Ему хотелось знать, с какого возраста начинают играть и до каких лет практикуется это занятие. Не приводит ли иногда увлечение азартными играми к потере состояния? Ему кажется вполне возможным, что бесчестные люди, изучив все тонкости игры, наживают с ее помощью огромные состояния и приобретают большое влияние в обществе. А в то же время знатные и почтенные люди, вращаясь в обществе игроков, постепенно развращаются и сами начинают прибегать к различным плутням, чтобы покрыть свои проигрыши или добиться выигрыша.
Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, порожденных жадностью, лицемерием, вероломством, жестокостью, бешенством, безумием, ненавистью, завистью, злобой и честолюбием.
В заключение его величество взял на себя труд кратко сформулировать все, о чем я говорил. Затем, взяв меня в руки и тихо лаская, обратился ко мне со следующими словами, которых я никогда не забуду:
«Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейшую похвалу вашему отечеству. Вы ясно доказали, что невежество, леность и пороки являются подчас полезнейшими качествами законодателя; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. Кое-что в ваших обычаях и законах можно признать более или менее разумным и целесообразным. Но все это до такой степени искажено, осквернено, замарано позднейшими возмутительными толкованиями и выдумками, что от него почти не осталось никаких следов. Из всего, что вы сказали, не видно, чтобы для занятия высокого положения у вас требовалось обладание какими-нибудь достоинствами. Еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями за свои способности и доблести, чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или ученость, военные — за свою храбрость и благородное поведение, судьи — за свою неподкупность, сенаторы — за любовь к отечеству и государственные советники — за свою мудрость. Что касается вас самих, — продолжал король, — вы провели большую часть жизни в путешествиях. Мне кажется, что до сих пор вам удалось избегнуть многих пороков вашей страны. Но факты, отмеченные мной в вашем рассказе, а также ответы, которые мне с таким трудом удалось выжать и вытянуть из вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников принадлежит к породе маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земле».
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Любовь автора к своему отечеству. Он делает весьма выгодное предложение королю, но король его отвергает. Полная неосведомленность короля в делах политики. О просвещении в этой стране. Ее законы, военное дело и партии.
Только пламенная любовь к истине помешала мне утаить эту часть моей истории. Негодовать и возмущаться было совершенно бесполезно: мое негодование, кроме смеха, ничего не могло возбудить. Поэтому мне пришлось спокойно и терпеливо выслушать этот оскорбительный отзыв о моем благородном и горячо любимом отечестве. Я искренне сожалею, что на мою долю выпала такая роль. Но этот монарх был так любознателен, так жадно стремился выведать от меня малейшие подробности нашей государственной жизни, что ни моя благодарность, ни благовоспитанность не позволяли мне отказать ему в удовлетворении его любознательности. В свое оправдание я должен отметить, что я очень искусно обошел многие вопросы короля и, во всяком случае, в своих ответах постарался выставить все в гораздо более выгодном свете, чем то было совместимо с требованиями строгой истины. Я всегда изображал мое отечество с самым похвальным пристрастием. Мне хотелось скрыть отрицательные и уродливые явления в жизни моей родины и выставить в самом благоприятном свете ее красоту и добродетель. Именно эту цель я неуклонно и ревностно преследовал в моих неоднократных беседах с этим могущественным монархом, и не моя вина, если мои старания не увенчались успехом.
Впрочем, чего же можно требовать от короля, который совершенно отрезан от остального мира и не имеет решительно никакого представления о нравах и обычаях других народов? Подобная неосведомленность всегда порождает известную узость мысли и множество предрассудков, которым мы, просвещенные европейцы, совершенно чужды. И, разумеется, было бы нелепо ставить в пример всему человечеству понятия добродетели и порока такого отсталого монарха.
В подтверждение сказанному и чтобы показать, к чему приводит недостаточное образование, упомяну здесь об одном невероятном происшествии. В надежде заслужить особую благодарность короля я рассказал ему об изобретенном три или четыре столетия тому назад особом порошке. Я объяснил королю, что этот порошок обладает способностью мгновенно воспламеняться от малейшей искры, вызывая при этом страшное сотрясение и грохот, подобный грому. Если взять медную или железную трубу и набить ее определенным количеством этого порошка, то при воспламенении он может выбросить из трубы железный или свинцовый шар. Этот шар полетит с такой быстротой и силой, что ничто не выдержит его удара. Самые крупные из таких шаров не только уничтожают целые шеренги солдат, но разрушают до основания самые крепкие стены, пускают ко дну громадные корабли с тысячами людей, а скованные цепью вместе ломают мачты и снасти, крошат на куски сотни человеческих тел и сеют кругом опустошение. Иногда мы начиняем этим порошком полые железные шары больших размеров и при помощи особых орудий пускаем их в осаждаемые города. Там они производят страшные опустошения: взрывают мостовые, разносят на куски дома, зажигают их и, лопаясь, разбрасывают осколки, которые проламывают череп каждому, кто случится поблизости. К этому я добавил, что мне отлично известен состав этого порошка и что все вещества, необходимые для его изготовления, стоят недорого и встречаются повсюду. Я предложил научить мастеров его величества изготовлять металлические трубы, при помощи которых можно бросать шары. Двадцати или тридцати таких труб было бы достаточно, чтобы в несколько часов разрушить крепостные стены самого большого города в его владениях и обратить в развалины самую столицу, если бы население ее вздумало сопротивляться его неограниченной власти. Я скромно заявил о своей готовности оказать его величеству эту маленькую услугу в знак благодарности за многие его милости и покровительство.
Выслушав меня, король пришел в ужас. Он был поражен, что такое бессильное и ничтожное насекомое, как я (это его собственное выражение), не только таит столь бесчеловечные мысли, но и считает их вполне разумными и естественными. Он был глубоко возмущен тем спокойным равнодушием, с каким я рисовал перед ним ужасные сцены кровопролития и опустошения, вызываемые действием этих разрушительных машин. Изобрести их, заявил король, мог только какой-то злобный гений, враг рода человеческого. Ничто не доставляет ему такого удовольствия, сказал король, как научные открытия, но он скорее согласится потерять половину королевства, чем быть посвященным в тайну подобного изобретения. В заключение он посоветовал мне никогда больше не упоминать обо всем этом, если только я дорожу своей жизнью.
Таково действие узких взглядов и ограниченного образования! Этот монарх обладает всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение подданных. Он одарен громадным умом, глубокой ученостью и исключительными способностями к управлению государством. И вот, из-за чрезмерной щепетильности, совершенно непонятной нам, европейцам, этот мудрейший государь упускает возможность сделаться полновластным господином жизни, свободы и имущества своего народа. Говоря так, я не имею ни малейшего намерения умалить добродетели этого превосходного короля, хотя отлично сознаю, что мой рассказ сильно уронит его во мнении читателя-англичанина. Я лишь утверждаю, что подобного рода слабости являются следствием невежества этого народа, у которого политика до сих пор не возведена на степень науки, как это сделано у нас.
Однажды в разговоре с королем я заметил, что у нас написаны тысячи книг об искусстве управления. В противоположность моим ожиданиям, это замечание породило у короля самое нелестное мнение о наших умственных способностях. Он глубоко презирал все тонкости и ухищрения наших политиков и чувствовал ненависть ко всякой таинственности и интригам в государственных делах. Он никак не мог понять, чтó я разумею под словами государственная тайна, если дело не касается неприятеля или враждебной нации. По его мнению, для хорошего управления государством требуется только здравый смысл, справедливость, беспристрастие и доброта. Он считает, что всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе.
Умственные интересы этого народа очень ограничены. Здесь изучают только мораль, историю, поэзию и математику. Но в этих областях, нужно отдать справедливость, ими достигнуто большое совершенство. Математика имеет здесь чисто практический характер. Ее основной задачей является усовершенствование земледелия и разных отраслей техники. Вполне понятно, что у нас она получила бы невысокую оценку. Что же касается отвлеченных идей и всяких философских тонкостей, то я напрасно старался дать им хоть малейшее понятие об этих вещах.
В этой стране ни один закон не может заключать в себе больше слов, чем имеется букв в алфавите, а букв всего двадцать две. Но даже такой длины достигают только очень немногие законы. Все они составлены в самых ясных и простых выражениях. Надо еще добавить, что эти люди не отличаются такой изворотливостью ума, чтобы открывать в законе несколько смыслов, а сочинять толкования на законы считается у них большим преступлением.
Искусство книгопечатания здесь, как и у китайцев, существует с незапамятных времен. Но библиотеки их не очень велики. Так, например, королевская библиотека, самая большая во всей стране, насчитывает не более тысячи томов, помещенных в галерее длиной в сто двадцать футов. Мне было разрешено свободно пользоваться книгами из этой библиотеки. Столяр королевы смастерил в одной из комнат Глюмдальклич деревянный станок высотой в двадцать пять футов. По своей форме этот станок напоминал стремянку, каждая ступенька которой имела пятьдесят футов длины. Станок устанавливался с таким расчетом, чтобы нижняя ступенька находилась на расстоянии десяти футов от стены комнаты. Книга, которую я желал читать, приставлялась к стене; я взбирался на самую верхнюю ступеньку лестницы и, повернув лицо к книге, начинал чтение с верха страницы, двигаясь вдоль ступеньки слева направо. Когда я доходил до строк, находившихся ниже уровня моих глаз, я спускался на следующую ступеньку, пока не заканчивал чтения страницы. Затем я снова поднимался на верхнюю ступеньку и прочитывал таким же образом другую страницу. Листы книги я переворачивал обеими руками. Это было не слишком трудно, так как бумага не была толще нашего картона, а самая большая книга имела в длину всего от восемнадцати до двадцати футов.
Слог этих людей отличается ясностью, мужественностью и простотой. Больше всего они стараются избегать нагромождения лишних слов и всяких украшений. Я прочитал немало их книг, по преимуществу исторического и нравственного содержания. Особое удовольствие доставил мне маленький старинный трактат, который всегда лежал в спальне Глюмдальклич и принадлежал ее гувернантке, почтенной пожилой даме, много читавшей на моральные и религиозные темы. Ученые не слишком высоко ставят это сочинение. Однако среди женщин и простого народа эта книга, повествующая о несовершенстве человеческого рода, пользуется большим уважением. Мне было очень любопытно узнать, что мог сказать местный писатель на подобную тему. Он повторяет обычные рассуждения европейских моралистов, показывая, каким слабым, презренным и беспомощным животным является по своей природе человек; как мало способен он защитить себя от влияний сурового климата и ярости диких животных; как эти животные превосходят его — одни своей силой, другие быстротой, третьи предусмотрительностью, четвертые трудолюбием. Он доказывает, что в последние столетия природа может производить только каких-то недоносков сравнительно с людьми, которые жили в древние времена. По его мнению, есть большое основание думать, что в прежние времена существовали великаны. Об этом говорят как история, так и народные предания; это же подтверждается огромными костями и черепами, которые находят в различных частях королевства: по своим размерам они значительно превосходят нынешних измельчавших людей. Из этих рассуждений автор извлекает несколько нравственных правил, полезных для повседневной жизни, которые не стоит здесь повторять.
Прочитав эту книгу, я невольно задумался над вопросом, почему у людей так распространена страсть сочинять поучения на нравственные темы, а также досадовать и сетовать на свою слабость в борьбе со стихиями. Мне кажется, что тщательное изучение этого вопроса может показать всю ошибочность подобных жалоб как у нас, так и у этого народа.
Туземцы гордятся численностью королевской армии, насчитывающей сто семьдесят шесть тысяч пехоты и тридцать две тысячи кавалерии. Не знаю, впрочем, можно ли назвать армией своеобразное ополчение, которое в городах состоит из купцов, а в деревнях — из фермеров. Командуют этим ополчением вельможи или мелкие дворяне. Никакого жалованья им не полагается. Но армия эта достаточно хорошо обучена и отличается прекрасной дисциплиной. В этом нет ничего удивительного. Надо иметь в виду, что каждый фермер находится под командой своего помещика, а каждый горожанин — под командой первых людей в городе. К тому же все эти начальники избираются баллотировкой, как в Венеции.
Мне часто приходилось видеть военные упражнения столичного ополчения на большом поле, в двадцать квадратных миль, недалеко от города. Хотя на поле присутствовало не более двадцати пяти тысяч пехоты и шести тысяч кавалерии, но я ни за что не мог бы сосчитать их — такое громадное пространство занимала армия. Каждый кавалерист, сидя на лошади, представлял собой колонну высотой около ста футов. Мне случилось видеть, как вся эта кавалерия по команде разом обнажала сабли и размахивала ими в воздухе. Никакое воображение не может придумать ничего более грандиозного и поразительного! Казалось, будто по краям небесного свода разом вспыхивало десять тысяч молний.
Меня очень интересовало, каким путем этот государь пришел к мысли организовать армию и обучить свой народ военной дисциплине. Ведь его владения нигде не граничат с другими государствами. Вот что я узнал об этом как из рассказов, так и из чтения исторических сочинений.
В течение нескольких столетий эта страна страдала той же болезнью, которой подвержены многие другие государства. Дворянство стремилось забрать власть в свои руки, народ отстаивал свою свободу, а король боролся за абсолютное господство. Распри, возникавшие на этой почве, порождали гражданские войны. Последняя из таких войн благополучно окончилась при деде ныне царствующего монарха и привела все партии к соглашению и взаимным уступкам. Тогда с общего согласия было учреждено ополчение, которое всегда стоит на страже порядка.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Король и королева предпринимают путешествие к границам государства. Автор сопровождает их. Подробный рассказ о том, каким образом автор оставляет страну. Он возвращается в Англию.
У меня всегда было предчувствие, что рано или поздно я возвращу себе свободу. Но предугадать, каким образом это произойдет, или составить сколько-нибудь серьезный план освобождения я, разумеется, не мог. Корабль, на котором я прибыл сюда, был первым кораблем, показавшимся у этих берегов, и король отдал строжайшее повеление в случае появления нового судна непременно захватить его и доставить со всем экипажем на телеге в Лорбрульгруд. Королю очень хотелось раздобыть для меня подходящую жену. Он мечтал, что у нас будут дети. Но я содрогался от возмущения при одной мысли о том, что мои дети будут содержаться в клетках, как мы содержим канареек, и что со временем моих потомков будут продавать, как редкостных животных, для развлечения знатных лиц. Со мною, правда, обращались очень ласково: я был любимцем могущественного короля и королевы, предметом внимания всего двора, но в этом обращении было нечто оскорбительное для моего человеческого достоинства. Я никогда не мог забыть оставленную на родине семью. Я жаждал общества равных мне людей. Я ощущал потребность ходить по улицам и полям, не опасаясь быть растоптанным подобно лягушке или щенку.
И вот мое освобождение произошло раньше, чем я ожидал, и не совсем обыкновенным способом. Я расскажу сейчас все обстоятельства этого удивительного происшествия.
Прошло уже два года, как я находился в этой стране. В начале третьего года мне вместе с Глюмдальклич пришлось сопровождать короля и королеву в их путешествии к южному побережью королевства. Меня, по обыкновению, везли в дорожном ящике. Этот ящик был очень удобной комнатой шириной в двенадцать футов. В ней я велел подвесить на шелковых веревках крепкий и большой гамак. Этот гамак предохранял меня от тряски, и я часто дремал в нем во время путешествия. В крыше ящика, прямо над гамаком, по моему желанию столяр устроил люк величиной в квадратный фут для доступа свежего воздуха в жаркую погоду. Я мог по желанию открывать и закрывать этот люк при помощи доски, которая двигалась в пазах.
Когда мы достигли цели нашего путешествия, король решил провести несколько дней в принадлежавшем ему замке близ Фленфласника, города, расположенного в восемнадцати английских милях от морского берега. Глюмдальклич и я очень устали от длительного путешествия. Я схватил небольшой насморк, а бедная девочка так сильно заболела, что вынуждена была остаться в своей комнате. Мне очень хотелось видеть океан. Только океан мог принести мне освобождение, если мне вообще суждено было когда-нибудь получить свободу. Я притворился, будто чувствую себя гораздо хуже, чем это было на самом деле, и просил отпустить меня подышать свежим морским воздухом с пажом, которого я очень любил и с которым меня уже не раз отпускали на прогулку. Никогда не забуду, как неохотно Глюмдальклич согласилась на это. Она словно предчувствовала, что должно было произойти, и со слезами на глазах долго убеждала пажа беречь меня как зеницу ока.
Мальчик взял ящик, где я лежал в гамаке, и после получасовой ходьбы добрался до скалистого морского берега. Здесь я велел ему поставить ящик и, открыв окно, с тоской глядел на воды океана. Я чувствовал себя нехорошо и сказал пажу, что хочу вздремнуть. Я надеялся, что сон принесет мне облегчение. Я лег, и паж плотно закрыл окно, чтобы мне не надуло. Я скоро заснул. Что произошло дальше — не знаю. Думаю только, что паж недолго сидел и сторожил меня. Должно быть, он решил, что во время сна со мной не может случиться ничего опасного, и направился к скалам поискать птичьих гнезд. Мне уже не раз случалось наблюдать из моего окна, как он находил эти гнезда в расщелинах скал и доставал оттуда яйца. Как бы то ни было, но я внезапно проснулся от резкого толчка, точно кто-то с силой дернул за кольцо, прикрепленное к крышке моего ящика. Я почувствовал, как мой ящик поднялся высоко на воздух и затем понесся со страшной скоростью. Первый толчок едва не выбросил меня из гамака, но потом движение стало более плавным. Я несколько раз принимался кричать во всю глотку, но без всякой пользы. Я смотрел в окно и видел только облака и небо. Над головой я слышал шум, похожий на шум крыльев, и мало-помалу начал понимать опасность своего положения. Должно быть, орел захватил клювом кольцо моего ящика и поднялся с ним высоко, чтобы затем бросить его на камни и вытащить из-под обломков мое тело. Так именно поступают эти смышленые птицы с черепахами, желая разбить их панцырь и отведать их мяса.
Прошло несколько минут, и я заметил, что шум усилился, а взмахи крыльев участились. Мой ящик закачался из стороны в сторону, как вывеска на столбе в ветреный день. Я услышал у себя над головой злобный клекот и какие-то удары. Вдруг я почувствовал, что падаю отвесно вниз с такой невероятной скоростью, что у меня захватило дух. Раздался страшный всплеск. Он отдался в моих ушах сильнее, чем шум Ниагарского водопада. На мгновение я погрузился в глубокий мрак; затем мой ящик начал подниматься, и в верхние створы окна я увидел свет. Тут я понял, что упал в море. Повидимому, на моего орла напали два или три соперника, надеясь отнять у него добычу. Во время битвы орел выпустил ящик из клюва. Тяжелые железные пластины на дне ящика помогли ему сохранить во время падения равновесие и не дали разбиться о поверхность воды. Стенки ящика были плотно пригнаны, двери отворялись не на петлях, а поднимались и опускались, как подъемные окна. Словом, моя комната была закрыта наглухо, и воды в нее проникало очень немного. Я с трудом вылез из гамака и отважился отодвинуть маленькую дверцу в крышке, чтобы впустить свежего воздуха, от недостатка которого я почти задыхался.
Сколько раз в эти минуты у меня являлось желание снова оказаться возле моей милой Глюмдальклич! Только час минул с тех пор, как я расстался с ней, а между тем словно пропасть легла между нами. Страшные опасности, со всех сторон угрожавшие мне, поглощали все мое внимание. И все же я не мог удержаться от слез при мысли о моей бедной нянюшке, о горе, которое причинит ей эта потеря, о крушении ее надежд, о неудовольствии королевы. Вряд ли многие путешественники попадали в такое трудное и отчаянное положение, в каком находился я. Каждый миг я мог ожидать, что мой ящик разобьется или будет опрокинут порывом ветра. Стоило разбиться хотя бы одному оконному стеклу, и мне грозила неминуемая смерть. Между тем, эти стекла были защищены только легкими железными решетками. Заметив, что вода начинает просачиваться сквозь мелкие щели, я, как мог, законопатил их. Я был не в силах поднять крышку моего ящика, иначе я непременно сделал бы это и выбрался наверх. Там я мог продержаться на несколько часов дольше, чем сидя взаперти в этом, если можно так выразиться, трюме. Но даже в том случае, если бы ящик продержался целым и невредимым на поверхности моря в продолжение одного или двух дней, все же меня ждала неминуемая смерть от голода и холода. Так я провел около четырех часов, каждую минуту ожидая и даже желая гибели.
Как я уже говорил, к глухой стенке моего ящика были приделаны две прочные скобы; слуга, возивший меня на лошади, продевал в них кожаный ремень и пристегивал его к своему поясу. Внезапно я услышал — или мне только почудилось — какое-то царапание возле этих скоб и вслед за тем мне показалось, что ящик тащат или буксируют по морю. По временам я чувствовал, что ящик словно подергивают. Он глубоко погружался в воду, и в моей комнате становилось темно. Все это поселило во мне робкую надежду на спасение, хотя я не мог понять, откуда могла прийти помощь. Я решился отвинтить один из моих стульев, прикрепленных к полу, и с большими усилиями снова привинтил его прямо под верхней дверцей, которую незадолго перед тем отодвинул. Взобравшись на стул, я стал громко звать на помощь. Потом я привязал платок к палке и, просунув ее в дверцу, стал махать платком с целью привлечь внимание лодки или корабля, если они и в самом деле были поблизости, и дать знать матросам, что в ящике заключен несчастный смертный.
Но на все эти сигналы я не получил никакого ответа. Тем не менее я ясно ощущал, что ящик неуклонно движется вперед. Прошло около часа. Вдруг стенка ящика, где были прикреплены скобы, ударилась о что-то твердое. Я испугался: уж не скала ли это, и почувствовал, что ящик качается больше, чем прежде. На крыше моей комнаты послышался шум от спущенного каната в легкий скрип, словно его продевали в кольцо. После этого я почувствовал, что ящик поднимают кверху. Я снова выставил палку с платком и начал кричать, пока не охрип. В ответ я услышал громкие восклицания, повторившиеся три раза. Только тот, кому случалось испытать такие жуткие приключения, способен понять восторг, охвативший меня. Я услышал топот ног над моей головой; кто-то громко закричал по-английски: «Если есть кто-нибудь там внизу, пусть говорит!» Я отвечал, что я англичанин, вовлеченный злой судьбой в величайшие бедствия, какие постигали когда-нибудь разумное существо, и заклинал освободить меня из моей темницы. На это голос сказал, что я в безопасности, так как мой ящик привязан к кораблю. Сию минуту явится плотник и пропилит в крыше отверстие, достаточно широкое, чтобы вытащить меня. Я отвечал, что это напрасная трата времени. Пускай кто-нибудь из экипажа просунет палец в кольцо ящика, вынет его из воды и поставит в каюте капитана. При этих словах иные матросы подумали, что я сумасшедший, а другие принялись хохотать. И в самом деле, я совершенно упустил из виду, что нахожусь теперь среди людей одинакового со мной роста и силы. Явился плотник и в несколько минут пропилил дыру в четыре квадратных фута; затем спустили небольшую лестницу, по которой я вылез наверх. Тут я почувствовал такую слабость, что меня пришлось на руках перенести на палубу корабля.
Изумленные матросы осыпали меня вопросами, но мне трудно было отвечать на них. Я совершенно растерялся при виде этой толпы пигмеев. Я так привык жить среди великанов и исполинских предметов, что люди малого роста казались мне какими-то жалкими уродцами.
В конце концов капитан, мистер Томас Вилькокс, достойный и почтенный шропширец, заметив, что я готов упасть в обморок, отвел меня к себе в каюту, дал укрепляющего лекарства и уложил в постель, советуя мне немного отдохнуть. Это действительно было для меня крайне необходимо. Прежде чем заснуть, я сообщил капитану, что в моем ящике находится ценная мебель, которую было бы жаль потерять. Там есть прекрасный гамак, походная постель, два стула, стол и комод. Вся комната обита шелком и бумажными тканями. Я просил капитана распорядиться, чтобы кто-нибудь из матросов принес ящик к нему в каюту. Здесь я открою ящик и покажу ему все мои богатства. Услыхав этот вздор, капитан подумал, что я в бреду. Но, желая успокоить меня, обещал исполнить мое желание. Затем он вышел на палубу и велел нескольким матросам спуститься в мой ящик. Они вытащили оттуда мои вещи и ободрали со стен обивку. К сожалению, стулья, комод и постель были порядочно повреждены: не заметив, что они привинчены к полу, матросы стали их вырывать. Забрав из ящика все, что показалось им интересным, и отбив несколько досок, которые могли пригодиться на корабле, они бросили остов ящика в море. Ящик быстро наполнился водой и пошел ко дну. Я был очень доволен, что мне не пришлось присутствовать при этом. Я уверен, что это зрелище очень расстроило бы меня, напомнив мне все пережитое за последние годы.
Я проспал несколько часов. Но сон мой был беспокоен: мне все время снились недавние события и опасности. Все же я отдохнул и чувствовал себя гораздо лучше. Было около восьми часов вечера. Капитан, полагавший, что я уже давно голодаю, приказал немедленно подать ужин. Убедившись, что в моих глазах не заметно безумного выражения и что я говорю вполне связно, он принялся радушно угощать меня. Когда мы остались одни, он попросил меня рассказать о моих приключениях и объяснить ему, каким образом я попал в этот диковинный ящик. Он сказал, что около полудня заметил его в зрительную трубу. Сначала он принял его за парус. Так как парус виднелся в направлении курса его собственного корабля, то он решил приблизиться к нему в надежде купить немного сухарей, в которых у него чувствовался недостаток. Подойдя ближе и убедившись в своей ошибке, он послал шлюпку узнать, что это такое. Матросы в испуге воротились назад, клятвенно уверяя, что видели пловучий дом. Посмеявшись над ними, капитан сам спустился в шлюпку, приказав матросам взять с собой два прочных каната.
Так как море было спокойно, то он несколько раз объехал вокруг ящика и увидел в нем окно с железными решетками. На глухой стенке ящика он заметил две крепкие скобы. Капитан приказал пропустить канат в одну из этих скоб и тащить мой сундук (как он его называл) на буксире к кораблю. Когда это было исполнено, капитан велел привязать другой канат к кольцу, прикрепленному на крыше, и попытаться поднять сундук на палубу, но сундук оказался настолько тяжелым, что соединенными усилиями всей команды удалось поднять его только на два или три фута. Капитан сказал, что они увидели мою палку с платком, просунутую в дыру, и решили, что в сундуке заключен какой-то несчастный.
Я спросил капитана, не заметили ли с корабля вблизи того места, где виднелся мой ящик, каких-нибудь громадных птиц. На это он ответил, что один из матросов видел трех орлов, летевших на север, но они показались ему не крупнее обычных; это, вероятно, объясняется большой высотой, на которой они летели. Капитан не мог понять, почему я задал такой вопрос. Затем я спросил его, далеко ли мы от земли. На это он ответил, что, по самым точным вычислениям, до ближайшего берега не менее ста лиг. Я попытался убедить его, что он сильно ошибается, так как я покинул страну, в которой жил, всего за два часа до того, как упал в море.
Тут капитан принял серьезный вид и посоветовал мне отправиться в отведенную мне каюту и хорошенько выспаться. При этом он намекнул, что у меня от перенесенных страданий, вероятно, немного помутилось в голове. Я уверил моего хозяина, что благодаря его любезному приему я чувствую себя прекрасно.
Тогда он попросил позволения говорить вполне откровенно. Я, разумеется, выразил согласие на это. Помедлив несколько мгновений, капитан спросил, не повредился ли мой рассудок оттого, что на совести у меня лежит какое-то ужасное преступление, в наказание за которое я и был посажен в этот сундук? Ему известно, что в некоторых странах существует обычай сажать самых страшных преступников на ветхое и дырявое судно и пускать это судно в море. Капитан прибавил, что я могу говорить с ним прямо и без утайки. Конечно, он никогда не простит себе, что принял на корабль такого преступника, но дело сделано, и он дает слово доставить меня целым и невредимым в ближайший порт.
Я, в свою очередь, попросил капитана запастись терпением и внимательно выслушать мой рассказ. Я добросовестно изложил ему все приключения, пережитые мною, начиная с отъезда из Англии и до той минуты, когда он заметил мой ящик. Истина всегда находит доступ в сознание умного и рассудительного человека. Вполне естественно, что этот достойный джентльмен, обладавший большим здравым смыслом и не лишенный образования, довольно скоро убедился в искренности и правдивости моего повествования. Желая рассеять последние сомнения, какие у него могли еще остаться, я попросил капитана приказать принести мой комод, ключ от которого был у меня в кармане. Я открыл комод и показал капитану небольшую коллекцию редкостей, собранных мной в стране, которую я покинул таким странным образом. Тут был гребень из волос королевской бороды и другой, на спинку которого пошел кусочек ногтя с большого пальца ее величества. Тут была коллекция иголок и булавок длиной от фута до полуярда; кучка волос, подобранных мной, когда я присутствовал при причесывании королевы; золотое кольцо, которое она мне подарила, сняв с мизинца и надев мне на шею как ожерелье. Я просил капитана принять это кольцо в благодарность за оказанные им мне услуги, но он наотрез отказался. Я показал ему также мозоль, которую я своими руками срезал с пальца на ноге одной фрейлины; эта мозоль была величиной с хорошее яблоко и до того тверда, что по возвращении в Англию я вырезал из нее кубок и оправил его в серебро. Наконец, я попросил капитана взглянуть на мои штаны из мышиной кожи.
Мне стоило большого труда уговорить капитана принять от меня в подарок зуб придворного лакея, который он разглядывал с большим любопытством. Капитан принял подарок с благодарностью, которой не заслуживала такая безделица. Неопытный хирург по ошибке выдернул этот зуб у одного из лакеев Глюмдальклич, страдавшего зубной болью. Зуб оказался совершенно здоровым. Я вычистил его и спрятал в качестве диковинной редкости к себе в комод. Он имел около фута в длину и четыре дюйма в диаметре.
Капитан остался очень доволен моим безыскусственным рассказом. Он выразил надежду, что по возвращении в Англию я изложу это все письменно и напечатаю в виде книги. По его мнению, этим я окажу большую услугу всему человечеству. Я возразил капитану, что едва ли моя история привлечет к себе много внимания. В настоящее время, сказал я, читателя ничем нельзя удивить. Многие авторы гораздо больше заботятся об удовлетворении своего тщеславия и корысти, чем об истине, и стараются развлечь невежественных читателей самыми диковинными выдумками. По сравнению с их россказнями моя книга, наверно, покажется бледной и скучной и пройдет незамеченной. Во всяком случае, я поблагодарил капитана за его лестный отзыв и совет.
Капитана очень заинтересовало, почему я так громко говорю, и он спросил меня, не страдали ли глухотой король и королева той страны, где я жил. Я объяснил ему, что это — следствие долгого пребывания среди великанов. Чтобы разговаривать с ними, мне приходилось говорить так, как говорят с человеком, стоящим на верхушке колокольни.
В свою очередь, я признался, что, слушая его, я не могу отделаться от впечатления, будто он говорит шопотом. Я поведал ему и о другом моем впечатлении: когда я попал на корабль и вокруг меня столпились матросы, они показались мне самыми ничтожными по своим размерам существами, какие только я когда-либо видел. И в самом деле, глаза мои до того привыкли к предметам чудовищной величины, что я не мог смотреть на себя в зеркало, так как это порождало во мне очень неприятные мысли о моем ничтожестве.
Капитан сказал, что за ужином я, как он заметил, с большим удивлением рассматривал каждый предмет и часто едва удерживался от смеха. Не зная, чем объяснить такое странное поведение, он приписал его некоторому расстройству моих умственных способностей.
Я ответил, что его наблюдения совершенно правильны, но пусть он сам рассудит, мог ли я не рассмеяться при виде блюда величиной в три пенса, свиного окорока, который можно было съесть в один прием, чашки, напоминавшей скорлупу ореха, и тому подобного.
Капитан отлично понял мою шутку и весело ответил мне старой английской поговоркой, что у меня глаза больше желудка, так как он не заметил у меня большого аппетита, несмотря на то что я постился в течение целого дня. Продолжая смеяться, он заявил, что заплатил бы сто фунтов за удовольствие посмотреть, как орел нес мой ящик в клюве и как я упал в море с такой страшной высоты. Должно быть, это было поистине удивительное зрелище, достойное описания в поучение грядущим поколениям.
Капитан побывал в Тонкине[22], на обратном пути в Англию корабль был отнесен на северо-восток, к 44° северной широты и 143° восточной долготы. Но спустя два дня после того, как я был взят на борт, мы встретили пассатный ветер и долго шли к югу; миновав Новую Голландию, взяли курс на запад-юго-запад, потом на юго-юго-запад и, наконец, обогнули мыс Доброй Надежды. Наше плавание было весьма счастливо, и я не буду утомлять читателя его описанием. Раз или два капитан заходил в порты запастись провизией и свежей водой. Но я ни разу не сходил с корабля до самого прибытия в Даунс, что произошло 3 июня 1706 года, через девять месяцев после моего освобождения. Я предложил капитану в уплату за мое пребывание на корабле все, что у меня было, но он не согласился взять ни одного фартинга. Мы дружески простились, и я взял с него слово навестить меня в Редрифе. Я нанял лошадь и проводника за пять шиллингов, взятых в долг у капитана.
Разглядывая по пути домой крошечные деревья и дома, людей и домашних животных, я часто воображал себя в Лилипутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих и нередко громко кричал, чтобы они посторонились. Эта грубость едва не обошлась мне очень дорого: раз или два мне чуть не раскроили череп. Я с трудом узнавал окрестные места, и мне пришлось спрашивать дорогу к моему дому. Слуга отворил дверь. Переступая через порог, я низко нагнул голову (как гусь под воротами), чтобы не стукнуться о притолоку. Жена выбежала мне навстречу и хотела обнять меня. Но я склонился ниже ее колен, полагая, что иначе ей не дотянуться до моего лица. Дочь стала на колени, ожидая моего благословения. Но я так привык задирать голову, общаясь с великанами, что и не заметил ее. На слуг и двух или трех случившихся в доме друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я попенял жене, что она, верно, чересчур экономила, так как и она и дочь превратились в каких-то жалких заморышей. Словом, я вел себя так странно, что у моих близких зародилось подозрение, не сошел ли я с ума. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика сила привычки и предубеждения.
Скоро все недоразумения между мной, семьей и друзьями уладились, но жена торжественно заявила, что больше я никогда не увижу моря. Однакоже злая судьба распорядилась иначе, и — как читатель скоро узнает — даже жена не могла удержать меня на родине. Этим я оканчиваю вторую часть истории моих злосчастных путешествий.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПУТУ, БАЛЬНИБАРБИ, ЛАГГНЕГГ, ГАЛАББДОБДРИБ И ЯПОНИЮ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Автор отправляется в третье путешествие. Он захвачен пиратами. Злой голландец. Автор на пустынном острове. Автора принимают на Лапуту.
Дней через десять по моем возвращении домой меня навестил капитан Вильям Робинсон, из Корнуэлса, командир большого корабля «Добрая Надежда» в триста тонн водоизмещением. В старые времена я служил хирургом под его командой на судне, ходившем в Левант. Он обходился со мной скорее как с братом и никогда не видел во мне только своего подчиненного. Повидимому, его посещение было вызвано вполне понятным желанием повидать старого приятеля. По крайней мере, при первом свидании между нами было сказано не больше того, что обычно говорится между друзьями после долгой разлуки. Затем он участил свои посещения, не раз выражал радость, что видит меня в добром здоровье, спрашивал, окончательно ли я решил не покидать Англию, толковал о своем намерении через два месяца отправиться в Ост-Индию. В конце концов, после многих извинений и оговорок, он пригласил меня хирургом на свой корабль. Капитан сказал, что у меня будет помощник, второй хирург, и что я буду получать двойное жалованье. В заключение он прибавил, что обязуется считаться с моими советами по управлению кораблем, так как я знаю морское дело нисколько не хуже его и мог бы командовать кораблем наравне с ним.
Капитан наговорил мне столько любезностей и я знал его за такого порядочного человека, что не мог отказаться от его предложения. Несмотря на все испытанные мной невзгоды, жажда видеть свет томила меня с прежней силой. Оставалось преодолеть единственное затруднение — уговорить жену. Но все же я убедил ее дать свое согласие, изложив те выгоды, которые путешествие сулило нашим детям.
Мы снялись с якоря 5 августа 1706 года и прибыли в форт Сен-Жорж[23] 11 апреля 1707 года. Там мы задержались на три недели. Нам было необходимо пополнить экипаж судна, так как между матросами было много больных. Оттуда мы отправились в Тонкин. В Тонкине капитан решил простоять подольше, так как нужные ему товары не могли быть приготовлены и сданы на судно раньше нескольких месяцев. Желая хотя бы отчасти возместить расходы по этой стоянке, капитан купил шлюп, нагрузил его различными ходкими товарами и отправил под моей командой на соседние острова. Мне было поручено распродать эти товары, пока он будет вести дела в Тонкине.
Кроме меня, на шлюпе было четырнадцать человек команды, из них три туземца. Не прошло и трех дней после нашего отплытия, как поднялась сильная буря. В продолжение пяти дней жестокий ветер гнал нас по направлению к северо-востоку, а затем к востоку. После этого настала хорошая погода, хотя сильный западный ветер не прекращался. На десятый день в погоню за нами пустились два пирата. Наш тяжело нагруженный шлюп не мог развить большого хода, и потому они скоро догнали нас.
Мы были взяты на абордаж, и оба пиратских капитана почти одновременно ворвались на шлюп во главе своих людей. Так как всякое сопротивление было бесполезно, то я заранее отдал команде приказ — лечь ничком. Благодаря этому дело обошлось без кровопролития. Пираты ограничились тем, что крепко связали нас, приставили к нам стражу и принялись обыскивать судно.
Я заметил среди пиратов одного голландца. Повидимому, он пользовался у них некоторым авторитетом, хотя и не был командиром корабля. Он тотчас признал в нас англичан и, осыпая бранью, поклялся связать нас попарно спинами и бросить в море*. Обратившись к нему, я просил его принять во внимание, что мы христиане и протестанты, подданные государства, дружественного его отечеству. Поэтому ему следовало не грозить нам, а, напротив, заступиться за нас перед командиром. Он повторил свои угрозы и, обратясь к своим товарищам, стал с жаром говорить что-то, повидимому по-японски, часто повторяя слово: «христианос».
Командиром более крупного судна был японец, который говорил немного по-голландски. Подойдя ко мне и задав несколько вопросов, на которые я ответил очень почтительно, он объявил, что нам сохранят жизнь. Низко поклонившись капитану, я обратился к голландцу и сказал, что мне прискорбно видеть в язычнике больше милосердия, чем в своем брате христианине. Мне пришлось скоро раскаяться в этих необдуманных словах. После неоднократных попыток убедить капитанов бросить меня в море этот негодяй добился того, что мне было назначено наказание похуже самой смерти. Моих людей разместили поровну на обоих пиратских суднах, а на шлюп перевезли новую команду. Меня же было решено посадить в небольшую парусную шлюпку и, снабдив провизией на четыре дня, предоставить на волю ветра и волн. Капитан-японец был так добр, что удвоил количество провизии из собственных запасов и запретил обыскивать меня. Пока я спускался в шлюпку, голландец стоял на палубе и осыпал меня всеми проклятиями и ругательствами, какие только были ему известны.
Примерно за час до нашей встречи с пиратами я произвел вычисления и определил, что мы находимся под 46° северной широты и 183° восточной долготы. Когда пираты скрылись из виду, я достал карманную подзорную трубу и тщательно оглядел горизонт: к юго-востоку я заметил несколько островов. Я поднял парус и направился к ним. Ветер был попутный, и через три часа я достиг ближайшего из этих островов. На скале виднелось множество птичьих гнезд, и я без труда набрал порядочно яиц. При мне был кремень, огниво и трут. Я высек огня и развел костер из вереска и сухих водорослей, на котором испек яйца. Этим и ограничился мой ужин, так как я решил по возможности беречь провизию. На ночь я устроился под выступом скалы, постлав немного вереска, и спал очень хорошо.
На следующий день я перебрался на другой остров, а оттуда на третий и четвертый. Только на пятый день скучного и утомительного путешествия я достиг, наконец, самого восточного из этих островов. Он лежал далеко в море, и чтобы добраться до него, мне понадобилось свыше пяти часов. Берега его были почти неприступны, и только после долгих поисков мне удалось найти подходящее место для высадки. Это была небольшая бухточка, где могли бы поместиться лишь две-три такие шлюпки, как моя. Почва острова была камениста и бесплодна. Только кое-где в расщелинах скал виднелись жалкие кустики и душистые растения.
Я достал провизию и немного подкрепился. Все оставшееся я бережно спрятал в одной из пещер в прибрежных скалах, где решил провести ночь. На утесах я собрал много яиц, а затем принес в пещеру две-три охапки сухой травы и водорослей, рассчитывая утром испечь яйца себе на завтрак. Постелью мне служили те же водоросли и трава. Спал я очень плохо. Тревожные мысли не давали мне заснуть, несмотря на усталость. Я думал о том, как мало у меня надежд на спасение, и рисовал себе ожидающий меня печальный конец. Я был так подавлен этими размышлениями, что никак не мог решиться встать.
Было уже совсем светло, когда я вылез из пещеры. Я немного прошелся между скалами. Небо было совершенно ясное; солнце палило нестерпимо. Вдруг разом потемнело, но совсем не так, как бывает, когда на солнце набежит облако. Я поднял глаза и увидел в воздухе, на высоте примерно двух миль от поверхности земли, большое черное тело, которое подвигалось по направлению к острову. Оно-то и заслонило на несколько минут солнце. Но я не заметил, чтобы при этом воздух похолодел, а небо потемнело. Впечатление было такое, будто я оказался в тени от скалы. Когда это тело приблизилось, я увидел, что оно состоит из какого-то твердого вещества. Обращенная к земле сторона его была плоской и гладкой; она ярко сверкала, отражая озаренное солнцем море. Я взобрался на высокую скалу в двухстах ярдах от берега и увидел, что это обширное тело почти отвесно опускается вниз. Нас разделяло расстояние не больше английской мили. Я вооружился подзорной трубой и мог ясно разглядеть людей, опускавшихся и поднимавшихся по отлогим сторонам тела. Но что делали эти люди, я не мог разобрать.
Я затрепетал от радости. У меня явилась надежда, что это приключение так или иначе принесет мне спасение и свободу. Но в то же время (читатель легко поймет это) я с неописуемым удивлением смотрел на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые, как мне показалось, могли управлять им по своему произволу. Впрочем, в ту минуту мне было не до философских размышлений на эту тему. Меня гораздо больше интересовало, в какую сторону двинется остров, так как он как будто остановился в воздухе. Однако через несколько минут он снова пришел в движение и настолько приблизился ко мне, что я мог довольно подробно рассмотреть его.
По краям острова тянулись обширные галереи, расположенные уступами, одна над другой. Отлогие лестницы соединяли их между собой и с вершиной острова. На самой нижней галерее стояло и сидело несколько человек; одни из них ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели на эту ловлю. Я стал махать ночным колпаком (моя шляпа давно уже износилась), а когда остров еще ближе придвинулся к скале, на которой я стоял, принялся кричать во всю глотку. Через несколько минут я заметил, что на обращенной ко мне стороне острова собирается толпа. Люди указывали на меня пальцами и оживленно жестикулировали. Я понял, что они заметили меня, хотя и не отвечали на мои крики. Внезапно четыре или пять человек отделились от толпы и поспешно устремились по лестницам на вершину острова. Там я потерял их из виду. Я догадался, что эти люди направились за приказаниями к какой-нибудь важной особе.
Толпа все возрастала и возрастала. Не прошло и получаса, как остров был придвинут к моей скале с таким расчетом, что нижняя галерея оказалась не дальше как на сто ярдов от вершины скалы и на одном уровне с ней. Я принял умоляющую позу и начал жалобно взывать о помощи. Но все мои мольбы остались без ответа. Те, что стояли ближе других ко мне, были, если судить по их костюмам, знатные особы. Они о чем-то серьезно совещались, все время поглядывая на меня.
Наконец один из них что-то прокричал мне на чистом, изящном и благозвучном языке, напоминающем по звуку итальянский. Я ответил по-итальянски: мне казалось, что если они не поймут меня, то итальянская речь больше всякой другой придется им по вкусу. Впрочем, и без слов нетрудно было понять, о чем я прошу.
Мне сделали знак спуститься со скалы на берег. Я поспешно повиновался этому приглашению. Летучий остров снизился как раз надо мной. Немедленно сверху спустили цепь с прикрепленным к ней сиденьем. Я уселся на него и при помощи блоков был поднят на остров.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Характер и нравы лапутян. Наука в Лапуте. Король и его двор. Прием, оказанный автору при дворе. Страхи и тревоги лапутян. Жены лапутян.
Едва я высадился на остров, как меня окружила толпа народа. Люди, стоявшие поближе ко мне, повидимому принадлежали к высшему классу. Все разглядывали меня с величайшим удивлением. Но и сам я не остался в долгу у них: никогда еще мне не приходилось видеть смертных, которые вызывали бы такое удивление своей фигурой, одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо и налево; один глаз косил внутрь, а другой глядел прямо вверх. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемежку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары, клавикордов и многих других музыкальных инструментов, не известных в Европе. Поодаль я заметил несколько человек в одежде слуг. В руках они держали небольшие палки. К палкам были привязаны надутые воздухом пузыри.
Как мне сказали потом, в пузыри было насыпано немного сухого гороха или мелких камешков. Время от времени слуги хлопали этими пузырями по губам и ушам лиц, стоявших подле.
Я долго не мог уразуметь, для чего это делается. По-видимому, эти люди так погружены в глубокомысленнейшие размышления, что почти не способны ни слушать речи собеседников, ни отвечать на них. Чтобы побудить их к этому, необходимо какое-нибудь внешнее, чисто физическое воздействие на органы речи и слуха. Вот почему состоятельные люди всегда держат в числе прислуги так называемого хлопальщика (по-туземному — клайменоле) и без него никогда не выходят из дому. Обязанность хлопальщика заключается в том, чтобы при встрече нескольких лиц слегка хлопать по губам того, кому следует говорить, и по правому уху тех, кто слушает. На прогулках хлопальщик должен время от времени похлопывать своего господина по глазам, ибо в противном случае тот на каждом шагу подвергается опасности упасть в яму, или стукнуться головой о столб, или же столкнуться с другими прохожими.
Мне необходимо сообщить читателю все эти подробности. Иначе ему, как и мне, было бы затруднительно понять те ужимки, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в королевский дворец. Поднимаясь по ступенькам, они то и дело забывали, что им нужно делать, и отставали от меня. Тогда хлопальщики выводили из забытья своих господ. На них, повидимому, не произвели никакого впечатления ни моя наружность, ни мой костюм, ни изумленные восклицания простого народа, который далеко не так склонен к глубокомыслию.
Наконец мы достигли дворца и проследовали в аудиенц-зал. Здесь на высоком троне, окруженный знатнейшими вельможами, сидел король. Перед троном стоял большой стол, заставленный глобусами, планетными кругами и различными математическими инструментами. Его величество не обратил на нас ни малейшего внимания, хотя наше появление благодаря придворной челяди сопровождалось изрядным шумом. Король был погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали по крайней мере час, пока он ее решил. По обеим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Заметив, что король решил задачу, один из них почтительно хлопнул его по губам, а другой по правому уху. Король вздрогнул и обратил свои взоры на меня и сопровождавшую меня свиту. Он произнес несколько слов, после чего молодой человек, вооруженный пузырем, тотчас подошел ко мне и легонько хлопнул меня по правому уху. Я показал знаками, что не нуждаюсь в подобном напоминании. Это, как я узнал позднее, внушило его величеству и всему двору очень невысокое мнение о моих умственных способностях.
Король задал мне несколько вопросов. Я отвечал ему на всех известных мне языках. Когда выяснилось, что мы не можем понять друг друга, король приказал отвести меня в один из дворцовых покоев, где ко мне приставили двух слуг. В отличие от всех своих предшественников, этот монарх весьма приветлив по отношению к иностранцам. Подали обед, и четыре знатные особы, которых я видел подле короля в тронном зале, оказали мне честь, сев со мной за стол. Обед состоял из двух перемен, по три блюда в каждой. На первую перемену были поданы баранья лопатка, вырезанная в форме равностороннего треугольника, кусок говядины в форме ромбоида и пудинг в форме циклоида. Во вторую перемену вошли две утки, приготовленные в форме скрипок, сосиски и колбаса в виде флейты и гобоя и телячья грудинка в виде арфы. Слуги резали нам хлеб на куски, имевшие форму конусов, цилиндров, параллелограммов и других геометрических фигур.
За обедом я позволил себе задать ряд вопросов о том, как называют на здешнем языке различные предметы. При содействии хлопальщиков эти знатные особы отвечали мне весьма любезно. Повидимому, они надеялись, что мое восхищение их способностями еще более усилится, если я получу возможность свободно беседовать с ними. Скоро я уже мог попросить хлеба, воды и всего, что мне было нужно.
После обеда мои сотрапезники удалились, и ко мне по приказанию короля в сопровождении хлопальщика прибыло новое лицо. Лицо это принесло с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги и знаками дало понять, что ему поручено обучать меня здешнему языку. Мы занимались четыре часа, и за это время я написал несколько столбцов слов и выучил ряд небольших фраз. Учитель мой то и дело приказывал одному из слуг принести какой-нибудь предмет или повернуться, поклониться, сесть, встать, ходить и т. п., а я повторял и записывал каждую произнесенную им фразу. Он показал мне также в книге изображения солнца, луны, звезд, зодиака, тропиков и полярных кругов и сообщил названия многих плоских фигур и стереометрических тел. Он назвал и описал мне все музыкальные инструменты и познакомил меня с техническими терминами, употребляющимися при игре на каждом из них. Когда он ушел, я расположил все эти слова с их толкованиями в алфавитном порядке. Благодаря хорошей памяти я в несколько дней приобрел некоторые познания в лапутском языке.
Я так и не мог узнать, откуда взялось слово Лапута, которое я перевожу словами летучий, или пловучий, остров. Лап — старинное, вышедшее из употребления слово, означающее высокий, унту — правитель; отсюда, как утверждают ученые, произошло слово Лапута, искаженное Лапунту. Но я не могу согласиться с подобным объяснением, оно мне кажется немного натянутым. Я отважился высказать тамошним ученым догадку насчет происхождения этого слова. По-моему, Лапута есть не что иное, как лапаутед: лап означает игру солнечных лучей на поверхности моря, аутед — крыло. Впрочем, я не уверен, что моя догадка правильна, я только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя*.
Придворные, которым король поручил заботиться обо мне, обратили внимание на мое грязное, поношенное платье и немедленно вызвали портного снять мерку с меня для нового костюма. Выполняя это поручение, мастер действовал совсем иначе, чем его европейские собратья. Прежде всего он определил при помощи квадранта мой рост, затем вооружился циркулем и линейкой и вычислил на бумаге размеры и очертания моего тела. Через шесть дней платье было готово. Оно было сшито совсем не по фигуре и сидело на мне очень скверно. Мастер объяснил мне, что, повидимому, в его вычисления вкралась какая-то ошибка. Я, впрочем, не слишком огорчился этим. Судя по платью окружавших меня придворных, такие ошибки встречались здесь очень часто.
Я чувствовал себя очень слабым после перенесенных мною испытаний. К тому же у меня не было приличного платья. Поэтому я провел несколько дней в комнате и за это время значительно расширил свои познания в здешнем языке. При новом посещении двора я мог уже удовлетворительно отвечать королю на многие его вопросы. Его величество отдал приказ направить остров на северо-восток, к Лагадо, столице всего королевства, расположенной внизу, на земной поверхности. Для этого нужно было пройти девяносто лиг, и наше путешествие продолжалось четыре с половиной дня. Интересно, что я совсем не ощущал поступательного движения острова в воздухе. На другой день около одиннадцати часов король, знать, придворные и чиновники, вооружась музыкальными инструментами, задали концерт. Он продолжался в течение трех часов непрерывно. Я был совершенно оглушен и никак не мог понять, для чего все это делается. Но мой учитель объяснил мне, что народ, населяющий летучий остров, одарен способностью воспринимать музыку сфер. Эта музыка слышна только в строго определенные сроки. Срок этот уже близок, и каждый придворный готовится принять участие в мировом концерте на том инструменте, каким он лучше всего владеет.
Во время нашего полета к Лагадо его величество приказывал останавливать остров над некоторыми городами и деревнями для приема прошений от своих подданных. С этой целью вниз опускались тонкие веревочки с небольшим грузом на конце. К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались вверх, как клочки бумаги, которые школьники прикрепляют к бечевкам от своих змеев. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, — все это поднимали к нам на блоках.
Мои математические познания оказали мне большую услугу при изучении их разговорного языка. В этом языке много выражений заимствовано из математики и музыки. Головы у этих людей набиты геометрическими чертежами и фигурами. Желая, например, похвалить красоту женщины или какого-нибудь животного, они непременно воспользуются геометрическими терминами: ромб, окружность, параллелограмм, эллипс, или же заимствуют сравнения из музыки. В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества.
Дома лапутян построены очень плохо. Стены почти всегда перекошены, ни в одной комнате нельзя найти прямого угла. Дело в том, что они глубоко презирают прикладную геометрию. По их мнению, это чрезвычайно вульгарная наука, которой могут заниматься только грубые ремесленники. Они увлекаются лишь высшими отвлеченными вопросами, и все указания, какие они дают рабочим, так сложны и непрактичны, что на этой почве сплошь и рядом возникают самые забавные ошибки. Они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем. Но мне никогда не приходилось видеть людей, которые в обыденной жизни были бы так неловки, неуклюжи и косолапы, так туги на понимание всего, что не касается математики и музыки. Они очень плохие мыслители; опровергнуть их рассуждения не стоит никакого труда — разумеется, кроме тех случаев, когда истина на их стороне, но это бывает очень редко. Эти люди совершенно лишены воображения, фантазии и изобретательности. В их языке нет даже слов для выражения этих понятий. Кроме математики и музыки, они ничего не знают, да и не желают знать.
Большинство лапутян, особенно те, кто занимается астрономией, верят в астрологию[24], хотя и стыдятся открыто признаться в этом. Но больше всего поразило меня их совершенно непостижимое пристрастие к новостям и политике. Они вечно расспрашивают о последних новостях, часами толкуют о государственных делах и затевают ожесточенные споры по поводу пустяковых партийных разногласий. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой. Мне кажется, что эта наклонность имеет своим источником весьма распространенную среди людей слабость, побуждающую нас интересоваться и заниматься такими вещами, к которым мы по существу дела не имеем никакого отношения.
Лапутяне вечно пребывают в тревоге. Они никогда не наслаждаются душевным покоем. Интереснее всего то, что они тревожатся из-за таких вещей, которые очень мало волнуют остальных смертных. Больше всего пугает их возможность перемен в небесных светилах. Они боятся, как бы Земля, непрестанно сближаясь с Солнцем, не была в конце концов поглощена им. Они трепещут от мысли, что когда-нибудь Солнце покроется твердой коркой и не будет больше давать света. Они считают также, что Земля едва ускользнула от удара хвостом последней кометы и что будущая комета, появление которой, по их вычислениям, надо ожидать через тридцать один год, по всей вероятности уничтожит Землю. Но это еще не всё. По мнению лапутян, Солнце, расточая ежедневно свое тепло без всякого возмещения потери, в конце концов сгорит и уничтожится. А это неизбежно повлечет за собой разрушение Земли и всех планет, получающих от него свой свет*.
Лапутяне так напуганы вечным ожиданием всех этих катастроф, что не могут спокойно спать на своих кроватях и наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни. Встречаясь утром со знакомыми, лапутянин прежде всего задает вопросы: как поживает Солнце, какой вид имело оно при заходе и восходе, есть ли надежда избежать столкновения с приближающейся кометой? Такие разговоры они способны вести часами с тем увлечением, с каким дети слушают страшные рассказы о духах и привидениях; они жадно слушают их, а после не могут спать от страха. Женщины острова совсем не похожи на мужчин. Это живые, бойкие создания, любящие светскую жизнь и презирающие своих мужей. Они постоянно жалуются на свою уединенную жизнь на острове, хотя, по-моему, это самый очаровательный уголок в мире. Островитянки жаждут столичных развлечений, и вся та роскошь и довольство, какими они окружены на острове, не могут удовлетворить их. Но беда в том, что спуститься на землю можно только с особого разрешения короля. Такое разрешение дается очень неохотно. Дело в том, что влиятельные при дворе лица на основании долгого опыта убедились, как трудно бывает заставить жен возвратиться с континента на остров, и чинят всякие препятствия их поездкам в столицу.
Через месяц я сделал порядочные успехи в лапутском языке и мог свободно отвечать на большинство вопросов, задаваемых мне королем. Его величество нисколько не интересовался законами, правлением, историей, религией, нравами и обычаями стран, которые я посетил. Он ограничился только расспросами о состоянии математики, причем выслушивал мои ответы с величайшим пренебрежением и равнодушием, хотя хлопальщики прилагали все усилия, чтобы пробудить в нем должное внимание.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Задача, решенная современной философией и астрономией. Большие успехи лапутян в области астрономии. Королевский способ подавлять восстания.
Я получил от его величества милостивое дозволение осмотреть достопримечательности острова. Моему наставнику велено было сопровождать меня. Больше всего меня интересовало, какие механизмы или естественные силы природы приводят остров в движение. Об этом я сейчас расскажу.
Летучий, или пловучий, остров имеет форму правильного круга диаметром в семь тысяч восемьсот тридцать семь ярдов, или около четырех с половиной миль; следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна тремстам ярдам. Основанием острова служит гладкая алмазная плита толщиной около двухсот ярдов. Нижняя ее поверхность всегда обращена к земле. На этой плите лежат пласты различных горных пород, прикрытых сверху слоем богатого чернозема в десять или двенадцать футов глубины.
В центре острова находится пропасть около пятидесяти ярдов в диаметре, через которую астрономы опускаются в большую пещеру. Пещера имеет форму купола и называется поэтому Фландона Гагноле, или Астрономической пещерой; она расположена на глубине ста ярдов в толще алмаза. В этой пещере всегда горят двадцать ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый уголок. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими приборами. Но главной ее достопримечательностью, от которой зависит судьба острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину шесть ярдов, ширина его в самой толстой части достигает трех ярдов. В самой середине магнита проделано поперечное отверстие, сквозь которое проходит чрезвычайно прочная алмазная ось. Эта ось пригнана так точно, что даже от самого легкого прикосновения руки магнит начинает вращаться. Магнит подвешен в полом алмазном цилиндре. Толщина стенок цилиндра равна четырем футам, высота их также четыре фута; диаметр цилиндра достигает двенадцати футов. По своей форме цилиндр напоминает гигантское алмазное кольцо. Цилиндр укреплен горизонтально на восьми алмазных ножках, высотой в шесть ярдов каждая. На внутренней поверхности его стенок, посередине, сделаны два гнезда, глубиной в двенадцать дюймов каждое; в эти гнезда вставлены концы оси, на которой вращается магнит.
Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массивной алмазной плитой, образующей основание острова.
При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места на другое, ибо по отношению к подвластной монарху части земной поверхности магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого — отталкивающей. Когда магнит поставлен вертикально и его положительный полюс обращен к земле, остров опускается, а когда обращен книзу отрицательный полюс магнита, остров поднимается. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо сила этого магнита направлена всегда в ту сторону, куда повернут положительный конец.
Чтобы понять, как происходит передвижение острова, допустим, что линия «АБ» проходит через государство Бальнибарби, линия «ВГ» — магнит, точка «В» — его отрицательный полюс, а точка «Г» — положительный. Допустим, что остров находится над точкой «В». Пусть магнит будет поставлен в положение «ВГ», при котором его отрицательный полюс направлен наискось вниз, тогда остров начнет подвигаться по направлению к «Г». Когда он достигнет этой точки, повернем магнит так, чтобы его положительный полюс был направлен к «Д», тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к «Д». Если теперь поставить магнит по направлению к «Е», отрицательным полюсом книзу, остров поднимается наискось к «Е», откуда, направив положительный полюс к «Ж», остров можно перенести к «Ж». Таким образом, изменяя положение магнита, можно поднимать и опускать остров по косым линиям и при помощи таких подъемов и спусков передвигать его из одной части государства в другую{1}.
Однако надо заметить, что летучий остров может передвигаться только над владениями монарха Лапуты. Дело в том, что минералы, действующие на большой магнит, залегают только в пределах этого королевства. А в то же время остров не может подниматься выше четырех миль от поверхности земли, так как на большей высоте прекращается действие магнита.
Если поставить магнит в строго горизонтальное положение, остров останавливается. Объяснить это явление нетрудно; полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от земли, действуют с одинаковой силой, один — притягивая остров книзу, другой — толкая его вверх, и остров не может сдвинуться с места.
Магнит находится в ведении опытных астрономов, которые по приказу короля меняют его положение. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях за движениями небесных светил. Здешние телескопы по своим качествам значительно превосходят наши. Самые большие из них не длиннее трех футов, однако они гораздо сильнее наших стофутовых телескопов. Это преимущество позволило лапутянам в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог двухсот тысяч неподвижных звезд, между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа. Кроме того, они открыли две маленькие звезды, или два спутника, обращающихся около Марса. Ближайший из них удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, второй находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров.
Лапутяне утверждают, что они произвели наблюдения над девяносто тремя различными кометами и установили с большой точностью периоды их возвращения. Если это справедливо, то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием. Это помогло бы усовершенствовать теорию комет, которая теперь сильно хромает*.
Нетрудно понять, что обладание летучим островом дает королю Лапуты огромные преимущества по сравнению с остальными государями на земле. Он мог бы легко стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно. Но министры отлично понимают, что положение фаворита при неограниченном монархе далеко не прочно. К тому же у каждого из них имеются обширные владения на континенте. Поэтому порабощение отечества невыгодно для них, и они не соглашаются на это.
Если в каком-нибудь городе внизу вспыхивает восстание и он отказывается вносить налоги, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них таково: король приказывает остановить остров над таким городом и прилегающими к нему землями; этим он лишает непокорных благодетельного действия солнца и дождя, и в их стране начинается голод и болезни. Если, по мнению короля, горожане запятнали себя особыми преступлениями, он может усилить эту кару: по его приказанию на город сбрасывают огромные камни, от которых население может укрыться только в подвалах и погребах, так как жилища подвергаются полному разрушению. Но если мятежники продолжают упорствовать, король применяет другое, более решительное средство: остров опускается прямо на головы непокорных и расплющивает их вместе с их домами. Однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях. Министры также не часто решаются рекомендовать ему подобное мероприятие. С одной стороны, они опасаются ненависти и мести со стороны народа, с другой — боятся, как бы при этом не пострадали их собственные владения. Не надо забывать, что остров является исключительной собственностью короля, а все поместья, дома и виллы, вельмож расположены на континенте.
Но существует и другая, более важная причина, почему короли этого государства только в случае самой крайней необходимости, да и то очень неохотно, прибегают к этой страшной мере.
Если город, обреченный на уничтожение, расположен среди высоких скал — а большинство здешних городов, и притом вполне намеренно, так и расположены, — если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то быстрое падение острова может повредить его алмазное основание. Правда, это основание, как я уже говорил, состоит из одного цельного алмаза толщиной в двести ярдов, но все же при сильном толчке оно может расколоться или потрескаться от вспыхнувших при разрушении зданий пожаров. Это обстоятельство известно населению, и оно отлично учитывает его, организуя сопротивление против посягательства на свою свободу и имущество.
Король, со своей стороны, приняв решение стереть с лица земли мятежный город, приказывает опускать остров как можно тише и осторожнее. При этом он говорит о своем милосердии и жалости, но на самом деле им руководит боязнь разбить алмазный диск при столкновении с поверхностью земли.
Года за три до моего прибытия к лапутянам произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии. Король облетал свои владения. Первый город, который он посетил, был Линдалино, один из самых больших в королевстве; население города принесло королю множество жалоб на притеснения со стороны губернатора. Как и прежде, эти жалобы были оставлены без последствий. Не прошло и трех дней после отъезда короля, как горожане заперли ворота, арестовали губернатора и в невероятно короткий срок воздвигли по четырем углам города четыре массивные башни такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На башнях и скале они установили по большому магниту, и на случай, если магниты не окажут своего действия на управление островом, они заготовили огромное количество легко воспламеняющегося топлива, рассчитывая при помощи огня повредить алмазное основание острова.
Вести о восстании в Линдалино дошли до короля только через восемь месяцев. Он отдал распоряжение направить остров к Линдалино. Через несколько дней остров остановился прямо над городом, лишив жителей солнечного света и дождей. Мера оказалась недостаточной. Через город протекала большая река. Жители успели запастись провиантом и не боялись осады. Они были полны решимости сопротивляться до конца. Король велел спустить с острова множество бечевок. Но вместо смиренных прошений на остров полетели дерзкие требования: о возмещении причиненного ущерба, восстановлении городских привилегий, предоставлении жителям права выбора губернатора и тому подобные несуразности. В ответ на это его величество приказал островитянам бросать на город большие камни. Но горожане укрылись от этой свирепой кары в своих башнях в погребах, припрятав в них и свои пожитки.
Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал опустить остров на сорок ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено. Однако чиновники, повернув магнит, заметили, что остров спускается гораздо быстрее обычного. Приведя магнит в горизонтальное положение, они сумели приостановить дальнейший спуск, но при этом выяснилось, что остров сильно притягивается к земле и может упасть. Они тотчас дали знать об этом его величеству и просили разрешения поднять остров выше. Король немедленно дал свое согласие. Остров подняли на значительную высоту. Вслед за тем был созван большой совет, и чиновники, ведающие магнитом, получили приказание присутствовать на нем. Самый опытный и ученый из них попросил позволения произвести опыт. Он взял прочный и длинный шнурок, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержащий в себе некоторое количество железной руды (подобно алмазу, составлявшему основание острова), и стал медленно спускать его с нижней галереи прямо над верхушкой одной из башен. Но едва алмаз опустился на несколько ярдов, как чиновник почувствовал, что камень с такой силой потянуло вниз, что он с трудом удержал шнурок в руках. Тогда чиновник сбросил несколько обломков алмаза и заметил, что башня притянула их к себе. Такой же опыт был проделан и над остальными башнями. Результат везде был одинаковый.
Испуганный король прекратил все попытки разрушить город и оставил его в покое.
Один из министров уверял меня, что если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его сторонников и совершенно изменили бы образ правления.
Основной закон государства запрещает королю и двум его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Автор покидает Лапуту. Его спускают в Бальнибарби. Прибытие автора в столицу. Описание столицы и прилегающей местности. Один сановник гостеприимно принимает у себя автора. Его беседы с этим сановником.
Хотя я не могу пожаловаться на прием, оказанный мне на острове, но все же должен сознаться, что не пользовался там особенным вниманием. Больше того, лапутяне немножко презирали меня. Это и понятно, если вспомнить, что король и население не интересовались ничем, кроме математики и музыки. А в этой области знаний я значительно отстал от них и потому не мог приобрести большого уважения.
С другой стороны, осмотрев все достопримечательности острова, я сам стремился его покинуть. Мне смертельно надоели эти люди. Они действительно чрезвычайно сведущи в математике и музыке. Но образованные лапутяне так рассеянны и так глубоко погружены в умозрения, что я никогда в жизни не встречал более неприятных собеседников. Поэтому во время пребывания на острове я по возможности избегал вступать с ними в беседу и разговаривал главным образом с женщинами, купцами, хлопальщиками и с пажами. Это были единственные люди, от которых я мог получить разумный ответ на заданный вопрос. Но зато образованные лапутяне стали относиться ко мне с большим презрением.
Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык. Мне было томительно скучно на острове, где мне оказывали так мало внимания, и я решил покинуть его при первом удобном случае.
При дворе я постоянно встречался с одним вельможей, близким родственником короля. Это обстоятельство было единственной причиной, почему царедворцы обходились с ним почтительно. На деле они считали его человеком крайне глупым и невежественным. Он оказал много весьма важных услуг государству, обладал большими природными способностями и отличался прямотой и честностью. Но, к сожалению, его ухо было так нечувствительно к музыке, что, по уверению недоброжелателей, он часто отбивал такт невпопад. Так же обстояло дело и с математикой: наставники лишь с большим трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Этот вельможа оказывал мне большое благоволение. Он часто навещал меня, желая получить сведения о Европе, о законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием и делал мудрые замечания по поводу моих рассказов. При нем состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов. Когда же мы оставались наедине, он всегда отпускал их.
Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у его величества разрешение покинуть остров. Вельможа, хотя и с сожалением, как ему угодно было сказать мне, исполнил мою просьбу. Желая удержать меня на острове, он сделал мне много лестных предложений, но я отказался от них с выражением глубочайшей признательности.
16 февраля я попрощался с его величеством и придворными. Король наградил меня подарками ценностью около двухсот английских фунтов; такой же подарок я получил и от моего покровителя, родственника короля. Кроме того, он дал мне рекомендательное письмо к своему другу, жившему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил на расстоянии двух миль от столицы, и меня спустили с нижней галереи при помощи того же кресла, на цепях, на котором два месяца назад я поднялся на остров.
Континентальные владения монарха Летучего острова известны под именем Бальнибарби, а столица этого государства, как я уже говорил, называется Лагадо. Я не без удовольствия почувствовал под ногами твердую землю. Так как на мне был местный костюм и я достаточно владел языком, чтобы объясниться с местными жителями, то я без всяких затруднений добрался до столицы. Я скоро отыскал дом лица, к которому меня направил мой покровитель, передал ему рекомендательное письмо и был принят весьма любезно. Этот сановник, по имени Мьюноди, велел приготовить у себя в доме для меня комнату, где я и прожил все время моего пребывания в столице.
На другой день по моем приезде хозяин усадил меня в коляску и повез осматривать столицу. Город этот раза в два меньше Лондона. Дома в нем построены очень странно, многие из них полуразрушены. Прохожие имели какой-то дикий вид. Почти все они были в лохмотьях; вытаращив глаза, они беспорядочно метались по улицам. Миновав городские ворота, мы поехали полями. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью самых разнообразных орудий. Но я никак не мог разобрать, что, собственно, они делают, так как на полях не было видно ни малейших следов травы или хлеба, хотя почва была, повидимому, превосходная. Я был крайне поражен всем виденным и решил обратиться за разъяснениями к моему спутнику. У всех встречных озабоченные лица, все куда-то торопятся, чем-то заняты, как в городе, так и на полях, а между тем совсем не заметно, чтобы эта кипучая деятельность приносила какие-нибудь плоды. Напротив, мне никогда не приходилось видеть полей, хуже возделанных, домов, хуже построенных, и людей с такими изможденными лицами и в таких нищенских лохмотьях.
Господин Мьюноди был очень знатной особой. Он несколько лет состоял губернатором Лагадо, но, по проискам министров, был отстранен от должности якобы за неспособность. Но все же он не утратил расположения короля, который считал его надежным и благомыслящим человеком, хотя и недалекого ума. Мьюноди отвечал мне сдержанно и кратко. Он ограничился замечанием, что я провел здесь слишком мало времени, чтобы составить правильное суждение о стране и ее жителях, и что у всякого народа свои нравы и обычаи, и перевел разговор на другую тему. Но когда мы вернулись домой, он спросил, нравится ли мне его дом, не замечаю ли я каких-нибудь недостатков в его архитектуре, что я скажу насчет одежды и внешности его слуг. Он мог спокойно задавать такие вопросы: все у него было в полном порядке, отличалось изяществом и роскошью. Я ответил, что мудрость, знатность и богатство его превосходительства помогли ему уберечься от всех несообразностей, которыми его соотечественники обязаны своему безрассудству или крайней нищете. На это Мьюноди заметил, что беседы такого рода нам будет гораздо удобнее вести в его загородной вилле, расположенной милях в двадцати от города. Его превосходительство предложил завтра же отправиться туда, на что я очень охотно согласился.
По дороге Мьюноди обратил мое внимание на различные методы, применяемые фермерами при обработке земли. Все они были мне неизвестны и совершенно непонятны, ибо, за весьма редкими исключениями, я не мог заметить на полях ни одного колоса, ни одной былинки. Но после трех часов пути картина совершенно переменилась. Показались красивые фермерские домики, огороженные поля, виноградники, пашни, покрытые буйными хлебами, зеленые луга. Я давно не видел такого приятного пейзажа. Его превосходительство, заметив, что лицо мое прояснилось, сказал, что здесь начинаются его владения. При этом он тяжело вздохнул и добавил, что его соотечественники презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает дурной пример.
Наконец мы подъехали к дому. Это было великолепное здание прекрасной старинной архитектуры. Фонтаны, сады, аллеи, рощи — все устроено очень умно и с большим вкусом. Я не скупился на похвалы всему, что видел, но его превосходительство не обращал на мои слова ни малейшего внимания. Но когда после ужина мы остались одни, хозяин с грустным видом сказал, что нередко подумывает о том, чтобы перестроить свои дома согласно требованиям последней моды и ввести у себя в поместьях новейшие способы обработки почвы. В противном случае он рискует навлечь на себя упреки в гордости, оригинальничанье, кривлянье, невежестве, самодурстве и, чего доброго, вызвать неудовольствие короля. А его величество и без того относится к нему с недоверием. Он высказал опасение, что мое восхищение значительно остынет, когда он сообщит мне кое-какие подробности, о которых я вряд ли слышал при дворе. Ведь там, наверху, люди слишком погружены в возвышенные размышления и им некогда обращать внимание на то, что творится на земле.
Сущность его рассказа сводилась к следующему. Около сорока лет тому назад несколько жителей столицы, одни по делам, другие для развлечения, поднялись на Лапуту. Они провели там пять месяцев и спустились обратно с весьма поверхностными познаниями в математике, но с большим запасом легкомыслия, приобретенного в этой воздушной области. За время пребывания на острове эти люди прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты переустройства науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии прожектёров в Лагадо. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного более или менее крупного города, где бы не существовало такой академии. В этих академиях профессора изобретают новые способы обработки земли и возведения зданий, новые инструменты и машины для всякого рода ремесел. Они уверяют, что с помощью этих машин и орудий один человек будет исполнять работу десятерых. По их словам, пользуясь открытыми ими средствами, в какую-нибудь неделю можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта; все земные плоды будут созревать в любое время года, причем эти плоды по размерам превзойдут в сто раз те, какие мы имеем теперь… Словом, нельзя перечесть всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца, а пока что страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома разваливаются и население голодает и ходит в лохмотьях*.
Однако все это нисколько не охлаждает рвения прожектёров. Напротив: воодушевленные в равной степени надеждой и отчаянием, они еще настойчивее стараются провести в жизнь свои проекты.
Но что касается самого Мьюноди, то он не слишком предприимчивый человек и предпочитает держаться старины; живет в домах, построенных его предками, и во всем следует их примеру, не заводя никаких новшеств. Так же ведут себя еще несколько человек из знати и среднего дворянства. Но на них смотрят с презрением и недоброжелательством, как на невежественных врагов науки и вредных членов общества, жертвующих преуспеянием страны своему покою и лени.
В заключение его превосходительство сказал, что он не станет сообщать мне дальнейших подробностей. Ему не хочется лишить меня удовольствия, которое я, наверно, получу при личном осмотре Великой академии, куда он решил свести меня. Он только попросил обратить внимание на развалины, видневшиеся на склоне горы, в трех милях от нас.
Когда-то неподалеку от усадьбы у него была хорошая водяная мельница, расположенная у большой реки. Мельница отлично обслуживала как его хозяйство, так и хозяйства всех его арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожектёров с предложением разобрать эту мельницу и построить новую на склоне горы. На вершине горы они брались вырыть длинный канал, который будет служить водохранилищем. Воду в канал предполагалось накачивать особыми насосами. По их мнению, вода, подвергаясь на вершине горы усиленному действию ветра и свежего воздуха, должна быть гораздо более способной к движению, чем в реке, текущей по ровной местности; кроме того, низвергаясь сверху, вода приобретает вдвое больше силы, и потому мельница будет работать вдвое быстрей, чем раньше. Как раз в это время его отношения с двором несколько пошатнулись. Желая исправить их, он, по настоянию друзей, принял предложение компании. После двухлетних работ, на которых было занято свыше ста человек, предприятие развалилось. Прожектёры скрылись, свалив всю вину на него. С тех пор они постоянно издеваются над ним и подбивают других проделать такой же эксперимент, с таким же ручательством за успех.
Спустя несколько дней мы возвратились в город.
Его превосходительство пользовался в академии дурной репутацией. Поэтому он не счел удобным сопровождать меня сам и поручил это одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося проектами, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины, ибо в молодости я был большим прожектёром.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Автор осматривает Великую академию в Лагадо. Подробное описание академии. Науки и искусства, которыми занимаются профессора.
Академия занимает ряд заброшенных домов по обеим сторонам улицы, которые были приобретены и приспособлены для ее работ.
Президент встретил меня весьма приветливо, и я провел в академии немало дней. В каждой комнате помещался один или несколько прожектёров, и, сколько помнится, я побывал не меньше чем в пятистах комнатах.
Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с закопченным лицом и руками; его платье, рубаха и кожа были такого же цвета, а длинные всклокоченные волосы и борода местами были опалены. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей. Эти лучи он намеревался собирать в герметически закупоренные склянки, чтобы в случае холодного и дождливого лета обогревать ими воздух. Он выразил уверенность, что через восемь лет сможет поставлять по умеренной цене солнечный свет для губернаторских садов. Но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги. Я сделал ему маленький подарок из денег, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин. Его превосходительству был хорошо известен обычай ученых выпрашивать у каждого посетителя какую-нибудь подачку.
Там же я увидел другого ученого, пытавшегося превратить лед в порох путем пережигания его на сильном огне. Он же показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирался опубликовать.
Там был также весьма изобретательный архитектор, придумавший новый способ постройки домов. Постройка должна была начинаться с крыши и кончаться фундаментом. Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука.
Там был слепорожденный. Несколько слепых учеников занимались под его руководством смешиванием красок для живописцев. Профессор учил их распознавать цвета при помощи обоняния и осязания. К сожалению, они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большим уважением своих собратьев.
В другой комнате мне доставил большое удовольствие прожектёр, открывший способ пахать землю при помощи свиней. Этот способ должен был избавить земледельцев от расходов на плуги, рабочий скот и рабочих. Изобретение заключается в следующем. На акре земли вы закапываете на глубине восьми дюймов с промежутками в шесть дюймов жолуди, финики, каштаны и другие плоды и овощи, до которых особенно лакомы свиньи. Затем вы выгоняете на это поле штук шестьсот или больше свиней. В течение нескольких дней, в поисках закопанных плодов, они взроют землю, сделав ее пригодной для посева. В то же время они удобряют ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов при очень сомнительном урожае. Однако все убеждены, что это изобретение при некоторых усовершенствованиях сулит огромные барыши.
Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной. Оставался только узкий проход посередине для изобретателя. Едва я показался в дверях, как ученый громко закричал, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины. Он стал жаловаться на заблуждение, в котором с незапамятных времен пребывало человечество. До сих пор люди пользовались пряжей шелковичных червей. Между тем в нашем распоряжении находится множество насекомых, неизмеримо превосходящих по своим способностям этих червей: шелковичный червь только прядет, а они и прядут и ткут. К тому же, продолжал он, заменив шелк паутиной, мы избавимся от всяких расходов на окраску тканей. Мне пришлось согласиться с ним, когда он показал множество красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков. Цвет этих мух, по его словам, должен передаваться изготовленной пауком ткани. Так как ученый располагал мухами всех цветов, то надеялся угодить на вкус любого потребителя. Ему оставалось только найти для мух подходящий корм в виде древесного клея и других веществ, способных придать паутине большую толщину и прочность*.
Там же был астроном, затеявший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши. Для этого ему нужно было в точности рассчитать, какое соответствие существует между суточным и годовым движением земли и случайными переменами в направлении ветра.
Я посетил еще много других комнат, но не стану утруждать читателя описанием всех диковин, какие я там видел. Остановлюсь только на деятельности одного знаменитого ученого, заслужившего прозвище «универсального гения». По его словам, он уже тридцать лет посвящает все свои мысли улучшению человеческой жизни.
В его распоряжении были две большие комнаты, загроможденные самыми удивительными диковинами; пятьдесят помощников работало под его руководством. Одни сгущали воздух в сухое, плотное вещество, извлекая из него селитру и процеживая водянистые его частицы*; другие толкли мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи старались придать крепость камня копытам живой лошади, чтобы они не сбивались. Что касается самого ученого, то он был занят в то время разработкой двух великих изобретений. Первое из них — проект обсеменения полей мякиной, в которой, по его мнению, и заключается главная производительная сила. Справедливость этого мнения он доказывал при помощи бесчисленных опытов, которые, по моему невежеству, остались для меня совершенно непонятными. Вторая задача, над разрешением которой он работал, сводилась к изобретению особой мази очень сложного состава. При помощи этой мази можно было остановить рост шерсти на ягнятах. Ученый надеялся в недалеком будущем развести в королевстве породу голых овец.
В домах по другую сторону улицы помещалось отделение академии, где заседали прожектёры, посвятившие себя изучению отвлеченных наук.
Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, в окружении сорока учеников. Мы обменялись приветствиями, и я приступил к осмотру комнаты. Меня сразу же поразила огромная рама, занимавшая большую часть комнаты. Заметив это, профессор объяснил мне, что он работает над изготовлением особых механических приборов, предназначенных для открытия отвлеченных истин. Он допускает, что подобный замысел на первых порах может вызвать во мне удивление. Но он нисколько не сомневается, что вскоре мир вполне оценит его проект. Никогда еще более грандиозная и возвышенная идея не зарождалась ни в чьей голове. Каждый знает, как трудно изучение наук и искусств по общепринятой метóде. Между тем благодаря его изобретению самый невежественный и бездарный человек при небольшой затрате средств и физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию. Тут он подвел меня к раме, по бокам которой рядами стояли все его ученики. Рама эта имела двадцать квадратных футов и помещалась посередине комнаты. Поверхность ее состояла из множества деревянных дощечек, каждая величиной с игральную кость — одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками. Дощечки были оклеены кусочками бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова языка Бальнибарби в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил внимания, так как собирался пустить в ход свою машину. По его команде ученики взялись за железные рукоятки, вставленные по краям рамы, и быстро повернули их. Все дощечки перевернулись, и расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме. Если случалось, что три или четыре слова составляли часть осмысленной фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза. Машина была устроена таким образом, что после каждого оборота дощечки поворачивались и передвигались, и слова размещались по-новому.
Ученики занимались этими упражнениями по шести часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, исписанных подобными отрывочными фразами. На основании этого богатейшего материала профессор рассчитывал составить полный обзор всех наук и искусств. Вполне понятно, что его задача была бы значительно облегчена, если бы ему удалось собрать достаточно денег для сооружения пятисот таких станков в Лагадо и обязать руководителей объединить полученные ими наборы фраз. Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощало все его мысли. Теперь на дощечках его машины начертан полный словарь бальнибарбийского языка. Сверх того, ему удалось вполне точно высчитать соотношение чисел существительных, глаголов и других частей речи, употребляемых в книгах.
Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения и дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное, как единственному изобретателю этой изумительной машины. Я попросил у него позволения срисовать его машину. Я сказал ему, что хотя в Европе существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, но я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним и никем не оспаривалась.
После этого мы пошли в школу языкознания. Там три профессора обсуждали различные проекты усовершенствования родного языка. Первый проект предлагал упростить разговорную речь, переделав все многосложные слова в односложные и выбросив глаголы и причастия. Автор указывал, что только именам существительным соответствуют существующие предметы.
Второй проект требовал полного упразднения всех слов. Автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережения времени. Ведь совершенно очевидно, что произнесение слов утомляет горло и легкие, и, следовательно, сокращает нашу жизнь. А так как слова суть только названия вещей, то гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний.
Это изобретение, как очень полезное для здоровья, наверно получило бы широкое распространение. Но женщины, сговорившись с невежественной чернью, пригрозили поднять восстание. Они решительно потребовали, чтобы их языку была предоставлена полная воля. Поистине, чернь — непримиримый враг науки! Тем не менее многие весьма ученые и мудрые люди пользуются новым способом объясняться при помощи вещей. Единственным его неудобством является то обстоятельство, что собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с разными вещами, которые могут понадобиться в разговоре. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, сгибавшихся, подобно нашим разносчикам, под тяжестью огромной ноши. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу. Затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились.
Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или подмышкой, а при разговорах в домашней обстановке все подобные затруднения легко устранить. Надо только наполнить комнаты, где собираются сторонники этого языка, самыми разнообразными предметами.
Великим преимуществом этого языка является его международный характер. У всех цивилизованных наций мебель и домашняя утварь более или менее одинаковы. Благодаря этому посланники при помощи вещей могут легко объясняться с иностранными королями или министрами, язык которых им совершенно неизвестен.
Я посетил также математическую школу. Здесь преподавание ведется по такому методу, какой едва ли возможен у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех дней после этого не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен. Отчасти это объясняется какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они обыкновенно отходят в сторонку и сейчас же ее выплевывают. К тому же до сих пор их никак не удается убедить строго соблюдать трехдневный пост, обязательный для успешного действия микстуры.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Продолжение описания академии. Автор предлагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются.
В школе политических прожектёров меня встретили не слишком любезно. Впрочем, профессора в этой школе, на мой взгляд, были совсем сумасшедшими, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные изыскивали способы убедить монархов выбирать фаворитов среди умных, способных и добродетельных людей, научить министров заботиться об общем благе, награждать только тех, кто оказал обществу выдающиеся услуги; внушить монархам, что их подлинные интересы совпадают с интересами народа и что поручать должности следует достойным лицам. Множество подобных диких и невозможных фантазий, совершенно чуждых здравомыслящим людям, рождалось в головах этих безумцев*. Глядя на них, я еще раз убедился в справедливости старинного изречения, что на свете нет такой нелепости, которая не имела бы своих защитников среди философов.
Я должен, однако, отдать справедливость этому отделению академии и признать, что здесь не все ученые были такими фантазерами. Я познакомился с одним очень остроумным доктором, который, повидимому, в совершенстве изучил природу и механизм управления государством. Этот знаменитый муж весьма успешно занимался изобретением лекарств от всех болезней, физических и нравственных, которыми страдают представители власти. Исходя из того, что между человеческим организмом и государством имеется полное сходство, он утверждал, что болезни, порождаемые государственным строем — пороками правителей и распущенностью управляемых, — надо лечить при помощи тех же средств, как и болезни, вызываемые физическими причинами. Всеми признано, что сенаторы и члены высоких палат часто страдают многословием, запальчивостью и другими дурными наклонностями; различными болезнями мозга и особенно сердца; сильными конвульсиями с мучительными сокращениями нервов и мускулов обеих рук и особенно правой*; разлитием желчи, головокружением, бредом; золотушными опухолями, волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые не к чему перечислять. Поэтому ученый доктор предлагает: всякий раз, как созывается сенат, на первые три заседания командировать несколько опытных врачей. По окончании прений эти врачи обязаны пощупать пульс у всех сенаторов и осмотреть их. Установив после тщательного исследования, чем болен каждый из них, врачи на четвертый день заранее являются в зал заседания и, прежде чем заседание откроется, дают каждому сенатору: успокоительного, слабительного, очищающего, разъедающего, вяжущего, расслабляющего, противоголовного, противожелтушного, противоушного, смотря по роду болезни. Проверив действие этих лекарств, врачи на следующем заседании должны повторить, или переменить лекарства, или перестать давать их.
Проведение в жизнь этого проекта не требует больших затрат, а между тем он, по моему скромному мнению, может принести много пользы в тех странах, где сенат принимает участие в законодательстве: внести единодушие, сократить прения, открыть несколько ртов, теперь закрытых, и закрыть гораздо большее число открытых, обуздать пыл молодости и смягчить черствость старости, расшевелить тупых и охладить горячих.
Второй проект этого глубокомысленного ученого сводится к следующему. Все жалуются, что фавориты государей страдают короткой и слабой памятью. Поэтому доктор предлагает каждому получившему аудиенцию у первого министра, по изложении в самых коротких и ясных словах сущности дела, на прощание потянуть его за нос, или дать ему пинок в живот, или наступить на мозоль, или надрать ему уши, или уколоть булавкой, или ущипнуть до синяка руки и тем предотвратить министерскую забывчивость. Операцию следует повторять каждый приемный день, пока просьба не будет исполнена или не последует категорический отказ.
Он предлагает также, чтобы каждый сенатор, высказав свое мнение, подавал свой голос за прямо противоположное мнение, и ручается, что при соблюдении этого правила исход голосования всегда будет благодетелен для общества.
Если партийные распри приобретают слишком ожесточенный характер, он рекомендует замечательное средство для водворения порядка. Надо взять сотню главарей каждой партии и разделить попарно так, чтобы головы людей из каждой пары были приблизительно одной величины. Затем два хирурга отпилят одновременно затылки у обоих участников пары и приставят затылок к голове другого. Операция эта требует исключительной точности, но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено: две половинки мозга, взятые у ожесточенных партийных противников и стиснутые в пределах одного черепа, скоро придут к доброму согласию и срастутся между собой. Тогда в головах главарей, подвергшихся этой операции, воцарится та благоразумная умеренность, которая так необходима людям, воображающим, будто они призваны управлять миром. Правда, тут возникает опасение, что, приставляя мозги глупого человека к мозгам умного, мы рискуем сделать глупцом и этого последнего. Но доктор уверял, что по уму и способностям вожаки партий мало разнятся друг от друга, так что на это не стоит обращать никакого внимания.
Я присутствовал при жарком споре двух профессоров о том, как легче и удобнее взимать налоги, чтобы население не слишком чувствовало их тягость. Первый утверждал, что справедливее всего облагать налогом пороки и безрассудства, а решение вопроса, сколько с кого брать, предоставить особому комитету из местных жителей, которые, конечно, могут беспристрастно оценить пороки своих соседей. Второй отстаивал прямо противоположное мнение: обложению должны подлежать те душевные и физические качества, которые люди больше всего ценят в себе: величина взноса должна определяться самим плательщиком в зависимости от его мнения о самом себе. Обложению высоким налогом подлежат остроумие, храбрость и учтивость. Однако честь, справедливость, мудрость и знания не подлежат обложению, потому что оценка их до такой степени субъективна, что не найдется человека, который признал бы их существование у своего ближнего или правильно оценил их в самом себе.
Другой профессор показал мне объемистое сочинение о способах раскрытия заговоров. Он рекомендует государственным мужам узнавать, чем питаются подозрительные лица, в какое время они садятся за стол, на каком боку спят, и собирать другие подобные сведения об их обыденной жизни.
Все рассуждение написано с большой проницательностью и заключает в себе много наблюдений, любопытных и полезных для политиков, хотя эти наблюдения показались мне недостаточно полными. Я осмелился сказать об этом автору и предложил, если он пожелает, сделать некоторые добавления. Он принял мое предложение с большей благожелательностью, чем это обычно бывает у писателей, особенно у составителей проектов, и заявил, что охотно примет к сведению мои замечания.
Тогда я сказал ему, что в королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден*, где мне случалось побывать в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из осведомителей, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных вместе с их многочисленными подручными и прислужниками, находящимися на жалованье у министров и их помощников. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются делом рук тех, кто хочет выдвинуться в качестве тонкого политика, вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти, задушить или отвлечь общественное недовольство, наполнить свои сундуки конфискованным имуществом, укрепить или подорвать доверие к силам государства, смотря по тому, что им выгоднее. Прежде всего они договариваются, кого именно из подозрительных лиц обвинить в заговоре; затем они пускают в ход все средства, чтобы у этих людей отобрали все письма и бумаги, а их самих заковали в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специалистов, больших мастеров в разгадывании таинственного смысла слов, слогов и букв. Так, например, им ничего не стоит установить, что стая гусей означает сенат; хромая собака — претендента; сарыч — первого министра; подагра — архиепископа; виселица — государственного секретаря; метла — революцию; мышеловка — государственную службу; бездонный колодец — казначейство; помойная яма — двор; дурацкий колпак — фаворита; сломанный тростник — судебную палату; пустая бочка — генерала; гноящаяся рана — систему управления.
Профессор горячо поблагодарил меня за сообщение этих наблюдений и обещал сделать почетное упоминание обо мне в своем трактате.
Больше ничего не привлекало к себе моего внимания в этой стране, и я стал подумывать о возвращении в Англию.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Автор покидает Лагадо. Приезд в Мальдонаду. В гавани нет ни одного корабля, отходящего в Лаггнегг. Автор совершает короткое путешествие в Глаббдобдриб. Прием, оказанный ему правителем этого острова.
Континент, часть которого занимает это королевство, лежит, как я имею основание думать, к востоку от тех исследованных областей Америки, которые тянутся к западу от Калифорнии; на севере его омывает Тихий океан. На расстоянии не более ста пятидесяти миль от Лагадо находится прекрасный порт Мальдонада, ведущий оживленную торговлю с большим островом Лаггнегг, расположенным на северо-запад под 29° северной широты и 140° западной долготы. Остров Лаггнегг лежит на юго-восток от Японии на расстоянии около ста лиг. Японский император и король Лаггнегга заключили союз, и между этими островами поддерживаются постоянные сношения. Поэтому я решил направиться в Лаггнегг в надежде через Японию вернуться в Европу…
Чтобы добраться до Мальдонады, откуда корабль должен был доставить меня в Лаггнегг, я нанял проводника с двумя мулами. Затем я дружески простился с моим покровителем Мьюноди, сделавшим мне на дорогу богатый подарок, и отправился в путь.
Мое путешествие прошло без всяких приключений, о которых стоило бы упомянуть. По приезде в Мальдонаду я не нашел там ни одного корабля, отправляющегося в Лаггнегг. В порту мне сказали, что ближайший рейс на этот остров состоится не раньше чем через месяц. Приходилось ждать. Я поселился в городской гостинице. Вскоре я завел некоторые знакомства. Один знатный господин сказал мне, что так как мне предстоит пробыть здесь не менее месяца, то, быть может, я не откажусь совершить экскурсию на островок Глаббдобдриб, лежащий в пяти лигах к юго-западу. Он предложил сопровождать меня вместе со своим другом и достать для этой поездки небольшой удобный баркас.
Слово Глаббдобдриб, насколько для меня понятен его смысл, означает остров чародеев или волшебников. Этот остров в три раза меньше острова Уайта и очень плодороден. Им управляет глава племени, сплошь состоящего из волшебников. Жители этого острова вступают в браки только между собою, и старейший в роде является правителем или монархом острова. У него великолепный дворец с огромным парком в три тысячи акров, окруженный каменной стеной в двадцать футов вышины. Особые, хорошо огороженные участки парка отведены для скотоводства, хлебопашества и садоводства.
Слуги правителя и его семьи имеют несколько необычный вид. Благодаря глубоким познаниям некромантии* правитель обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе. Однако его власть над вызванными длится только двадцать четыре часа; кроме того, он может вызвать одно и то же лицо не чаще, чем раз в три месяца.
Когда мы прибыли на остров, было около одиннадцати часов утра. Один из моих спутников отправился к правителю испросить у него аудиенцию для иностранца, который явился на остров в надежде удостоиться высокой чести быть принятым его высочеством. Правитель немедленно дал свое согласие.
По обеим сторонам дворцовых ворот стояла стража, вооруженная и одетая по весьма старинной моде. В наружности их было нечто такое, что наполнило мое сердце невыразимым ужасом. Мы миновали несколько комнат, где, выстроившись в два ряда, стояли такие же слуги, и достигли аудиенц-зала. Здесь мы, согласно церемониям, отвесили три глубоких поклона. Нам задали несколько незначительных вопросов и предложили занять три табурета у нижней ступеньки трона его высочества. Правитель понимал язык бальнибарби и попросил меня рассказать о моих путешествиях. Желая, чтобы я чувствовал себя проще и свободнее, он дал знак присутствующим удалиться. Они исчезли мгновенно, как исчезает сновидение, когда мы внезапно просыпаемся. Я буквально замер от изумления и страха. Заметив это, правитель стал уверять меня, что я нахожусь здесь в безопасности. Видя полное спокойствие на лицах моих двух спутников, привыкших к подобного рода зрелищам, я понемногу оправился и описал его высочеству некоторые из моих приключений. Но я никак не мог окончательно подавить своего волнения и часто оглядывался на те места, где стояли исчезнувшие слуги-призраки.
Я удостоился чести обедать вместе с правителем. За столом нам прислуживала и подавала кушанья новая партия призраков. Однако теперь все это не так пугало меня, как утром. Я пробыл во дворце до захода солнца. Правитель пригласил меня остановиться у него во дворце. Но я почтительно просил его высочество извинить меня и сказал, что предпочел бы на ночь удалиться. Вместе со своими друзьями я переночевал на частной квартире в городе, являющемся столицей этого островка. А на другой день утром мы снова отправились к правителю засвидетельствовать ему свое почтение и предоставить себя в его распоряжение.
Мы прожили на острове десять дней. Большую часть дня мы проводили во дворце у правителя, а ночевали на городской квартире. Я скоро так свыкся с обществом теней и духов, что уже на третий день они не вызывали во мне ни удивления, ни страха. Возможно, впрочем, что я немного побаивался их, но любопытство заглушало боязнь. Видя это, его высочество предложил мне сказать, кого бы я хотел видеть из числа умерших недавно или давно. Он обещал их вызвать и предоставить мне возможность поговорить с ними. Конечно, они могут говорить только о том, что случилось при их жизни. Во всяком случае, добавил правитель, я могу быть уверен, что услышу только правду, так как ложь есть искусство, совершенно бесполезное на том свете.
Я почтительно выразил его высочеству свою признательность за такую высокую милость. В это время мы находились в комнате, откуда открывался прекрасный вид на парк. Вполне понятно, что мне захотелось увидеть сначала торжественные и величественные сцены. Я попросил показать Александра Великого во главе его армии, тотчас после битвы под Арбелой. И вот, по мановению пальца правителя, Александр немедленно появился передо мной на широком поле под окном, у которого мы стояли. Правитель пригласил его в комнату. Я только с большим трудом понимал его древнегреческую речь, он тоже плохо понимал меня. Александр поклялся мне, что не был отравлен, а умер от лихорадки, вызванной пьянством.
Затем я увидел Ганнибала* во время его перехода через Альпы. Ганнибал объявил мне, что у него в лагере не было ни капли уксуса.
Я видел Цезаря и Помпея* во главе их войск, готовых вступить в сражение. Я видел также Цезаря во время его последнего триумфа. Затем я попросил, чтобы в одном из дворцовых залов собрался римский сенат, а в другом — современный парламент. Первый показался мне собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов.
По моей просьбе правитель сделал знак Цезарю и Бруту* приблизиться к нам. При виде Брута я проникся глубоким благоговением. В каждой черте его лица скользила глубокая добродетель, величайшее бесстрастие и твердость духа, пламенная любовь к родине и благожелательность к людям. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека прекрасно относятся друг к другу. Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, никак не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом.
Между прочим, он сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон Младший, сэр Томас Мор* и он сам никогда не расстаются друг с другом. Это такой секстумвират*, к которому вся история человечества не в состоянии прибавить седьмого члена.
Я утомил бы читателя перечислением всех знаменитых людей, вызванных правителем для удовлетворения моего ненасытного желания видеть мир во все эпохи его древней истории. Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и попранные права угнетенных народов. Но я не способен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы они заинтересовали читателя.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Продолжение описания Глаббдобдриба. Поправки к древней и новой истории.
Я посвятил целый день беседе с величайшими мудрецами древности — Гомером и Аристотелем*. Мне пришло в голову вызвать этих прославленных мужей вместе со всеми их толкователями. Этих толкователей набралось так много, что несколько сот их принуждены были подождать на дворе и в других комнатах дворца. Я с первого взгляда узнал в толпе двух великих гениев. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель горбился и опирался на палку; у него было худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа никогда не видели и ничего не слышали о своих толкователях. Один из призраков шепнул мне на ухо, что на том свете все эти толкователи держатся на весьма почтительном расстоянии от прославленных мудрецов. Они сознают, как чудовищно исказили они в своих толкованиях смысл глубокомысленных произведений этих авторов, и стыдятся подходить к ним. Я познакомил было Аристотеля со Скотом и Рамусом*. Но когда я стал излагать философу их взгляды, он вышел из себя и спросил: неужели и все остальное племя толкователей состоит из таких же олухов, как они?
Затем я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди*, которым предложил изложить Аристотелю их системы. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в учении о природе, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках. Он высказал также предположение, что Гассенди, подновивший по мере сил учение Эпикура*, и Декарт с его теорией вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения, которую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы философии природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением. Даже те философы, которые пытаются доказать и обосновать свои взгляды с помощью математики, недолго пользуются признанием и выходят из моды в назначенные судьбой сроки.
В продолжение пяти дней я вел беседы также и со многими другими учеными древнего мира. Я видел большинство римских императоров. Я упросил правителя вызвать поваров Гелиогабала*, чтобы они приготовили для нас обед, но из-за недостатка различных приправ они не могли показать как следует свое искусство. Илот[25] Агесилая* сварил нам спартанскую похлебку, но, отведав ее, я не мог проглотить второй ложки.
Двум джентльменам, сопровождавшим меня на остров, пришлось на три дня съездить по делам домой. Это время я употребил на свидания с великими людьми, прославившимися за последние два или три столетия в моем отечестве или в других европейских странах. Я всегда был большим поклонником древних знаменитых родов и попросил правителя вызвать дюжину или две королей с их предками за несколько поколений. Но меня постигло мучительное и неожиданное разочарование. Вместо величественного ряда венценосных особ я увидел в одной династии двух скрипачей, трех ловких царедворцев и одного итальянского прелата; в другой — цырюльника, аббата и двух кардиналов. Впрочем, я питаю слишком глубокое почтение к коронованным головам, чтобы останавливаться дольше на этом щекотливом предмете. Что же касается графов, маркизов, герцогов и тому подобных людей, то с ними я не был так щепетилен. Признаюсь, мне доставило большое удовольствие выяснить, откуда взялись многие характерные особенности в наружности и нравах наших знатных родов. Я без труда открыл, откуда в одном роду происходит длинный подбородок; почему другой род в двух поколениях изобилует мошенниками, а в двух следующих — дураками; почему третий состоит из помешанных, а четвертый — из плутов; таким образом, жестокость, лживость и трусость стали не менее характерными признаками представителей некоторых родов, чем те фамильные гербы, которыми они украшают ливреи своих слуг и дверцы своих карет.
Особенно сильное отвращение почувствовал я к новой истории. Я хорошо познакомился с людьми, которые в течение прошедшего столетия пользовались громкой славой при дворах королей. Меня глубоко удивило, в каком заблуждении держат мир продажные писаки, приписывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы — дуракам, искренность — льстецам, римскую доблесть — изменникам, набожность — безбожникам, правдивость — доносчикам. Я узнал, сколько невинных и превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию вследствие происков могущественных министров. Сколько негодяев возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами. Какое невысокое мнение о человеческой мудрости и честности составилось у меня, когда я получил правильные сведения о пружинах и мотивах великих событий и переворотов и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом. Один генерал сознался мне, что одержал победу единственно благодаря своей трусости и дурному командованию, а стоявший тут же адмирал заявил, что он победил неприятеля только благодаря плохой осведомленности противника. Сам же он уже собирался сдать свой флот. Три короля объявили мне, что за все время пребывания на троне они ни разу не назначили на государственную должность достойного человека. Если такие назначения и бывали, то это объясняется ошибкой или предательством какого-нибудь министра. Впрочем, они ручались, что подобная ошибка не повторилась бы, если бы им пришлось снова вступить на престол. Они с большой убедительностью доказали мне, что только глубоко развращенный человек способен удержаться на троне, ибо положительный, смелый, настойчивый характер является только помехой в делах правления.
Мне было очень интересно узнать, как приобретаются знатные титулы и огромные богатства. В своих исследованиях я не касался настоящего времени из страха нанести обиду хотя бы иноземцам. (Я надеюсь, нет надобности говорить читателю, что все сказанное мною по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине.) По моей просьбе было вызвано много интересовавших меня лиц. Но тут, после самых поверхностных вопросов, передо мной раскрылась картина такого бесчестья, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман и тому подобные слабости были еще самыми простительными средствами, которые здесь применялись. Но когда один из них признался, что своим величием и богатством он обязан измене отечеству, другой — отраве, а большинство — нарушению законов с целью погубить невинного, то эти открытия (надеюсь, читатель простит мне это) побудили меня несколько умерить то чувство величайшего почтения, которое я, как и подобает маленькому человеку, питаю к высокопоставленным особам.
Мне часто приходилось читать о людях, оказавших великие услуги монархам и отечеству, и я исполнился желанием повидать их. Однако мне ответили, что имена их невозможно найти в архивах загробного мира. Правда, в списках числится несколько человек, которые были истинными благодетелями своего отечества, но история изобразила их отъявленнейшими мошенниками и предателями. Я пожелал их видеть. Все они появились передо мной с удрученным видом и в очень худом платье. Большинство из них сообщило мне, что они кончили свою жизнь в нищете и немилости, иногда даже на эшафоте.
Все вызываемые с того света люди сохранили в мельчайших подробностях внешность, которую они имели при жизни. Сравнивая их внешний вид с наружностью моих современников, я пришел к ужасно мрачным выводам о вырождении человечества за последнее столетие.
В заключение я попросил вызвать английских поселян старого закала. Эти люди некогда славились простотой нравов, справедливостью, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к отечеству. Сравнив живых с покойниками, я не мог остаться равнодушным при виде того, как высокие добродетели предков опозорены их внуками. Продавая за ничтожные денежные подачки свои голоса на выборах в парламент, эти жалкие люди приобрели все пороки, каким только можно научиться при дворе*.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Автор возвращается в Мальдонаду и отплывает в королевство Лаггнегг. Автор арестован. Его требуют во дворец. Прием, оказанный ему во дворце. Милостивое отношение короля к своим подданным.
Наконец наступил день нашего отъезда. Я простился с его высочеством правителем Глаббдобдриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонаду. Там один корабль был уже готов к отплытию в Лаггнегг. Мои друзья были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц. Мы выдержали сильную бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области пассатных ветров, дующих здесь на пространстве около шестидесяти лиг. 21 апреля 1708 года мы вошли в реку Клюмегниг на юго-восточной оконечности Лаггнегга. В устье ее расположен большой морской порт. Мы бросили якорь на расстоянии одной лиги от города и потребовали лоцмана. Менее чем через полчаса к нам на борт взошли два лоцмана и провели нас между рифами и скалами по очень опасному проходу в большую закрытую бухту, где корабли могли вполне безопасно стоять на якоре на расстоянии одного кабельтова от городской стены.
Кто-то из наших матросов, быть может и со злым умыслом, сказал лоцманам, что у них на корабле есть знаменитый путешественник-иностранец. Лоцманы доложили об этом таможенному чиновнику, и он подверг меня тщательному досмотру, когда я вышел на берег. Досмотрщик говорил со мной на языке Бальнибарби. Благодаря оживленной торговле этот язык здесь хорошо известен, особенно между моряками и служащими в таможне. Я вкратце рассказал ему некоторые из моих приключений, стараясь придать рассказу возможно больше правдоподобия и связности. Но я счел необходимым скрыть мою национальность и назвался голландцем. У меня было намерение отправиться в Японию, а туда, как известно, из всех европейцев пускают только голландцев*. Поэтому я сказал таможенному чиновнику, что, потерпев кораблекрушение у берегов Бальнибарби, я был поднят на Лапуту, или Летучий остров (о нем таможеннику часто приходилось слышать), а теперь пытаюсь добраться до Японии, в надежде возвратиться оттуда на родину. Чиновник ответил мне, что он должен задержать меня впредь до получения распоряжений от двора. Он обещал написать туда и уверял, что ответ придет не позднее чем через две недели. Мне отвели удобное помещение, но у входа был поставлен часовой. Однако я мог свободно гулять по большому саду. Содержание мне отпускалось за счет короля, и обходились со мной довольно хорошо. Каждый день у меня бывало много посетителей, ибо слух о прибытии путешественника из весьма отдаленных стран быстро распространился по всему городу.
Чтобы объясняться с этими посетителями, я пригласил к себе на помощь в качестве переводчика одного молодого человека, прибывшего вместе со мной на корабле. Он был уроженец Лаггнегга, но несколько лет прожил в Мальдонаде и в совершенстве владел обоими языками. Однако мои беседы с посетителями не представляли интереса. Я только отвечал на их вопросы.
Ответ на донесение пришел к ожидаемому сроку. Он содержал приказ привезти меня со свитой, под конвоем из десяти человек, в Тральдрегдаб, или Трильдрогдриб (насколько я помню, это слово произносится двояко). Вся моя свита состояла из юноши-переводчика, которого я уговорил поступить ко мне на службу. По моей почтительной просьбе каждому из нас дали по мулу.
Вперед был послан гонец с донесением о моем скором прибытии и просьбой, чтобы король назначил день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести лизать пыль у подножия его трона. Таков стиль здешнего двора, и я убедился на опыте, что это не пустая фраза. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе к трону и лизать пол*. Впрочем, мне, как иностранцу, было оказано особое уважение: пол так чисто вымели, что пыли на нем осталось совсем немного. Это считалось особой милостью. Ее удостаиваются лишь самые высокие сановники. Но если лицо, получившее высочайшую аудиенцию, имеет много могущественных, врагов при дворе, пол иногда нарочно посыпают пылью. Я видел однажды важного сановника, у которого рот был так набит пылью, что когда он наконец дополз до подножия трона, то не способен был вымолвить ни слова. Пыль эту приходится проглатывать, так как плевать и вытирать рот в присутствии его величества считается тяжким преступлением.
Здесь существует еще один обычай, которого я никак не мог одобрить. Когда король решает подвергнуть кого-нибудь из сановников легкой и милостивой казни, он повелевает посыпать пол особым ядовитым порошком коричневого цвета. Полизав его, приговоренный умирает через двадцать четыре часа.
Но следует отдать должное великому милосердию этого монарха и его заботливости о своих подданных (в этом отношении европейским монархам не мешало бы подражать ему): после каждой такой казни отдается строгий приказ начисто вымыть пол в аудиенц-зале. В случае небрежного исполнения этого приказа слугам угрожает опасность навлечь на себя немилость монарха. Я сам слышал, как его величество приказал отстегать плетьми одного пажа, который во время своего дежурства умышленно не позаботился об очистке пола после казни. Вследствие этой небрежности отравился явившийся на аудиенцию молодой, подававший большие надежды вельможа. А между тем король в то время вовсе не имел намерения лишать его жизни. Однако добросердечный монарх был настолько милостив, что освободил пажа от порки, удовлетворившись простым обещанием этого юноши, что он больше не будет поступать так без особого распоряжения короля.
Возвратимся, однако, к нашему повествованию. Когда я дополз ярда на четыре до трона, я осторожно стал на колени и, стукнув семь раз лбом об пол, произнес следующие слова, заученные мною накануне: «Икплинг глоффзсроб сквутсеромм блиоп мляшнальт звин тнодбокеф слиофед гердлеб ашт!» Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных перед лицо короля. Перевести его можно так: «Да переживет ваше небесное величество солнце на одиннадцать с половиной лун!» Выслушав приветствие, король задал мне вопрос, которого я не понял. Однако я ответил ему, как меня научили: «Флюфт дринялерик дуольдам прастредмирпуш», что означает: «Язык мой во рту моего друга». Этими словами я давал понять, что прошу обратиться к услугам моего переводчика. Тогда был введен уже упомянутый мной молодой человек. С его помощью я отвечал на все вопросы, которые его величеству было угодно задавать мне. Я говорил на бальнибарбийском языке, а переводчик передавал все сказанное мной по-лаггнеггски.
Я очень понравился королю, и он приказал своему блиффмарклубу, то-есть обер-гофмейстеру, отвести во дворце помещение для меня и моего переводчика и позаботиться о моем продовольствии. Сверх того, его величество лично предоставил мне кошелек с золотом на мелкие расходы.
Я прожил в этой стране три месяца. Король изволил осыпать меня высокими милостями. Он уговаривал меня остаться здесь навсегда и делал мне очень лестные предложения. Но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток дней с женой и детьми.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Похвальное слово лаггнежцам. Подробное описание струльдбругов. Беседа автора о струльдбругах с некоторыми выдающимися людьми.
Лаггнежцы — обходительный и великодушный народ. Хотя они немного горды, как это вообще свойственно всем восточным народам, но все же они очень любезны с иностранцами, особенно если те пользуются расположением двора. Я приобрел много знакомых среди людей самого высшего общества и при посредстве переводчика вел с ними не лишенные приятности беседы.
Как-то раз я находился в избранном обществе. В разговоре кто-то случайно спросил меня, видал ли я струльдбругов, или бессмертных? Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что означает это странное слово.
Мой собеседник очень удивился, узнав, что я до сих пор ничего не слышал об этих диковинных существах, и поспешил рассказать мне о них. Вот главная суть этого изумительного рассказа. Время от времени, правда очень редко, у кого-нибудь из лаггнежцев рождается ребенок с круглым красным пятнышком на лбу, как раз над левой бровью. Это пятнышко — верный признак того, что ребенок никогда не умрет. Пятнышко имеет сначала величину серебряной монеты в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет. Когда ребенку минет двенадцать лет, оно делается зеленым и остается таким до двадцати пяти; затем цвет его переходит в темносиний; на сорок пятом году жизни струльдбругов пятно становится черным, как уголь, и увеличивается до размеров английского шиллинга, — таким оно остается уже навсегда. Дети с пятнышком рождаются так редко, что во всем королевстве не наберется больше тысячи ста струльдбругов обоего пола. До пятидесяти человек живет в столице, и среди них есть девочка, родившаяся около трех лет тому назад. Струльдбруг может родиться в любой семье. Его рождение — это дело случая. Дети струльдбругов так же смертны, как и все люди.
Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг. Какая счастливая нация! Здесь каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! Какое счастье для народа всегда иметь перед глазами живые примеры добродетелей предков! Какое благодеяние для него — наставники, способные научить мудрости, добытой опытом бесконечного ряда поколений! Но во сто раз счастливее сами благородные струльдбруги. Природа избавила их от страшной участи, ожидающей каждого человека. Они не знают мучительного страха смерти; вечная мысль о ней не угнетает их ум, и он развивается свободно и без всяких помех.
Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных. Черное пятно на лбу — настолько бросающаяся в глаза примета, что я непременно обратил бы на нее внимание. А в то же время невозможно допустить, чтобы его величество, рассудительнейший из монархов, не окружил себя такими мудрыми и опытными советниками. Возможно, впрочем, что добродетель этих мудрецов слишком сурова и не вполне подходит к распущенным нравам, царящим при дворе. Ведь мы знаем по опыту, с каким упрямством и легкомыслием молодежь не хочет слушаться трезвых советов старших. Но его величество соизволил предоставить мне свободный доступ к его особе, и я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы подробно изложить ему мое мнение об этом.
Во всяком случае, теперь я с глубочайшей благодарностью приму милостивое предложение его величества навсегда поселиться в его государстве и проведу всю жизнь в беседах со струльдбругами, если только этим высшим существам угодно будет допустить меня в свое общество.
Пока я с жаром произносил эту речь (разговор происходил на хорошо знакомом мне бальнибарбийском языке), мой собеседник поглядывал на меня с улыбкой, в которой сквозила жалость к простаку. Когда я кончил, он любезно заметил, что рад всякому предлогу удержать меня в стране, и попросил позволения перевести присутствующим мои слова. Я ответил, что буду признателен ему за это. Его рассказ привлек всеобщее внимание; затем начался оживленный разговор. К сожалению, я не понимал местного языка и не мог по выражению лиц догадаться, какое впечатление произвели мои рассуждения. Наконец мой собеседник вновь обратился ко мне. Он сказал, что мои и его друзья восхищены моими тонкими замечаниями по поводу великого счастья и преимуществ бессмертия. Однако им очень хочется знать, как бы поступил я сам, если бы волей судьбы я родился струльдбругом.
Я отвечал, что мне очень легко удовлетворить их любопытство. Я нередко мечтал о бессмертии и подолгу раздумывал, как бы я распорядился собой, если бы знал наверное, что буду жить вечно.
Итак, убедившись, что мне суждено бессмертие, я первым делом постарался бы разбогатеть. При некоторой бережливости и умеренности я с полным основанием мог бы рассчитывать лет через двести стать первым богачом в королевстве. Одновременно с ранней юности я принялся бы за изучение наук и искусств и в конце концов затмил бы всех своей ученостью. Наконец, я вел бы тщательную летопись всех выдающихся общественных событий. Я бы аккуратно заносил в свои записки все изменения в обычаях, в языке, в покрое одежды, в пище и в развлечениях. Благодаря своим знаниям и наблюдениям я стал бы постепенно истинным мудрецом, источником всяких знаний для своего народа.
После шестидесяти лет я перестал бы мечтать о женитьбе. Оставаясь бережливым, я бы жил открыто и был гостеприимен. Я собирал бы вокруг себя подающих надежды юношей и убеждал их, ссылаясь на собственный опыт, наблюдения и воспоминания, как полезна добродетель в общественной и личной жизни.
Но самыми лучшими и постоянными моими друзьями и собеседниками были бы мои собратья по бессмертию. Среди них я избрал бы себе двенадцать друзей, начиная с самых глубоких стариков и кончая моими сверстниками. Если бы между ними оказались нуждающиеся, я отвел бы им удобные жилища вокруг моего поместья. За моим столом постоянно собирались бы мои друзья струльдбруги и избранные смертные. С течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти друзей и не без удовольствия смотрел бы на их потомков. Так мы любуемся расцветающими в нашем саду гвоздиками и тюльпанами, нисколько не сокрушаясь о тех, что увяли прошлой осенью.
Как содержательны и интересны были бы наши беседы! Мы, струльдбруги, обменивались бы воспоминаниями и наблюдениями, собранными за много веков. Мы придумывали бы меры борьбы с растущими среди людей пороками. Своим личным примером мы старались бы предотвратить непрестанное вырождение человечества.
Прибавьте сюда удовольствие быть свидетелем великих переворотов в державах и империях, глубоких перемен во всех слоях общества — от высших до низших. На ваших глазах древние города обращаются в развалины, а безвестные деревушки становятся многолюдными столицами. Вы следите за тем, как многоводные реки превращаются в ручейки, как океан отходит от одного берега и затопляет другой. Вы видите, как наносятся на карту различные страны, вчера еще неведомые. Вы наблюдаете, как культурнейшие народы погружаются в варварство, а варварские постепенно поднимаются на вершину цивилизации. А каких великих открытий вы бы непременно дождались: изобретения perpetuum mobile*, открытия универсального лекарства от всех болезней или способов определения долготы!
Я был красноречив в изображении всех радостей и наслаждений, какие способно даровать человеку бессмертие. Когда я кончил и содержание моей речи было переведено присутствующим, лаггнежцы начали оживленно разговаривать между собой, по временам с насмешкой поглядывая на меня.
Наконец джентльмен, игравший роль переводчика, сказал, что все просят его разъяснить мне полную ошибочность моих взглядов.
Ошибка, в которую я впал, объясняется отчасти глупостью, свойственной человеческому роду вообще, а отчасти тем, что порода струльдбругов составляет исключительную особенность их страны. Подобных диковинных существ нельзя встретить ни в Бальнибарби, ни в Японии. Переводчику это хорошо известно, так как он имел честь быть посланником его величества при японском императоре, и к его рассказу о струльдбругах там отнеслись с большим недоверием. Да и то изумление, которое я обнаружил при первом упоминании о бессмертных, показывает, насколько невероятным казалось мне существование подобных людей.
Во время своего пребывания в названных королевствах он вел долгие беседы с местными жителями и заметил, что долголетие является общим желанием, заветнейшей мечтой всех людей. Каждый стоящий одной ногой в могиле старается как можно прочнее утвердить свою другую ногу на земле. Самые дряхлые старики дорожат каждым днем жизни и смотрят на смерть, как на величайшее зло. Только здесь, на острове Лаггнегге, нет такой жажды жизни, ибо у всех перед глазами пример долголетия — струльдбруги.
Образ жизни бессмертного, какой рисуется моему воображению, совершенно невозможен. Он требует вечной молодости, здоровья и силы. А надеяться на это не вправе ни один человек, как бы далеко ни шли его желания. Следовательно, речь идет здесь вовсе не о том, чтобы вечно наслаждаться молодостью и ее благами, а о том, как провести бесконечную жизнь, подверженную страданиям, какие приносит старость. Конечно, не много людей пожелает стать бессмертными на таких тяжких условиях. Однако мой собеседник заметил, что в Бальнибарби и в Японии даже старики, обремененные всеми недугами старости, стремятся отдалить от себя смерть. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве, а также в тех странах, которые мне удалось посетить во время моих путешествий.
После этого предисловия он подробно описал мне живущих среди них струльдбругов. Он сказал, что до тридцатилетнего возраста они ничем не отличаются от остальных людей. Затем они мало-помалу становятся мрачными и угрюмыми.
Достигнув восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они, подобно смертным, превращаются в дряхлых стариков. Но, кроме всех недугов и слабостей, присущих вообще старости, над ними тяготеет мучительное сознание, что им суждено вечно влачить такое жалкое существование.
Струльдбруги не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, — они не способны также к дружбе и любви. Естественное чувство привязанности к своим ближним не простирается у них дальше чем на внуков. Зависть и неудовлетворенные желания непрестанно терзают их. Завидуют они прежде всего порокам юношей и смерти стариков. Глядя на веселье молодости, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения. При виде похорон ропщут и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие. Счастливчиками среди этих несчастных являются те, кто потерял память и впал в детство. Они внушают к себе больше жалости и участия, потому что лишены многих пороков и недостатков, которые свойственны остальным бессмертным.
Если случится, что струльдбруг женится на женщине, подобно ему обреченной на бессмертие, то этот брак расторгается по достижении младшим из супругов восьмидесятилетнего возраста.
Как только струльдбругам исполняется восемьдесят лет, для них наступает гражданская смерть. Наследники немедленно получают их имущество. Из наследства удерживается небольшая сумма на их содержание; бедные содержатся на общественный счет. По достижении этого возраста струльдбруги считаются неспособными к занятию должностей. Они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю, им не разрешается выступать свидетелями в суде.
В девяносто лет у струльдбругов выпадают зубы и волосы. В этом возрасте они перестают различать вкус пищи и едят и пьют все, что попадется под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Старческие недуги продолжают мучить их, не обостряясь и не утихая. Постепенно они теряют память. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена ближайших друзей и родственников. Они не способны развлекаться чтением: они забывают начало фразы, прежде чем дочитают ее до конца. Таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения.
Язык этой страны постепенно изменяется. Струльдбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом. Прожив лет двести, они с большим трудом могут произнести несколько самых простых фраз. С этого времени им суждено чувствовать себя иностранцами в своем отечестве.
Таково описание струльдбругов, которое я услышал от моего собеседника. Позднее я собственными глазами увидел пять или шесть струльдбругов различного возраста. Самым молодым из них было около двухсот лет. Друзья, приводившие их ко мне, пытались растолковать им, что я великий путешественник и видел весь свет. Однако на струльдбругов это не произвело ни малейшего впечатления. Они не задали мне ни одного вопроса о том, что я видел или испытал. Их интересовало только одно: не дам ли я им сломекудаск, то-есть подарок на память. Это благовидный способ выпрашивания милостыни. Так как струльдбруги содержатся на общественный счет, им строго воспрещается нищенство. Но паек их, надо сознаться, довольно скуден, и они всячески стараются обойти закон.
Струльдбругов все ненавидят и презирают. Рождение каждого из них служит дурным предзнаменованием и аккуратно записывается в особые книги, так что возраст каждого струльдбруга можно узнать, справившись в государственных архивах. Впрочем, архивные записи не идут в прошлое дальше тысячи лет. К тому же много книг истлело от времени или погибло в эпохи народных волнений.
Лучший способ узнать возраст струльдбруга — это спросить его, каких королей и знаменитостей он может припомнить.
Память струльдбруга сохраняет имена лишь тех королей, которые вступили на престол тогда, когда этому струльдбругу еще не исполнилось восьмидесяти лет. Справившись затем с летописями, нетрудно установить приблизительно возраст струльдбруга.
Мне никогда не приходилось видеть ничего омерзительнее этих людей. Женщины были еще противнее мужчин. Помимо обыкновенной уродливости, свойственной глубокой дряхлости, они с годами все больше и больше приобретают облик каких-то призраков. Ужас, какой они внушают, не поддается никакому описанию.
Читатель легко поверит, что после того как я познакомился поближе с струльдбругами, моя жажда бессмертия значительно ослабела.
Теперь я стыдился тех заманчивых картин, которые еще недавно рисовало мое воображение. Я думал о том, что предпочел бы самую страшную казнь судьбе струльдбруга.
Король весело посмеялся, узнав о разговоре, который я вел с друзьями. Он предложил мне взять с собой на родину парочку струльдбругов, чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти. Я бы охотно принял на себя заботу и расходы по их перевозке, если бы основные законы королевства не запрещали струльдбругам покидать отечество.
Должно признать, что здешние законы о струльдбругах отличаются большой разумностью. Не будь этих законов, струльдбруги, побуждаемые старческой алчностью, постепенно захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть. А это, вследствие их полной неспособности к управлению, неизбежно привело бы государство к гибели.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Автор оставляет Лаггнегг и отплывает в Японию. Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию.
Я надеюсь, что рассказ о струльдбругах своей новизной доставил некоторое развлечение читателю. Я, по крайней мере, не помню, чтобы встречал что-нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавших мне в руки.
Между королевством Лаггнегг и великой Японской империей существуют постоянные торговые сношения. Японские писатели, вероятно, упоминают о струльдбругах. Но мое пребывание в Японии было очень кратковременно. Я совсем не знаю японского языка и не имел возможности узнать что-нибудь по этому вопросу. Но я надеюсь, что голландцы, прочтя мой рассказ, заинтересуются бессмертными и дополнят мое сообщение.
Его величество настойчиво уговаривал меня занять при дворе какую-нибудь должность. Но, видя мое непреклонное решение возвратиться на родину, согласился отпустить меня и соизволил даже написать рекомендательное письмо к японскому императору. Он подарил мне четыреста сорок четыре крупных золотых монеты и красный алмаз, который я продал в Англии за тысячу сто фунтов.
6 мая 1709 года я торжественно расстался с его величеством и со всеми моими друзьями. Король был настолько любезен, что повелел отряду своей гвардии сопровождать меня до Глангвенстальда, королевского порта, расположенного на юго-западной стороне острова.
Через шесть дней я сел на корабль, отходивший в Японию, и провел в пути пятнадцать дней.
Мы бросили якорь в небольшом порту Ксамоши, в юго-восточной части Японии. Город построен на длинной косе, от которой узкий пролив ведет к северу в длинный морской рукав; на северо-западной стороне его находится столица империи Иеддо. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Лаггнегга. В таможне прекрасно знали королевскую печать величиной с мою ладонь. На ней изображен король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав об этом письме, принял меня как посла дружественной державы. Он снабдил меня экипажами и слугами и взял на себя расходы по моей поездке в Иеддо.
По прибытии туда я получил аудиенцию и вручил письмо. Оно было вскрыто с большими церемониями и прочитано императору переводчиком. По приказанию его величества мне было предложено высказать какую-нибудь просьбу. Она немедленно будет исполнена императором в уважение к его царственному брату, королю Лаггнегга. На обязанности переводчика лежало ведение дел с голландцами. Поэтому он скоро догадался по моей внешности, что я европеец, и повторил слова его величества на голландском языке, которым он владел в совершенстве. Согласно ранее принятому решению, я отвечал, что я голландский купец, потерпевший кораблекрушение у берегов далекой страны. Оттуда я пробрался в Лаггнегг, а из Лаггнегга прибыл на корабле в Японию, с которой, как мне известно, мои соотечественники ведут торговлю. Я надеюсь, что мне представится случай вернуться с кем-нибудь из них на родину. Я почтительно прошу его величество разрешить мне под охраной отправиться в Нагасаки, единственный порт, куда разрешено заходить европейским судам. Там я буду ожидать удобного случая отправиться в Европу. В заключение я просил его величество, из уважения к моему покровителю, королю Лаггнегга, милостиво освободить меня от обязательной для моих соотечественников церемонии попрания ногами креста*. Тем более, что я заброшен в страну несчастиями и не имею намерения вести торговлю.
Когда переводчик передал императору эту просьбу, его величество был несколько удивлен. Он сказал, что я первый из моих соотечественников обнаруживаю такую щепетильность. У него невольно возникает сомнение, правда ли, что я голландец; из моих слов видно только, что я настоящий христианин. Тем не менее, желая оказать особую любезность королю Лаггнегга, он соглашается на мою странную прихоть. Однако он должен предупредить меня, что здесь придется действовать крайне осторожно. Он отдаст своим чиновникам приказ сделать вид, словно они только случайно, по забывчивости, отпустили меня без исполнения этого обряда. Ибо если мои соотечественники-голландцы узнают, что мне удалось освободиться от выполнения этой церемонии, они, по уверению императора, перережут мне по дороге горло. Я выразил при помощи переводчика мою глубокую благодарность за столь исключительную милость. Как раз в это время в Нагасаки должен был направиться отряд солдат. Мне предложили присоединиться к этому отряду, и его начальник получил приказ охранять меня по пути и особые наставления насчет распятия.
После весьма долгого и утомительного путешествия я прибыл в Нагасаки 9 июня 1709 года. Здесь я познакомился с компанией голландских моряков, служивших на амстердамском корабле «Амбоина» вместимостью в четыреста пятьдесят тонн. Я долго жил в Голландии, учился в Лейдене и хорошо говорил по-голландски. Матросы скоро узнали, откуда я прибыл, и стали с любопытством расспрашивать о моих путешествиях и моей жизни. Я сочинил коротенькую, но правдоподобную историю, утаив большую часть событий. У меня было много знакомых в Голландии, и потому я без труда придумал фамилию моих родителей, которые, по моим словам, были скромные поселяне из провинции Гельдерланд. Я предложил капитану корабля (некоему Теодору Вангрульту) взять с меня любую сумму за доставку в Голландию. Но, узнав, что я хирург, он удовольствовался половиной обычной платы с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем как отправиться в путь, матросы не раз спрашивали меня, исполнил ли я упомянутую выше церемонию с крестом, но я отвечал им очень неопределенно. Однако шкипер, злобный парень, указал на меня японскому офицеру, говоря, что я еще не топтал распятие. Но офицер, получивший насчет меня особое указание, дал негодяю двадцать ударов бамбуковой палкой по плечам. После этого ко мне никто больше не приставал с подобными вопросами.
Во время путешествия не произошло ничего заслуживающего упоминания. До мыса Доброй Надежды у нас был попутный ветер. Мы остановились там на несколько дней, чтобы запастись пресной водой. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв в дороге четырех человек: трое умерли от болезней, а четвертый упал с бизань-мачты в море у берегов Гвинеи. Из Амстердама я отправился в Англию на небольшом судне, принадлежавшем этому городу.
16 апреля мы бросили якорь в Даунсе. Я высадился на другой день утром и снова увидел свою родину после пяти с половиной лет отсутствия. Я отправился прямо в Редриф, куда прибыл в два часа пополудни того же дня и застал жену и детей в добром здоровье.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГУИГНГМОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Автор отправляется в путешествие в должности капитана корабля. Команда корабля составляет против автора заговор. Долгое время его содержат под стражей в каюте, а затем высаживают на берег в неизвестной стране. Автор направляется внутрь страны. Описание особенной породы животных еху. Автор встречает двух гуигнгнмов.
Я провел дома с женой и детьми около пяти месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился наконец ценить спокойную и тихую жизнь. Но страсть к путешествиям не оставляла меня. Мне предложили на очень выгодных условиях занять должность капитана на корабле «Адвенчюрер», хорошем купеческом судне вместимостью в триста пятьдесят тонн, и я после недолгих колебаний принял это предложение. Мореходное дело было мне очень хорошо знакомо, а хирургия порядочно надоела. Вот почему, не отказываясь при случае заняться и этим делом, я пригласил в качестве корабельного врача Роберта Пьюрефой, сведущего молодого человека. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года. 14-го мы встретили у Тенерифа капитана Пококка из Бристоля, который направлялся в Кампеши за сандаловым деревом. Но поднявшаяся 16-го числа буря разъединила нас. По возвращении в Англию я узнал, что корабль его потонул; из всего экипажа спасся один только юнга. Этот капитан был славный парень и хороший моряк, но отличался большим упрямством. Я нисколько не сомневаюсь, что этот недостаток и погубил его.
Во время плавания у меня на судне от тропической лихорадки умерло несколько матросов. Чтобы пополнить экипаж, я навербовал людей на Барбадосе и других Антильских островах, куда я заходил согласно распоряжению хозяев корабля. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом. Большая часть набранных мной матросов были люди весьма подозрительные и, как выяснилось впоследствии, морские разбойники. У меня на борту было пятьдесят человек. Я имел поручение вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и произвести исследование малоизвестных областей в этих широтах.
Негодяи, которых я взял на корабль, сумели быстро привлечь на свою сторону остальных матросов. Было решено арестовать меня и завладеть кораблем. Заговор должен был быть приведен в исполнение немедленно. Однажды утром заговорщики ворвались ко мне в каюту, связали меня по рукам и ногам и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только покориться своей участи и признать себя их пленником. Разбойники заставили меня поклясться, что я не буду больше оказывать сопротивления. Когда я исполнил их требование, они развязали меня, но приковали цепью к кровати и поставили возле двери моей каюты часового с ружьем, которому было приказано стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали ко мне в каюту пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки.
Пираты решили заняться выслеживанием и грабежом испанских судов. Но для такого предприятия их было слишком мало. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскару для пополнения экипажа. В течение нескольких недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне.
9 мая 1711 года ко мне в каюту спустился некто Джемс Уэлч и объявил, что капитан приказал ему высадить меня на берег. Я попробовал усовестить его, но все было напрасно. Он отказался даже сказать мне, кто был их новый капитан. Разбойники разрешили мне надеть мое лучшее почти новое платье и взять небольшой узел белья; из оружия мне оставили только кортик. Их любезность зашла так далеко, что они не обыскали у меня карманов, где находились деньги и кое-какие мелочи. Затем они посадили меня в баркас и направились к берегу, видневшемуся на расстоянии примерно одной лиги от корабля. Тут разбойники высадили меня на отмель и повернули обратно к судну. Я просил сказать, по крайней мере, что это за страна. Но мои люди поклялись, что знают об этом не больше меня. Они сказали, что капитан, как они его называли, уже давно решил отделаться от меня, как только корабельный груз будет продан и настанет время идти к Мадагаскару. Затем баркас отчалил. На прощанье они пожелали мне всякой удачи и посоветовали поспешить добраться до берега, пока не начался прилив.
Совет был благоразумен, и я направился по отмели к берегу. Добравшись до берега, я присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. У меня не было никаких запасов пищи, ни средств раздобыть ее. Я был один и безоружен. Все, что мне оставалось, это отдаться в руки первым дикарям, каких я встречу, и приобрести их расположение несколькими браслетами, стекляшками и другими безделушками. Моряки всегда запасаются ими, отправляясь в дикие страны. Несколько таких вещиц я рассовал по карманам, покидая свою каюту. Приняв это решение, я встал и направился вглубь страны.
Передо мной расстилалась широкая равнина. Длинные ряды деревьев пересекали ее. Но эти деревья не были посажены рукой человека. Между деревьями виднелись зеленые луга и нивы, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам. Я все время боялся, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука.
Через некоторое время я вышел на проезжую дорогу. На дороге было видно много человеческих следов, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я заметил в поле каких-то животных. Несколько таких же животных сидело на деревьях. Их странный и причудливый вид смутил меня. Я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые из них приблизились к тому месту, где я спрятался, так что я мог отлично разглядеть их. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами — у одних вьющимися, у других — гладкими. У многих из них были и бороды, похожие на козлиные. Вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полосы шерсти. Но тело было голое, так что я мог видеть кожу темнокоричневого цвета. Хвостов у них не было. Самки были поменьше самцов; на головах у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а все тело было покрыто только легким пушком. Волосы и у самцов и у самок были разного цвета: коричневые, черные, рыжие. Они редко оставались в покое, все время бегали, прыгали и скакали с изумительным проворством. Крепкие и острые когти на передних и задних лапах позволяли им с ловкостью белки карабкаться на самые высокие деревья. В общем, во время моих путешествий я никогда еще не встречал более безобразных, более гнусных животных. Поэтому я не долго глядел на них. Испытывая глубокое отвращение и гадливость, я поскорее выбрался из засады и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца.
Но не успел я сделать и нескольких шагов, как встретил одно из этих омерзительных животных. Оно бежало по направлению ко мне. Заметив меня, животное остановилось и с ужасными гримасами вытаращило на меня глаза. Затем, подойдя поближе, оно подняло переднюю лапу — то ли из любопытства, то ли с злым умыслом, я не мог определить. Я выхватил кортик и плашмя нанес сильный удар по лапе животного. Я не хотел пускать в ход острие, опасаясь, что обитатели этой страны рассердятся на меня, если я убью или изувечу принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось наутек и завизжало так громко, что целое стадо, штук около сорока, таких же тварей примчалось с соседнего поля и с воем и ужасными гримасами окружило меня. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к стволу, принялся размахивать кортиком, не подпуская их к себе. Однако положение мое было весьма незавидным. Несколько животных взобралось на дерево и готовилось напасть на меня сверху. Остальные все теснее и теснее смыкались вокруг меня.
Я уже отчаивался в спасении и готовился дорого продать свою жизнь, как вдруг заметил, что среди моих врагов возникла какая-то паника. Еще минута — и они обратились в поспешное бегство. Выждав немного, я рискнул оставить дерево и продолжать путь. Я решительно недоумевал, что могло вызвать среди них такой испуг. Взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня. Очевидно, этот конь и был причиной бегства моих преследователей, заметивших его раньше, чем я. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он смотрел на мои руки и ноги и несколько раз обошел вокруг меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил мне дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения как-нибудь обидеть меня. Так мы стояли некоторое время, глядя друг на друга.
Наконец я набрался смелости и протянул руку к шее коня, желая его погладить. Но животное отнеслось к моей ласке с презрением, замотало головой, нахмурило брови и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал так выразительно, что я готов был подумать: уж не разговаривает ли он на своем языке.
Вскоре к нам подошел еще один конь. Оба коня обменялись самыми церемонными приветствиями. Они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, изменяя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов и принялись прогуливаться рядышком подобно людям, решающим важный вопрос. При этом они посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не убежал. Глядя на поведение этих неразумных животных, я невольно подумал, что если простые четвероногие таковы в этой стране, то каковы же двуногие ее обитатели. Они, наверно, самый мудрейший народ на земле. Эта мысль чрезвычайно подбодрила меня, и я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья или не встречу кого-нибудь из туземцев. Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, так выразительно заржал мне вслед, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет. Я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. Должен признаться, что я начал уже немного побаиваться за исход этого приключения, хотя всячески старался скрыть свой страх. Читатель легко может себе представить, что положение мое было не из приятных.
Обе лошади подошли ко мне и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее. Расправив шляпу, я снова надел ее. Мои движения, повидимому, сильно поразили серого коня и его товарища (караковой масти). Последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, повидимому удивляясь ее мягкости и цвету. Он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я закричал от боли. Конь тотчас выпустил мою руку, и после этого оба стали прикасаться ко мне с большой осторожностью. Мои башмаки и чулки повергли их в полное недоумение. Они долго осматривали и ощупывали их, выражая ржаньем и жестами свое крайнее изумление. Вообще все поведение этих животных отличалось такой последовательностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль: уж не волшебники ли это, которым по каким-то причинам понадобилось превратиться на время в лошадей. Встретив по дороге чужестранца, они решили позабавиться над ним и напугать его. Впрочем, они, быть может, были действительно поражены видом человека, по своей одежде, чертам лица и телосложению очень не похожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью: «Джентльмены, если вы действительно колдуны, как я имею основания полагать, то вы понимаете все языки. Поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я — бедный англичанин. Злая судьба забросила меня на берег вашей страны. Я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где бы я мог отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет». Тут я вынул обе вещицы из кармана.
Пока я говорил, оба коня стояли молча, с таким видом, словно они с большим вниманием слушали мою речь. Когда я кончил, они несколько раз заржали, обращаясь друг к другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Тут для меня стало ясно, что их язык отлично выражает чувства и что он, пожалуй, даже легче китайского поддается разложению на слова и отдельные звуки.
Я отчетливо расслышал слово еху, которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, но все же, пока они были заняты разговором, я постарался усвоить это слово. Как только лошади замолчали, я громко прокричал «еху», «еху», всячески подражая ржанью лошади. Это, повидимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним возможно точнее и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого караковый конь попробовал научить меня еще одному, гораздо более трудному, слову: гуигнгнм. Произнести это слово оказалось несравненно труднее, чем первое, но после двух или трех попыток мне удалось наконец выговорить его довольно отчетливо. Оба коня были, повидимому, поражены моей смышленостью.
Поговорив еще немного, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече. Затем серый конь сделал мне знак идти впереди. Я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать: «ггуун, ггуун». Догадавшись, что означает это ржанье, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее. Тогда конь остановился, чтобы дать мне возможность отдохнуть.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Гуигнгнм приводит автора к своему жилищу. Описание этою жилища. Прием, оказанный автору. Пища гуигнгнмов. Автор недоумевает, чем он будет питаться в этой стране. Выход из затруднительного положения. Чем питался автор в этой стране.
Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению. Стены его были сделаны из кольев, вбитых в землю и переплетенных прутьями, а крыша из соломы. При виде этого жилья я вздохнул свободнее и вынул из кармана несколько безделушек. Я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым, и я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом; по одной стене тянулись ясли с решетками для сена. Там были трое лошаков и две кобылицы; они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по-собачьи, что меня крайне удивило. Но еще более я удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами. Все это окончательно укрепило меня в предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно должен превосходить своей мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предотвратив этим возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, и другие тотчас покорно отозвались.
Кроме этой комнаты, там было еще три, расположенные одна за другой вдоль здания. Они соединялись между собой широкими дверями. Двери были пробиты в стенах одна против другой, так что образовался прямой проход из первой комнаты в последнюю. Мы прошли во вторую комнату. Тут серый конь сделал мне знак подождать, а сам направился в третью. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома: два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожился, надеясь услышать в ответ человеческий голос. Но я услышал такое же ржанье, только звук его был нежнее и тоньше. Я невольно подумал: «Наверно, этот дом принадлежал очень важной особе, если надо проделать столько церемоний, прежде чем допустить меня к хозяину». Но неужели у такой важной особы не было других слуг, кроме лошадей? Это было выше моего понимания. Я испугался: уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных лишений и страданий? Сделав над собой усилие, я внимательно осмотрелся кругом: комната, в которой я находился, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза — передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, ибо минутами мне казалось, что я вижу все это во сне. Но щипки мне не помогли: я видел все ту же комнату, тот же земляной пол, те же ясли. Тогда я окончательно остановился на мысли, что все это только волшебство и магия. В эту минуту в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил меня войти за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами. Они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных цыновках.
Когда я вошел, кобыла тотчас встала с цыновки и приблизилась ко мне. Она внимательно осмотрела мое лицо и руки и отвернулась с выражением величайшего презрения. Затем она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово «еху», значения которого я еще не понимал. Увы! К величайшему моему унижению, я скоро узнал, что оно значит.
Серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово «ггуун», «ггуун», которое я часто слышал от него в дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор. Здесь, в некотором отдалении от дома, стоял довольно вместительный сарай. Мы вошли туда, и я увидел трех таких же отвратительных животных, как те, от которых я оборонялся под деревом. Они с жадностью пожирали коренья и сырое мясо, очень неприглядное на вид. Впоследствии я узнал, что это были трупы подохших собак, ослов и коров. Все трое были привязаны за шею крепкими ивовыми прутьями к толстому бревну. Пищу они держали в когтях передних лап и разрывали ее зубами.
Хозяин-конь приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор. Поставив нас рядом, хозяин и слуга начали внимательно сравнивать нас, после чего несколько раз повторили слово «еху». Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своей внешности в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности очень часто встречаются у дикарей, так как матери-дикарки кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего младенец постоянно трется носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, грубой кожей, коричневым цветом ладоней и еще тем, что у них тыльная сторона кисти покрыта волосами. Точно так же и задние лапы еху не слишком отличались от моих ног. Я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки.
Больше всего, повидимому, обеих лошадей приводило в недоумение мое платье. О том, что это такое, они не имели никакого понятия, а между тем благодаря платью мое тело резко отличалось от тела еху.
Гнедой лошак подал мне какой-то корень, зажав его между копытом и бабкой. Я взял корень, понюхал его и самым вежливым образом возвратил ему. Тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от мяса шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся. Лошак бросил мясо еху, и животное сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарнец овса; но я покачал головой, давая понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался не на шутку: мне впервые пришла в голову мысль, что я могу умереть с голоду, если не встречу здесь кого-нибудь из себе подобных. Само собой разумеется, что еху не могли при этом идти в счет. Одна мысль о сопоставлении этих гнусных животных с человеком приводила меня тогда в ярость и глубочайшее возмущение. Никогда я не видывал живых созданий, более презренных и отвратительных; и чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем сильнее становилась моя ненависть к ним. Затем еху обернулся ко мне и, поднеся ко рту переднее копыто, сделал ряд других знаков, желая узнать, что же я буду есть. Но я не мог дать ответа, который был бы для него понятен. Впрочем, если бы он и понял меня, едва ли бы это помогло делу. В самом деле, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу?
В это время мимо нас прошла корова. Я показал на нее пальнем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где в большом порядке стояло много глиняных и деревянных посудин с молоком. Кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее.
Около полудня к дому подъехала повозка вроде саней, которую тащили четыре еху. В повозке сидел старый конь — повидимому, знатная особа. Он вышел оттуда, опираясь на задние ноги, потому что у него была повреждена передняя левая нога. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его чрезвычайно любезно. Они обедали в лучшей комнате; на второе блюдо подали овес, варенный в молоке; гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади — в холодном. Ясли были поставлены в кружок посреди комнаты, в них были устроены отделения по числу присутствующих, которые чинно расселись по своим местам на соломе. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, также разгороженная на отделения. Каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена в овсяной каши с молоком. Все происходило очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне. Об этом я догадался потому, что гость часто поглядывал на меня и в разговоре то и дело слышалось слово «еху». Опустив руку в карман, я нащупал там перчатки. Мне вздумалось надеть их. Серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что случилось с моими передними ногами. Он несколько раз прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что их следует привести в прежний вид. Я повиновался и, сняв перчатки, положил их в карман.
Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова. Во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы. Заучить эти слова мне было очень нетрудно, так как еще смолоду я отличался большими способностями к языкам.
После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и выразил знаками и словами свое беспокойство по поводу того, что мне нечего есть. До сих пор я отказывался от овса. Но тут мне пришло в голову, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба. А хлеб с молоком дали бы мне возможность сносно прожить до тех пор, пока не представится случай пробраться в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. На языке гуигнгнмов овес называется: глунг. Я несколько раз повторил это слово. Хозяин тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и принялся растирать, пока с него не слезла шелуха. Затем я провеял зерно и истолок его между двумя камнями; взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком.
Сначала это кушанье, очень распространенное во многих европейских странах, показалось мне крайне безвкусным. Но с течением времени я привык к нему. К тому же во время моих путешествий мне не раз приходилось довольствоваться самой грубой пищей, и я еще раз убедился, как мало в конце концов нужно человеку, чтобы жить.
Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу; иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам; изредка я сбивал себе масло и пил сыворотку.
Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро научился обходиться без нее.
Первоначально соль употребляли только на пирах для возбуждения жажды; впоследствии привычка к ней стала повсеместной. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Во всяком случае, я должен сказать, что, несмотря на полное отсутствие соли, несмотря на грубую и скудную пищу, я за все время моего пребывания на этом острове ни разу не был болен.
С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в шести ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, о чем читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного подробному описанию моей жизни в этой стране.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Автор прилежно изучает туземный язык. Гуигнгнм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык гуигнгнмов. Много знатных гуигнгнмов приходят взглянуть на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии.
Моим главным занятием было изучение языка; и все в доме, начиная с хозяина (так я буду с этих пор называть серого коня) и его детей и кончая последним слугой, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал пальцем на тот или другой предмет и спрашивал, как он называется. Это название я старался заучить наизусть, а затем при первом удобном случае записывал в свой дневник. Заботясь об улучшении выговора, я просил членов семьи почаще повторять эти слова. Особенно охотно помогал мне в моих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина.
Произношение у гуигнгнмов — носовое и гортанное; из всех известных мне европейских языков язык гуигнгнмов больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее.
Мой хозяин горел желанием, чтобы я поскорее научился говорить по-здешнему и мог рассказать ему свою историю. Он ежедневно посвящал несколько часов на обучение меня языку. Он был убежден (как сказал мне позднее), что я еху. Но его поражали моя понятливость, вежливость и опрятность, так как подобные качества были совершенно несвойственны этим животным.
Моему хозяину не терпелось узнать, откуда я прибыл и где набрался кой-какого разума, который обнаруживал в своих поступках. Ему хотелось поскорее услышать от меня историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго: такие успехи я делал в изучении языка гуигнгнмов. Чтобы легче запомнить, я записывал все заученные мною слова в порядке английского алфавита с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить эти записи в присутствии хозяина. Мне стоило немало труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигнгнмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе.
Приблизительно через десять недель я уже понимал большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог довольно свободно отвечать на них. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху (на которых, по его мнению, я был поразительно похож), при всей своей хитрости, поддаются обучению хуже всех других животных.
Я ответил, что приехал очень издалека с многими другими подобными мне существами. Нам пришлось очень долго плыть по морю в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев. В конце концов мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большим трудом, при помощи различных знаков и жестов, мне удалось добиться, чтобы хозяин меня понял.
Подумав немного, он ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. (На языке гуигнгнмов совсем нет слов, обозначающих ложь и обман.) Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгнмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им еху. Слово «гуигнгнм» на местном языке означает: венец творения; так называет себя народ лошадей, самый разумный в этой стране.
Я сказал хозяину, что еще плохо владею их языком и мне трудно ответить на все его вопросы, и выразил надежду, что в скором времени я буду в состоянии рассказать ему очень много интересного.
Скоро весть о появлении удивительного еху, который говорит, как гуигнгнм, и в своих словах и поступках обнаруживает проблески разума, разнеслась по окрестностям. К хозяину стали очень часто приходить знатные кони и кобылы взглянуть на меня. Им доставляло большое удовольствие разговаривать со мной; они задавали мне вопросы, на которые я отвечал как умел. Благодаря этому я сделал такие успехи в местном языке, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам.
Гуигнгнмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий еху. Больше всего их сбивала с толку моя одежда. Они никак не могли решить, составляет ли она часть моего тела или нет. А я отнюдь не спешил рассеять их недоумение. Ведь поняв, в чем дело, и увидя меня без одежды, они, наверно, признали бы меня настоящим еху, а мне этого очень не хотелось. Однако мне недолго удалось скрывать свою тайну. Обычно я снимал с себя платье только тогда, когда все в доме уже спали, и надевал его спозаранку, когда еще никто не проснулся.
Но вот однажды хозяин рано утром послал за мной своего камердинера, гнедого лошака. Когда он вошел ко мне, я еще спал, сбросив с себя платье. Проснувшись при его появлении, я заметил, что лошак находится в большом замешательстве. Кое-как исполнив поручение, он поспешно вернулся к своему хозяину. Поздоровавшись со мной, хозяин тотчас спросил меня, что означает рассказ слуги, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда.
Я понял, что совершенно бессмысленно пытаться дольше сохранять свой секрет, тем более что моя одежда и обувь очень износились и в недалеком будущем их придется заменить какими-нибудь изделиями из кожи еху или других животных. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, существует обычай закрывать свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных. Делается это главным образом для защиты тела от холода и зноя, а отчасти из приличия. В подтверждение своих слов я на глазах у хозяина разделся до рубашки.
Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием. Потом он осмотрел меня со всех сторон и заявил, что без всякого сомнения я — настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизной и гладкостью кожи, формой и длиной когтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Заметив, что я дрожу от холода, он предложил мне снова одеться.
Одеваясь, я объяснил хозяину, до какой степени мне неприятно, что он так часто называет меня еху, так как я питаю глубочайшее отвращение и презрение к этим гнусным животным. Я убедительно просил его не называть меня так и запретить это своим домашним.
Кроме того, я выразил желание, чтобы он сохранил тайну искусственной оболочки моего тела и приказал своему слуге-лошаку молчать о виденном.
Хозяин обещал исполнить мои просьбы и, со своей стороны, выразил желание, чтобы я постарался как можно скорее овладеть их языком.
По его словам, он гораздо больше изумлен и заинтересован моим умом и способностью к членораздельной речи, чем моей наружностью, и горит нетерпением как можно скорее услышать обещанный мною рассказ о разных чудесах.
С этого дня хозяин с удвоенным усердием стал заниматься моим обучением. Он часто возил меня в гости. Всех соседей он просил обращаться со мной вежливо, так как это приводит меня в хорошее расположение духа и я становлюсь гораздо словоохотливее.
Было бы скучно описывать шаг за шагом мои успехи в языке гуигнгнмов. Скажу только, что благодаря заботам хозяина и моим хорошим способностям я вскоре мог отчасти удовлетворить нетерпеливое любопытство моего хозяина и более или менее подробно рассказать ему, кто я такой, как попал сюда и что за страна моя родина.
Прежде всего я повторил еще раз все то, что еще раньше пытался объяснить ему.
Я прибыл сюда, так начал я свой рассказ, из весьма отдаленной страны вместе с пятьюдесятью такими же существами, как и я. Мы плыли по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль. Развернув носовой платок, я попытался объяснить ему, что такое парус и как он приводит в движение судно. После ссоры, происшедшей между мной и моими спутниками, продолжал я, я был высажен на этот берег. Не зная, что мне предпринять, я направился вглубь страны и вскоре подвергся нападению отвратительных еху. Здесь хозяин прервал меня вопросом, кто сделал этот корабль и как случилось, что гуигнгнмы моей страны предоставили управление им диким животным. Я ответил ему, что только в том случае решусь продолжать рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я. Эти существа как у меня на родине, так и во всех странах, где мне приходилось бывать, являются самыми разумными созданиями и потому господствуют над всеми остальными животными. Я признался моему слушателю, что был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгнмов, как поразили бы его самого или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было назвать еху. Мне приходится, сказал я, признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но я не могу понять причину их вырождения и одичания. Я прибавил далее, что, если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину и я расскажу там об этом путешествии, то мне никто не поверит и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца. Я прошу моего слушателя помнить свое обещание и не обижаться на меня. Но, несмотря на все мое уважение к нему, его семье и друзьям, я должен сказать, что мои соотечественники никогда не поверят, чтобы гуигнгнмы были где-нибудь господами, а еху — грубыми скотами.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Понятие гуигнгнмов об истине и лжи. Речь автора приводит в негодование его хозяина. Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях.
Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгнмы не знают, как вести себя в таких случаях. Я помню, что когда в беседах с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упоминать о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так: способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах. Поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, к кому обращена речь, перестанет понимать своего собеседника. Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей.
Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что еху занимают господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигнгнмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах, кормят сеном и овсом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель.
«Теперь я понимаю вас, — заметил мой хозяин: — из сказанного вами ясно, что хотя ваши еху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуигнгнмы».
Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все — как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться.
Прежде всего я подробно распространился на ту тему, что наши гуигнгнмы, которых мы называем лошадьми, — самые красивые, самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега. Если их хозяева знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их; работать им приходится немного; их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях. Но едва они состарятся и ослабеют, их продают в чужие руки. Там их заставляют исполнять всевозможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбьются из сил. После смерти с них сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес.
Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам.
Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ возгласами негодования. Больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигнгнмов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное. В ответ я подробно описал ему, какой тренировке подвергаются наши лошади начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности; как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, прибавил я, его милость должна принять во внимание, что, подобно здешним еху, наши гуигнгнмы не обладают ни малейшими проблесками разума.
Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с гуигнгнмами у меня на родине. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум всегда торжествует над грубой силой. Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешние еху значительно превосходят меня.
В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня; мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами, так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них; мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы; моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зноя и холода, и я обречен на скучное и утомительное занятие — ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем, он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса. Ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда.
Я заверил его, что с величайшей охотой готов удовлетворить его любопытство. Но я сильно сомневался, что мой рассказ будет вполне понятен хозяину, так как мне придется говорить о таких вещах, о которых он не имеет никакого представления. Поэтому я просил его милость не сердиться на меня, переспрашивать меня всякий раз, как ему будет что-нибудь неясно.
Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца. Правит этим островом самка той же породы, что и я; мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то-есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке. Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около пятидесяти еху. Многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими, набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности погибнуть: в первый раз во время сильной бури, а во второй — наскочив на скалу.
Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плаванье после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Нищета и преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлениях, подделке монеты, дезертирстве. Большинство из них были беглые из тюрем. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенным или сгнить в заточении, и потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях.
Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы, из-за чего им пришлось покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело. Но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. На языке гуигнгнмов нет слов для обозначения таких вещей, как власть, правительство, война, закон, наказание и тысяча других. Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая от природы большим умом и настойчивостью, он в конце концов более или менее удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего отечества.
ГЛАВА ПЯТАЯ
По приказанию хозяина автор знакомит его с положением Англии. Причины войн между европейскими государствами. Автор приступает к изложению английской конституции.
Пусть читатель благоволит принять во внимание, что в дальнейшем я передаю — да и то вкратце — только самое существенное из всего, что обсуждалось нами во время наших долгих бесед с хозяином. Кроме того, должен заметить, что вряд ли мне удалось с достаточной силой и точностью передать на нашем варварском языке все доводы и рассуждения его милости, столь простые и ясные по форме и такие мудрые по содержанию. Только с такими оговорками я осмеливаюсь излагать мои беседы с представителем благородного народа гуигнгнмов.
Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, происходившую во времена принца Оранского, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, — войну, в которой приняли участие величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я подсчитал, что в течение этой войны было убито не меньше миллиона еху, взято около ста городов и сожжено или затоплено свыше трехсот кораблей.
Хозяин спросил меня, какие причины побуждают одно государство воевать с другим. Я отвечал, что таких причин несчетное количество, но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие и жадность монархов, которые никогда не бывают довольны и вечно стремятся расширить свои владения и увеличить число своих подданных; иногда развращенность министров, вовлекающих своего государя в войну только для того, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на дурное правление. Много крови было пролито из-за разногласий во взглядах. Споры о том, является ли тело хлебом или хлеб телом; что лучше: целовать кусок дерева или бросать его в огонь; какого цвета должна быть верхняя одежда: черного, белого, красного или серого, и так далее, — стоили многих миллионов человеческих жизней*.
Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса: кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из страха, как бы тот не напал на него первым; иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому, что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас. Тогда возникает война и длится до тех пор, пока они не отберут от нас наше или не отдадут нам свое. Считается вполне извинительным нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумой или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливой война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство. Это называется вывести народ из варварства и приобщить его ко всем благам цивилизации. Весьма распространен также следующий царственный и благородный образ действия: государь, приглашенный соседом на помощь против вторгшегося в его пределы неприятеля, после изгнания врага захватывает владения союзника, а его самого убивает, заключает в тюрьму или обрекает на изгнание. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями, и чем ближе это родство, тем сильнее они ненавидят друг друга. Бедные нации алчны, богатые — надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. Поэтому войны у нас никогда не прекращаются, и ремесло солдата считается самым почетным. Солдатом мы называем еху, которого нанимают для того, чтобы он хладнокровно убивал возможно большее число таких же, как он, существ, не причинивших ему никакого зла.
Кроме того, в Европе существует много мелких властителей, которые по своей бедности не могут самостоятельно вести войну. Эти нищие государи отдают свои войска в наем богатым соседям за определенную поденную плату. Три четверти этой платы они удерживают в свою пользу и на этот доход живут*.
«Все то, что вы рассказали мне по поводу войн, — задумчиво произнес мой хозяин, — прекрасно показывает, каков этот разум, на обладание которым вы притязаете. Но, к счастью, вы не можете причинить слишком много зла. Об этом позаботилась сама природа, создав вас слабее всех остальных животных.
В самом деле, у вас очень плоские лица, и челюсти совсем не выдаются вперед. Поэтому едва ли вы можете кусать и грызть друг друга. Когти на передних и задних ногах у вас коротки и нежны. Каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Не обижайтесь на меня, — прибавил в заключение хозяин, — но мне кажется, что, называя число убитых в боях, вы говорите то, чего нет».
При этих словах я не мог удержаться от улыбки. Я был довольно сведущ в военном деле и потому мог объяснить ему, что такое пушки, мортиры, мины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки. Я подробно описал ему сражения, потопление кораблей со всем экипажем. Я попытался нарисовать перед ним картину битвы: дым, шум, смятение, стоны умирающих, смерть под лошадиными копытами, преследование бегущих. Я говорил о полях, покрытых трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам; о разбое, грабежах, насилиях, чинимых над мирным населением, об опустошенных нивах и сожженных городах. Желая похвастать перед ним доблестью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотни неприятельских солдат, так что, к великому удовольствию всех зрителей, куски человеческих тел словно с неба падали на землю.
Я собирался было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать.
«Всякий, кто знает еху, — сказал он, — без труда поверит, что это гнусное животное способно совершить все, о чем вы рассказывали, если это окажется ему по силам». Но мой рассказ поселил в его уме тревогу, какой он никогда раньше не испытывал. Он всегда гнушался еху, населяющих эту страну, но все же он не больше осуждал их за все их недостатки, чем гннэйх (хищную птицу) за ее жестокость или острый камень за то, что он повредил ему копыто. Но ведь в моих рассказах самые ужасные злодеяния совершают существа, обладающие, повидимому, большими умственными способностями. Это наводит его на мысль, что развращенный разум, пожалуй, хуже звериной тупости. По его мнению, это уже не разум, а какая-то особая способность, содействующая развитию наших природных пороков.
Под конец он сказал мне, что уже достаточно наслушался о войне. Теперь его интересует другое. В своем рассказе я упомянул, что кое-кто из матросов на моем корабле покинули родину, потому что были разорены законом. Это выражение очень удивило моего хозяина. Он не мог понять, каким образом закон может привести кого-нибудь — судя по моим рассказам — к разорению. Ведь весь смысл закона заключается в охране интересов каждого гражданина. Поэтому он просит объяснить ему, что такое этот закон и кто такие его слуги. По его мнению, руководства природы и разума достаточно для разумных существ, какими мы себя считаем.
Я ответил его милости, что всячески постараюсь удовлетворить его желание, хотя закон и право — такие предметы, в которых я очень мало сведущ.
Я объяснил ему, что в нашей стране имеется многочисленное сословие людей, которые с молодых лет обучаются доказывать, что белое — черно, а черное — бело, смотря по тому, за что им больше заплатят. Это сословие держит в рабстве весь народ.
Так, например, если соседу понравилась моя корова, то он нанимает адвоката с целью доказать, что по закону он имеет право отнять у меня корову. Тогда для защиты моих прав на корову мне приходится нанимать второго адвоката, так как закон никому не позволяет лично защищаться на суде. Мало того: в качестве законного и настоящего собственника я попадаю в особо невыгодное положение на суде. Дело в том, что каждый адвокат чуть ли не с колыбели привык отстаивать неправду. Поэтому, защищая правое деяние, он непременно будет чувствовать себя весьма неловко и не сумеет проявить достаточно энергии и искусства. К тому же ему придется все время соблюдать крайнюю осторожность: выказав чрезмерную горячность в защите правого дела, он рискует получить замечание со стороны судей и унизить достоинство своего сословия.
Строго говоря, у меня есть только два способа сохранить свою корову: первый — подкупить адвоката противной стороны, чтобы он дал понять суду, будто защищает правое дело; второй — убедить моего защитника изобразить мои притязания на корову как явно несправедливые, намекнув, что на деле корова принадлежит моему противнику. И в том и в другом случае — безразлично, признает ли суд, что правда на стороне противника, или что требования мои незаконны, — у меня есть надежда выиграть дело.
Ваша милость, продолжал я, должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность разрешать всякие споры о собственности и судить преступников. Их выбирают из числа самых искусных адвокатов, когда они состарятся и обленятся. Выступая до назначения судьями в качестве адвокатов, эти люди приучаются потворствовать обману, клятвопреступлению и насилию. Я знал немало почтенных судей, которые решительно отказывались от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, не желая способствовать торжеству правды и тем самым оскорбить достоинство своего сословия.
При разборе различных тяжб они тщательно избегают входить в существо дела; зато кричат, горячатся и болтают до изнеможения по поводу таких вещей, которые, строго говоря, не имеют никакого отношения к делу. Так, в приведенном мной примере они и не спросят, какое право имеет мой противник на мою корову, но будут без конца толковать о том: рыжая ли корова или черная; длинные у нее рога или короткие; дома ли ее доят или на пастбище; каким болезням она подвержена, и прочее, и прочее.
Следует также принять во внимание, что эти люди применяют в разговоре столько специальных слов и выражений, что их речь почти непонятна для обыкновенных смертных. Точно так же составлены и все законы. Законов этих так много и они так непонятны, так противоречивы, что ими совершенно невозможно определить, какой поступок законен, а какой нет, какой справедлив, а какой несправедлив, где правда, а где ложь. Немудрено, если при таких законах и с такими судьями требуется тридцать-сорок лет, чтобы выяснить, мне ли принадлежит поле, доставшееся от моих предков, владевших им в шести поколениях, или какому-либо чужеземцу, живущему за триста миль от меня.
Суд над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, происходит гораздо быстрей. Судьи просто справляются у властей, желают ли они, чтобы обвиняемый был осужден или оправдан.
А затем, согласно полученным указаниям, либо приговаривают его к повешению, либо оправдывают. Но, разумеется, и в том и в другом случаях они строго руководствуются законами*.
Теперь, ваша милость, так закончил я свой рассказ, вы, конечно, уяснили себе, что значит «быть разоренным законом».
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Продолжение описания Англии. Роль первого, или главного, министра при европейских дворах.
Но тут возникло новое затруднение: мой хозяин не мог понять, что побуждает всех этих судей затрачивать столько усилий только для того, чтобы причинять вред и обиды своим ближним. А главное — для него было совершенно непонятно выражение «за плату».
В ответ на его недоуменные вопросы мне пришлось объяснить, что такое деньги, из чего они изготовляются и какова ценность благородных металлов. Если еху, сказал я, обладает большим запасом этого драгоценного вещества, он может приобрести все, что ему вздумается: красивые платья, великолепные дома, обширные поместья, роскошную мебель, самые дорогие яства и напитки. И так как только одни деньги способны доставить все это, то наши еху ценят деньги превыше всего на свете и желают иметь их как можно больше. Благодаря огромному значению денег богатые подчиняют себе бедных и пользуются плодами их трудов. На каждого богача приходится более тысячи бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование и надрываться над тяжелой работой, получая самую ничтожную плату, только для того, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Все это было непонятно моему хозяину, который считал, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными.
Расспрашивая меня о том, как живут у нас богатые еху, он заинтересовался нашей кухней и пожелал знать, каковы все эти роскошные яства, которые требуют таких больших расходов. Я перечислил все самые изысканные кушанья, какие только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления. Я сказал, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Нужно по крайней мере трижды объехать вокруг света, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной семьи наших еху или посуду, в которой он должен быть подан.
«Бедна же, однако, страна, — сказал мой собеседник, — которая не может прокормить своего населения!»
Его особенно поразило то, что в наших странах не хватает пресной воды и население должно посылать в заморские земли за питьем.
Я объяснил ему, что мы выписываем из чужих стран напитки совсем не потому, что у нас не хватает воды. Эти напитки, приготовленные из сока особых ягод, мы пьем для того, чтобы развеселиться, одурманиться, разогнать печальные мысли, чтобы забыть все заботы и неприятности, которыми полна наша жизнь. Правда, от них мы становимся вялыми, безвольными, удрученными, больными. Но это не останавливает нас: мы согласны на все, чтобы почувствовать себя ненадолго веселыми и беззаботными.
«Моя дорогая родина Англия, — сказал я, — по самому скромному подсчету, может производить разного рода съестных припасов в три раза больше, чем способно потребить ее население. Но наши еху не довольствуются этими продуктами и привозят из-за моря различные дорогие фрукты, плоды, овощи, разные острые приправы и другие предметы, чтобы потешить свой прихотливый вкус. А взамен этого мы посылаем в заморские страны необходимые для жизни припасы и изделия. Немудрено, что множество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, ханжеством, клеветой и тому подобными занятиями».
Читатель может себе представить, сколько труда понадобилось, чтобы растолковать гуигнгнму каждое из этих слов.
«Но при этих условиях, — заметил хозяин, — обитатели вашей страны должны с утра и до поздней ночи трудиться, чтобы снабдить богачей».
«Вы совершенно правы, — сказал я. — Так, например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь, как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников. Постройка и обстановка моего дома требуют еще большего количества рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число в пять раз».
Я собирался рассказать ему о людях, добывающих себе средства к жизни лечением болезней, но оказалось, что для моего хозяина это слово почти непонятно. Его милость считал вполне естественным, что каждый гуигнгнм слабеет и отяжелевает за несколько дней до смерти или может случайно поранить себя. Но ему казалось совершенно непостижимым, чтобы природа, чьи деяния проникнуты духом разума, была способна взращивать в нашем теле болезни. И он принялся расспрашивать меня о причинах этого бедствия. Я ответил, что множество наших болезней порождается неумеренным обжорством и пьянством; что мы едим, когда не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды. Иногда целые ночи мы поглощаем крепкие напитки. Это располагает нас к лени, воспаляет наши внутренности, расстраивает пищеварение. Целым рядом других недугов мы обязаны бесчисленным порокам, процветающим в нашей стране. Понадобилось бы очень много времени, чтобы перечислить все те болезни, которым подвержено человеческое тело. Достаточно, если я скажу, что целое обширное сословие занимается только тем, что лечит своих соотечественников. Я подробно рассказал о наших докторах, об их способах лечения разных болезней, об их шарлатанстве и корыстолюбии.
Особенно отличается это племя в искусстве предсказывать исход болезни. Тут они редко совершают ошибки. Когда они видят, что человек болен серьезно, они обычно предсказывают смерть. Ведь они всегда могут уморить больного, тогда как исцеление от них не зависит. Но если, несмотря на их лечение, в болезни все-таки наступает поворот к лучшему, им легко убедить близких больного, что это случилось благодаря их мудрым попечениям.
К этому надо добавить, что они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те надоели друг другу, старшим сыновьям, ждущим наследства, министрам, у которых есть опасные соперники, и нередко государям, желающим отделаться от своих министров*. При этих словах хозяин, которому, повидимому, надоели мои рассуждения о врачебном сословии, перебил меня вопросом.
«Вы уже несколько раз упоминали о министрах, — сказал он. — Мне бы очень хотелось знать, какую разновидность еху вы обозначаете этим словом».
Я ответил ему, что первый, или главный, министр — существо, которому совершенно не знакомы чувства радости и печали, любви и ненависти, жалости и гнева. По крайней мере, у него нет никаких страстей, кроме безумной жажды богатства, власти и титулов. Он пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей. Он говорит правду только тогда, когда хочет, чтобы ее приняли за ложь; и он лжет лишь в тех случаях, когда хочет выдать свою ложь за правду. Люди, о которых он дурно отзывается за глаза, могут быть уверены, что они находятся на пути к почестям; люди, которых он начинает хвалить, могут считать себя погибшими. Берегитесь, если он даст обещание исполнить вашу просьбу и подтвердит его клятвой. После этого у вас не остается никакой надежды добиться желаемого, и вам благоразумнее всего удалиться.
«Есть много способов сделаться главным министром, — продолжал я. — Самый обычный — это искусная клевета, ловкий донос, предательство. Иногда это открытое и яростное обличение двора в испорченности и других пороках. Мудрый государь обыкновенно отдает предпочтение тем, кто применяет последний способ, ибо эти обличители всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихотям и страстям своего господина.
Достигнув власти, министр укрепляет свое положение путем подкупа большинства сенаторов или членов совета. В заключение, собрав при помощи взяточничества, ловких махинаций с государственными средствами и прямого воровства огромное богатство, министры удаляются от общественной деятельности.
Дворец первого министра служит питомником для выращивания подобных ему людей. Пажи, лакеи, швейцары, подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере и в совершенстве изучают три главные предпосылки его искусства: наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого у каждого из них есть свои маленький двор, образуемый людьми из высшего общества. Подчас благодаря ловкости и бесстыдству им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина».
Однажды, услышав мое упоминание о знати нашей страны, хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверно, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины. Кроме того, я не только одарен способностью речи, но также обладаю зачатками разума, что все его знакомые почитают за чудо.
Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за доброе мнение обо мне. Но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое, так как мои родители были скромные, честные люди, которые едва имели возможность дать мне сносное образование. Я сказал ему, что наша знать совсем не такова, какою он ее себе представляет. Наша знатная молодежь с самого детства воспитывается в праздности и роскоши. Окончив же кое-как школы, эти молодые люди проводят жизнь в кутежах, карточной игре и иных развлечениях. Промотав большую часть своего состояния, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают. Немудрено, если от таких браков родятся золотушные, рахитичные, болезненные дети. Во всяком случае, в нашей стране слабое, болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служат верными признаками благородной крови. Здоровое и крепкое сложение для человека знатного считается почти непристойным. Духовные недостатки этих людей вполне соответствуют физическим и представляют весьма неприятное сочетание хандры, тупоумия, невежества, самодурства, спеси.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Любовь автора к родной стране. Замечания хозяина относительно английского правления. Наблюдения хозяина над человеческой природой.
Быть может, читатель удивится, каким образом я решился выставить напоказ недостатки нашего племени перед существом, которое, видя мое сходство с еху, и без того составило себе весьма неблагоприятное мнение о человеческом роде вообще. Но я должен чистосердечно признаться: сопоставление многочисленных добродетелей этих благородных четвероногих с испорченностью человека в корне изменило мой взгляд на природу человека. Я пришел к заключению, что совсем не стоит щадить честь моего племени. К тому же, глядя на моего хозяина и его близких, я проникся величайшим отвращением ко всякой лжи и обману. Впрочем, вспоминая сейчас все, что я говорил о моих соотечественниках, я с удовольствием вижу, насколько я щадил их недостатки и как настойчиво старался изобразить их жизнь и нравы в самом выгодном освещении. Однако я не ставлю себе это в особую заслугу. Ибо неужели найдется существо, которое не питало бы слабости и не относилось бы пристрастно к месту своего рождения?
Я изложил здесь только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином. Наконец любопытство его милости было в какой-то мере удовлетворено. Однажды утром он позвал меня к себе и, предложив мне сесть (честь, которой я никогда не удостаивался), произнес целую речь. Он сказал, что много размышлял по поводу всего сказанного мною о себе самом и о моей родине и пришел к довольно печальному выводу.
«Вы являетесь, — заявил хозяин, — особенной породой животных, наделенных крохотной частицей разума. Но этим разумом вы пользуетесь лишь для развития ваших природных пороков и приобретения новых. Заглушая в себе дарования, которыми наделила вас природа, вы видите единственную цель своего существования в том, чтобы умножать свои потребности и придумывать самые странные средства для их удовлетворения. Но физически, если судить по вас лично, ваш народ сильно уступает нашим еху. Вы не твердо держитесь на задних ногах; ваши когти совершенно бесполезны и непригодны для защиты и нападения. Вы не можете быстро бегать и взбираться на деревья подобно вашим братьям (так он все время называл их), местным еху.
Существование вашего правительства и закона доказывает несовершенство вашего разума, а следовательно, и добродетели. Для управления теми, кто по-настоящему разумен, достаточно одного разума. Впрочем, все, что у вас творится, явно свидетельствует, что вы и не притязаете на обладание разумом.
Чтобы проверить эти выводы, я сравнил, — продолжал мой хозяин, — ваш образ жизни, ваши обычаи и нравы с образом жизни наших еху. Это окончательно убедило меня, что и в умственном отношении между вашим народом и еху наблюдается удивительное сходство.
Еху ненавидят друг друга больше, чем остальных животных. Обычно считают, что причина этой ненависти — в их уродстве; каждый еху видит уродство своих собратьев и не замечает своего собственного. Но теперь мне кажется, что это объяснение ошибочно. Причины раздоров среди этих скотов те же самые, что и причины раздоров среди ваших соплеменников. В самом деле, если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они, вместо того чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку. Каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда еху кормят в поле, то к ним обыкновенно приставляют слугу. В хлеву же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Иногда мы не успеваем подобрать подохшей в поле коровы для своих еху. Тогда к ней стадами сбегаются из окрестностей дикие еху и набрасываются на добычу. Тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных вами. Они наносят когтями страшные раны друг другу, однако до убийства дело доходит редко. Ведь у них нет тех смертоносных орудий, какие вы изобрели. Иногда подобные сражения между этими дикими животными завязываются без всякой видимой причины. Еху, обитающие в каком-нибудь лесу или зарослях, нападают на своих соседей, всячески стараясь захватить их врасплох. Потерпев неудачу, они возвращаются домой и, чтобы сорвать свою злобу, затевают между собой то, что вы назвали междоусобной войной.
В нашей стране кое-где попадаются разноцветные блестящие камешки. К этим камешкам еху питают настоящую страсть. Если камень крепко сидит в земле, они готовы поработать целый день, чтобы только отрыть его. Свою добычу они уносят к себе в логовище и закапывают там глубоко в землю. При этом они соблюдают величайшую осторожность, все время подозрительно оглядываются по сторонам, прячутся — словом, явно боятся, как бы соседи не заметили, куда они прячут свои сокровища.
Я, — прибавил хозяин, — никак не мог понять, чем можно объяснить эту страсть еху к блестящим камешкам. Но теперь я думаю, что ее источник — в такой же безудержной жадности, какую вы приписываете человеческому роду.
Однажды, ради опыта, я потихоньку унес кучку этих камней из тайника, где один еху зарыл их. Жадное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой вой, что к нему сбежалось целое стадо еху. Ограбленный с яростью набросился на товарищей и принялся кусать и царапать их. Прошло несколько дней, но он не забыл о своей потере, не хотел ни есть, ни спать, ни работать. Наконец я приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место. Обретя свое сокровище, еху сразу же оживился и повеселел. Он заботливо спрятал камешки в новый, более надежный тайник и с тех пор всегда был покорной и работящей скотиной».
Мой хозяин утверждал также — да я и сам это наблюдал, — что наиболее ожесточенные сражения между еху происходят на полях, изобилующих блестящими камнями.
«Когда два еху, — продолжал хозяин, — находят в поле такой камень и вступают из-за него в драку, то сплошь и рядом он достается третьему. Пользуясь тем, что они поглощены дракой, он схватывает и уносит камень».
Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами. Я не стал разубеждать его. Это значило бы чернить наше доброе имя. Ведь мне пришлось бы признать, что такое разрешение спора гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме того камня, из-за которого они дерутся. А между тем наши суды никогда не прекращают дела, пока вконец не разорят обоих спорщиков.
В дальнейшем мой хозяин отметил, что ничто так не отвратительно в еху, как их прожорливость. Они с величайшей жадностью набрасываются на все, что попадается им на глаза, и без разбора пожирают траву, коренья, ягоды, протухшее мясо. Украденную или добытую грабежом пищу они предпочитают гораздо лучшей, приготовленной для них дома.
Здесь — правда, довольно редко — попадается один сочный корень. Еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут. Он производит на них то же действие, какое производит на нас вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, гримасничают, что-то лопочут, спотыкаются, падают в грязь и засыпают.
Но что касается науки, системы управления, искусства и промышленности, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между еху его страны и нашей. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгнмов, что в большинстве стад еху бывают своего рода правители, всегда самые безобразные и злобные из всего стада. У каждого вожака имеется обычно фаворит. Этот фаворит всегда очень похож на своего покровителя. Обязанности его заключаются в том, что он лижет ноги своего господина и заботится о его удобствах. В награду за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно господин держит его до тех пор, пока не найдет еще худшего. А как только он получает отставку, так все еху этой области, молодые и старые, во главе с его преемником, обступают его и задают ему хорошую трепку. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому.
Хозяин заметил мне, что у еху есть еще несколько особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческом племени, или коснулся их только вскользь. Прежде всего бросается в глаза пристрастие еху к грязи и неопрятности, тогда как все остальные животные по природе чистоплотны.
Если бы в стране гуигнгнмов водились свиньи, мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью. Но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем еху, однако они не могут похвастаться большой чистоплотностью. Его милость, наверно, согласился бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи.
Еще более необъяснимо другое свойство, которое обнаружили его слуги у некоторых еху. Иногда еху приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, ныть, стонать и прогонять от себя каждого, кто подойдет. Обычно это молодые, здоровые, упитанные животные; пищи и воды им не требуется, никакой боли они, повидимому, не испытывают. Что с ними происходит, понять невозможно. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им еху в нормальное состояние.
Я ничего не ответил хозяину на это замечание. Из уважения к моим соотечественникам я не хотел объяснять ему, что вижу в этих припадках еху зачатки той хандры или сплина, который нередко встречается в нашей стране среди богатых и праздных людей. Но я был вполне согласен с моим хозяином насчет способов лечения этой болезни.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Автор описывает некоторые особенности еху. Великие добродетели гуигнгнмов. Воспитание молодого поколения. Генеральный совет гуигнгнмов.
Я, конечно, гораздо лучше моего хозяина разбирался в человеческой натуре, и потому мне было нетрудно приложить сделанную им характеристику еху к себе самому и к моим соотечественникам. Но я был убежден, что самостоятельные наблюдения смогут привести меня к еще более интересным выводам. Поэтому я просил у его милости позволения посещать сборища соседних еху. Он любезно согласился на это, так как нисколько не сомневался, что мое безграничное отвращение к этим животным предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны. Его милость приказал только одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии. Я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне противные животные сразу же по моем прибытии в эту страну. Да и впоследствии я несколько раз чуть было не попал в их лапы.
У меня есть основание думать, что эти животные подозревали во мне одного из себе подобных. Они часто старались подойти ко мне как можно ближе и подражали, на манер обезьян, моим движениям. Но они неуклонно проявляли по отношению ко мне самую дикую ненависть. Так дикие галки преследуют ручную, одетую в колпачок и чулочки, когда та случайно залетит в их стаю.
Еху с детства отличаются удивительным проворством, но все же мне удалось как-то поймать трехлетнего самца. Я было попытался успокоить его ласками, но чертенок так отчаянно орал, царапался и кусался, что я отпустил его, да и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо. Все они были чрезвычайно разъярены, но, увидев, что детеныш цел и невредим, а гнедой подле меня, не посмели подойти к нам.
Насколько я мог заметить, еху из всех животных труднее всего поддаются воспитанию и обучению. Все, к чему их можно приучить, — это таскать и возить тяжести. По-моему, главной причиной этого является упрямство и подозрительность этих животных. Ибо им нельзя отказать в смышлености и хитрости. Но они злобны, вероломны и мстительны. Они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими.
Гуигнгнмы содержат еху, которыми пользуются для домашних работ, в хлевах, неподалеку от своих жилищ; остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и люхимухс (полевых крыс). Каждый еху вырывает себе глубокую нору где-нибудь на склоне холма и живет там в одиночестве. У самок норы побольше, так что в них могут поместиться еще два-три детеныша.
Еху — великолепные пловцы и могут долго пробыть под водой. Они любят заниматься ловлей рыбы, которую самки носят своим детенышам.
Так как я прожил в этой стране целых три года, то читатель, наверно, ожидает, что, следуя примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев.
Благородные гуигнгнмы от природы склонны ко всем добродетелям и не имеют никакого понятия о том, что такое зло. Основное правило жизни заключается для них в полном подчинении своего поведения руководству разума. Они отличаются изумительной способностью сразу постигать умом и чувством, что разумно, а что нет. А поняв это, без всяких колебаний принимают к сведению разумное и отвергают то, что противоречит разуму. Поэтому долгие споры, ожесточенные пререкания, упорное отстаивание ложных или сомнительных мнений — пороки, не известные гуигнгнмам.
Верность в дружбе и благожелательность — две главные добродетели гуигнгнмов. Эти чувства гуигнгнм испытывает не только к своим близким или знакомым, но ко всему своему племени вообще. Чужестранец из далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед. Куда бы он ни пришел, он везде чувствует себя как дома. Гуигнгнмы строго соблюдают приличия и учтивость, но они совершенно не знакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих жеребят, но заботятся о них и предоставляют им все, что требуется правилами разумного воспитания. Я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгнмы считают, что разум и природа учат их одинаково любить всех себе подобных.
Их система воспитания юношества поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Пока молодым гуигнгнмам не исполнится восемнадцати лет, им дают овса только понемногу, да и то не каждый день; пить молоко им позволяется только в самых редких случаях. Летом они пасутся два часа утром и два часа вечером, подобно своим родителям. Слугам разрешается пастись по часу. Корм для них приносится домой, и они поедают его в свободные от работы часы.
Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность обязательны для молодежи обоего пола.
Гуигнгнмы развивают в молодежи силу, быстроту бега и смелость. Жеребят подолгу заставляют бегать по крутым склонам холмов и каменистым полям. Когда они устанут и покроются пеной, их заставляют окунуться с головой в пруд или реку. Четыре раза в год в каждом округе происходят состязания молодежи. Молодежь показывает свои успехи в беге, прыганье и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Наградой победителю или победительнице служит торжественная песнь, исполненная в его честь. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгнмов. Но вслед за тем этих животных оттесняют подальше, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания.
Через каждые четыре года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации. Местом собрания служит равнина, расположенная в двадцати милях от дома моего хозяина. Совет продолжается пять-шесть дней. На этом совете обсуждается положение различных округов: достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху. Если в одном из округов чего-нибудь не хватает, то совет доставляет туда все необходимое из других округов. Постановления об этом всегда принимаются единодушно.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Большие прения в совете гуигнгнмов. Занятия гуигнгнмов. Их постройки. Обряды погребения. Недостатки их языка.
Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, месяца за три до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос. Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызвавшим споры между гуигнгнмами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило.
Речь шла о том, не следует ли стереть еху с лица земли.
Один из участников собрания, считавший это безусловно необходимым, привел ряд веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху не только самые грязные, гнусные и безобразные животные на земле, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. Всем известно, сказал он, что их надо держать под строгим надзором. Иначе они станут сосать молоко у коров, принадлежащих гуигнгнмам, ловить и пожирать их кошек, вытаптывать овес и траву и совершать тысячи других пакостей.
Он напомнил собранию старинное предание о происхождении еху. Согласно этому преданию, в старые времена еху были совершенно неизвестны в стране. Но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла из гниющей тины и грязи или родились из ила и морской пены, до сих пор неизвестно*. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления, от этого бедствия гуигнгнмы устроили грандиозную облаву; им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуигнгнмы забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести.
В этом предании есть, повидимому, большая доля правды.
Ненависть, которую питают к еху не только гуигнгнмы, но и все вообще животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были илгниамши (коренные обитатели страны). Конечно, еху вполне заслуживают эту ненависть, но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали. Иначе они давно бы уже были истреблены.
В заключение оратор заявил, что гуигнгнмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить еху и оставив в пренебрежении ослов. Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем еху. Правда, они уступают еху в ловкости, но все же достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя еху.
Мой хозяин, выступив после этого оратора, счел нужным дополнить его сообщение. Он не сомневался в достоверности предания, изложенного выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря.
Возможно, что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах. Потомки их постепенно вырождались.
В конце концов они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их прародителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли. В подкрепление своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный еху (он подразумевал меня). Большинство собрания, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня. Он сообщил, что все мое тело покрыто искусственной оболочкой, состоящей из кожи и шерсти других животных; что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гуигнгнмов; что я изложил ему события, которые привели меня сюда; что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый еху, только кожа моя побелее, волос меньше да когти покороче.
Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгнмов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества еху, хотя я, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю.
Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю гуигнгнмам, насколько превосхожу местных еху.
Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о прениях в Большом совете. Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастий моей жизни.
У гуигнгнмов нет письменности. Поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти.
Я уже упоминал, что гуигнгнмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны.
Они ведут счет годам и месяцам по обращениям солнца и луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это — высшее достижение их астрономии.
Зато нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Темой стихов служит обычно изображение дружбы или восхваление победителей на бегах и других состязаниях.
Постройки их грубы и просты, но не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи.
У них растет одно дерево, которое, достигнув сорока лет, подгнивает у самого корня и рушится с первой бурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня (употребление железа им неизвестно), гуигнгнмы втыкают колья в землю на расстоянии десяти дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша делается из соломы.
Гуигнгнмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку (иголку дал ей я, чтобы произвести опыт). Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце.
Гуигнгнмы живут обыкновенно до семидесяти или до семидесяти пяти лет. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно выходить из дому. Однако за десять дней до смерти — срок, в определении которого они редко ошибаются, — гуигнгнмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные еху.
Попрощавшись таким образом с друзьями, гуигнгнм возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят гуигнгнмов в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают при этом ни радости, ни горя. Да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день уже поздно вечером явилась только жена друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнувнх. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу; буквально оно означает: «возвратиться к своей праматери». Потом она извинилась и за себя, сказав, что муж умер утром и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни.
Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуигнгнмов нет слов для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты еху. Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «еху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или леность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи они обозначают прибавлением к слову эпитета еху. А именно: гхнм еху, гвнагольм еху, инлхмндвихлма еху, а плохо построенный дом называют инголмгнмроглив еху.
Я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа; но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету, к ней я и отсылаю читателя.
А теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуигнгнмов. Он совершенствуется в добродетели. Хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну. Отчаяние автора при этом известии. С помощью слуги автор мастерит себе лодку. Он пускается в море наудачу.
Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в шести ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал дикой конопли и приготовил-из ее волокон что-то вроде пряжи; из этой пряжи я кое-как выткал чехол для матраца. На набивку матраца пошли перья птиц, пойманных мной в силки из волос еху. Сами птицы доставили мне очень недурное жаркое. При помощи гнедого лошака, выполнившего самую тяжелую часть работы, я соорудил себе два стула. Когда платье мое износилось, я сшил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых ннухнох. Из таких же шкурок я сделал очень сносные чулки. Мне удалось подбить к моим башмакам деревянные подошвы, а когда и сами башмаки развалились, я сшил себе новые.
В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой и ел со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух изречений: «природа довольствуется немногим» и «нужда всему научит».
Я наслаждался прекрасным здоровьем и полным душевным спокойствием. Мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу и лести, чтобы снискать милости великих мира и их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия. Здесь не было ни врачей, чтобы вредить моему телу, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы за плату возводить на меня ложные обвинения. Здесь не было зубоскалов, клеветников, карманных воров, взломщиков, стряпчих, болтунов, спорщиков, убийц, мошенников. Не было лидеров и членов политических партий и кружков, не было тюрем, топоров, виселиц, плетей и позорного столба. Не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников. Не было чванства и тщеславия. Не было франтов, буянов, пьяниц; не было назойливых, вздорных, крикливых, пустых приятелей. Не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели; не было вельмож, судей, скрипачей и учителей танцев.
Я имел честь быть допущенным к гуигнгнмам. Когда у моего хозяина бывали гости, его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он и гости часто задавали мне вопросы и снисходительно выслушивали мои ответы. Отправляясь в гости, хозяин нередко брал меня с собой. Я никогда не позволял себе вмешиваться в разговор и только отвечал на задаваемые мне вопросы. Но мне доставляла бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле и мысли выражались в немногих, полновесных словах, где собеседники не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, не вступали в ожесточенные споры. Гуигнгнмы полагают, что разговор в обществе следует прерывать краткими паузами. Я нахожу, что они вполне правы, ибо в эти минуты молчания у них рождались новые мысли, очень оживлявшие беседу. Обычными темами этих бесед были дружба, доброжелательство, порядок и благоустройство; иногда — какие-нибудь замечательные явления природы или преданья старины. Очень часто говорили о сущности добродетели и законах разума или обсуждали постановления, которые следовало принять на ближайшем большом собрании. Нередко разговор касался поэзии.
Мое присутствие так же давало обильную пищу для разговоров. Мой хозяин рассказывал друзьям историю моей жизни и описывал мою родину. Выслушав его, они не слишком почтительно отзывались о человеческом роде. Поэтому мне не хочется приводить здесь их замечания. Позволю себе только заметить, что, к моему удивлению, его милость постиг природу еху всех стран гораздо лучше меня. Перечисляя все наши пороки и безрассудства, он указывал на такие, о каких я никогда не упоминал ему. Он догадывался о них, размышляя о том, на что оказались бы способны местные еху, если бы были наделены малой частицей разума. Не без оснований он полагал, что такое животное должно быть презренным и жалким.
Я без всякого преувеличения могу сказать: все, что я знаю поистине полезного, почерпнуто мной из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями. Если бы мне пришлось выбирать, я всегда предпочел бы быть скромным слушателем этих мудрецов, чем влиятельным оратором величайшего и мудрейшего парламента Европы.
Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны. Такое удивительное сочетание различных добродетелей, какое я наблюдал в этих благородных существах, наполняло меня глубочайшим к ним уважением. Сначала я, правда, не испытывал по отношению к ним того боязливого преклонения, которым проникнуты еху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной.
Благодаря постоянному общению с гуигнгнмами и восторженному преклонению перед ними я стал подражать их походке и телодвижениям. Постепенно это вошло у меня в привычку. Еще и теперь друзья часто без церемоний говорят мне, что я бегаю, как лошадь. Я принимаю эти слова за лестный комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я все еще подражаю интонациям и манерам гуигнгнмов и без малейшей обиды выслушиваю насмешки друзей над этим.
Итак, жизнь моя текла счастливо и спокойно, и я желал только одного: до конца дней остаться в этой прекрасной стране. Вдруг, однажды утром, хозяин позвал меня к себе немного раньше, чем обычно. По его лицу я сразу заметил, что он несколько смущен и раздумывает, с чего начать разговор. После непродолжительного молчания он наконец решился и рассказал мне, что на последнем совете, когда обсуждался вопрос об еху, члены совета сочли за оскорбление своей породы, что он держит в своем доме еху и обращается с ним так, словно это гуигнгнм. Им известно, что он часто разговаривает со мной и, повидимому, находит удовольствие в моем обществе. Такое поведение совершенно противно разуму и природе. Поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с обыкновенным еху, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Но те из гуигнгнмов, которые видели и говорили со мной, решительно отвергли первое положение. Они опасались, что, обладая некоторыми зачатками разума и прирожденной порочностью этих животных, я вполне способен сманить еху в лесистую горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгнмов.
Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгнмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещание собрания, и он не может больше откладывать. Но, сомневаясь, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, он хотел, чтобы я соорудил себе повозку для езды по морю, вроде тех, какие я ему описывал. В этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. В заключение хозяин сказал, что он лично готов держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что, стараясь подражать гуигнгнмам, я излечился от многих дурных привычек и наклонностей, свойственных всем еху.
Речь его милости повергла меня в полное отчаяние. Потрясение было так сильно, что я упал в обморок у ног хозяина. Так как гуигнгнмы не подвержены таким слабостям, хозяин вообразил, что я умер. Он признался мне в этом, когда я пришел в себя. Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня счастьем. Конечно, я нисколько не осуждаю собрание за это увещание, но все же, как мне кажется, решение могло бы быть и менее суровым. До ближайшего материка или острова, вероятно, не менее ста лиг. Многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране. Поэтому я считаю это предприятие безнадежным и смотрю на себя, как на человека, обреченного гибели. Впрочем, смерть является для меня желанным исходом. В самом деле, если даже допустить, что мне удастся спасти свою жизнь, как я могу примириться с мыслью проводить дни среди еху и снова впасть в свои старые пороки? Тем не менее я преклоняюсь перед решением собрания, ибо убежден, что для него имеются веские и серьезные основания. Затем я поблагодарил хозяина за предложение оказать мне помощь в постройке лодки и сказал, что если возвращусь в Англию, то надеюсь принести большую пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгнмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческому роду.
Его милость очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку помогать мне в работе и исполнять мои распоряжения. Я знал, что гнедой — прекрасный работник и очень расположен ко мне.
Прежде всего я отправился с ним на берег, где меня высадили мои матросы. Там я взошел на холм и принялся осматривать море. Мне показалось, что на северо-востоке виднеется небольшой остров. Я вынул подзорную трубу и ясно различил его. По моим предположениям, он находился на расстоянии около пяти лиг. Но для гнедого остров был просто синеватым облаком. Он не имел никакого понятия о существовании других стран и не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, давно свыкшиеся с этой стихией.
Открыв остров, я вполне удовлетворился этим и решил избрать его первым пристанищем в моем изгнании. В дальнейшем я всецело полагался на волю судьбы.
Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу. Там я при помощи ножа, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ. Достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнедого лошака, выполнившего наиболее тяжелую работу, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и обтянул ее шкурами, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Из того же материала я сделал и парус, но выбрал для него шкуры самых молодых животных, так как шкуры старых были слишком грубы и толсты. Я сделал также четыре весла, приготовил запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда: один — наполненный молоком, а другой — пресной водой.
Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром. Затем я погрузил лодку на телегу, и под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги она очень осторожно была отвезена еху на морской берег.
Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством. Глаза мои были полны слез и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а быть может, из участия ко мне (если только я вправе сказать так) пожелал увидеть, как я поплыву в моей пироге, и предложил кое-кому из соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось ждать прилива. Вскоре поднялся легкий попутный ветер. Заметив это, я решил тотчас же отправиться в путь и поспешил вторично проститься с хозяином. Я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыто, но он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. (Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями.) Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью гуигнгнмов, они переменили бы свое мнение.
Засвидетельствовав почтение остальным гуигнгнмам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Опасное путешествие. Автор прибывает в Новую Голландию, рассчитывая поселиться там. Один из туземцев ранит его стрелой из лука. Его схватывают и насильно сажают на португальский корабль. Любезное обращение с ним капитана. Автор возвращается в Англию.
Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра. Ветер был попутный. Тем не менее сначала я шел на веслах. Но, рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полторы лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнедого лошака (он всегда любил меня): «гнуй илла ниха мэйджах еху» (береги себя хорошенько, милый еху).
Я направился к тому острову, который еще раньше заметил в подзорную трубу с берега. Я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас от одной мысли возвратиться в общество еху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых гуигнгнмов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках моего племени.
Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль.
Матросы, высадившие меня на берег, с клятвами, искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал, что мы крейсируем градусах в десяти к югу от мыса Доброй Надежды или под 45° южной широты. Я заключил об этом на основании подслушанных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, все же я решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии[26]. Возле этих берегов я рассчитывал найти и какой-нибудь подходящий для меня остров.
Ветер все время был западный, и в шесть часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток по крайней мере восемнадцать лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок.
Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в семь часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии.
Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым. Но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми. Я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимания туземцев. Три дня питался я устрицами и другими ракушками, желая сберечь подольше свой скудный запас провизии. К счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня.
На четвертый день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно в пятистах ярдах от себя я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они — мужчины, женщины и дети — были совершенно голы и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. Пятеро мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив женщин и детей у костра. Я со всех ног пустился наутек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я бегу, помчались за мной и, прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной. Как только я очутился за пределами досягаемости их стрел (день был очень тихий), я поспешил тщательно высосать рану, а затем кое-как перевязал ее.
Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной высадки я опасался. Поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидать ли его или нет. Но в конце концов моя ненависть к породе еху восторжествовала над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру. Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских еху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой.
Корабль подошел к этой бухточке на расстояние полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. Повидимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу.
Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости. Четверо из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и наконец нашли меня притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный и неуклюжий наряд: кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял (так как знаю этот язык) и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный еху, изгнанный из страны гуигнгнмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейца. Но они не могли понять, что я разумел под словами «еху» и «гуигнгнмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржанье, вызывала у них смех. Дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге. Но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинул лет пять тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной, как с врагом, тем более что я не хочу им никакого зла. Я просто бедный еху и ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни.
Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака или корова или в стране гуигнгнмов — еху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычайной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны и заявили, что их капитан, наверно, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину.
Двое матросов решили отправиться обратно на корабль уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжения. Меня же предупредили, что если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Им очень хотелось узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок.
Через два часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе. Но все было напрасно: матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана.
Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был. Через полчаса, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте.
После обеда дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание — оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним, как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных.
Я спросил его: разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь» и что, проживи я в Гуигнгнмии хотя бы тысячу лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет, однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне.
Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество еху.
Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать своей неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Бóльшую часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу еху. Я попросил у него только две чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно.
Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и, по настойчивой моей просьбе, поместил в самом верхнем этаже, в комнате, выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье. Но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку. Так как дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз впору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новы, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя.
Капитан не был женат и держал только трех слуг.
Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным, он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец ему удалось уговорить меня выглянуть в окошко, выходившее в сад позади дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу.
Через десять дней по моем приезде дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родину и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль, и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал. Но в собственном доме я могу делать, что хочу, и жить полным затворником.
В конце концов я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле, но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг двадцать фунтов. На прощанье он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года, около девяти часов утра, мы бросили якорь в Даунсе, и в три часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Редриф.
Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью. Они давно считали меня погибшим. Но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение.
Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей. Но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки, до сих пор я не могу позволить им брать меня за руку.
Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня. Я разговариваю с ними по крайней мере четыре часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень привязаны ко мне и дружны между собой.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Правдивость автора. Цели, которые он преследовал при опубликовании этого сочинения. Он порицает путешественников, отклоняющихся от истины. Автор доказывает отсутствие у него дурных намерений при создании этой книги. Ответ на одно возражение. Метод устройства колоний. Похвала родине. Бесспорное право короны на страны, описанные автором. Трудность завоевать их. Автор окончательно расстается с читателем. Он излагает планы своего образа жизни в будущем, дает добрые советы и заканчивает книгу.
Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся шестнадцать лет и свыше семи месяцев. В этом описании я заботился не столько о прикрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать самым простым слогом только одни факты. Моя цель — сообщить тебе много новых сведений, а совсем не позабавить тебя.
Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем главная цель путешественника — просвещать людей, воспитывать в них добродетель, совершенствовать их ум при помощи хороших и дурных примеров в жизни чужих стран.
От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, — безусловная истина. Тогда бы никто не вводил в обман доверчивую публику, как это делают некоторые писатели. Желая придать своим сочинениям побольше занимательности, они угощают читателя самыми грубыми вымыслами*.
В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий. Но, объехав с тех пор почти весь земной шар, я на основании собственных наблюдений убедился, сколько нелепых басен содержится в этих книгах, и проникся величайшим отвращением к такого рода чтению.
Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного ведения дневника, не могут особенно прославить их автора. Весьма вероятно также, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом сочинении, обнаружив мои ошибки и сделав много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Если бы я писал ради славы, это доставило бы мне большое огорчение, но так как моей единственной заботой является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование.
Признаюсь, что мне нашептывали, будто мой долг английского подданного обязывает меня сейчас же по возвращении на родину представить одному из министров докладную записку о моих открытиях, так как все земли, открытые подданным, принадлежат его королю.
Но я сомневаюсь, чтобы завоевание стран, о которых я говорю, далось нам так легко, как завоевание Фердинандом Кортесом* беззащитных американцев. Лилипуты, по моему мнению, едва ли стоят того, чтобы для покорения их снаряжать армию и флот. В то же время я не думаю, чтобы было благоразумно или безопасно произвести нападение на бробдингнежцев или чтобы английская армия хорошо себя чувствовала, когда над ней покажется Летучий остров. Правда, гуигнгнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне. Однако, будь я министром, я никогда не посоветовал бы нападать на них. Их благоразумие, единодушие, бесстрашие и любовь к отечеству с избытком возместили бы все их невежество в военном искусстве. Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы, превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих копыт.
Было бы гораздо лучше, если бы мы, вместо того чтобы питать воинственные замыслы против этого благородного народа, обратились бы к нему с просьбой прислать достаточное количество своих сограждан, которые возвысили бы цивилизацию Европы, научив нас соблюдать правила чести, справедливости, правдивости, воздержания, солидарности, мужества, дружбы, доброжелательства и верности. Имена этих добродетелей удержались еще в большинстве европейских языков, и их можно встретить как у современных, так и у древних писателей. Я могу это утверждать, хотя и не принадлежу к числу профессиональных ученых.
Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия овладению его величеством открытых мной стран. По правде говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например: буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении. Наконец юнга открывает с верхушки мачты землю. Пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбоем. Они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием. Дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве заложников, возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по божественному праву. При первой возможности туда посылают корабли. Туземцы либо изгоняются, либо истребляются, их вождей подвергают пыткам, чтобы принудить выдать свое золото. Всем предоставлена полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, предназначенную для насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников и обращения их в христианство.
Но это описание, разумеется, не имеет никакого отношения к британской нации. Эта нация может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний. Она неуклонно содействует преуспеянию религии и просвещения; она подбирает самых способных священников для распространения христианства; она чрезвычайно осмотрительно заселяет свои колонии добропорядочными и воздержанными на язык жителями метрополии; она подает прекрасный пример строжайшего уважения к справедливости, замещая административные должности во всех своих колониях чиновниками величайших дарований, совершенно чуждыми всякой порочности и продажности; и в довершение всего — она назначает бдительных и добродетельных губернаторов, которые горячо заботятся о благоденствии вверенного их управлению населения и строго блюдут честь своего государя.
Но так как населения описанных мной стран, повидимому, не имеют никакого желания быть завоеванными, обращенными в рабство, истребленными или изгнанными колонистами и так как сами эти страны не изобилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по моему скромному мнению, они весьма мало подходят для проявления нашего усердия и нашей доблести. Однако если те, кого это ближе касается, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, что ни один европеец не посещал этих стран до меня. Некоторые сомнения могут возникнуть лишь по отношению к двум еху, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в Гуигнгнмии и от которых, как гласит то же предание, произошел весь род этих гнусных скотов. Эти двое еху были, должно быть, англичане — так я склонен заключить на основании черт лица их потомства, хотя они и очень обезображены. Но насколько факт этот может быть подтвержден, предоставляю судить знатокам колониальных законов.
Что же касается формального захвата открытых стран от имени моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову. Впрочем, если бы я и подумал об этом, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил бы благоразумно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая.
Ответив, таким образом, на единственный упрек, который можно сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе. Там я буду наслаждаться воспоминаниями о блаженной стране гуигнгнмов, буду стараться просвещать еху, насколько эти животные вообще поддаются просвещению; буду почаще смотреть на свое отражение в зеркале и таким образом, если возможно, постепенно приучать себя выносить вид человека; буду сокрушаться о дикости гуигнгнмов на моей родине, но всегда относиться к их личности с уважением ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода гуигнгнмов, на которых наши лошади имеют честь походить по строению своего тела, значительно уступая им по своим умственным способностям.
С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной на дальнем конце длинного стола и отвечать (как можно короче) на мои вопросы. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я не теряю надежды, что через некоторое время я буду способен переносить общество еху-соседей и перестану страшиться их зубов и когтей.
Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом еху, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид стряпчего, карманного вора, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, предателя и им подобных: существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу, как животное, насквозь проникнутое всякими пороками и болезнями, прибавляет к ним еще гордость и высокомерие, терпение мое немедленно истощается. Я никогда не способен буду понять, как такое животное может притязать на гордость и высокомерие. У мудрых и добродетельных гуигнгнмов, одаренных всеми добродетелями, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этих пороков. Но благодаря моему большому опыту я ясно различал некоторые зачатки гордости и высокомерия среди диких еху.
Однако гуигнгнмы, живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня две руки; ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится одной из них. Я так долго останавливаюсь на этом предмете из желания сделать, по мере моих сил, общество английских еху более переносимым для меня. Поэтому я очень прошу лиц, в какой-нибудь степени запятнанных этими пороками гордости и высокомерия, не отваживаться попадаться мне на глаза.
КонецДЖОНАТАН СВИФТ И ЕГО РОМАН «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»
1
Великий английский писатель XVIII века Джонатан Свифт (1667 — 1745) завоевал мировую известность своим сатирическим романом «Путешествия Гулливера».
В этой гневной и страстной книге писатель жестоко высмеивает и бичует государственное устройство, общественные порядки и нравы современной ему буржуазно-дворянской Англии. Он обличает паразитизм и лицемерие господствующих классов, жестокость, своекорыстие и эгоизм богачей.
Многие страницы этой книги, направленные против буржуазии и дворянства старой Англии, не утратили своего сатирического значения и в наши дни.
Угнетение человека человеком, обнищание трудящихся, пагубная власть золота существовали, разумеется, не в одной только Англии. Поэтому сатира Свифта имела куда более широкое значение. Такой обличительной силы не достигал в то время никакой другой писатель. Об этом очень хорошо сказал А. М. Горький: «Джонатан Свифт — один на всю Европу, но буржуазия Европы считала, что его сатира бьет только Англию».
2
Выдумка Свифта и его изобретательность поистине неистощимы. В каких только переделках не побывал его Гулливер! Чего только не довелось повидать ему на своем веку! Но при всех обстоятельствах, комических или плачевных, он никогда не теряет рассудительности и хладнокровия — качеств, типичных для среднего англичанина XVIII века. Но порою спокойный, уравновешенный рассказ Гулливера расцвечивается блестками лукавого юмора, и тогда нам слышится насмешливый голос самого Свифта, который нет-нет, да и выглянет из-за спины своего бесхитростного героя. А иногда, не будучи в силах сдержать своего негодования, Свифт и вовсе забывает о Гулливере и превращается в сурового судью, превосходно владеющего таким оружием, как ядовитая ирония и злобный сарказм.
Почти на каждой странице «Путешествий Гулливера» скрыты иносказания и намеки на современные автору общественные отношения и события. Многие из этих намеков давно уже утратили свою остроту и злободневность. Действительный смысл отдельных глав и эпизодов мы можем теперь восстановить только с помощью исторических источников и комментариев. Но самое главное в книге Свифта сохранилось на века: жгучая ненависть к паразитам и тунеядцам всех мастей и рангов, уважение и любовь к честным труженикам, руками которых в мире созданы все материальные блага.
Непревзойденной осталась в «Путешествиях Гулливера» и сама приключенческая фабула, заставляющая читателей следить с напряженным вниманием за небывалыми похождениями героя и восхищаться пылкой фантазией автора.
Сочиняя свой роман, писатель использовал мотивы и образы народных сказок о карликах и великанах, о глупцах и обманщиках, а также широко распространенную в Англии XVIII века мемуарно-приключенческую литературу — книги о подлинных и мнимых путешествиях. И все это сделало произведение Свифта настолько интересным и занимательным, что сатирический философский роман, роман исключительно глубокомысленный и серьезный, стал вместе с тем одной из самых веселых, любимых и распространенных детских книг.
История литературы знает несколько бессмертных книг, которые, подобно «Путешествиям Гулливера», пережив свое время, попали в руки юных читателей и стали неотъемлемым достоянием любой детской библиотеки. Кроме романа Свифта, к таким книгам относятся: «Дон Кихот» Сервантеса, «Робинзон Крузо» Дефо, «Приключения барона Мюнхаузена» Бюргера и Распе, «Сказки» Андерсена, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу и некоторые другие замечательные произведения, входящие в сокровищницу мировой литературы.
Сокращенные переводы, переделки и пересказы «Путешествий Гулливера» для детей и юношества появлялись в разных странах еще в XVIII веке. И тогда и позже в детских изданиях «Путешествий Гулливера» мысли самого Свифта, как правило, опускались. Оставалась только развлекательная приключенческая канва.
В нашей стране классики мировой литературы издаются для детей и юношества иначе. В советских изданиях сохраняется не одна только фабула классического произведения, но и, по возможности, его идейное и художественное богатство. Сопроводительная статья и примечания помогают юным читателям уяснять трудные места и непонятные выражения, встречающиеся в тексте книги.
Этот принцип применен и в настоящем издании «Путешествий Гулливера».
Джонатан Свифт прожил долгую и трудную жизнь, полную испытаний и тревог, разочарований и горестей.
Отец писателя, молодой англичанин Джонатан Свифт, в поисках заработка переехал со своей женой из Англии в столицу Ирландии Дублин. Внезапная смерть унесла его в могилу за несколько месяцев до рождения сына, которого в память об отце назвали тоже Джонатаном. Мать осталась с ребенком без всяких средств к существованию.
Детство Свифта было безрадостным. Долгие годы ему пришлось терпеть нужду, существовать на скудные подачки богатых родственников. После окончания школы четырнадцатилетний Свифт поступил в Дублинский университет, где господствовали еще средневековые порядки и главным предметом было богословие.
Товарищи по университету позднее вспоминали, что уже в эти годы Свифт отличался остроумием и язвительностью, независимым и решительным характером. Из всех предметов, преподававшихся в университете, он интересовался больше всего поэзией и историей, а по главной дисциплине — богословию — получал оценку «небрежно».
В 1688 году Свифт, не успев окончить университет, уехал в Англию. Началась самостоятельная жизнь, полная лишений и борьбы за существование. После долгих хлопот Свифту удалось получить место секретаря у влиятельного вельможи, сэра Вильяма Темпля.
Вильям Темпль был раньше министром. Выйдя в отставку, он переселился в свое поместье Мур-Парк, разводил цветы, перечитывал древних классиков и радушно принимал именитых гостей, приезжавших к нему из Лондона. На досуге он занимался сочинительством и издавал свои литературные труды.
Гордому, неуживчивому Свифту было трудно привыкнуть к положению, среднему между секретарем и слугой, и он тяготился службой. Покинув своего «благодетеля», он снова уехал в Ирландию, надеясь найти менее унизительную службу. Когда эта попытка окончилась неудачей, Свифту пришлось опять вернуться к прежнему хозяину. Позднее Темпль оценил его способности и стал относиться к нему более внимательно. Он вел со Свифтом долгие беседы, рекомендовал ему книги из своей обширной библиотеки, знакомил со своими друзьями, доверял ответственные поручения.
В 1692 году Свифт защитил диссертацию на степень магистра, что дало ему право занять церковную должность. Но он предпочел остаться в Мур-Парке и с перерывами жил здесь вплоть до смерти Темпля в 1699 году, после чего нужда заставила его принять место священника в бедной ирландской деревушке Ларакоре.
Ирландия, куда судьба снова закинула Свифта, была в то время страной отсталой и бедной, целиком зависимой от Англии. Англичане сохраняли в ней видимость самоуправления, но фактически свели к нулю действие ирландских законов. Промышленность и торговля находились здесь в полном упадке, население облагалось непомерными податями и жило в нищете.
Пребывание в Ирландии не прошло для Свифта бесплодно. Он много ездил и ходил по стране, знакомился с ее нуждами и чаяниями и проникся сочувствием к угнетенному ирландскому народу.
Вместе с тем Свифт жадно ловил политические новости, шедшие из Англии, поддерживал связи с друзьями Темпля и при всяком удобном поводе отлучался в Лондон и подолгу там задерживался.
В XVIII веке Англия превратилась в самую могущественную капиталистическую державу в мире. В результате буржуазной революции, совершившейся в середине XVII века, в стране были подорваны основы феодальных порядков и открылись возможности для развития капитализма.
Буржуазия, добившись победы, пошла на сговор с дворянством, которое, в свою очередь, втягивалось в процесс капиталистического развития. Буржуазия и дворянство быстро нашли общий язык, потому что они боялись революционности народных масс.
В Англии расцветали промышленность и торговля. Купцы и предприниматели неслыханно богатели за счет ограбления народных масс и колониальных разбоев. Английские быстроходные корабли бороздили моря земного шара. Купцы и авантюристы проникали в малоисследованные земли, убивали и порабощали туземцев, «осваивали» природные богатства отдаленных стран, которые становились английскими колониями.
В Южной Америке, например, были найдены золотоносные реки, и целые толпы искателей легкой наживы устремлялись на добычу золота. В Африке оказались большие запасы драгоценной слоновой кости, и англичане снаряжали за ней целые караваны судов. В тропических странах при помощи дарового труда рабов и каторжан возделывались кофейные, сахарные и табачные плантации, добывались всевозможные пряности, ценившиеся в Европе чуть ли не на вес золота. Все эти товары, почти задаром достававшиеся ловким негоциантам, продавались на европейских рынках с пятидесятикратной, а то и стократной прибылью, превращая вчерашних уголовных преступников в могущественных миллионеров, а прожженных авантюристов нередко делая вельможами и министрами.
Упорно борясь с соседними государствами за первенство, англичане построили самый мощный по тем временам военный и торговый флот, победили в многочисленных войнах и вытеснили со своего пути другие страны, прежде всего Голландию и Испанию, и заняли первое место в мировой торговле.
Со всех концов света в Англию стекались несметные капиталы и сокровища. Превратив эти богатства в деньги, капиталисты построили множество мануфактурных производств, на которых с утра до ночи трудились тысячи рабочих — вчерашних крестьян, насильственно согнанных со своих земельных участков.
Добротные английские сукна и другие товары высоко ценились на европейских рынках. Английские предприниматели расширяли свои производства, а купцы увеличивали свои обороты. Буржуа и дворяне строили дворцы и утопали в роскоши, а основная масса населения жила в нищете и влачила полуголодное существование.
«Новорожденный капитал, — писал К. Маркс, — источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят»[27].
Эта мрачная, жестокая эпоха зарождения и развития английского капитализма вошла в историю под именем эпохи первоначального накопления.
В английской литературе все особенности этого исторического периода получили наиболее яркое отражение в сочинениях Джонатана Свифта и Даниэля Дефо, автора «Приключений Робинзона Крузо».
…Истекал первый год нового, XVIII века. Английский король Вильгельм III деятельно готовился к войне с Францией — единственной западноевропейской страной, которая могла тогда соперничать с могущественной Англией и оспаривать ее международное влияние. В самой Англии в то время достигла наибольшего напряжения борьба двух политических партий — тори и вигов. И те и другие стремились безраздельно господствовать в стране и руководить ее политикой.
Виги хотели ограничить королевскую власть, чтобы можно было беспрепятственно развивать промышленность и торговлю. Они требовали войны, чтобы расширить колониальные владения и упрочить господство Англии на морях. Тори всячески сопротивлялись капиталистическому развитию Англии, старались усилить власть короля и сохранить старинные привилегии дворянства. И те и другие были одинаково далеки от подлинных запросов и нужд народа и выражали интересы имущих классов.
Свифту были чужды требования и той и другой партии. Наблюдая ожесточенную борьбу тори и вигов, он сравнивает ее в одном из писем с дракой кошек и собак. Свифт мечтал о создании какой-то третьей, подлинно народной партии. Но эта задача в Англии XVIII века была неосуществимой.
Свифту приходилось выбирать между двумя уже существующими партиями. Тщетно пытался он найти в политических программах тори и вигов что-либо, что могло бы привлечь к ним его симпатии. Но без поддержки тех или других он, безвестный священник деревенского прихода, единственным оружием которого могло стать его острое перо, был не в силах выступить на политической арене, чтобы высказать свои подлинные убеждения. Личные связи с друзьями Темпля, занимавшими в это время видные посты в правительстве, привели Свифта в лагерь вигов.
Не подписывая своего имени, он выпустил несколько остроумных политических памфлетов, которые имели большой успех и оказали вигам поддержку. Виги старались разыскать своего неизвестного союзника, но Свифт до поры до времени предпочитал держаться в тени.
Он бродил по тесным лондонским улицам, прислушивался к разговорам прохожих, изучал настроения народа. Ежедневно, в один и тот же час, он появлялся в Бэттоновской кофейне, где собирались обычно лондонские литературные знаменитости. Свифт узнавал здесь последние политические новости и салонные сплетни, прислушивался к литературным спорам и молчал.
Но изредка этот никому не известный, угрюмый человек в черной сутане священника вмешивался в разговор и рассыпал мимоходом такие остроты и каламбуры, что посетители кофейни замолкали, чтобы не проронить ни одной его шутки, которые затем разносились по всему Лондону,
3
В 1704 году Свифт опубликовал анонимно замечательную книгу: «Сказка бочки, написанная для общего совершенствования человеческого рода».
«Сказка бочки» — английское народное выражение, имеющее смысл: говорить чепуху, молоть вздор. Следовательно, уже в самом заглавии содержится сатирическое противопоставление двух несовместимых понятий.
В этой книге Свифт беспощадно осмеивает различные виды человеческой глупости, к которым относит в первую очередь бесплодные религиозные споры, сочинения бездарных писателей и продажных критиков, лесть и угодничество перед влиятельными и сильными людьми и т. д. Для того чтобы избавить страну от засилья безнадежных глупцов, Свифт предлагает самым серьезным тоном произвести проверку обитателей Бедлама[28], где без сомнения можно найти немало светлых умов, достойных занять самые ответственные государственные, церковные и военные должности.
Но главная тема «Сказки бочки» — резкая сатира на религию и на все три наиболее распространенные в Англии религиозные направления: англиканскую, католическую и протестантскую церкви. Свифт изображает соперничество этих церквей в образах трех братьев: Мартина (англиканская церковь), Петра (католицизм) и Джека (протестантизм), которые получили в наследство от своего отца (христианская религия) по кафтану. Отец в своем завещании строго-настрого запретил сыновьям производить какие-либо переделки в этих кафтанах. Но спустя короткое время, когда кафтаны вышли из моды, братья начали их переделывать на новый лад: нашивать галуны, украшать лентами и аксельбантами, удлинять или укорачивать и т. д. Сначала они пытались оправдать свои действия, перетолковывая текст завещания, а затем, когда дело зашло уже чересчур далеко, братья заперли отцовское завещание в «долгий ящик» и начали между собой ссориться. Петр оказался самым хитрым и ловким. Он научился надувать легковерных людей, разбогател и так раздулся от спеси, что вскоре рехнулся и напялил на себя сразу три шляпы, одну поверх другой (намек на тиару — тройная корона папы римского).
Свифт хочет доказать этой сатирой, что любая религия изменяется со временем, подобно тому, как меняется мода на платье. Поэтому не следует придавать значения религиозным обрядам и церковным догматам: они кажутся людям правильными лишь в определенный период, а затем устаревают и заменяются новыми.
Религия, по мнению Свифта, — это лишь удобная внешняя оболочка, за которой скрываются всяческие преступления и прячутся любые пороки.
На первый взгляд Свифт осмеивает только церковные распри своего времени, но в действительности он идет дальше: разоблачает религию и неизбежно связанные с ней предрассудки и суеверия. Это понимали уже и современники Свифта. Знаменитый французский писатель и философ Вольтер тонко подметил антирелигиозный смысл свифтовской сатиры: «Свифт, — писал он, — высмеял в своей «Сказке бочки» католичество, лютеранство и кальвинизм[29]. Он ссылается на то, что не коснулся христианства, он уверяет, что был исполнен почтения к отцу, хотя попотчевал его трех сыновей сотней розог; но недоверчивые люди нашли, что розги были настолько длинны, что задевали и отца».
Понятно, английское духовенство не могло простить автору «Сказки бочки» нанесенной им обиды. Священнику Свифту нельзя уже было рассчитывать на церковную карьеру.
«Сказка бочки» после своего появления произвела настоящую сенсацию и за один год выдержала три издания.
Книгу покупали нарасхват и старались угадать, кто из известных писателей может быть ее автором? В конце концов Свифт признался, что и «Сказку бочки» и ряд других, ранее изданных анонимных памфлетов написал он. После этого Свифт вошел на правах равного в узкий круг виднейших литераторов, художников и государственных деятелей Англии и заслужил славу самого талантливого писателя и самого остроумного человека своего времени.
Теперь у Свифта началась странная двойная жизнь. Будучи в Ирландии, он оставался скромным настоятелем бедного деревенского прихода. Попадая в Лондон, он превращался в знаменитого писателя, к голосу которого почтительно прислушивались не только литераторы, но и министры.
4
Время от времени Свифт позволял себе такие чудачества и шутки, которые сначала приводили в замешательство, а потом заставляли покатываться от хохота весь Лондон. Такова, например, была известная проделка Свифта с астрологом Джоном Партриджем, который регулярно выпускал календари с предсказаниями на будущий год. Свифт не любил шарлатанов и решил хорошенько проучить этого мнимого ясновидца, разбогатевшего за счет народного невежества.
В начале 1708 года на лондонских улицах появилась брошюра «Предсказания на 1708 год» за подписью некоего Исаака Бикерстафа. «Мое первое предсказание, — пророчил Бикерстаф, — относится к Партриджу, составителю календарей. Я исследовал его гороскоп своим собственным методом и нашел, что он обязательно умрет 29 марта сего года, около одиннадцати часов вечера, от горячки. Я советую ему подумать об этом и своевременно урегулировать все свои дела».
Через несколько дней появилась новая брошюра — «Ответ Бикерстафу», в которой прозрачно намекалось, что под этим именем укрылся прославленный писатель Джонатан Свифт. Читателям предлагалось внимательно следить за тем, что будет дальше. Лондон насторожился…
И вот наступило долгожданное 29 марта.
Уже на следующий день мальчишки бойко распродавали листовку «Отчет о смерти мистера Партриджа, автора календарей, последовавшей 29-го сего месяца». Здесь сообщалось с протокольной точностью о том, как Партридж заболел 26 марта, как ему становилось все хуже и хуже и как он признался затем, когда почувствовал приближение смерти, что его «профессия» астролога основывалась на грубом обмане народа. В заключение сообщалось, что Партридж умер не в одиннадцать, как было предсказано, а в пять минут восьмого: Бикерстаф допустил ошибку на четыре часа.
Почтенный мистер Партридж бегал по улицам, ловил мальчишек, продававших «отчет» о его смерти, уверял, что он жив и здоров, что он и есть тот самый Партридж, что он вовсе и не думал умирать… «Отчет» был составлен настолько деловито и правдоподобно, что к Партриджу один за другим явились: гробовщик — снять мерку с его тела, обойщик — обтянуть комнату черным крепом, пономарь — отпеть покойника, лекарь — омыть его. Цех книгопродавцев, к которому принадлежал Партридж, поспешил вычеркнуть его имя из своих списков, а португальская инквизиция в далеком Лиссабоне предала сожжению брошюру «Предсказания Бикерстафа» на том основании, что эти предсказания сбылись и, следовательно, их автор связан с нечистой силой.
Но Свифт не остановился на этом. Великолепно владея сатирическим стихом, он написал «Элегию на смерть Партриджа». Тысячи экземпляров этой «элегии» были раскуплены за несколько часов.
Тем временем глупый Партридж решил выпустить новый календарь с предсказаниями на 1709 год. Разоблачая «обманщика» и «мошенника» Бикерстафа, астролог сообщает, что он попрежнему здравствует и неопровержимым доказательством его бытия служит только что вышедший календарь.
А Свифту только этого и надо было. В заключение всей этой небывалой комедии появилась еще одна брошюрка — «Опровержение Исаака Бикерстафа». Автор брошюры уверял читателей, что Партриджа после 29 марта не существует, ибо ни один живой человек не написал бы такой чепухи, которая содержится в календаре на 1709 год. Быть может, мистер Партридж воскрес? Но этот факт Исааку Бикерстафу неизвестен, и он за него не отвечает.
Имя Исаака Бикерстафа стало после этого настолько популярным, что дружившие со Свифтом писатели Стиль и Аддисон решили ввести этого чудаковатого героя на правах автора в издававшиеся ими морально-сатирические журналы. Самые острые и злободневные статьи, написанные Стилем и Аддисоном, а иногда и самим Свифтом, подписывались в журналах именем Исаака Бикерстафа; и таким образом существование этого придуманного Свифтом персонажа продолжалось и после того, как он блестяще исполнил свою роль разоблачителя обманщика Партриджа.
5
Шли годы. Король Вильгельм III умер. К власти пришла королева Анна. Уже в течение нескольких лет велась война с Францией, известная в истории как «Война за испанское наследство» (1702 — 1713). Поводом для этой войны послужило намерение французского короля Людовика XIV посадить на испанский престол, освободившийся после смерти бездетного испанского короля Карла II, своего внука Филиппа Анжуйского. Фактически это было бы равносильно присоединению к Франции великой европейской державы с итальянскими и нидерландскими владениями и обширными колониями в Америке и Африке. Такое непомерное усиление могущества Франции нанесло бы непоправимый ущерб господству Англии на море и в колониях. Чтобы помешать Людовику XIV осуществить свое намерение, Англия выступила против Франции в союзе с Голландией и Австрией. Французская армия потерпела поражение. Людовик XIV отказался от своих требований и был готов принять любые условия. Все ждали с нетерпением окончания многолетней войны. Но английский главнокомандующий герцог Мальборо (тот самый «Мальбрук», о котором в народе сложили известную сатирическую песенку о том, как он «в поход собрался») искусственно затягивал развязку, потому что он и окружающие его вельможи неслыханно богатели на военных поставках и субсидиях.
За эти годы в положении Свифта внешне ничего не изменилось. Будучи попрежнему деревенским священником, большую часть времени он проводил в Лондоне. Острое перо Свифта выдвинуло его в центр политической жизни. Вожди партий и министры заискивали перед ним, приглашали во дворцы, устраивали в его честь роскошные приемы. Свифт не извлекал из своего положения никаких выгод, но зато охотно оказывал помощь другим. По его совету замещались государственные должности, благодаря его влиянию недостойные занимать высокие посты лишались своих чинов, его суждения о людях принимались как приговоры.
Затянувшаяся война несла бедствия и разорение народу. В ее продолжении была заинтересована лишь небольшая кучка предпринимателей и банкиров — сторонников вигов. Свифт выступил против вигов и примкнул к тори, но не потому, что разделял их политические убеждения, а оттого, что их агитация против войны совпадала в этот период с интересами народа.
Свифт написал десятки памфлетов, в которых разоблачал злоупотребления отдельных вельмож из партии вигов, и в первую очередь жадного герцога Мальборо, заинтересованного в продолжении войны. Агитация Свифта нашла горячий отклик в народе.
Вскоре к власти пришли тори, а в 1713 году, не без прямого воздействия Свифта, был заключен мирный договор с Францией. После этого популярность и влияние Свифта настолько возросли, что его стали называть «министром без портфеля».
Теперь уже казалось неудобным оставлять Свифта священником деревенского прихода в Ирландии. Друзья уверяли его, что он будет возведен по меньшей мере в сан епископа. Но королева Анна и высокопоставленные церковники не могли простить гениальному сатирику его знаменитой «Сказки бочки» и многих других сочинений, где жестоко осмеивались религиозные распри того времени и прямо или косвенно задевалось достоинство королевской особы и сановников церкви. После долгих колебаний королева решила предоставить Свифту место декана (настоятеля) Дублинского собора, что было равносильно почетной ссылке.
В 1714 году королева Анна неожиданно умерла; на престол вступил новый король — Георг I. В связи с наметившейся переменой в политике, усилились раздоры между министрами — графом Оксфордским и Болинброком. И тот и другой в конце концов были обвинены в государственной измене и подверглись судебным преследованиям.
Свифт видел, как одни короли сменялись другими, как министры устраивали заговоры, интриговали друг против друга, слетали со своих постов и замещались новыми, а положение народа оставалось таким же тяжелым и безотрадным. Сознавая, что его влияние на отдельных членов правительства, как бы оно ни было значительно, не в силах изменить общей политики государства, Свифт решил навсегда покинуть Англию. Приняв новое назначение, он переселился в Дублин.
6
С 1715 по 1723 год Свифт почти безвыездно находился в Дублине, пережил много личных неудач и огорчений. В 1724 году, на пятьдесят восьмом году жизни, он снова оказался в центре политической борьбы. На этот раз Свифт обратил всю силу своего таланта на защиту ирландского народа, с которым он еще более сблизился за эти годы.
Поводом для новых выступлений Свифта на политической арене послужил следующий случай. Одна придворная дама — герцогиня Кендаль — переуступила откуп на чеканку разменной монеты для Ирландии предпринимателю Вуду. Желая извлечь из этого дела возможно большие барыши, Вуд чеканил и наводнял Ирландию настолько неполноценной монетой, что ирландцы отказывались ее принимать и открыто выражали свое возмущение.
Свифт обрушился на Вуда и на английское правительство серией памфлетов под названием «Письма суконщика». В простых и убедительных выражениях, доходивших до сердца каждого ирландского труженика, якобы от имени скромного дублинского торговца-суконщика, он описал ужасающую бедность и нищету ирландцев, напоминал о том, что в их стране существуют свои законы и никому не дано прав посягать на их старинные вольности. Он призывал ирландцев к решительной борьбе за свои человеческие права и достоинство, отнятые у них англичанами. «Средство находится в ваших руках… вы являетесь и должны быть таким же свободным народом, как ваши братья в Англии», — внушал Свифт ирландцам. Начав с разоблачения беззастенчивого наживалы Вуда, он кончил призывом к восстанию против английского владычества.
«Письма суконщика» достигли своей цели. Английское правительство вынуждено было изъять из обращения недоброкачественную монету Вуда, хотя и потерпело от этого урон. «Письма суконщика» получили такое распространение, что каждый ирландский житель не только помнил их наизусть, но и знал, кто является их автором. Об этом было известно и английскому правительству. Премьер-министр Уолполь распорядился арестовать Свифта. На это требование он получил от английского наместника в Ирландии такой ответ: «Чтобы арестовать Свифта, нужно десять тысяч солдат». Дело пришлось замять.
Замкнутый и суровый декан Дублинского собора сделался любимцем ирландского народа. Был создан специальный отряд для его охраны, днем и ночью дежуривший у дома Свифта. В его честь в Дублине был основан «Клуб суконщика».
Когда в 1726 году Свифт вернулся из поездки в Англию, все население Дублина вышло ему навстречу, и его приезд был отмечен колокольным звоном. В народе возникла легенда, будто Свифт — потомок древних ирландских королей, во времена которых Ирландия была могущественной и вольной…
«Письма суконщика» пробудили дух сопротивления и вдохновляли ирландцев и в последующие времена на борьбу за свою национальную независимость и свободу. Имя Свифта вписано золотыми буквами в историю национально-освободительной борьбы ирландского народа.
…Последние годы жизни прошли у Свифта в беспрерывной борьбе с тяжелым и мучительным недугом. Участились головокружения и головные боли, мучившие его еще с юных лет. Под конец жизни он сделался особенно угрюмым и замкнутым, проводил свои дни в полном одиночестве, не допуская к себе даже самых близких людей. Он стал рассеян и забывчив. Его память ослабела настолько, что он даже не мог читать. Однажды во время прогулки, глядя на вершину засыхающего вяза, Свифт сказал своему спутнику: «Так же вот и я начну умирать — с головы».
Свифт скончался в 1745 году, в семидесятивосьмилетнем возрасте. Согласно оставленному им завещанию, он был похоронен в Дублинском соборе. На его надгробной плите была выгравирована им самим составленная надпись: «Здесь покоится тело Джонатана Свифта, декана этой кафедральной церкви, и суровое негодование уже не раздирает здесь его сердце. Пройди, путник, и подражай, если можешь, ревностному поборнику могущественной свободы».
7
Джонатан Свифт отличался необыкновенной скрытностью. Даже лучших друзей он не посвящал в тайны своей душевной жизни и творчества. В его биографии до сих пор много загадочного и неясного.
Особой таинственностью он окружил создание главного труда своей жизни — романа, над которым работал более шести лет — «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей». Как и все другие произведения Свифта, эта книга вышла анонимно. Даже издатель, получивший в 1726 году от «неизвестного лица» рукопись романа, не знал, кто его автор.
«Гулливер» увлек читателей прежде всего своим необычайным сюжетом, удивительно точными, продуманными описаниями впечатлений героя от его пребывания у лилипутов и великанов, лапутян и гуигнгнмов. Многие воспринимали «Гулливера» как забавную, смешную сказку и не догадывались о том, что в этой фантастической истории содержится глубочайший смысл, скрыта беспощадная сатира на английские порядки, законы, нравы и политику.
Созданные Свифтом уже на склоне лет, «Путешествия Гулливера» явились плодом долголетних раздумий писателя над современной ему жизнью.
Причудливая фантастика начинается с первых же страниц романа, когда Гулливер после кораблекрушения попадает в плен к шестидюймовым человечкам.
О заведомо неправдоподобных вещах Свифт повествует таким невозмутимо-спокойным, правдивым тоном, как будто речь идет о самых обыкновенных явлениях, на каждом шагу встречающихся в жизни. При этом рассказы Гулливера кажутся настолько обоснованными и убедительными, что мы невольно начинаем видеть перед собой этих маленьких человечков и всю окружающую их обстановку столь же отчетливо, как и сам Гулливер.
Иллюзия достоверности достигается точнейшим соблюдением пропорций и размеров, тщательными арифметическими подсчетами и обильными фактическими сведениями. Так, например, в описании Лилипутии Свифт исходит из предпосылки, что рост лилипутов в двенадцать раз меньше роста Гулливера, а потому меры поверхностей у них примерно в 150 раз (12x12), а объема — приблизительно в 1700 раз (12x12x12) меньше наших. Отсюда — много забавных эпизодов и недоразумений. Автор подробно рассказывает, какого неимоверного труда стоило лилипутским портным изготовить для Гулливера новый костюм, сколько материи на него пошло, как дорого обходилось его содержание, если одним его обедом могли насытиться почти 2000 лилипутов, как трудно было найти для него подходящее жилище и т. д.
В то же время каждая черточка и каждый штрих в «Путешествиях Гулливера» содержат всевозможные иносказания и намеки, заставляющие находить много общего между сказочной Лилипутией и Англией времен Свифта. Общественные события и человеческие взаимоотношения, которые в действительности казались людям значительными и даже грандиозными, неожиданно предстают уменьшенными до микроскопических размеров и благодаря этому становятся ничтожными и смешными.
Гулливер замечает, что у лилипутов существуют почти такие же обычаи и нравы, как и на его родине. Эти жалкие пигмеи, оказывается, страдают манией величия, тщеславием и себялюбием, больше всего ценят богатство, чины и знаки отличия, считают своего крохотного короля самым могущественным монархом в мире, ссорятся, сплетничают, интригуют, ведут междоусобные войны.
Сходство распространяется и дальше. Враждующие политические партии лилипутов — высококаблучников и низкокаблучников — разительно напоминают английских тори и вигов, а секты остроконечников и тупоконечников, не могущих прийти к окончательному решению, с какого конца следует разбивать яйца, дают сатирическое изображение религиозных споров того времени. Враждебное государство Блефуску, отделенное от Лилипутии узким проливом, — это, конечно, Франция, с которой Англия вела длительную войну. Министр финансов у лилипутов Флимнап, умеющий искуснее других придворных плясать на натянутом канате и прыгать через палку, подставленную ему императором, многими чертами походит на английского премьер-министра Уолполя, а лилипутский монарх — скупой, подозрительный и трусливый — имеет несомненное сходство с королем Георгом I.
Из этих примеров ясно, что любой эпизод «Путешествий Гулливера» содержит намеки на современные Свифту общественные отношения и политическую жизнь.
Во второй части романа, где описываются приключения Гулливера в стране великанов, Свифт обличает уже не отдельные недостатки политической и общественной жизни Англии и не отдельных правителей, а всю систему управления и государственного устройства в целом. Гулливер, сам превратившись теперь в жалкого лилипута, терпит в этом гигантском мире множество неприятностей и злоключений.
Центральное место во второй части «Путешествий» занимает беседа Гулливера с королем великанов, которому Гулливер подробно рассказывает об английских законах и обычаях. Королю великанов человеческая жизнь кажется такой же жалкой, какой Гулливеру казалась жизнь лилипутов.
Устами этого разумного, просвещенного монарха Свифт обличает продажность и своекорыстие государственных и политических деятелей; английские избирательные законы, оставляющие широкий простор для подкупа избирателей и всяческих злоупотреблений; порочное, по его мнению, устройство английского парламента, при котором члены верхней палаты пополняются не путем свободного избрания, а в порядке наследования; судебную волокиту и крючкотворство; кровопролитные войны, ложащиеся тяжелым бременем на страну; методы воспитания и обучения молодежи, всемерно способствующие развитию эгоистических наклонностей и дурных нравов, и т. д.
Те же самые мысли, в еще более резкой форме, мы находим и в третьей части романа, где описываются путешествия Гулливера в различные вымышленные страны: Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб, а также в Японию. Находясь в Бальнибарби, Гулливер встречается с местными философами, которые мечтают об общественных преобразованиях согласно законам справедливости и разума. «Эти несчастные, — сообщает Гулливер, — изыскивали способы убедить монархов выбирать фаворитов среди умных, способных и добродетельных людей, научить министров заботиться об общем благе, награждать только тех, кто оказал обществу выдающиеся услуги; внушить монархам, что их подлинные интересы совпадают с интересами народа и поручать должности следует достойным лицам».
Иронически перечисляя несбыточные планы этих мечтателей, Свифт высказывает между строк свои собственные положительные взгляды на устройство человеческой жизни и государства. Он хочет, чтобы граждане принуждались к исполнению обязанностей перед обществом не страхом и насилием, а чувством высокой сознательности и ответственности по отношению к своим ближним.
Он мечтает о том, чтобы достоинства человека измерялись не его богатствами и титулами, а его умом и душевными качествами, той реальной пользой, какую он приносит людям своей деятельностью.
Изобличая на протяжении всей книги различные проявления деспотизма и насилия, Свифт с восхищением отзывается о героях республиканского Рима, тени которых поочередно проходят перед Гулливером. «Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и попранные права угнетенных народов». Трудовой народ — люди, создающие новые материальные ценности и жизненные блага, заслуживают, по мнению Свифта, глубочайшего уважения: «Всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе».
Однако, несмотря на то что Свифт стоял выше и видел дальше своих современников, он не мог дать определенного ответа, как уничтожить царящее в мире зло и улучшить общественные нравы. В этом состояла его трагедия и этим объясняется, почему его сатира становится порою такой жестокой и мрачной.
В народных горестях и несчастьях он обвиняет своекорыстных властителей, царедворцев и алчных богачей, которые ведут паразитическое существование, пожиная плоды, созданные руками трудящихся. «На каждого богача приходится более тысячи бедных. Можно прямо сказать, что огромное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование». Устами Гулливера Свифт советует «не доверяться монархам и министрам, если есть возможность обойтись без их помощи».
С издевательским остроумием Свифт описывает ученых Великой академии в Лагадо — пустых фантазеров, занимающихся разработкой абсурдных проектов: изготовлением пряжи из паутины, пережиганием льда в порох, извлечением солнечной энергии из огурцов, сооружением домов, начиная не с фундамента, а с крыши, и т. д. В научных работах в ту пору действительно встречалось немало пережитков средневековой схоластической премудрости. Свифт, как один из образованнейших людей своего времени, выступал, конечно, не против науки вообще, а против такой науки, которая не приносит никакой практической пользы, оторвана от запросов времени и жизни. Свифт ненавидел ученых, спекулирующих своими знаниями в целях личного обогащения и грубого надувательства народа.
Джонатан Свифт высмеивал не только средневековых ученых, паразитизм дворянства и духовенства, раболепие придворных перед монархами, схоластическую лженауку, но и сложившиеся уже буржуазные отношения, которые несли народу новые формы эксплуатации, новые лишения, страдания и бедствия. Особенно возмущала Свифта бесчестная погоня за наживой, стремление дельцов извлекать деньги из всех возможностей, которые открывали им колониальные грабежи, промышленность и торговля.
Описывая академию прожектёров в Лагадо, Свифт сообщает, что «академики» предлагали десятки способов «осчастливить» человечество. «Жаль только, — добавляет автор, — что ни один из этих проектов еще не доведен до конца, а пока что страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома разваливаются и население голодает и ходит в лохмотьях».
В четвертой части романа герой попадает в фантастическое государство гуигнгнмов. Описывая пребывание Гулливера в стране лошадей, разочарованный и усталый Свифт дает полную волю своему злому остроумию, старается доказать соотечественникам, что их жизнь устроена бесчеловечно и безобразно, несправедливо и жестоко.
Грязные и жадные двуногие звери еху всё больше и больше начинают напоминать Гулливеру его «цивилизованных» соотечественников; и, наоборот, безобидные лошади кажутся ему гораздо более «человечными» и добрыми, чем люди, потому что на их языке даже не существует такого понятия, как «обман». Гулливер приходит к выводу, что человечество в корне испорчено, что люди теряют человеческий облик и превращаются в отвратительных еху.
Буржуазные критики, не видящие в гневной и горькой сатире Свифта ничего, кроме сплошного отрицания всех основ человеческой жизни, в один голос называют Свифта человеконенавистником и пытаются объяснить это мнимое человеконенавистничество дурным характером писателя. Клевета на великого сатирика распространяется в интересах господствующих классов, которым невыгодно видеть, что при всей резкости и мрачности сатира Свифта заключает в себе жизнеутверждающую основу, ибо он не теряет надежды, что «разум в конце концов возобладает над грубой силой».
Свифт отрицал настоящее со всем его произволом и жестокостью во имя лучшего будущего, которое преобразует и исправит мир. Хотя образ этого далекого будущего рисовался Свифту в туманных, неясных очертаниях, оно тем не менее не было похоже на уже сложившееся в его время буржуазное общество, пороки которого он обличает с такой же беспощадностью, как и пережитки средневекового прошлого. Но Свифт еще не понимал, что моральное совершенствование человеческого рода, которое он считал необходимым условием для достижения своих идеалов, немыслимо при сохранении существующего строя, основанного на эксплуатации человека человеком.
«Чтоб сатира была действительно сатирою и достигала своей цели, — писал великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин, — надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало»[30].
Читая Свифта, мы всегда чувствуем общественные и нравственные идеалы писателя, прямо противоположные всему тому, что он беспощадно высмеивает и решительно отвергает. Сатира Свифта бьет безошибочно по намеченной цели, и эта цель видна читателю так же ясно, как и самому автору. Свифт удивительно последователен и логичен в своих рассуждениях и выводах. Все его иносказания и намеки легко расшифровываются и предстают в виде вполне определенных, конкретных явлений общественной и политической жизни Англии XVIII века. «Путешествия Гулливера» — одно из самых замечательных сатирических произведений мировой литературы.
Джонатан Свифт, блестящий сатирик, безбоязненно обнаживший все пороки современной ему Англии, «ревностный поборник могущественной свободы», разума и справедливости, и сегодня близок передовому человечеству. Его гневная и страстная книга продолжает и сейчас будить в сердцах миллионов читателей благородное негодование против угнетения народа, насилия и зла.
Е. БрандисКОММЕНТАРИИ
К ЧАСТИ ПЕРВОЙ
Глава I
Стр. 9.Вандименова Земля — прежнее название острова Тасмания, расположенного к юго-востоку от Австралии.
Глава II
Стр. 26. «…движения грациозные, осанка величественная». — По замыслу автора, король Лилипутии должен был напоминать английского короля Георга I, находившегося у власти с 1714 по 1727 год. Из осторожности Свифт не решился придать лилипутскому королю портретного сходства с некрасивым и низкорослым Георгом, но зато распространил сходство на некоторые черты характера последнего. Подобно Георгу I, лилипутский король отличался большой скупостью и почти не вмешивался в дела правления, фактически передоверив заботы о государстве своим министрам.
Стр. 26.«…ему двадцать восемь лет и девять месяцев». — Свифт хочет подчеркнуть этим, что жизнь лилипутов менее продолжительна, чем жизнь обычного человека.
Стр. 26. «…юбка, вышитая золотом и серебром». — Намек на современные Свифту моды. Одежды аристократок начала XVIII века отличались необыкновенной пышностью, были расшиты золотыми и серебряными шнурами, унизаны драгоценными каменьями. Одно такое платье нередко стоило целого состояния.
Стр. 32. «…и составили подробную опись всему, что нашли». — Здесь осмеивается деятельность тайного комитета, учрежденного главным министром Георга I Робертом Уолполем для борьбы с якобитами, то-есть сторонниками свержения Георга I и возведения на престол «претендента» — сына Якова II Стюарта, короля, изгнанного из Англии во время революции 1688 года. Свифт с большим искусством описывает обыск Гулливера подозрительными, невежественными чиновниками, которые даже не сумели понять назначения найденных ими предметов, но зато обстоятельно их описали в своем протоколе.
Глава III
Стр. 40. «…Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки». — Под именем Флимнапа выводится ненавистный Свифту премьер-министр Роберт Уолполь, стоявший с 1721 года во главе министерства вигов (о тори и вигах см. в послесловии). Политическую деятельность Уолполя Свифт уподобляет ловким прыжкам канатного плясуна.
Стр. 42. «…красная дается второму по ловкости, а зеленая — третьему». — Синяя, красная, зеленая нити — цвета английских орденов Подвязки, Бани и святого Андрея.
Стр. 46. «…в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире». — Колосс Родосский — медная статуя высотой в 72 метра, стоявшая у входа в гавань города Родосе. По преданию, широко расставленные ноги этой статуи служили воротами для прохода кораблей.
Стр. 51. «…снаряжается для нападения на нас». — Отношения между Лилипутией и Блефуску разительно напоминают Англию и Францию периода войны за испанское наследство (1702 — 1713). Чтобы намеки не были столь очевидными, Свифт располагает Лилипутию на континенте, а Блефуску — на острове.
Глава IV
Стр. 58. «…Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких». — Под партиями Тремексенов и Слемексенов Свифт подразумевает враждующие партии тори и вигов. Говоря о том, что борьба партий сводилась к борьбе за высокие или низкие каблуки, он показывает тем самым, что разногласия между этими партиями были не столь существенны и не затрагивали основных вопросов государственной жизни. Пристрастие императора лилипутов к низким каблукам — намек на принадлежность к партии вигов Георга I, изгнавшего после своего вступления на престол всех тори из правительственных учреждений.
Стр. 59. «…его высочество немного прихрамывает». — Намек на принца Уэльского, впоследствии короля Георга II (1727 — 1760), который долгое время не мог решить, какой партии отдать предпочтение, и приглашал к себе во дворец как вигов, так и тори.
Стр. 60. «…разбивать яйца с острого конца». — Партии тупоконечников и остроконечников — сатирическое изображение религиозного раскола, разделившего христианскую церковь на католическую и протестантскую. В XVI веке, когда появилось протестантское, или реформационное, движение, борьба протестантов с католиками по религиозным вопросам в действительности была борьбой против стремления папы римского и католической церкви вмешиваться во все области государственной и хозяйственной жизни. Позднее, когда религиозные войны, вызванные протестантами, закончились и почти во всех странах произошли экономические и общественные преобразования, способствовавшие ликвидации феодализма, споры между католиками и протестантами свелись к узкорелигиозным разногласиям, которые были, по мнению Свифта, столь же несущественны, как разногласия остроконечников и тупоконечников. (Более подробно Свифт выражает свое отношение к религиозным вопросам в книге «Сказка бочки»[о ней см. в послесловии].)
Стр. 60. «…и укрывали их участников в своих владениях». — Под монархом, потерявшим жизнь, подразумевается король Карл I, казненный во время английской буржуазной революции по приговору особого трибунала за измену родине (1649 год). Монарх, потерявший корону, — король Яков II, бежавший во Францию в результате государственного переворота — так называемой «Славкой революции» 1688 года. Французский король Людовик XIV (1643 — 1715), которого во многом напоминает монарх Блефуску, готовясь к войне с Англией, действительно оказывал покровительство английским политическим эмигрантам, особенно якобитам, так как считал Якова II законным английским королем.
Стр. 61. Алкоран, или Коран — священная книга магометан, содержащая всевозможные легенды, изложение религии, правила поведения и т. д.
Стр. 67. «…личное дело каждого верующего». — В этих словах выражено отношение самого Свифта к религиозным разногласиям.
Глава V
Стр. 66. «…полновластным владыкой вселенной». — В войне за испанское наследство английский главнокомандующий герцог Мальборо (Черчилль) одержал во Франции ряд решительных побед, которые могли бы, как утверждают историки, при дальнейшем нажиме привести к полному покорению Франции. Однако тяготы, вызванные затянувшейся войной, были настолько нестерпимы и возмущение народных масс достигло такой степени, что министерство вигов, стоявшее за продолжение войны, было вынуждено в 1710 году уйти в отставку. Новое министерство тори во главе с лордом Болинброком отозвало Мальборо из Франции и поспешило с заключением мира. Здесь и в дальнейшем Гулливер во многом начинает походить на Болинброка.
Стр. 68. «…Совесть моя была совершенно чиста перед императором». — Здесь усматривают намек на обвинение Болинброка, возведенное на него Уолполем, в установлении секретных переговоров с французским правительством, когда Англия еще находилась с Францией в состоянии войны. Спасаясь от преследований, Болинброк бежал во Францию и провел долгие годы в изгнании.
Глава VI
Стр. 72. «…она готова скорее награждать, чем карать». — В Англии во многих судебных учреждениях находится изображение греческой богини правосудия Фемиды. Фемиду обычно изображают с повязкой на глазах, держащей в руках обнаженный меч и весы справедливости. Образ бдительного и зоркого правосудия у лилипутов иронически противопоставляется слепой Фемиде.
Глава VII
Стр. 83. «…секретные совещания специальных комиссий совета». — Имеется в виду учрежденный 15 апреля 1715 года, под председательством Уолполя, тайный комитет «для расследования вопросов, касающихся заключения мира (Утрехтского) и деятельности бывшего министерства королевы». Этот комитет подтвердил обвинение в государственной измене, предъявленное министрам Болинброку и графу Оксфордскому.
Стр. 87. «…Там было еще много других, менее существенных». — В обвинительном акте осмеивается стиль юридических документов, а также недостаточно обоснованные, по мнению Свифта, обвинения Болинброка в измене.
Стр. 91. «…тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва». — В 1715 году сторонниками свергнутой династии Стюартов было поднято восстание в пользу претендента на престол Якова III. После подавления восстания и последовавших затем многочисленных казней правительство возвестило в особой прокламации о милосердии короля.
Стр. 93. «…где население уже давно ожидало меня». — Новый намек на Болинброка и заранее подготовленное бегство его во Францию (1715 год), которое впоследствии Болинброк пытался оправдать теми же обстоятельствами, что и Гулливер: дальнейшее пребывание в Англии было бы для него равносильно добровольному ожиданию казни.
Глава VIII
Стр. 97. «…от столь невыносимого бремени». — Политические интриги и деятельность Болинброка во Франции тревожили не только английское министерство, но причиняли большое беспокойство Людовику XIV и его двору, так как вызывали излишние осложнения в отношениях обоих правительств.
Стр. 103. «…благодаря своей необыкновенно тонкой шерсти». — Иронический намек на английское законодательство, которое всячески покровительствовало английской шерстяной промышленности и препятствовало вывозу ирландской шерсти, что фактически уничтожило производство шерсти в Ирландии и самым губительным образом сказалось на экономике страны и благосостоянии населения. В ряде своих сочинений Свифт протестует против такой политики.
К ЧАСТИ ВТОРОЙ
Глава I
Стр. 109. «…сколько могли выдержать корабельные мачты». — В этом изображении бури Свифт иронизирует над злоупотреблением специальными морскими терминами в современных ему описаниях морских путешествий и приключенческих романах.
Стр. 111. «…равнялся десяти ярдам». — Первое знакомство с царством великанов, где один шаг местного жителя равен десяти ярдам (более девяти метров), дает возможность вывести заключение о росте великанов и размерах окружающих их предметов. Великаны настолько же крупнее Гулливера, насколько последний больше лилипутов, то-есть в двенадцать раз. Это соотношение точно соблюдается при описании великанов и всех предметов, с которыми сталкивается Гулливер во время его пребывания в Бробдингнеге.
Глава III
Стр. 137. Феникс. — В египетской мифологии — сказочная птица, обладавшая способностью при приближении смертного часа сжигать себя в своем гнезде и снова возрождаться из пепла. В переносном смысле — чудо природы, необыкновенное явление.
Стр. 141. «…великий прогресс человеческого знания» — Насмешка Свифта над современными ему учеными, которые нередко вдавались в туманные, бессодержательные рассуждения, вместо того чтобы изучать недостаточно исследованные явления природы.
Глава IV
Стр. 153. «…существование сплошного океана между Японией и Калифорнией». — Среди географов XVIII века существовало разногласие, соединена ли Япония с Америкой сушей или их разделяет водное пространство.
Стр. 158. «…ниже колокольни собора в Солсбери». — Колокольня собора в Солсбери имеет высоту сто двадцать два метра. Для того чтобы башня в королевстве великанов могла произвести на местных жителей не менее внушительное впечатление, она должна достигать 1464 метров (122 X 12).
Сгр. 158. «…купол св. Павла». — Купол собора св. Павла в Лондоне имеет в диаметре более тридцати метров.
Глава VI
Стр. 178. Демосфен — древнегреческий оратор IV века до нашей эры; Цицерон — государственный деятель и оратор древнего Рима; жил в веке I до нашей эры.
Стр. 178. «В славной палате пэров…» — Английский парламент — высшее законодательное учреждение, состоящее из двух палат: верхней и нижней. Верхняя палата пополняется в порядке наследования представителями высшей знати, носящими титул пэров или лордов, и потому иначе называется палатой пэров или лордов. Нижняя палата (или палата общин) замещается выборными представителями.
Стр. 181. «…я считаю неудобным и неблагоразумным». — В замечаниях короля великанов обращается внимание на те недостатки общественного уклада Англии, которые Свифт беспощадно критиковал также и в своих политических памфлетах.
Стр. 182. «…быть членами нижней палаты». — Вопросы, предлагаемые здесь королем великанов, касаются различных сторон судебного законодательства Англии и содержат сатиру на злоупотребления, волокиту и непомерный формализм в судопроизводстве.
К ЧАСТИ ТРЕТЬЕЙ
Глава I
Стр. 216. «…и бросить в море». — Вражда голландцев к англичанам на востоке объясняется соперничеством Англии и Голландии на морях и в колониальных странах, о чем нередко рассказывают путешественники той эпохи.
Глава II
Стр. 227. «…на суд здравомыслящего читателя». — Насмешка Свифта над произвольными измышлениями известных ученых того времени о происхождении отдельных слов.
Стр. 230. «…получающих от него свой свет». — Астрономические теории о приближающемся конце мира имели в ту эпоху большое распространение.
Глава III
Стр. 235. «…которая теперь сильно хромает». — Различные теории относительно происхождения комет, их движения в мировом пространстве, приближения к земле и солнцу и т. д. были предметом горячих споров ученых во времена Свифта. Этими вопросами много занималось Лондонское королевское общество, на которое Свифт неоднократно намекает в разных главах третьей части романа.
Стр. 246. «…и ходит в лохмотьях». — В этой главе осмеивается спекулятивная горячка 1719, 1720 и 1721 годов, когда в Англии возникали многочисленные акционерные компании и коммерческие общества, организаторы которых — предприимчивые дельцы и авантюристы — увлекали легковерную публику самыми фантастическими планами быстрого обогащения. Эти компании, известные под именем «мыльных пузырей», лопались столь же неожиданно, как и возникали, нередко доводя своих пайщиков до полного разорения. На ту же тему Свифтом написана сатира «Опыт об английских мыльных пузырях».
Глава V
Стр. 250. «…большую толщину и прочность». — В 1710 году один предприимчивый француз, некий Бон, выпустил брошюру, в которой предлагал способ изготовления чулок и перчаток из паутины. Подобные же опыты, однако не приведшие к успеху, производились и позднее.
Стр. 251. «…и процеживая водянистые его частицы». — Во времена Свифта состав воздуха не был известен.
Глава VI
Стр. 257. «…в головах этих безумцев». — Легко догадаться, что здесь под видом насмешки скрываются положительные взгляды самого Свифта (об этом см. в послесловии).
Стр. 258. «…особенно правой». — Намек на взяточничество.
Стр. 261. «…называемом туземцами Лангдэн». — Трибниа и Лангдэн — анограммы (перестановка букв). Подразумеваются Британия и Энгланд (Англия).
Глава VII
Стр. 264. Некромантия (греч.) — вызывание теней умерших, чтобы узнать от них будущее. Эти суеверные представления были распространены в древнем мире и в средние века.
Стр. 266. Александр Великий — македонский царь (IV век до нашей эры), выдающийся полководец и государственный деятель древности. В битве под Арбелой (331 год до нашей эры) одержал решительную победу над Персией.
Стр. 267. Ганнибал — карфагенский полководец (III—II века до нашей эры). Воевал с римлянами. Как рассказывает легенда, во время знаменитого перехода через Альпы дорогу его армии преградила большая скала, которую Ганнибал приказал накалить огнями от костров, затем полить уксусом, чтобы она размягчилась, после чего скалу удалось срыть.
Стр. 267. Гай Юлий Цезарь (I век до нашей эры) — полководец и политический деятель древнего Рима, установивший единоличную диктаторскую власть; Гней Помпей — римский полководец, вступивший в соперничество с Цезарем.
Стр. 267. Кай Юний Брут — римский сенатор, убийца Цезаря.
Стр. 268. Марк Юний Брут — отец Кая Юния Брута; Сократ — великий греческий философ (V век до нашей эры); Эпаминонд — греческий (фиванский) полководец (V — IV века до нашей эры); Катон Младший — римский государственный деятель; возглавлял аристократическую республиканскую партию, боровшуюся против самовластия Цезаря; Томас Мор (1480 — 1535) — известный английский философ и государственный деятель, написавший книгу «Утопия», в которой изложил свои мысли об идеальном государстве будущего.
Стр. 268. Секстумвират — содружество шести.
Стр. 268. Гомер — легендарный поэт древней Греции, которому приписываются героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» (IX—VIII века до нашей эры); Аристотель — великий греческий философ и ученый (IV век до нашей эры).
Стр. 269. Дунс Скот и Петр Рамус — средневековые философы, составившие комментарии к сочинениям Аристотеля.
Стр. 269. Рене Декарт и Пьер Гассенди — известные французские философы XVII века.
Стр. 269. Эпикур — великий греческий философ (IV—III века до нашей эры).
Стр. 269. Гелиогабал — римский император (III век).
Стр. 270. Агесилай — греческий (спартанский) царь (IV век до нашей эры).
Стр. 274. «…все пороки, каким только можно научиться при дворе». — Подкупы избирателей и взяточничество широко практиковались во времена Свифта, что неоднократно служило поводом для его сатиры.
Глава IX
Стр. 275. «…пускают только голландцев». — После подавления в 1637 году, восстания христиан доступ в Японию был закрыт для всех европейцев, за исключением одних только голландцев.
Стр. 276. «…ползти на брюхе к трону и лизать пол». — В этом эпизоде Свифт осмеивает лесть, угодничество и низкопоклонство перед королем и его любимцами, столь распространенные при дворе Георга I и других европейских монархов.
Стр. 284. Perpetuum mobile — вечное движение. Долгое время производились безуспешные попытки построить вечный двигатель — машину, способную вечно и безостановочно совершать работу, не получая энергии для движения из какого-либо внешнего источника.
Поиски универсального лекарства от всех болезней, или панацеи, были предметом столь же несбыточных мечтаний и безуспешных опытов, как и сооружение вечного двигателя.
Глава XI
Стр. 292. «…церемонии попрания ногами креста». — Заподозренных в принадлежности к христианской вере в Японии в XVII и XVIII веках, как рассказывают путешественники, заставляли попирать ногами распятие. Отказавшихся доказать таким способом свою непричастность к христианству подвергали пыткам и казням. Гонения на христианство продолжались в Японии до 1873 года.
К ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ
Глава V
Стр. 329. «…стоили многих миллионов человеческих жизней». — Речь идет о религиозных обрядах и таинствах, спор о которых положил начало церковному расколу и послужил внешним поводом для возникновения кровавых религиозных войн между католиками и протестантами.
Стр. 330. «…и на этот доход живут». — Описанный способ извлечения доходов особенно широко применялся в Германии, раздробленной в XVIII веке на множество мелких государств. Английский король Георг I также прибегал к помощи немецких наемных войск для охраны своих ганноверских владений. Продажа солдат в иностранные армии заклеймена как позорное преступление и в других произведениях прогрессивных писателей XVIII века. См., например, драму Ф. Шиллера «Коварство и любовь».
Стр. 337. «…они строго руководятся законами». — В этом остроумном изображении судебного крючкотворства Свифт продолжает уничтожающую критику пороков английского правосудия, которым уделено много места и во второй части романа.
Глава VI
Стр. 340. «…желающим отделаться от своих министров». — Насмешки Свифта над врачами объясняются низким уровнем медицины того времени, авторитет которой был подорван еще тем, что под видом врачей действовало много обманщиков и шарлатанов.
Глава IX
Стр. 356. «…до сих пор неизвестно». — Имеются в виду популярные в XVIII веке теории о самозарождении жизни на земле.
Глава XII
Стр. 381. «…они угощают читателя самыми грубыми вымыслами». В Англии XVIII века действительно выходило в печати множество описаний путешествий, авторы которых наряду с правдивыми рассказами о далеких и малоизвестных странах, чтобы привлечь внимание публики, уснащали свои повествования всевозможными небылицами и выдумками. Повидимому, Свифт имеет в виду в первую очередь своего литературного противника Даниэля Дефо, в романах которого и даже в прославленных «Приключениях Робинзона Крузо» встречается много фактических ошибок и неточностей.
Стр. 382. Фердинанд Кортес (1485 — 1547) — испанский завоеватель (конкистадор), присоединивший Мексику к испанским владениям.
Постраничные примечания
1
Южное море — старинное название южной части Тихого океана.
2
Примечания к словам, отмеченным звездочкой, см. в конце книги.
3
Полукабельтов — английская морская мера длины. Один кабельтов равен 183 метрам.
4
Имеется в виду морская миля, равная 10 кабельтовым.
5
Пинта — английская мера жидкости, около 1/2 литра.
6
Ярд равен 91,4 сантиметра.
7
Верительные грамоты — документы, свидетельствующие о назначении дипломатического представителя в иностранную державу.
8
Квадрант — старинный астрономический инструмент для определения высоты небесных светил (главным образом солнца).
9
Лорд-канцлер казначейства — министр финансов.
10
Портшез — крытые носилки, в которых носили знатных лиц.
11
Лига — мера длины, равна 4,83 километра.
12
Мадагаскарский пролив — Мозамбикский пролив, отделяющий остров Мадагаскар от юго-восточного побережья Африки.
13
Великая Татария — старинное название той части материка Азии, где находятся Монголия и Китай.
14
Галлон равен 4,5 литра.
15
Мастиф — порода сторожевых и охотничьих собак.
16
Вестминстер-Голл — здание в Лондоне, где заседает верховный суд.
17
Рашпер — решетка для жарения мяса.
18
Спаньель — порода охотничьих собак.
19
Бейдевинд — курс корабля, идущего под боковым ветром.
20
Джига — английский матросский танец.
21
Англия, Шотландия и Ирландия.
22
Тонкин — город в Индо-Китае.
23
Форт Сен-Жорж — старинное название Мадраса, города в Индии.
24
Астрология — распространенная в старину лженаука, занимавшаяся предсказаниями судьбы человека по положению звезд.
25
Илот — раб, крепостной.
26
Новая Голландия — Австралия.
27
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. XVII, стр. 831.
28
Бедлам — дом для умалишенных в Лондоне.
29
Лютеранство и кальвинизм — направления в христианской религии.
30
М. Е. Салтыков-Щедрин. Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 297.
Комментарии
1
В издании 1955 г. текст, описывающий процесс управления полетом Лапуты был приведен без соответствующего рисунка. Приводим этот рисунок, взятый из издания: Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль: Роман / В обраб. для детей Н. Заболоцкого. Свифт Д. Путешествия Лемюэля Гулливера: Роман / Пер. с англ.и ред. Б. Энгельгардта. Распэ Р. Э. Приключения барона Мюнхаузена. В переск. для детей К. Чуковского; Предисл. В. Муравьева; Коммент. Е. Брандиса; Рис.Г. Доре и Ж. Гранвилля. — М.: Дет. лит., 1985. — С. 431. К сожалению, при переводе латинские буквенные обозначения, показанные на рисунке, были заменены в тексте русскими буквами, поэтому соотнесение обозначений в тексте и на рисунке потребует некоторых усилилй. — V_E.
(обратно)
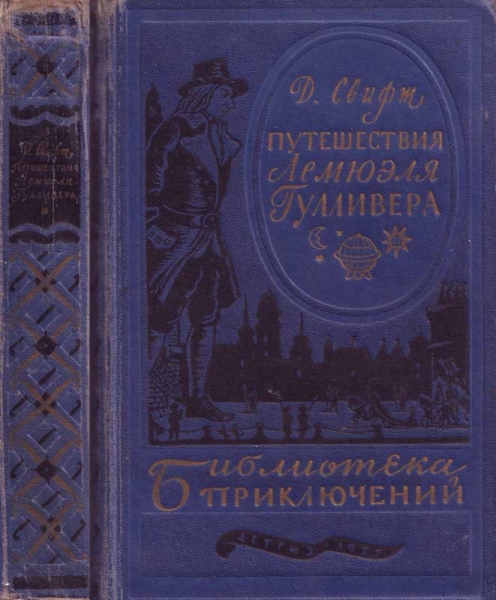


Комментарии к книге «Путешествия в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», Джонатан Свифт
Всего 0 комментариев