Рихард Вайнер
РИХАРД ВАЙНЕР — НЕ ЗАМЕЧЕННЫЙ КЛАССИК МОДЕРНА
Список литературных классиков модерна известен уже давно, и идеологически обоснованное неприятие отдельных представителей этого направления также кануло в прошлое, как на Западе, так и в бывших коммунистических странах Восточной Европы. Своеобразие стиля модерн, и в особенности художественной прозы модерна, состоит помимо всего в том, что этот стиль с самого начала не принадлежал какой-то одной определённой национальной культуре. Новое искусство развивалось иначе, чем искусство романтизма и реализма, — направлений, считающихся по большей части национальными. Одним из новых и важнейших центров литературы модерна становится Центральная Европа, то есть именно то место, где возрождение прежних наций несколько запоздало. Литературный модерн говорит там на многих языках бывшей монархии на Дунае, падение которой неизбежно коснулось всех значительных рассказчиков и не только отразилось на их судьбе, но и определило некоторые черты их творчества. Однако важнейшим языком этой литературы стал язык Музиля, Броха и Кафки, то есть немецкий, а этнически среди представителей литературного модерна преобладают евреи. Начиная с 70-х годов в эссеистике Милана Кундеры феномен мифа Центральной Европы понимается главным образом как достижение современной повествовательной литературы; Кундера считает повесть важнейшей формой сопротивления тоталитаризму, принимающему в XX веке различные формы. Однако Кундера строит свой канон центрально-европейской повествовательной литературы не как продолжение традиции славянских литератур, а в контексте немецкой литературы, в первую очередь Броха и Кафки; тем самым он неожиданно порывает с «антинемецкой» установкой, свойственной чешской литературе того времени. Из авторов-славян, оказавших на него наиболее сильное влияние, он называет Гомбровича, из своей родной чешской литературы — Ванчуру, Гашека и Грабала. Вайнер в этом списке отсутствует, хотя он мог бы прекрасно вписаться в антимиметическую концепцию романа у Кундеры и в особенности выиграл бы как раз от соседства своих немецких современников — Броха и Кафки. Отсутствие Вайнера является весьма симптоматичным.
Место Вайнера в чешской литературе: в роли постороннего
Путь Вайнера к своим чешским читателям оказался очень сложным. Ни при жизни автора, ни позже его произведения не считались основополагающими для чешской литературы. Он не стал ни программной фигурой для альманаха 1914 года, в котором собирались молодые чешские авангардисты предвоенного времени, ни классиком новой послевоенной литературы, то есть литературы после 1918 года, поддерживающей самостоятельное чешское государство под руководством Масарика, подобно Чапеку и другим (Вайнер относился к критикам этого направления). Наконец, его творчество нельзя также соотнести и с авангардом 20-х годов. Начиная с 10-х годов Вайнер, живя в Париже, непосредственно наблюдает развитие мирового и, прежде всего, французского искусства, в том числе и литературы. Однако его статьи литературного критика, написанные с позиции «посвящённого», которые он регулярно отправляет из Парижа в Прагу, не получают на родине статуса программных, что особенно удивляет, если учесть, что в 1924 году именно он «открыл» сюрреализм — направление, которое станет определяющим для чешской литературы 30-х годов. Программным явлением сюрреализм назовёт Незвал, а не Вайнер. Лишь метафизическая лирика Галаса или Завады конца 20-х годов, то есть позднего модерна, с её апокалиптическими настроениями, обнаруживает некоторое влияние Вайнера. В начале творческого пути Вайнера его талант был замечен не кем иным, как Ф. К. Шальдой, величайшим литературным авторитетом своего времени, и Шальда же отметил его возвращение в литературу после почти десятилетнего молчания в 20-е годы. Тем не менее творчество Вайнера 10-х — конца 20-х годов не то осталось незамеченным широкой литературной общественностью, не то не было ею принято. Впрочем, после смерти писателя не оказалось недостатка в его полном признании — с тех пор, как на него снова обратили внимание в 60-е годы (это «второе открытие» было подготовлено Индржихом Халупеским ещё во время Второй мировой войны и позже). Одна из важнейших представительниц новой экспериментальной прозы Вера Лингартова также сказала веское слово о Вайнере как предшественнике интеллектуальной прозы. В 60-е годы выходит множество отдельных изданий, но всё ещё нет полного собрания сочинений Вайнера, запланированного Халупеским для издательства «Одеон». Такое издание появится лишь в 90-е годы. К настоящему времени вышло три тома четырёхтомного Собрания сочинений; четвёртый том должен включить в себя труднодоступную, но важную литературную критику Вайнера. Однако и это «новейшее» возрождение кажется скорее запоздалой реакцией книгоиздателей, а не выражением живого взаимодействия публики с его произведениями. По-видимому, условия современного чешского литературного рынка мало приспособлены для понимания элитарной литературы.
Недоступность произведений Вайнера для чешских читателей после смерти автора лишь в малой степени можно объяснить политической цензурой, возникшей после 1948 года, в большей мере эту трудность можно считать особенностью чешского восприятия. С момента возрождения нации чехи не раз пересматривали свои эстетические критерии, но неизменно обнаруживали трудности с пониманием тех авторов, которые не позиционировали себя в рамках чешского самосознания, особенно если они, как Вайнер, даже не обсуждали этот вопрос или спорили с ним. Произведения Вайнера также не укладываются в рамки прозы, ориентированной на сказ (устный рассказ), составляющей основной стержень новой чешской прозы, начиная с Неруды, продолжая произведениями Гашека и далее вплоть до Грабала. Проза Вайнера не является и собственно лирической прозой, что можно было бы ожидать, зная его двойной талант прозаика и лирического автора, — а ведь лирическая проза составляет ещё одну важную линию чешской литературы (чехов продолжают считать лирической нацией, хотя, возможно, это всего лишь стереотип). Проза Вайнера выходит за пределы языковой и стилевой нормы, что ввиду молодой и без того неустойчивой чешской языковой нормы имеет гораздо большее значение для восприятия его текстов внутри его родной культуры, чем для «внешнего» восприятия. Это стилистическое «выпадение» Вайнера неминуемо должно исчезнуть и исчезает при переводе.
Однако дистанцированность Вайнера обусловлена не только его реакцией на специфическое восприятия его творчества чешскими читателями; она является в его творчестве систематической и происходит от его личной склонности к обособленности, которую лишь условно можно объяснить его часто обсуждаемой гомосексуальностью. Прежде всего эта обособленность объясняется непрерывной интеллектуальной рефлексией. Если в произведениях Томаса Манна, Набокова или Гомбровича такая рефлексия приводит к особой художественной форме, становится отличительным признаком их элегантного стиля, то у Вайнера она остаётся поиском себя в содержании. Тема утраты личности, ведущей иногда к неопределённой идентичности, является у него не просто данью времени, а постоянным поводом для творчества и одновременно проблемой произведения. Такое самоощущение ведет к тому, что каждый раз ищется новый «приступ» к творчеству. Рассказывание никогда не выступает как непосредственное, но оказывается вторичным. Это способно убедить только в контексте всего его творчества в целом и указывает на радикальность и последовательность подхода.
Литература как отражение частной жизни. Разные периоды
Поиск идентичности всегда связан у Вайнера с его собственной жизнью и является автобиографическим измерением. Рихард Вайнер родился в 1884 году, на год позже Кафки, в Южной Богемии, в городке Писек в семье мещанина, фабриканта из ассимилировавшихся евреев. Он — старший сын, и родители надеялись, что смогут передать ему семейное предприятие — фабрику спиртных напитков и кондитерских изделий. Выбор сыном литературного поприща не оправдывал эти ожидания, и решение далось ему нелегко; об этом свидетельствует довольно поздний дебют Вайнера. Окончательный выбор, похоже, стал возможен только благодаря положительному отзыву Шальды о его первых лирических опытах. Таким образом, Шальда стал для Вайнера «литературным крёстным». Его отношения с семьёй, как они предстают в письмах, обладают многими чертами, характерными для еврейских семей того времени — в период между ассимиляцией и холокостом. Однако мы настроим читателя на неправильный лад, если охарактеризуем Вайнера как еврейского автора. Он никогда не отказывался от своего еврейства, но, в отличие от многих других его еврейских современников из Центральной Европы, пишущих по-немецки, по-чешски, по-польски или на сербохорватском языке, в его произведениях еврейство как форма существования и, в первую очередь, как форма некой другой культуры не играет важной роли: для этого его тексты содержат слишком мало обстоятельств. В своих произведениях Вайнер ведёт внутренний диалог с основными вопросами еврейского самопонимания, такими, как отношение к языку или к вине; к этим проблемам относится и появление двойника как выражение кризиса идентичности. Все эти формы самоотображения стали формами еврейской идентичности, лишь появившись в современной еврейской литературе; а там, где, как у Вайнера, еврейский контекст в повествовании отсутствует, они всегда являются выражением обобщённого понимания современного существования.
Решение заниматься литературой и расстаться со своей обывательской средой у Вайнера сочетается с дополнительным, вдвойне парадоксальным решением: с одной стороны, он выбирает своим литературным языком чешский — очевидно, что этот выбор является его личным, потому что семья, в ее педагогических воззрениях, напротив, ждёт от него скорее интеграции в немецкую культуру, — но, с другой стороны, жить он решает за пределами Чехии. В период с 1912 по 1935 год Вайнер живёт в основном в Париже и лишь смертельно больным возвращается в Прагу. Он работает в Париже корреспондентом для чешских газет и таким образом поддерживает связь с родиной. В этой роли Вайнер предстает скорее наблюдателем по отношению к культурной жизни Парижа (а Париж в это время — главный культурный центр Европы); нельзя сказать, чтобы он активно принимал участие в этой культурной жизни. Позиция внешнего наблюдателя позволяет ему достаточно хорошо познакомиться с участниками, стать «посвящённым», не вступая с ними в более глубокие, личные отношения. Личные отношения возникнут позже, лишь после 1925 года: это дружба с представителями «Большой игры» — литературной группы, образовавшейся под сенью сюрреализма во второй половине 20-х годов. Это сближение с так называемыми «симплицистами», которые были намного моложе, оказалось двояким: и личностным, и литературным, что типично для Вайнера, а сам он явился одновременно и влюблённым, и экзотическим инспиратором молодых французов. Как известно, чешский модерн с 1890-х годов развивался во взаимодействии с французской литературой и в гораздо меньшей мере — под влиянием немецкой, непосредственно окружающей его литературы. Для представителей же различных авангардных течений ориентация на французскую культуру является решающей. Многие из них, например, Чапек, Карел Тейге и Незвал отправляются в Париж — но лишь на поиски вдохновения, а собственно для работы все они возвращаются в Прагу. В отличие от них Вайнер живёт в Париже постоянно и живёт порой очень замкнуто. Он поддерживает знакомство с Иозефом Шимой, важнейшим представителем чешского модерна, который также живёт и работает в Париже. Это решение оставаться за пределами своей страны после 1918 года, то есть в то время, когда чешская литература получает новое национальное содержание, объясняет уже упомянутую нами отстранённость Вайнера от литературного процесса в Праге и от реакции чешских читателей. Решение Вайнера не принимать участия в литературном процессе на родине не осталось без последствий и для него самого. Его почти десятилетнее молчание после 1918 года отражает сложный поиск новой формы.
Вайнер сохраняет свою излюбленную позицию наблюдателя и по отношению к французскому авангарду. В Париже он остаётся представителем центральноевропейского модерна рубежа веков и с недоверием относится к исчезновению смысла и полной имманентности творений авангарда. Такое мировоззрение становится причиной его разрыва с симплицистами из группы «Большая игра», — когда он понял, что в их максимализме зарождается самый радикальный нигилизм. Вайнер остаётся при концепции в конечном счёте метафизического и тем самым прежнего человека, несущего за себя ответственность. Он долго сомневается в возможности осмысления современного человека и современного произведения искусства, разделяет пессимистический и апокалиптический настрой своего времени, который модернисты унаследовали от XIX века. Вайнер — представитель абсурдистской литературы, и он сохраняет абсурдное «в чистом виде», не наделяя его модными чертами дадаизма или сюрреализма. В рамках абсурда Вайнер описывает что-то вроде внутренней метаморфозы. Опыт абсурда станет в его поздних работах, в особенности в «Банщике» и в двойном романе «Игра не на шутку», отправным пунктом для метафизической трансгрессии, приведёт к прорыву из имманентности человека Нового времени, то есть рационалистического человека. В конце пути, по Вайнеру, стоит не отчаяние, а спасение.
Центральным событием в жизни Вайнера стало непосредственное столкновение с войной в качестве офицера «императорской и королевской армии» (то есть армии Австро-Венгерской империи). Военный опыт оказался для писателя не политическим, а экзистенциальным переживанием. В 1915 году в связи с нервным истощением его пришлось демобилизовать с Балканского фронта. Прозаический сборник «Ужасы войны», отражающий его военный опыт, был первым изданием прозы Вайнера. Эта книга вышла во время войны, в 1916 году. Рассказы из цикла «Безучастный зритель», написанные ещё до 1914 года, появились в печати лишь годом позже, в 1917 году. Военная проза Вайнера во многом схожа с современной ему литературой; это та проза, в которой автор сильнее всего следует модели экспрессионизма. К этому направлению Вайнера причисляют вместе с Ладиславом Климой и Якубом Демлем. Однако его проза слишком насыщена саморефлексией, чтобы её действительно можно было идентифицировать с традицией экспрессионизма. Предлагаемый сборник содержит два произведения, являющиеся образцами этого направления в прозе Вайнера: это «Двойники» и «Суматошная тишина». Последнее — повесть об умирании и смерти, у которой есть знаменитые предшественники в русской литературе, первое — рассказ о двойнике, ещё раз показывающий, насколько органично военная проза Вайнера включена в контекст всего его творчества и разрабатывает тот же самый опыт и те же самые темы. Связь с другими произведениями основывается в этом рассказе на фигуре двойника, являющейся постоянной формулой творчества автора.
Основные мотивы творчества
Предыдущие наблюдения подводят нас к разговору об основных свойствах творчества Вайнера в его развитии. Как прозаик Вайнер начал с рассказов, к концу 1919 года он опубликовал три сборника; два из них мы уже назвали, остаётся упомянуть третью книгу — «Подвал», вышедшую в 1919 году. Все рассказы, вошедшие в предлагаемое издание (кроме новелл из сборника «Банщик»), были написаны в этот первый период его творчества. После войны писатель переживает долгий творческий кризис и не пишет ничего вплоть до 1927 года, а потом выпускает большой трактат по поэтике «Банщик» и двойной роман «Игра не на шутку», построенный по принципу антитезы. Эти поздние произведения появляются в короткий период с 1927 по 1931 год. Несмотря на долгое молчание и на смену жанров — переход от рассказов к роману, — можно сказать, что Вайнер всю жизнь пишет одну большую книгу, однако, в отличие от эпических произведений, действие её развивается не по прямой, а как бы по спирали. События происходят не друг за другом, составляя цепочку причин и следствий, а по большей части проявляются только как виртуальное действие. Единство персонажей распадается. Не случайно двойник становится излюбленным персонажем в произведениях Вайнера. Эпическое повествование, как правило, бывает выстроено по горизонтали, тогда как проза Вайнера строится по вертикали, как лирическое произведение. Таким образом, по внутренней форме проза Вайнера тяготеет к лирике, тогда как само повествование не переходит в лирическое. Постоянное жанровое соседство (во все периоды Вайнер пишет не только прозу, но и лирику) обуславливает своеобразие его творчества, но не приводит к смешению жанров. Этим проза Вайнера отличается от прозы Андрея Белого, с которым его можно было бы сопоставить. Своеобразное развитие произведений Вайнера, направленное «по спирали», можно понять как превращение лирического в эпическое. Такая форма обнаруживает существенное родство этой прозы с моделями, свойственными модерну на рубеже веков, а не с моделями авангарда. Возрастающая склонность Вайнера к мистике, наиболее отчётливо проявившаяся как раз после 1927 года и ознаменовавшая его отделение от моделей авангарда, свойственных современному Парижу, подтверждает этот возврат писателя к более ранним литературным образцам. Впрочем, более позднее (после 1925 г.) творчество всех заметных прозаиков (в чешской литературе это, в первую очередь, Ванчура, который и сам был тесно связан с пражским авангардом) подтверждает, что по окончании периода исторического авангарда 1910-х и начала 1920-х годов проза должна была обратиться к культурной памяти большего масштаба, чем это могли предсказать футуристы в пору их активной деятельности.
«Спиральная» форма повествования Вайнера выражается, прежде всего, в постоянной рефлексии рассказчика. Саморефлексия или метаповествование у него связаны не только с тем, что роль рассказчика оказывается «вышестоящей». Эта саморефлексия постоянно стремится перейти в само повествование, как, например, это происходит в рассказе «Пустой стул». Главное направление движения — от метаповествования к самому рассказу, а не наоборот. Основная причина непрерывного наблюдения за повествованием кроется в глубоком сомнении автора в самой возможности рассказа. И такие самопроверки Вайнера никогда не убеждают его до конца в невозможности повествования. Вайнер доверяет языку и верит в возможности литературы. Несмотря на явное тяготение к «развитию по спирали», его тексты сохраняют коммуникативный характер. Стиль Вайнера не так перегружен, как другие образцы модернистской прозы.
Метаповествование у Вайнера всегда является также формой проверки самого себя. Литература становится актом понимания. Литература и жизнь соединяются в желании достичь понимания. В отличие от культурной традиции рубежа веков жизнь не проектируется в тексте (жизнетворчество), а пытается понять себя с помощью создаваемого текста. Желание понять — как раз потому, что оно происходит из аутентичного жизненного опыта, — постоянно наталкивается на Другое. Это Другое является не диалектическим Другим, с которым можно было бы соединиться на более высокой ступени, но представляет собой абсолютное Другое. Проза Вайнера приближается к этому Другому в споре, соприкасается с иррациональным, с абсурдом современного существования. Другое — это граница, к которой постоянно подводят писателя произведения. Рассказчик и герои застывают у этой границы, не переходя её, но преображаясь рядом с ней.
В понимании «жизненного труда» как одной-единственной книги отчётливо ощущается такое понимание литературы, которое можно назвать «еврейским пониманием». Наиболее ярким и впечатляющим образом это проявилось в творчестве великого польско-еврейского автора Бруно Шульца. «Большая книга современного существования» построена у Вайнера не так, как у Шульца, — не на эстетике безобразного и не на формах гротеска, где утерянное целое лишь угадывается по его осколкам; Вайнер в своём радикальном движении к границам понимания всегда остаётся на стороне понимания. Он никогда не выходит полностью за пределы рационального мышления или за рамки интеллектуальной прозы.
Насколько последовательным и многослойным является повествование Вайнера, покажет наш обзор трёх основных вопросов или принципиальных позиций его творчества.
1. Абсурдная вина и отношение к отцу
Парадоксальный опыт существования как несправедливо ощущаемая, необоснованная вина не является у Вайнера лейтмотивом, как в произведениях Кафки. Но вина — это узловой и поворотный момент в постоянно напрашивающихся сравнении и разграничении Вайнера и Кафки. В литературном мире Вайнера вина часто бывает лишь психологически обусловленной — например, в рассказе «Обновление» она возникает из-за упущенной возможности спасти жизнь самоубийцы, но рассказчик явно не слишком глубоко исследует её. Более важна необъяснимая экзистенциальная вина, коренящаяся в глубине невозможности связи между Я и Ты, постоянно мучащая героев Вайнера (и являющаяся частью проблематики двойничества). Проявляющаяся при этом неспособность к человеческим связям слишком сильно сомкнута с типичной для того времени проблематикой отношений между полами (с восприятием женщины как принципиально Другого) и со специфической проблематикой латентной гомосексуальности, чтобы разрастись до настоящего экзистенциального парадокса существования. С таким парадоксом мы сталкиваемся, когда возникает фигура отца. В рассказе «Равновесие» Вайнер описал прообраз отношений между отцом и сыном, как бы второстепенный симбиоз, подобный той связи с матерью, которую ребёнок ощущает в доэдиповой стадии: «Можно сказать, мы — одно существо, мы чувствуем одинаково, нам нравится одно и то же. Мы сливаемся в полной гармонии»[1]. Эта связь возникает визуально, это своего рода отношение-отражение. Мать и сестра остаются за пределами этой новой двучленной семьи, они — только внешние обстоятельства, как на японской жанровой или декоративной картине: «Из павильона выходит мать в атласном кимоно <…> но прежде, чем подняться по двум ступенькам к двери, она неожиданно поднимает голову и изнутри видит на тонкой циновке тень от персиковой ветки». Стоит отказаться от этого параллелизма сына с отцом или разрушить его, — как это произошло в рассказе военного времени «Суматошная тишина», — и сыновняя вина возрастёт до неизмеримых пределов. Лейтенант, перед тем как погибнуть в бою, в своих галлюцинациях считает себя повинным в войне: «…если бы он лучше слушался отца <…> эта упрямая, нескончаемая война, наверное, могла бы и не начаться». Ответственность за войну вступает в силу по аналогии — абсурдной, как это явствует потом из рассказа.
Банальное неповиновение отцу отнимает способность к различению, которую сын получает от отца через Эдипов комплекс, наделяет сына способностью говорить и даёт ему возможность узнать правду. Всё сравнивается со всем и приводится в связь со всем. Описание смерти солдата в Первую мировую войну становится фантастическим проникновением в глубины отдельной личности. Историческое измерение растворяется в индивидуальном, не добившись этим отступлением в область личного ни поддержки, ни ответа на вопрос о вине. Этот ответ умирающий лейтенант получает лишь в момент смерти, когда с него снимают театральную маску — ослиную голову. «И сразу же ему кажется, что в мозгу всё пришло в порядок, стало просторнее, он чувствует, что сейчас станет легко и естественно, и вот уже он находится в этой естественности». Абсурдная вина перед отцом, которая ставит под угрозу собственное «я», размывает его границы, является лишь виртуальной (кажущейся), а не экзистенциальной.
Эта нереальность многократно продемонстрирована и проиграна у Вайнера в его последнем романе «Игра не на шутку». История в романе кружится вокруг мнимой (или шуточной) кражи браслета. «Ошибочно» обвиняемый человек обретает свободу, или же преображается, согласившись во второй раз с неверным обвинением по приказанию некоего парящего в воздухе судьи, своего рода сверхотца (аналогия с Христом), появляющегося в конце романа. Вина собственного «я» в конечном итоге не представляется у Вайнера абсолютной, то есть её снова и снова можно попытаться преодолеть, как в романе «Игра не на шутку», и это тоже связано с дистанцией, с которой он излагает трагическую историю своей собственной еврейской семьи, — тема, ставшая со времён Кафки ожидаемой. В своем большом трактате «Банщик» рассказчик называет первичные сны или же фантазии, возникающие в отсутствие отца, чтобы только в сноске показать якобы подлинный сон об отце. В нём учитель угрожает рассказчику-школьнику смертью его отца, если он не будет учиться. Этот сон также обрывается в иронической и театральной манере. Инстанция «отца» заменяется на учителя и становится совсем не опасной. «Я (с ударением на „я“) буду снисходительным».
2. Отражённое «Я»
Как мы говорили выше, двойник — это один из основных персонажей в произведениях Вайнера. Он гарантирует уже возникшую однажды нереальность происходящего, он — как бы зеркало для рассказа, на нём держится метаповествовательная позиция, и в то же время он сохраняет семантическую глубину, как это можно увидеть как раз в рассказе «Двойник». Рассказчик хочет понять своего двойника и интерпретировать его в постепенном приближении, и рассказ держится на этом истолковании. Сближение обоих персонажей, обычно невольное, при котором «я» рассказчика чувствует угрозу со стороны двойника, подобно лирическому герою прежних романтических произведений, приводит к преображению «я» или главного героя. Не всегда соприкосновение с двойником приводит к потере уверенности в своей личности, как в рассказе «Двойник». Иногда «я» само становится двойником или же притворяется им, как в «Игре не на шутку» и в «Безучастном зрителе». Тогда оно становится цельным и, как позднее это сказано в «Банщике», «я — один, я один на той линии, где сходятся быть и не быть». В тот момент, когда Я — Сам и Другое соединяются, становится понятно, что «мир един, неделим и целостен в каждой молекуле» («Безучастный зритель»). Встреча с «иным», представленным двойником, становится утопическим превращением, формулой трансцендентности современного человека.
В «Пустом стуле» (произведении, поэтику которого потом как бы продолжит «Банщик») Вайнер описал, чем может обернуться такое доверие к существованию. Речь идёт о том, что невозможно описать «метафизический или психический ужас», охватывающий твоё «я», когда кто-то из друзей, недавно встреченный тобой и назначивший встречу, необъяснимо пропадает. В рассказе описываются многократные попытки объяснить это, всегда оканчивающиеся неудачей: история, которую рассказчик только слышал от кого-то, похожая на пример из урока математики, превращается в другой части рассказа в пережитую им самим. Герой, ведущий рассказ от первого лица, сперва даёт этому ужасу простое классическое определение, которое очень хорошо могло бы определить и сам абсурд: «Это случается, когда в поток событий, для которых у нас есть относительно удовлетворительное объяснение, внезапно врывается, скажем, такой вихрь, то есть новое событие, для которого не удается подыскать удовлетворительного объяснения и которое характеризуется тем, что положение дел, которое при этом возникает, продолжает существовать». Он модернизирует это общее определение, закрепляя точку отсчёта в собственном «я», то есть в своём мышлении, а точнее — как раз в том месте и времени, в котором рассказчик переносит на себя как бы нереальное событие: «Если бы я смог допустить, что причина, по которой он ушёл, по своей сути непостижима для человеческого ума, оставленный им вакуум испугал бы меня меньше, чем теперь, когда мне нужно предположить, что причиной всего этого был просто какой-то сдвиг в мыслях или чувствах. Сдвиг, который невозможно объяснить, потому что он находится вне логики и простых человеческих чувств». В конце концов не абсурд является проекцией мыслящего «я», а само «я» — это случайный исполнитель, проекция первопричины. «Тогда я понял, что я вовсе не был виноват перед ним, но что наказание, свалившееся на меня, относится к тому моему великому ПРЕСТУПЛЕНИЮ, не имеющему никакого отношения к вещам и к людям, которое производит несчастья не с помощью предметов, а непосредственно из самого себя».
При таком постепенном изменении ужаса в контексте абсурдного опыта изменяется не только «я» и его личность, но, прежде всего, его визави, его отсутствующий друг. Если рассказ велит сначала подыскать тайную причину не состоявшейся встречи в характере самой связи, например, в смысле невозможности гомосексуального отношения, то более глубокое понимание бытия показывает, что здесь имеется в виду вовсе не встреча с иным человеком, а встреча «я» с самим собой. В «Пустом стуле» двойника нет, но и там происходит такая же — или аналогичная — история, в конце которой «я» остаётся в одиночестве. История абсурдной вины трактуется здесь, пожалуй, самым радикальным образом, иначе, чем у Кафки, и она никогда не относится к социуму, а всегда остаётся личным делом одиночки. По сравнению со всеми другими историями Вайнера о двойниках эта — намного пессимистичнее; герой познаёт границы, но не переходит их. Друг не становится визави, но не становится и двойником, он всего лишь занимает своё место, и он — пустой персонаж. Поэтому события сокращаются до минимума, всё действие перемещается в напряжённый внутренний диалог героя с самим собой. Сама история остаётся бессловесной. Пустой стул «становится круглым разинутым ртом — я не знаю, почему — и хранит молчание — молчит как рыба. И мне кажется, будто я вижу в подробностях, как этот гадкий рот станет отвечать мне на вопросы, которые я будто бы задаю, перемалывая слова омерзительными беззубыми челюстями». Абсурд в этой истории относится и к области метаповествовательного размышления, рефлексии. Писатель сам, своим письмом познаёт границы.
3. Абсурд и повествование, или начало современной мистики
Неустойчивость личности или угроза для автономности «я» уже в трёх первых сборниках рассказов, написанных в 1910-е годы, вызывает неустойчивость литературной формы. Открытая форма опирается на раскладывание рассказов: нереальность происходящего и метаповествовательный комментарий. Доля такой формы возрастает в течение краткого второго периода творчества Вайнера после 1927 года. Поздние его работы задуманы в виде комментариев к ранним произведениям или их повторных попыток; это своего рода вариации.
В «Пустом стуле», как мы уже отметили, основным сюжетом текста является невозможность повествования. Как сообщает подзаголовок, речь идёт об исследовании ненаписанного рассказа. Через отрицание нам расскажут о не имевшей места встрече, перебирая разные неподходящие объяснения отсутствия друга. Границы литературного текста у Вайнера, выявляющиеся при невозможности рассказа, — не собственно внутренняя проблема литературы, они понимаются как средство познания мира, в данном случае — переживания ужаса. «Как несущественно всё это по сравнению с ужасным законом, запрещающим освобождаться от проклятья произнесением его формулы». Литературный текст может только подвести нас к границе, но не помочь перейти её, потому что невысказанное — это часть совершенно Другого. В поэтике, как несколько раз Вайнер называет свой роман «Банщик» (хотя это в целом, скорее, — поэтика жизни, а не текста, ведь поэтика, по выражению Вайнера, — «это единственно верный ключ к жизни»), автор попытается преодолеть границы языка: «Разве можно не завидовать бушменам, у которых нет слова „любить“, или китайцам, замкнутым, как иероглиф. У них, неспособных к языковому общению, остаётся ещё какая-то надежда в конце концов понять друг друга, других людей и нечеловеческое». Современный человек, по Вайнеру, покинул рай, а возможно, он «никогда им и не обладал», к чему Вайнер пришёл в конце. Это увечный или проклятый человек, в предвосхищении идей Лакана отправленный по бесконечному пути различий, а не идентичностей. Это изгнание из идентичности Вайнер per negationem считает позитивным: «Трагедия человека состоит как раз в том, что это пугающе возрастающее расхождение — единственная мера, которой мы можем измерить тоску одного человека по другому». Новое «я» жизненной поэтики Вайнера — утопическое, не ищущее возврата в рай, потому что рая никогда не было. «Основание этой поэтики, да, собственно, она сама, — это утверждение и отрицание». Прорыв в утопию, в новое происходит через принятие абсурда. «Я» оставляет позицию наблюдателя, внешнего участника, которую ещё программно представлял его двойник из «Безучастного зрителя», и живет в парадоксе: «Ведь узнать его (Бога) — значит, остаться в нем и быть им». На уровне текста такое соединение «я» и «не-я», утверждения и отрицания происходит во сне. «Во сне мы всесильны, но наши чувства, наше раздумывающее „я“ сотворили такой перевёрнутый и лживый мир, так что мы и не догадываемся о том, что самой настоящей действительности мы касались как раз тогда, когда думали, что у нас в руках всего лишь спутанные нити бреда». «Банщик» представляет в своей последней центральной части поэтику сна. При этом в нём Вайнер отделяет сон от соответствующих современных понятий в психоанализе и в литературе. Хотя сны возникают в связи с работой памяти, они направлены не в прошлое, как у Пруста, а только в будущее. Сон — это «вкратце: нечто повое духовное». В этой способности к трансцендентному сон в литературе открывается читателю, «чтобы он вставлял в него только то, в чём узнаёт себя, то, о чём он так безнадёжно тоскует». Из приводимых нами цитат становится ясно, что новая поэтика в конечном счёте стала новым методом мистики: «Но доказать, о чём я ещё тогда догадывался и всегда говорил, что добраться до Бога можно только путём последовательного отчаяния, а именно отчаяния, которое не обмануть никаким умиротворением, в конце которого человеку, упорно идущему этим путём, открывается бездна света, в которую стоит только ринуться сломя голову…» Абсурд стал основой для контакта со сверхъестественным, как в древнем диалоге Иова с Богом. Религиозное сознание тревожит только то, будет ли это сверхъестественное Богом или самим «я».
* * *
Любое восприятие Рихарда Вайнера с точки зрения другого языка и другой культуры открывает очень много возможностей, ведь труднее всего адекватно понимать его чехам в Чехии… Помещая Вайнера в контекст другой культуры, можно ожидать, что его тексты будут интересны не только внутренней художественной ценностью, но и — прежде всего — в связи с более уместным для них соседством, чем это может иногда предоставить восприятие с точки зрения одной чешской культуры. Для немецких читателей адекватным контекстом являются, пожалуй, произведения Броха и Кафки, а восприятию русских переводов могут помочь соседство художественной прозы XX века, от Андрея Белого до Набокова, конструктивистские романы 20-х годов и абсурд позднего авангарда в духе Хармса. Пришло время познакомиться с этим великим незнакомцем.
Герман Риц Цюрих
Из сборника «Безучастный зритель» (1917)
БЕЗУЧАСТНЫЙ ЗРИТЕЛЬ © Перевод И. Безрукова
— Ах, да какие там так называемые загадки человеческой души! Уверяю вас, что никаких загадочных натур не существует, что любое поведение, даже самое непредсказуемое, самое сложное, самое непонятное, диктуется простыми побуждениями. Уверяю вас, что пути, по которым следуют чувства и мысли натур, так сказать, загадочных, совпадают с побуждениями самого обыкновенного буржуа. Одни ничуть не сложнее других. Разве что чуть больше честолюбия, авантюризма, эротичности и случайностей, необходимых для так называемого выживания. Но поверьте мне: побуждения повсюду одни и те же, а главное — страдания и радости всюду одинаковы. И какая уж тут загадочность, если каждый из нас может отдать самому себе отчет, что всех побуждает действовать одно и то же и мы радуемся или страдаем в созвучной тональности, что первоначальный, то есть лишенный всякого налета темперамента и образования, стимул к жизни у всех одинаков и дает всем нам одинаково известный результат?
Эти слова произнес Людвик Марек в кругу знакомых, собравшихся у меня, после того как один из участников беседы закончил свою историю, герой которой совершал поступки столь необычные и из ряда вон выходящие, что даже мы, люди без предрассудков, много пережившие и способные многое понять, не могли постичь их ни умом, ни сердцем. Таким образом, нам никак не удавалось добраться до их корней, до их, я бы сказал, психологической генеалогии. И тем не менее всем было ясно, что эти поступки представляют собой логическое и цельное роковое единство. Людвик только недавно стал появляться среди нас. Рассказывал он о себе очень мало и добился того, что никто не приставал к нему с расспросами. Мы знали лишь, что он печатается под псевдонимом в каком-то литературном журнале. Впрочем, о литературе он говорить не любил; мы называли его Денди, что, кажется, ему льстило; во всяком случае, к этому слову он не относился с той холодной иронией, как к другим прозвищам, которыми мы его иногда награждали. Нам был неизвестен круг его знакомств. Они представлялись несколько странными и подозрительно случайными, ибо часто, когда он вопреки обещаниям не приходил к нам, последующие извинения выдавали его смущение, которое не могла скрыть нарочитая небрежность тона. Людвик всегда присутствовал среди нас как бы наполовину. Сегодня, однако, он слушал внимательно и в конце концов отпустил то самое замечание, причем без привычного уже для нас деланного равнодушия, но как человек, для кого это был жизненно важный предмет, из-за которого ему пришлось много страдать. Подметив это, многие подумали, что наконец-то Людвик Марек проявил слабость, которую они давно и тщетно пытались у него нащупать. И они воспользовались ситуацией и приступили к нему с расспросами, упрекая его в иронически-материалистических взглядах. Тогда он поудобнее уселся в кресле, устало пощелкал суставами длинных пальцев и устремил взгляд в потолок, выставив вверх свой вытянутый заостренный подбородок.
— Материализм? Пусть! Но тот, кто пережил подобные незабываемые мгновения жизни… может, и материализм. Что с того?.. И почему нет, почему бы мне не рассказать вам? — вдруг резко произнес он, выпрямившись. — Пожалуй, с моей стороны было даже невежливо дать вам до сих пор так мало возможностей узнать меня. Я был скуп на слова, так что, надеюсь, сегодня я вправе говорить подробнее и поведать о самом загадочном человеке, какого я когда-либо видел. Загадочном? Давайте используем это слово как рабочий термин. Я знаю, господа, что и я кажусь вам существом в некоторой степени загадочным или, как говорится, сложным. Теперь вам известно, что такое ваше мнение не слишком льстит мне, хотя подавляющему большинству людей бывает приятно сознавать, что о них идет такая молва. Мне — нет: я самый простой человек, простой до обидного. Мне претят богобоязненные нравы и принципы (а ведь именно ту жизнь, что им подчиняется, мы и называем простой, размеренной и понятной), но претят они мне, видимо, только потому, что в действительности все же направляют любые мои шаги. Вот меня и обуяло… а, скорее всего, я внушил себе это чувство… любопытство к негромким приключениям, в которых я иногда нахожу забвение. К сожалению, я не отваживаюсь подвергнуть свою жизнь слишком большой опасности. Тем не менее я добился от своей трусости максимума уступок, например, я осмеливаюсь ночью и без оружия отправиться на северную окраину Парижа, где, как вам известно, не очень-то безопасно. Нынче я хожу туда часто, и никто меня не трогает; я до некоторой степени освоил тамошние порядки, и это служит мне лучшей защитой. История, что я хочу рассказать, произошла в то время, когда я только-только начинал эти свои ночные вылазки, которые с тех пор стали для меня делом почти привычным, хотя я не отрицаю, что и сейчас еще они дарят мне множество приятных острых ощущений. После этого случая мое «второе существование» приобрело более глубокий смысл, и надеюсь, вы в конце концов признаете это. Так вот, как-то поздним зимним вечером — дело было на одной из улиц северного склона Монмартра — у меня попросил прикурить молодой человек, отделившийся от двух своих товарищей. Я сразу понял, что эти парни что-то замышляют: уловка-то известная. У меня еще оставалось время сунуть руку в карман, где лежал револьвер, тогда как другой рукой я протягивал ему свою зажженную сигарету. Их было трое на одного. Двое подходили сзади, а третий наступал спереди. Они уже схватили меня, когда тот, кто обратился ко мне первым, внезапно остановил своих товарищей словами: «Пустое дело! Бросьте!» После чего крайне учтиво попросил их оставить нас с ним наедине, а когда они послушались, заговорил со мной по-чешски: «Значит, мы земляки?» А на мой изумленный взгляд ответил:
— Пожалуйста, не удивляйтесь. Ничему. Я нашел в вашем кармане вот этот номер чешской газеты. Видите, как все просто. Сегодня это ваш пропуск. И второе: не удивляйтесь тому, что я пощадил соотечественника. Я совершенно не собираюсь превращать это в правило; впрочем, со многими ли земляками мне здесь приходится сталкиваться? Да и вообще — эта наша причудливая встреча…
— Причудливая?
— И третье: вы, очевидно, удивлены тем, что кто-то в таком наряде и вдобавок еще и чех употребляет такое слово. Умеете ли вы быть деликатным?
Я ответил, раздраженный как его речью, так, спустя мгновение, и тем обстоятельством, что мне приходится объясняться с подобным субъектом:
— Послушайте, приятель, мне до смерти ненавистна всяческая деликатность. Запомните, я никогда не расспрашиваю своих знакомых об их личных делах; я вообще никогда не расспрашиваю никого о том, кто он таков. Сознаюсь, по причинам вполне обыденным. Но тем не менее вопросов я не задаю.
Он посмотрел на меня, затянул потуже свой шарф и перебросил его концы за спину. Затем огляделся по сторонам, потер руки и коротко сказал:
— Ступай со мной!
— Вы будете тыкать мне, когда я это позволю.
— Тогда ступайте. Я приглашаю вас в пивную. Не особенно роскошное заведение — франты туда не заглядывают. Но это близко. И там тепло. И там отыщутся знакомые. Меня туда тянет.
Я был уже сыт приключениями. Мне вовсе не хотелось заходить в таких местах в пивную, где ждали его знакомые, но меня манила возможность побыть с ним. С апашем.
— Вам так уж нужно повидать ваших знакомых? Не лучше ли посидеть где-нибудь только вдвоем?
— О, вот как? Что ж, в такой одежде я, пожалуй, могу выбраться и в «свет». Вы знаете «Ля Биш», что на улице д’Амстердам? Ну что, готовы довериться?
— Знаю. Годится. Доверие тут ни при чем.
— Тогда пошли.
В пивной «Ля Биш» он заказал две рюмки и сел на краешек стола, как опытный завсегдатай баров. Я же устроился на стуле, хотя и пытался соответствовать его непринужденности.
— А вы неплохо смотритесь… Не хватает только одного — чтобы я не замечал, как вы стараетесь. Обидно!
— Вы очень наблюдательны, — сердито ответил я.
— Да, — протянул он задумчиво. — А вы… разве вам не любопытно? Нисколько?
— Я вопросов не задаю.
Ему было года двадцать три. Утомленный вид. Каштановые кудри, низкий, прорезанный несколькими морщинами лоб. Близко посаженные голубые глаза, подвижный взгляд. Тонкий нос, тяжелый подбородок. Он был сильно напудрен, брови подведены; его костюм, хотя и напоминал одежду апашей, отличался кокетством.
Я смотрел на него с беспокойным удивлением, даже не пытаясь скрыть его.
Тут он наклонил голову, подпер ладонью подбородок и поглядел на меня одним из тех выразительных взглядов, которые оценивают общий облик и в то же время с вниманием и любованием сосредоточиваются на деталях; так умеют смотреть молодые люди, посещающие определенного рода бары на Монмартре. Чтобы поддержать беседу, я, подвинув поближе рюмку, спокойно сказал:
— Вы очень заблуждаетесь.
— Вы тоже, — ответил он, и его взгляд сразу переменился, стал отрешенно-бесхитростным. Он свесил вниз руку, а носком ботинка принялся медленно и нерешительно чертить на полу узоры.
— Земляки… Гм! Встреча! Странная встреча. Вы давно в Париже? Как видите, я, в отличие от вас, вопросы задаю.
— Вы — не я, — ответил я коротко и нарочито раздраженно.
— Неужто нисколечко? Кстати, позвольте представиться: Йозеф Черный. Еще меня иногда называют Йожкой — tout court[2] — как, например, сегодня. Если хотите, можете тоже так ко мне обращаться.
— Не хочу, господин… гм… Черный.
— Ваша попытка поиграть словами мне неприятна, хотя вы и были учтивы. Но тем не менее я признаюсь: меня к вам влечет. Я чувствую в отношении вас даже нечто большее, чем просто доверие. Немногим я говорю такое. Послушайте, вы не заглянете ко мне завтра?
— Нет, — отвечал я отрывисто, глядя мимо него.
Он спрыгнул со стола и вновь затянул свой шарф знакомым жестом, который уже успел мне полюбиться, после чего громко произнес:
— Счет!
Я быстро сказал:
— Извините, но…
— Как вам угодно, — просто ответил он, глядя мне прямо в глаза. — Я вас понимаю и не хочу быть навязчивым. Мне еще нужно подняться наверх, к знакомым. Прощайте.
— А где вы живете? — спросил я, нерешительно пожимая протянутую мне руку.
— Улица де Ренн, 38.
— Я зайду к вам завтра вечером часов в девять.
На его лице не отразились ни радость, ни чувство нетерпеливого ожидания, когда он сказал:
— Приходите.
Я отправился к нему из чистого любопытства. Признаюсь без обиняков, что любопытство — это первая и главная движущая сила всех моих действий. Узнать и познать — да, но не задавать вопросов, а изображать равнодушие. А попросту говоря, вот как: я жду, чтобы суть вещей сама открылась мне. Суть вещей и людей. Я жду, но при этом жду жадно и лихорадочно, и в этом ожидании растворяется вся моя жизнь.
Жил он в обычном для Парижа доходном доме, каких в этом квартале много. Из мелкозернистого песчаника, фасад узкий, окна небольшие, огорожен невысокой решеткой. Подъезд orné de glaces, а также комнаты ornées de glaces[3]. Как известно, подобные помещения легко превращаются в самого низкого пошиба гостиничные номера, гнездышки для интимных свиданий или даже в логова утонченнейшего разврата — смотря по вкусу. Нет ничего более обманчивого, чем однообразие домов на улице де Ренн. В квартире были две комнаты: спальня и гостиная, разделенные портьерой. Я вошел в гостиную. Там никого не было. Ее освещала своим резким светом электрическая люстра. Это была комната явно не бедного интеллигента. В углу диван, рядом — курительный столик и два кожаных кресла; добротный книжный шкаф с выдвижными полками, письменный стол. Хорошие репродукции и гравюры. Небольшие персидские ковры; шторы. Вскоре после моего прихода из-за портьеры появился Йозеф Черный. На нем были брюки в полоску и темно-серый пиджак; в петлице — роза. Он стоял, залитый светом, и я видел, что сегодня он не напудрен и не накрашен. Он выглядел усталым, и его облик привлекал меня ненавязчивостью и деликатностью. При этом он пытался казаться бодрым и непринужденным. В руке у него была книга, и он заложил пальцем ту страницу, что читал перед моим приходом. Хозяин двинулся мне навстречу, причем на его лице не было и намека на ту вежливую улыбку, с какой обычно встречают гостей. Мы сели. Какое-то время в комнате царила тишина. Потом он положил книгу на столик (я заметил, что на обложке было вытиснено: Verlaine «Sagesse»[4]), встал и, улыбнувшись, произнес:
— Пардон. Мое имя — Йозеф Черный.
— Знаю, — ответил я. — Впрочем, вы, кажется, представляетесь мне второй раз лишь затем, чтобы и я в свою очередь назвал себя.
— Именно так, — ответил он, усаживаясь на место. — Я был бы рад узнать ваше имя. Ибо я принимаю вас у себя… правда, после того, как сам пригласил.
— Нет, — возразил я, не в силах скрыть как своего удивления всем увиденным, так и чувства почтения к его аристократической утонченности. — Я сам напросился к вам, хотя и с вашего согласия.
И я представился.
Собственно говоря, я был удивлен не столько неожиданными для меня обстановкой квартиры и обликом Черного, сколько тем, что нечто сильнее меня внушало мне невольное уважение к человеку, которого я до сих пор продолжал считать проходимцем с дурными намерениями. Как будто угадав мои мысли, он с глубоким и искренним сожалением в голосе произнес:
— Нет-нет, вы заблуждались вчера и еще более роковым образом заблуждаетесь сегодня. Я не un individu mal famé[5]и вовсе не опасен. Я — в настоящий момент — банковский служащий с отличной репутацией. Вообще же, когда я попросил вас заглянуть ко мне, я намеревался рассказать о себе. Потому что там, в баре, вы вдруг стали для меня не просто соотечественником, с которым свела меня странная случайность, но кем-то таким, кому я должен сообщить очень-очень многое. Это судьба, что наши пути пересеклись. Потому, полагаю, вы имеете некоторые права на мою жизнь. Вопрос лишь в том, готовы ли вы не отступить. Вчера мне показалось, что вы способны по крайней мере выслушать рассказ о вещах не то чтобы необычайных, но все же таких, с какими сталкиваешься не каждый день. Немного найдется людей, способных по крайней мере выслушать. Для этого нужно уже привыкнуть вести жизнь на грани вымысла и реальности, а также балансировать на весьма острой и опасной грани между легким и страстным отношением к жизни.
Эти слова он отчеканил так, что я понял: он совершает судьбоносный шаг, успех или неуспех которого полностью вверяет мне. Если я не захочу или не смогу выслушать его, он никогда не простит себе этой попытки. В тот момент он доверился мне полностью, хотя до сих пор я не знал о нем вообще ничего. Я почувствовал, что должен проявить по меньшей мере внимание к его словам, и ответил:
— Вы, наверное, и сами заметили мое удивление. Мне кажется, что сейчас я оказался в самой сложной ситуации за всю мою жизнь, и признаюсь без обиняков (доверие за доверие), что питаю своего рода слабость к тайнам наподобие той, какую вы, похоже, намереваетесь мне открыть. Пожалуйста, не разочаруйте меня. Говорите! Какие бы чувства ни вызвал во мне ваш рассказ — изумление, отвращение, ужас, — от одного только меня избавьте: от будничной и сентиментальной истории. Я хочу услышать нечто труднопостижимое или нечто такое, от чего бы я содрогнулся.
Его губы искривились в странной улыбке.
— Вы ставите нелегкие условия, — ответил он, — и я боюсь разочаровать вас. Могу подать вам единственную утешительную надежду, — наклоном головы и взглядом он заставил меня смотреть ему прямо в глаза. — Я точно, слышите, точно знаю, что другие люди выслушали бы меня с немалым интересом. Трудно сказать, как вы воспримете мою историю, но я, Людвик, в этот вечер ставлю на кон свою жизнь. Позвольте же мне не прерывать игру в середине. Давайте доиграем — а потом будь что будет. Но главное, пожалуйста, все время имейте в виду, что я из тех людей, которые — если они говорят, что дело идет о жизни, — крепко и неизменно помнят свои слова, даже если смеются, шутят и напускают на себя какой угодно вид. Ибо мы не баловни жизни и не хотим ими быть — и ведем себя соответственно.
Я на это:
— Рассказывайте же.
Меня томило внутреннее беспокойство, как если бы я слышал шаги рока. Я старался подавить это ощущение, говоря себе, что дело касается только господина Черного. Я же не более чем слушатель. Однако на душе у меня было тяжело, и я чувствовал себя подавленным.
— Я буду по возможности краток, — начал он, — но, как бы я ни старался, я не смогу избавить вас от того, чтобы в общих чертах обрисовать свою родословную. Я не последний представитель вымирающего дворянского рода и не потомок старинной буржуазной семьи, которая старается не покидать пределов тесного круга родни… На первый взгляд — dégénéré[6]… и не только на первый… а тем не менее я из честной сельской семьи.
Он не удержался от того, чтобы посмотреться в зеркало, висевшее прямо напротив его кресла. Проведя рукой по завитым кудрям, он улыбнулся своему отражению. Потом все с той же улыбкой повернулся ко мне и сказал:
— Отчасти Нарцисс, отчасти эфеб — так вы наверняка думаете.
И после короткой паузы, во время которой с его лица исчезла улыбка, Йозеф продолжал сдавленным голосом — как если бы у него пересохло в горле:
— Мой отец — богатый крестьянин в Полабье. Как и у многих людей его типа, лицо у него сложено из множества мускулистых граней, которые он словно сам и лепил, и закалял. Люди сказали бы: настоящий крестьянин, труженик с простыми животными инстинктами. И это верно. Но вместе с тем терзаемый страстями, придирчивый и настолько обуреваемый алчностью, что ему пришлось превратить свое лицо в неподвижную маску, чтобы заниматься сотнями своих дел, обманывая весь мир и особенно мать, женщину богобоязненную и очень чувственную. Да, не удивляйтесь: богобоязненную и очень чувственную. Я младший из трех их сыновей. О братьях мне известно немного. Нас разъединили не какие-либо разногласия, а естественные жизненные обстоятельства. Насколько я их успел узнать, они мне скорее нравились. Они были жадны до жизни. Жили, точно дикие звери, хотя сами того, конечно, не осознавали. Оба не упускали случая покорить женщину — точно так же, как и случая обогатиться. В них, несомненно, была от природы заложена широкая гамма чувств и мыслительных способностей, но она была именно широкой, а не глубокой. Каждый из них шел своим путем — обыденным и неприметным, и когда они уезжали из родных краев, один в Америку — в качестве спутника некой знаменитой певицы, а второй, неизвестно зачем, куда-то в российскую глубинку, их сердца наверняка не забились сильнее обычного. На обоих моих старших братьев отец растратил себя почти полностью. Я не имею в виду имущество. Как видите, он не скупился и отдал им все. На меня его не хватило; я получился иным, чем мои братья. Сызмальства хилый, то и дело хворавший. Болезненный ребенок. Большие глаза, слабый голос. Даже в горячке или нервном возбуждении, когда я ощущал, так отчетливо ощущал, как мой внутренний голос набирает силу, подобно речке во время ливня, речь моя звучала очень слабо, неестественно слабо по сравнению с мощью моих чувств! Не удивляйтесь, что для меня так важен этот звуковой эффект. Он, собственно, наиболее явственно выражал суть всей моей жизни. Ибо, клянусь, он уже с самого раннего возраста представлял собой нечто исключительное и бесконечно далекое от всего, чем живут сначала дети, потом подростки и, наконец, юноши. Я не был более сложным, особо избранным или лучшим — о, я вовсе не заносчив! Я просто был другим. Я вел ту же жизнь, что мои братья; возможно, она была лишь несколько более утонченной, торопливой, лихорадочной, но главное — гораздо более осмысленной. Они жили наружной жизнью, не умея прочувствовать ее, я же жил внутри себя. Трудно представить биографию проще, чем моя. Начальная школа в селе, средняя школа в уездном городке, торговая академия в Праге. Прага! Боже мой, мне тогда было шестнадцать. Сколько приключений и так называемых сладких авантюр она сулила. Однако, гордый и погруженный в себя, я все их отвергал. Насколько более изысканные и пьянящие наслаждения рисовались мне в мечтах еще дома, в деревне. Я был, что называется, примерным учеником и закончил школу с отличием. Я никогда не лицемерил. Все мои высказывания и поступки были поистине хорошими и искренне благородными. Мне нечего было скрывать. И все же во мне таились и поражающий воображение хаос, и чудовищные желания, и готовность совершить страшные злодеяния, и мысли о славе Герострата. Я задыхался от всего этого и тем не менее любил свои неясные и невинные грехи. Я был не раздвоенной, но лишь двоякой натурой.
Сколько раз я участливо беседовал со старой доброй тетушкой о ее хозяйственных нуждах и хлопотах, а в душе у меня тем временем бушевал яркий, сверкающий огнями карнавал! Сколько раз я возился с детьми, целиком поглощенный игрой, и при этом мысленно рисовал живописные сцены из буколики! И как часто я представлял себя знаменитым политиком, бунтарем, безоглядным анархо-индивидуалистом, который, воодушевленный событиями общественной жизни, встает — убежденный и убедительный — во главе опасной демонстрации! Я плохой оратор. Может быть, после всего, что я вам открыл, вы скажете про себя: книжный червь, благородная душа, слабовольный мечтатель, к тому же с дурными извращенными наклонностями, которые он инстинктивно и лукаво скрывает. И будете неправы. Я не лукавил ни в своих поступках, ни в мечтах. Я наслаждался усердием, ценил старание, полностью разделял строгие моральные принципы, по-детски наивно любил природу и оживал душой на ее лоне, но при этом восхищался вплоть до обожания людьми экстравагантными и расточительными и с завистью мечтал о бродячей, беспорядочной жизни des fahrenden Volkes[7]; впрочем, с эксцентричностью и дендизмом я с легкостью расправлялся при помощи философии ex cathedra[8]. Так протекали годы моего образования. Хороший ученик, хороший сын, брат и друг был в близких отношениях с авантюристами, преступниками, распутниками, богатыми и бедными ворами, о которых я слышал или которых выдумал. Я называл это «бродить по колено в грязи и оставаться чистым». Я полагал, что мне есть чем гордиться. Да, я много возомнил о себе. В конце концов, проучившись еще какое-то время в Лейпциге и Дрездене, я перебрался в Берлин. Там я получил свою первую работу. Рядовая карьера. Однако вы, Людвик, вряд ли поймете, какую опасность представлял для меня Берлин.
Я нетерпеливо перебил его:
— Простите, но вот уже второй раз вы обращаетесь ко мне просто по имени. Надеюсь, это ненамеренно. Такое обращение мне решительно не нравится.
Он посмотрел на меня грустно и с иронией:
— Я думал, что время уже пришло… Но как вам будет угодно. Вы пока еще не понимаете. Может быть, все же поймете. Позже.
Итак, Берлин. Я тогда тоже долго не понимал. Теперь понял, так как живу в Париже. Знаете ли, об этом городе идет самая разная слава. Чаще всего его называют безнравственным. В действительности, однако, здесь все четко разделено. Здесь нет смешения — вот что главное. Здесь я могу разложить собственную жизнь, между тем как в Берлине наступил момент, когда она превратилась в сплошной запутанный клубок. Ибо Берлин — это город наихудших переплетений. Повсюду, в любом обществе, вы однажды замечаете (если вам присуща малейшая наблюдательность), что добропорядочность, честность и размеренность стоят плечом к плечу с декадансом, который заключает в себе порок, развращенность и разгул страстей. Поскольку же декаданс вынужден сосуществовать с самым закоснелым пуританством, то он, находясь под его властью, трусливо прячется и чудовищно жиреет от нехватки свежей жизни. Круг моего общения составляли банковские служащие, богачи, торговцы с их женами и дочерьми, молодые, пожилые, старые, а также горстка литераторов и художников. Все было корректно, comme il faut[9], разговоры велись исключительно поверхностные и любезные, но время от времени из чьих-нибудь глаз вылетала предательская молния, устремляясь, казалось, куда-то в пустоту. Однако тот, кто умеет наблюдать — а я, поверьте, умею, — с легкостью находил взгляд, который жадно впитывал в себя этот знак порочной страсти. Я не знаю, как жили эти люди, но знаю, что пришлось вытерпеть мне. Я быстро затосковал от сознания того, что впустую растрачиваю дни посреди этой тщательно регламентированной жизни, по-настоящему живя лишь в мечтах и внутренне корчась. Что толку говорить себе: я брожу по колено в грязи, но остаюсь чистым. Это трусость. Жизнь шла своим чередом, годы уходили. Я знал, что чем ближе к низовьям, тем менее вероятны водовороты и водопады. Мне же их так хотелось. Я знал, что пока не станет реальностью самое глубинное из моих желаний, я не смогу удостовериться, кем же в действительности являюсь — джентльменом или негодяем. А я, сударь, хотел быть джентльменом. Пусть я останусь двоякой натурой, если обе мои жизни нельзя соединить вместе. Но пусть хотя бы ради моего удовольствия или даже моего спасения бок о бок с добропорядочным буржуа, которым я до сих пор казался, явственно возникнет тот самый безудержный фокусник, каким я был в еще большей степени. Жить, Людвик, жить — столькими жизнями, сколькими удастся, но при этом прожить их все, и с каждой совладать. И мне казалось, что в моей груди заключено столько их, спорящих и теснящих друг друга! Выпустить их на волю — выпустить и честно сразиться с каждой!
Он устремил на меня взгляд, исполненный страстности, и это была не застывшая, бездеятельная страстность, но страстность бурная, кипучая, внушенная страданием настолько глубоко прочувствованным и неземным, что этот взгляд смутил меня. По-видимому, мой собеседник заметил это. Ибо вдруг умолк и прикрыл глаза рукой. Как ни странно, этот жест пробудил во мне равнодушие к его рассказу.
Потом он продолжал:
— В том отделении банка, где я работал, была одна стенографистка. Звали ее Хелена. Наши деловые отношения вскоре переросли в отношения более личные; я часто провожал ее домой, ибо нам было по пути. В конторе ей нравилось производить впечатление дамы с художественным вкусом и склонностью к искусству, выйдя же на улицу, она вживалась в образ дамы света. В обоих этих ипостасях она вела себя весьма ловко; до некоторой степени она представляла собой то и другое одновременно: по вечерам она иногда пела в хоре театра оперетты, а иногда исполняла небольшие сольные партии в его спектаклях. Я был молод и по своим инстинктам оставался, видимо, настоящим крестьянином. Однако Хелена с помощью своих инстинктов — проворных и испорченных — распознала в моих речах юношескую тоску, а так как я ей понравился, то она захотела, чтобы мои мечты сбылись. Она вовлекла меня в свой круг. Театральное закулисье, хмельное застолье после спектаклей и кутежи в ночных ресторанах. Вы, конечно же, можете вообразить себе людей, с какими я тогда сталкивался. Среди них встречаются представители почти всех профессий с самыми разнообразными пристрастиями, прихотями и отклонениями. Сейчас мне придется рассказать вам кое-что такое, что прозвучит, как отвратительная исповедь. Признаюсь, однако, что мне гораздо легче говорить об этом, чем обо всем прочем, ибо в данной области я давно уже обрел уверенность в себе. Я, видите ли, бываю подвержен сильнейшим страстям, но я не имею в виду муки любви — если говорить о любви с большой буквы. Мне требуется аффект — обязательно, но будет ли его предметом женщина или мужчина, мне безразлично. Или лучше сказать — учитывая мой ярко выраженный нарциссизм, — мне одинаково приятна благосклонность мужская и женская. И любовь, и дружбу я воспринимаю как одинаково чистые, одинаково благородные чувства. Что ощущают при этом другие, меня не интересует. Я черпаю, сколько могу, из своего чувства. И спокойствие моей совести подсказывает мне, что я могу и имею право так поступать…
Короче говоря, — как-то раздраженно заторопился он, — я пользовался успехом. Отчасти, Людвик, но лишь отчасти важно, чтобы вы поняли, как долго не мог я постичь истинных целей мужской дружбы. Я не знаю, отказался ли бы я стать Рембо, если бы рядом появился хотя бы один-единственный Верлен. Ибо та небольшая книжка, что лежит тут перед вами… я считаю ее одной из прекраснейших на свете. Это молитва освобождения. Мне кажется, нет греха в том…
— Так значит, я не ошибался ни вчера, ни сегодня! — воскликнул я, глядя на него с отвращением и тревогой.
— Оставим это. Мне больно, что вы — вы! — воспринимаете все так прямолинейно.
И он продолжал — после паузы, в течение которой словно бы подготовил краткое и ясное резюме.
— Да, я получал предложения от женщин. Их я понимал сразу. Со мной любили вести беседы и мужчины — и суть этих разговоров доходила до меня очень медленно, слишком медленно, настолько медленно, что однажды было уже поздно. Хелена — порочная — развлекалась, сорила деньгами, поглядывала иногда на меня и — все узнала. Узнала? Наверное, ей просто захотелось поверить в это, ибо ей требовались все новые подстегивающие нервы возбуждающие средства. В конторе многие косились в мою сторону, подталкивали друг друга локтями, смеялись, шушукались. Все — но только не Артур. И он в конце концов — пришел!
— Достаточно! — вскричал я и вскочил. — Хватит с меня этой грязи! К чему вы клоните? Что вам нужно?
Но Черный повелительно повел рукой, и я снова сел в кресло, глядя на него едва ли не с ужасом, а он тем временем продолжал ровным и каким-то застывшим голосом:
— Пришел друг — ко мне, одурманенному, который до сих пор ничего не подозревал. Да, я стал принимать наркотики, хотя крепился довольно долго. Но тем не менее я все еще хорошо различал прекрасное и лишь манящее. Артур заметил это — и воспользовался. Друг! Я был ему другом, а Хелене — любовником. Горючая смесь моего тогдашнего окружения; пылающая смесь подавляемых чувств, из коих ни одного я не понимал до конца, ни одному не отдавался целиком, наполняла мою душу. Назойливая и непрестанная близость Хелены и Артура была вогнана в мои дни, точно заноза, и размеренность и упорядоченность привычной жизни оказались исцарапаны моим вторым существованием. Мот и кутила полонил чиновника и пытался переделать его по своему образу и подобию. В моей невероятно занятой жизни я не мог отыскать больше ни единой свободной минуты для себя самого; меня влек за собой тот второй, что внезапно пробудился во мне, и мы с ним вдвоем стали — фарисеем, находящимся в непрерывном движении. И однажды я понял: я болен исполненной мечтой. Да, Людвик, это был особый момент познания. Оказалось, что такая, именно такая жизнь, и являлась в мечтах молчаливому старательному мальчику. Он хотел этого — и обрел: совершенное воплощение. Мои дни были до краев залиты блаженством, блаженством — блаженством! О, Людвик, я купался в нем, но оставался сухим. Словно утка в воде. Взять, Людвик, хотя бы любовь Хелены: фривольная, небрежная, непоколебимая и трудная. Ведь это было как раз то, чего я всегда хотел. Иная любовь измучила бы меня, она казалась бы мне горькой и приносила одни неудобства. И все же что-то внутри меня желало, чтобы Хелена ревновала, следила за мной и требовала, чтобы я за нее боролся. А что касается дружбы с Артуром — она производила впечатление искренней и горячей. Мне казалось, что именно таким должен быть друг, могущий обогатить собой мою жизнь. И такого друга я заполучил. Но все же он постоянно стеснял меня. Ему следовало бы быть чуть больше другом и чуть меньше надсмотрщиком… а еще я сделал великое открытие: у меня нет сердца. Я не в силах дать и не в силах что-то требовать. Ничто и никто не заставит меня звучать в унисон. Я подпитываю сам себя. Я для себя — вселенная. Вот почему мне и удавалось так долго вести двойную жизнь! Страстные мечты, которым не суждено было стать явью? Смешно! Холодное воодушевление отвлеченным чувством. Отвлеченным от человека и сердца. Холодное, невесомое чувство — нечто наподобие эфира. Какое это замечательное открытие, Людвик!
— Скорее печальное, — возразил я. — И как это вы еще не покончили с собой?!
— Ах, — легкомысленно ответил он, — что за странные у вас воззрения! Неужели страдания и в самом деле так притягательны? Если бы мой отец не обманул судьбу и не сотворил меня таким, каков я есть, я, Людвик, многое отдал бы за то, чтобы быть равнодушным.
— L’indifférent[10], — сухо произнес я.
— Да, — горячо отозвался он. — Таким, как его изобразил Ватто. Мне бы хотелось предстать перед вами в тех же самых тонах. Столь же хрупким и грациозным. Пастельная желтизна, резкая синева и розовые тени, из которых рождаются сказочные мечты.
— Вы комедиант, — проговорил я. — Вот что я вам скажу. В скольких ролях вы выступали нынче вечером? Единственное, чего я еще не знаю, так это то, какой именно из ваших идиотских сюрпризов вы мне в конце концов преподнесете. Вы насквозь лживы.
— Вы ничего не понимаете в равнодушии, — сказал он безучастно. — Я этого не ожидал. Равнодушие — это не холод, иначе я бы всегда оставался одинаково ровным. Равнодушие тоже может причинять боль, Людвик. Зачастую это страшные муки, и они не менее сильны оттого, что длятся недолго. Скорее наоборот. Вы неправильно трактуете понятие «равнодушие». Пускай я не сочувствую другим, но зато я сочувствую себе. А для этого сердце не нужно. Думаете, легко мне было покинуть Берлин, когда мои отношения с Хеленой и Артуром стали невыносимыми? Она усматривала в моей дружбе с Артуром то, чего в ней на самом деле не было, и при этом не имела никакого понятия о том, чего я в действительности хотел получить от этой дружбы, тогда как он полагал, что мои отношения с Хеленой ущемляют его права. Поэтому мне пришлось уйти — как раз в тот момент, когда я думал, что все устроено наилучшим образом. Кроме того, я понял, что — ради своего спокойствия и счастья — не могу объединять работу и наслаждения. Я не столь сложная натура. Я люблю ясность и хочу точно знать, где начинается одно и кончается другое. Обжегшись в Берлине, я познал метод. В Париж я отправился, обогащенный опытом. Теперь, я думаю, вы поняли уже многое. Не раз погрузившись в пучину отчаяния, я наконец зажил теми двумя жизнями, которые вам известны. Они полностью отделены друг от друга. Одна не ревнует к другой, и они взаимно равнодушны. Я же, будучи безразличным связующим звеном между ними, способен не только страстно жить обеими, но и с той же страстью создавать их. Я смотрю на них как весьма заинтересованный зритель. Блаженное, возвышенное состояние души; я осознаю себя джентльменом. Быть сегодня одним из самых последних, беднейших и гнуснейших вкупе со всем, что с этим связано, находить удовольствие в жизни нижних отверженных слоев общества — а назавтра, став совсем другим, осуждать свой вчерашний день с ледяным наслаждением и иронией! Быть «белым воротничком», чья должность является важным колесиком в финансовом мире, а назавтра издеваться над собой в каком-нибудь кабаре с дурной славой — все это возможно, Людвик, все это возможно, и это столь же прекрасно, как одиночество посреди океана. Я могу позволить себе все без исключения — подниматься к самым вершинам и опускаться в самые глубины, находить применение всем своим способностям и страдать от того, что я способен не на все, — ибо в любой момент по моему желанию я могу превратиться в кого-то такого, кто готов восславить и проклясть что угодно.
— Невеселая у вас жизнь, — сказал я. Чем дольше он говорил, тем лучше я его распознавал, внимательно и неспешно наблюдая за ним, и хотя его слова складывались во фразы, повествующие о ситуациях совершенно невероятных и ненатуральных, я понимал, что сами по себе эти слова вполне уместны, и мне казалось, что стоит эти фразы несколько перестроить, перестроить совсем чуть-чуть, как возникнут картины истинной жизни, которые пока кажутся фантастическими именно из-за неверно построенных фраз, хотя сами по себе эти картины реалистичны до мельчайших деталей. И еще я понял, что такая полная страсти жизнь возможна, хотя страсти в нее вложено столько, что любая ее частица предстает перед вами, точно исковерканная судорогой, — и это несмотря на то, что живущий такой жизнью выбрал для себя всего лишь роль зрителя и критика. Впрочем, разве критик не столь же страстная натура, как творец, с той только разницей, что он создает нечто, исходя из ценностей, уже однажды сотворенных? Мне, однако, казалось, что Черному чего-то недостает. Так как в его характере был заключен некий нарциссизм и так как, пусть сам того не сознавая, он был открыт для чьей угодно любви, в каждом из своих обличий он нуждался в некой прочной опоре, или основе. Ему нужно было нечто такое, в чем он мог бы видеть свое собственное отражение — чтобы любоваться им или же мучить его. Когда я сказал ему об этом, он заметно смутился и нашелся с ответом только через несколько минут.
— Да, это мне еще предстоит преодолеть. Это, в частности, одна из причин, по которой я вас сюда позвал. А также — надеюсь — одна из причин, почему вы приняли мое приглашение.
Последняя фраза крайне удивила меня, и я не смог это скрыть.
— С первой же минуты, когда вы сюда вошли, — продолжал он, — я нимало не сомневался, что ради простого удовлетворения любопытства вы не предприняли бы авантюру, которая вполне могла оказаться опасной. Надеюсь, что и ваша ко мне симпатия…
Я не дал ему договорить.
— Нет, вы все никак не уйметесь! Кто вы такой?! Вот что для меня сейчас главное! Ибо я принципиально избегаю связей с людьми, которым ничем не могу оказаться полезным.
— Не будь я l’indifférent, — ответил он, — я назвал бы вас злым. Ваша фраза прозвучала двусмысленно — для меня, который уже обвинил себя в столь многих грехах, — добавил он иронически. — Но в данный момент вы можете быть спокойны. О, сколь далек я от того, в чем вы меня подозреваете! Насколько мало я хочу того, чего вы опасаетесь! Ее зовут Камила. Она осыпает меня дарами своей любви, как будто мечтает быть со мной даже тогда, когда я скрываюсь от нее в пространстве, к которому она из зависти относится с подозрением. А когда она спрашивает «Кто ты — днем?», меня так и тянет взять ее с собой, чтобы она всегда была рядом. Но я превозмогаю эту слабость. Ибо знаю, что она дорога мне лишь как воспоминание — вот здесь, в этой гостиной. Только здесь я ее люблю по-настоящему, только здесь, когда нас разделяют дни и городские кварталы, она — моя Камила, и я прижимаю ее к сердцу, тогда как рядом с ней я лишь с удовольствием гляжусь в нее, словно в зеркало любви, где отражаются мои красота, молодость, ледяная холодность моих слов и жестов, которые заставляют ее любить меня — якобы безучастного. Какое блаженство! Был у меня и друг. Но он сам совершил ошибку, требуя от нашей дружбы слишком многого. Правда, он не предполагал о существовании Камилы и не имел ни малейшего понятия, что вон в том шкафу — видите? — хранится хорошо знакомый вам реквизит: внешняя оболочка моего второго «я». О, сколь привольной и глубокой жизнью мог бы жить бок о бок со мной тот, кто знал бы обо мне все! Он стал бы мне другом в пороке и добродетели.
И он поглядел мне прямо в глаза. В его взоре отражалась сильная воля, которая его поддерживала, и читался немыслимый, как мне показалось, вопрос. И я сказал:
— Так что же, это я должен был бы стать для вас надежной осью на всю жизнь и своеобразной жертвой?
— А также и счастливой жертвой, — ответил он, не спуская с меня глаз. — Или вы думаете, что есть нечто выше, чем понимание относительности любого инстинкта, чем понимание того, что самое важное для человека — это сосуществовать с другим, доверяя ему, ничего не стыдясь, свободно и продуктивно?
— Продуктивно?
— Да, продуктивно, — шепнул он. — Так, чтобы творить чистоту повсюду и в каждом. И не подозревать.
Стараясь ответить ему таким же взглядом, я выдавил из себя:
— Но ведь у вас был друг. И кажется, хороший. Почему же вы не внушили ему эту свою потребность в универсальной проекции?
— Шарль умер. Он поддался своей любви. Он предлагал мне слишком много и не понял, что, прими я все это, он упал бы в моих глазах. Ему пришлось умереть, иначе он навсегда стал бы для меня непреодолимым препятствием.
— Пришлось умереть?
— Да. Этого потребовало присущее мне чувство независимости от людей, от их стремлений и желаний. Зачем он отведал напиток, который я приготовил на всякий случай?
— Что?! — выкрикнул я и расхохотался. — Что?! Так вот чем вы заканчиваете свою комедию? И все это лишь затем, чтобы использовать меня в своих сомнительных целях! Вы — отравитель! Отлично.
На что он ответил с полнейшим спокойствием:
— О, я хорошо знаю: вы принимаете на веру любое мое слово.
Однако тут он ошибся. Впервые. Я был убежден, что на подобное злодеяние он не способен, и высказал свою убежденность так:
— На сей раз вы глубоко заблуждаетесь. Вы, насмехающийся над жизнью фигляр, бесполое в физическом и душевном смысле существо, вы — и поступок, который потребовал бы от вас столь непосредственного соприкосновения с жизнью?! Ах, если вы хотели, чтобы я этому поверил, вам следовало оставить при себе ваше повествование.
— Это я-то фигляр и бесполое существо? — воскликнул мой собеседник, побледнев. — Наивный, вы решили, что я боюсь жить? Неужели вам не ясно, что жизнь, которую веду я, и есть самая истинная жизнь, какая только бывает? Скажите, разве не является главным действующим лицом в театре именно завзятый зритель? Не он ли составляет нерв всей комедии? О, вам это известно так же хорошо, как и мне! Я еще вчера распознал в вас своего человека — нелюбопытного, который лишь наблюдает и слушает, не задавая вопросов. Пришли бы вы ко мне, если бы не были таким, каким я вас считаю? Вы знаете и верите. Почему же в последний момент вы отступаете, Людвик? Пришла пора нам объединиться. Я толкую вам об этом весь вечер, а теперь пришла пора…
— Пора для действий, господин Черный! — вскричал я, должно быть, побледнев не меньше его, так как ощущал сильнейшее отвращение к его выпадам и намерениям. — Прежде были только слова. Совершите что-нибудь! Ну же, совершите, пусть это будет что угодно!
— А потом? — спросил он, вперив в меня взор.
— А потом я поверю!
— А после?
— После, — сказал я, взвешивая каждое слово, — вы будете достойны того, чтобы я заменил вам Камилу и Шарля.
— Правда?! — воскликнул он радостно. — Правда?! Ваше обещание — это уже поступок. О боги, я сумел объединить оба мира, мои чувства больше не раздвоены, я всего достиг!
И с этими словами он сорвал с пальца золотой перстень и, прежде чем я, охваченный предчувствием, успел помешать ему, поднес его к губам и с торжеством во взгляде проглотил его содержимое. Я выхватил у него это смертоносное и прекрасное оружие, но было уже поздно. Он отравился.
— И что дальше? — спросили мы хором.
— Вы дали ему противоядие? — засмеялись некоторые.
— Он умер, — ответил Людвик едва слышно.
— Ну и слава Богу, — сказал какой-то шутник. — По крайней мере вам не пришлось долго мучиться с этим типом.
— Не совсем так, — ответил Людвик, бледный и нервный, собираясь уходить. — Не совсем так. Я вижу его довольно часто. Он и я — разве вы не поняли? Правда не поняли, мои сообразительные друзья? А сладкий яд, который я пью, когда совесть становится слишком навязчивой, это итог усилий, которые я приложил к тому, чтобы познать, что мир един и неделим, что он весь заключен в каждой молекуле и что я, завзятый зритель, имею святое право на любое место в этом партере плача. Впрочем, я занимаю всякий раз одно-единственное место и не мешаю остальным.
После этого он ушел.
Одни сказали:
— А знаете, усилия Людвика не пропали впустую. Теперь ореол этого «завзятого зрителя» сильно поблек в наших глазах.
Другие же возразили:
— Завзятый зритель? Да полноте! Так оправдываются все безучастные актеры.
На том и порешили.
ПОЛЕТ ВОРОНЫ © Перевод И. Безрукова
В свое странствование она отправилась с каменной балюстрады колокольни. Именно оттуда оглядела она город и задумала улететь. Она даже не вспомнила о своих воронятах, которые без нее погибнут. Ей хотелось куда больше, чем было в ее силах: прочь, прочь отсюда, в края, которые не увидишь, даже если поднимешься на высоту в два раза выше той, на которую вздымается крест на острие колокольни. Лишь на миг, на короткий миг задержало ее беспокойство за детей. Маленькие, черные, они возненавидят ее, потому что не смогут понять. И тогда ей захотелось броситься вниз на мостовую и разбиться, но вовсе не потому, что ее охватило отчаяние из-за детей, а потому, что ее воля оказалась так слаба. Однако это продолжалось всего мгновение. Она взглянула на солнце — а птицы смотрят на него смелее, чем люди, — и, напитавшись таинством света, которое оно посылало, уверилась, что сможет сейчас перелететь даже море. Огромная радость переполняла ее. Она с доблестью отрешилась от всего, что покидала, и — расправила крылья. А потом, поднявшись немного повыше, полетела.
Ворона летит красиво. Не как ласточка, которая, подобно выпущенной стреле, устремлена к цели, выбранной кем-то другим. И совсем не так, как жаворонок, который, освободившись от земных пут, возносится по спирали, сужающейся кверху; жаворонок, гибнущий от блаженства, когда достигает своей вершины. Но полет вороны не похож и на орлиный полет, эту песнь силы и счастливого могущества. Полет вороны вот каков.
Над бескрайними просторами, не столько в высоту, сколько в даль; в той неоглядной и неясной дали чудится ей цель, которая, если ее достичь, сможет превратить ворону в изумительной красоты птицу — а петь она станет лучше, чем самый влюбленный из всех соловьев. Но пока еще ни одна ворона не долетела до этой цели, хотя многие погибли в безумном полете, стремясь к ней. Вот почему полет вороны — это настоящий гимн бесплодному поиску. Она движется в огромных покоробленных плоскостях. Ее полет — это смятенное метание. И если зимой касается она крылом земли, засыпанной сухим снегом, то он фонтанчиком взвивается вверх, как будто земные глубины в бессильной злобе исступленно плюнули в птицу. Тогда, отчаянно каркнув, она резко, накренившись набок, взлетает повыше, чтобы быть как можно дальше от враждебной земли. Но изрыгающие проклятия земляные комья притягивают ее, и она опускается ниже, беспомощно качая крыльями, чтобы продолжать свое бессмысленное путешествие прямо по-над полями. Дорога на заповедную высоту для нее, несчастной, закрыта, но, измученная, она все летит и летит в недосягаемую даль, над огромными печальными просторами.
Приходилось ли вам видеть ворону, летящую над аккуратным и приветливым краем? А может, вы видели, как пролетает она над сочными пастбищами с откормленными стадами? Над деревеньками, укрытыми среди густых садов? Над веселыми городами и пышными усадьбами? Нет, вы замечали ее над унылыми торфяными болотами, поросшими яркими ядовитыми цветами. Над бедными селениями, стоящими среди каменистых полей; вы видели, как направляется она к развалинам некогда знаменитых замков. Она летит над городами, погруженными в траур, и над усадьбами, вокруг которых простираются дикие, словно застывшие в оцепенении пустоши. Отдыхает же она на верхушках церквей, украшенных символом порабощения — крестом. И все же полет вороны прекрасен. Прекрасен ее заранее обреченный на неудачу поиск, величаво прекрасна ее цель, имя которой — гибель: к ней-то в слепом самозабвении и устремляется поколение за поколением.
Ворона, о которой я рассказываю, была несчастна вдвойне. Когда она была птенцом, как раз таким, как брошенные ею нынче воронята, злой мальчишка поймал ее и ослепил на правый глаз. Он как раз собирался проткнуть ей левый, когда прилетела ее мать и, шумно хлопая крыльями, прогнала негодяя. И вот эту-то одноглазую ворону избрали для долгого странствования. Было предначертано, чтобы она, преодолев свои тоску и скорбь, оставила детей и отправилась в путь. Увы, никогда ей не вырвать их из бесчувственных рук изверга мальчишки. Воронята обречены на гибель, и она не подоспеет к ним на выручку. И все же она не могла не мечтать об отлете, ибо была одной из тех ворон, которым на роду написано совершить бессмысленное путешествие. Не каждой птице достается такая горькая — и священная — доля…
Во время полета половина ее была погружена в ночь. Ведь ей чудилось, будто она летит вдоль черной, до ужаса черной стены, которая протянулась справа на протяжении всего ее пути.
Своим левым глазом она видела сплошные наводящие тоску пустоши и, будучи не слишком искушенной, полагала, что благодатные, райские земли расстилаются как раз за стеной, заглянуть за которую ей не дано. И оттого, что она знала только нищету и черную бездонную пропасть, ей грезилась веселая красота.
Она думала, что стоит увидеть ее, как сердце разорвется от восторга.
«Веселая красота!» Она знала лишь эти слова, которые говорили ласточки, иногда пролетавшие мимо. Она знала только слова! И все-таки они не были для нее пустыми и бессмысленными. Веселая красота — это, наверное, гнездо, громадное-прегромадное, уютное и не слишком глубокое, и оно сплошь устлано мягким пухом. Где-нибудь на отлогом травянистом склоне холма, у подножья которого течет, спешит среди цветов чистая вода. Гнездо, куда не добраться ни одному врагу. Но самое прекрасное — это то, что над ним никогда не заходило солнце. Оно непрестанно посылало в гнездо косые пучки лучей, полнившиеся сияющим светом и ласковым теплом. Этот свет так сиял, что ее блестящее черное оперение переливалось всеми цветами — и она не была уже черной птицей, а превратилась в диво, сотворенное из разноцветья. И добывать корм было очень легко. Вода, утоляющая жажду, совсем рядом. И веселая красота тоже близко, потому что она навеки поселилась в ее сердце.
Мощно, упорно взмахивая крыльями, ворона плыла над бледно-желтой равниной, где стоял покинутый ею город.
Точно из железа были ее крылья в начале пути. Она верила в свою силу, которая может перенести ее через море. По ее жилам разлилась необъятная уверенность, превратившая ее сердце в твердыню, где прочно поселилась гордость за себя, за то, что она отправилась в странствование. Она видела, как слева бежит под ней пустынная равнина, однако верила, что правым глазом узрела бы цветущие сады. Впервые в жизни она не жалела о слепом глазе. Ибо в своей торжествующей радости видела сады еще более прекрасные, которые указывали ей дорогу к желанной цели. И птица уверенно и неспешно добивалась ее. Однако если бы безжалостный мальчишка не лишил некогда птенца правого глаза, ворона теперь заметила бы, что движется вдоль края болот, тянущихся далеко на запад. Там были мертвые мелкие озерца, дно их таило коварство, и они непрерывно сменяли друг друга. Как мертвые глаза огромных рыбин, неподвижно лежащих на боку, мутные и жуткие… Увидь она их, она бы усомнилась в цели своего победоносного путешествия.
Она почувствовала бы в крыльях оловянную тяжесть, тяжесть, ломающую ее полет. Ей бы страстно захотелось вернуться к брошенным детям, захотелось до панического ужаса, до того, что ей привиделись бы гадкие мальчишки, ослепляющие ее малышей. И этот ужас сломил бы волю птицы и погнал ее обратно — даже если бы она уже достигла порога, за которым ожидала ее сулящая счастье цель. А потом… потом она никогда бы уже не распростерла крылья для героического полета. Ведь не ворона летела вперед, а истинная героиня. С каждым взмахом крыльев гордость в ее сердце все возрастала. Упоенная геройством своего полета, она ожесточилась против тех, кто должен был остаться. Забыла, что ее всего лишь избрали, и начала полагать себя творцом своего великого решения. Поэтому она презирала своих менее счастливых сестер, и в конце концов ее сотрясла дрожь гордыни и грубой ненависти, ненависти, подталкивающей ее к бою. Как же долго пришлось ей жить с ними, ей, ей, которая летит, подобно орлу, чей полет есть песнь силы и счастливого могущества. Летит, слепая и маленькая, как витязь, которого ожидает безнадежная битва; летит, полная решимости и воодушевления, к победе, означающей ее погибель. Она спешит, опьяненная радостью, к неминуемой смерти, как невеста торопится упасть в объятия жениха. Она, рожденная вороной среди орлов, была готова ко всему. И, легкомысленная, все летела по вздымающейся и опускающейся кривой. Тучи мчались с ней наперегонки, и ее острый слух ловил гулкий шум их полета. И тогда ее обуяло честолюбие, ей захотелось поднимать и опускать крылья в такт этому бешеному бегу.
Ее полет невероятно ускорился, это был уже не полет вороны, а нечто неостановимое, не подчиняющееся законам воздушной стихии. Птицы разлетались перед ней. Воздух вокруг стал таким разреженным, что она едва дышала. Но ликующая песнь неумолчно звучала в ее сердце, ибо кричать во время этой сумасшедшей гонки она не могла. А когда ей встретилась стая ворон, возвращавшихся в город, она приостановила полет, быстро поднялась на высоту в три раза выше той, на которую вздымалась колокольня, место ее недавнего обитания, и стремглав, расставив крылья, обрушилась вниз, на стаю. Едва не коснувшись птиц, она притормозила и неспешно и беззаботно поплыла дальше. И запели тогда вороны: «Неразумная, ты порочишь свой род, не умереть тебе счастливой». «Я не умру вовсе, трусихи!» — прокричала она, удаляясь. И почувствовала к воронам, которые летели в город, брезгливость большую, чем к тварям, рожденным ползать. Издалека донесся до нее еле слышный хорал, распеваемый ее бывшими подругами: «Несчастная, безбожница».
Ее сердце, полное отвращения, посмеялось над этими словами. Но оно замерло бы, если бы ворона могла видеть правым глазом, ибо заболоченные лужицы тошнотворно всколыхнулись, словно в ожидании мертвечины, которую они поглотят. Но ворона не видела и потому могла смеяться. Одноглазая ворона не видела этого и могла смеяться. Она могла смеяться, потому что была уверена в наличии света там, где на самом деле властвовала тьма, она не могла отчаяться, потому что внутреннее зрение убеждало ее, что она видит цветущие сады там, где на самом деле оловянно поблескивали болотца.
Она почувствовала, что ее крылья устали от долгого полета. Но смелость ее не уменьшилась, воодушевление не угасло. Поразмыслив, она отыскала на своем пути голое дерево и полетела к нему отдохнуть. Ее грудь вздымалась, когда она села на ветку. Отдыхая, она приглаживала клювом перья, взъерошенные ветром. И отдыхала ровно столько, сколько требовалось. Потому что ворона страстно мечтала долететь как можно быстрее. Не из-за нетерпения, а из-за страха, что ее гордое сердце в предвкушении победы вот-вот разорвется. Она вновь поднялась в воздух. Передышка не сломила ни ее воодушевления, ни восторга, ни воли — да и гордость ее и презрение остались несломленными.
Мощные взмахи крыльев, величественные и шумные теперь, когда вечер выбирался из грязных озер, несли ее вперед, и она снова вспомнила о грозном предсказании сестер, встреченных ею.
Но теперь она уже не смеялась над ним. Оно просто звучало у нее в голове, и ворона вновь слышала укоряющий хорал и думала о его красоте. И она сказала себе: «До чего же прекрасно звучало то проклятие, которое они на меня наслали». Ее охватило сожаление. Не сожаление от того, что ее прокляли, она не чувствовала тяжести проклятия, нет… она даже не могла бы толком сказать, была ли то жалость к проклинавшим ее.
Вероятно, она сожалела о тех, кто прежде нее отправился в этот путь, — об отважных героях, которые не долетели, может статься, именно потому, что не сумели как следует укрепить свое сердце против проклятий. Не оттого ли, что они были зрячими? Она не знала. Да, она думала обо всем этом, но не чувствовала ни усталости, ни подавленности. Что могло ее, сбросившую путы и вольную, заставить повернуть назад? Разве не торопится она вдаль, как комар на свет, комар, который знает, что свет таит в себе его смерть, но не пугается этого, ибо тешится сладкой надеждой, что смерть придет за ним как раз в тот миг, когда он достигнет света?
О, сколь могучим был этот полет! Ночная тьма уже совсем сгустилась, так что вороны и видно не было, а лишь слышалось громкое хлопанье ее крыльев. Она высмотрела себе укрытие среди чахлой травы и, закрыв левый глаз, уснула, наполовину бодрствуя. Сны не посетили ее. Она была одна-одинешенька в этой пустыне, на пути к земле обетованной. Только она одна была силой, сопротивлявшейся пагубе болот.
Она летела уже много дней… возможно, годы миновали с той минуты, как оставила она своих малышей и свою башню. Поскольку она была простой вороной, то все это время летела над отвратительным краем. А поскольку она была одноглазой вороной, то все это время ей грезилось, что она летит вдоль цветущих садов. Она постоянно была одна, ни с кем даже словом не перемолвилась. Да, по чести говоря, и не с кем было, уж очень пустынными оказались эти места. Ни на миг не оставляла ее уверенность в том, что она одолеет свой путь, ни на миг не ослабели ее воля, и храбрость, и надежда. Отвращения и брезгливости не было больше в ее сердце. И жалости в нем не было, и воспоминаний. За этот долгий срок ее сердце опустело, оно не ощущало больше прошлого, оно вообще уже ничего не ощущало. Оно билось только ради великой цели, и наконец оно вовсе исчезло. Сердца больше не было, осталось лишь чувство. И имя ему было — необходимость достичь цели. Ворона летела над болотами, и в ней трепетала необходимость достичь цели. Вперед летела необходимость достичь цели, вот как обстояло дело…
Она постарела, отощала. Ее оперение перестало блестеть, потускнело, перья топорщились. И левый глаз, неустанно ищущий, слабел день ото дня.
Она знала об этом, потому что чувствовала, как стареет и теряет силы. Она знала обо всем, даже о том, что слепнет, однако не собиралась сдаваться. Яростными, страстными гребками продвигалась она вперед — так надо, так надо! Озабоченность сопровождала ее, но никак не страх. От вечного поиска шея ее вытянулась, и теперь ворона походила скорее на стрелу, чем на птицу. День за днем, год за годом миновали, но странствию не было конца. День за днем, год за годом миновали, но вере ее не было конца. Как же хорошо она все обдумала за это время! Как разобралась во всем, как все себе объяснила! Ей открылся смысл ее полета, ей стало ясно, почему именно она, одноглазая мать, должна была отправиться в него. Ей открылось, какое положение она занимает в огромном вороньем семействе, открылось, что положение это не такое, как у всех прочих. Она походила на них только своим одеянием. Больше ничто не связывало ее с ними, так что она не могла чувствовать по отношению к ним ни жалости, ни презрения — она, которая вся уже была: необходимость достичь цели. Она жила лишь собой, своим предназначением, жила лишь потому, что летела вперед, вперед, над землями и водами. И только одно было ей неведомо; нет, не то чтобы неведомо: она отвергла бы даже тень вероятности, если бы та закралась ей в душу, — настолько бессмысленной показалась бы ей мысль, что она очень давно, давным-давно достигла своей цели, что она достигла ее в ту самую минуту, когда решительно взмыла с колокольни. А ведь так оно и было. Ибо цель ее звалась — невозможность отступить, необходимость долететь. И это по сути одно и то же. Вот почему ее не ужасали тоскливые пейзажи, вот почему ее полет не ускорился бы, заметь она слева вожделенные сады. И именно поэтому ей не страшны были проклятия ее неразумных сестер, и именно поэтому успокоиться она могла бы лишь у цели, рисовавшейся в ее воображении: громадное гнездо, уютное и не слишком глубокое, где-нибудь на травянистом склоне. Ибо с самого начала она не собиралась отступать и жила необходимостью долететь.
И все же в конце концов настал день, когда она осознала, что цель давным-давно достигнута. К тому времени она уже не была птицей, но превратилась в отвратительное на вид чудище. Перья вылезли. Тело было голое, желтое, побитое морозом, исхлестанное ветрами и дождями, покрытое гнойными язвами. И только крылья и хвост каким-то чудом уцелели. Но они выглядели пугающе на этом маленьком нагом тельце. Вдобавок оперенные конечности казались мерзостными из-за насекомых, там поселившихся. Тело же, мертвое при жизни, было дырявым, прогрызенным червями, с вывалившимися наружу внутренностями, с которых стекала на землю густая желтая жидкость, помечая путь вороны каплями. На голове осталась лишь небольшая полоска перьев, она походила на гребень и устрашала. А клюв! Клюва вообще больше не было. Верхняя челюсть отвалилась, обнажив язычок. И лапы без пальцев. С такими культяпками ворона могла садиться только на песок, чтобы зарыть их в него.
Если какая-нибудь птица встречала этого отвратительного путника, она тут же умирала и падала в грязное озерко. И это вот жалкое тельце все летело, летело, летело, подобно величавому орлу, не догадываясь, что давно уже могло бы обрести покой, достигнув желанной цели.
И лишь в тот день, когда иссякла последняя возможность хоть как-то удерживать вместе все эти отдельные кусочки плоти, и — слушайте, слушайте! — лишь в ту минуту, когда эта гниющая масса распалась, что было равносильно смерти… лишь в ту последнюю секунду, когда тело вороны было еще более-менее единым целым, она наконец поняла все. И спустя мгновение мерзкие куски желтого мяса и кучка перьев, черных, тусклых, рухнули в одно из маленьких озер.
Даже возрадоваться ей не удалось, хотя сердце ее в эту последнюю секунду познало всю ликующую радость жизни.
Я что-то сказал о сердце, да? Однако же у нее не было сердца. Я, по крайней мере, думаю, что не было.
Три дня искал я его, но так и не нашел. Наверное, вместо сердца у вороны была — необходимость достичь цели. А ее не отыщешь.
РАВНОВЕСИЕ © Перевод Н. Фальковская
Почему вы дрожите? Почему боитесь, что я сорвусь? Ничего плохого не может случиться со мной, пока мой непрестанно работающий мозг ясен и служит мне. Вы видите лестницу. Она легка, хотя и выглядит тяжеловесной. Она из толстых бамбуковых палок, сверху и снизу окована латунью, и я очень люблю ее, ибо знаю до мельчайших подробностей — от строения сосудов до коэффициента упругости. Меня восхищает несоответствие между кажущейся неуклюжестью и легкостью и податливостью, которые выделяют это дерево среди остальных. Я хозяин над лестницей. Вы видите меня на ее вершине, где я принимаю различные позы: вот стою на верхней перекладине на руках; вот подтягиваюсь на поперечине с левой стороны, далеко отведя вытянутую правую ногу; вот держусь за лестницу одним лишь подбородком, вот совершаю быстрый кувырок, так что вы, видевшие мое лицо, видите теперь спину, и наоборот. Поглядите на моего отца. Он покоится на лежаке, и его голова слегка приподнята жесткой подушкой. Ноги составляют с телом прямой угол, а на ступнях балансирует эта неуклюжая и, однако же, столь продуманно сконструированная лестница, на которой я выполняю все свои стойки и перевороты. Признайте, что со стороны все это выглядит очень странно: словно отец, лестница и я составляем единое целое и подчиняемся иным законам, нежели те, что правят остальным миром. Уверен, вы именно так и думаете. Ибо не хотите же вы при виде этой непостижимой фигуры равновесия уподобиться умалишенному, который, наблюдая различные события, знает, что ими управляет та же фатальность, которой подчиняется он сам, — однако эта фатальность представляется ему не результатом действий, но раз и навсегда данным состоянием, которым он потрясен, ибо не постигает его генезиса, не умеет понять его ход. Это и есть безумие. Вы тоже потеряли бы рассудок, если бы жестокая необходимость принудила вас объяснять мои поступки точно так же, как вы объясняете свои собственные. Но вас пощадили, и вам дано искать смысл моих трюков в иных сферах. Так вы спасаетесь от неотвратимой потери рассудка.
Однако погодите! Мои трюки на лестнице — это далеко не все! Какой еще иронией над вашим представлением о состоянии равновесия обернется тот номер моей программы, во время которого на высоком упругом шесте, балансирующем на правом плече отца, я выполняю упражнения (на самом кончике шеста!), всей своей тяжестью налегая именно на ту сторону, которая, как вам кажется, и без того уже перегружена несимметричностью!!
Еще не настало время рассказать вам, какие внутренние приемы позволяют нам выполнять наши трюки, которые кажутся вам настоящими чудесами. Да, внутренние приемы, говорю я, ибо разве могли бы вести к нашим замечательным результатам лишь механическая ловкость и тупая привычка? Если бы наше искусство целиком лежало на поверхности, нам не стоило бы завидовать. Но вы-то завидуете нам, завидуете даже больше, чем прочим художникам, ибо инстинкт подсказывает вам, что, скажем, моя фигура «флаг на мачте» доставляет мне истинное блаженство, а не простую удовлетворенность от достижения совершенного равновесия. В глубинах вашего сознания, там, где, словно колдовское зелье из неведомых трав, рождается умозаключение, именно в этих глубинах разрастается ваша зависть к тому обстоятельству, что, когда мои ноги развеваются в воздухе, бросая оскорбительный вызов равновесию, я достигаю таких высот чистой и ясной целостности, которые вам могут лишь пригрезиться в горячечных снах — причем не как результат, а только как точка, к которой должны устремляться ваши усилия. В это мгновение я, безусловно, выше всех вас, но даже когда я спущусь вниз, чтобы, подобно вам, ступать по земле, спать, казалось бы, совсем, как вы, и отправлять любые жизненные функции, присущие каждому из людей, я все равно буду отделен от вас преградой, впрочем, столь же эфемерной и невесомой, как осознание мною собственной причастности к чуду…
Да, вы жаждете чуда, и вы правы. Это чудо, я волшебник. Вы не обязаны этому верить, я не могу вас в этом убедить, но чудо возможно. Благо, если ваш образ мысли таков. Благо для вашего блага и для вашего спасения. Вы потому настолько завидуете нам, что вам кажется, будто мы переживаем чудеса постоянно. Мы так отличны от иных художников! Их творчество или совершенно духовно, или совершенно чувственно. И они творят — либо лишь духом, либо лишь чувствами. И продукт их творчества услаждает либо только дух, либо только чувства. Эти художники держатся определенных границ, так что их творчество не переходит трансцендентно из фазы в фазу. На нас же вы взираете иначе, и работа наша иная. Кажется, мы полностью погружены в материальное и его законы, из них мы строим, из них черпаем. Однако взгляните, как наш результат, являющийся словно бы доказательством физической формулы, преодолевает границы физического. Все вы видите, что для нас формула обладает красотой не только целесообразности, но и эстетики; все вы замечаете, что наше действие, выражаемое вещественно, примечательно как сумма и гармония материального расчета и как импульс потрясений чувственных и духовных; все вы ощущаете, что ваше удивление, вызванное совершенной слаженностью наших мышц, подчиненных воле, которой, в свою очередь, управляют неторопливые раздумья о целесообразности, — это некий плотный слой, окутывающий обожествление, с каким вы встречаете это равновесие, утвердившееся в нашем восприятии, в наших мыслях и нашем понимании. Но вы это скорее чувствуете, чем знаете, а потому ваша зависть, проистекающая из этого чувства, скорее чувствуется, чем осознается, и претворяется в обожествление, то есть поклонение недосягаемому.
Как часто, о гости нашего цирка, как часто ощущаю я в миг, когда достигаю на отцовской лестнице или шесте совершенного единения усилий и достижимого в смелой (вы скажете — головокружительной) стойке, как часто ощущаю я тогда, что виноват перед вами, что мне дано больше, чем вам, и я обязан отдать этот избыток. Я ослеплен гармоничным вихрем мыслей и чувств, окружающих меня и отделяющих от прочих людей, и кажется мне, что я вижу, как вы тянете ко мне свои руки, но не аплодируя, а моля о выкупе или милостыне. Да, я чувствую, что должен чем-то искупить мощь собственной независимости и поделиться с вами частицей своего всемогущества, дабы хоть отголосок моего наслаждения сумел проникнуть в неустойчивость вашу, оделив вас, пусть лишь на мгновение, промельком осознания прочности… даже и иллюзорным. И грустно мне. Ибо сделать для вас я ничего не могу. Моим избытком невозможно поделиться, он неотъемлем от меня, он и есть я; вы же, догадываясь о своей бедности, противостоящей моему богатству, не почувствуете себя богаче, даже если бы я отдал вам его часть. Мы, вы и я, словно две параллельные прямые, способные знать друг о друге, но не поддерживающие между собой никаких отношений. Думайте о чудесах. Я сам хочу помочь вам остаться в границах сверхъестественных, запредельных представлений. Это все, что я могу сделать для вас. Воистину, все более углубляя пропасть между миром своих и ваших представлений, я создаю для вас самое полезное из всего, что в моих силах. Чем более верите вы в сверхъестественное, тем дальше я от вас, так что до меня не докричаться; и тем лучше, лучше для вас… Но что если я попытался бы перевести это свое в ваше? Пусть этим я лишил бы свое переживание его сути, низведя до серости свою гордость, зато для вас, возможно, в этом переводе еще прозвучал бы жгучий лиризм, который позволил бы вам поверить, что вы вырвались из бессильной неустойчивости своего существования и легко парите в сферах совершенного равновесия. Конечно, лишь вашего равновесия: но кто же измеряет свое счастье иными мерками, чем те, что составляют его собственную норму?
Надо ли мне к этому стремиться? Глядите, пока икры моего отца подергиваются, но не в нервных, а в прекрасно ритмичных конвульсиях, которых вы не видите, я занял положение на верхней перекладине. Держась за правую боковину и изогнув тело крутой дугой, положив обе ладони на боковину, я поднимаю ноги — медленно, так медленно, что со стороны кажется, будто я хочу оказаться на волосок от той границы, за которой мое перевернутое тело перевесит и рухнет вниз. Но мы никогда не доходим до самой границы. Это лишь вам кажется, что нельзя бесстрашно двигаться дальше; однако у нас хорошо рассчитан и ряд других возможностей. Неустойчивое равновесие, а именно о нем заставляет вспомнить наша группа, в действительности прекрасно закреплено и совершенно надежно, ибо между глазами моими и отцовскими протянута нить взаимопонимания. Это самый надежный канат, с бесконечно огромным коэффициентом прочности.
Из чего соткано это взаимопонимание? Если наши глаза рассказывают друг другу о напряжении мышц, о завихрениях древесных сосудов, заметных нам одним, об уверенности или же о притуплении воли (что уравновешивается автоматически снижением или повышением энергетического напряжения партнера), о сотрясениях лестницы, об ослаблении отцовской опоры, то говорят они обо всем этом языком банальным, как-то механически, привычно, обыкновенно. Наше взаимопонимание прочнее, оно создано из глубокой симпатии. В момент нашего выступления не должно быть — и нет! — ни малейшего непонимания между нами двоими, мы почти единое существо, наши страсти, наши привязанности, наши нежности тождественны. Мы сливаемся в совершенстве согласия. Я уверен, что он занят тем же, чем занят я, а он знает обо мне то же самое. И из этой уверенности возникает удивительное состояние, когда наши помыслы могут безнаказанно бежать далеко отсюда, за пределы манежа, от сиюминутного рабства. О! Вы полагаете, что в это опасное мгновение жизнь наша сужается до границ будничной целесообразности трюка, но на самом деле мы живем самой полной и интенсивной жизнью. Мы можем себе это позволить. Ибо, как я уже сказал, речь идет не о качестве пережитого, но о том, чтобы пережить одно и то же действительно вдвоем. Эта уверенность есть и у него, и у меня, а потому в мгновение, кажущееся вам наиболее опасным, мы лучше всего защищены от зла, мы — самые свободные. Мы чудесным образом расцветаем. Мы словно подытоживаем весь ход своей жизни. Восхищайтесь! Ибо оба мы прожили одно и то же, этому научило нас наше искусство, поднявшее нас над различиями индивидуумов. Мы прожили одно и то же, ибо вечер за вечером мы вынуждены были мыслить обо всем согласно. Это рабство, говорите вы, отказ от личной свободы? Но зато какая неограниченная свобода для нас ходить безнаказанно по канатам своих впечатлений, вдалеке отсюда, вдалеке от манежа, вдалеке от вас и вашей толпы. Мы не просто итожим, не просто проживаем, но доходим до самой сути, ибо время кратко и сладко, и в нем нам всегда хочется вновь пережить все от того мгновения, когда судьба соединила нас в одного человека, до мгновения нынешнего, когда вы с тревогой полагаете, что я, находящийся в безопасности, вот-вот сорвусь, стану калекой или даже погибну.
Мы засмотрелись в глаза друг друга, похоже, будто мы держимся за руки, словно танцоры, которым удается в стремительном вращении резко отклониться от вертикали; один позволяет это другому тем, что то же совершил сам. Я взираю вниз и слышу со своей высоты, как взгляд его весело поет «Киото!» — но прежде, чем это выразила искра его глаз, до него дошла уже моя веселая искра, означавшая: «Да, отец, я знаю. Пять лет тому назад. Мы репетировали впервые. Я был до смешного мал, в сандалиях, в короткой шелковой куртке, а тренировались мы на окраине города, и ты извлек лестницу из-под нашего домика, стоящего на сваях. Мать чистила рис, а маленькая сестра сыпала белый пепел на холмик, слепленный из садовой земли, чтобы получился снег на Фудзияме. И большая стрекоза, прилетевшая с рисовых полей, ударилась о твой нос. А тебе стало так щекотно, что ты не справился — и я упал. Хорошо, что наша лесенка была тогда всего в две перекладины. Сейчас бы все кончилось хуже».
А пока глаза мои молчат, я вспоминаю случай в копенгагенском цирке и вижу речь его глаз: «В Копенгагене, — говорят они, — это было, конечно, по твоей вине. Ты не привык еще к аплодисментам во время сложной стойки; да и было это наше первое выступление для заграничной публики, в остальном, впрочем, совершенно триумфальное. Но ведь при падении ты совершил замечательный кошачий кувырок, а я вовремя опомнился от первого шока и успел схватить руками лестницу, иначе раздавившую бы меня. Но тяжелее всего этот случай переживала Лелия».
«Которая потеряла сознание за шторой, скрывавшей вход в артистические уборные, — говорю я еще до того, как увидел это имя. — Ей пришлось отменить свой номер, который шел следом за нашим. Лелия!»
«А ты помнишь. — твердит взгляд моего отца, взгляд в это мгновение такой отеческий и дружеский, — помнишь, что случилось на Лертском вокзале в Берлине?» «О! — отвечаю я. — Она стояла в самом конце очереди у окошка кассы, нагибаясь то вправо, то влево, чтобы лучше видеть меня. А я видел ее, даже не поворачивая головы. Черт! Она то сжимала перильца, за которыми толпились пассажиры, то отпускала их, то поглаживала ладонью. А потом, когда к окошку подошел ты, она подбежала, чтобы услышать название станции, до которой ты попросишь билет. Позже, когда мы мчались в Копенгаген, она в поезде призналась нам, что сначала собиралась в Кенигсберг. Задатка она лишилась. — Неужели я был таким красивым, отец?»
«Ты очень привлекательный молодой человек», — перебивает мою безмолвную речь его добрый взгляд.
«И все же она далеко, а я пережил много бессонных ночей».
«Но ведь не из-за того, что она покинула тебя — ибо разве могла она действительно тебя покинуть? — за ней приехал ее жених, клоун из цирка Буша».
«Мы всего лишь азиаты».
«Она любила тебя».
«Я любил ее».
«Она вышла замуж, и у нее уже двое детей».
«Поэтому из наездниц она ушла в пантомиму».
«На черном фоне, с магниевой вспышкой».
«У нее постоянный ангажемент, три тысячи марок в месяц».
«Мы зарабатываем больше».
«И мы всегда вдали от родины. Но никогда не затоскуем мы о ней, ибо часто, каждый день — как вот, например, сейчас, отец, — мы целиком, целиком на родине. Ты видишь в это мгновение наш сад с решетчатыми павильонами; и ветер раздувает их легкие, свободно скрепленные циновки. Из Киото и с пристани доносятся удары молота, вой сирен, гулкий стук брошенных наземь ящиков и шаркающий бег двуколок. Но все перекрывают голоса людей — они звучат то хором, то каждый по отдельности. Через наш сад протянут провод с электростанции, по городу иногда проезжает трамвай в сторону фабричных предместий. Вот из павильона выходит мать в атласном кимоно, ее волосы с помощью множества длинных шпилек убраны в высокую прическу. Она идет навстречу почтальону, принесшему наше письмо. Возвращаясь, с любовью читает она адрес, ее накрашенные губы узки и счастливы; не успев подняться на две ступеньки, ведущие к двери, она нечаянно запрокидывает голову и замечает на тонкой циновке рисунок тени, отбрасываемой изнутри персиковой веткой».
«И, войдя, она сказала твоей сестре: от них пришло письмо из Англии. Да, я вижу это, — продолжает отец, — и ты — то же самое, ведь правда?» И вот я вижу, постепенно выпрямляясь, вставая на руки: перед парламентом в Эдо толпы народа ожидают императора, который должен прибыть на открытие парламента. Полиция спокойно и уверенно следит за порядком. Движение на площади остановлено. Министры съезжаются в европейских экипажах и европейских костюмах их превосходительств! Зрители тоже одеты по-европейски, кроме нескольких женщин из народа, почти стыдящихся своей одежды. Но нет, они вовсе не стыдятся, они просто выделяются — словно красный узор на сером ситце. У решетки сада выстроились ровнехонько по прямой двуколки, и возле каждой застыло по мужчине в широкой остроконечной соломенной шляпе. Тут и там развеваются флаги. В ряд стоят трамваи. Все выглядит так, словно дело происходит в Манчестере, но это Эдо, и ошибки здесь быть не может, мы в Японии.
«Разумеется, я это вижу, — улыбаюсь я (опять спускаясь, ибо номер близится к концу), — и это Япония, наша родина, где мы бываем из вечера в вечер, ибо видим ее вместе, одинаково и в подробностях рабочего дня».
И так мы говорим еще о многих вещах в совершеннейшем согласии и взаимопонимании. О вещах серьезных и смешных, о случаях, от которых зависел ход нашей двуединой жизни, и о незаметных мелких событиях, подобных вплетенным пестрым (и тонким) ниткам: на первый взгляд они ничего не значат, но вместе — сущность дней, нами прожитых. Мы никогда не разминемся друг с другом. Он знает, когда я вспоминаю мальчика, которого спас из-под колес на лондонском мосту; когда — смешные случаи на пароходе, шедшем из Батавии до Суэца, героем которых был худой немецкий профессор, выпивший после десерта содержимое миски с лимонной водой, поданной ему метрдотелем для омовения рук; когда — ночи любви в аденском кабаке, где меня чуть не лишил жизни ревнивый морской офицер из Англии; когда — комические в своем отчаянии депеши импресарио, от которого мы сбежали в Александрии. И я догадываюсь, если в его мыслях проходит то мгновение, когда он удостоил меня ласкового отеческого поучения, — положив руку на мое плечо, глядя уверенно мне в глаза; было это перед входом в цирк в предместье Чикаго, в начале нашей карьеры. Ночь была богата звездами, и небоскребы издали освещали нас, как прожектора. Он сказал мне тогда: «Ты должен любить равновесие больше собственной жизни. Ты должен стремиться любить его ради него самого, как высшее, чего можно достичь. Это значит, что ты должен во всем стремиться быть совершенным человеком, дабы стать мастером эквилибристики. Наше искусство выше всех остальных».
Тогда я еще недостаточно понимал мудрость, скрытую в этих словах. Мне было всего пятнадцать лет. Но с тех пор не прошло дня, чтобы он не напомнил мне о них глазами, лежа на обтянутой тканью доске (ноги послушно напряжены и нервно вибрируют, руки мужественно сложены на груди), в то время как я с математической точностью, ставшей для меня привычной, делал свое дело высоко на лестнице, свободно, все более продуманно и все более гордо, не отводя от него глаз и следя со свободно сомкнутыми губами — так, что мне удалось еще слегка украсить себя обычной улыбкой акробата, — за каждым его движением, чтобы точно воспроизвести и уравновесить его, если потребуется. Так мы научились понимать друг друга. Все яснее становился мне смысл его слов; это было, как если бы перед сценой поднимался один прозрачный занавес за другим. В довершение он подавал мне пример самой своей жизнью, молчаливой, замкнутой, уверенной и решительной. И однажды вечером истина открылась мне. Но я никогда не говорил ему словами, что все понял, а он никогда — что знает об этом. Ибо нам хватало уже разговора глаз.
С тех пор мы — как одна личность. Ничто не может разделить нас; между нами не может быть рокового непонимания, ибо мы действуем и осознаем вместе и согласно, что есть равновесие, как его достичь и как его преодолеть. Чудо? Да, верьте этому; и я говорю вам: да, чудо…
Но я живу не только вечером, здесь перед вами на манеже (хотя вы в этом уверены — я знаю!), восхищает меня не только продуманность устройства моей лестницы и небывалая точность, которой я достигаю в своих трюках, хотя я и готов признаться, что мой инструмент и мое умение несравнимо интереснее всего остального.
Вы уже знаете, что я люблю. Но, кроме этого, я рисую, ваяю, восхожу на горы, занимаюсь греблей, интересуюсь политикой своей страны Японии и всех стран, которые проехал, обладаю знаниями экономическими и философскими, разбираюсь в машиностроении и архитектуре, понимаю смысл всех великих литератур; и вдобавок хожу, ем и сплю. Не смейтесь, ведь таким образом вы признаетесь в своей глупости, и ваша улыбка меня не трогает.
Важно, что все это я знаю, изучаю и делаю так, словно люблю. Источников моего вдохновения бесчисленное множество. Что бы я ни увидел, о чем бы ни услышал, чего бы ни коснулись мои пальцы, все приводит меня в восторг, ибо все ведет к моей лестнице и моему искусству. Умение трансформировать все, искусство освободиться от безучастности к любым вещам и любым событиям — вот что делает меня ценнее вас.
Наверное, это чудо, что, сопрягая вместе наклоны лестницы, дрожь ног своего отца и напряжение собственных мускулов, я добиваюсь того, что стою на ни на что не опирающейся лестнице увереннее, чем вы на вытоптанном току. Наверное, это чудо… Утешьтесь этим в своей зависти, которую вызывает у вас моя уверенность.
Но не чудом случилось так, что меня воспламеняет все в мире, весь, весь мир. Ведь я это заслужил, ведь я вознагражден по праву, это — плод моей воли. И если я умею видеть всю драму развития уже там, где вы с выпученными глазами уставились на нечто, что кажется вам лишь эмбрионом, я могу сказать: вот оно, мое творчество, мое преимущество, моя победа, мое дело.
С моим отцом день за днем глаза в глаза, в нервном напряжении, превратившемся уже почти в привычку, но от этого не менее облагораживающем, я вижу контрасты и их темное резкое уравновешивание во всем, на что ни взгляну, и под поверхностью, и внутри вещей.
Подчинив свое мышление и свою волю строгим приказам математических законов, я вхожу в суету улиц с мыслью, устремленной к исходной точке, размышляя о ней, взвешивая и оценивая ее, словно корабль, чей курс задан цепью на дне реки. Я не отклоняюсь в сторону и не могу грезить. Я не грежу и потому смотрю, как поэт. И, глядя, как поэт, я иду прямо к вдохновению. Благословенное равновесие! Это оно вонзило меня в общество, уподобив шесту, застрявшему во льду. Шесту не страшно, когда лед трескается. Его природа такова, что он может существовать, даже если твердое превратится в газообразное. Он не утонет. Так и я спокойно взираю на общество, в котором нахожусь; я сам по себе, пусть вокруг все разрушится, уплывет и лишит меня почвы под ногами. Я равновесие, я остаюсь самим собой.
Чудо? Отбросьте ложь. Лишь я, лишь я, лишь я! Что с того, если я кричу вам об этом! Что с того, если однажды вечером вас охватит паника, когда, глядя на меня, вы вдруг невольно признаете мое превосходство, мою безнаказанную надменность! Что с того, если вы обезумеете от зависти и паники! Я буду и без вас, ибо я — телесное равновесие. Я не подвержен панике, ваш распад не подорвет моих основ. Они вне вас, они составляют со мной единое целое.
Мое сердце не злое и не доброе. Меня ведут размышления, а размышляю я и сердцем, и головой. Мнение мое сжато с обеих сторон челюстями неизбежности, и эти клещи вытягивают его, словно последний гвоздь из ящика, где хранятся чудеса. Мое ожидание никогда не бывает преодолено и никогда — обмануто. Поэтому я вдохновлен настоящим, не тускнеющим, вдохновением, как ученый-математик, которого вдохновляет решение уравнения, хотя он его и предвидел. Да, предвидение мое всегда вернее результата. Но из него и рождается результат.
Один-единственный неверный шаг, крохотный промах — и меня нет. Ведь мельчайшая неточность на лестнице сломает мне шею. Но я не страшусь такого конца. Моя ошибка — это тоже мое произведение.
Однажды я ошибусь, и меня не будет. Так пусть меня не будет.
Из сборника «Ужасы войны» (1916)
ДВОЙНИКИ © Перевод И. Безрукова
Когда на второй день после объявления мобилизации я прямиком с вокзала отправился в офицерское казино в Б., общее молчание при моем появлении прервал воркующий смешок молоденького прапорщика. И тут же раздался общий искренний гомерический хохот. Мне стало не по себе. Ибо эти люди наверняка смеялись именно надо мной, над моим приходом. А что я — разве я не шел на войну? Да, конечно, в форме, надетой после долгого перерыва, я чувствовал себя неловко. Геройски, как видите, я не выгляжу даже сейчас, так что вы можете понять, что веселье офицеров повергло меня в мучительную растерянность. Но тут ко мне подошел пожилой ротмистр и добродушно произнес:
— Не думай, что мы потешаемся над тобой. Вовсе нет. Но погляди только на нашего милейшего барона Шанкори! Ну, что скажешь?
Обер-лейтенант барон Шанкори, который хихикал вместе с остальными, переводя сконфуженный взгляд с одного лица на другое, услышав свое имя, перестал уморительно надувать тонкие губки и вытаращил глаза, что вызвало новый еще более громкий взрыв смеха.
— Откуда только взялось это удивительное сходство?! — воскликнул кто-то. — Ведь Спайдан — юноша довольно привлекательный!
Тут я снова взглянул на Шанкори и мгновенно ощутил антипатию; мне даже грустно от этого стало. Ибо я всегда печалюсь, когда вдруг возненавижу кого-нибудь ни с того ни с сего. Он шел прямо ко мне, и трех его шагов хватило, чтобы мне опротивела его раскачивающаяся походка, тоненькие, как палочки, ножки, которые несли длинное туловище, неожиданно узкое в талии, но зато с плечами широкими просто-таки по-американски. На длинной шее сидела неприятно маленькая круглая головка, которой он препотешно крутил на ходу, словно бы давясь чем-то, в то время как его почти круглые глаза смотрели вниз и вперед, будто выискивали, где бы склюнуть зернышко. Низкий лоб окаймляли ровно подстриженные волосы. Уши большие, плотно прилегающие к голове, а губы слишком тонкие, влажные, и он поочередно посасывал то верхнюю, то нижнюю. Мой приговор был вынесен прежде, чем он произнес первую фразу: похотлив по натуре… успех у женщин? нет… и его вожделение огрубело.
Подойдя ко мне, он протянул руку и сказал:
— Итак, нас двое?
Меня поразил его глубокий, какой-то промасленный голос, совсем не подходивший к его облику. Если бы я раньше не решил быть враждебным с ним, возможно, этот голос повлиял бы на мой приговор, настолько щекочуще-проникновенно он звучал, но теперь я предпочел внести этот бархатистый голос в список его отталкивающих качеств. Я был вынужден посмотреть ему в глаза. Они соответствовали голосу. Черные, глубокие, и на самом дне быстро промелькнули две искорки.
Я ответил как можно более равнодушно:
— Да, говорят, что так, — и отвернулся.
— Неужели вас это настолько раздражает? — промолвил он.
— Меня? — ответил я отрицающим вопросом.
— Невероятное сходство! Колоссально! — смеялся какой-то кадет. Я криво улыбнулся, и он повторил, кивая, — это колоссально, клянусь!
За обедом нам, Шанкори и мне, пришлось сесть рядом. Когда подали черный кофе, всем наконец надоело разглядывать нас, как если бы мы были экспонатами паноптикума, и Шанкори, заметив, что на нас уже не обращают внимания, попытался завязать со мной более осмысленный разговор.
Враждебно я держался недолго. Вернее сказать, я попытался выправить свое первоначальное мнение. Почему, спросил я себя, почему? Почему я должен чувствовать отвращение к его некрасивости, которая так напоминает мою красоту?! Возможно, обретение двойника всегда действует тягостно. Не знаю, у меня нет опыта. Но я понял, что был невежлив, выказывая неприязнь к нему, и попробовал исправить положение. За обедом я мучился, непрерывно упрекая себя в душе за свое поведение и свои мысли. Я надрывно внушал себе, что он лучше меня, и в конце концов проникся к нему какой-то горькой любовью, что доставило мне некоторое удовлетворение… Когда же во время кофе он начал говорить, я проявил участие и попытался выслушать его до конца и составить о нем непредвзятое мнение, как если бы он был первым встречным. Но он говорил так, как не должен был говорить. Мягко намекал, что между нами существует тесная связь; выдвигал допущения такого толка, что нельзя было усомниться в их сути: он надеялся на совершенно особый и совершенно определенный отклик с моей стороны. Все его старания сводились к тому, чтобы внушить мне, что наша встреча имеет необычайное значение, и последствия ее он живописал четко и впечатляюще. То есть непосредственно о нашем случае он не говорил, но сразу повел беседу о двойниках, причем вел он ее с пугающей осведомленностью. Он приводил многочисленные примеры и даже самые невинные из них — как, скажем, «Комедию ошибок» — трактовал в откровенно демоническом духе. Его планы были ясны и безмерно огорчали меня. Ибо я отправлялся на фронт и всем своим существом был настроен именно на фронт. Размышлять я мог лишь о войне и о своем месте на ней. И тут появляется человек, у которого нет иного занятия, кроме как беседовать со мной о вопросах жизни и смерти и притворяться, что самое важное событие в мире — это случайная встреча двух похожих друг на друга офицериков. Он пытается вырвать меня из моего круга и вовлечь в другой, в свой, где все кишит колдуньями, — и вдобавок внушает мне, стремящемуся к жизни чистой и человечной (насколько это будет в моих силах), нарочито раздуваемую ересь. И до сего дня я спрашиваю себя: «Как подобное могло произойти? Как могло случиться, что он казался столь осведомленным в том, о чем я не знал ничего? Кем был этот человек?»
— Вы прекрасно разбираетесь в этих вещах, — заметил я, — похоже, вы уже соприкасались с ними.
— Не то чтобы соприкасался, — отвечал он, — ибо двойника я прежде не находил. Но я был убежден в его существовании. А если так, то почему бы заранее не подготовиться?
— Вот как, значит, вы были убеждены в существовании своего двойника?
— В единственном экземпляре я несовершенен. Я твердо знал, что вы существуете, но вероятность, что я с вами встречусь, была меньше той, что мы не увидимся. Я очень сожалел об этом. И теперь полон радостного удивления от встречи, на которую уже не рассчитывал. Вас же факт моего существования изумляет… да-да, изумляет и даже раздражает. Вы обращаетесь ко мне на «вы», хотя «ты» более подходило бы к случаю. Будем на «ты».
Мне претила даже мысль об этом.
— У меня не получится. Но не сердитесь. Все так необычно.
— Ладно, — бросил он и побарабанил пальцами по столу, — ладно. Однако же вы оттого не желаете по-дружески тыкать мне, что я вам не нравлюсь. Что ж, вы по крайней мере искренни. А я уже чувствую возникшую между нами некую связь.
— Оставьте, — произнес я тоном, который самому мне казался добродушным, — нравится, не нравится. О чем можно говорить, если наше знакомство только состоялось? И вообще — если даже допустить, что вы мне действительно не нравитесь, то разве в этом случае между нами тоже не установилась своеобразная связь?
— Да, конечно, — хмуро ответил он, и прозвучало это уже с некоторой обидой. — Но вам следовало бы принять во внимание, что мы похожи как близнецы. Задумайтесь об этом. Короче, вот что: к чему вилять, к чему притворяться, что вы испытываете не те же чувства, что я? Вы отлично знаете, что у нас есть взаимные обязательства и вам было бы неплохо их выполнять.
Я уже говорил, что изо всех сил пытался не перечить ему и перевести наши отношения на нейтральную почву светскости. Времена были скверные — соответствующие обстановке. Более того! Благодаря этому роковому сходству я признавал за ним — если уж для него это было так важно — право на некоторую сердечность отношений. Поверьте, я готов был терпеть. Вот почему я усилием воли расправился с предрассудками и тогда еще безосновательной ненавистью к нему, но теперь, когда он показал свое истинное лицо узурпатора моего «я»… нет! — мнимого распорядителя моей судьбы, теперь я мог окружить его ледяной ненавистью, ненавистью человека, который уверен, что победа за ним. Я никак не выказал своих чувств; ненавидя его, я купался в своей привычной жизнерадостности и наслаждался его обидой, точно сторонний наблюдатель.
— Возможно, милейший обер-лейтенант, мы и похожи, но неужели прямо-таки как близнецы? Хорошо еще, что вы не сказали — как две капли воды, потому что между двумя близнецами всегда сыщется какая-нибудь разница. Внешняя, например, ведь так? А уж о различии наших натур я и не говорю.
— Да неужели вы, — заявляет он в ответ, — думаете, что в своем единственном экземпляре вы полноценны? Вас одного мало, ясно вам?
— То есть? Что вы имеете в виду?
— Что я имею в виду, лейтенант? Да то, что я поступлю с вами en galant homme[11]. Я дам вам время на размышление, чтобы вы передумали и пришли ко мне сами, иначе своим упрямством вы доведете дело до кризиса, предотвратить который можно будет только жесткими мерами. И знайте, что я искал вас, сам того не желая. Вы нужны мне, так что не пытайтесь ускользнуть.
— Однако вы не самый приятный собеседник.
— Остальные наверняка утвердят вас в этом мнении.
— Мой образ мыслей, слава Богу, не столь причудлив, как ваш.
— Именно поэтому, — зло и резко закончил он разговор и поднялся.
— Именно поэтому? — спросил я, ошарашенный его тоном.
— Именно поэтому вы бунтуете совершенно напрасно.
В полку мне дали о Шанкори исчерпывающие сведения. Получил я их от лейтенанта запаса Федека, земляка Шанкори. Мой двойник происходил из старинного венгерского дворянского рода. Семья была не слишком богата, но и не бедна. Когда представителям семейства Шанкори становилось мало их родового имущества, они, пользуясь обширными связями среди венгерской знати, обирали своих менее именитых соседей или уездных начальников. Никаких официальных постов они занимать не стремились. Подставлять шею под ярмо им не хотелось. Шанкори любили разъезжать по окрестностям, любили себя показать и людей посмотреть. Короче говоря: веселые гуляки и умеренные моты. Отец Шанкори был первым, кто отправился повидать мир. Едва ему исполнилось восемнадцать, он поехал в Париж и провел какое-то время там, а потом в Лондоне… и еще, кажется, два сезона на французской и итальянской Ривьере. Вернулся он в двадцать один год, явно пропитанный западноевропейским духом. У него появилась некая смутная тяга к искусству, и выражалась она в том, что привычную для всех Шанкори роль сибарита он играл с утонченностью, так сказать, человека культурного. Ходили слухи, что на Западе он вращался в кругах экстравагантной венгерской богемы, что в Париже пристрастился к курению опиума; шушукались даже о том, что он «изощрен в садизме и прочих подобных штучках». Но старый Шанкори придавал мало значения молве. Он разъезжал по краю, подобно своим предкам, и тратил деньги; единственная разница была в том, что он не пользовался больше дедовской бричкой, а обзавелся приличным ландо. Он купил себе дом в городе, что-то вроде садового павильона. Рассказывали об этом доме разное. Возможно, потому, что окна его всегда были закрыты ставнями, даже когда туда наведывался ненадолго сам хозяин. Его гости прибывали вместе с ним, ночью, в городе никогда не показывались, а уезжали тоже под покровом темноты. Если судить по слухам, то люди эти были и такие, и сякие, но точно никто ничего не знал. Старик Шанкори отличался неплохими режиссерскими способностями. Время от времени он устраивал себе променады по городской площади. Надевал бриджи в крупную клетку, коричневую куртку для верховой езды и прогуливался исключительно в одиночестве, похлопывая себя рукояткой хлыстика по голенищу; взгляд его был устремлен вперед, он посвистывал и «не поддерживал знакомства ни с мещанами, ни с господами». Если он встречал кого-нибудь, с кем по той или иной причине не мог не поздороваться, то приветствовал его или же благодарил за поклон подчеркнуто сухо. Женат он был на какой-то близкой родственнице жупана Карои, не особенно богатой. Она получила воспитание в швейцарско-французском пансионе и была слабого здоровья. Считалось, что поженились они по любви, — во всяком случае, так говорили тем, кто не стоял достаточно высоко, чтобы знать правду. На самом деле, как уверял Федек, они познакомились на какой-то непристойной вечеринке в парижском Латинском квартале. Юная барышня, видите ли, провела несколько месяцев в Париже под предлогом занятий рисованием. Но склонностей к рисованию она вовсе не имела. Все дело было в слишком уж страстных дружеских чувствах, которые она, как стало известно, питала к иным пансионеркам. В Париже, утверждал Федек, она не провела дома ни единой ночи. Потом они с Шанкори поженились, и их брак был образцовым. И то сказать: трудно было представить себе супружеский союз, в котором муж и жена так мало мешали бы друг другу. Каждый был занят только собой. Шанкори ездил без жены по окрестностям имения, а она без мужа — по всей империи и по Западной Европе. Пять лет у них не было детей. Потом, после отлучки, которая, как высчитали осведомленные люди, длилась ровно год, она привезла крохотное двухмесячное дитя. Это и был нынешний обер-лейтенант Шанкори. Он не унаследовал от родителей ни внешности, ни нрава. Поползли слухи, что это вообще не ребенок Шанкори. Однако родители, до которых слухи эти дошли, остались к ним равнодушны. Они ничего не опровергали. Со стороны казалось, что разлада между супругами из-за ребенка не произошло. Его воспитывали и обходились с ним так, что упрекнуть чету Шанкори было не в чем. Это было механистическое воспитание без любви и заботливости, однако же и без дурного обращения и скупости; впрочем, мальчик и не подавал поводов для того, чтобы родители могли им как-то особо гордиться. И отцу, и матери благодаря поколениям предков были с рождения присущи аристократические манеры, которые отличали близких к земле Шанкори от крестьян. Супруги были безразличны к судьбе и с ледяным спокойствием сносили ее удары. Их деловитость проявляла себя лишь тогда, когда горизонт был чист; как только Шанкори чуяли бурю, они замирали и стоически ожидали неизбежного. Ссоры с кем бы то ни было претили им, и они, руководствуясь неким кодексом поведения, старались не сердиться по пустякам, не хмуриться, зря не упорствовать. Того, что миновало, как будто и вовсе не было. Все плохое стекало с них, точно с гуся вода, оставляя разве что несколько капель. Они жили размеренной бездельной жизнью, не допуская, чтобы в их душах появились ростки мстительности и строптивости. Короче говоря, они умели отлично владеть собой. Не выказывали явно ни своей радости, ни своего огорчения. Даже что-то неожиданное не могло вывести их из состояния равновесия; даже нечто непривычное они встречали так, как будто были готовы к нему. Ни особого радушия, ни явной спеси. Они не стремились ни к чему такому, что было им не под силу, но зато вдохновенно занимались делами, в которых знали толк, и энергию свою, при этом высвобождавшуюся, сознательно использовали в качестве фундамента для последующих небольших достижений. Дворянами в истинном смысле слова они не были, но темперамент все же отличал их от мещан и зажиточных крестьян: они сумели выпестовать в себе некую душевную сдержанность, которая помогала им выглядеть дворянами. Юный же Шанкори (звали его Людвиком) сызмальства был чистой воды плебеем. Он во все подробнейшим образом вникал, во всем хотел добиться полной ясности. Добросовестность, с какой относился он к учебе, уже сама по себе была непривычна для юношей его круга и происхождения. У него отсутствовали тот налет всезнайства и та душевная гибкость, которыми отличаются люди, рассматривающие образование лишь как тренировку для ума. Он надолго наваливался на отдельные предметы, но поскольку большого дарования у него не было, то и глубоких и прочных познаний ему ни в чем достичь не удалось. Он был тугодум, что со стороны иногда могло сойти за основательность. Когда же ему требовалось перейти от одной мысли к другой или же от чувства к чувству (иначе говоря, при любой перемене), то обнажалось главное качество его души: тупая огрубленность порывов. Он обжирался мечтами, обжирался собственными настроениями; точно так же он обжирался любыми сильными чувствами. Дружба или вражда, любовь или ненависть, радость или уныние, успех или неудача — все у него принимало чудовищные размеры; количество интересовало его прежде всего, так что в конце концов становилось безразлично, любит он или ненавидит. Стремление добиться ясности в отношениях с окружающими было каким-то болезненным; он точно в горячке требовал, чтобы все прояснилось как можно скорее, немедленно, тотчас. Он бывал нетерпелив до невозможности, и его настойчивая поспешность и упорство, с какими он пытался добиться ясности, губили его дружбу и его любовь. Он был в некотором смысле фанатиком истины, то есть человеком в обществе совершенно невыносимым. Но нет — одиночество не является уделом таких людей, им на роду написано быть кому-нибудь в тягость. А поскольку здоровый человек легко от них избавляется, то им остается лишь сближаться с изгоями общества. И вот по этому откосу они постепенно спускаются в самый ад. Ибо те презираемые, гонимые, уродливые телом и душой сначала школьники, а потом студенты, с которыми ему приходилось общаться, чтобы не оставаться одному, те малокровные, болезненно пылкие девственницы, у которых он искал прибежища, когда мужал, — все они походили на него. Не от природы, но потому, что так распорядилась жизнь. Жизнь предложила им на выбор слишком мало причин воспламениться душой, вот они и были вынуждены навязываться, и требовать, и мучить многословными чувствительными излияниями тех, к кому им удавалось приблизиться. Душа Людвика с раннего детства напоминала куклу. У нее двигалось всего несколько суставов, а связки и мускулы одеревенели. Да, у нее двигались лишь суставы, значит, ее движения были скупыми, четкими и очень заметными.
Федек сообщил мне, что на родине о молодом Шанкори рассказывают множество разных странных историй. Самым близким его школьным приятелем был, говорят, сын одного бондаря, мальчик золотушный и уродливый. Так Шанкори прибегал к самым различным способам, чтобы испытать его дружбу, и невесть каким образом принуждал беднягу к многочисленным жертвам, которые последний должен был приносить во имя преданности Шанкори. У мальчика хватало забот и с собственными уроками, ибо учился он посредственно, однако же по ночам ему приходилось еще и делать домашние задания за Шанкори. Говорили, что Людвик захотел, чтобы парень уступил ему свою подружку, какую-то страдавшую водянкой горемыку, и тот подчинился; а еще заставил приятеля окунуться в речную прорубь. Мало того — уверяли, будто Шанкори потребовал доказать дружбу смертью: подросток должен был броситься под поезд. Но все-таки Людвик дал себя уговорить и удовлетворился тем, что бедняга лег плашмя между рельсами. После этого испытания у сына бондаря поседели волосы. Федек пояснил, что Людвик обладает какой-то притягательной силой, влекущей к нему многих калечных и обиженных судьбой (хотя сам он и некрасив, но при этом нормального телосложения и здоровья), которые готовы пойти на невиданные жертвы ради его дружбы или любви. Когда он учился в Пеште, то якобы заставил свою возлюбленную, девушку из хорошей семьи, мучившуюся от эпилепсии, отдать за него жизнь: она должна была утопиться в Дунае. Она и в самом деле прыгнула с моста. Лишь его уверенность в том, что девушка совершит самоубийство в назначенный час и в назначенном месте, спасла ей жизнь: он дежурил в лодке возле им же указанной мостовой опоры. Другой девице, отталкивающего вида проститутке из низкопробного борделя, он привел человека, зараженного дурной болезнью, и вынудил во имя любви принять его. Некоторым извинением ему может служить лишь то, что болезнь эта поддавалась лечению и что он вылечил проститутку на собственные деньги, а потом позаботился о ее судьбе. Впрочем, истинные ли то были истории, ни один из офицеров полка не знал. Открыто же с Шанкори никто ссориться не решался. Да и подходящего повода не подворачивалось. Держался он корректно. Никого не сторонился, никому не навязывался. До объявления мобилизации он провел в гарнизоне целый месяц — был призван на учения. Его сосед по комнате рассказал, какие книги привез с собой обер-лейтенант: Сведенборга, протестантских моралистов, комментарии к Талмуду; еще он читал Казанову и дешевые, с убогим сюжетом детективы; перед сном же листал кое-какие рассказы Ганса Хайнца Эверса или «Доктора Джекиля и мистера Хайда» Стивенсона. За все это время он не перекинулся с соседом по комнате и парой слов, так что лейтенант жаловался, что тяготится обществом Шанкори. Со своим денщиком он не пускался в те невинные откровения, которые часто позволяют себе прочие, и не обращался к нему с фамильярной грубоватостью. Шанкори отдавал солдату короткие распоряжения и не набрасывался на него с бранью даже тогда, когда бывал раздражен.
Наши офицеры его не жаловали, мало того — он их не интересовал. Рассказ Федека они, правда, выслушали внимательно, но поскольку никаких доказательств он привести не мог, то в их представлении истории эти отделились от личности Шанкори и, существуя отдельно от конкретного человека, заметно поблекли. Странности моего двойника тоже перестали их занимать. Они были такого рода, что тот, кто ими отличался, оказывался вне гарнизонной жизни, а офицерское сообщество интересуется только людьми, умеющими его сплачивать. До остальных, какие бы они ни были оригиналы, ему дела нет. К моменту моего появления в гарнизоне все обстояло следующим образом: да, Шанкори не любили, но вовсе не из-за романтических крайностей характера. Его просто не любили, и никто не обращал на него внимания. И только наше бросающееся в глаза сходство создало ему некоторую популярность.
Однако куда больше нашего внешнего сходства занимала всех разница наших натур. Ведь иногда бывает так, что в похожих телах обитают похожие же души. Но вы, знающие меня издавна и только что выслушавшие рассказ о Шанкори, наверняка поняли, что трудно было бы сыскать двух человек, которые настолько отличались бы наклонностями, темпераментами и характерами, как мы с Шанкори. Сегодня-то я уже, конечно, знаю, почему грыз меня червь сомнения, когда я слушал истории о двойниках… Впрочем, я преувеличиваю: непонятное беспокойство было, но как же легко я мог отмахнуться от него!
Шанкори неустанно ходил за мной по пятам. Это очень бросалось в глаза, ибо прежде он ни к кому не проявлял такого явного интереса и держался со всеми приветливо-равнодушно. Он упорно преследовал меня со своей обычной тяжеловесной настойчивостью, не обращая внимания на то, что это выглядело почти неприлично, оставаясь глухим и слепым и добиваясь цели, которая была высказана им при нашей первой встрече: я искал вас, вы мне нужны. Тоска, охватившая меня тогда в казино и на какое-то время преодоленная, явилась снова — как каждодневное неприятное чувство, наподобие отвращения, — но постепенно она развилась в нечто болезненное и саднящее. И все из-за его неотступного, бесцеремонного преследования. Эта тоска сокрушила мою природную веселость, и мои мысли, и без того занятые войной, утратили свою живость, привлекавшую ко мне друзей.
— Зачем все это? — сказал я ему однажды. — Поймите, в вашем обществе мне тяжело. Вы можете избавить и себя, и меня от неприятных минут.
— Я не верю, что вы на самом деле сторонитесь меня, — ответил он. — Если бы это было так, вы действовали бы иначе, более решительно. Готов поверить, что вам и впрямь нелегко в моем обществе. Ведь и мне в вашем тоже. Достаточно ли это веское доказательство того, что я не слеп и не поступаю чисто эгоистически? — Он улыбнулся, и его улыбка напоминала оскал.
— Вы?
— Да, я, лейтенант Спайдан! Через несколько дней, кто знает, может даже завтра, мы отправимся на фронт. Просто удивительно, что вас это так мало занимает.
— Ни о чем другом я даже думать не могу.
— Напротив, вы думаете о множестве других вещей, — сказал он уверенно, — в ином случае вы так не страдали бы из-за моих непрестанных попыток сблизиться. А я, верите ли, благодарен войне за единственное — за то единственное, что имеет для меня значение: пришел мой час расплаты.
— Но при чем же тут я? — поинтересовался я с улыбкой, хотя — сегодня я уже могу в этом признаться — мне тогда было совсем не до шуток.
— К чему изображать равнодушие? — ответил он. — Вам не хуже моего известно, что настал и ваш час тоже. Ибо вряд ли вам приходилось прежде встречаться со своей другой половиной. Вы смотрите на меня, и вам… скажем так, нехорошо.
— Вы несколько преувеличиваете, — запротестовал я, принуждая себя иронизировать, — не стоит придавать такое большое значение случайному внешнему сходству. До двойников нам с вами далеко. Неужели мы одинаково привлекательны? Одинаково приятны?
— Экий же вы хвастун, — перебил он меня с чувством превосходства. — Как будто вас не волнует именно то, что мы неодинаково привлекательны и неодинаково приятны.
И, подозрительно меня оглядев, он насупился и сглотнул слюну. А потом, судорожно передернув плечами, произнес:
— Вам тут наболтали обо мне невесть чего. Федек — осел. Неужели вы действительно поверили, что существуете в той жуткой ипостаси, о какой говорил Федек?
— Вы, собственно, о чем? — спросил я, хотя отлично знал, на что он намекает: на ту тоску, которая навалилась на меня после рассказа Федека. Но каким же образом Шанкори смог проникнуть в мои мысли?
— Гм-м, — протянул он злорадно, — а на вас приятно посмотреть, нет, этого мало: меня даже охватывает нечто вроде радостного удовлетворения. Итак, наше сходство заставляет вас трепетать от ужаса при взгляде на меня, мой прекрасный Дориан Грей.
— Но позвольте, однако, вас успокоить, — добавил он со вздохом и поудобнее уселся на стуле, готовясь к долгой беседе. Кроме нас двоих, в казино после обеда никого не было.
— Байки эти мне известны. В них нет ни слова, ни словечка правды! В единственном я не совсем уверен — в своем происхождении. Но чувствую я себя дворянином и прошу вас запомнить это крепко-накрепко. Что же до моих садистских наклонностей и прочего — жаль даже время тратить на объяснения. Чудак — да, но демон? Глупцы всегда подозревают в чудаках демонов. Я не принуждал сына бондаря совершать безумства. Он поступал так, как ему хотелось. Я не провоцировал на самоубийство эту несчастную девушку. Она прыгнула с моста, потому что заметила меня, волею случая плывшего в лодке по Дунаю. Незадолго перед тем мы с ней поссорились и расстались. Она бросилась в воду назло мне, однако я спас ее. А сплетня о проститутке — ну нельзя же верить подобной чепухе.
— Меня все это совершенно не интересует, — торопливо перебил я его.
— Вас это более чем интересует, — сказал он твердо, — и этот интерес доведет вас до сумасшествия, если вы вовремя не образумитесь. Я желаю вам добра, так что садитесь.
Глаза у него горели, и я со стыдом признаюсь, что он меня точно околдовал.
— Надеюсь, вы не думаете, что я собираюсь оправдываться? Мне только любопытно было бы знать, как Федек и прочие сумели догадаться, чего именно мог бы я пожелать самому себе. А я и вправду мог бы пожелать себе, чтобы бондарев сыночек занимался всяческими сумасбродствами, чтобы юная девица попыталась из-за меня покончить с собой, чтобы… короче говоря, много еще всяческих прелестей. Что ж, — прибавил он со вздохом, — грубый инстинкт толпы способен подметить даже некоторые мелочи, что уж говорить о таких серьезных вещах, какие приписывает мне Федек. Я мог бы пожелать себе и иного: чтобы каждый, с кем столкнет меня жизнь, обзавелся шишкой на лбу в память обо мне; чтобы я всегда выбирал самые извилистые и причудливые пути, ведущие к выбранной мною цели, дабы легче было заблудиться или переломать руки-ноги; чтобы я мог подозревать и не доверять; чтобы я невзлюбил кого-нибудь, а потом взирал на него сверху вниз с негодующей жалостью; чтобы я усложнял все самое простое; чтобы все мои начинания кончались крахом, а я возжелал бы для себя печалей и разочарований и наслаждался ими с нежнейшей мучительной любовью. Как видите, Спайдан, это вам не идиотские акробатические трюки убогенького или истерические припадки дурно воспитанной барышни, тут совершенно иное. Их-то они заметили. Но они не заметили прочих тайных трагедий, а главное, чего не заметили добрые мои земляки, так это всеобщей глубинной связи. Ведь если посмотреть на это пристальнее, то выйдет у нас в итоге загубленная жизнь. Ибо вы наверняка заметили, мой дорогой, что я все время говорил «я мог бы пожелать себе».
— К черту вашу синтаксическую эквилибристику! Зачем вы мне все это рассказываете?!
Я проговорил это резко, раздраженно. Я чувствовал, что нахожусь у него в руках…
— Как это понимать, Спайдан? — спросил один из слушателей.
— Терпение! — мрачно отозвался Спайдан и продолжал, — …Мой выкрик не вывел Шанкори из себя. Он ответил спокойно:
— Не притворяйтесь. Вы отлично знаете, чего я себе желал, к чему стремился в самых чистых помыслах. Я желал, чтобы никому из моих близких ничего не грозило, чтобы я находил с ними общий язык, чтобы готов был на жертву; я мечтал о ясных целях, которых можно достичь, если напрячь все свои способности, и я хотел добиваться своего с открытыми картами; что же до моей подозрительности и недоверчивости, то я со своей искореженной, но сильной верой и природной доброжелательностью даже опасался этих чувств; именно так: я подмечал в людях только их достоинства, все то, что возвышало их надо мной, все то, что делало их прекрасными, и во мне жило горячее стремление подчиняться; я мучительно жаждал простоты, но никто так не мечтал о славе, подлинной славе, как я. И сколь часто, Спайдан, сколь часто говорил я себе, терзаясь из-за очередной смешной неудачи: «Хотел бы я уметь благодарить жизнь и за причиняемую ею боль».
Он замолчал и провел рукой по лбу. И тут же попытался озорно улыбнуться — улыбка вышла ужасно противной, — а потом продолжал шутовски:
— Ловко я вам все объяснил, правда? Да уж, милый мой лейтенант, вы просто обязаны поверить в то, что я человек благородный! Я, как видите, натура выдающаяся. Вот только есть одна загвоздка: мне, словно по чьему-то приказу, удавалось в жизни как раз то, чего я мог бы себе пожелать, а прочее — пфф! — вылетало в трубу. И с внешностью то же самое: кокетлив, как барышня; осведомлен о том, что к лицу, а что нет. Я целеустремленно занимался своей внешностью — иначе нельзя, если хочешь прилично выглядеть. Я приложил много усилий, можете мне поверить. Ибо придерживаюсь мнения, что каждый человек обязан выглядеть прилично, так, чтобы на него, по возможности, приятно было посмотреть. Результат? — Зато вас украсил бы любой мешок. И так оно обстоит и со всем прочим, милый мой двойник, не правда ли?
Тут он взглянул на часы и поднялся:
— Служба зовет.
Я тоже встал. После столь банального завершения нашего разговора у меня точно камень с плеч свалился. Внезапно, не знаю уж почему, но, скорее всего, по чистой случайности, мы оказались вплотную друг к другу — и спасительное ощущение заурядности встречи разом пропало. Меня охватило ужасное чувство, что я выпустил из себя некоего злого духа, который вот он, рядом, стоит в моем обличии… и одновременно я злился и стыдился произошедшего, стыдился, что не смог справиться с собой при столь повседневных обстоятельствах. Фи — если попытаться выразить словами то чувство, это окажется омерзение, осклизлость какая-то, что ли.
— Вы все еще боитесь меня? — спросил он.
Я промолчал. Потом зажмурился и вскинул перед собой руку, точно обороняясь; он взял ее и приложил к своему сердцу:
— Вы слышите, как бьется ваше бедное сердце?
— Боже сохрани, чтобы это сердце было моим. — Вздрогнув, я попытался высвободить руку. Но он держал ее крепко и негромко, с наслаждением в голосе повторял:
— Слушайте, слушайте же, мой искупитель!
Тут он засмеялся и быстро вышел. Но через минуту вернулся и, делая вид будто ищет что-то, сказал как бы между прочим:
— Что вы об этом думаете: если существует чудовище, наполовину свинья, наполовину замечательный человек, — выражаясь без затей, напрямую, — и человек этот влачит жалкое существование, то разве не требует высшая справедливость, чтобы где-нибудь обитало подобное же чудовище, в котором прозябала бы свинья?
Я не мог снести такое оскорбление и бросился на него, но он удержал меня и произнес с улыбкой:
— Не так быстро. Для драк и прочих подобных безобразий у нас еще будет время. А разве вам не показалось знакомым то, что я только что сказал?
И он со смехом покинул меня.
Поезда все прибывали и извергали из себя солдат. Вам известно, какая неразбериха царила в первые дни после объявления мобилизации и в какое едва ли не комическое противоречие с нашими представлениями о войне вступили первые дни службы в ротах. Изматывающая канцелярская работа, с ужасающей быстротой пожирающая время. К вам то и дело являются какие-то беспомощные солдатики, которые уже подмели все казармы и которых вам велено зачислить в свой взвод. Всем приходится опять строиться, вы выкликаете фамилии, включаете в список новичков, из-за них все приходится переделывать. Да и кроме этого работы хватает! Надо раздавать всем то сапоги, то шинели, то консервы, то ружья или табак; взвешивать соль и перец; подсчитывать бумажки для самокруток; а потом еще кофе; а потом распределять людей для разных служб — тут вам и телефонисты, и пекари, и мясники, и вестовые; надо угодить начальникам; проверить личные капсулы с именами; заглянуть в мешки и мешочки для хлеба; кто болен? почему болен? приходит ротный: взводы разные по обученности солдат — исправить! исправляют; приходит майор: роты разные по числу солдат — исправить! исправляют. — Нет, думать о Шанкори было некогда. Было некогда думать даже о войне. Мы стали канцеляристами, страдавшими неврозом. Я служил в пятой роте, Шанкори — в четвертой. Наши роты располагались по соседству. Я не падал духом, в свободное время вел разговоры с солдатами или навещал офицеров. Все непрерывно обменивались то новостями, то жуткими историями, от которых звенело в мозгу и начинали вибрировать слишком туго натянутые нервные струны. В голове гулял ветер, он что-то разбрасывал, что-то взъерошивал, потом его сменял встречный ветер, который приглаживал взъерошенное, снова собирал в кучку разбросанное, а кое-что выметал прочь. То там, то здесь слышал я голос Шанкори. Он раздраженно отдавал приказы, малейшая оплошность выводила его из равновесия, он проклинал себя и весь мир, однако же солдат не бранил. Он был нетерпим и высокомерен с равными себе, но при этом в его брюзгливом голосе все время звучало что-то вроде сожаления, что он именно таков, каков есть; я внушал себе, что не надо волноваться, внушал так, что весь дрожал от нервного возбуждения и у меня начинался жар, а уж слов я проглотил столько, что мое пересохшее горло сжималось и к нему подступала тошнота. Солдаты быстро подметили наше сходство, оно всех страшно занимало, и мой фельдфебель, передавая мне однажды какую-то служебную записку от Шанкори, разрешил себе невинную шутку: «Господин лейтенант, вы изволили себе передать».
Я позабыл о разговоре с Шанкори. Наконец-то все приведено в порядок, роты находятся в готовности. Мы ждали только приказа о выступлении. За неделю безумной спешки нам стали наградой дни сибаритского безделья.
Однажды в четыре часа пополудни он совершенно неожиданно пришел навестить меня.
— Как поживаете?
— Да в общем неплохо, — ответил я так, как будто между нами ничего не произошло. Потом я растянулся на койке в надежде, что он оставит меня в покое. Однако он, как только мы обменялись приветствиями, склонился надо мной и сказал:
— Вам не кажется, что наше сходство все возрастает?
То ли взглядом, то ли интонацией, а возможно, изощренным и ловким подбором нарочито банальных слов он обратил заурядный (чего мне бы хотелось) визит в беседу, полную чертовщины и навевающую тоску — даже тем, как он, глядя спокойно и изучающе, прислонился к спинке кровати.
— Посмотрите же на меня!
Тем самым он предупредил вежливые возражения с моей стороны (ибо я намеревался еще раз попытаться очень вежливо выразить свое недовольство, хотя его присутствие и разволновало меня) против того, чтобы он снова начинал этот невыносимый разговор. Но его небрежное «Посмотрите же на меня!» заморозило мои слова и погрузило комнату в темноту, да-да, так мне показалось. И конечно же, мне не оставалось ничего иного, кроме как посмотреть на него, посмотреть так пристально, что у меня появилось то же чувство, как тогда в казино, когда мы внезапно оказались вблизи друг друга и мне почудилось, что я одновременно исторг из себя его тело и вобрал его в себя. Однако теперь я понял, что, глядя на него, я ощущаю вполне объяснимую дурноту: то самое легкое головокружение, которое появляется у человека, долго и напряженно всматривающегося в свое отражение в зеркале. Нянюшка, бывало, пугала меня: говорила, что тому, кто вечером глядится в зеркало, является черт. Никогда он мне не являлся. Случалось, однако, что во время длительных бесед с собственной совестью я вдруг чувствовал, будто раздваиваюсь, будто обе мои половинки отчуждаются друг от друга, не в силах преодолеть глубокое взаимное отвращение. Так было и сейчас, когда мне пришлось подчиниться его повелительному «Посмотрите же на меня!». И я чувствовал, что воля моя парализована точно так же, как это бывало перед зеркалом. Я распадался внутренне. В ту минуту я был его рабом. Где он, подлец, черпает свою силу, шептала моя немота, которая одолевает меня, мою веселую солнечную натуру? Но что это был за бунт? Капля воды среди пожара; она зашипела, но ее не услышали — и вот ее уже нет. И я пробормотал:
— Откуда вы могли узнать?..
А он отозвался весело:
— Потому-то я и здесь. Час пробил, нас вот-вот могут отправить на фронт. Надо же нам обо всем договориться, верно? — И закончил резко. — Насмотрелись уже, довольно с вас. Итак: вы поняли?
— О чем вы? — сказал я, совершенно лишившись воли; насколько мне помнится, произнес я эти слова послушным тоном, лежа под его взглядом, точно в наркотическом сне.
— Ну, — протянул он удовлетворенно и глянул на меня искоса, — о том, кто вас мучил, мучил — истязал — и был внутри вас!
Тут труба запела тревогу. И я словно вырвался из чего-то липкого и вязкого и опять встал на твердую почву, вернувшись к жизни. Шанкори выбежал прочь, мой денщик вошел на подгибающихся ногах: «Господин лейтенант, в поход». Было ясно, что он только теперь осознал, что началась война.
— Ну да, в поход… Боишься, Мельничек?
Но Мельничек заладил одно: «Матерь Божья!»
Я надел кобуру и вышел. Очень скоро полк со всей выкладкой построился на площади. Полковник, низенький человечек, явился последним; он быстрым шагом вышел на середину квадрата, образованного батальонами, и произнес отрывисто, раскатисто: «Für Gott, Kaiser und Vaterland». А мы достали сабли и крикнули «Ура!»
Зевак набежало много; то, что они увидели и услышали, как-то пригнуло их к земле и лишило дара речи. Но когда мы тронулись и они заметили, что наш путь лежит не прямо к ближайшей границе, а по дуге вглубь страны, то в них зародилась уверенность, что войне уже конец. Их охватила радость. Они махали шляпами, ликовали, подходили к знакомым солдатам, обнимали их. Верили, что все уже кончилось, но опасались явно выказать свою веру, чтобы не призвать этим зло. Да и нам стало легче, когда мы отошли от границы, хотя все понимали, что это только стратегический маневр. Но мы получили передышку и в упоении от этого неизвестно зачем обманывали себя, притворяясь, будто идем на пикник. Мол, просто очередные маневры. Город гудел, точно в храмовый праздник. Однако мертвые вещи и живая природа мудрее людей, они не дали себя провести.
Минареты не вздымались к небу, а скорее торчали вверх; сильно скошенные крыши магометанских жилищ судорожно цеплялись за каменную кладку фундаментов и, как фурии, впивались в балки кровли. Огромные окна венской кофейни точно опухли, внезапно состарившись за несколько дней, а дешевая лепнина не осыпалась с ратуши только каким-то чудом. Весь товар в торговом квартале, чаршии, пускай даже сложенный как обычно, находился в странном беспорядке и был покрыт слоем летучей пыли и грязи. Но никто не замечал этого. И только когда мы миновали последние цыганские лачуги на городской окраине и гомон толпы вдруг смолк — точно челюсти захлопнулись, — только тогда нам почудилось, будто за нами закрылись врата мира. Все мы мгновенно ощутили свою печальную отчужденность. Мы бороздили страну, и она не смыкалась, вобрав нас в себя, а оставалась после нашего марша разрезанной, как если бы воинская колонна была ножом, который кто-то вонзил в грудь земли и теперь по-мясницки кромсал ее. Нет, крови не было, но глубокий, с красивыми ровными краями рубец немо зиял болью там, где прошла наша колонна, и становился все длиннее и длиннее. Солдаты, которых воодушевление горожан заставило взбодриться (а из-за того, что именно на них было сосредоточено все внимание, взбодрились также и их мысли и чувство жалости и сострадания), на глазах мрачнели под тяжестью боевой выкладки. Мы замедлили ход, шли уже не в ногу, так что колонна стала напоминать пчелиный рой. Земля прониклась сознанием войны. Никакая видимость не могла обмануть ее. Дозревающий урожай кукурузы она несла на себе с раздражением, ибо знала, что нынешнее его предназначение греховно и противоречит мировому порядку. Все то, что издавна было чем-то вроде привычных эпитетов для здешних мест — холмы, домики, старые деревья и дороги, — все вдруг показалось случайным и недолговечным. Все вокруг было сбито с толку, потому что чувствовало — вечная цель, которой только и стоило служить — служить радостно и с упоением, — оказалась во власти кого-то гнусного, который переделал ее на свой лад.
Меня охватила жалость ко всем вокруг и даже к самому себе, к самому себе потому, что и все, и я сам были достойны жалости. Однако же себя я жалел только как зритель, а в голове моей тем временем бродило вот что:
«Неужели и эта глава закончится для меня так же незаслуженно счастливо, как многие, многие другие? Окажусь ли я вновь той самой кошкой, которая всегда приземляется на лапы?»
Я страстно жаждал катастрофы. Да-да, думая об опасности, которая меня подстерегала, я жаждал — и уже не в первый раз — получить сильно кровоточащую рану. Ибо, поверите ли: где-то в глубине души я завидовал людям, избранным богами для того, чтобы наградить их знаками своей ревнивой нелюбви. Я бредил катастрофой; нет, лучше сказать: я питал зависть к потерпевшим ее. При этом, признаюсь со стыдом, я всегда искал самые легкие пути — и находил их. Я был дитя Фортуны. Нет, я весь был маска, любезно улыбающаяся маска. Из глубин сознания всплыло воспоминание о разговоре с Шанкори тогда, в казино. Всплыв, оно кивало и указывало на него, шагавшего в хвосте четвертой роты; я шел во главе пятой, оба мы соблюдали устав. Он не замечал меня; маршировал себе да сбивал головки одуванчикам, росшим вдоль обочины. Как странно: до сих пор я не осознавал, что наше сходство пугает само по себе; а еще тем, что внешне я как будто лицо, а он изнанка одного и того же существа; внешне… а внутри?.. И каким образом вышло, что — если привести мысли в порядок — его преследования были мне раньше всего лишь неприятны, как любая трудность, как препятствие или нечто отталкивающее, но я не страшился того потаенного и глубинного ужаса, которым пронизаны наши отношения… Боже мой!
Шанкори, не оборачиваясь, незаметно замедлял шаг. И волей-неволей я постепенно нагнал его.
— Я не демон, — сказал он, как будто ждал меня. — Вовсе нет. Неужели вы до сих пор не поняли, что наше сходство страшно само по себе; что внешне мы с вами — точно лицо и изнанка одного и того же существа? Вы, дитя Фортуны, вы, любезно улыбающаяся маска, вы, кошка, приземляющаяся на лапы… Неужели я был неправ, когда верил, что где-то непременно обретается вторая половинка моего целого? Возможно ли, чтобы человек, раздираемый такими сомнениями, как я, не имел своей противоположности? Я мечтал о вас, вы обо мне. Неужели вы не ждали чудес от исполнения затаенных желаний, о которых не подозревал никто, даже вы сами? Вы желали себе, чтобы окружающие наслаждались вашими жизнерадостными неглубокими изречениями, такими простыми и ясными, и тешились вашими незатейливыми мечтами. Удовлетворяло это вас? Или же с помощью ваших лживых солнечных высказываний вы хотели раскрыть перед ними глубины истины, которые ужаснули бы их, но сами вы при этом остались бы якобы тем же невинным и недалеким парнем; а если взять ваши незатейливые мечты, так не были ли они только тетивой между концами вашего извилистого пути? Вы намеревались достичь цели с открытыми картами — и вам это удалось. Но ответьте по совести (если, разумеется, она у нас с вами есть), неужто не злились вы от того, что не умеете передергивать? Вы, такой доверчивый, такой религиозный, такой простой, — как страстно мечтали вы жить в драматическом напряжении, которое (говорили вы себе) проистекает из подозрительности, из скепсиса и из сложности… нет! из смятения. Как радовались бы вы, покорный наблюдатель, если бы в вас изволил вселиться пароксизм зависти. И — посреди всего этого успеха у друзей, у женщин, в делах — мечта о хотя бы какой-нибудь боли. Вы, Аполлон, вы, радостный, быстро приобретающий приязнь юнцов и старцев, вы, чье появление разгоняло тучи на небесах и челах, вы, певец, хохотун, балагур, разве вы не шептали в подушку: хочу ненавидеть, смертельно ненавидеть!
Я еще раз попытался уладить дело миром, осознавая, что это последняя моя попытка. Если он будет продолжать…
— Что мне в ваших словах! Я такой, каков есть, и жизнь подтверждает это.
— Неужели? — произнес он цинично. — Ну-ну. Перед лицом высшей справедливости вы хуже меня, поверьте! Ибо я не способен к злу, я лишь внушал его; вы же, более счастливый от природы, могли притворяться, что творите добро. И что же, вы творили его? Вы были добры? Так поведайте мне хотя бы об одном вашем хорошем поступке, об одной-единственной принесенной вами жертве.
— Их было много, — ответил я несмело.
В палатке, в которой Спайдан вел свое повествование, стало тихо. Наконец рассказчик со вздохом продолжил:
— …ответил я несмело, ибо, друзья мои, Шанкори заглянул в самые тайники моей души. Раздраженный предпринятой мною попыткой уйти от разговора, он сказал:
— Что ж, всмотримся в некоторые из них повнимательнее. Взять хоть вдову Траутвайн.
Я замер.
— Откуда вы знаете?
— Из-за своего дара. Двадцатидвухлетняя привлекательная женщина, с которой у вас был роман. Роман, основанный на вашем тщеславии. Из-за тщеславия вы и принялись опекать ее, когда она овдовела. Такой добряк, как вы, не мог поступить иначе. Почему вы не женились на ней? Вы были даже и не прочь. Все складывалось просто превосходно. Но вот двое ее детей. Дело серьезное, требующее обдумывания. Препятствие было вам на руку, хотя для всех вы оставались человеком бескорыстно благородным. Кто угодно подтвердит, что тогда вы были ее единственным другом. Уверен, что все именно так и думали. Вы навещали ее, желая утешить; и о детях вы тоже заботились — покупали им конфеты. Но почему же вы убедили ее не пытаться получить некое выгодное место? По тем никчемным причинам, о которых вы говорили? Вы прекрасно знаете, что вам не хотелось ничего предпринимать, — только поэтому вы выдумывали разные доводы. Вам также известно и то, почему вы так благородно отстаивали честь этого мерзавца Ярого. Он начал интересоваться госпожой Траутвайн как раз тогда, когда для вас стало превращаться в обузу даже это убогое платоническое покровительство. А после того как, выйдя замуж за этого распутника, она повесилась, вы целый месяц чувствовали себя уничтоженным. Сколь малая плата, сударь! Но потом вы «покорились судьбе». Ярый вас «обманул»… Летом вы отправились в Норвегию залечивать сердечную рану… Как-то раз вы поехали на похороны своего лучшего друга. Дорога туда была удобной, а вот добираться обратно оказалось сложнее: если бы вы дождались похорон, то пропустили бы свидание, о котором было условлено за неделю. Родственники покойного смотрели на вас едва ли не с обожанием. И то сказать, вы были единственным не из круга семьи. Но похорон вы дожидаться не стали, вам пришлось уехать раньше из-за «противных неотложных» дел. Эти бедные люди вам до сих пор глубоко благодарны. Они бы для вас луну с неба достали. И с тех пор вы много чего от них получили. А свидание ваше в тот вечер удалось.
Вы ожидали романтически-преувеличенных злодеяний? Нет: свидетельство о человеке складывается из таких вот пустяков, и молчание за обедом иногда значит не меньше, чем немота над могилой. Вам этого мало? Вы хотите новых доказательств? Напоминаний о скаредно выпрашиваемых благодарностях, о поверхностной, ни к чему не обязывающей дружбе, о сугубо эгоистических поступках, совершенных якобы по принуждению, о бессердечных отказах, выглядевших как капитуляция, безнадежная капитуляция перед неизбежным? Хотите?
Я воскликнул:
— Но неужели это настолько тяжелые прегрешения? Или, может, преступления?
— О нет, я ни в коем случае не судья вам! Я говорю лишь о том, что, вопреки всему этому, вам удалось сохранить свое сердце чистым; что, несмотря на все это, вы умели достойно утешить; что вы действительно разгоняли тучи и что, наперекор вашим прегрешениям, притворству, изменам вы оставались невинным. Лицевая сторона моей изнанки, мой господин. Я не демон, — рефреном повторил он, — я только ваша изнанка. Если бы вы были ею, то вы знали бы столько же, сколько и я. Но такое счастье, как ваше, оно не вполне заслуженно, в нем нет пророческого дара, нет ясновидения. Я не демон.
И теперь, когда он разрушил все барьеры между нами и без околичностей изъяснил свою и мою сущность, в нем и впрямь уже не осталось ничего демонического, и я понял, что он никогда больше не предстанет передо мной демоном. Он не страшил меня и страшить уже не будет. Меня не пугало даже его знание того, что было неизвестно никому, кроме меня (и что до последнего времени оставалось и для меня самого сокровенным). Он шагал рядом, мрачный, как приговоренный преступник, хотя и высказал обо мне порочащую правду; я же, по-прежнему отнюдь не убежденный в своей виновности, шел с высоко поднятой головой, полной солнечных упований даже в этот печальный вечер; и это был тот, кто из-за моего незаслуженного счастья принял на свои плечи всю мою вину. И тем не менее даже такого двойника, который меня уже не страшил и страшить не будет, я не любил. Хотя при этом я отлично осознавал: это мой искупитель.
Мы вышли на небольшую равнину, с севера окаймленную лесом; под ней лежала деревня, называвшаяся Хазе. Был уже поздний вечер. Здесь мы должны были переночевать. Мы разбили палатки, и нам обоим показалось самой естественной вещью на свете разделить кров. Над нами смеялись и подшучивали, но нам это было безразлично. Мы заключили между собой безмолвный договор.
Вот как закончился тот день.
При мерцающем свете свечи в палатке он сказал мне:
— Завтра нас могут навсегда разлучить жизнь и смерть. Ты ни о чем особенно не задумываешься, но я, которого вместо тебя терзала жизнь, я думаю за нас обоих. Ты ступал легко — и не нуждался в тормозах; я же, которого постоянно тормозили, не мог не думать о том человеке (то есть о тебе), кто мог бы стать смазкой, помешать мучившему меня чрезмерному трению. Бывают натуры цельные, я бы сказал — однодомные, но человек вроде меня, в котором борются два существа, из коих одно настолько же развито, насколько недоразвито другое, такой человек знает (ведь жизнь меня кое-чему научила), что где-то в мире обитает уравновешивающий его двойник. Но как сердце может поверить тому, чего не видели глаза? Мне же дозволено было увидеть, хотя и в столь скорбное время… и глядя на тебя, дитя Фортуны, я ощутил огромную радость. Ибо теперь я уверен, что гибридов не существует. Ты и представить себе не можешь, что значит подобная уверенность для половины, обремененной злом, — такой, как я. Я вознагражден за все страдания. А сейчас послушай: возможно, один из нас двоих погибнет. Мы встретились при исключительных обстоятельствах, и, уверяю тебя, не может быть, чтобы после столь драматичной встречи все опять вернулось на круги своя. Знаешь легенду? Люди изначально были двуедиными. Но боги, наказав, разделили их на две половины и разбросали по всему миру. С тех пор эти половинки стремятся воссоединиться и ищут друг друга. А когда находят, то объятие, в котором они так и не могут до конца слиться, заменяет им еще менее осуществимую возможность достичь прежнего совершенного единения. И если бы дело было только в физической любви…
— А в нашем случае?
— В нашем случае? Ты не можешь ничего иного, кроме как не любить меня; я же не могу не завидовать тебе. Смерть будет нашим судьей.
— Смерть…
— Ответь: хотел бы ты умереть, оставив по себе память и прожив веселую жизнь обворожительного эгоиста, который никому не причинил горя, ибо думал только о самом себе, который радовал многих, хотя думал только о самом себе, который светил многим, хотя и желал света только для себя одного, который был отягощен прегрешениями, хотя был без изъяна и внутри и снаружи, — или ты хотел бы и дальше жить в сени моего духа, который принуждал бы тебя творить зло, но ты не творил бы его, не способный на добро, о котором ты мечтаешь; жить, мучась смертельными угрызениями совести даже из-за не совершенного тобою зла и из-за растоптанной радости даже в том случае, если бы ты творил добро; неспособный на равнодушие, неспособный на внимательность, никто, который не умеет ни плакать, ни смеяться?
— Жизнь! — выдохнул я страстно.
— Ты мечтаешь о ней, поскольку до сих пор остаешься лишь самим собой. Но помни о переменах! Либо ничего — либо мы оба вместе. Задумайся над этим. Станешь ли ты и потом так тосковать по жизни?
— Жизнь, — ответил я. — Я выбираю жизнь.
— А знаешь ли ты, что это возможно лишь ценой моей смерти?
— Знаю, — холодно ответил я и закрыл глаза.
На что он после короткого напряженного молчания:
— Ты прав. Ты, конечно, думаешь, что для меня выбор менее сложен: проститься проще, дальнейшая жизнь не столь привлекательна, как твоя. Что ж, ты прав.
Эти шуточки! Ах, как отбрил бы я его в иной ситуации! Но здесь, в палатке, в первый день военного похода, когда следовало выбирать между двумя кошмарными возможностями?
— С чего вы взяли, что наша встреча сулит такие трагические перемены в судьбе? С чего решили, будто нет иных возможностей?
— Знаю, — ответил мой собеседник, и я услышал, как он потянулся.
И я сказал тогда, подчеркивая интонацией, что беседа закончена:
— Зачем терзаться? Пусть будет так, как определено Богом.
— Пусть. — И мне послышался зевок.
Настали военные будни. Сначала пианиссимо, с небольшими марш-бросками и довольно-таки длительными передышками — короче, дни, когда войны будто бы и нет. Лишь иногда доносились отдаленные залпы орудий, а треска винтовок, этих самых безжалостных напоминательниц о войне, мы долгое время не слышали. Право, все это было похоже на методичную увертюру к военным действиям. А потом вдруг медленное крещендо: встречи на перекрестках дорог с другими частями, светомаскировка, так что иногда и курить запрещалось, покинутые дома, то там, то сям колючая проволока, натянутая вроде бы бесцельно. Время от времени ружейный выстрел (где?), проскакал вестовой. И при этом все вокруг, словно ватой, было обложено тишиной, беременной нетерпением. А потом — связанные люди в гражданской одежде; посреди ночи местами вспыхивали пожары. И мы даже сами не поняли, как это случилось, но как-то раз нам вдруг велели построиться в боевом порядке. И это уже была война. Мы вплыли в нее на удивление мягко: быть может, такое ощущение испытывает корабль, который спускают на воду по бревнам, смазанным салом.
Шанкори все время находился поблизости. В этом не было ничего особенного — так диктовал устав. Нет, он уже не напоминал мне демона. Я настолько свыкся с ним, что он казался мне совершенно чужим человеком, а чувство подавленности и дурноты, пробуждаемое во мне его разговорами и его взглядом, было схоже с тем, что вызывает любой чужак, которого мы подозреваем в том, что он замышляет в отношении нас недоброе. Как все изменилось! Поначалу равнодушие, затем ужас перед непостижимым, потом сострадание — едва ли не братское, примирение (ибо я с ним примирился), а теперь — глупый страх. О, сколь неприязненно, бывало, он смотрел на меня! Не возникало сомнений, что его обуревали дурные намерения. Если наступало затишье, забота прокладывала на его лице две глубокие борозды от носа ко рту; без сомнения, среди грохота войны он непрестанно с тоской думал о смерти.
Меня же попросту забавляло то пари, которое заключило с фурией войны мое земное существование. Только и всего. Но могу вас заверить, что я достойно вышел из положения, и моя открытость, хотя и слегка приглушенная обстоятельствами, не раз помогала моим сотоварищам в свободные вечерние минуты привести в порядок их собственные мысли. И все вы знаете, что я честно исполнял свой долг. Война развлекала меня. И хотя я и знал о бесшумно бурлящей ненависти Шанкори, мне удалось справиться и с этим. Я сказал себе: даже если он что-то готовит, то какая разница — одной опасностью больше или меньше.
К тому, что вам уже известно, мне осталось добавить немногое. Когда в тот раз нас обоих, каждого во главе патруля, послали проверить вражеские укрепления, поначалу мы шли бок о бок. Но в определенном месте нам предстояло разделиться. Добравшись туда, мы оставили солдат сзади, а сами продрались через густую лесную поросль к наблюдательному пункту, чтобы сориентироваться на местности. Высота эта была важной — недаром, едва мы достигли границы подлеска, послышался частый свист пуль. Мы улеглись плашмя, укрывшись за небольшим бугорком. Я извлек карту и начал изучать ее. И внезапно надо мной раздалось:
— Стало быть, мы оба еще живы?
Голос звучал зловеще. Я посмотрел на Шанкори снизу вверх, потому что он успел встать на колени. Он продолжал нетерпеливо:
— Долго вы еще собираетесь упрямиться? Время уходит, и мое терпение на пределе. Когда же вы наконец решитесь?
— Но почему я? — попытался я перевести все в шутку. — Разве мы не доверились Богу?
— Почему вы? Потому что это должен быть один из нас. И если вам хочется жить, то, вы думаете, мне нет?
— Не я виноват в войне.
— А мой страх считает иначе. Ваши глаза не способны ни внушить мне жалости или страха, ни поколебать мою совесть. Они слишком похожи на мои собственные. А как легко было бы убить вас, когда подворачивается такой случай, как сейчас.
— Отчего же это, скажите на милость? — засмеялся я.
— Отчего же, скажите на милость?! — передразнил он. — А разве вам ничего подобного в голову не приходило? Правда не приходило? Ну да, ведь я же воплощенное зло. Но и зло хочет жить. «Жизнь! Жизнь! Я выбираю жизнь!» Помните? А, забыли? А вот я нет. Я не переставал думать о вашей мечте о порочной жизни. Неужели вы не понимаете, что ваша смерть означает для меня восхождение к новой жизни?
Одной рукой он как-то подозрительно начал шарить в кобуре, а другая его рука словно сковала меня.
Что он задумал? Хотел ли он только напугать меня? Или ему нужна была моя жизнь? Я никогда этого не узнаю. Он упал. «Не наши» прострелили ему голову. А я глядел на него, мертвого; и внезапно меня охватило ощущение — давящее ощущение, — что умер я сам.
Потом у меня началась горячка.
А потом я опять проснулся для жизни. Для жизни! Мне не казалось и не кажется странным, что я еще существую. Но как могло случиться, что я больше никого не могу ни развеселить, ни примирить, что мое сострадание никого не утешает, а моя радость не приносит радости другим? Как могло случиться, что люди не приходят ко мне больше с вопросами — что ты об этом думаешь? как быть? что делать? Как случилось, что меня стали пугать мои собственные потаенные мысли, которые я даже до конца и не осознаю, хотя прежде, ясно осознаваемые мною, они не служили препятствием для того, чтобы от меня исходили лучи доверия и общительности? Как случилось, что я, не решаясь творить зло, не доверяю и своей доброте? Куда девался смех? Почему я не могу даже оплакать свою нынешнюю ущербность? Отчего я больше не тот весельчак Спайдан, каким меня все знали?
Если бы я по крайней мере мог сказать, что Шанкори не существовал!
Однако он существовал.
Но кем же были мы двое? И наконец: кто когда-либо объяснит мне, кем я был и кем являюсь ныне?
СУМАТОШНАЯ ТИШИНА © Перевод И. Безрукова
Чем были для него коварные выстрелы винтовок и разрывы шрапнели? Какая разница, плохо или хорошо стрелял противник, расплавился ли свинцовый конус перед, над или за окопом, высоко ли, низко ли, слева или справа от него, либо вообще над ним — от всего этого его, сидящего, защищал вертикальный бруствер, на метр возвышавшийся над ним. Вертикаль была могущественной защитницей — и он, и все прочие знали это, — самой могущественной и к тому же самой ласковой, истинная губительница зла: прочная преграда. И вдобавок впереди располагался вал, а над головой — навес, засыпанный землей и оплетенный гибкими молодыми ветвями, тоже добрые друзья. Но прежде всего, разумеется, вертикаль, вертикаль! И если это так, то что же удивительного в том, что именно столб является метафорой строптивой несущей силы и всего того, что бесконечно и что по праву возвышается над всем прочим?! Он льнул к ней, вернее сказать — он к ней притулился. Его профиль в полумраке траншейных ходов неясно рисовался на земляной вертикали насыпи: в таком положении и ноги, вытянутые вдоль, оказывались в безопасной полосе. И от этой могущественной вертикали веяло таким спокойствием, что тишина — молчаливая, настороженная — стояла даже во время самых ожесточенных перестрелок, даже тогда, когда прилетала шрапнель, от которой нельзя укрыться, потому что она для окопов — словно провидение, и никому и в голову не приходит ожидать от этого провидения милосердия! Но и тогда близость вертикали, пускай мало что значащая, поддерживала доверие, а сама она, вертикаль, пусть и бессильная, успокаивала, словно старый заслуженный сановник, давно утративший влияние, но по-прежнему вызывающий уважение. И тот, кто пребывал в близости бруствера, под его защитой и сенью, проникался этой уверенностью в себе, этим горделивым самоуважением и прирожденным нежеланием подчиняться, так что его охватывало чувство, присущее вознице, у которого понесли кони, но который все еще верит, что сам управляет колесницей. И, свернувшись калачиком под навесом, ни дать ни взять связанная жертва, обреченная на заклание, он, поднимая взор к небу, которое проглядывало сквозь маленькие окошечки в навесе, чувствовал, что все еще остается человеком. И даже в самое страшное военное ненастье, среди грохота и рыка, он, подопечный вертикали, творение, которому лишь в присутствии этой защитницы удавалось хотя немного ощущать себя человеком, верил, что он и в самом деле им является, и чувствовал прилив силы и желание противостоять. И внутри него разливался покой. И вот откуда тишина вокруг.
Бывают дни, когда окопы вдоль всего длинного-длинного фронта взбудораживаются, и никто не знает, отчего. Время послеобеденное, все спокойно, все болтают ни о чем. Солнце плещется в окопах. Всем кажется, будто это — порука их безопасности. Вот почему офицеры решились отправиться в «казино», а рядовые соседствующих рот — сходить друг к другу в гости. И только патрули стоят через каждые пятьдесят метров. По привычке. Над армией парит ощущение безопасности… И тут вдалеке внезапно расквакался ружейный хор. Причем не как обычно, когда роптание одной винтовки рождает хор, accelerando, crescendo, но хор образовался как-то сразу, рра-рра, рру-рра, точно горох рассыпался. Паралич поразил члены армии вдоль всего длинного-длинного фронта. Паралич — точно в замке спящей красавицы. Речи смолкли. Нет, это не испуг. Все обратилось в слух. И вот — ре-те-те, ре-та-та, ври-вра-вро — тут каждый занимает свое место. Стоят, ждут, переминаются с ноги на ногу: что-то будет? — А вдалеке: рра-рра-рру; рра-рра-рру, рра-diminuendo. Тишина. Но вдоль всего длинного-длинного фронта бурлят подводные течения. Тишина. Чья-то винтовка выстрелила. И с другой стороны одинокое: пенк! И: вззз-пт. Тишина. Позади бухнула пушка. Ей ответили. Несколько винтовок самовольно раскашлялись, точно чахоточные. И вот: фччч-зз. Над головами ударили в медные тарелки. Шрапнель. Завыли ее свинцовые пули. Сухая листва осыпается. И мысли за брустверами, когда разыгрался этот дикий концерт, упорядочиваются и успокаиваются. И весь полк заболевает некоей скрытой лихорадкой: это что-то вроде нарушения в пищеварительном тракте. До самого вечера — выстрел за выстрелом. Под защитой вертикали безопасно, однако ужас все длится — пугающе близко. Уже никто не обращает внимания ни на то, что ураган усиливается, ни на то, что время от времени он утихомиривается, просто все вместе воспринимается как однообразное furiozo. Тебя насильно втиснули во что-то; может, даже ты — это больше не ты? Но за вертикалью — ах, там рычание обложено тишиной. Нет, не так! Тишина коренится в самом рычании. В промежутках между выстрелами сердце оттаивает, а при каждом «бах!» вера, что ты выживешь, замирает и цепенеет. Вплетенный в грубую жесткую ткань звенящих, обжигающих, взрывающихся звуков, завываний и рыка, точно в сон, с пылающей головой и ледяным сердцем, он пишет в тени вертикали письма, он пишет: «Дорогие мои, вчера мне написал такой-то… я здоров… ваша посылка пришла в целости, было так вкусно… и всем тоже понравилось. Особенно пирог с вишнями!.. Пишу вам среди страшного грохота, только несколько строк… не беспокойтесь понапрасну… сейчас у меня много забот. И когда только это все закончится? Что поделывают знакомые?.. Не волнуйтесь за меня. Я уже приспособился и научился уворачиваться от пуль… И за какие это наши прегрешения? Наверняка же за прегрешения. Сейчас здесь довольно шумно, но я спокоен, и меня это как-то не трогает. Ко всему привыкаешь… Пишите. Целую вас…»
Он перечитывает написанное, водя карандашом под строками, и вычеркивает слова «И за какие это наши прегрешения? Наверняка же за прегрешения», потому что они тут как-то не к месту. Сидя в бункере с перископом, он время от времени отрывается от бумаги и заглядывает в его зеркальце. Однако ни наблюдать, ни писать ему не под силу. Вплетенный и втиснутый в грубую и жесткую ткань, он ни к чему не может прилепиться, ни с чем не может срастись, ему кажется, что эта безумная перестрелка обтачивает его на токарном станке.
По ходу сообщения к нему пробирается Лукиняк. Под правой рукой он держит небольшую коробку; поскольку рука занята, он не смог пользоваться ею, чтобы ползти на четвереньках и не высовываться из укрытия. О землю он опирается только левой, в которой зажато несколько открыток и писем… ярко синеет какой-то конверт. Когда он ползет вот этак, бороздя коленями непросохшую грязь, тяжело опираясь на левую руку, держа голову горизонтально, глаза вытаращены, улыбка сияет, то сильно смахивает на павиана. Его офицер кричит на него, сам едва это сознавая: «Лукиняк, осел, да зачем же ты сюда приполз, осел ты этакий?!» Лукиняк приближается, медленно, не реагируя ни словом, ни взглядом, ни улыбкой, ни недовольной гримасой. Его офицер кричит на него: «Лукиняк, осел, я же сто раз тебе говорил, чтобы в такую погоду ты не вылезал из укрытия, вот ведь осел!»
Лукиняк приближается, не реагирует — молчит, не хмурится. Его офицер наконец заметил синее послание и больше уже ничего не говорит. Они смотрят друг другу в глаза, Лукиняк и поручик, и по мере того, как денщик приближается, взгляды обоих точно сращиваются. Лукиняк-павиан садится на корточки и сразу превращается в мальчишку, наконец-то он заговорил, а сказал он: «Wertsendung[12]. И еще вот это письмо. Я подумал, что…» И совершенно понятно, что ни одно из слов, какие выкрикивал поручик, в нем не задержалось. Под защитой вертикали вала Лукиняк заметно оживляется, распрямляется, подсаживается ближе к своему офицеру, купается в безопасности. Сейчас они оба, словно братья. Не виделись полдня, а это много. Лукиняк занимался у речушки стиркой и с удовольствием рассказал бы об этом, но никак не может справиться со смущением.
— Wertsendung, — повторяет опять денщик. А офицер говорит: «Распакуй». Ему следовало бы (и он очень этого хочет) начать с письма, но посылка так его интересует, что он принимается помогать Лукиняку. Это фронтовые лакомства: шоколад, консервы, паштет, пирог, конфеты, а сверху — еловая веточка. Беря то одно, то другое, он начинает раздавать деликатесы направо и налево и перебрасывать через земляные стенки, которые делят траншею на ячейки. Кое-что осталось: «Неси назад. И вот это письмо тоже».
Лукиняк взял, но с места не двигается. Что этим двоим сказать друг другу? В общем-то, нечего. Оба пребывают в растерянности, которая, впрочем, им нисколько не мешает. Один улыбнулся, за ним второй.
— Господин поручик…
— Чего тебе?
— Эх, господин поручик, да ничего. Паршивый день…
— Лукиняк!
Денщик смотрит… но продолжения не следует. Лукиняк не осмеливается настаивать на продолжении. Мысль его офицера как-то растеклась, да и кто знает, была ли мысль.
— Дождись темноты. Сейчас назад нельзя. Молчи и ешь.
Он принялся за письма.
— Как дела дома, господин поручик?
— Все здоровы.
— А синее письмо? — Маленькие глазки Лукиняка решились улыбнуться.
— Заткнись!
— Слушаюсь, господин поручик!
Это мгновение взаимопонимания взметнулось над окопом и, возможно, вот-вот столкнется с летящей шрапнелью. И хотя ты почувствовал, что здесь начала зарождаться какая-то новая атмосфера, что в организме войны шевельнулось некое новое образование, ты понимаешь, что попытка эта обречена на неудачу и что рычащая тишина немедленно поглотит все, что только осмелилось пискнуть в иной тональности, чем та, которая сотрясает ее саму и которая вся и есть сотрясение.
И было еще кое-что, что попыталось успокоить выведенное из себя здешнее равновесие: слабый аромат роз пробует вознестись вверх. Но что это оказалось за движение! Оно захирело на корню. И он читает, и вникает, и мысли в голове приходят в полный порядок. Вот только — ну что за собачья жизнь?! — голова раскалывается (хотя мысли в ней в полном порядке), потому что находится она не в обычной воздушной среде, а в чем-то гораздо более плотном. И он читает:
— Мальчик, мальчик мой, что с того, что я разговариваю с людьми о неинтересных, безразличных для меня вещах, что хожу на прогулки туда, где мы бывали с тобой вдвоем, и туда, где мы с тобой никогда не бывали, что я наряжаюсь, что я читаю… что размышляю? И как только может существовать такая раздвоенность: сохранить все, привычки и обычаи, незамутненный взгляд, тонкий слух, прежнее владение всеми органами чувств, которые на самом деле заняты сейчас только одним: мыслью о тебе — и единственным ощущением: непреходящим сильнейшим страхом за твою жизнь? Нет, я ни в чем себя не виню. Потому что люблю тебя больше всего на свете. Но вот вопрос: что же такое человеческая душа, может ли она существовать в подобном раздвоенном состоянии? Я раздвоена постоянно, чем бы я ни занималась, я вся устремлена к тебе, но ведь есть еще и что-то другое, от чего я, к сожалению, не могу избавиться. Поверь, иногда моя печаль, моя тоска, моя озабоченность превращаются в моих врагов, они как будто жестоко упрекают меня за то, что наряду с ними ко мне приходят чувства и мысли грубые и приземленные. Я знаю, что моей вины в этом нет; и все же стесняюсь их, как живых, и думаю кощунственно: как хорошо было бы только страдать, переживать чистое страдание, безраздельную муку, дрожать за тебя, ибо мне кажется, что боль моя, если бы она была чиста, то есть если бы ни с кем меня не делила, была бы прекрасна. Она бы стала великим и почти радостным чувством… Вот видишь, я не боюсь жаловаться на свою оскорбительную тоску, ибо люблю тебя, хотя и не понимаю толком, что же такое моя любовь. Чем ты сейчас живешь? Что такое война? Знаешь, я ведь не имею о ней ни малейшего представления. Но скажи, разве можно не представлять себе то, к чему судорожно тянется каждая частичка моего существа в каждую самую крохотную долю секунды?
Суть в том, что я не верю тем страшным картинам, которые рисует мне моя больная фантазия, хотя мое внутреннее зрение не устает ужасаться непрекращающейся всемирной бойне… и вы стоите друг напротив друга, такие страшные… и хотя мой внутренний слух непрестанно ужасает дикий рев. Я не верю в этот кошмар, не верю в то, что он не имеет конца, но не могу его не слышать. По ночам, особенно под утро, когда опускается туман и точно сурдинку надевает на птичье пение, в полдень, в нашей беседке — ты же знаешь, как тихо там бывает, — и во второй половине дня в моей комнате, окна которой выходят в поле, где не видно сейчас ни единого живого существа, и везде, и всегда, когда вокруг стоит тишина, пусть даже такая, что способна заглушить все громы мира, а еще тогда (и, пожалуй, в первую очередь именно тогда), когда на истинный покой, меня окружающий, наслаивается весь этот грохот и рык — и я места себе не нахожу от беспокойства. Жуткая, больная фантазия немилосердно и беспрестанно лжет моему неверию, живописуя картины ужасные и грозные, — нет-нет, ты никогда не видел ничего подобного! И все-таки! Прости меня, милый мой мальчик, что я пишу тебе про все эти страсти, требуя сочувствия к себе (а пишу я это для того, чтобы ты уверился, что я тоже страдаю). Все это не заслуживает ни малейшего внимания тех, кто сейчас на фронте, я же заслуживаю твоего презрения. И все-таки я говорю: если бы я меньше любила тебя, эти боли, почти физические, меньше терзали бы меня. Ах, если бы возрастающая их сила была прямо пропорциональна возможности защитить тебя! Но я переживаю мучения, и мне кажется, что чем страшнее картины, среди которых ты мне являешься, тем бледнее становится тот ад, что окружает тебя в действительности. Пропасть, куда я лечу, бездонна, и нет такой черноты, что чернее мыслей, которыми я сама себя истязаю. Но зачем же я пишу тебе все это? Неужели я настолько тщеславна, что хочу убедить тебя, будто в определенном смысле я тоже вместе с тобой на войне? Да, мысленно я все время с тобой, даже тогда, когда мне приходится заниматься всякими повседневными мелочами, — если бы ты увидел меня сейчас, то понял бы, что моя жизнь в корне переменилась. Где бы я ни находилась, о чем бы ни думала, всегда и везде обступает меня раздвоенность, распавшийся воздух, от одной из составляющих которого, адского грохота, я никуда не могу убежать. Внутри меня неустанно бушует ураган войны — именно неустанно! — и вырывается наружу, и взвихряет в какие-то немыслимые, неестественные смерчи глубочайшую, святейшую тишину нашей часовенки, которая тебе отлично известна и где — помнишь? — прогуливались наши с тобой мысли, в глубочайшем молчании, проистекающем из глубочайшего взаимопонимания… Странное, однако, нынче письмо пишу я тебе. Ты, пожалуй, подумаешь, что я тронулась умом и страдаю галлюцинациями. Может, я и вправду больна. Но такова уж моя теперешняя жизнь — на самом деле все обстоит куда хуже, я просто не умею выразить это словами. Поймешь ли ты меня, не знаю, но все же пишу: мои чувства, мои воспоминания, мои впечатления раздвоились. Абсолют для меня больше не существует. Мне кажется, что мой сон постоянно прерывается, а мое бодрствование то и дело нарушается. Это ужасно, настолько ужасно, что даже своему злейшему врагу не пожелала бы я испытать и намека на те черные часы, что терзают мою душу…
Послание оскорбительным образом контрастировало с цветом бумаги, на котором было написано, и со слабым ароматом, которое источало. С ним как-то трудно было согласиться; от него веяло чем-то сомнамбулическим, оно было до ужаса холодным и в то же время до дрожи страстным. Он был не в состоянии читать его с радостью — чего бы очень хотел, — но там были слова и выражения, которые зацепили его, как удочка крючком. И его охватило подозрение, что письмо это было преднамеренной попыткой и его тоже загнать в состояние раздвоенности, чтобы он торчал тут недвижно, словно кристалл, сросшийся с кристаллом совершенно иного рода; возлюбленная, казалось ему, прислала это письмо для того, чтобы попробовать присосаться к его собственному состоянию духа — в надежде, что им двоим удастся как-то отшлифовать свои несовпадения.
Да разве он и так уже не вел раздвоенное существование? Он глубоко задумался о себе, не подозревая, что при этом схватил Лукиняка за руку и что Лукиняк уставился на него широко открытыми от удивления и страха глазами: денщика обуревали странные сомнения, но он не решался ни шевельнуться, ни — тем более — высвободиться.
Достаточно было пощупать пульс, приложить руку ко лбу: лоб пылал, а пульс был торопливый, и губы пересохли — температура поднялась. Но, кажется, жар не так уж силен, чтобы одолеть его и лишить способности ясно мыслить. Надо бы пройтись по траншее и поглядеть на своих солдат. И вот он шагает вдоль окопов, отдает приказы, задает вопросы — и видит, что все в порядке. Он внимательно приглядывается к солдатам, желая убедиться, что они не глазеют на него. Вовсе нет. Да и звук его голоса, в котором ему самому слышится что-то незнакомое, не кажется им непривычным. Это же можно увидеть глазами, а глаза у него видят. Вроде бы все по-прежнему. Он даже затевает с прапорщиком Хайнрихом «посторонний» разговор (они стоят возле пулемета), и прапорщик не машет растерянно руками, не пятится и не смотрит неотрывно на носки своих сапог, как он поступает всегда, когда разносится весть о том, что товарищ и командир Лукиняка опять в странном настроении…
Тогда он возвращается — несколько успокоившись — в бункер с перископом, где его все еще дожидается Лукиняк, которому не терпится увидеть поручика, так надолго задержавшегося, и который слегка теряется, когда его наконец видит. Итак: да, температура у него поднялась, но это дело обычное, когда начинается такая сильная канонада, как сегодня. Да и то спокойствие, с каким он к этой канонаде относится, не должно его волновать. Во-первых, привычка, а привычка дает некоторую огрубленность нервов; во-вторых, предыдущие случаи, заканчивавшиеся счастливо; в-третьих, то обстоятельство, что за последние три дня в батальоне погибли три офицера, отчего, разумеется, вероятность его ранения или смерти резко уменьшается; и наконец, в-четвертых, защита вертикали. А еще надо принять во внимание его военный опыт и хорошее знание местности и обычаев вражеских артиллеристов. Все это вместе создает некий панцирь. Это закончится, осознает он, оценивая свои шансы на безопасность, — и видит, что можно оставаться спокойным. Есть надежные гарантии (не абсолютная уверенность, конечно, но — Боже мой! — уверенность!..), допускающие успокоенность — в разумных пределах. Спокойствие, следовательно, не является признаком ненормальности его состояния. Да и вообще — какая там раздвоенность! Он спокоен, хотя вокруг стоит сильнейшая пальба; однако это совсем не означает, что артиллерийская канонада несет с собой покой. Он все слышит и все распознает, и если во время чтения письма ему казалось, что его внезапно поглотила тишина, обрушившаяся из грохота, заполонившего всю округу, то это было только невинное преходящее самовнушение, а может, и самовнушения не было, и он просто-напросто забылся над письмом. И если сейчас поверх всех этих рассуждений плывет воспоминание о том, что уже до получения письма у него было чувство, что «здесь довольно шумно, но я спокоен, и меня это как-то не трогает», то он убеждает себя, будто это оказывало свое предвосхищающее влияние синее письмо. Неприятно, конечно, что послание возлюбленной, слишком неуравновешенное даже для послания сомнамбулического, сумело зацепить его своими отдельными словами и выражениями. Но яд раздвоенности больше не действует. Он вреден для здоровья и прежде всего вреден — как написано — для его души. Слава Богу! Он все слышит и все распознает. Вот сейчас, к примеру: приблизительно в четырех шагах справа ясно слышится попадание пули в насыпь, видно, как взвиваются мелкие земляные частички; где-то кричат «санитар! санитар!», наверное, кого-нибудь ранили, судя по отдаленности голоса, это в пятой роте; разрывы и белое облачко в трехстах шагах сзади: это шрапнель — и если учесть, что как раз в это время там обычно проходит вереница лошаков, развозящих еду, то следует отдать должное неприятелю: он знал, что делает, и выстрел ему удался; а вот бесшумное облачко — еще дальше назад — над пригорком артиллеристов, это уже работа батареи.
— А это, Лукиняк, — сказал он, когда поднялся с земли, куда бросила его взрывная волна, — это, Лукиняк, был залп шрапнели, который мог меня убить, но только повредил нам насыпь. А погляди-ка туда, — показал он, — там, если не ошибаюсь, стоял Федак, и безголовое тело, которое уносят, это и есть Федак.
Все это твердым голосом говорил поручик Лукиняку, бледному, как стена, и стучащему зубами. Он смотрел на него, словно на привидение, а траншея тем временем на протяжении восьмидесяти шагов распалась на тысячи мелких, быстрых и растерянных движений солдат, на крики о помощи, и все это конвульсировало, точно раздавленная квакша, — после оглушительного удара, который смел поручика наземь и оглушил его на левое ухо.
И вот, в то время как для всех остальных (говорю я) этот жуткий удар перекрыл всю предыдущую перестрелку и прозвучал настолько неожиданно и нелепо, что позже, когда они опомнились, им показалось, что вокруг стало тихо (хотя об ослаблении огня не могло быть и речи), и они едва не полезли на вал, для него этот удар естественно, почти незаметно вписался в ряд тех самых ударов, которые он только что анализировал. И, наконец осознав это, он забеспокоился именно потому, что не ужаснулся, и сильно разволновался, потому что усомнился в верности той тропинки, по которой вел свои самонаблюдения; он вообще поставил под сомнение весь ход наблюдений.
— Лукиняк, осел, что ты уставился на меня, как на привидение, и почему ты так далеко?
Однако Лукиняк, который вовсе не был далеко, а наоборот, сидел совсем рядом со своим офицером, по-прежнему стуча зубами, смотрел на поручика так пристально, что казалось, будто он пронизывает его взглядом насквозь, и отвечать не собирался. Тут поручику пришло в голову, что денщик испуган прежде всего взрывом его злости, хотя нельзя было исключить, что грохот шрапнели тоже сыграл свою роль, допускал офицер. Поэтому он, будто кающийся грешник, схватил Лукиняка за обе руки и проговорил:
— Как ты сказал? Паршивый день? Да уж, бывают и получше, — ответив этими словами на замечание денщика, произнесенное им добрых полчаса назад. Но офицеру казалось, что его ответ последовал сразу.
Однако дело не ограничивалось только сумятицей чувств и потерей ориентации во времени; у него вдобавок было некое неясное ощущение, что с ним что-то творится, и он то верил, то не верил этому ощущению; беря Лукиняка за руки, он поддался желанию сблизиться с кем-нибудь, близким его душе, и, за неимением под рукой никого другого, вообразил таким существом своего денщика, которого, впрочем, очень любил. И, пока он вот так держал его за руки, Лукиняк принял для него облик Марианны, что было очень забавно, ибо он продолжал выглядеть, как Лукиняк… причем особенно четко виделась офицеру родинка на шее девушки, которую он часто целовал. Чем дольше он глядел, тем быстрее расплывался образ Марианны, как бы вновь переплавляясь в обычного Лукиняка. Но в течение этой минуты поручик так отчетливо видел свою любовь, что каждая деталь воспоминания слилась со всеми остальными, так что можно было сказать, что он буквально жил любовью, вот почему поручик сказал:
— Спасибо тебе, Лукиняк, ты славный малый.
Не то чтобы все то время, что миновало со взрыва, и потом, после этой минуты, все те мгновения, что поручик находился в сознании, поросли видениями прошлого и источали сладость возвращения в прежние счастливые времена. Этого не было, потому что ни одно реальное воспоминание не взошло. Но если бы на одной полоске ткани мы последовательно изобразили ход его прошлой жизни, а на другой полоске все то, что делалось в нем теперь, — и совместили бы эти полоски, и принялись бы их двигать, но только в противоположных направлениях, то получили бы приблизительное представление о том мглистом мире событий и впечатлений, по которому путешествовал поручик.
Когда он отогнал видение Марианны, ему захотелось — сообразно с тем странным, что он смутно чувствовал, — принять живописную, возможно, даже театральную позу, но вместо этого он лишь как-то судорожно искривился, потому что, совсем уже собравшись воплотить свой замысел (если тут можно говорить о замысле), сообразил вдруг, что Марианне вряд ли бы понравилось нечто подобное. Кроме того, он немного стеснялся Лукиняка, который, держа его за руку, растерянно глядел в сторону, в пустоту траншеи. Положение бедняги Лукиняка было незавидным. Он находился в несколько ином состоянии, чем его офицер, и инстинктивно это чувствовал, но так как возникшие между ними на мгновение отношения — или неотношения — не прекращались, ему казалось, что он висит в вакууме. К счастью, в окопе раздались голоса, в которых безошибочно угадывались гонцы-глашатаи новой, небывалой необычайности, хотя это не были ни выкрики, ни приглушенный шепот. Их сопровождало нечто похожее на плеск, как будто бы на берегу плавно текущей реки собралась стая прачек и все они принялись одновременно полоскать белье. Как только раздались эти голоса, стало ясно, что они несут с собой некое движение, хотя первейшим итогом этого было то, что все съежилось в полной неподвижности. Обоих людей, державшихся за руки, охватило коловращение — стоило им разжать пальцы. Лукиняк, впрочем, все еще смотрел в сторону, и его удовлетворенность тем, что ему теперь есть куда смотреть, как-то материализовалась. Можно было разобрать слова и короткие фразы — не очень связные, перепутанные и перекрещивающиеся, которые как будто старались взаимно стереть смысл одна другой. Пока трудно было предугадать, возникнет ли из этого эмбриона хаос или некий новый порядок, однако опытные уши Лукиняка и поручика сразу же распознали, что слова и фразы, которые для каждого из них имели свой оттенок, проистекают из одного источника.
— Адъютант. — Майор у телефона? — Чего уставился? Не понимаешь? Ну?
— Но сейчас время кофе! — Ни шагу оттуда, ясно? — Разве я не приказал, чтобы ножницы для проволоки всегда были под рукой? — Что? — В сторону! Внимание!!!
Искорки этих разговоров пронеслись слева сквозь Лукиняка и его офицера, как сквозь асбест, не поджигая, но опаляя, а справа возник уже небольшой пожар:
— Да что за глупости! — Кто это сказал? А сейчас… — И что с того, такое тут каждый день. — Я и с места не тронусь. — Что, ты с места не тронешься? Ах ты! Ну, подожди!..
Внезапно Лукиняк повернулся к поручику и, беспомощно глядя на него, сказал:
— Будет наступление.
— Откуда ты знаешь? — спросил он в ответ.
— Будет, — проговорил денщик.
Он, собственно, и сам это чувствовал — с тех пор, как услышал в траншее эту тихую сумятицу голосов; для него она звучала, точно во сне. И если он спросил «Откуда ты знаешь?» (а спросил он об этом с недоверием), то лишь потому, что обрадовался бы, если бы Лукиняк усомнился; ибо денщик представлялся ему теперь как некто очень сведущий, и его неверие или хотя бы сомнение изгнали бы из души офицера предчувствие будущего наступления. Однако Лукиняк не только не стал отрицать, но даже сам, первый, высказал эту мысль и потому превратился для поручика едва ли не во врага. Но лишь до тех пор, пока еще можно было хоть немного сомневаться в вероятности наступления. В этот промежуток времени — очень короткий — поручик не обращал внимания на присутствие денщика. Он сел к столику с перископом, оперся подбородком на руки и «погрузился». А погрузился он в воспоминание о вечернем настроении, которое охватывало его дома возле деревенского пруда, перед началом лягушачьего концерта. И — будучи очень скоро вырван из этого состояния топочущим грохотом траншеи — он видел себя посреди тишины, которую ничуть не нарушало кваканье лягушек. Дурнота? Да. Но вместе с ней — тесно переплетшись (тут он вспомнил спаривающихся жуков) — его мучила и душевная боль; в нем как будто после самоопыления выросли воспоминания о несуразной смеси всего, что означало в его жизни унижение, позор, обман, разочарование и боль. Он показался себе измазанным грязью и невольно оглядел свою военную форму. Особенно ему не понравились сапоги, в которые въелась давняя пыль: смешавшись с ваксой, она образовала нечто вроде корки. Лукиняк заметил его взгляд, извлек откуда-то тряпку и опустился на колени, чтобы вытереть своему офицеру сапоги. И тут новый оглушительный удар, которому предшествовал жуткий вой: восемнадцатисантиметровый снаряд, навещающий окопы ежедневно по разу или по два, толстый дядюшка. Он упал сзади. Разрыв приказал всей суматохе надолго упасть на колени, но поручик, который, пока денщик вытирал ему сапоги, ушел от пруда и отправился домой, где тиканье старинных часов мало-помалу заглушало кваканье лягушек, так вот, поручик оказался после этого взрыва в новой стадии тишины. Прежде он никогда не думал об этом, но теперь внезапно осознал, что тишина, которой он раньше наслаждался, похожа на ощупь на поверхность аккуратно оструганной доски, или же — если в настроении тишины появлялась печаль — на пребывание в пространстве, образованном несколькими такими досками. Сейчас полый и режущий взрыв наполнился материализованными звуковыми волнами гигантского камертона, загудевшего от яростного звона, причем эти волны не неслись плавно, а застывали, подобно нитям, которые выпускает закукливающийся шелкопряд, застывали в отвратительно запутанных цепочках, напрочь забивших пространство, где он находился, так что поручик оказался спеленутым отвердевшим воздухом и не мог пошевелиться, хотя нити эти вовсе и не пытались сколько-нибудь помешать его телодвижениям. И это служило остовом, к которому, как мухи к клейкой бумаге, прилеплялось все то, что достигало его слуха. Он слышал все: и концерт, рокочущий над их головами, над полем, по которому им, по-видимому, вскоре предстоит идти в атаку (мысль эта вызывала у Лукиняка примерно то же неприятное чувство, какое испытывает человек, находящийся под крышей, когда понимает, что ему вот-вот придется выйти в ненастье без зонта и плаща); и вновь начавшуюся беготню в окопах — вплоть до мельчайших деталей, хотя они и наслаивались друг на друга; и пульсирование крови в висках, жилах и сердце; и даже неровный ход зарождающихся мыслей. Но, раз прозвучав, ничто не уходило, ничто не умолкало. Грохот, звуки и движение оставались; немедленно после своего появления на свет они застывали и, обладая всеми акустическими качествами, тем не менее почти не были звуками, потому что лишены были — течения. Вот почему слух уже не справлялся с этой окоченевшей недвижностью; нервы отказывались реагировать, и место реакции органов чувств заняла та, решение о которой принимало подсознание. И подсознание ввергло его в суматошную тишину… И вот, когда он, терпеливо перенося это отвратительное состояние, которое поглотило его полностью, машинально застегивал на себе портупею, нечто вновь открыло перед ним ту тишину, что предшествует лягушачьему концерту, и он душой ощутил боль, словно от удара головой об угол стола, и вскоре после этого погрузился в бредовую уверенность, что и за всем этим кроется лягушачье кваканье. И от отчаяния ему захотелось смеяться. Он засмеялся, и — фи! — теперь и его собственный смех наложился на спекшуюся массу ударов, звона, гомона, свиста, звяканья, топота и плеска и стал самым верхним ее слоем, ее кожей, тем единственным, что подавало еще признаки жизни. Впрочем, едва заметные.
Если бы он больше прислушивался к отцовским советам, то с легкостью избежал бы в жизни многих испытаний. Прежде всего (он думал о днях нынешних, ибо что ему в прошлом?), прежде всего не было бы этой упорной бесконечной войны. Ведь все так странно переплетено. Он помнит, что однажды после какого-то заседания студенческого землячества бродил по лесу и в конце концов довольно убедительно доказал себе, что если бы заседание почему-либо не состоялось, то в кабинете министров случился бы кризис. Жаль, что кризиса не случилось. Дело бы наверняка закончилось отставкой кабинета, и война бы в результате не разразилась. Сегодня, правда, он не может проследить связь между тем заседанием и министерским кризисом, однако это отнюдь не колеблет его твердой уверенности. Его отсутствие могло бы сделать невозможным (пускай на время) принятие решения о созыве студенческого съезда, но он явился на заседание — нет чтобы послушаться отца, который просил его встретить на вокзале дядюшку из Вены. Ах, каким тяжким грузом давит на него нынче, когда все уже испорчено, эта вина непослушания. Его своеволие привело к войне; если бы он не допустил множества иных сумасбродств, сегодня на земле уже, возможно, воцарился бы рай.
Нынче он с отвращением анализирует все это; с отвращением анализирует все свои измены, промахи, собственное упрямство и непослушание. С отвращением — потому что сердце за все это у него не болит… Ах, легко сказать: не болит! Впрочем, оно не болит естественно, то есть так, чтобы он рыдал от боли. Однако же то, о чем он сейчас вспоминает, почти физически ощущая упреки совести, образует вокруг сердца нечто вроде тесного панциря, который давит на него, и это отзывается в нем такой же суматошно цепенящей болью, как купол суматошной тишины… Его измены, его фальшь, его ложь и жалкая строптивость! Всего этого в нем ничуть не больше, чем в прочих, но к чему сравнивать? Бывают минуты, когда он понимает, что сравнивать себя с другими значит множить уловки; грехов до ужаса, до безграничности много. Он, например, знает, что вчера мог спасти человека, спасти вне зависимости от войны — но для этого надо было десять лет назад не разорять гнездо сойки. Он знает это наверняка. И до чего же печально это знание! Он знает, что вчера мог бы облегчить свое сердце горючими слезами, если бы сердце это не очерствело давным-давно, тогда, когда он позволил себе гнуснейшее убийство — убил своим неумением утешить некую безнадежную любовь. И до чего же печально это знание! Он знает, что сегодня и всегда могло бы быть ясно и солнечно, если бы много лет назад он предложил свой кров человеку, который ему не нравился и который прямо под его окнами попал под губительный ливень, в конце концов ставший причиной его смерти. И до чего же печально это знание! И когда нынче чувства замирают и гнетут его, он знает, что мог бы жить размеренно: все призывало его к этому, все манило, все звало — однако же он не внял призывам, избрав стремительную поспешность, перемежающуюся с греховным оцепенением. И вот — тишина, которая оглушает его, но он не в силах выбраться наружу, и вот — бесформенная громада, которая давит на него, но он не в силах освободиться. Ни то, ни другое не причиняет ему боли, он знает это, однако, чувствуй он боль, он набрался бы смелости и рассказал о своих муках. Когда же избавится он хотя бы от мерзкого лягушачьего кваканья, когда же его грудь перестанет сопротивляться этому давлению и лопнет?
Точно лавина проходит через траншею, и он понимает, что это значит, и говорит Лукиняку:
— Останешься здесь, а потом отыщешь меня на новых позициях.
Лукиняк, плача точно ребенок, вытирает слезы тыльной стороной ладони:
— Только не сегодня, господин поручик! Вдруг я вам буду нужен?
— Оставаться сзади! Ясно?
И Лукиняк шагает назад, как-то удивительно легко, будто возносясь над землей, и вот он уже исчез вдали, и поручик видит, как он входит в его усадьбу, чтобы рассказать о нем.
Взгляд на родной дом у пруда над плотиной — среди лип, весь бело-красный, — взгляд этот уносит его назад, так что он видит, как над плотиной беспомощно и растерянно машет руками Лукиняк. И как это получается, что он все слышит, но все недвижно? Как получается, что он чувствует угрызения совести, но — к сожалению — это почти не трогает его? Он окружен какими-то мятыми канатами и ясно слышит песню, которую издавна ненавидел, потому что она всегда предвещала суматошную тишину:
А я тот — узнайте, кто я, кто вам не дает покоя. Я бочар, мой обруч едет и гремит на страх соседям.Но на обруч надета шина, катится он легко, и поручик, ловкий циркач, изумительно на нем балансирует. Как хорошо ему едется! Вот только бы не было ветра, ветра, который скрипит, точно пила о сук, и скрип этот не был бы таким липким! И если бы не было этих белых и красных облачков, завороженно застывших между небом и землей, облачков, что хрустят, как дешевый целлулоидный мячик, и если бы хруст этот не был таким липким! И еще эти плевки черной земли — здесь и там, повсюду, которые сопят и хрипят, словно сломанный контрабас, и если бы звуки эти не были такими липкими! Как же хорошо ехать на обруче с шиной! Он объезжает на нем свои измены, грехи и ложь, может быть, просит прощения, а перед ним per pedes[13] трусит Лукиняк, напоминающий спешащего сеятеля, и то и дело оглядывается на своего офицера. Поручик вытаскивает саблю, и ему тут же приходит в голову, что на этом обруче он напоминает Фортуну. Впрочем, нет! Как-то раз он видел в цирке, как клоуны ехали на обруче с педалями, удерживая равновесие с помощью японского солнечного зонтика, которым они размахивали над головой. Вот и он нынче такой же. Сабля — это его японский зонтик. А Лукиняк перед ним топает per pedes, и как только он сумел так быстро вернуться оттуда, куда он его отправил и куда, он сам видел, Лукиняк держал путь? Вот ведь мошенник, не замешкался — и принес из дома в шкатулке нечто миниатюрное, что расставил и тут, и там с фантазией, достойной мастеровитых нюрнбергских архитекторов. Он переходит от группки к группке, поспешно, точно запаздывающий сеятель, а его офицер едет за ним на расхлябанном велосипеде, который так легко удержать в равновесии…
Вот крестины младших сестер и братьев, к которым он относился с таким раздражением; вот раздача школьных грамот, когда он завидовал не только тем, кто его превзошел, но и тем, кто успевал с ним наравне; вот веселый завтрак на лужайке и щебечущие возлюбленные, когда-то им брошенные и нашедшие счастливое утешение с новыми возлюбленными, заменившими его, — почему же и тут его мучит зависть? а вот люди, которым он отказал в помощи, когда им пришлось туго. Но есть здесь и группки неудачно подстроенных ловушек, рухнувших интриг и разоблаченных заговоров; есть и застывшие, как фигуры из паноптикума, в радужных красках фата-морганы сцены спасения тонувшего мальчика и пожертвований от чистого сердца, когда слезы навертывались на глаза, так что пожертвование превращалось уже в дар, обременяющий одного только дарителя. А вот проникнутое любовью сыновнее уважение. И одно длительное самоотречение, о котором никто не догадывался. И некое болезненное испытание жизнью, которое пыталось сломать, исковеркать его, однако же он не поддался. Эти изображения были самыми прекрасными. Но как, однако, Лукиняку удалось отыскать их?
Он стремительно, стремительно переезжает от одной группки к другой на своем расхлябанном велосипеде, так что рассмотреть их в деталях ему не под силу. И это быстрое чередование переходит в головокружительный галоп, все кружится, как на карусели, и он — в самом ее центре. Та-ра-ра! это же следующая стадия тишины, тишины квадратной, напяленной на тебя подобно тому, как напяливают ослиную голову в ночь на Ивана Купалу, — но только сейчас не до праздничных грез. Реальность, реальность более чем материальная, действительность, действительность, вот эта самая минута, в которую сумел втиснуть все прошлое злой-презлой эльф. Прошлое — да, но не будущее.
Выпадают иногда такие мгновения, когда разрывается затягивающая высокие горы пелена тумана — и он смотрит в долину. И ему кажется, будто подступает вечер, об этом говорит оттенок того воздушного слоя, что ближе всего к земле; что он шагает, нет, бежит по жирной пашне, и тяжелый чернозем липнет к его ботинкам, и вот уже дважды пытался он быстрым движением отряхнуть колени; что он бежит, потому что так велено; что помнит об этом наказе; что бежит он не один, а со многими другими; что его мучат жажда и голод; что людей вокруг с каждой минутой становится все меньше; что он слышит; что он видит; что ему страшно, страшно, страшно; и страх; и тишина, пронзаемая свистом, шипом и рыком. И вновь только свист, и шип, и рык, рождающие тишину. И они не исчезают, они длятся, длятся.
— Лукиняяяк!
— Я здесь! Господин поручик — пригнитесь!
Нет, нет — нет, нет!
Вон перед школой — девочка-сиротка. Такая противная, рябая. Никого у нее нет, только тетка, старая попрошайка, живущая подаянием и колотящая сироту. Этим она подает пример всем деревенским мальчишкам. Там перед школой они поют ей:
Рябая, рябая, грязная такая.Она жмется к воротам, не двигается. Ей хочется убежать. Но они не дадут.
Рябая, рябая, грязная такая.Поскольку убежать она не может, то опять бросается к воротам и поворачивается к мальчишкам спиной. Она не пытается их обидеть. Просто прячется. Это совершенно очевидно, сама ее поза взывает к жалости. А такое зрелище может чудесным образом растрогать и жестокосердого.
— Лежать!
Они хохочут и кричат ей:
— Лежать!
И он не выдерживает, вступается за нее. Не обходится без драки. Он отчаянно защищается. Но ему здорово достается. Особенно долго потом напоминал о себе один удар кулаком в грудь…
Поручик погружается в прошлое:
— Вряд ли я совершил когда-нибудь другой такой же хороший поступок. И какова же тогда цена моей жизни?
Он снова ощущает ту боль от удара кулаком и гордится ею — да, гордится.
И теперь он чувствует себя свободнее, он почему-то знает: сильный удар наконец-то сорвал с него ослиную голову. Никто больше не поднимет его на смех, никто, даже он сам.
Собственно, ослиная голова снялась не одним рывком. Сначала невидимая рука распутала веревки и дала ему возможность потянуться, как распеленутому ребенку. Одновременно ему каким-то образом привели в порядок мозг, там теперь стало просторнее, он воспринимает природу, он уже внутри нее. Расколотый куб. Из утихомирившегося наконец аккумулятора звуков исходит сейчас только неясное бормотание, а клубок прошлого неожиданно размотался в ровную нить — без узлов, без разрывов, совершено ровную.
Ему кажется, будто его пальцы скользят по поверхности гладкой доски, и это удивительно, сверхъестественно приятно.
Лукиняк стоит на коленях возле своего офицера и беспомощно глядит на крохотную ранку в груди трупа. Плакать он пока не может. Но он обязательно заплачет.
Вечер, ночь. И теперь уже всем ясно, что наступила тишина.
Лукиняк стоит на коленях возле своего мертвого господина, совсем рядом с укреплениями из колючей проволоки: позиции противника взяты.
Заплакал он тогда, когда лягушки в ближайшем пруду начали свой концерт. Дай-то Бог, чтобы своим грубым кваканьем они не помешали Лукиняку скорбеть.
Он скажет еще:
— Добрый мой господин.
А назавтра в приказе упомянут о том, как храбро вел он вперед свою роту, которая первой оказалась во вражеских траншеях, и Лукиняк утешится и с гордостью напишет об этом в красно-белую усадьбу.
Из сборника «Подвал» (1919)
ПУСТОЙ СТУЛ Разбор ненаписанного рассказа © Перевод Н. Фальковская
Цель, которую я ставлю перед собой, повествуя об обстоятельствах, в силу которых этот рассказ, собственно, так и не был написан, бессмысленна, а потому она не будет оправданной, даже если я, как предполагаю, прибавлю в нижеследующих строках нечто из области фантастики, к которой куда лучше было бы обратиться в более благоприятном случае, и нечто из области чудачеств, какие, по-видимому, более подходили бы для рассказа в привычном смысле слова. Ведь то и другое может завести читателя на распутье или в тупик; при этом у него, вероятно, возникнет некое душевное волнение (а то и тревога), из-за чего мой замысел, по всей видимости, будет зачастую сведен к прагматическому описанию гибели словесного произведения.
Я считаю своим долгом уже во вступлении предупредить читателя об этом обстоятельстве. Он не удовлетворит ни одной из потребностей, ради которых обыкновенно берется за чтение. И если он все же решится, то пусть знает, что ему не дождаться напряженной интриги и не найти интересного психологического анализа, ярких и метких описаний, а также особенностей стиля и лирических пассажей, что способны затронуть в его сердце родственную струну. Лишь на одно может претендовать настоящее повествование: на исключительность. Ибо еще не было примера, когда бы писатель публично рассказывал о произведении, которое не написал, выдавая тем самым свою неспособность и бессилие. Но эта исключительность столь удручающа, что я не упоминал бы здесь о ней, если бы не мое искреннее стремление щадить читателя, насколько это возможно.
После этих вступительных слов я хочу объяснить, что толкнуло меня на столь необычный и тщетный поступок. Довольно долгое время я обдумываю план некоего рассказа. Он должен был бы называться «Пустой стул», и название это — единственное, что сохранилось от рассказа, который я никогда не сумею написать. Зато хотя бы заглавие придумано в окончательном виде. Для читателя, которому может показаться странным, что я дал название вещи, не отраженной на бумаге даже в качестве крохотного наброска, и для читателя, возможно, смущенного тем, что я подчеркиваю окончательность заглавия, то есть для них обоих, я заявляю, что не способен написать ничего, чему заранее не дал имени, и что название рассказа или стихотворения бывает для меня, как правило, надежнейшей отправной точкой для последующей работы. Иногда название первоначально вообще представляло собой лишь сочетание случайно навеянных слов, мелодия или смысл которых, вложенные в них уже потом, меня вдохновляли. Но это так, вскользь.
Название «Пустой стул» было готово, и я знал, что в нем ничего нельзя менять. Но вот что удивительно! Хотя это название было для меня решающим в большей степени, чем название любого из моих произведений, я напрасно пытался из этих двух слов, означавших для меня целый сонм мыслей и образов, извлечь мельчайший словесный зародыш, из которого позже я сумел бы методичным писательским трудом выпестовать рассказ или иную словесную форму.
(Когда же мои мучения — а это воистину были мучения — затянулись слишком надолго, я пожелал отказаться от полюбившейся мне мысли о рассказе и остановиться на любой форме, которая была бы приемлемой для моего материала.) Ибо идея и впрямь существовала, она была тесно связана с названием, существовала даже некая зачаточная фабула. Но все выглядело так расплывчато, что я не решился написать ни единого слова, помимо названия, которое долгие месяцы красовалось на четвертушке бумаги… сегодня я ее наконец-то сжег, совсем пожелтевшую, ибо она лежала на солнце.
Об основополагающей идее, вполне отчетливо обрисовавшейся в моем мозгу, как и о форме, способе выражения и вообще о словесной и формальной стороне произведения, которые так никогда и не преодолели стадии некоего туманного сгустка воображения, я скажу позже и надеюсь, что читатель поймет кое-какие из моих писательских страданий и в конце концов поймет также, почему я решился вынести их на люди, хотя, честно говоря, объяснение всех этих «почему» вовсе не является моей целью.
Пока мне остается только сказать, отчего я представляю это исключительно печальное произведение читателям, чье терпение, боюсь, я испытываю чересчур жестоко: я был столь одержим планом рассказа «Пустой стул», что все иные мои литературные замыслы превращались в ничто. На долгое время я ограничил свою деятельность журналистикой — и то потому, что у меня не было выбора, — в то время как все остальные мои силы поглощались тщетными, изматывающими поисками формы и выражения, а также тем ужасом, в который повергла меня мысль, что от бредовой идеи написать рассказ зависит все мое существование.
Позже, когда не удались все попытки придать идее форму, когда я убедился, что плана мне ни за что не выстроить, мне показалось тяжелейшим трудом даже создание самой убогой хроники для местной газеты.
Суди я всю свою писательскую деятельность самым трезвым и беспощадным образом, мне все равно не удалось бы подавить мое «эго», которое сознает, что если бы я, писатель, был внезапно лишен возможности писать и публиковаться, то я умер бы и как человек. И только из чувства самосохранения я лихорадочно искал способа избежать парализующего давления того плана, что все ускользал от меня.
Во время этого тяжелого душевного кризиса мне на глаза попались эссе Эдгара Аллана По. Я заново перечитал его статью «Философия художественного произведения». И это описание работы мастера над стихотворением «Ворон», описание не менее прославленное, чем сами стихи, натолкнуло меня на мысль подобным же образом свести счеты со своим ненаписанным рассказом. Правда, уже и сами поводы разделяет пропасть: там — поэт, из непостижимой прихоти стремящийся методичным разбором ослабить воздействие своих стихов, которые обеспечили ему неувядаемую славу (и тем не менее еще увеличивший ее своим комментарием), здесь — потерпевший крушение автор, который пытается спасти свое творческое существование, повествуя об обломках рассказа, на который у него не хватило сил.
Но среди тоски, в которой жил я тогда, я вдруг однажды заметил тропинку, весьма заросшую и крутую, которая могла бы завести меня Бог знает куда, но она, по крайней мере вначале, казалась проходимой — и выбора не было.
Статью эту я пишу в эгоистической надежде избавиться от кошмара, слишком долго пьющего мою кровь. Однако, к несчастью, я уже настолько писатель, что мне недостает простого описания истории ненаписанного рассказа. Оно не представляло бы для меня ценности, если бы я не вынес его на суд публики. Ибо я писатель, а это значит, что я подобен актеру, который именно на сцене сильнее всего радуется и сильнее всего скорбит и который не способен похоронить без свидетелей ни свою радость, ни свою боль.
Пусть никто не ищет противоречия между моим прежним предупреждением и нынешним обращением к читателю. Я честно предупреждал вас, но, собственно, лишь потому, что втайне надеюсь: хотя бы один зритель да придет на мой спектакль, не сумев одолеть своего любопытства. (Позже он, конечно, об этом пожалеет.) Как истинный актер я питаю надежду, что зритель придет, ибо играть я могу только если верю, что должен играть, ибо лишь так мне удается говорить правду; я должен слышать ее (слышать ушами, как она вырывается из меня), поскольку жить иначе я не могу. Но теперь, уже достаточно унизив себя, я имею право сказать: за желание жить не нужно просить прощения.
Еще спасибо газете, дающей писателю преимущество перед читателями, без которых она не могла бы существовать, как погибла бы и без писателей. Хотя из рядов читателей, конечно, мог бы появиться писатель, но вряд ли можно утверждать, что писатели способны быть читателями. Однако это так, между прочим, чтобы похвалить читателей.
Прошло слишком много времени, чтобы я мог точно вспомнить, что именно побудило меня взяться за рассказ. Кроме того, перемены и потрясения, которые претерпел первоначальный замысел, были столь частыми и резкими, что исходная мысль представляется теперь очень туманной; натолкнуло же меня на нее — а я точно знаю, что такой толчок был, — как кажется мне сегодня, постепенное вспоминание ушедших полузабытых событий, вызванных в памяти воздействием аналогичных ситуаций, очевидно, вновь возникших, хотя бы даже органы чувств не заметили их и не сумели в них разобраться. Знаю лишь, что как-то раз во время прогулки меня вдруг заинтересовала запутанная психология ужаса. С большой осторожностью реконструируя ныне те свои сумбурные внутренние состояния и действия, я пытаюсь анализировать их шаг за шагом, ведомый стремлением вытянуть нить тогдашнего вдохновения, не порвав ее. Может быть — и даже наверняка — для меня самого все еще останется немало загадок, так что читателю тем более понадобятся терпение и добрая воля.
Я сказал, что отправной точкой для меня был интерес к психологии ужаса, и, возможно, интерес этот и возник оттого, что я собрал все свои силы после ужасного потрясения, пережитого тогда мною самим. Не знаю, было ли это действительно так, но я полагаю, что нужно считаться и с данной возможностью, чтобы избежать помех, которые легко могут появиться, если забыть о таком важном обстоятельстве.
Прежде всего мне кажется, что меня тогда занимал не просто ужас как таковой, ибо я думаю, что это душевное состояние само по себе легко объяснимо, а потому не столь притягательно для анализа. И все же я хочу поведать о нем в нескольких словах, так сказать, для подготовки почвы.
Я разграничиваю ужас физический и психический, которые хотя и объединяются тем, что их общее местопребывание — это человеческая душа, но причины их различны. Первый из них наступает просто от внезапного потрясения чувств, приспособившихся к определенному состоянию физической среды. Большей или меньшей гибкостью нервной системы объясняется то, что разным индивидуумам для возникновения ужаса нужно пережить большее или меньшее потрясение, но физический ужас непременно проходит, как только нервная система вновь приспособится. Первым шагом к очередному приспосабливанию является познание причины потрясения. Безразлично, отвечает ли эта причина реальности полностью или лишь до той степени, что может удовлетворить одного только пострадавшего. Приведу здесь хотя бы два примера. Представим себе человека в совершенно темной комнате, куда неожиданно сквозь узкую щель впустили солнечный луч. Его появление вызовет ужас у индивида, чья нервная система уже приспособилась к темноте, но продлится этот ужас ровно столько, сколько понадобится, чтобы испытуемый сумел объяснить себе причину появления луча. Совершенно безразлично, решит ли он этот вопрос объективно верно, то есть объяснит явление возникновением щели, или же успокоит свою нервную систему толкованием объективно неверным, например, тем, будто луч проник внутрь, просверлив неповрежденную прежде стену. Иной пример, еще более простой, это испуг от внезапного выстрела. В таком случае, собственно, нервной системе не нужно вновь приспосабливаться, ибо момент потрясения проходит мгновенно и исходное равновесие вновь восстанавливается. А вот если выстрелы следуют один за другим — и мне подтвердят это все, кто что-либо подобное пережил, — то тогда нервной системе придется приспосабливаться. И это произойдет, как только мы удовлетворительным (для себя) образом ответим на вопрос о происхождении и направлении выстрелов. Тогда ужас уступит место иному душевному состоянию, то есть страху, о котором мы здесь говорить не собираемся.
Однако было бы ошибочным полагать, что ужас можно отмечать лишь на подобной шкале чувств, где обозначаются некие повышения интенсивности предыдущего состояния. Точно так же можно ужаснуться, когда свет прерывает тьму или удар — тишину, точно так пугает нас неожиданное наступление темноты или тишины. Множество примеров такого ужаса перед тишиной могли бы привести солдаты, возвращающиеся с войны.
Более сложный — и, добавлю, более роковой — это тот ужас, который я называю психическим. Иногда он выступает в сочетании с ужасом физическим, иногда — сам по себе. Но сущность его одинакова: он возникает, когда течение событий, для которого у нас есть субъективно удовлетворительное объяснение, неожиданно прервано… скажем, водоворотом, то есть новым событием, удовлетворительного объяснения которому отыскать невозможно… причем ужас этот сохраняется дольше, чем явление, его вызвавшее. В качестве примера возьмем луч в темной комнате. Допустим, испытуемый объект действительно был способен сделать правильный вывод, что луч проник в темницу сквозь небольшую щель. Так покинет его ужас физический. А теперь допустим, что он не способен объяснить себе, как возникла эта щель, скажем, обстоятельства не позволяют ему принять в качестве объяснения силу человека или машины. Невозможность выяснить, кем или чем было проделано отверстие, повергает его в ужас психический, который длится и тогда, когда вызвавшее его явление уже исчезло или обнаруживает себя время от времени с большей или меньшей силой. Если проникновение луча навсегда останется для этого человека загадкою, можно сказать, что ужас, вызванный данным происшествием, стал составной частью его существа: человек этот будет ужасаться вечно, а поскольку пребывание в состоянии ужаса приходится считать нарушением психики, можно сказать, что его постигла душевная болезнь, которая продлится до тех пор, пока он не найдет удовлетворительного объяснения, то есть, возможно, до самой смерти. Из этого вытекает понимание того факта, почему между умалишенными больший процент людей порядочных, то есть не способных обманывать даже себя самих, и мудрых, то есть тех, кому недостаточно видимости, чем между людьми, которых называют нормальными. Потому так велико число лишившихся рассудка мудрецов и художников.
Теперь я более отчетливо вспоминаю, что вопрос, особенно меня заинтересовавший, предметом своим имел нечто вроде психического ужаса, а то, что его вызвало, уже не должно было оказаться важным в причинно-следственной связи, к тому же степень ужаса и необычайность его причины не всегда находились в прямой зависимости. Чтобы расставить все по местам и как можно более точно выявить истинное положение вещей, попытаемся набросать начало истории, которую я собирался написать.
Если быть точным, ни один из моих рассказов и стихов не возник путем чисто умозрительным.
Если речь идет о стихотворении, это обстоятельство считается само собой разумеющимся, ибо оно всегда предполагает потрясение чувств или резкое нарастание интереса к определенному предмету. И то, и другое несомненно возникает лишь при импульсе извне. Но и мои рассказы содержат по сути внешнюю реальность, хотя родство рассказа с этой реальностью может быть очень отдаленным. Помню, например, что «Прощание со вчерашним днем» было навеяно картиной Франтишека Купки, на которой он пытался особым живописным методом передать рысь всадников в Булонском лесу. Кто читал этот рассказ, помнит, наверное, что его начало представляет собой литературную парафразу этой темы — сперва там действительно говорится об охоте, — продолжение рассказа, однако, не имеет с этой темой ничего общего, и все же могу заверить, что весь он возник из этого посыла. Но как и почему — это я объяснить не в силах.
Подобным же образом возник рассказ «Равновесие» — на основании внешнего импульса, очень далекого от материала этого произведения. Меня заинтересовал акробат, чей огромный успех довелось мне наблюдать в парижском Зимнем цирке; вскоре этот же человек вновь встретился мне в роли по-настоящему веселого зазывалы перед убогим ярмарочным балаганом во время какого-то народного праздника на Монмартре. Контраст между двумя состояниями, в которых я застал его, и неподдельная веселость, выказанная им в период невезения, все это рвалось быть как-то выражено и позже вылилось в конкретное произведение.
Непосредственным толчком к ненаписанному рассказу «Пустой стул» послужил разговор двух людей, совершенно мне неизвестных, долетевший до меня, когда я прогуливался в пражском городском саду. Один мужчина звал другого в гости, и тот обещал, что придет. Приглашавший показался мне по голосу несколько нерешительным и словно бы униженным, приглашенный же заверял его неоднократно, все более убедительно, и наконец удостоверил: «Голову даю на отсечение, что приду».
Не знаю почему, но, когда я услышал этот разговор, мне вспомнилось стихотворение Вильдрака «Визит», где описано, как некий человек вдруг решает навестить того, кого он чуть ли не презирает, — вот гость приходит, вот видит, что хозяин не доверяет искренности его побуждений, а вот гость уже прощается, обещая прийти опять и при этом отлично зная, что был здесь в последний раз. Хотя ситуация, свидетелем которой стал я в саду, представляла собой как бы зеркальное отражение этого стихотворения, меня не удивило, что она мне напомнила именно произведение Вильдрака. Ведь лицо и изнанка всегда взаимосвязаны. Смутило меня, однако, то, что стихи всплыли в моих мыслях не после рассуждений о том, что случилось бы, если бы давший обещание человек никогда не посетил своего товарища, а прежде того. Но я только снисходительно улыбнулся. Однако чуть позже меня заняло новое немое заявление моей фантазии: «Последствия были бы ужасны». И мне не оставалось уже ничего, как только исследовать, что именно ужасного могло бы случиться, если бы некто не пришел в гости, несмотря на обещание.
Рассказ, который я намеревался написать, должен был повествовать об ужасе, охватившем хозяина, когда гость, которого ждали и который пообещал, что придет, не явился.
Мое писательское честолюбие не желало, конечно, удовлетвориться одним лишь описанием. Я хотел быть убедительным, хотел внушить читателю ужас, но как раз в этом-то и состояла сложность. Ибо несомненно верна мысль, что читатель лишится всякой способности рассуждать критически, если я вселю в него ужас. Мне важно было ошеломить читателя, ибо с самого начала я осознавал диспропорцию между материалом и целью, к которой я стремлюсь. Совершенно удивительным представляется мне, что сразу же, как только я начал задумываться об этих сложностях, мне пришло в голову название «Пустой стул». Во-первых, самозваная надпись нравилась мне как концентрированное и впечатляющее выражение сути материала (пустой стул означал для меня стул, который должен был занять некто, так и не пришедший, и потому стул так и останется пустым навсегда, пустым и ожидающим); во-вторых, этим названием божественное провидение указало мне путь, которым нужно следовать, оттачивая рассказ: заглавие, кроме того, означало для меня, что речь идет о стуле, специально выбранном для того, чтобы на него сел гость. «La chaise vide», а вовсе не «une chaise vide»; жаль, что в чешском языке нельзя достаточно точно передать различие между определенным и неопределенным артиклями. То обстоятельство, что для гостя был даже выбран вполне определенный стул, свидетельствует, что визита ожидали наверняка, что, видимо, известно было и точное время. Ведь для того, кто лишь в общих словах пообещал прийти, мы не делаем приготовлений. Этот момент представлялся мне подходящим для намерения сделать рассказ совершенно устрашающим. Я рассуждал так: обстоятельство, что некто, пообещавший прийти, в конце концов не явился, будет тем более устрашающим, чем более вероятным казался этот визит. Наиболее вероятным он будет тогда, когда в нем уже нельзя сомневаться, то есть когда, по сути, он уже состоялся. Таким образом, в рассказе нужно было прежде всего подчеркнуть, что некто в гости шел, но не дошел.
Изначально эта ситуация в рассказе выстраивалась вот как: некто, назовем его Яном, едва выйдя из дому, встречает близкого друга, которого он давно не видел, и тот бросается в его объятия, очень радуясь тому, что после долгой разлуки они вновь встретились. Друга мы назовем Вацлавом. Ян тоже обрадован и решает отказаться от прогулки, не столь, впрочем, важной. Эту встречу двух друзей предполагалось описать таким образом, чтобы нельзя было усомниться, с одной стороны, во внутренней потребности Вацлава нанести визит, а с другой — в потребности Яна уделить внимание давнему другу и достойно принять его. — Тем самым была бы решена задача, почему оба по доброй воле желают этого визита. Теперь мне предстояло сделать так, чтобы в действительности он не состоялся. Для этого было необходимо, чтобы Вацлав и Ян ненадолго вновь расстались. Однако же мотив расставания следовало выбрать такой, чтобы он ничем не нарушил расположение духа обоих друзей. Придумать можно было все что угодно, и я, ненадолго задумавшись, решил, что расстанутся они по причине самого визита. Я готов признать, что с точки зрения повествования моя интрига очень слаба, если не нелепа, но по крайней мере можно сказать, что она не нарушает его основы. Ян, стремясь придать беседе, которую оба они с радостью предвкушали, как можно больше доверительности, решает накрыть на стол и просит Вацлава сходить в лавочку неподалеку за пирожными, в то время как сам он возвращается домой, чтобы все подготовить. Такое разделение обязанностей призвано сберечь время для желанной беседы, которое обоим друзьям сегодня особенно драгоценно. Вацлав с радостью соглашается и идет за сладостями. Ян между тем придвигает стулья и столик к камину, готовит чай и ждет. Проходят минута за минутой, час за часом, а подготовленный стул все еще пуст и ждет.
Я не стану сейчас подробно описывать внутреннее состояние Яна во время этого ожидания. Как его нетерпение сменилось злостью, взрывами гнева, потом беспомощностью, отчаянием, и как наконец его охватил ужас — тогда, когда он начал хладнокровно рассуждать. (Хладнокровно, разумеется, с его точки зрения.) Теперь меня скорее занимают средства, при помощи которых я хотел изобразить ужас Яна и передать его читателю. (Какое удовлетворение могло бы это мне принести, тогда как сейчас остается только ограничить себя холодным и трезвым раскрытием секретов моей творческой кухни!) Первая и, собственно, единственная задача состояла в том, чтобы перекрыть все источники, из которых Ян мог бы почерпнуть сведения о том, почему Вацлав не вернулся. Короче, нужно было окружить сюжет ореолом некоей наиболее правдоподобной тайны. Здесь начались огромные трудности, о которые, собственно, и разбился весь план, хотя я не утверждаю, что в ином случае он бы обязательно устоял. Причиной, почему Вацлав не пришел, могло быть, объективно говоря, либо его собственное решение, либо некое внешнее препятствие. Задача состояла в том, чтобы исключить обе возможности, ибо я мог рассчитывать на успех, лишь если мне удастся доказать, что в моей истории воцарилась некая абсолютная пустота, возникновение которой невозможно объяснить никаким естественным или сверхъестественным способом.
Физические препятствия я стремился устранить уже самим выбором сцены. А именно: я хотел поставить условие, что Ян и Вацлав были до недавнего времени близкими друзьями и имели одних и тех же знакомых. Однако Ян, проявлявший склонность к чудачествам, отчего-то задумал несколько месяцев назад вырваться из своего окружения, решившись начать жизнь отшельника, и осуществил свой замысел, покинув квартал, который соответствовал его профессии и склонностям, и поселившись в другом районе, где он прежде никогда не бывал и где мог не опасаться встретить знакомых. Чтобы это выглядело правдоподобным, местом действия надлежало выбрать некий большой город. И я выбрал Париж. В таком вот парижском квартале Яна и отыскал Вацлав, которому было грустно и который хотел провести с Яном несколько часов за дружеской беседой. Почему же, спрашивал я себя, он не вернулся из лавочки? Приглядимся повнимательнее: маловероятно, а вернее сказать — невозможно, что он встретил знакомого, которому удалось увести его с собой. Но если даже и так, то разве не был Ян его лучшим другом, к которому он сегодня намеренно пришел, и разве он не знал, каким важным событием стал для Яна его приход? А если знал, то обязательно хотя бы заглянул извиниться, тем более что лавка была возле самого дома Яна. Авария также неубедительна. Улица, где жил Ян, слыла очень тихой, городской транспорт ездил далеко оттуда, а частный был большой редкостью. Ибо улица Яна была так называемым пассажем. К тому же, если бы Вацлав угодил под колеса, Ян непременно услышал бы суматоху, поднявшуюся на маленькой и тихой улочке. Я полагал, что по этой же причине имею право исключить из списка возможных препятствий и преступление. Однако, чтобы окончательно отмести эти причины, я пошел по следам Вацлава. Вот что я придумал: Ян, прождав в отчаянии несколько часов, спустился вниз и справился в лавке (на улице она была единственной), не заходил ли туда несколько часов назад такой-то человек. Продавщица, хорошо знавшая Яна, не только подтвердила, что этот господин здесь был, но и добавила, что обратила внимание на его веселый вид, а потому спросила по-соседски, что такого приятного с ним приключилось. Он якобы ответил, что после долгой разлуки вновь встретил друга, и рассказал, какую искреннюю радость испытал при встрече, увидев по поведению друга, что тот радуется не меньше. В своей откровенности, ибо в минуты счастья мы бываем откровенны, он даже назвал имя Яна, полагая, что собеседнице оно наверняка известно, и не ошибся. Отпустив товар Вацлаву, женщина вышла на улицу и видела, как он направился к дому Яна. Лавочница отчетливо видела, что он, подобно иностранцу, разглядывал номер дома, в котором, как она знала, живет Ян. Но эту деталь женщина запомнила лишь мельком, потому что как раз тогда, когда Вацлав остановился перед домом, ей пришлось вернуться за прилавок к новому покупателю. Вот как я поступил, чтобы полностью исключить несчастный случай… по крайней мере до того, как Вацлав подошел к дому Яна. Впрочем, остается еще одна возможность: Вацлав ошибся номером дома, прошел дальше (чего лавочница видеть уже не могла), заблудился, и ему не захотелось возвращаться. Однако эта возможность столь маловероятна, что мне показалось вполне допустимым предположить, что Ян (когда он боролся со своим ужасом) просто не принимал ее во внимание. Конечно, объективно подобное могло случиться, но вопрос в том, пошел ли бы Ян к цели по этому следу, не выводящему его пока за пределы мира реального. Ответ был бы отрицательным и в том случае, если Вацлав не стал бы приглядываться к табличке с номером, — ведь совсем недавно оба приятеля столкнулись на крыльце именно этого дома, а следовательно, Вацлав прекрасно знал адрес Яна.
Итак, вот вкратце содержание рассказанного: друзья встретились перед домом, причем оба этим приятно удивлены и обрадованы. Обменявшись несколькими теплыми словами, они — по предложению Яна — вновь расстались, чтобы подготовиться к совместному чаепитию. Разошлись они в полном согласии. Но Вацлав (который хорошо знал адрес Яна) больше не вернулся. Он заходил в лавку на той же улице — продавщица, как водится в Париже, знала имя своего соседа Яна и то, где он живет, — купил пирожных и вернулся к дому Яна. В последний раз его видели, когда он вглядывался в номер на доме, куда собирался войти. Вплоть до этой минуты доказано, что с ним не случилось никакого несчастья и что никто не сбил его с пути.
Теперь же осталось рассмотреть три последние возможности.
Первая: Вацлав вошел в дом, и там с ним произошло нечто необъяснимое. Против этого предположения говорят следующие обстоятельства: дом Яна был так называемый maison meublee, то есть пансион, где все комнаты сдаются квартирантам. Дом этот достался по наследству одному служащему магазина «Бон-Марше», чья жена сама и управляла пансионом. Это были в высшей степени скромные и честные люди. Пансион был маленький, всего на шесть комнат, и сдавали их в основном людям, проводившим весь день вне дома и возвращавшимся лишь переночевать. Исключение составляли только Ян и некая барышня. Дверь на улицу была весь день заперта. У жильцов имелись ключи, чужие звонили, и хозяйка открывала им обычным в Париже способом: дергала за шнур, не выходя из своей квартиры, состоявшей из кухни и двух комнат (гостиной и спальни). Кухня, где хозяйка проводила день, служила также швейцарской, а это означало, что там имелось окошко, глядевшее в небольшую арку. В окошко было видно каждого, кто входил в дом. И если допустить, что хозяйка порой не обращала внимания на жильцов, которые открывали дверь сами, то почти исключено, что она не заметила кого-либо, кому открыла собственноручно, то есть человека, объявившего о себе звонком. Итак, я выяснил, что в тот день, а точнее, в те часы, пока я ожидал Вацлава, хозяйка не только не видела, чтобы кто-нибудь из жильцов проходил мимо, но и никого не впускала по той простой причине, что никто ее об этом не просил. Следовательно, Вацлав в дом не входил.
Вторая возможность: Вацлав все же подошел к дому и собирался позвонить, но тут случилось нечто сверхъестественное, что помешало осуществиться его намерению. Конечно, мысль эта абсурдна, ибо оперирует с запредельным. Кстати говоря, исключается также предположение, что Вацлава кто-то увел в то самое мгновение, когда он смотрел на номер дома. Ведь, оставаясь в рамках разумного, следует признать, что эта задержка была очень краткой (к чему бы Вацлаву долго разглядывать номер?) и приблизиться к нему за это время никто не мог, поскольку лавочница точно помнила, что тихая улочка тогда была пуста.
Третья возможность: Вацлав подошел к моему дому, но внезапно передумал и ушел, даже не предупредив меня. Это вполне вероятное объяснение, и о нем решительно можно поразмышлять. Под «вероятным объяснением» подразумевается вот что: если некоторое время тому назад я переехал в эти весьма печальные места, где жил отшельником, не покидая среды, нимало меня не удовлетворявшей, это могло иметь своей причиной чудачество, но предполагать, что такое чудачество лишено глубоких корней, было бы, читатель, бесчеловечно.
У меня были серьезные поводы для отшельнической жизни, и то обстоятельство, что Вацлав после некоторых колебаний отправился меня разыскивать (а это, читатель, все равно что порадовать), подтверждает мои слова. Ибо доказывает, что он не возненавидел меня за мое чудачество. Он! Натура столь прямая, несентиментальная, на дух не переносящая любое притворство, любую фальшь. (Единственно в том, что касается характера Вацлава, я добиваюсь, чтобы ты мне поверил, и только — больше ни в чем.) Он бы — поверь — не пришел ко мне (и тем более по собственной воле), если бы наша дружба распалась по моей вине, например, оттого, что я принялся ломать комедию или неправильно себя повел. Если он пришел, значит, он сочувствовал мне, хотел поддержать и утешить в несчастий, ощущал потребность повидаться со мной… значит, он рассудил, что мне тоже нужно его присутствие.
Он не был да и не мог быть обманут в своих ожиданиях. Встретившись со мной возле дома, он увидел, что я рад ему, что принимаю его с распростертыми объятиями, более того — приветствую как своего утешителя, если не как избавителя. И я тоже не обманываю себя, говоря, что его охватила радость, и даже не потому, что он вновь увидел меня, но потому, что он наверняка заметил мое счастье. Наш короткий разговор у дома никак не мог поколебать его намерений. Беседа, длившаяся столь недолго, полнилась сердечными проявлениями дружбы, и когда мы, договорившись обо всем, разошлись (я — вновь наверх, а он — в лавку), то оба были убеждены, что вскоре вновь свидимся в совершеннейшем согласии. Ведь он действительно отправился в лавку и купил то, что я просил.
И все-таки он не вернулся… Когда и почему изменились его намерения? Сами посудите: я ведь уже объяснил, что физическая помеха исключается, а о помехе сверхъестественной между нами, людьми разумными, и речи быть не может. И все-таки случай этот загадочен, а для меня — еще и ужасен. Загадочен — ибо нельзя объяснить переворот в мыслях и чувствах, заставивший человека уйти, а ужасен потому, что, несомненно, глубинную причину такого поступка — если таковая вообще существовала — можно отыскать лишь в сознании того, кто не явился и кто, хотя и не вернулся осознанно, не сумел даже приблизительно оценить последствия своего упрямства: ибо, сумей он их оценить, он пришел бы, невзирая ни на что. Ведь разве я веду речь не о Вацлаве, лучшем из людей и лучшем из друзей?
Если бы я мог поверить, что путь ему преградило нечто непреодолимое или пугающе загадочное, если бы я мог допустить, что причина, по которой он покинул меня, изначально непостижима для смертного, мой ужас от оставшейся пустоты был бы куда меньше, чем теперь, когда я вынужден предполагать один лишь сдвиг мыслей и чувств, ставший причиной всего этого. И отыскать его корни нельзя, ибо для этого придется покинуть пределы логики и сферу обыденных человеческих чувств.
Ну и что же дает нам последнее «разумное объяснение»? Можно ли остановиться хотя бы на нем? В том-то и ужас, что нельзя. И все же, приблизившись к самому рубежу нашего мира в тщетной попытке отыскать здесь причину случившегося, я, рационалист, не могу смириться с мыслью, что отыскать ее нельзя. Она просто обязана относиться к сфере Естественного и, значит, не иметь касательства к трансцендентному, а потому, увы, она еще ужаснее в своей непостижимости!
Это как если бы после смерти дорогого тебе существа, погибшего в морской катастрофе, ты вдруг уверил себя, что причиною смерти является не сама катастрофа, но некое обстоятельство до смешного постороннее, скажем, зубная боль или укус блохи.
И вот теперь, перестав делать вид, будто речь вдет о вымышленном случае, и, напротив, открыто признаваясь, что описанная здесь история произошла со мною самим в 1914 году в парижском Passage Stanislas (ныне — rue Jules Chaplin), где я тогда жил, я могу наконец приступить к объективному рассказу о таинственном событии, в котором, помимо меня, замешан бельгиец Эмиль Дерменгем. (Ныне я также могу признаться, что до сей поры сохранял иллюзию вымысла лишь как средство защиты от себя самого, чтобы добиться желанной отстраненности от собственной истории и таким образом позволить себе насколько возможно детальное описание события, при воспоминании о котором меня и сегодня еще бросает в дрожь.)
Итак, в тот день, вернувшись домой в самом веселом расположении духа, как и подобает человеку, встретившему свое счастье, я приготовил чай, а потом несколько часов прождал понапрасну, утешая себя самыми убогими и жалкими вымыслами, и за это время мною овладевали попеременно то скорбь, то гнев, то отвращение, так что эти чувства надолго, быть может, до гробовой доски, мрачной тенью легли на мой жизненный путь. Тогда, однако, я не мог выяснить истинную причину случившегося, потому что не начал еще заниматься расследованием. И именно поэтому ужас не поглотил меня — ведь до тех пор моей фантазии не клали предела показания свидетелей. Худшее ждало меня впереди.
Проведя несколько часов в отвратительном смятении, недвижный, на кушетке напротив пустого стула, приготовленного для Эмиля, я наконец решился на поиски. На случаи, если мои друг явится во время моего минутного отсутствия, я написал на листе бумаги большими буквами, что вот-вот вернусь, и вдобавок предупредил хозяйку, чтобы она попросила господина, который может прийти ко мне, дождаться моего возвращения. Мера была излишней и бессмысленной, ибо лавка находилась всего в нескольких шагах и я никак не мог бы разминуться с Эмилем.
Во всяком случае, из этого видно, что я не был невменяем и что действовал разумно и по плану. Выйдя из дому, я направился в лавку, где и получил все сведения. Можно себе представить, в каком состоянии я возвратился домой (в ответ на мой вопрос хозяйка сказала, что меня никто не разыскивал) и как провел вечер и ночь. Теперь, когда все объяснения, которыми я до сих пор утешался, сгинули бесследно, точно вода в песке, я осознал весь ужас этого необъяснимого происшествия.
Конечно, я нимало не сомневался, что какое-то объяснение существует и что рассудок в состоянии его доискаться. Но хотя я и был полностью убежден в естественной природе происшествия, мне все-таки не удалось избежать возмущения, возраставшего по мере того, как я был вынужден отказываться от тех или иных следов, ведших в никуда. Способы этого внутреннего следствия я уже описал. Я стремился передать его ход как можно более обстоятельно и отвлеченно, опасливо избегая малейших намеков на те душевные корчи, что мучили меня тогда. В конце концов, как я уже сказал, мне не осталось ничего иного, кроме как считать доказанным тот факт, что Эмиль не явился, поскольку намеревался покинуть меня. Но, зная хорошо своего друга, я понимал, что в качестве возможных поводов для такого его поступка не годятся ни фривольная небрежность, ни мелкое недовольство, ни безудержная самовлюбленность.
Никогда! Без вмешательства извне, а вернее, без чьего-либо влияния он не принял бы свое жестокое решение. Но на ком ином, если не на мне, мог лежать груз вины? И что побудило такого человека, как Эмиль, бросить меня в моей боли, о которой он не мог не знать? Только то, что я тяжко и непоправимо провинился перед ним! Итак, это моя вина! Но далее я вопрошаю: когда же я провинился? И на основании всех свидетельств прихожу к убеждению, что это не могло случиться прежде, чем мы расстались перед домом. Вот оно как! Я провинился перед другом, тяжко провинился, пребывая в отсутствии и неведении. В глубоком неведении. И я осознаю, что нельзя жить в ужасе более ужасном, чем этот ужас.
Но этот вывод давал лишь видимость решения. На самом деле тайна так и осталась тайной, и, хотя какое-то мгновение казалось, будто я нашел к ней ключ, вскоре мне пришлось признать, что ключ этот для меня — такая же загадка, замена неизвестного неизвестным. И происшествие, по-прежнему оставаясь таинственным и наводящим ужас, вдруг обернулось проблемой моральной, превратилось в источник сомнений и угрызений совести.
Да, нынче я, разумеется, справился с этим хотя бы настолько, что способен к анализу и подробному отчету. И пускай от моего описания веет холодом и чем-то вроде усталости! Я уже давным-давно отказался от мысли привести в ужас читателя, который прочтет историю того рокового вечера. Иной была сегодня моя цель! (Какой именно, я уже говорил.) — И все же полагаю, что среди тех, кто однажды пережил хотя бы подобие моего ужаса, не найдется никого, кто бы не понял, какая давящая тяжесть на меня обрушилась и что я имею в виду, когда говорю, что вместе с ужасом я ощутил еще и неловкость. Ибо нельзя было не заметить, что при всей таинственности происшествия хотя бы то не могло оставаться тайной, что сам ужас и вызвавшее его неведомое принадлежат к разным сферам, что они сходятся только где-то в бесконечности, что они несоотносимы друг с другом; более того — как я уже сказал вначале — их отношения перевернуты, они не таковы, как у вынесенного справедливого приговора и подсознательной вины, а таковы, как у приговора пусть и справедливого, но необоснованного, и вины не подсознательной.
Вскоре, однако, рассыпалось и предположение, что я отвечаю за вину неведомую, но определенную, то есть за вину перед Эмилем.
После описанных событий миновало несколько недель (прожитых мною в одиночестве, если это возможно, еще более полном, чем прежде), и вот я повстречался с Эмилем во время вечерней прогулки по Butte Chaumont. Мы шагали навстречу друг другу, оба без спутников. Когда он заметил меня, его хмурое лицо просветлело, он ускорил шаг и через мгновение горячо пожал мою руку. Излучая сердечность, он участливо расспрашивал о моих делах и наконец сказал: «Все-таки надо мне как-нибудь зайти к тебе в гости». Я лишился дара речи. То, что он валяет дурака, было исключено. Следовательно, оставалось два объяснения: либо он совершенно забыл, что однажды уже почти побывал у меня в гостях, либо это произошло лишь в моем больном воображении.
Однако нет! Воображаемым его тогдашний визит не был: ведь о нем мне говорили и люди посторонние. А если допустить, что он не только простил, но и забыл обиду, что нанес я ему? Я решил испытать его и сказал:
— Не будем говорить о том случае, ответь только: ты простил меня, если я тебя тогда обидел?
Но тут на его лице отразилось удивление и, кажется, беспокойство, и даже, кажется, ужас, ибо, задавая вопрос, я тревожился, и голос мой дрожал.
— О каком это случае ты говоришь? — промолвил он. — Я не помню, чтобы ты меня когда-нибудь обидел.
И понял я, что ничем не провинился перед ним и что наказание постигло меня за ту мою великую Вину, которая не имеет отношения ни к вещам, ни к людям, которая рождает зло не через предметы, но непосредственно через самое себя, — зло потаенное и бессмысленное, проклятие моей жизни.
Один-единственный раз проявило оно себя, дабы напомнить о своем существовании. И орудием для этого был выбран Эмиль. Так чего еще можно было ожидать от него, кроме забывчивости, после того как он сыграл предназначенную ему роль простого орудия?
И все сразу стало выглядеть иначе: значит, мой ужас, неизлечимый, пожизненный ужас, это есть ужас перед виной моей жизни. А я не знаю ни пределов его, ни того, откуда он взялся. Знаю лишь, что он существует и что от него нельзя избавиться.
Нет, не случайно история того дня предстала в таком резком свете именно сейчас, когда вокруг бушует леденящая кровь вакханалия миллионов Вин, творившихся годами всеми жизнями перед жизнями всеми. Не случайно мыкаюсь я вот уже который месяц, прячась от солнечного света, с треклятым замыслом этого рассказа, который мне никогда не дано будет написать.
Какой мелочью кажутся технические трудности, встречающиеся на пути, — которые сами по себе вообще-то весьма значительны, ибо сложно одолеть и облечь в слова это ключевое для будущего рассказа нескончаемое хитросплетение наигрубейшей реальности и отвлеченнейшей сверхъестественности! Какая все это мелочь в сравнении с ужасным приказом, который запрещает избавиться от заклятия произнесением вслух формулы его квинтэссенции. Она непостижима, ее не добыть ни просьбами, ни мольбами, ни отчаянными призывами.
И все, что я здесь сжато и примитивно описал, нужно лишь для того, чтобы вынудить меня к убийственному признанию: я утопаю в своей Вине, захлебываюсь ею, брожу по колено в грехе — но не знаю и никогда не узнаю, что это за грех. И пустой стул, который стоит здесь предо мною, когда я дописываю этот манифест своего неуклонного падения, подобен круглому разверстому рту рыбьей немоты. И кажется мне, что на вопрос, который задаю я ему, этот отвратительный рот отвечает мерзким неслышным жеванием беззубых челюстей.
ЗАВОРОЖЕННЫЙ ГОРОД © Перевод И. Безрукова
Все четыре улицы уездного городка разбегались на четыре стороны света, затем превращались в тропы, вьющиеся среди полей и огородов, и вдалеке, где могучим полукругом стояли леса, заканчивались, точно их отрезало. Вдоль троп — ни домика, ни будки, ни беседки. Казалось, что город, вытекающий по этим улицам из своего горнила, оттуда, где находилась площадь с ратушей, гостиницей и уездной ссудной кассой, вдруг резко останавливается на крайней черте своего «я», судорожно хватаясь за последние одноэтажные строения в страхе потерять себя.
Центр — то самое горнило — представлял собой белое и тихое средоточие лени уездного города в послеобеденные летние часы. Лето было в разгаре. Как раз над серединой площади висело белое овальное облако, настолько плотное, что было ясно видно, какое огромное расстояние отделяет его от синего небосвода. Облако это являлось неотъемлемой частью города, тогда как небесная лазурь — несомненно, нет. Фонтан на площади украшал кособокий Нептун, и казалось, что белое облако нависло над ним лишь для того, чтобы рухнуть вниз и нанизаться на его трезубец.
Площадь была не совсем безлюдна. Однако те несколько человек, которые перемещались по ее диагоналям, куда лучше, чем полное отсутствие народа, свидетельствовали о том, что жизнь города в данный момент тяготеет к окончаниям четырех его улиц, из-за чего в центре возникает удушающий вакуум. И эту «миграцию» города особенно подчеркивала сомнамбулическая походка его жителей.
Вот, например, двое — встретились перед фонтаном и остановились поговорить, но судя по тому, как они то разводили руками, то всплескивали ими, а потом разошлись, ясно было, что никакой беседы у них не получилось, просто они обезумели от тоски и поделились друг с другом отчаянием, охватившим их из-за того, что город высасывает из них все жизненные соки.
Жалюзи в лавочках были наполовину опущены, и площадь выглядела будто одноглазой; да и этот единственный глаз она прищурила. Между булыжниками мостовой засыхали кучки земли: заступ недавно выполол траву, оскорблявшую собой городское лицо площади.
Открытые окна первых этажей зияли темнотой, закрытые оловянно поблескивали.
Пространство дышало, словно спящий толстяк, и если где-нибудь в доме звенела посуда или били часы, это ничего не меняло: спящий не просыпался и оставался неизменно спокоен.
Откуда ни возьмись перед гостиницей появился гоночный автомобиль. Откуда ни возьмись, потому что свист, который мог бы выдать его приезд, был поглощен неслышным сопением спящего, прежде чем коснулся слуха, а предостерегающему клаксону, способному разбудить даже мертвого, незачем было гудеть на пустынных улицах. Итак, автомобиль возник ни с того ни с сего, и его низкий, серый, вытянутый — и, пока машина стояла на месте, как будто бдительно следящий — корпус готов был развалиться из-за контраста, который он чувствовал между своей энергией и обмякшим городом.
Из автомобиля вышел человек. И не успел из дверей гостиницы вынырнуть портье-коридорный, как машина отъехала, собрав для этого невероятно быстрого скользящего рывка все силы своих мускулистых колес, и похоже было, что гигантский кузнечик сделал большой и при этом очень низкий прыжок. И тут же автомобиль исчез в направлении, обратном тому, откуда появился.
Лицо прибывшего не было лицом ни спортсмена, ни романтика — причем я вовсе не противопоставляю одного другому. У незнакомца был взгляд внимательный, но нелюбопытный, живой, но неторопливый, энергичный, но не резкий, дерзкий, но не вызывающий. И вообще, как ни странно, весь его облик, невзирая на необычную одежду, обнаруживал стремление не привлекать внимания.
Мужчина подошел к портье, ожидавшему его с видом человека, который мог бы показаться вежливым, если бы не с трудом скрываемое любопытство.
— Комната?
— Пожалуйста! Пожалуйста! Вы к нам надолго?
— Комната?
— Извольте. Вы к нам издалека?
— На одну ночь.
— Ваш багаж?..
— Плачу вперед.
И оба скрылись за дверью. Площадь тут же забыла о странном приезжем, но все же стала сопеть чуть тише. Нептун держал свой трезубец кое-как. Облако отползло куда-то в сторону. И никто больше не шагал ни по диагонали, ни по периметру.
Чужак вышел на площадь. Портье не следил за ним. Но его любопытство сосредоточилось на каменной тумбе у ворот гостиницы и продолжало ломать себе голову.
Чужак вышагивал вдоль домов. Он шел не так, как те, кого мы наблюдали на площади в самом начале: шел, как если бы с неколебимым терпением ожидал встретить кого-то, кто, даже приди он на эту площадь спустя столетие, все равно бы не опоздал. Шаг за шагом, без остановки, без сомнений, сменяли один другой — плавно и уверенно. Походка никоим образом не суетливая, походка человека, который не обременен заботами, но при этом не томится от безделья или скуки. Пройдя по самой длинной стороне четырехугольной площади, чужак, подобно всем остальным, двинулся по диагонали и остановился перед фонтаном. То есть в самом математическом центре города. Он стоял выпрямившись. И эта поза не выглядела ни принужденной, ни нарочитой, ни неестественной. Это была поза существа, для которого стало совершенно привычным, что человек — это животное, прочно вставшее на задние конечности и научившееся высоко держать голову. Ноги его, правда, были сомкнуты, как у солдат, вытянувшихся по стойке «смирно», однако при первом же взгляде обращали на себя внимание его элегантно опущенные руки (в правой он держал головной убор), что сразу заставляло забыть о рабском подчинении приказу. О, эти поникшие руки! Они говорили об отдохновении — но отдохновении чутком и осознанном, которое никак нельзя было определить обидным словом «праздность». Они говорили о том, что все его чувства словно отправились с благороднейшими целями в поход за наслаждениями, а разум настроен на критику. Они выражали тихую, но отчетливую внутреннюю речь души, которая, будучи свободной от мелочности и робости, готова была пренебрегать всем, при этом все подмечая. Более чем что-либо иное, именно поникшие руки свидетельствовали о том, что чужак никогда не утолит своей жажды двигаться все вперед — и никогда не опустит голову, хотя и знает, что утоления не будет.
Он стоял так, как если бы остановился случайно, — в окружении странных декораций раскаленного городского центра, будто намеренно построенных здесь, после того как целесообразность хорошенько посоветовалась с роскошью.
Казалось, что фронтоны и мансарды, фонтан с Нептуном, каменные и стеклянные плоскости домов, общий план площади и ее перспектива вдруг одновременно напряглись для того, чтобы резко, хотя и незаметно для глаз скорректировать небрежную случайность своего облика и интуитивно нащупать связь с живым перпендикуляром в центре площади. Застывшие каменные громады домов внезапно точно разбухли, подобно забродившему тесту, и над ними словно появился сотканный из света и воздуха ореол, который позволял отдельным предметам познавать свою ранее скрытую красоту. Нестройность домов по высоте вдруг обернулась гармоничной каденцией, а пестрота выкрашенных в разные цвета стен зазвучала мощным аккордом. Настала кульминация. Площадь отдала себе команду — и ее послушались даже самые отдаленные сосуды, по которым до сих пор из города вытекала жизнь. Течение это повернуло вспять, и жара утихомирилась.
Лицо чужака не было самонадеянным: на нем читалась лишь уверенность в себе, против которой невозможно устоять.
В одном окне показалась голова; потом человека стало видно по пояс. Опершись о подоконник, он обратил взгляд поверх домов напротив. Вскоре, однако, пустые глаза заметили чужака, который словно влек их к себе (а иначе не могло и быть), голова же одновременно втянулась в плечи и высунулась наружу. Итак, чужак, чья поза нисколько не изменилась, стал объектом внимания, причем объектом одухотворенным и крайне притягательным. Выделяясь одеждой, позой и выражением глаз, он будто главенствовал над всем, но тем не менее ни малейшим жестом не навязывался городу и горожанам, чьи взоры стремились к нему с той же естественностью, с какой стоячая вода устремляется в речную быстрину, после того как откроют плотину.
Через какое-то время голова в окошке исчезла, но лишь на мгновение. Вскоре там показались уже две головы, которые, склонившись друг к другу, принялись страстно перешептываться. Потом раздался крик «Анечка!» Было похоже, будто кто-то натянул канат между своим окном и окном напротив, канат, по которому этот зов вернулся обратно, точно кабинка фуникулера. После того как он вернулся, в окне напротив появилось новое лицо, и взгляд из этого окошка уже без всякого труда отыскал дорогу к чужаку. В остальном же на площади по-прежнему не было ни души. Вероятно, в дневные часы крик «Анечка!» звучал здесь довольно часто: этакий условный знак, хорошо известный площади и взволновавший ее не более, чем собственная летняя истома; правда, это была не просто истома, не обычная летняя летаргия, а нечто вроде болезни, приступу которой едва ли смогло бы сопротивляться существо чуть менее апатичное, чем площадь уездного городка.
Итак, чужак позволил наблюдать себя трем парам глаз. Я написал, что он позволил себя наблюдать, и это так и было, потому что он нисколько не пытался привлечь к себе внимание и среди четырех действующих лиц, находившихся в тот момент на сцене, являлся фигурой пассивной, хотя в его пассивности можно было заметить куда больше действия, чем в оживленном волнении наблюдателей.
На углу площади показался один из городских обывателей — и замер. Вероятно, его поразил новый облик площади, на которую он так часто захаживал. Ибо очевидно было, что он замер в изумлении. Только спустя какое-то время он заметил причину происшедшего изменения, чужеродный предмет, который тем не менее вполне вписывался в окружающую обстановку, — и направился к нему. Как ни странно, он шагал решительнее прочих горожан, хотя походка его была преисполнена терпения, терпения и осторожности. Площадь отозвалась эхом на его шаги; ранее же она безмолвствовала. Резкий отзвук шагов преобразовывался в своего рода световой спектр и настойчиво пробуждал ощущение летнего полудня. Дойдя до цели, обыватель описал небольшую дугу и продолжил свой путь, не оборачиваясь. Однако его походка изменилась, причем настолько, что это заметили окружающие дома. И вот в окнах, в одном за другим, стали появляться силуэты, поначалу размытые, которые далее постепенно обретали четкость офорта на фоне темных глубин комнат, придавая окнам весомость и содержание; своими резкими очертаниями эти силуэты напоминали арабеску, которая, впрочем, как бы вырастала из единого целого, скрепляя его. И на лицах тех, кто видел чужака, было заметно удивление, однако лишь мимолетное. Оно как появилось, так и исчезло, и его сменило любопытство, хотя это слово не слишком здесь годится. Это было чувство сродни тому, какое охватывает нас, когда мы смотрим на знакомый предмет, в котором внезапно необъяснимым, непостижимым образом предощущаем нечто неоспоримо новое.
Тут вдруг все люди в окнах вокруг, до сих пор высовывавшиеся наружу, опершись на сложенные руки, выпрямились, копируя позу чужака, и принялись переводить взгляды от окна к окну. Чужак стал частью сознания города — как нечто мешающее, но вместе с тем неизбывное. Все приняло выжидательный вид, и ожидание это было подобно походке чужака, когда он шел по площади, и одновременно походке горожанина, который ее недавно пересек: вид терпеливости и неспешности.
Чужак и город стояли друг напротив друга. Город усиленно напрягал все свое воображение и разум, тогда как чужак бездеятельно хранил свое таинственное равновесие.
Между обеими сторонами установились несколько непонятные отношения: зрители ощущали судорожное напряжение, до сих пор им совершенно незнакомое, в то время как чужак, судя по его виду, не только не разделял это чувство, но оно как будто бы вообще нимало не коснулось его даже наружно, и он, хотя и находясь в той же симпатической области, сохранял — с полной очевидностью — непринужденность и уверенность в себе. Для города же напряжение становилось невыносимым. И тут произошло нечто неожиданное. На площади появился молодой человек. Студент, приехавший в город на каникулы. Местный уроженец. Обыватели, однако, терпеть его не могли, потому что он отдалился от них. Приезжал он редко, потому что учился за границей. Студент оторвался от родного города настолько, что никто больше и подумать не мог о том, чтобы заделать возникшую трещину. Ибо горожанам казалось, что он настроен к ним враждебно: они говорили, что, как ни пытаются, не могут разобраться в тайных изгибах его жизни. Но в действительности горожане и студент не понимали друг друга, потому что тем, что они называли «изгибами», он пренебрегал — как мелкими и ничего не значащими событиями человеческой судьбы. Его учеба, его работа, его жизненные устремления не составляли тайны; однако тайной были и оставались до сих пор его близкие друзья, его доходы, его путешествия и его флирты, его положение в обществе и его любовные романы. Не зная всего этого, горожане считали, что он украл у них свою жизнь, на которую они имели право. Он молчал и точно так же, как отказывался отвечать на их преисполненные любопытства вопросы (а он умел это делать так, что сразу обезоруживал даже самого назойливого), не спрашивал он и о вещах, о которых они хотели, чтобы он спросил, причем держался вызывающим с их точки зрения образом. Итак, они считали его ренегатом, который отрекся от своей родины и враждебно относится к городу, куда, однако, вновь и вновь возвращается, — к городу, ненавидевшему его, хотя причина его возвращений была проста: меня сюда влечет, даже не знаю почему, и это влечение я не могу преодолеть.
Так вот, он явился на площадь и сразу же заметил происшедшее с нею изменение. На его лице читалось удивление, вызванное выглядывавшими из окон людьми и чужаком, который был причиной этого. Удивление студента не исчезло с его лица сразу же после прихода на площадь, как это было у других; напротив, он нес это выражение через всю площадь неизменным, неистертым, живым и открытым всем ветрам, словам и тревогам; он нес его как некое богатство, выставленное напоказ, как увлекательное приключение, а еще он отличался от всех прочих тем, что ритм его шагов не изменился, когда он узрел нечто необычайное. Его шаги свидетельствовали о нетерпеливом стремлении к цели; он пришел, как будто спеша навстречу чему-то, — и так же он продолжал шагать застигнутый удивлением. Словно бы на своем пути он постоянно ожидал встретить что-то такое, что вознесет его на самую вершину смятения чувств, словно бы он шел в надежде испытать удивление, словно бы именно это было его целью. Это удивление с открытой душой раскрывает ему навстречу свои объятия, но студенту незачем менять ритм шагов и направление движения. Он двигался прямо к чужаку. Подошел, обошел, оглянулся и ушел.
Сотня и даже несколько сотен глаз упрекали его за то, что он так отличается от других. Это были взгляды, исполненные легкой неприязни (те, которые его лишь упрекали) и раздраженного самолюбия, взгляды горожан, взволнованных и возмущенных человеком, который покинул их круг. Хотя, вообще говоря, они должны были быть благодарны ему за то, что он своим якобы вызывающим поведением отвлек их внимание и помог им выйти из положения, которое стало просто невыносимым.
Тут чужак двинулся с места. Не связанный больше устремленными на него взглядами, он пошел по одной из улиц, ведущих в поля. Он шагал как человек, что, прогуливаясь, терпеливо ждет приятеля, с которым условился о встрече и который наверняка не опоздает, — и когда он исчез за углом улицы, направляясь в поля и к лесу (причем приковал взоры тех, кто за ним наблюдал, к месту, где он свернул), в центре города осталось взвихренное им беспокойство — беспокойство голодного желудка, у которого отняли лакомый кусок, что давно его манил. Взвихренное беспокойство! Люди принялись бегать туда-сюда и останавливаться для разговоров; они выходили из домов под ничтожными предлогами, выпытывая и сообщая, доискиваясь и вынюхивая, и все под воздействием необычайного явления заставляли работать свою фантазию, прежде дремавшую, как разленившаяся собака на солнышке. Вначале каждый был сам по себе, однако вскоре любопытство слилось воедино — с тем чтобы разгадать чужака, поместить в ячейку и классифицировать. Гостиница напоминала промокательную бумагу, она впитывала в себя вымученные гипотезы в отношении приезжего, которые, однако, превращались в бесформенную кляксу, столкнувшись с суровой действительностью в виде записи в книге постояльцев. Франтишек Крес, Родез значилось там.
Даже старейшие из горожан не помнили, чтобы здесь когда-либо проживала семья под такой фамилией. Ни в самом городе, ни в окрестностях. Да и лицо приезжего никому никого не напоминало. Еще необычнее имени было название города, из которого явился чужак. Так как Франтишек Крес говорил по-чешски и, насколько можно было судить по тем нескольким словам, которые он произнес, говорил безупречно, трудно было сказать что-либо о городе Родез. Люди колебались между Испанией, Швейцарией и Францией, однако признанный знаток географии из городского реального училища постановил, что это местечко находится во Франции. И вот тут, благодаря именно тому, что факт существования города мог считаться подтвержденным, появление чужака стало по-настоящему загадочным. Жители предпочли бы, чтобы Родез был чем-то из области фантастики, так как более удобно и менее мучительно воображать себе нечто, чем на основании скупых фактов гадать о реальности.
Разумеется, проще всего было бы объявить имя приезжего и название города вымышленными, но горожане чувствовали, что обманутся, если сочтут все это мистификацией. Не говоря уже о том, что раскрытие инкогнито чужака не могло разрешить загадки появления таинственного автомобиля, странного наряда приезжего, его походки и осанки и в особенности его столь красноречиво опущенных рук. Все понимали, что главное в его облике — это необычайность, а не экзотичность. И точно так же они понимали, что, избавившись от единственного факта, который он им предоставил в виде записи в книге постояльцев, они исключат это явление из мира реальности, пусть даже весьма туманной. В тот момент, когда они могли бы сказать друг другу, что чужак — никакой не Франтишек Крес из Родеза, который, правда, был для них лишь Гекубой, но по крайней мере Гекубой, в этот момент чужак превратился бы для них в фантастическое существо, уже не возбуждающее любопытство, но пугающее. Они, однако, и не собирались подменять приятное щекотание любопытства грузом необъятной и непостижимой тайны. Поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как созерцать чернильную роспись, сообщавшую, что чужак существует. И что зовут его Франтишек Крес из Родеза.
Город терзался тяжкими мучениями. Тем более тяжкими, что чужак, скрывшийся в лесу, снял с них свои чары, но при этом не позволил вернуться к привычной расслабленности.
Они вспоминали мгновения, когда скучали в полной пустоте, прикидываясь занятыми; особенно же они вспоминали те мгновения, когда стоящая посреди площади фигура завладела их вниманием настолько, что невозможно было ни сопротивляться, ни раздумывать о последствиях этого, когда они заметили перемену внутри себя и в своем городе, перемену совершенно ошеломляющую, хотя она и была вызвана причиной, казалось бы, весьма мелкой. Им пришлось преодолеть полосу, испепеляющую любопытство, и они наконец познали, к какому великому благу им было дано приобщиться. Сейчас это благо, подобно опаре, буквально бродило в них, питаемое их собственной натурой, и это брожение, поверьте, вовсе не было приятным.
Наступал вечер. Улицы, по которым вытекали жизнь и сама суть города, теперь впитывали напоенный озоном воздух полей и насыщали им каждый закоулок, по крупицам, словно после отпущения грехов, возвращая городу тех, которые днем ему изменили. Но сегодня все было не так, как прежде, когда благоухание подступающих сумерек завораживало повседневность и возбуждало противоречащие друг другу увлечения, служа заменой мечтаниям и борениям страстей. Возвращающиеся изменники застали шипящее, едва заметное брожение, в которое они были вовлечены, не зная его причины. Они были ввергнуты в него совершенно внезапно и начали бурлить вместе с остальными, еще более взбудораженные, чем прочие, и трогательно беспомощные.
Город взывал к чужаку, чтобы он направил его и дал совет.
Но чужак гулял в лесу, недостижимый и ни о чем не догадывающийся, а в другой стороне, по другому лесу шагал студент в погоне за удивлением. Он был спокоен и уже давно забыл о чужаке.
А наступившим вечером усталый город потянулся, причем все головы полнились беспокойством и страхом перед тревожными снами.
За столом городских властей, стоявшим под литографическими портретами Гавличека и Палацкого, все места давно были заняты.
Когда вошел чужак, трактирщик, который только что, сгорбившись и втянув голову в плечи перед наплывом посетителей, объяснялся с ними и что-то высчитывал, выпрямился. Несколько минут он стоял в растерянности, сжав губы как человек, который сомкнул их после ничего не значащей фразы и ему не приходят в голову удачные слова, какие могли бы их разомкнуть.
Выписывая ногами кренделя, он проводил чужака к столику, за который тот и сел.
Зал затих. Чужак смотрел прямо перед собой, не замечая устремленных на него взглядов и не уклоняясь от них.
— Изволили прогуливаться? Конечно же, обновляете давние воспоминания?
— Ваши края мне незнакомы.
— Вот как… Значит, вы турист? Путешествовать — это так прекрасно!
— Да, видеть — это прекрасно.
Лицо трактирщика приняло глуповато-разочарованное выражение; желающие могли бы прочитать на нем размышления об истинном смысле этой фразы чужака.
Посетитель сделал заказ. Трактирщик направился к столику городской знати с гримасой, в которой ухмылка соединялась с хитростью, глупостью и разочарованием.
Следует признать, что, несмотря на поднявшуюся суматоху, город всю вторую половину дня лихорадочно готовился к обороне. К обороне от соблазнов чужака. Дабы испытывать к нему не симпатию, а всего лишь любопытство. И в этом брожении город отыскал сам себя: он вышел на улицы — любопытный и исполненный решимости презреть чужака, если его любопытство не будет удовлетворено (а оно заведомо не будет удовлетворено). И город преуспел. Он забыл о послеполуденных часах — их больше как будто не было. Лишь в темноте могло еще казаться, что нестройность разновысоких домов на площади оборачивается звучной каденцией, а пестрота их стен — мощным аккордом.
Чужак закончил есть. Он смотрел прямо перед собой, не замечая устремленных на него взглядов и не уклоняясь от них. И хотя его наполовину закрывал стол, все же можно было наблюдать за речью его рук. Речь эта была такой же, как прежде, когда он заворожил этот город, он, новый крысолов из Гаммельна — и ему не понадобилось даже дудочки. Он сидел, касаясь затылком стены. Просто сидел. От него исходила благостность человека, который может — и вправе — ожидать.
Редактору местной газеты потребовалось какое-то время, чтобы решиться подсесть к его столику. Свою робкую атаку он тщательно замаскировал: сделал вид, что его внимание привлекли развешанные по стенам похвальные листы.
— Наше общество имеет честь пригласить вас за наш столик. Мы будем весьма польщены.
— Вы очень любезны.
— Наш город прогрессивный, и мы стараемся не упустить ни одного из новейших течений. Кружок «Свободная мысль»…
— «Свободная мысль»? Что это такое?
Редактор держал перед собой зажженную сигару, с чувством превосходства вдыхал ее дым, и казалось, будто он только и ждет случая кого-нибудь ею подпалить.
— Вы — иностранец. Много повидали. Вы могли бы дать нам кое-какие советы — в том, что касается культуры, и тому подобное. Если вам нужны дополнительные сведения…
Чужак заморгал.
— Вы ошибаетесь. Я видел очень мало в сравнении с тем, что мне еще предстоит увидеть. Советы же, которые я мог бы вам дать, годятся лишь для меня одного. И никто не может сообщить мне никаких сведений о том единственном, что я желал бы узнать: каков истинный цвет неба. Если я и узнаю это когда-нибудь, то только с помощью самого себя.
И третья атака. Магистр. Подошел, словно весьма озабоченный важнейшим делом.
— Здесь, в маленьком городке, каждый приезжий возбуждает интерес. Это естественно. Надеюсь, вы извините нас. Из записи в книге постояльцев мы узнали — я понимаю, это не принято, но все мы здесь, как одна семья, — что господин Крес… простите, что мы выяснили ваше имя… прибыл из Родеза, из Франции. Я когда-то был в Париже. Неделю. Но Родез… Я немало попутешествовал. Но Родез…
— Родез? Незаметный городок. И неинтересный. И тем не менее я узнал там все, что следует знать, чтобы не путешествовать понапрасну.
Чужак поднялся и сказал:
— Сударь, спасибо за три беседы. Уверяю вас, я самый обычный малоинтересный человек. И мои дела самые что ни на есть будничные. Мне жаль лишать вас ваших романтических иллюзий, но… я хочу побыть один. — И добавил примирительно: — Мне бы хотелось побыть одному.
Они воображали, будто выяснят все, что рисовалось их скудному любопытству. И были удивлены, когда не выяснили ничего. Однако еще больше удивило их осознание того обстоятельства, что, как бы чужак этому ни противился, у них никак не выходит пренебречь им. Некоторые из горожан припомнили, что переживали подобные муки в молодые годы — из-за несчастной любви. На своем тайном совете они постановили считать его сумасшедшим, однако решили они так только для того, чтобы задавить свою уверенность в его превосходстве. Тщетно. Они сожалели о былой лености; сожалели о послеполуденной зачарованности; сожалели о недавнем решении пренебрегать им; ибо нынешнее положение вещей мучило их до судорог: мучила уверенность, что они не услышат того слова, которое либо вознесет это событие к недосягаемым высотам, либо ввергнет его в смехотворную повседневность. Они колебались между небом и землей, и охватывавшее их головокружение было неприятным. О, до чего же неприятным! — потому что они не могли понять, находятся ли сейчас высоко-превысоко над землей или только в одном прыжке от нее.
И тут вновь случилось нечто неожиданное. Вошел студент. Поздоровавшись со всеми, он подсел к столику чужака, хотя в зале были и незанятые столы. Студент устремил на чужака взгляд, который говорил: «А, ты тот, кого я уже видел нынче днем. Здравствуй!» Больше он не обращал на него внимания. Лишь когда студент доел, оба безмолвных собеседника обменялись взглядами, которые их не удивили, хотя удивляться было бы чему, потому что эти взгляды говорили о том, как хорошо они понимают друг друга.
Местная знать была потрясена: студент и чужак завели между собой оживленную беседу. Они говорили вполголоса, как давние знакомые, хорошо понимающие друг друга. Они разговаривали, и было видно, что они друг другу ничего не объясняют, друг друга не убеждают и не спорят, но что эта беседа есть просто-напросто рассказ и повествование. Горожане завидовали им обоим. Эти глаза — пылающие спокойным огнем, не любопытствующие и всезнающие, нетерпеливые и с нетерпением ожидающие, готовые к удивлению, лишенные шор, — они ждали, пока договорит человек, сидящий напротив, чтобы продолжить беседу, которая, будучи соткана обоими и незаметно сплетенная воедино, сливалась в одно течение мыслей и чувств двоих смертных.
Прощаясь, они обменялись коротким и крепким рукопожатием. После чего чужак ушел, шагая широко и решительно.
Все столпились вокруг студента, забыв о своей нелюбви к нему. «Кто он? Откуда приехал? Куда направляется? Где вы познакомились?» Однако же они вовсе не были знакомы. Студент не знал, кто он, откуда и куда направляется. Студент лишь подсмеивался над потерявшими голову земляками.
— Почему он не спросил?
А зачем бы ему, страннику, спрашивать что-либо у такого же странника, если многое можно сказать друг другу и без вопросов? О красоте мира и человеческих радостях, о странствиях без возврата и сладостном чувстве, что возврата быть не может. О земле, о людях, их невзгодах, тяготах и трудах, о терпеливом ожидании того великого дня, когда нам все будет явлено, хотя мы об этом и не просим…
Но говорить с ними об этом было бесполезно. Они разошлись по домам — разошлись в унынии, потому что им не удалось разрушить собственную иллюзию, хотя они и тянули к ней свои цепкие руки. И город видел сумбурные сны о том, как белое облако слетело с небес на трезубец кривобокого Нептуна, слетело — и рассыпалось ледяной пылью.
На рассвете перед гостиницей остановился гоночный автомобиль. Чужак сел в него, и машина сорвалась с места быстрым скользящим рывком, так что похоже было, будто кузнечик сделал длинный и низкий прыжок. И они исчезли. Площадь же осталась, забыв в своем разноцветье вчерашний день; а четыре улицы являли собой слишком короткие щупальца, для того чтобы дать центру города то, о чем мечтали его окраины.
ОБНОВЛЕНИЕ Смиренный аккорд © Перевод Н. Фальковская
В головах зажгли две восковые свечи, а к моим рукам и ногам положили какие-то цветы, принесенные из сада. Порадовало меня, что все они были цвета красного, лилового и белого. Выглядело это очень трогательно, но, к сожалению, за два дня, пока не приехали ближайшие родственники, не нашлось никого, кто бы растрогался.
В двух ежедневных газетах промелькнуло по некрологу, в обоих утверждалось, что со мною умерло множество надежд и ожиданий. Но цифра, выдававшая возраст, свидетельствовала о лицемерности этого утверждения и, напротив, намекала на то, что ни о каких надеждах здесь говорить не приходилось.
Когда на крышку начала падать глина, душа моя покинула тело, и ее увели куда-то в серый туман, где обреталось немало вздорных и сварливых существ. Миновало время — не знаю, сколько именно. И вот какое-то невзрачное созданье приблизилось ко мне и сонным голосом сообщило, что помещение моей души в чистилище, правомерность коего до сих пор вызывала некоторые сомнения, признали достаточно обоснованным, поскольку у моей могилы было замечено человеческое существо, которое, оплакивая мою смерть, шептало что-то о грешной любви.
Ни разу при жизни не был я столь равнодушен, как теперь, когда услышал эту новость. Если бы не это всеобъемлющее равнодушие, я, пожалуй, сказал бы даже, что приятно удивлен, потому что видел свою жизнь в более темных красках и сам себя судил значительно строже.
Чистилище оказалось обширным помещением, совершенно серым и таким однообразным, что ничем не привлекало взгляд, не задерживало мысль. У меня было чувство, будто я давно обвыкся здесь, будто я живу тут испокон веку, и единственное, что занимало меня, так это то, каким образом монотонный покой, когда не испытываешь ни боли, ни тревоги, может помочь искуплению грехов? И сумрак, наполнявший помещение, был мне знаком: этот ленивый, будто обиженный на что-то свет живо (если так можно выразиться, учитывая печальный итог) напоминал мне затхлый привкус моих прежних радостей и тоскливый запах румян, всегда сопровождавший мое кипение страстей. Обитавшие в чистилище создания, которые, как я уже сказал, производили на меня впечатление существ вздорных и сварливых, вполне ладили друг с другом, хотя часто и срывались на крик. Но я держался особняком, скромно и замкнуто, и они не досаждали мне.
Окна комнаты, занимаемой мною при жизни, днем и ночью оставались открытыми. Примерно неделю туда никто не заходил. По утрам — стоял поздний, ясный октябрь — в комнату задувало сырой холод, какой бывает лишь там, где не живут люди, а когда солнце поднималось выше, сырость начинала выветриваться — неохотно, медленно, никогда не покидая комнату полностью. Вечерний сумрак поселялся там раньше времени, и темнота казалась мне враждебной. Все стояло нетронутое на своих местах. Особо обратил я внимание на растительное убранство моего бывшего жилища — и подумал, что всегда очень любил хранить в комнате цветы, уже увядшие и напоминавшие мне многие события из моей жизни.
На письменном столе по-прежнему возвышалась рыжая керамическая ваза с несколькими еловыми ветками. Местами бурые, местами мертвенно зеленые, они были связаны выцветшей ленточкой из синего атласа. Бутон красной розы, успевший покрыться пятнами желтой плесени, и темно-синий цветок астры — оба совершенно высохшие — заунывно гармонировали с буро-зеленым фоном хвойных веток. Неспешно опадали иголки — наверное, в этом был виноват постоянный приток свежего воздуха — и скапливались у подножия вазы.
И на стене в плетеной корзинке, которую получил я когда-то в подарок, виднелась еловая ветка, тоже почти погибшая, а через край свешивались бесформенные и засохшие увядшие розы, среди которых пылали, точно раны, мальвы. А еще расписанный по-деревенски кувшин, полный желтых, ярко-коричневых и розовых бессмертников. Бессмертных среди цветов. — И вдобавок над гравюрой со стадом коров, бредущих с пастбища, с самого вербного воскресенья красовались ветки с сережками, увенчанные букетиком фиалок, — все это было покрыто пылью и почти истлело.
Глядя на свою комнату, я понял, что далеко не все цветы увяли тогда, когда я уже ушел навсегда, и что среди этого хрупкого тлена я долго-долго существовал, лелея мечты о полной жизни, о путешествиях, о славе. Только теперь я осознал, что, наверное, все эти мечты не могли воплотиться именно потому, что предавался я им здесь, в этой пыльной атмосфере, среди увядших цветов, в комнате, которая ныне, опустев, предстала во всей своей гармоничной упорядоченности: она довольна собой, ей никто не нужен, и она похожа на те бездушные гостиные, что украшают собой витрины мебельных магазинов, а вовсе не на сцену для представления непрерывной череды поединков и перемирий, которые человек ведет и заключает сам с собою. Меня печалил и тревожил тот порядок, в коем выстроилась вся мебель; мне больно было смотреть на ровные ряды книг, педантичные и безупречные, ибо они обвиняли меня, и обвинение это нельзя было ни замолчать, ни смягчить… обвинялся же я в том, что жил лишь наблюдая.
Поскольку все закончилось и ничего уже не дано было исправить, то, до чего я не дожил, не могло идти ни в какое сравнение с тем, что я некогда пережил на земле, и потому я ощущал всю тщетность этих обвинений, причем испытывал это чувство, наверное, в последний раз. И удивительно мне было, что здесь, в вечности, можно размышлять о вещах столь суетных и светских.
Но однажды утром, когда вся моя продуваемая комната дрожала от холода и грустно всматривалась в пустоту, словно задаваясь болезненным вопросом о своем будущем, которого она отчаялась дождаться, я опечалился более, чем когда-либо прежде, и впервые мне удалось совершенно забыть о себе. Это было светлое чувство сопереживания незавидной судьбе, за которую я чувствовал себя ответственным. Я ясно осознавал, что виноват перед комнатой, в которой ежедневно грешил против собственной жизни, пока само помещение не заболело так, что и ныне, когда уже забыты и я, и мое случайное земное существование, комната все еще страдает от последствий моего вредного неблагоразумия, одинокая, отверженная и, по всей видимости, покинутая — словно прокаженный.
Сам уже лишенный желаний, без стремлений, без потребностей, я с великой нежностью грустил о вещах, которые неисповедимый случай заставил страдать из-за меня, столь этим их обесценив! И тоска моя была в ту минуту лишена всякого эгоизма, так что я даже обрадовался ее чистоте, и равнодушное и остывшее сердце мое исполнилось удивления, и я ощутил тепло блаженства, ранее мне незнакомое.
Тут повернулся ключ в замке и двери широко распахнулись. Вошла хозяйка дома в сопровождении служанки и сразу же испуганно огляделась по сторонам, словно ожидая, что откуда-нибудь выползет тоска и сожмет ее в холодных объятиях.
— Ему уже ничем не поможешь! Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, а живым надо жить!
И, сказав это, она сделала шаг вперед, опасливо протянула руку и принялась собирать ветки и цветы, задумчиво вороша их.
Поскольку двери женщины оставили открытыми, то возник сквозняк, который, как мне по крайней мере показалось, будто волшебная метла, одним движением вымел пыль, паутину и еще что-то неведомое, наполнявшее помещение тяжкой горестью. Комната словно улыбнулась, и мне почудилось, ее охватила блаженная дрожь, как бывает с тем, кто ждал долго и удрученно и наконец дождался.
Потом столы и шкафы были сдвинуты, с кровати убрана белоснежная пена перин, так что сверкнули широкие красные полосы матраца, стулья перевернуты, картины сняты и составлены лицом к стене, ковер скатан, а с покинувшей привычное место кушетки сдернуто и наспех сложено покрывало — и вот уже послышался веселый свист метелки, скользящей по стенам, и чавкающая болтовня мокрых тряпок, вытирающих пол.
Шум стоял посредине комнаты, как широкоплечий парень, который, уперев руки в боки и заносчиво выставив локти, точно спорит с чем-то невидимым, что малодушно отступает перед ним. Две женщины усердно трудились, причем одна — хозяйка — поначалу немного боязливо, словно через силу, но потом ее все же увлек за собой стремительный темп второй женщины, служанки, бодро и без предрассудков расправлявшейся с рухлядью, которую трепетная хозяйка считала реликвиями, требующими почтительного отношения.
Я видел все это, и мне было легко. Я видел, что в комнату входит нечто веселое и ясное. Дело было не только в вытертой пыли и исчезновении еще чего-то невыразимого, что заставляет комнаты, где долго не убирают, пропитываться сыростью и плесенью. С комнаты словно спали невидимые оковы — и она, так долго безвинно страдавшая, подчинилась совершено новому порядку, может быть, еще более строгому, чем тот, в котором оставил ее я, но порядку не утомительному, а жизнерадостному и улыбчивому. Вещи оказались точно на своих местах — и лишь затем, чтобы то неизвестное, которое здесь ожидали, не натворило нелепостей, когда начнет шалить и кувыркаться, переворачивая все вверх дном.
Наконец порядок был наведен и окна закрыты. И комната мгновенно словно превратилась в новое существо, совершенно непохожее на то, что знал я. С большого расстояния, откуда я взирал на нее, она казалась молодой, изменившейся, преображенной тем облегчением, которое принесла ей безжалостная уборка. Да, она вздохнула свободно, как человек, выбравшийся из затхлого подвала на свежий воздух. И действительно, воздух, попадавший сюда через открытые окна почти неделю, только теперь, когда его отделили от остального воздушного океана оконными стеклами, привычно и проворно охватил предметы и все пространство комнаты.
Я наблюдал, размышляя о ничтожности предела, которое человеческое бытие положило естественным склонностям вещей и сил. Каким бесспорным мне все представлялось, и с каким удовольствием я все понимал!
— Ну мы и наработались! — сказала девушка, шумно вздохнув и с усилием поднимаясь с колен. — Но зато теперь комната выглядит совсем по-другому! — добавила она удовлетворенно.
— Словно его и не было никогда, — сказала хозяйка, подразумевая меня, и подумала: «Бог мой, как же быстро смыкаются над людьми воды времени!» — Несколько сухих цветков, несколько бумажек, отправленных в мусорное ведро, — и все кончено!
Она меланхолично помолчала.
— Декорации, конечно, были невеселые, но теперь, когда мы их убрали, комната стала совсем нежилой!
— Что до этого, так она казалась мне нежилой даже тогда, когда этот господин жил в ней. Странно как-то, право слово. Беспорядка тут не хватало, вот что! На выставку было похоже. По совести говоря, я люблю у господ этакую небрежность. Если ее нет, всякое о них думать начинаешь.
— Что думать, Пепичка?
— Сударыня, господа, которые слишком любят порядок, бывают ограниченными.
— Как это, Пепичка?
— Не знаю, как толком объяснить, — и Пепичка подняла лохань, — но мне кажется, что у них слабый характер.
— Хотела бы я знать, кто здесь поселится теперь, — произнесла она, выходя. Комната опять опустела и опять ждала. Но и ее пустота, и ожидание были уже не те, что раньше: радостные и терпеливые, уверенные, что непременно наступит нечто прекрасное. Не знаю почему, но комната, вновь запертая, напоминала мне умытого, свежевыбритого юношу с розмарином в петлице, который в ожидании подружки стоит за гумном и с блаженством всматривается в окрестности. — Повторяю: я не знаю, почему мне пришел в голову именно этот образ; но он растрогал меня до радостных слез и умножил горячую симпатию, которую я и без того уже испытывал ко всему, что позабыло обо мне с легкостью, лишенной и намека на оскорбительность.
И правда, я не ошибся, предполагая, что одиночество комнаты не будет долгим. Вскоре опять послышался шорох ключа в скважине, двери распахнулись и на пороге показалась милая фигурка молодой женщины. Она с игривым любопытством наклонила голову и как-то удивительно повела носиком, раскрасневшимся на утреннем октябрьском морозе, а потом, убедившись, что за ней следует ее спутник, молодой офицер, наконец вошла с вопросительным выражением в веселых умных глазах, по которым с первого взгляда было заметно, что они уже знают и темные стороны жизни, но не отворачиваются от них.
— Ну разве я не говорила тебе, Веноуш, что искать нужно здесь?! И только здесь?! И именно здесь?!
Он — в очках, высокий, плотный, в мундире, сшитом не по казенному образцу, дабы окружить притягательным деревенским очарованием тяжелые и угловатые движения, которыми столь гордятся отпускники-военные, — неотрывно глядел на ее губы с такой преданностью, на которую способна только любовь в сочетании с уважением и доверием.
— Да, правда, — только и сказал он, но, произнеся эти два слова, заметно оживился.
За ним в комнату вошла хозяйка.
— Так вот, мадам, вам не помешает, что нас двое? Как вы уже могли догадаться, свадьба на фоне войны. Вот так!
Хозяйка махнула рукой: мол, будущие жильцы ей подходят (я навсегда запомнил этот жест, предавший меня забвению), и офицер продолжал:
— Я, конечно, пробуду тут недолго, а Бета займет комнату насовсем… ну, по крайней мере до тех пор, пока обстоятельства не позволят нам снять отдельную квартиру. Надеюсь, мадам, вы подружитесь с моей женой и не откажетесь помочь ей советом, пока меня не будет.
Хозяйка приветливо кивнула военному, в чьих словах звучала едва скрытая радость соединения с избранницей. Радость эта добавляла его голосу металла и уверенности, и стены бывшего приюта отшельника откликнулись удивлением и тревожной надеждой.
— Надеюсь, вы не станете возражать, если мы принесем сюда какие-нибудь свои мелочи. Только для того, чтобы по-настоящему чувствовать себя как дома. Это милые вещицы, то есть вещицы, милые нам — если вы меня понимаете… Комнаты, которые сдают жильцам, бывают холодными, безликими; да иначе и быть не может: ведь в них обитают старые холостяки.
В голосе его слышались жалость, слегка насмешливая; и гордость, пожалуй, даже высокомерие человека, могущего судить об этом по собственному опыту.
— Да, верно, я сдавала эту комнату, вы угадали, — сказала хозяйка.
— Как может съехать отсюда человек, у которого нет настоящего дома? — произнесла супруга-девочка. — Веноуш, взгляни, какой вид — и вообще, здесь так мило, точно в каюте на яхте. Наверное, вашего постояльца призвали в армию?
— Видите ли, — проговорила заметно растерянная хозяйка, — этот господин умер.
Супруги вопросительно переглянулись. Хозяйка оперлась о кровать. Я чувствовал, что переезд этой пары, поводом для которого стал именно я, находится под угрозой, и очень волновался, ибо искренне желал, чтобы они остались.
— Ладно, — сказал наконец офицер, — разве есть еще место на земле, которое не стало бы нынче ложем смерти? Ты ведь не боишься, правда, Бета? — И он пожал ей руку.
Она ответила несколько наигранно:
— Чего мне бояться? Ведь ты со мной!
И тогда молодой муж обратился к хозяйке с небрежным вопросом:
— А что случилось с вашим бывшим постояльцем?
— Понимаете, — сказала хозяйка с таким же растерянным видом, с каким она сообщала о моей смерти, — он не умер естественной смертью. Он совершил самоубийство.
— Ах! — воскликнула молодая. — Кровавое?
— Бета! — тихо и скорбно устыдил ее муж — и я, хоть и был растроган вопросом юной женщины, полюбил этого человека со столь возвышенными чувствами.
— Впрочем, следы уже убраны… полностью, — сказал он, подойдя к окну и с растерянностью, мне непонятной, выглянув на улицу. — М-да — и все же, все же!.. Наша первая квартира — и такое происшествие!
Хозяйка промолвила:
— Я почитала своим долгом предупредить вас об этом обстоятельстве. Я знаю о связанных с такими вещами предрассудках и уважаю их, хотя и не разделяю. Я непременно открыла бы правду даже в том случае, если бы вы не спросили меня прямо.
— Благодарю вас, мадам, — церемонно поклонился офицер. — Я также не разделяю этих предрассудков. Я убежден, что их лишена и Бета… ее страшит скорее тоска, рожденная мыслями о смерти. Но пока нас двое, мы не допустим сюда даже воспоминание о ней, а когда наступит пора моего отъезда, эти события уже станут нереальными. Ну, решай! Тебе тут понравилось…
— Ты прав, Веноуш. Такое недолго кажется правдой. А нас двое.
— Вообще-то он был порядочный человек, — добавила хозяйка, словно извиняясь. — Бог знает, что на него нашло… Он всегда производил такое впечатление, будто заблудился; мне так казалось еще и потому, что внутри он был какой-то дряхлый, хотя и выглядел моложе своих лет. От него исходил не то чтобы холод, но нечто такое, что мешает сближению. Сегодня я это могу сказать: бедняга был мертв еще до того, как умер.
— Мы въезжаем! — решила Бета. — А что до прошлого, то, если Бог даст, мы выгоним его отсюда. Не знаю, почему, но мне кажется, что комната уже все забыла. Живым — жить!
— А так это удобная, светлая и просторная комната, — сказала хозяйка.
Мне казалось, что мое прежнее жилье грезит о воздушных замках будущего союза. Вещи уже стояли в напряжении, нетерпеливо ожидая, когда их коснутся привычные к пожатию руки. Зеркало, встроенное в шкаф, смело засияло, бахрома на абажуре затрепетала от какого-то неведомого сквозняка.
К четырем часам они вернулись. И в это мгновение сквозь окна, выходящие на северо-запад, в комнату пролился мощный поток света. Вбежала Бета, с охапкой свежих цветов, и принялась купаться в лучах. Ее муж, с занятыми руками, закрыв дверь плечом, боком вошел следом. Комната благодарно обняла их, защитила их счастье — и внезапно окна необъяснимым образом запотели.
Оба сняли верхнее платье. Бета начала наполнять пустые вазы цветами, и комната восхищенно приняла их пестроту, а потом с бурными и веселыми спорами они принялись расставлять свои расписные стаканчики и фарфоровые фигурки, вешать маленькие гравюры, раскладывать яркие бусы и разноцветные платки.
— Здесь будет очень красиво, — твердила жена, — красивее, чем я себе представляла. Подумай только о вечерах под этой лампой с желтым абажуром, и как мы будем разговаривать, и как я буду вспоминать о тебе. Мы здесь всегда будем вместе. Никогда эта комната и не мечтала ни о чем подобном!
— Бедняга! — проговорил он, садясь. Смеркалось, и в серебристых, поистине серебристых сумерках обе человеческие фигуры смотрелись просто изумительно.
— О ком ты говоришь? — спросила она несколько удивленно.
— О бывшем жильце. Я не боюсь его, он не нарушает моего покоя, но я все время думаю о нем.
— Не думай о таких вещах. Нас это уже не касается. Смотри, как радушно приняли нас эти четыре стены! Они обновлены тем, что среди них расцвела жизнь; думаю, что до нас здесь было всего лишь ожидание жизни, измученное и застывшее.
В нише, где и при мне стояла спиртовка, она, напевая, готовила чай, пока он, в безопасности уединения, но и защищенный от одиночества, читал вечерние газеты — удобно сидя в кресле, откинувшись назад, блаженно расправив могучую грудь. Тут я словно увидел в этом кресле себя и вспомнил, что сидел обычно, наклонившись вперед.
Холодный ужин с чаем был готов, и жена пошла звать хозяйку.
— Только не вздумайте отказываться, — послышалось с лестницы, — нет-нет, ни в коем случае. И не надо переодеваться! Мы ведь соседи!
Вскоре обе женщины вошли в комнату. Три человека сидели за столом и беседовали — негромко и задушевно. Руки мелькали над скатертью, передавая блюдца и чашки, словно шаля и перебивая друг друга.
— Как быстро изменилась комната, — заметила хозяйка.
— Мы ведь столько всего принесли сюда! — сказал он, извиняясь. — И даже не спросили, можно ли было забить несколько гвоздей.
— К чему лишние вопросы? — Она развела руками и добавила: — Я не это имела в виду. Комната вообще изменилась. Я до сих пор не знала, какая она вечером. Но пыталась ее себе представить. Она выглядела — ну как бы это сказать? — жалостно. Ничего из нее не доносилось. Только шаги.
— Теперь все будет иначе, — отозвалась Бета весело. — Все-все! Я здесь совершенно счастлива. Хотя это только лишь военное счастье. Думаю, когда-нибудь и у нас будет свое гнездо. Бог даст, мы этого дождемся.
— Конечно, дождетесь!
С улицы доносились приглушенные звуки. И комната, где раньше стояла гнетущая тишина, собирала эти звуки и разглаживала их, будто ребенок, которому наконец разрешили поиграть.
— Тут какая-то фотография, — сказала вдруг Бета, поглядев на нижнюю полку бюро.
— Это он. А мы и не заметили, когда убирали.
— Он? Смотри, Веноуш! — и жена подала мужу фотографию.
Он взглянул на нее сквозь стакан, из которого пил.
— Вы правы, мадам, разочарованное и упрямое лицо.
— Да, он всегда мне таким и казался… Надо бы ее отослать.
Хозяйка спрятала фотографию в карман и принялась чистить яблоко. Но вдруг ее руки замерли.
— Мы сидим в его комнате, едим, разговариваем, и если вдруг и вспоминаем о нем, то чистя при этом яблоко — вот как сейчас. Разве это не жестоко?
Офицер пожал плечами.
— Мне было бы отвратительно притворяться, что его судьба трогает нас, да будет ему земля пухом. Видите ли, мадам, я искренне говорю то, что чувствую. Требовать от себя большего?.. Он там, мы здесь. Вот и все.
Я, наблюдая издали эту сцену и слушая их слова, теперь отвернулся и надолго задумался. Глубокий, прекрасный покой, которого я никогда прежде не знал, покой-блаженство овладел мною.
А потом дни сменяли друг друга, и моя комната, то болтливая, то серьезная, то веселая и озорная (когда муж в своей трогательной медвежьей манере шутил с молодой супругой), исподволь, со спокойной и почти нежной настойчивостью, изгоняла меня.
И когда однажды Бета бросила в печь увядший букет со словами «Удивительно, как быстро он высох!», исчез и мой последний след.
С тех пор цветы в комнате всегда стояли долго, а дни моего чистилища, переносимые мною без сетований, плыли в море вечности один за другим, выполняя свое странное предназначение.
Из сборника «Банщик» (1929)
БАНЩИК © Перевод Н. Фальковская
…Цехом банщиков пренебрегали…
(Статья в «Праве лиду», 1929) Сон — нам самим присущий бог, свои он искалечил члены, пока его мы изгоняли. Его так не хватает бдящим. — Вам все равно? Мне нет, и я его тревожу.Ощущение, что настоящим путевым заметкам необходимо предпослать несколько слов, овладело мною внезапно. — Первая фраза, и все уже зашаталось: неуверенность, сдержу ли обещание, пообещав всего лишь несколько слов; и сомнения — может быть, моей мысли лучше бы соответствовало, скажи я, что мною овладело внезапное ощущение необходимости, чем то, что оно овладело мною внезапно. Сомнения назойливой порядочности! Я обхватываю голову руками; усердно размышляю; о, красоты синтаксиса и морфологии! размышляю, непроизвольно разглядывая фиолетовые строчки, и на первой же замираю в изумлении, заметив, что она не уходит в бесконечность, но что почти сразу после ее начала я, несколько поглупевший, вынужден перескочить туда, откуда отправился в путь; а потом замираю снова, когда всего только пятая — сколько же я времени читаю? не больше двух минут! — оказывается тропинкой, затерявшейся на краю пустыни не исписанного до сих пор листа, и над ним стоит гул кафе (полшестого вечера, время аперитива), будто дрожащее марево; и никакая это не фата-моргана; а если я и слышу что-то еще, то лишь тишину, непроницаемую, точно полированный шар; посредством тишины обращается ко мне то единственное, что важно для меня; оно отбросило композицию, как человек, выходящий из лечебного источника, отбрасывает костыль, и морфологию, как ненужную маску, надеваемую лжецами, чтобы скрыть свою растерянность; ибо и в лжецах осталось гнетущее понимание того, что слова лишь пускают пыль в глаза. И вот мое первое существенное открытие: прилагательное «внезапный» использовал бы человек, трусливо подчинившийся неизбежности; я же употребил наречие «внезапно», потому что подсознательно горжусь тем, что являюсь безвольной игрушкой этой неизбежности.
Я пишу «несколько слов», но — будучи игрушкой; возможно, их окажется много. Да, я настаиваю на этом, говорят, коварном деепричастии столь же упорно, как на своем праве отрицать, что существует некое различие между малым и многим, пусть даже только количественное. Скажу даже «прежде всего отнюдь не количественное», ибо от него действительно не зависит почти ничего.
Я колебался между примечанием во вступлении и примечанием в сноске. Но на примечание в сноске мне пришлось бы решиться — Бог его знает! — наверное, уже на третьей строке. То есть затеять игру с благосклонностью читателя. Так что я остановился на примечании во вступлении. Ибо в отличие от моих остальных сочинений, главным образом тихих, эта книга добивается тишины. Причем добивается ее шумно. В ней гнев и злоба тех, кто понял, что он находится в клетке, и стремится вырваться на волю. Однако тщетно; о, об этом позаботились: тщетно! С клеткой — как с болотом: чем больше суетишься, тем глубже засасывает. — «Ну так сиди тихо!» — «Да; но как же совесть? И главное: как быть со злостью? Это слишком хороший и верный товарищ, чтобы ущемлять ее в правах до тех пор, пока она не лишится всего». — Речь не о том, как выпустить птичку; речь о том, чтобы убедить даже самого изолгавшегося, что он сидит в одиночной камере. Он и потом будет петь, как пел, но понимать песню он будет иначе. А это уже кое-что.
Если столько людей пренебрегают фактом, что они за решеткой, то это результат оптического обмана: решетку они принимают за рамку. За этакую хитро вырезанную рамку для расшифровки тайнописи. Рамку, выкрашенную в цвета солнечного спектра (о, достойное наказания любопытство! Будто не лучше было бы познавать спектр с помощью белого луча, отказавшись от идеи пропустить его через призму); складную, как карманный метр; выверенную, как график работы деревенского нотариуса, и упорядоченную, как его семейная жизнь. Для тех, кто еще не понял, наша клетка — это раскрашенная, складная, выверенная и упорядоченная речь народов, «достигших высокого уровня цивилизации», и ее ловкий отпрыск: фонетико-аналитическое правописание. Царская водка и скальпель. Зонд, шарлатански погружаемый в невыразимое и извлекаемый обратно под завиральные заявления о том, что он и в самом деле добрался до невыразимого. Доказательство тому, господа, — сей редкостный дистиллят, что мы позволили себе излить перед вами: наш славный словарь абстракций!.. Как не позавидовать бушменам, не знающим глагола «любить», и китайцам, замкнутым, как их иероглифы. Они не могут договориться, но зато могут лелеять крохотную надежду на то, что позже им удастся понять и людей, и то, что вне их. А если нет, так у них всегда остается возможность не противиться неизрекаемому, утонуть в нем, то есть слиться с ним. Мы же тем временем, на берегу океана, мерим и переливаем своей мерой — вопреки предостережениям святого Августина… Одна из редких удач, которых добилась выразительность человеческой речи (в основном эти удачи бывают со знаком минус), вот какова: «Для больших чувств нет слов». Конечно, от рационалистической трусости не дождешься продолжения: «У малых знаний их еще меньше». Не говоря уже о больших (но честно говоря: есть ли разница между знаниями малыми и большими?). Мы выставляем их в витринах «tout habill»[14], дабы скрыть, что это куклы, чей орган познания — часовой механизм (он тикает, как сердце). Взойдя на Гауришанкар или хотя бы на Арарат (с поэтами такое случается), ты оказываешься выше мира; причем речь твоя всегда остается при тебе. Так испытай же ее! Ты выше мира, и речь твоя подобна зубочистке, с помощью которой надо прорыть туннель в горе. Что ты с ней собираешься делать? — «Да хотя бы то же, что бушмен со своей убогой речью». — «Он бы хранил молчание». — «Вот и вы извольте промолчать». — Как будто в этом дело! Как будто дело не в том, чтобы обрести взаимопонимание с самим собой! Но именно это нам и не позволено. Дьявольское любопытство навязало нам веру в иллюзию диалектического познания, а диалектика, этот злой дух, гоняет нас по кругу, точно собак, ловящих собственный хвост. Для обмана других слов недостает; для убеждения и постижения самого себя — тем более. Рамка для расшифровки? Решетка клетки, где можно лишь ходить из угла в угол.
Я не строю иллюзий. Мы белки в колесе, и мы навсегда останемся белками в колесе. Дальше — одни только безнадежные попытки злобы и гнева, безнадежные именно потому, что продиктованы они злобой и гневом, — вырваться из камеры-одиночки, преодолеть центростремительную силу и вместо круга оказаться на прямой. Мы не даем советов, не проповедуем, не объясняем, не убеждаем. Мы словно зрители в театре, галдящие «тише! тише!», оттого что кто-то чихнул. И если уж предпринимать нечто настолько тщетное, то стоит прежде осмотреться — а не забыли ли мы о чем-то очень важном, что может окончательно нас скомпрометировать? Между нами: приняв такие меры предосторожности, мы тешим себя надеждами — и даже довольно большими, — что на нас обрушится Милость. Вот только нарочно это делать нельзя. — Нарочно? Ах так! Но не выгляжу ли я после этого человеком, для которого важно, чтобы его воспринимали всерьез?
А собственно… собственно, да: если бы дело сводилось только к предисловию (которое почти всегда бывает лицемерной попыткой залатать дыры ex post[15], ханжески выдать эту попытку за директивы и направляющие идеи и тем самым обобрать читателя), то на этом месте я мог бы со спокойной совестью отложить перо и сказать себе, что по крайней мере с одной задачей я справился: написал действительно несколько слов. И сказал ими все необходимое, чтобы застыть в позе выронившего шест канатоходца, то есть в позе единственно достойной.
Но слава, слава бегу затравленного через полуночный лес, когда с каждым новым прыжком страх все творит и творит над самим собой чудо умножения хлебов, уподобляясь русским матрешкам, которые из-за некоей математической погрешности становились бы тем крупнее, чем ближе бы к сердцевине находились. К большему, все большему беспокойству, к тревоге и страху! Пусть мы сдались им без сопротивления — оружие мы сложили не из-за пассивности, но благодаря триумфу воли! — подобно полоненной волной пчеле, которая покоряется течению, уносящему ее (назад, думает пчела), но тем чудеснее возникнет над гладью уснувшего озера снежный замок Эйфории, куда мы не можем не доплыть и где нельзя не заблудиться. Ибо что бы ты ни делал, спасения не избежать.
И как тут устоять перед искушением, что ныне влюбленно придумали мои глаза? Какой вид! Резкий, как в отлаженном бинокле, и пьянящий своей стальной определенностью. «Стальной»; очень подходящее прилагательное. Речь-то действительно идет о стали… О стальной рессоре в форме конуса. Я скольжу взглядом вдоль его воображаемой оси, и вершина конуса испускает темные искры, словно маленький черный бриллиант. Завитки, начиная с первого, образующего столь большой круг, что в него легко въехал бы сам Ноев ковчег, втиснуты в границы, принявшие вид гладкой сплошной стены. И я, ведя по ней пальцем от самого основания, разрушаю с неким холодным упоением его твердую уверенность, что каждый раз он описывает замкнутый круг, ибо знаю — может, и не лучше, но как-то убедительнее, чем он, — что кругов не существует вовсе; что палец, которому кажется, что он описывает окружность, на самом деле поднимается все выше; что, начав с поддающейся измерению величины, он продвигается, не догадываясь об этом, вдоль шкалы, где уже нет места ни для какого, пусть даже самого тонкого, дифференциала, вдоль шкалы, которая сама не знает, что она шкала, к той высшей точке, которая есть нечто, чего нет… И в концентрических водоворотах я думаю, что для возникновения плоскости и тела и для того, чтобы в воображении они окончились, не прервав своего существования, хватило бы линии, принявшей твердое состояние, и вращения вокруг ее собственной мысли: оси. Я представляю себе птичку-певунью, которая, не ведая того, что известно мне, влетела бы в эти манящие ворота, стремясь к черному бриллианту, призывно сияющему вдали; она плыла бы и плыла, пока ее — при том что крыльям бы еще ничто не мешало — не пронзило бы внезапное понимание, что чем ближе она к цели, тем теснее темница; но, несмотря на это, она продолжала бы путь; нет! именно поэтому, а наверняка не из-за сияния воображаемого бриллианта — она ведь не из тех, кого можно завлечь столь грубым подобием; итак, она то ли влюблена в эту изящную ловушку, то ли засасывается ею; и вот ее крылья уже ударяются о гостеприимную, льстиво закругленную, вездесущую стену — бесконечную, но при этом как бы постепенно исчезающую, которая пленяет тем неотвратимее, чем заметнее уменьшается, так что в конце концов птица бы уже не влетала, а вползала, будто всасываясь, в это ничто, которое душит, душит, душит и, прежде чем обратить своего гостя в Ничто, Ничто же ему и предлагает, да так очаровательно, что не откажешься.
И от мысли об этой певунье у меня начинается метафизическое головокружение и я пускаюсь в интеллектуальный пляс, словно после удачного решения никчемной проблемы. Да только я бы знал, проникнув через широкое устье внутрь этого калорифера, что переваривает, не оставляя пепла. Но страха бы я все-таки не испытывал, а ужас бы свой оседлал, как коня из Апокалипсиса. О, собственные муки, обезличенные, как первосортный анатомический препарат, и взирать, взирать на них с интересом столь стерильным, что боль, вся боль доносится словно бы издалека — как эхо, извне…
Читатель, который, надеюсь, признает, что я без околичностей перешел прямо к делу (ибо я, собственно, толкую уже о деле), встретится на страницах этих путевых заметок с тремя именами собственными: П.С.[16], Бельтрам и Квайде. О двух последних — пока ничего. К чему? Никто на свете, кроме меня, не знает ни Бельтрама, ни Квайде. Да и сам я видел их лишь однажды, причем мельком, хотя и неизгладимо. Жаль только, что «Бельтрам» звучит не так по-скандинавски, как «Квайде», — это-то имя наверняка носил некий неизвестный герой саг. Но что я тут распинаюсь? Как есть, так и есть, и я ни за что не отвечаю. Отнесешься к сокровенному с хотя бы легкой небрежностью — и наказание тут как тут; я в этом уверен: мои шведские путевые заметки истаяли бы под пером, подобно тому, как это приключилось когда-то по похожим причинам с кое-чем таким, что было для меня еще важнее. А поскольку и оттуда, из фортификационного рва, полного промасленных бумажек, дырявых котелков и невероятного равнодушия выкинутых вещей и людей, я вижу улыбку, блуждающую на губах читателя, для которого я, кажется, написал, что потеря шведской рукописи была наказанием, спешу добавить, что имею в виду наказание меня самого, а не кого-нибудь другого. Дело личное, обсуждению не подлежащее.
По этой же причине я могу теперь сообщить, что с инициалами П.С. придется трудно, ибо они скрывают имя человека известного. И это для меня тем мучительнее, что я отвечаю за него не более, чем за имена «Бельтрам» и «Квайде». Собственно, сложность состоит не в том, что мне приходится воспользоваться инициалами реального живого человека, но, напротив, в том, что мне придется обойтись с ними так, словно никакого П.С. за ними нет. «П.С.» не имеет ничего общего с писателем, которого нет необходимости представлять сейчас чешскому читателю, ибо — я особо это подчеркиваю — «П.С.» — всего лишь императивно навязанная цепочка звуков, которые только по чистой случайности являются именно теми звуками, из которых состоит имя П.С. И цепочка эта или, скорее, куча сложилась как раз во время того морского путешествия в Швецию, которое происходило в таком тумане, что без молочного сияния указателей мы бы никогда не доплыли… нечто наподобие бакенов, вроде Бельтрама с Квайде. Эта аллегория, однако, не отличается точностью. По правде говоря, в моем сознании эти имена совпадают вовсе не с бакенами, а с какими-то совершенно иными предметами. Но почему, собственно, только в моем сознании? Имена эти точно и на самом деле являются определенными предметами, которые, однако, поскольку П.С. вызывает у очень многих представление о живом, конкретном, самобытном человеке, я не решаюсь назвать. Но тем не менее это придется сделать, и когда слово это я позже напишу, читатель поймет, почему я прикрывался столькими риторическими приемами, прежде чем его произнес. Поймет он также, зачем я так просил его не забывать, что «П.С.» и П.С. без кавычек не только не сливаются воедино, но и не имеют ничего общего. То же, разумеется, касается отношения между любым словом и вызванным им представлением, то есть и «Бельтрама» с «Квайде», которые, будучи для читателя чистыми созвучиями, удобны тем, что ассоциируются с несчетным числом явлений. Именно потому это слова-сезамы. Слова бессчетных возможностей, ключи паспарту. Если бы мы не были ленивыми рабами ассоциаций, таким сезамом было бы каждое модулированное созвучие, каждое созвучие члененное, каждое «слово». Должно быть, вам это еще в голову не пришло; но факт, что, например, члененное созвучие «П.С.», которому следовало бы отпирать все замки, содержать в себе всю неограниченность времени и пространства, в результате нашей ассоциативной лености открывает сектор хотя и бесконечный во времени и пространстве, но только в своих узких пределах, причем наполненный лишь так называемой адекватной реальностью П.С., факт этот, собственно, и есть начало людских бед.
«П.С.», ничего общего не имеющий с П.С., означает, однако, для большинства (а говоря о большинстве, я еще далек от правды, ибо легко мог бы сказать «для всех») человека, ограниченного определенным условным описанием, неким паспортным портретом, некими едва заметными и мгновенно исчезающими отпечатками на том кратном времени и пространства, что зовется судьбою, этим следом, что оставляет сепарированная частица целого, называемая П.С., на циркулирующей тщетности, следом, называемым одновременно разумом П.С., существованием, и вдобавок творчеством П.С., и еще многим. И откуда только взялись эти парки, в которые бессодержательность пускают лишь на поводке; и почему, если не по привычке, слышим мы созвучие «П.С.» при виде этой, казалось бы, совершенно независимой частицы неизвестного целого?! Я не вполне уверен, что читателю удастся противостоять этой привычке, иными словами — что он сумеет по отношению к «П.С.» вновь добиться такой свободы, какой он пользовался (недооценивая ее) до тех пор, пока «П.С.» было для него ничем, то есть пока оно было всем, так же как «Бельтрам» и «Квайде». Положа руку на сердце, я в это не верю. Однако я убежден, что сказанного мною до сих пор достаточно, чтобы слово, которое я напишу, не возмутило ни читателя, ни — особенно! — того человека, который, согласно общему уговору, скрывается за «П.С.». Вообще-то «Бельтрам», «Квайде» и «П.С.», невзирая на некоторые созвучия, вызывающие ассоциации как личные, так и коллективные (например, «кепки для гольфа», «муранские лилии» и т. д.), играют в этих шведских путевых заметках роль так называемых чертежных кнопок.
Наверное, нелишне объяснить это в нескольких словах[17]. Иначе может показаться, что я над вами подшучивал. Кого не возмутило бы, если бы среди споров о границах, с математической точностью становящихся искрой, из которой возгорается война, внезапно в результате некоей аберрации возник такой, что стал бы, напротив, арочным мостом, где два прежде враждующих государства кинулись бы друг другу в объятия? Кто бы не возмутился, если бы среди беспомощных посредников между бдением и сном, из которых 999 из тысячи срываются с рубежа толщиной в волос в пропасть, нашелся внезапно один, который не только бы спасся, но и достиг триумфа, зацепившись полой за чертежные кнопки? Милые мои! Да кто из вас сумел бы во время безнадежного прыжка из бездны в бездну остаться беззаботным? Кто, дочитав досюда, сохранил бы надежду, что доберется до чертежных кнопок? Ожидание редко осмеливается выйти за границы, заданные предыдущими аналогиями; причина разочарования как раз и состоит в этой дурной привычке. Мы настолько связаны и настолько горды своею несвободой, что почти уверены, будто наше достоинство оскорблено, когда происходит нечто, чего нельзя было ожидать по справедливости. Да, мы настолько смешны, что решаемся говорить: «…По справедливости надо было ожидать того-то и того-то». Итак, спокойный, деловой и чинный ход строчек до слов «чертежные кнопки» давал право на любую цель, кроме самих «чертежных кнопок». Чтобы рассеять недоразумение, добавлю также, что «чертежные кнопки», «Бельтрам», «Квайде» и подобное отнюдь не являются неким символическим заблуждением. «Чертежные кнопки» нужно понимать буквально. Под силу ли читателям этакая акробатика воображения? Не обижайтесь, но я здесь скептичен. Речь идет об образности некоей второй степени. Образности не ассоциативной, но, напротив, приводимой в действие столкновением и соединением непримиримо далекими, которые притягивает друг к другу какая-то изощренная привередливость.
«П.С.» и «чертежные кнопки»!
Отважимся на картину! Пока что будем апеллировать к читательской образности первой степени; к той, которая живому не помешает, но и умирающего не спасет. Так ли трудно представить море, разбушевавшееся настолько, что может показаться, будто оно бушует нарочно? В этом море — парусник, но уже без паруса? Хотя нет. Парус оторвался от мачты лишь на четыре пятых своей длины; порыв ветра перекинул его через крестовину реи; он застрял там; этакий парус-самозванец; для потерпевших кораблекрушение — источник новой и еще более грозной опасности. Для потерпевших кораблекрушение? Осмотрите все: палубу, мостик, каюты, трюм. Что вы нашли? Человека, одного-единственного человека. Так ли уж трудно вообразить, будто человек этот предназначен для того, чтоб служить нам примером смертного, в чьей голове бродят самые разные мысли, но никак не мысль о том, что ему удастся спастись? Нет ничего проще, правда? Но если я добавлю, что человек этот вовсе не терзается от того, что кончина его близка и неотвратима, я, возможно, наткнусь на какого-нибудь Фому Неверующего. Тем не менее это так, и читатели охотно согласятся со мной, если посмотрят на него повнимательнее. Что они увидят? Они увидят человека на палубе; следовательно, вопреки обстоятельствам, в море он не бросился. Человек, убежденный в неотвратимости неотвратимого конца, не длил бы свое пребывание на палубе. А этот стоит под реей, на верхушке которой вздымается и хлопает самозваный растерявшийся парус, он стоит там, словно пригвожденный, и его руки — какой разительный контраст с бушующей стихией, растерявшимся парусом, гудящим кораблем и чайками, которые словно застыли с распростертыми крыльями, — его руки повисли вдоль тела, а голова поникла. Возможно, объявится всезнайка, который скажет: «Значит, он еще надеется». Ну же, приглядитесь к нему получше. Этот одиночка (подчеркиваю — одиночка) не верит в спасение; но точно так же он не убежден и в неотвратимости близкой кончины. Ибо я уже сказал и даже доказал (доказал тем, кто хотел слушать), что в противном случае он обязательно бросился бы в море. И тогда бы он покорился? Покорился чему? Слова, слова!
Ничто не дается даром! Читатель, который верит мне на слово, имеет право спросить: «С чем же мы его оставляем? В чем он обитает? Иначе говоря: где он?» — и я обязан ответить. О, мне не уйти от этой обязанности. И я отвечу кратко, одним словом: «Он обитает внутри чуда!»
Прошу читателя обратить внимание, что я написал «обитает внутри чуда», хотя было так легко, хотя было так заманчиво не противиться искушению и ради банального взаимопонимания написать: «Он несмотря ни на что верит в чудо, ожидает чуда, надеется на чудо».
Предупреждаю читателя, что настаивать не надо; предупреждаю, ибо подозреваю, что ему действительно понравится, если вместо «обитает внутри чуда» я воспользуюсь каким-нибудь более расхожим выражением. Ну вот, пожалуйста: читатель таки настаивает. Какая уж тут помощь; мне только и остается, что ударить кулаком по столу и вскричать: «Глупцы и вруны! Чудо, которого бы он ждал, в которое бы верил, на которое бы надеялся, опиралось бы на надежду. Но у человека с повисшими вдоль тела руками не осталось уже никаких надежд, и именно потому я привожу его вам в пример. Не знаю, найдется ли среди вас хоть один, кто сумел бы не скажу вознестись на такую высь, как этот человек, но хотя бы заглянуть туда. Он обитает внутри чуда. Он обитает там, как в заколдованном замке (к сожалению, я вынужден обращаться к избитой сказочной терминологии, ибо, в сравнении с другими, она самая реальная), то есть в замке, который, подобно пробке, изолирует от всего: от времени, от гибели, от жалоб друзей и проклятий врагов, и из окон которого мир кажется вместе знакомым и необычайным, будто смотришь сквозь закопченное стекло: каждый предмет в мягких покровах своих первичных колебаний, колебаний эмбриональных, быть ему, бедняжке, лишь тем, чем ему быть предстоит, и каждый звук с тянущимся за ним шлейфом ставшего уже привычным изумления своей непохожестью. Он обитает внутри чуда, поскольку знает — это отбивает ему пульсирующая у него в жилах кровь, — что неизведанная земля, простирающаяся перед ним, является иной и прекрасной ипостасью того, что до сих пор, повторяя бездумно за другими, он называл „время, прожитое мною“. Он обитает внутри чуда, потому что его ожидает внезапное осознание — настолько живое, что его можно пощупать, и окруженное пределами четкими, как зубчатая стена, — что настающее ныне и даже наставшее прежде испокон веку существовало абсолютно во всем, как море заключено одновременно во всех каплях вместе и в каждой отдельно. Он обитает внутри чуда, потому что кровь пульсирует в его жилах, потому что от этого вскипает его непознанное и уже навсегда непостижимое я (навсегда — глупое слово), — мол, никогда ничего не случалось, а сейчас, даже если и вмешается какое-нибудь созвездие и укажет ему путь из чуда, где он обитает, в некое куда-то, где он бывал раньше запросто и которое он знает, толком его не помня, то все равно ничего не случится. И это ничего употреблено здесь не в фигуральном смысле, это не ничего компаративное и релятивистское, прислуживающее всем подряд, но ничего тщетное, сравнимое, скажем — скажем! — со слабым блеянием ягненка в пустыне, которую набросил на себя, точно свадебную мантию, космос и которую овевают самумы миллиардами своих акустических спиралей. Внутри чуда, где мелькает иногда естественное. Или это только кажется?»
Разбушевавшееся море не необозримо — ибо как преодолеть черту? Мы всегда терпим крушение в пределах видимости чего-либо, в этом и заключается притягательность утопания. Есть море, есть швыряемый из стороны в сторону корабль, есть неподвижно парящие чайки, есть гудящая рея и под нею человек с повисшими руками. Есть кудрявое взлохмаченное море, сад, окруженный забором из синеватых гор-конусов. Над каждой вершиной — кольцо облаков, над каждым кольцом — простодушное солнце, словно мишень, так, как в букваре, и как когда-то давным-давно, когда был знак, что кончился Потоп, а в середине каждого из этих колец висят на лучах голубки, несущие в клювиках ветки, но не оливы, а омелы. (Почему именно омелы? Да откуда мне знать?! А вы почему спрашиваете?) Сколько ковчегов условности на горизонте, и никакого Ноя, никакого Бога, лишь стонущая скорлупка, непокорившаяся рея, это единственное дерево морского сада, дерево, пренебрегающее листьями и плодами, и под ним человек с повисшими руками, со склоненной головой, восклицательный знак глубин посреди ревущей пустоты… вы сумеете это себе представить? Получилось?
Разбушевались вихри; вихри разъяренные; они несутся со всех сторон ужасным галопом; столкнувшись, они выворачиваются из седел, как на турнире, и разражаются тишиной; разражаются тишиной. Над кораблем затрепетал лист. Он кружил и вращался, взлетал и падал, лист материальный, но ненадежный. Вы поняли, да? Это послание. Говорящее о спасении? О понимании? Послание ниоткуда и ни о чем, послание равнодушно каменного капризника, без угроз и без обещаний, не приказ, не запрет, оно не заводит в лабиринт, но и не служит путеводной нитью, послание столь же бесполезное, как то чудо, в котором он обитал, а потому его необходимо было прочесть. Единственное, что ему оставалось, это прочесть его. Не то чтобы ключ к ничему, но ключ к ничему из того, что можно познать. И именно поэтому он знал, знал биением своих жил, что если он его не прочтет, то собьется с пути. Не с того, что ведет во тьму, которой нет, но с пути к спасению, то есть назад. Но как завладеть вращающейся загадкой, уносимой вихрем? Вот она скользнула по палубе, вот прильнула к сломанной мачте, но, когда он кинулся за ней, оторвалась от мачты и отпрыгнула прочь, как на резинке. Ведет себя светски, то есть умно и коварно? Вовсе нет! Ибо листок уже снова далеко-далеко, пробирается сквозь кольца над голубыми вершинами гор, облетая их подобно серафиму с картин, населенных ангельскими хорами или сонмами блаженных и мучеников; и тут же возвращается обратно — такой близкий и такой дразнящий, словно он и впрямь способен на издевку.
Листок. Внезапно, однако, он будто раскрыт и разглажен невидимой рукой. Застыл и трепещет, загнанный. Вибрирует, как кастаньета, последними колебаниями, слышными уже лишь себе. Замер над его головой, словно издевательская надпись на кресте; застыл на рее; умерщвлен острыми скобами.
«Умерщвлен» — это не стилистическая мишура; ибо только теперь, распятый, он признается, что ему некого было спасать. А если и было, то уж никак не потерпевшего кораблекрушение. Нынче листок действительно стал тем, чем обещал быть, пока был доступен лишь мечте о нем; одновременно вещественным и фантастическим — то свитком, то клочком, то сгустившейся молнией, игравшей цветом и светом, — и никогда не скрывавшим, что обещает больше, чем сможет дать. Именно из-за этой циничной неспособности к притворству и был этот листок таким желанным.
Как унизителен возврат туда, где ничего не грозит. К счастью, избежать позора — это зависит только от нас, и легко убедить себя, что радостное соловьиное пение — да, оно именно радостное — является таковым из-за смутного предчувствия, что за порогом майской ночи, каждое мгновение которой обманывает вечность, эта пронзительная песня стихнет и рассыплется. Вы еще не забыли о человеке с повисшими руками под гудящей реей? Почему ему, обитающему внутри чуда, необходимо было прочесть послание? Послание — он знал это, и знание его было осязаемым и тяжелым, как сверкающий халцедон, — которое не содержит ровным счетом ничего?
Сказать нечего; ибо слова — это отмычки, каждая из которых открывает все, то есть ничего по отдельности; изображать нечего, ибо образ, пробравшийся хотя бы даже только на поверхность, — это уже сам по себе отменный взломщик; бессильны чары могущественных волшебников, когда они пытаются извлечь из вещей признание в их вещности (а после его поймать); ведь уловить его может только тот, кто сумел отречься от себя самого. (Но на что тогда ему познание?) Почему ему нужно было познать то, от чего он ничего не ждал?
Взгляните теперь на него перед распятым листком. Взгляните на сам распятый листок. Я один, один на том рубеже, где «есть» и «нет» встречаются. И я вижу еще много дальше: там, где «есть», я вижу остров, не заселенный пока ни единой мечтой, это шахта для добычи любых мечтаний, шахта для добычи радуги, которая множит сама себя, проплывая на холодном сне «вовсе нет», подобно мальстрему, со свистом низвергающемуся в пропасть и всасываемому остатком побежденного им бодрствования. Мы спускаемся в сон. На склоне ко сну никто — ни ты, ни ты, ни он — не отрицает противоречия, что уже нет того, что еще есть, и что уже есть то, чего еще нет. На склоне ко сну мы все соглашаемся — ты, ты и он, — что вещи, которые бы только могли быть, реальнее тех, которые кичатся своей реальностью, но даже то, что лишь возможно, не всегда в силах устоять перед белым сиянием абсурдного, что свет и тьма — это не просто величины, но враждебные миры различных сущностей, и все же они чудесным образом взаимозаменяемы: ты закрыл глаза; потом снова открыл. Ты не можешь быть и тем, и этим; вас двое.
И на этом склоне ко сну никого не изумляет распятый листок, который есть и которого нет. Он переменчивый и несуществующий в природе; но ржавые скобы, выдавшие его тебе, это вовсе не образ, вовсе не аллегория! Нет, белый листок, который он осязает, который слышит и, наверное, видит, но который для него все же прозрачнее воздуха, немее эфира и мнимее, чем поверхность идеальных тел, продырявлен грубыми скобами из мира сего.
Но взгляните на его восторг! Неужели и человек, обитающий уже внутри чуда и ныне осторожно вступающий на наклонную плоскость неведомой земли, наверняка зная всем своим существом, что она явлена ему как удивительная ипостась того, что он называл «время, прожитое мною», неужели и такой человек еще алчет познания (о, вовсе не познания причин, но того, что может быть одновременно одеянием, одеваемым и одевающим) и поет ему хвалу? Абсурд!
Йод и соль, волны, словно жертвенные барашки, остриженные перед жертвоприношением, сломанная мачта, и со стоном гудящая рея; и эти до небес вздымающиеся лазурные горы на горизонте — при этом они так далеки, что кажутся не выше цепи коралловых островов, а над ними — колечки облаков, голубицы и много солнц — какое предчувствие ошеломляющей свободы, чьей хартией был листок посреди урагана, этот то ли свиток, то ли клочок, то ли сгустившаяся молния. Хартией свободы. Вот почему человек с повисшими руками и склоненной головой должен был, хотя бы там ничего и не оказалось, все же прочесть его. Он обратил взгляд к распятому, чтобы убедиться, вправду ли можно назвать свободой то, что видно через окна заколдованного замка, где была заключена его зависимость, и прочитал — не читая, увидел — не видя, услышал — не слыша: соглашаться и отказываться. — Да и нет едины.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Теперь он не здесь. Но это такое «не здесь», какое себе могла бы (если могла бы) представить линия, говоря о пространстве. Море поглотило и переваривает. Снова беспредельность, но обузданная. Многие солнца собрались в одно, как камешки в стереоскопе. Нет больше застывших парящих голубиц, есть лишь чайки, летающие низко и испуганно. Зачем было думать о блаженных, мучениках и их палачах? Над сомкнувшимся морем — вновь лишь неведомые континенты, а на них люди, обделенные волей. Они хотели знать.
Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Он не здесь. «Не здесь», перед которым наше воображение испаряется, подобно воображению линии перед пространством. Можно, пожалуй, сказать — не завидуйте! — что он сошел туда, где все вопросы парализованы, ибо парализована воля к познанию. Способность судить покинула его; мы сказали бы, что он был освобожден; он сошел (или вознесся? но что это за вопрос!), сошел куда-то, где не только все возможно, но где его ничто не изумляет. Он настолько свободен, что грезит. Он еще свободнее: он, подобно тем завоевателям, что слились с покоренными, покорил свои грезы; подчинился им так же послушно, как живые и бодрствующие, разучившиеся мыслить самостоятельно, подчиняются изученному, которое не более чем категорический императив мысли, императив миража. Вовсе нет! Он еще намного свободнее. Ибо он не может иначе, он одновременно соглашается и отказывается. Все, что он видит, слышит, осязает, думает, становится им; буквально им. — Так сдайтесь же, бодрствующие! Не грезам — вы, конечно, хотели бы этого! — не грезам, которые вас избегают, но их немым неласковым объятиям, что обхватили ваш день и толкают его в будущий сон. Кокон, в котором ночь играет в мертвеца. Но в куколке, помещающейся на ладони, зреет непомерный империализм крыльев. Есть ли доказательство более убедительное, что ваши грезы — это вы сами?
Самая первая «мысль» уходящих — это видение. Видение, потому-то сон — брат смерти. (Так говорит словарь нашей скорби. И наоборот: «Свобода снов равна свободе смерти».)
Вот ведь отвратительный лиризм живого писателя, заплутавшего на границе, откуда он смотрит в обе стороны и, смотря в обе стороны, увлекается вместо того, чтобы распоряжаться. Забыть об утопающем! Думать о чертежных кнопках, то есть помнить о чертежных кнопках! До сих пор распоряжаться не было моим ремеслом. Уж не помню, кто именно отказался выдать мне диплом надсмотрщика. Но хотя мои мысли и были заняты чертежными кнопками, о Наполеоне я еще не забыл. Даже перед лицом Святой инквизиции я все-таки сумею с кривой улыбкой, открывающей мои редкие зубы — зубы лжеца, и водрузив на голову шутовскую митру (это из спортивного честолюбия, чтобы меня не приняли всерьез), сказать: рай был; и первородный грех тоже; и из-за первородного греха мы были из рая изгнаны. Рай был; и раем был край «всего возможного», то есть край, где все не только возможно, но даже и не изумляет. Пожалуйста, пока еще не убегайте. Я не исключаю, что позже вы от своего согласия отречетесь. Мне было бы вас жаль; это бы доказало вашу несостоятельность. Не более. Еще по паре коктейлей, и мы пришли бы к согласию. Пара коктейлей — это немного, но я исхожу из некоего минимума в кошельке. Я, понятно, предвижу остроумные шутки, под которые себя великодушно подставил. Но мне, знающему, на что способна пара коктейлей, мало дела до шуток. Способна она на многое; она снимает с ангелов их излишнюю скромность и стыд, а со свиноторговцев — костюм от дорогого портного, в котором они притворяются джентльменами.
В любом случае я надеюсь, что желающие оценят по заслугам тот факт, что я потратил на демонстрацию своей мысли не очень много их драгоценного времени. Аподиктическая резкость — которая некоторым, возможно, покажется наглостью, ибо уж слишком резво перескочил я от утверждения к выводу, минуя доказательство, — кажется мне скорее симпатичной. Время дорого, и элементарная вежливость требует признать, что Ветхий Завет знают все.
— Итак, человек был изгнан из рая потому, что съел плод с древа Познания. Кстати: каждый из нас отлично осведомлен о том, что он получил, когда не послушался райского лесничего: то самое пресловутое похищенное познание, которым мы до сих пор иногда хвастаемся, это не Познание, но некий выбракованный товар, предназначенный цивилизованными на экспорт нецивилизованным (называют его по-всякому, но чаще — цивилизацией), а именно — способность судить. (Если среди читателей есть те, кто со мной не согласен, пусть не утомляют себя поднятием руки. Скоро вы увидите, что это излишне.)
Способность судить: это означает примитивную алгебраическую операцию, обесцененную к тому же еще и тем, что нищая, но честная цифра заменяется не менее неимущей, но надутой буквой. А плюс В равно С пыжится так, словно гораздо лучше, чем два и два, которые равны четырем. Однако Бог, похоже, обидчив. Этой убогой Адамовой кражи ему хватило, чтобы запретить рай нам всем. Не исключая даже тех, кто дует в трубы мощнее иерихонских (правда, теперь их, к сожалению, делают из железобетона); короче говоря, Адам был всего лишь старейшиной-паралитиком, позволившим себя одурачить. — Изгнаны из рая с нищенской сумой, где вместо корки хлеба — способность судить. Вот он — ценный плод с древа Познания. Мы изгнаны из рая за то, что осмелились взирать на свет сквозь алгебраическое уравнение, то есть примерно так, как если бы мы воспользовались моноклем из эбенового дерева, а другой глаз зажмурили, как это случается со всяким, кому недостало монокля: это только вопрос экипировки. Мы изгнаны из рая потому, что разделили «что на ум пошло» на «что на ум не пошло», а потому якобы вовсе не существует.
Попробуйте только разъединить зубчатые колеса возможного и невозможного, попробуйте, если, конечно, не лишитесь при этом руки! Так чем же был рай, откуда нас изгнали за то, что мы съели плод с древа Познания (qu’il dit[18]!)? Чем иным, если не краем, где суждение бесполезно? Где бесполезны суждения? Где все за пределами суждения, то есть подлинно и фатально возможно. Изгнаны из рая. То есть изгнаны оттуда, где лишь одно бы изумляло, если бы этому можно было изумляться: само изумление.
Мой Боже! — опять это слово! — так кто же и когда тебя выслушает? Еще мгновение назад мне казалось, что я готов приютить тебя. Я считал, что мне хватит сил утешить тебя в твоем горе отверженности. Но есть некто, кто сильнее нас обоих. Кто это? Как его отыскать? Было столько места, столько места, Боже мой! Кто, кто перегородил его словами и вопросами, причем именно тогда, когда ты уже готовился войти? Словами и вопросами, как стеной. Вот так-то. А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? И знаешь ли, точно ли знаешь, что он не окажется внутри тебя кукушкой в чужом гнезде?
Раньше было столько места! Между безмолвием, простирающимся от начала к концу (это просто выражение такое, потому что никакого конца не существовало), и моим однообразным всеведением, пренебрегающим красками и формами, мыслями и пустотой после них, согласием и отрицанием, вопросу негде было укрыться. Разве что иногда время сгущалось в пространство, подозрение, что я есть, уверенность, что я меньше того, чем буду, когда исчезну, непознаваемая моя скорбь — в некое обещание веселья еще более мрачного, и это было все, и этого хватало. Не ты был причиной этого, Боже мой, ибо ты разорен и ждешь, что я вступлюсь за тебя. Кто же из твоих союзников сделал так, что часы казались мне короче секунд, что я стремился к горечи так же жадно, как пчелы к сладкой пыльце, что большие, огромные звезды слетались в мои ладони — такие маленькие и такие умоляющие, — и места для них там было предостаточно, что мне не хотелось освобождаться от моих вялых и сковывающих чар, в которых, однако, твои пустые и бесцельные мысли занимали места не больше, чем ничтожная пылинка. Кто сделал это? Не ты, ибо ты просишь о милости, — но точно ли это был тот, кто внезапно перевернул все во мне, не оставив для тебя даже крохотного местечка? Мой Боже, кто и когда выслушает тебя? Еще минуту назад мне казалось, что я буду надежным приютом для тебя, а теперь, теперь, из-за того, что кто-то во мне спросил: А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? — из меня был изгнан я сам, и я не знаю, где преклонить голову. Кто это был? Я же не сделал ничего плохого.
Не знаю, зачтется ли мне это, но я все же подчеркну здесь особо, что для того или иного события совершенно безразлично, ведает ли наш разум, как с ним быть; или, как сейчас принято выражаться (не можем мы без того, чтобы не произнести последнее слово, и нас не волнует, что это последнее слово наверняка уйдет в никуда), согласится или нет наш интеллект вобрать его. Инстинкт «познания» — один из атрибутов человеческого несовершенства. Дар непосредственного отождествления себя со всем «что существует и происходит», привилегия бесконечного слияния не только лишь субъекта с объектом, но также и взаимного слияния объектов (я осознаю, насколько грубыми инструментами для выражения этих отношений являются слова «объект» и «субъект» и вообще все слова; они — мародеры мысли; а само слово «мысль» есть самое грубое из всех) предоставлена не согрешившим, определение которых непосредственно следует из определения согрешивших, — смотри выше. Вероятно, число категорий этих не согрешивших безгранично. Кто виноват, что нам было позволено распознать лишь три из них: царство минералов, растений и так называемых бессловесных тварей? Границы между данными категориями проложены так, что ничего глупее не придумаешь; но я уже говорил: мы — пленники словаря; словаря общепринятых концепций, мы осознаем его невероятную отрывочность и приблизительность, но в нищете своей солидарны, в нищете своей равны: не имея иного средства, чтобы договориться, мы договариваемся, пользуясь им… и расходимся все дальше и дальше. Трагедия человеческая в том и состоит, что эта чудовищно возрастающая отчужденность является единственной мерой, которой мы можем измерить стремление друг к другу. Есть много категорий не согрешивших, не имеющих даже представления о существовании непроницаемой стены между я и не я, — и взгляните, сколь извращен человек, который полагает эту стену чем-то естественным; ибо лишь в этом случае было бы Познание, то есть слом этой стены, благом, человек же выдает мнимое свое Познание за действительное благо, — но мы из безграничного числа этих категорий знаем лишь три. Если же нужно дать определение peche mignon[19] человека, то из всего до сих пор написанного следует, что в иерархии с учетом Познания человек стоит ниже всех: именно потому, что он судит, или, вернее, потому что не может не судить. Взглянув на суть дела под таким углом, мы поймем, что высказывания вроде: теория верна, ложна, гипотеза правдоподобна, менее правдоподобна или неправдоподобна, совершенно бессмысленны. Среди внушающих доверие лжепознаний (вербальное умение внушать доверие вообще характерно для лжепознания; и нет сомнения, что древо, плод которого съел Адам, было древом лжепознания, ибо кто и как смог бы изгнать его из рая, съешь он плод с истинного древа Познания?) нет ни одного, которое хотя бы приподняло железный занавес. Так имеет ли значение их относительная правдоподобность — на каждом шагу спотыкаешься о громоздкие валуны языка! — я о том, что их готовы воспринять умы, конформистские настолько, что они спасут тонущего в беспредельном ничуть не успешнее, чем нижняя волна помогла бы тонущему в море.
Остается лишь одна мера для оценки успехов того, кому удается уловить, конечно, не реальность вещей (ибо, постигнув реальность явлений, мы бы их уже воспринимали не как явления, то есть как нечто вне себя, но как себя самих), но простую проекцию их значения, и мера эта — удобство: наиболее адекватное «познание» то, что меня больше устраивает; иначе говоря, чья амплитуда ближе всего к амплитуде моего духовного голода. Я не говорю, что оно дает наибольшую уверенность и удовольствие, ибо ощущения «уверенности» и «удовольствия» никак не сочетаются с «познанием». Познание может быть самоубийственным, то есть сопряженным с глубокой неуверенностью и совершенным отчаянием. И если я пишу, что изгнание из рая означало, что край, где все не только возможно, но и не изумляет, оказался запертым на замок; если говорю, что мы вкусили с древа Познания… вернее сказать, лжепознания… а следовательно, были прокляты и обречены на неотвратимый суд, на различение тех вещей, которые на ум пошли, и тех, которые на ум не пошли; если добавляю, что рай был и первородный грех тоже был, то у меня нет ни малейшего желания строить из себя прозелита. Я придерживаюсь мнения, что лучший способ опустошить себя — это поддаться желанию убеждать. Пишу я это потому, что такое объяснение человеческой несвободы (не социальной, конечно, не в ней дело, но метафизической, которая в конечном счете все и определяет) меня больше устраивает.
Вы думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые скажут: рай был не состоянием тотального познания или, как вы неуклюже выразились, краем всего возможного и ничего изумляющего, но состоянием невинности?! Думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые обрушатся на меня: «Разве можно толковать Древо познания как древо познания рационалистического?!» Что я позабыл о тех, кто осмеет меня: «Как это, суд — алгебраическое уравнение?!» Кто набросится: «Инстинкт познания — это инстинкт принадлежности Богу, то есть абсолютная уверенность в том, что мы ближе к Нему, чем те, у кого такого инстинкта нет?!» Кто прогремит (прогремит!): «Что это за растерянность Иуды, с какой вы отождествляете операции, соответствующие логическому канону, а именно дедукцию и индукцию, с познанием, то есть овладением как таковым?!»
Я уже сказал, а если не сказал прежде, то говорю теперь, что (и по какой причине) ответить им значило бы проявить ненужное великодушие. (Там сзади кто-то поднимает руку — я, мол, якобы не объяснил причину. Но разве я не говорил о тщетности слов?! Не говорил о невозможности взаимопонимания?! О том, что слова не важны, что дело вовсе не в них, а в тех людях, кто ими пользуется; так же все обстоит и с психологией [смотри «Братьев Карамазовых»], с помощью которой можно доказать что угодно, ибо там тоже важно лишь то, кто к ней прибегает?!) Тем не менее: лишь из злого упрямства — если не из-за ограниченности — можно отказаться признать, что и мой рай, и даже прежде всего мой рай, тоже являет собой состояние невинности, хотя это и не было высказано напрямую! Как я, впрочем, уже показал, райское древо Познания наверняка было древом лжепознания, но если бы кто-нибудь сказал, что это противоречие — говорить о рае и одновременно позволять расти там древу лжепознания, то я бы ответил, что такое же противоречие — описывать первого человека как человека, рая достойного, и этого же человека изгонять оттуда, но оба противоречия лишь кажущиеся, поскольку человек в раю является человеком совершенно свободным; если же он лишился рая, то это означает попросту, что он его никогда не имел; следовательно, он проклят с самого своего начала; то есть он сам есть проклятие.
Я отворачиваюсь от тех, кто, подобно хитрым и злорадным школьникам, подлавливает меня на растерянности, на алогизмах, на пробелах. (Я тоже раб цепного, то есть последовательного, мудрствования и его побочного отпрыска, речи. Пусть себе собирают потерянные звенья мыслей, мне нет дела до гуронских воплей, с какими кидаются они на неточность моего словаря! Бог с ними, говорю я, зная, что Его с ними не будет.)
Я поворачиваюсь лицом к тем, кто, как и я, тысячу раз за день протягивает руку в уверенности, что поймал рыбку-тень, а разглядев ее, осознает вновь и вновь, что это был всего лишь мерзкий головастик, и свет проходит сквозь него, не давая тени. Лицом к тем, кто, будучи таким же нищим, как все остальные, кажется оборваннее других из-за поразительного контраста: в его нищенском одеянии застрял осколок бриллианта былого величия. Они поймут, что самое адекватное познание то, что больше всего нам подходит.
(Прочтите выше, что именно я здесь имею в виду. Я же только добавлю, что пишу все это с дальним умыслом обогатить свою поэтику, а также с целью гораздо более близкой, заключающейся в том, чтобы облагородить глагол «нравиться», с которым до сих пор так плохо обращались, что он предпочел отказаться от приличествующих ему прерогатив и выпросил себе место поваренка. Я намеренно использую этот глагол повсюду, где только можно ожидать, что швейцары, то есть стражи чешского языка, захлопнут перед его носом ворота. Я был бы счастлив и вознагражден сполна, если бы мне удалось устроить для этих убийц-рутинеров подобное представление и со множеством других слов. Ведь на страже языка стоят или толстокожие ретрограды, торгующие ископаемой (то есть традиционной) речью, или маляры, обходящие со своими трафаретами дом за домом. Между Сциллой традиции и Харибдой просторечия свободным людям, не желающим погрязнуть в стилистическом хамстве, остается лишь намеренно прибегать к солецизмам.)
Поскольку наиболее адекватным является познание, чья амплитуда более всего устраивает амплитуду моего духовного голода, нет необходимости долго обосновывать, почему познание не тождественно уверенности. Есть такие, кому нужна опора столь же прочная, как ствол старого хлебного дерева; а есть иные, те, кто решается ступить на мост, сплетенный из паутины. Один не отважится преодолеть стену до тех пор, пока на ней не нарисуют фальшивые ворота; а другой прыгнет через нее лишь после того, как она ощетинится калеными мечами. Твоя ностальгия по Богу удовлетворяется тиканьем часов, а я почувствую себя приближенным к Нему лишь когда распластаюсь под рухнувшей на меня скалой. Так разве можно сомневаться в нашей слепоте, если даже двое из нас видят по-разному?!
Отношения писателя и читателя основаны, как правило, на том, что второй считает первого лицемером, если не лжецом, а первый, в свою очередь, держит второго за Фому неверующего. Отсюда их взаимное фатальное непонимание. Отсюда и нечто худшее: читатель, стремясь обмануть свое неверие, становится тугоухим; и тогда уж писатель может врать вовсю, ибо знает, что бесстыднейшую ложь легче всего подсунуть под видом правды. Я не поддаюсь иллюзиям; не внушаю себе, что читатель отнесется ко мне иначе, чем к другим. Я лгу и кривляюсь не меньше прочих… вот что думает он обо мне. Но читатель не должен забывать, что мне нет дела до его мыслей. И не потому, что я как-то особенно пренебрегаю читателем, но потому, что самое важное — это нагота вещей, а мысль (то есть суждение, то есть то, что кто-то о чем-то думает) — это есть само равнодушие. И если я говорю, что в этих абзацах каждое слово искренне, то не для того, чтобы добиться расположения, и не потому, что это правда. Говорю я это искренне, хотя меня самого подобная искренность раздражает и смешит. Но чего стоят эти лучшие устремления, направленные на собственную дискредитацию, в сравнении с весом осязаемых доказательств (могу я так выразиться?). Если я кое-что и отретушировал, то лишь затем, чтобы причесать фразы. Ни для чего другого. И лучшее тому доказательство — легкость, с какой читатель сможет вцепиться мне в волосы, если захочет потратить хоть немного сил на противоборство — страшно сказать! — мыслей… но все же я непринужденно произношу это слово, хотя оно тоже употребляется людьми и, следовательно, от него ничего не зависит. Спешу добавить, что эта абсолютная искренность вовсе не связана с избытком добродетели. (Впрочем, это я уже отмечал.) Просто я стремлюсь к тому, чтобы толкование моей поэтики было этой самой поэтике пропорционально. Вот только я сомневаюсь — а успел ли мой читатель догадаться, что все вышеизложенное представляет собой лишь постепенное сосредоточение войск перед штурмом ключевой крепости, того единственно верного ключа к жизни, каковым является поэтика? Если до сих пор не успел, то я ему это сообщаю. Однако что рассказать читателю о крепости, которую я завоевываю для него, а вовсе не для себя, ибо я являюсь ею, но не нахожусь в ней? Лишь то, что основа этой поэтики, да собственно и она сама, — это «согласие и отрицание» (смотри выше), а потому и я стремлюсь соглашаться или отрицать, то есть полагаться только на те знания, которые меня больше устраивают, или же быть болезненно искренним. Вот одна причина моей абсолютной искренности; другая же — это мысль о том, как я повеселюсь, если у решивших, что ухватили меня за волосы, в руках останется лишь парик.
Вооружившись подобным образом, я с легкостью пишу следующее: если человек лишился рая, то он в нем никогда не был. Если он в нем никогда не был, то изначально проклят. Если он изначально проклят, то сам он и есть проклятие. Все это истинно, пока я нахожусь на четных ступенях; если же я перейду или переползу на нечетные, то оно станет гораздо менее истинным. Предупреждаю: я осознаю, какая это философская и даже метафизическая ересь — написать, будто это истинно, а то истинно гораздо менее.
Общество на такие взгляды (да-да, вопреки всему: взгляды!) обижается. Пламенно защищает истину и — сгорает дотла. Какой там скептицизм, какой релятивизм! Общество зубами держится за абсолютную истину. Оно уже со школы знает, что «два и два — четыре» и что «два и два — четыре» — это истина. (Если бы я вздумал поучить его уму-разуму, то сказал бы, что речь здесь идет вовсе не об истине, но лишь об истинной мысли, однако мои розги куда-то запропастились.) Еще общество уверено, что «два и два — пять» — это не чуть меньшая истина, а просто вообще не истина. Что ж, ладно! А я ему отвечу, что вот уже тридцать две страницы кряду стою на одной ноге на катящемся шаре и пытаюсь сохранить равновесие; шар же этот вдобавок парит в безвоздушном пространстве (с таким же успехом я мог бы сказать — в сверхчеловеческих сферах, но, пожалуй, не буду, ведь всем нам доводилось сталкиваться с людьми, которые, едва услышав слово сверхчеловеческий, сразу принимаются упрекать нас в самонадеянности, словно не догадываясь, что, во-первых, сверхчеловеческий — это синоним внечеловеческого, то есть нечеловеческого, а во-вторых, что человеческое честолюбие просто физически не может тешить себя вне человеческого), так вот, этот шар парит в безвоздушном пространстве, то есть в сверхчеловеческом, что у меня уже болят ноги и что я мечтаю ступить на твердую почву и отдохнуть. Впрочем, я пишу всего лишь поэтику. Если я говорю, что на четных ступеньках абсолютное проклятие человека — это истина, а на нечетных — истина чуть меньшая, то в первом случае я совершенно определенно имею в виду весь человеческий род, а во втором — его разновидности.
Род — это проклятие, спросите у сыча или ласточки, актинии или примулы, кремния или гранита… но вот с разновидностями дело обстоит иначе! Точно ли произвол с моей стороны полагать, будто среди человеческих разновидностей есть более и есть менее проклятые? Я позволяю себе, и позволяю очень вежливо, указать на то, что уже выше, не предполагая, в какое узкое место я попаду, — то есть вовсе не pour le besoin de la cause[20] — я, говоря о несогрешивших, разделил их на три видимые категории (без учета невидимых), а именно: минералы, растения и так называемые бессловесные твари. Несогрешившие, утверждал я, это те, на кого снизошла Милость. Возьмитесь-ка покрепче за последнее слово, ибо это качели, на которых, если Бог даст, мы поднимемся высоко-высоко. Милость! Каждый знает, что она не пропорциональна добродетели; каждый знает, что хоть в ней и отказано тем, кто к добродетели не стремится, это совсем не удел всех, кто к добродетели стремится, пускай даже они и упорны в своем стремлении. Мы не знаем, чем руководствуется Милость, делая выбор. Склоните голову, вы, и ты, и ты — вы все, живущие! Вот ты, бледный, в лохмотьях, с глазами эпилептика, ты, пепельно-серый, чьи пальцы впились в грудь, где бьется сердце, ты, ползущий к своему последнему приюту, вечному приюту, ползущий отвратительно, как пяденица: ты кровоточил сотней ран, бредил о слепящем свете, исходящем от Бога, вглядывался в Него с тех самых пор, как в тебе проснулся разум, не зная иного наслаждения и иных радостей — о! — смотри же! А ты, пригожий, что не чуждался чувств, красок, запахов, ласк, ты, который, даже думая о Нем, не стыдился наряжать и украшать себя, — ты, краса земли, в ожидании истины открытая радостям и радостному, ты, пригожий, чей взгляд сияет, словно созвездие бойких огоньков, ты, верный, но не забывающий и себя, вступаешь на небеса прямой, как свеча, с запрокинутой в восхищении головой, с развевающимися волосами, и, хотя ты уже ослеплен тьмой, ты все еще улыбаешься встречным влюбленным птицам, и с твоих полуоткрытых губ слетают слова то ли гимна, то ли псалма! Милость на бессловесных тварях, милость на растениях, милость на минералах, милость на несогрешивших.
Но кто же не знает — благодаря яркому молниеносному озарению, иногда посещающему нас, причем не в виде воспоминания о потерянном рае, отнюдь нет… это озарение скорее сравнимо с удочкой, которую в тщетной надежде закидывает наше отчаяние, — так кто не знает, что сон-жизнь собаки, несмотря ни на что, не является столь же блестяще-безоговорочной капитуляцией, как сон-жизнь скалы?! Милость распределена по степеням, да. В космическом параллелизме распределено по степеням и Проклятие. — Вы ухватили меня за волосы? Парик! Если я пишу: род человека — проклятие, но есть менее и более проклятые разновидности, то это значит, что я решился спуститься на землю, к вам, обезьяны, братья мои; но коли вы думаете, что я готов присоединиться к вашей верноподданнической пляске святого Витта, то заблуждаетесь, заблуждаетесь! Я падаю, потому что изнемог. Но падаю прямо, как дерево, и раскалываюсь на две отчаявшиеся половины. Которые отыщут друг друга. Ибо если Милость — вне шкалы добродетели, то Проклятие (согласно законам космического параллелизма) — вне шкалы грехов. Я проклят не потому, что согрешил без меры, но проклят просто потому, что проклят. Я пал, и меня переехала колесница смерти.
А не предоставите ли вы мне минуту передышки? Совсем коротенькую! Трехмерное мышление утомляет меня. Я не пытаюсь казаться лучше, чем я есть; и если я говорю, что влеку свою относительную вечность в краю, где даже для самого медленного средства передвижения 120 км в час — это мало (а еще, точности ради, замечу, что ездят они по направлениям, которых в кубе нет), то не думайте, пожалуйста, что я вознесся выше других. Нет для меня мысли более недоступной, чем научиться летать и уж тем более возноситься. Обезьяны, братья мои, какими бы ни были средства передвижения, скорость или направление, вы, согрешившие, вы, проклятые, я — один из вас, я ползаю, ползаю отвратительно, как пяденица.
Так не предоставите ли вы мне минуту передышки? Ведь я заметил нечто, чего, возможно, вы — совершенно случайно — не заметили! Это был ангел. Ангел! Тем не менее элементарная честность вынуждает меня признаться, что я в этом не уверен. Возможно, данное создание с плоским лицом и обвислыми, как у суслика, щеками только выдавало себя за ангела. Подумать только! Это плоское лицо, эти слезящиеся глаза, этот его горб — такой жирный, такой заметный, — он говорил, что внутри горба скрываются его крылья. Его якобы радужные крылья, расправив которые, он взлетает. Ангел с плоским лицом, сусличьими щеками и вдобавок горбатый. Да возможно ли такое? Или это всего лишь подобие правды? Услышь меня, Иисус Христос, услышь меня, прежде чем умереть! Я шепчу тебе на ухо — я откровенен с тобой, — и чтобы никто другой не подслушал меня. Ты и я — нет! нет! мы с тобой не ровня и настолько далеки друг от друга, что не можем взаимно не притягиваться… так вот, этот уродливый калека, выдававший себя за ангела, этот лицемер, этот обманщик; послушай же, шепчу я тебе на ухо, тебе единственному: я увидел его ночью, когда все уже спали. Звезды слетались к нему на ладони, хоть он и не призывал их, и он забавлялся, играя ими, как камешками.
Нездешняя краса безобразного урода сотрясала Геркулесовы столбы так, что ты вынужден был сказать: «Он взял на себя все, и, хотя он до смерти опечален, ему легко». Ты вынужден был сказать: «Ангел!»
Шоссе. Оно, конечно, ведет откуда-то куда-то. Но мы на чужбине, может, на Луне, может, в Латвии, может, в родном краю, но все равно на чужбине, куда перенесла нас черная-пречерная ночь, которая ныне, на рассвете, скорее вспоминается, чем существует на самом деле. Мне кажется, что всякий человек достоин спасения, а потому не способен перекрыть дорогу к нему собственным телом, не способен распродать за бесценок оставшиеся у него капли чуда, не способен — и это поймет каждый, ибо демократический жаргон является единственно подходящим для нас способом изъясняться, — не способен поступиться своей свободой. (Понятно, что речь идет не о свободе печати или свободе собраний, но слово «свобода» мы употребляем здесь для простоты, невзирая на то, что в обыденной жизни это всего лишь грубая сума для сбора всеобщей подлости и трусости.) Я уверен, что каждый из вас настолько достоин спасения, что не способен считать страну, в которую он попал таким образом, которая была ему явлена таким образом и таким образом вспоминается, чем-то иным, кроме как страной совершенно чужой и совершенно чудесной, и потому, если он увидит в ней шоссе, ему не захочется спрашивать, откуда оно ведет и куда.
Итак, шоссе. Вдали возвышенность. А на ней — вы. (В некое утро; в лучах некоего жаркого и лукавого солнца; вспоминая нечто.) Тут на горизонте показалось облако пыли. Оно приближается, густеет и растет. Вот оно проносится мимо вас — такое немое (ибо вы от него далеко) и такое беременное… точно туманность, которая, взрываясь, рождает звезды. И вот оно уже скрылось, его больше нет, осталось только воспоминание, но воспоминание об облаке куда навязчивее самого облака.
Однако там, где оно появилось, теперь возникло другое облако. Чуть-чуть меньшее. Чуть-чуть менее ужасное, но зато более быстрое. Оно приближается, густеет и растет. Проносится мимо вас. Немое (ибо вы от него далеко). Только первое облако умело держать язык за зубами, а это нет. Вот оно! То ли пыльная туча, то ли двадцатисильный гоночный автомобиль… Вот он уже далеко. Исчез.
Ладно! Тайна первого облака никак нас не отпускает. То есть она не отпускала бы вас, если бы вы были несогрешившими, например кучкой щебня. Будь вы кучкой щебня, непреложной тайной оказалось бы для вас абсолютно все; непреложной и в то же время, если так можно выразиться, тайной естественной, то есть такой, чей первый и последний смысл — быть тайной, а не как для нас, считающих тайну тем, чем щелкунчик считает орех: то есть тем, чей первый и последний смысл — быть раскушенным. А теперь предположим, что вы не несогрешившая кучка щебня, а проклятие, но проклятие немного меньшее (смотри выше), чем то, каковым являетесь вы, будучи цивилизованными белыми европейцами (американцами или китайцами). Что вы, допустим, бушмены. Вы спрашивали бы «что это?», спрашивали так, как спрашиваете и сейчас, но спрашивали бы смиренно, без малейшей тени надежды на ответ. Этот вопрос лишь пополнил бы вашу сокровищницу, где хранятся прежние вопросы, как и этот, не дождавшиеся ответа, такие же брошенные, такие же отступившие, вопросы, чей смысл быть вопросами и ничем иным, вопросами-ступеньками, по которым поднимаются туда, где вопрос и ответ — два тщетных слова, обозначающих единственную существенную вещь, то есть жизнь-сон несогрешивших.
Однако вы белые европейцы. Вас тайна отпустила. Вы знаете, как оперировать аналогиями. Уже века и тысячелетия назад вы попали в силки к ростовщику, предложившему вам эту обвальную сделку под видом замечательной империалистической «аферы». Второе облако было вовсе не облаком, но пылью, поднятой двадцатисильным гоночным автомобилем; следовательно, по аналогии, не облаком было и первое, несколько большее облако, которое было пылью, поднятой гоночным автомобилем с чуть более мощным двигателем.
Нет, вы ошибаетесь. Позвольте, я вам объясню. Первое облако было табуном апокалиптических коней. И если отыщется кто-нибудь, кто решится сказать, что я лгу, то пусть он выйдет вперед.
Ужасно, конечно, что я вынужден, точно школярам, растолковывать вам столь элементарные вещи, хотя подошло уже время переодеваться к адскому пиру, на который любезно пригласили нас и других ангелов и который вот-вот начнется.
Но раз мы остановились на автомобилях и конях апокалипсиса, раз нашли такое плодотворное сопоставление, так давайте разберемся с ним до конца. Оно и в самом деле изумительно и уже сослужило нам службу — и еще какую! — когда явилось доказательством того, насколько бессмысленно судить, полагаясь на аналогии. Попробуем подойти к этому же, но другими путями.
Мы видели два облака. Одно было «собственно» автомобилем. «Значит, — говорим мы, — второе — тоже автомобиль». Человеческая речь просто кишит такими абсурдными утверждениями: одинаковые причины, одинаковые следствия (ну и, наоборот, конечно!) — Случилось после, значит, вследствие. — Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. — (Бедняга!) — С кем поведешься, от того и наберешься. — Каково начало, таков и конец. — Мудрость народов — пословицы ослов.
Белый ходит прямо, негр тоже; следовательно… — Если вырвать у белого сердце, а потом приблизить горящую свечу к его ступне, он не взвоет, не дернется; негр тоже, следовательно… — Белый умеет говорить, негр тоже… Ряд таких «следовательно», и вывод ослепительно ясен: оба по сути одинаковы.
Впрочем — тоже на основании аналогии, хотя и иного рода, — мы вместе с господином Гарви, а он негр, но американский, склонны утверждать, что негры, хотя они и были совершенно ассимилированы западной цивилизацией, «в своем развитии находятся несколько позади», то есть, как говорит Гарви, «они словно европейцы XIV века».
Однако прежде чем мы двинемся дальше — моей поэтики на всех хватит, уверяю вас, хватит! — прежде чем представим изумленному читателю неопровержимые доказательства всего того, что утверждаем мы, начитанные, мы, документированные, но при этом не желающие занимать излишними доказательствами, то есть доказательствами аксиом, его драгоценное время, постоим еще минутку возле ангела, который нам так некстати попался на темной дороге и которого мы, чуть об него не споткнувшись, оставили в завшивленной ночи.
Так давайте же припомним, что этот горбун с плоским лицом сидел тут, когда все было погружено в сон (он сидел тут, ну да! на развалинах всего того, что, вытянувшись до небес, со временем естественным образом лишилось сил), сидел тут, играя звездами, как камешками, он не звал их, но они слетались в его ладони. Припомнили? Тогда вперед, перескакивая через трещины между мирами. Так вот, перед нами урод. Проанализируем его, начав с пальцев. Они первыми бросаются в глаза, ибо он играет в камешки. Движения пальцев какие-то нарочитые, самоуверенные; я бы даже сказал — неприятные. Каждое из этих веретен, тонкое, но не изящное, напоминает мне убедительную и доказанную мысль, заклиненную между двумя решительно настроенными суставами, которые вот уже дважды словно пытались пленить ее, дважды вырвавшуюся, вырвавшуюся броском, с каждым разом все более совершенным, пока она не добралась наконец до последнего звена, колеблющегося над пустотой и с подозрением ощупывающего ее своей чувствительной подушечкой. Нет, вы только посмотрите! На этих решительно очерченных суставах завелся чужеядный хрящ, мелкий студенистый изъян, и этого достаточно, чтобы совершенно прямой поток, вертикальный, как бросок ястреба (награда тому, кто найдет tertium comparationis[21]), скользнул в сторону и искривился; словно мысль, которая точно знает свою цель, но которая все же идет не туда, куда, если ей не хочется оказаться бесполезной, она должна была бы направиться.
А вот теперь, когда он пробормотал — почему пробормотал? — когда он бормочет, то он весь как будто шевелится, хотя ни один мускул его плоского лица не дрогнул, не затрепетал даже самый мелкий осиновый листочек, вы обратили внимание на его рот? Резкая и мощная линия губ — словно грубый фриз, который мог бы стать красивым, если бы скульптор, которого спугнула некая неведомая опасность, не сбежал и не бросил на произвол судьбы свое проклятое и прекрасное произведение. Эти мощные губы, этот грубо очерченный рот — еще один короткий, бездумный и злобный удар долотом, и он бы навеки обрел значительность, навеки стал или вездесущим смехом Гелиоса, или тщетной и милосердной улыбкой, с которой Шакьямуни погружается в бездонные раздумья, или зияющим темным кратером, откуда вырывается языками пламени бессилие Того, чья вездесущность раскалена добела. Всем одновременно! Всем против всего. И хватило секунды рассеянности, хватило того, чтобы один уголок рта опустился чуть ниже другого, хватило крохотного разрыва в линейном течении сознания, чтобы вышла эта отвратительная гримаса! А его глаза! То ли омут, полный жидких опалов, где поселился некий демон света, бежавший от справедливого гения тьмы; то ли куст, загоревшийся оттого, что там притаился Бог; то ли мельтешение огней, фейерверк темных катастроф, в которых никто не виноват, ибо их никто не предвидел: бешенство любви, предательство ненависти, ужасная засада беспредметной мести — сколь же велики были замыслы того, кто задумал эти глаза! Итак, их два; они одинаковы и одинаково совершенны; но едва заметное отклонение от оси — и вместо сверкающей тьмы, где должен был бы мерцать свет всеобщей совести, мы видим злобно-стыдливое признание в пороках.
Я не спрашиваю вас, что именно задумал тот, что именно задумало то, что создало эти пальцы, этот рот, эти глаза и эту трагически играющую мускулатуру, это отчаянно бесстрашное напряжение сухожилий, знающих, что напрасно ожидать случая для прыжка, их достойного, я не спрашиваю вас, чем это должно было быть. Мы знаем это и, зная это, знаем также, что есть вещи, существующие лишь до тех пор, пока у них нет имени. И достаточно творцу ненадолго забыться, на миг увлечься каким-нибудь захватывающим никчемным ярмарочным зрелищем, как вместо Бога на свет является горбатый уродец. Но над этим кошмаром высится мрачное величие грубо вытесанного, с нежными впадинами, лба, который словно создает идущую и вверх, и вниз ловко сооруженную плотину, отделяющую область самоотреченных раздумий от области ненасытной пылкости, а под этим безупречным лбом, свидетельствующим о разбитой вдребезги беспредельности, сидит ночной ангел и играет со звездами, которые, поскольку они всеведущи и их ничто не может обмануть, слетаются к нему.
Итак, о сегодняшних европейцах XIV века. Они отстали и не знают, кто они, собственно, такие. Может быть, крокодилы; может, бананы; может, прибрежные скалы, которые неуклюжая рука, а скорее время и непогода, превратили в идолы; может, голое, черное, прямо стоящее «нечто», чьи белки глаз наливаются кровью при взгляде на гладь омута, осколок зеркала или острие копья, отполированное частым метанием; это недоверчивое и пугливое, но не изумляющееся «нечто», которое, смотрясь в зеркало, изумилось бы не больше, чем оно изумилось бы, если бы вместо того, что оно видит, увидело бы крокодила, банан или прибрежную скалу. Однако я их переоцениваю (если не недооцениваю), говоря, что порой они не знают, кто они такие. Тот, кто, будучи то тем, то другим, знал бы об этом, должен был быть европейцем двадцатого века. Ибо европеец века четырнадцатого то тем, то другим так или иначе является. Но, видимо, я их все еще переоцениваю (если не недооцениваю), наверное, они не являются, наверное, им это только снится. И еще шаг (когда речь идет о точности и праве, никаких усилий не жалко)… может, это все-таки сон, но нет, ведь если сон так запечатлевается в памяти, то что же нам называть бодрствованием?.. И еще одна, последняя, попытка взмахнуть нашим бодрствующим бессилием, чтобы подобраться хотя бы к границе величественных представлений тех живущих, для которых сны — это иная ипостась бодрствования (если только бодрствование не являет собой сон, хотя и чуть менее надежный), неотъемлемое владение и достояние, передающееся по наследству: может, они видят сны не только за себя, но за все человечество, свое человечество, подавляющее большинство которого, как вы знаете, состоит из мертвых?!
Я приближаюсь к самым сложным, самым ответственным перевалам через пороги, за коими наконец смогу уверенно противостоять друзьям, которых мало, врагам, которых еще меньше, и пурпуру ухмылок, имя которым — легион и до которых мне нет дела. Пишу я все это главным образом для того, чтобы никто не думал, будто я выдаю себя за героя. Когда я окажусь за порогами, кто поднимется против меня?
К простейшим порогам философским, к более значимым — как бы это выразиться? — к более значимым порогам общественным. Они гораздо важнее. Что касается первых, то достаточно попросить благосклонного читателя, пусть даже из легиона пурпурных ухмылок, не забывать о том, как я недавно убеждал его, что милость не находится в прямой зависимости от заслуг (а с учетом космических аналогий это касается и проклятий) и что поэтому, даже и без особой нужды, а только ради диалектического удобства, можно ввести определенную, но вовсе не бесконечную шкалу милости (проклятия). Тем самым мы упростим представление об эволюции милости (проклятия), ибо, во-первых, учтем количество видов внутри одного и того же рода (смотри выше), а во-вторых, учтем продолжительность существования. Например: негр менее проклят, чем белый европеец; белый европеец XIV века был менее проклят, чем мы; американский негр снискал меньше милости, чем его родственник из девственных лесов Конго.
Что же касается ответственности общественной, то вот как я надеюсь избежать непонимания между благосклонным читателем — ты откуда? — и собою: я знаю, к кому обращаюсь; но еще лучше знаю, что я этого недостоин. Путешествуя по железной дороге, я езжу лишь в салон-вагоне; плывя на пароходе, занимаю каюту с пробковыми перегородками, ибо не выношу промискуитета. Собственно, пассажирскими пароходами я пользуюсь в исключительных случаях, у меня есть собственная яхта; гостиницы? я не настолько богат, чтобы снимать в отелях-дворцах целые этажи, но при этом чувствую себя неловко, если мне выставляют счет за день меньше, чем с тремя нулями (справа); говорить о своих требованиях к одежде не буду, находя это верхом безвкусицы; достаточно сказать, что они весьма значительны; рестораны я считаю допустимыми — но обыкновенно ем в своем номере-люкс — только в том случае, если их пол в три слоя покрывают ковры, если посуда там из тяжелого серебра, если официанты и метрдотели вышколены настолько, что подают еду, словно танцуя иератический танец, если музыка в зале колышется неопределенная, с мелодией, дышащей тем сложным ароматом, что заставляет всех посетителей — даже если они и не успели пока отведать аперитива — воображать себя прекрасными. И т. д., и т. п. Что об этой исповеди думает пурпурная ухмылка, мне совершенно все равно; те, кто меня ненавидит (их я сосчитал бы по пальцам искалеченной руки), те, кто был привязан ко мне (бывают руки, как однопалые копыта), знают, что говорю я не для того, чтобы хвастаться, но чтобы передать степень своей цивилизованной испорченности, свою неспособность вернуться к цивилизации примитивной, даже если мне посулят за это гипотетический посмертный рай. Я воспротивился бы повороту вспять и по иной причине, а именно: если столько всего накопилось на моей совести, то это оттого, что я, как говорится, человек чувствительный, меня легко растрогать, и я даже могу прослезиться. Есть ли на моих руках кровь — не знаю; но был момент, когда и леди Макбет сомневалась в себе; впрочем, кровь на них есть хотя бы потому, что часто, вместо того чтобы попросту убить, я в решительный момент отворачивался, крича: «Только не кровь, только не кровь!» Для чего я пишу все это? Единственно для того, чтобы объяснить, какой ужасной была бы для меня жизнь вне цивилизованного человечества, какой неприемлемой, какой невозможной! Ах, вы только представьте себе: оказывается, кое-где еще встречаются людоеды! Да что там людоеды! Есть дикари, поедающие печеных мертвецов (мертвецов, погибших естественной смертью): их размолотые кости смешиваются с финиковой мукой! Есть матери, которые топят своих детей только за то, что верхние зубки у них прорезались раньше нижних! (Замечу кстати, что и в тех краях у матерей, убивающих своих детей, разрывается сердце. Если же они все-таки подчиняются закону — а ребенок, чьи верхние зубки прорезались раньше нижних, приносит племени несчастье, — если они все-таки подчиняются неизбежному, хотя и «с [разорвавшимся] окаменевшим сердцем», то это не значит, что они, подобно Ниобе, не пытаются умолить богов или склонить колдунов прибегнуть к той или иной уловке, причем не всегда безуспешно [это доказывает, что они способны настойчиво защищать свое дитя], поскольку у бакве порой, пускай редко, позволяется вместо злополучного ребенка утопить какую-нибудь его частичку — отрезанные волосики, ноготки и пр., — завернутую в его пеленки…)
Жить среди людей, для которых «цена человеческой жизни» так низка, — Боже, какой ужас! Удастся ли мне убедить вас этим восклицанием, что я вовсе не один из тех, кто за столь туманные обещания готов пожертвовать своей шелковистой чувствительностью, своей просвещенной человечностью, а?! Что же касается вас, пурпурные ухмылки, то разве могу я решиться пренебречь вашими пустышками? Нет, нет! Но только не думайте, что я отвечу вам звоном бубенчиков. Я абсолютно серьезен. Я знаю, что, не зная, будучи не в силах знать, вы все-таки уверены в существовании рая; но ваш рай сшит на всех по одной мерке, и вы кроили его — разве что слегка увеличив в размерах — по земным лекалам, в нужный момент оказавшимся под рукой, то есть исходили из утилитарно понятого антагонизма между добром и злом, причем добро по-вашему — это то, что гладит вас по шерсти, а зло — то, что против шерсти. Знаю, что единственная хитрость, к которой вы можете прибегнуть, чтобы волосы не вставали дыбом от ужаса, это трудиться здесь на Земле ради максимума «добра» с заученной верой, что рай — это нечто, где такое «добро» абсолютно, то есть где оно уже не должно будет уравновешивать даже электрон «зла», и что так вы туда попадете. И этот рай вы представляете как наивысший уровень блаженства, находящегося в прямой зависимости от: пенсионного и социального страхования, гигиены — «в том числе и для бедных»; учреждений народного образования и просвещения; деятельности Красного Креста, результатов Локарно и прочих Келлогов и подобных лицемерных пошлостей; запрещения ядовитых газов на войне; профессионального надзора над бойнями; безопасных абортов — и вообще гуманизма.
И, клянусь, я не шучу. Я серьезен, ибо знаю, как вы вжились в это свое слегка облезлое блаженство, знаю, что для вас, так же, как и для меня, важны комфорт, хорошая полиция, безопасность, предусмотрительность, рациональное регулирование проституции, беспристрастность жюри на конкурсах и при распределении премий, совершенство демократии, о которой я не знаю, важна ли для вас она сама или только споры о ней, являющиеся якобы ее коррелятом. Для меня и для вас — ставя на первое место себя, я вовсе не зазнаюсь, а совсем наоборот — важно в первую очередь (в первую очередь? Как это? Да вот так!) выбить следующие широко распахнутые двери: «Man lebt nur einmal»[22]. Я прошу вас не принимать ничего из сказанного выше или ниже за памфлет, направленный против цивилизации; за бессмысленный трактат, рекомендующий вернуться к природе, за партийное применение формулы «Восток против Запада», за поддержку примитивных цивилизаций и т. д.
Цель у меня очень скромная: разъяснение моей поэтики, а на данном этапе — крохотная невинная инсинуация, заключающаяся в том, что, несмотря на все: на старательно натренированную способность судить, которая ничтоже сумняшеся отождествляет интеллектуальное доброе житье с блаженством, которая возвысила благотворительность до некоего абонемента на спасение, а коллективные чаепития — до ангельских хоров, что, несмотря на эту уверенность, будто тот, у кого спокойна совесть здесь, уже находится на верном пути к добру, правде, спасению, милости и славе там, так вот, несмотря на все это, даже в убежденности величайшего оптимиста зияет порой мучительный провал. В провале этом бурлит неопределенность, которая внушает тебе — тебе, сидящему в первом, третьем, восьмом ряду в кресле номер х, у, z, тебе, то есть кому угодно, — что власть, безопасность, твоя относительная уверенность (но разве ты допустишь, что она лишь относительная) не в силах победить эту смешанную со страхом ностальгию по удивительной множественности, цельности, по тому да — нет, по тому вакууму вопросов, среди которых тебе бы лучше обосноваться, чем их задавать; в то время как он, увидев себя в зеркале чем-то прямоходящим, изумляется не меньше либо изумляется столь же мало, как если бы гладь омута, осколок зеркала или отполированный наконечник копья отразили крокодила, банан или прибрежную скалу, одновременно являющуюся скалой, предком и им самим.
Мы способны изумляться так же мало, как он? Употребив оборот поэлегантнее, скажу: «Задать подобный вопрос — значит ответить на него». Вовсе нет, мы не способны изумляться так же мало, как он. Наша гордость, наше чувство интеллектуальной власти над миром, наша бессмысленная надежда, что «это мы еще увидим!», зиждутся на трех столпах: законе причинности, тройном правиле и самонадеянном правиле больших чисел. На этих трех столпах располагается ложе, и на ложе этом нашей ограниченности лежится так удобно, что она не замечает своей идентичности с этими столпами. (Господам, готовым со всем своим остроумием ополчиться на слово ограниченность: здесь запрещено воспринимать это слово в том смысле, какого требует их глупость.) И умы, якобы ориентированные на религию, притворяются, будто мистики действуют им на нервы и будто они поклялись пробиваться к сути тараном Фомы Аквинского — и ничем иным. Наверное, при помощи схоластики действительно можно постичь суть чудес; суть — она не слишком далеко. Короче, мы не боимся, но изумляемся. Примитив — сегодняшний европеец XIV века, — хотя и боится, но не изумляется. Однако какими именно были европейцы XIV века в четырнадцатом веке? Думаю, господин Гарви слишком все упрощает: «распространенные тогда суеверия» (много ли было умов настолько просвещенных, чтобы им не поддаться?); ведьмы, шабаши, чудеса, оборотни, проклятия, превращения, порча, сглаз, фетиши, привидения, весь этот арсенал для оглупления народа (унаследованный и обновленный, не хочу говорить кем, а также приспособленный au gout du jour[23], вызывает теперь всеобщее если не уважение, то страх, совсем так же, как прежде, когда он таился в сводчатых подвалах в компании с чадящей масляной лампой, рассыпавшимся скелетом, ретортами, раскоряченным дубовым столом, большим креслом, совой) — так вот, господин Гарви твердо верит, что его земляки позже их преодолеют. Я им этого от всего сердца желаю. Но раз речь здесь идет не о благом пожелании, а о пожелании неблагом, то вопрос звучит иначе: одинакова ли суть, скажем, ритуала подпрыгивающих процессий и ритуала массового обрезания у лхотонагов? То есть можно ли ожидать, что посвящение в колдуны у дикарей через шесть столетий — если все пойдет плохо; в ином случае, разумеется, раньше — станет таким же историческим курьезом, каким в наши дни являются подпрыгивающие процессии в уж не знаю каком немецком городе или ползающие процессии во французском Рокамадуре; а может, европейские массовые внушения, суеверия и обманы уже и в XIV веке не имели той оккультной сущности, той захватывающей силы (слово «захватывающий» здесь надо понимать чисто этимологически, без мельчайший лирической фальши), той реальности снов, которая еще присуща в наши дни примитивным обрядам? Я склоняюсь скорее ко второму мнению. Полагаю, что даже самый отсталый (замечательное слово!) европеец XIV века боялся меньше — и соответственно меньше понимал, — чем сегодняшний людоед из Новой Гвинеи.
Ему, наверное, запросто могло прийти в голову — впрочем, размышлять об этом он был не способен, — что его соседка Вероника, толстая баба, кровь с молоком, которая так хохотала, когда он залезал ей под юбку, и есть та самая проклятая паршивая черная кошка, что путается у него под ногами, когда он по ночам возвращается из кабака, — а потом исчезает, словно под ней земля разверзлась, стоит ему кинуть в нее башмаком, но гораздо труднее ему было бы вообразить, что если Вероника и кошка являются одним и тем же, то это совершенно естественно. Тораджам, согласно многим свидетельствам, это и нынче с легкостью удается, а вот Вероникиному соседу Здиславу чудился запах серы… Здиславы чуяли злого духа. А ведь любое общество, приписывающее чудеса злым духам, теряет способность видеть сны наяву, теряет свою невинность и начинает изумляться. У примитивного человека могут быть враги среди созданий той же фазы, в которой находится он сам, но вне его фазы врагов нет, есть только наводящие ужас. Племя кориаков бьется, скажем, с племенем ленгуасов, настроены они примерно так же, как воюющие друг с другом народы цивилизованные (разве что кориаки и ленгуасы в своей жестокости менее лицемерны), но дух медведя, убитого без соблюдения примиряющих обрядов, приходит мстить своему роду не как враг, а просто потому, что его приход неотвратим, как закон. С помощью фетишей колдун эве добивается результатов, сходных с теми, что достигались европейскими средневековыми колдунами, но это — не магия. Религия-суеверие сжигало священников суеверия «черного», а колдун тонга одновременно священник, и рядом с ним нет другого священника. Если кодзамам известна Мелузина, то готов биться об заклад, что ее завывание ничуть не похоже на завывание Мелузины наших предков (иная тональность). Короче говоря, я полагаю, что, начни развиваться нынешние европейцы XIV века, они не пойдут — в силу другой своей сущности — в том направлении, что и европейцы настоящего XIV века. Эти богаче тех, а те были богаче, чем мы. Если примитивный человек для нас несравненно более чужой, чем наш средневековый предок, то это вовсе не означает, что мы можем проследить сны этого предка. По дороге в двадцатый век столько всего рассыпалось, что восстановить почти невозможно. У черного нет оттенков. И вещи неизвестные известны не более, чем вещи, еще менее известные. Здислав — это, обобщенно говоря, мы; кодзамы — не мы; и все же Здислав для нас загадка не меньшая, чем кодзамы. Старые сонники свидетельствуют о том, что в Средневековье сны были страшнее, чем во времена, просвещенные культурой обязательного образования. Статистика — наука бесценная, но есть у нее дурная привычка проглатывать некий элемент, и этим элементом якобы случайно оказывается, как правило, тот, что наиболее необходим для познания «положения вещей». Наверное, в Средние века сны и в самом деле чаще бывали страшными. Однако сонники могут свидетельствовать только о количестве снов, а вовсе не об их качестве. Я благодарен за знание, что средневековые сны были страшнее, но кто расскажет о том, что кажется мне несравнимо более важным, а именно — были ли они фиолетовее, сыпучее, разреженнее, яйцеобразнее, лучше или хуже подвешены, сильнее ли дребезжали, острее ли были отточены и т. п.? Об этом, конечно, хитрая статистика из осторожности умалчивает. Ибо по опыту знает, что ей под силу обрабатывать лишь второстепенное. Как поступать с вещами, с качествами, с существенными оттенками, то есть с самыми бодливыми из реальностей, она не знает; и никто из нас не знает. Ибо они по большей части невыразимы. К сожалению, именно на основании этих реальностей, самых тонких, но и самых бодливых, можно было бы определить, как далеко мы отплыли от Здислава, до какой степени мы отшлифованы. Все свидетельствует за то, что мы Здислава своим бы уже не признали, а он не признал нас. (И не рассказывайте мне про памятники письменности!) Разве не достаточно разницы всего в одно поколение, чтобы старшие и младшие уже считали друг друга непостижимыми иностранцами?! (Ученая стезя, по которой я довольно долго шагаю, извивается подо мною, как пробудившаяся змея. Жаль, что я вот-вот соскользну с нее — ведь меня еще многое волнует!)
То, к примеру, что указанная выше «шлифовка» совсем не выходит за рамки нашего понимания. Причину ее мы здесь рассматривать не будем; но лишь выступим в скромной роли судей в споре между теми, кто говорит «это возможно», и теми, кто утверждает противоположное. А о самих причинах мы скажем немногое: по-видимому, они того же свойства, что и причины, по которым когда-то в давние-давние времена началось расслоение человечества, пришедшего постепенно к состоянию столь гетерогенному, что отдельные слои стали друг для друга психически непроницаемыми, как, например, европейцы и «примитивные народы». (Но также и европейцы с монголоидами, хотя и те, и другие цивилизованы, разделены глухой стеной.) Причины заключаются в той силе, которая определяет долю Милости или Проклятия, — а ее пути и цели неисповедимы. Если бы дело обстояло иначе, этот мой памфлет был бы столь же излишним, как любая систематическая философия. Если бы дело обстояло иначе, мы были бы молодцами, ибо были бы причастны, а не вовлечены.
Так вот, об этой «шлифовке»! К счастью, есть история, за которую мы хватаемся с тем большей радостью, что она — и это действительно правда, хотя, впрочем, с какой стороны посмотреть — никогда не повторяется. История показывает, что такое обтесывание человеческой вещности (не через ч) происходит удивительно быстро. Нагляден пример американских негров: те, кто перевозил с Африканского континента первых рабов, перевозил бесформенную кишевшую массу, присматривать за которой надо было не с большим вниманием, чем за грузом черного дерева, копры, гуттаперчи. Этот груз был грузом человеческим; это нечто совершенно иное, чем груз, из людей состоящий. Мне нравится представлять себе коллективную мысль этой неделимой, ошеломленной и беззаботной массы в виде довольно-таки неуклюжего бумажного змея, которого это растерянное стадо полагает своей неотъемлемой частью, хотя и не из него возникшей. Все, что стадо при определенных внешних условиях чувствует и думает, оно переносит путем некой психической левитации на это принадлежащее к толпе и все-таки отдельное от нее чудище; сама же толпа не думает, не чувствует; она совершенно невинна. Однако между нею и этим ее психическим складом есть связь: от змея будто тянулось столько веревок (телеграф, но отнюдь не беспроволочный), сколько было пар рук; и каждая пара держала одну веревку. Положение змея менялось с каждым дуновением ветра, каждое изменение одновременно «съезжало» по каждой веревке, все пары рук одновременно чувствовали «изменение ситуации», но не как изменение, а как дерганье или колебание — настоящее преобразование одной энергетической формы в другую (в данном случае психической в физическую), — и все эти дерганья и колебания сложились во впечатление, умноженное на х, но по сути тождественное каждому из впечатлений частных… И что осталось от этого черного унисона, когда заботливо накормленный груз оказался где-нибудь в Вирджинии? Красивые, статные, сильные, умеющие ходить черные вещи — окрики и бичи играли им походный марш, — каждая из которых держала одну из ниспадающих веревок. Но, ни к чему больше не привязанные, они повисали в пустоте, словно волшебные канаты факиров. Вдоль них ползла ностальгия по чему-то неизведанному, незаменимому и недостающему. Ибо груз распался на составляющие, и не было больше этого неповоротливого змея, змея присущего и вместе с тем внешнего. Каждая такая шагающая черная вещь чувствовала, что потеряла нечто: потеряла способность не быть личностью. Данная потеря оказалась тем более чувствительной, что вещи этой пришлось быстро научиться кое-чему такому, что до сих пор ей было неведомо: делать различие между собой и остальными («не собой» — как она выражалась), а еще ей предстояло научиться спрашивать с людей, а следовательно, и с себя. Открытие, что она должна чувствовать и думать, было бесконечно мучительным.
Сколько лет прошло с тех пор, как началась американская шлифовка черного африканского гранита, обладавшего единым, нерасчлененным и великолепным сознанием того, что мы то ли существуем, то ли нет, что все наматывается на Единое, откуда и развертывается в многообразие, вновь наматывающееся уже на иное Единое, но до тождественности родственное первому? Как давно это было? Допустим, четыре века назад. Или же одну минуту. Потом война Севера против Юга и освобождение негров. Где те времена, когда племя сжимало своих членов в гомогенность настолько неразделимую, в духовность такую конкретную, что для насыщения всех было достаточно, чтобы наелся один?! Американские негры оказались во власти суеверий… «Вот оно и видно, — вскричала пурпурная ухмылка, — что он недалеко ушел от своего африканского родственника!» — Как бы не так! Ведь тот нисколько не суеверен. Суеверие ведет к развалу, непоколебимый, неуязвимый и почти рассудочный тотемизм — никогда. Как похожи друг на друга эти двое — и какие они разные! Два шара одного размера, одного цвета, но один сплошной, а другой полый. Взвесьте их, ибо из всех физических признаков не обманет только вес. Американский негр — это цвет, лишенный формы, то есть почти ничто. Его африканский родственник черен лишь по недосмотру, если не по равнодушию природы. Диаспора, крещение, белые русалки, пуританство, либерализм и слово «свобода» отшлифовали американского негра, если вовсе не стерли его в порошок. Он не заходит в кабаки, посещаемые англосаксами, не насилует белых женщин, носит лаковые ботинки, пестрые галстуки и не слишком броские костюмы, почти пользуется гражданскими правами — и у его африканского родственника есть некоторые причины ему завидовать. Вероятно, он ему действительно завидует, ибо вознесен над ним столь высоко, что не обращает внимания на различия между уровнями.
Поскольку среди белых людей распространена уверенность, что существует некая более интегральная сфера, чем та, в которой они блуждают, сфера, откуда их изгнали и куда они хотели бы вернуться, но не знают как (ибо их еще не осенило, что единственный способ войти туда — это отказаться и отречься от долгой череды веков), то они загляделись на этот черный цвет, лишенный формы, и решили, что именно там-то наконец и наступит рассвет. (Кто обречен, тот всегда попадает пальцем в небо; кого боги решили отвергнуть…) Другим кажется, что рассветет на востоке, и они ждут, не зная, что день неподвижен и что войдет в него лишь тот, кто шагает ему навстречу. Негритянская музыка, танцы, негритянская надменность. Аборигены из Того обступают волшебный ящик (длинные худые ноги слегка согнуты в коленях, на которых покоятся руки, поддерживая склоненное туловище) и вдыхают вонь фонографических пластинок, которые любопытный и услужливый Пол Моранд привез от их родственников из североамериканского города Бетлехема, этого негритянского Туле, где, по слухам, то один, то другой более или менее белый негр, «дитя своего века и англосаксонской цивилизации», по непонятным причинам машет рукой на это свое выгодное положение, достигнутое благодаря четырехсотлетней шлифовке, и принимается выть, как самый настоящий степной шакал, его бывший двойник.
Что тут скажешь! Пол Моранд привез неграм Того эти пластинки как «привет издалека в память о нашей любви». Это танцы и песни, какими заряжают сухие электрические батарейки вроде Жозефины Бейкер и Джо Дима из Мулен Руж (о, эти его лопаты в белых нитяных перчатках, эти его клетчатые подштанники, вечно спадающие, но ни разу не упавшие окончательно, эти его красные галстуки на резинке!), которыми мы успокаиваем наши измученные цивилизованные нервы. Не знаю, так ли представлял себе Уитмен вторжение оздоровляющего варварства; однако дитя двадцатого века, дитя, мечтающее о примитивистском опрощении, но скорее жертвующее пятью минутами драгоценного времени в ожидании лифта, чем поднимающееся на второй этаж пешком, это наивное дитя из американ-бара, митридатизированное манхеттеном (я о коктейле), словно рождается заново, когда восторгается бордельными танцами, хотя это и бордели с негритянками, которых одарили сифилисом бледнолицые мужчины… У негров из Того — Пол Моранд тому свидетель — начался насморк: вонь этих столь ценимых европейцами возрождающих пластинок не говорит им rien que veille[24]. Iʼm nobodyʼs Mama, Old Man River, Iʼm a little Apple on the Bough тщетно урчат, орут, скрипят и гундосят. — Компания банкирских дочек, чемпионов по теннису и папенькиных сынков, закусывающая на пикнике в тени нетерпеливого бьюика на лужайке где-нибудь у Аваллона, давно бы уже отдалась этой первобытной животной музыке запоздалых европейцев (американцев) XIV века господина Гарви; неграм же из Того достаточно потянуть носом, чтобы учуять в ней смрад загнивающего общества своих белых врагов, которое не знает, куда податься, и удовлетворяется любой ложью. Головы на склоненных туловищах вопросительно качаются, глаза смотрят не на фонограф, а вверх, словно этого чуда ожидали от небес — ибо негры из Того столь умны, что угадали: если белый почтил их таким редкостным концертом, то не для того, чтобы доставить им удовольствие, а лишь потому, что ожидает «чуда», и они — его пассивные наблюдатели; но в тонких икрах, худых бедрах — никакой дрожи, никаких непроизвольных подергиваний, какими реагируют негры на самый слабый звук своих барабанов, на самое тихое дребезжание своих однострунных лютен.
Нет, цвет кожи — это не все; разве я уже не сказал, что это не что иное, как недосмотр природы, если не элегантное доказательство ее равнодушия? Какой же белой должна была показаться этим недоверчивым Жозефина в перышках, каким иноземным ее неподдельное — о да! — black-bottom. Прямо как какой-нибудь волжский мужик с плоским носом, татарскими скулами и прямыми светлыми волосами цвета конопли — сын славян enfin[25]!.. А почему бы нам и вправду не завести этакий хоровод пермских крестьян? Пол Моранд, так свидетельствуйте же еще раз! За два подобных свидетельства мы простим вам всю вашу «Черную магию». Она слишком уж туманна, а вот репортерский отчет — это да, документальная история с фонографом — словно мост из древних времен в далекое будущее, если, конечно, дать себе труд согласовать пространство со временем.
Итак, подытожим. Африканские негры, то есть негры, то есть, если можно так выразиться, сегодняшние европейцы XIV века, со своими американскими родственниками договориться уже не смогут, не смогут даже с помощью того, что было «отшлифовано» позже всего, то есть ритма ходьбы и тональности колыбельных, но звуки русской хоровой песни напрягают их сухожилия ритмической волей, адекватной той, что пробуждает священный тамтам, а си-минор малороссийской былины — не столь непреодолимое препятствие, чтобы они не смогли услышать в нем четвертитоновые гаммы своих гортанных военных напевов. И нет ничего удивительного в том, что правители черных колоний жалуются на досадное распространение коммунистических идей среди «обработанной» черной массы! Якобы это дело эмиссаров. Эмиссары же, разумеется, это фонографические пластинки, огромные, как континенты, и вращающиеся на шипах мистической чувствительности, которые приводятся в движение пружиной симпатии, распространяющейся по законам теплового излучения. Но вряд ли вам удастся отыскать колониального министра — или какого-нибудь из его подчиненных, — который, если вы не станете его пытать (а пытали бы вы его ради стоящего дела), согласился бы, что Екатеринославская губерния (губернии еще остались?) непосредственно соседствует с Угандой!
Соседствует! Кто соседствует? Те, которые, еще будучи крепостными, в глубине своей всезнающей души потешались над поработителями, и которые теперь, когда им «дана» «свобода», взглянули на эту абстракцию, дедуцированную из «научных» истин, как на редкостного гомункулуса, и остались верны своим вечным не поддающимся анализу истинам, показывая кукиш в кармане освободителям, которых они использовали и которых презирают; а те, кого эксплуатируют именем цивилизации и культуры, смеются про себя над эксплуататорами, грезя о чудовищном и утешительном Единстве, плавать в котором умеют лишь они одни, полные темной решимости растоптать завтра освободителя, разрушающего их давний союз с отчаянием, которое когда-то так играючи преодолел предок Хам, отождествив себя со всей природой и заржав. Иначе говоря, равный равного не только ищет, но и дает ему условным тайным языком указание в день X и в час Ч явиться на место, прежде незнакомое, которое им откроет в нужный момент ангел-хранитель, на место, о котором известно лишь, что висит оно, как люстра с приглушенным светом, над морями и континентами (бесполезно спрашивать моря и континенты, откуда приходит к ним свет; с востока? Вовсе нет, сверху!), и уже оттуда, по-товарищески сплотившись, будут они во всезнающую интеллигенцию (и интеллектуалов) посылать стрелы, напитанные ядом кураре, что добыт из прессованного познания, выпавшего в осадок из размытых снов грубых существ. Эта история с фонографическими пластинками, какая мелочь, верно, господин профессор? Куда вы, вечно сующий всюду свой симпатизирующий нос, поместите ее? Разве это не отличный подвал для вечерней газеты? Так вот, имейте в виду, что я сделаю из нее решительный ответ господину Гуэну (La Nouvelle Revue Française, le novembre[26] 1928; ограничусь одной-единственной цитатой, хотя мог бы просто нашпиговать ими свой памфлет), чтобы он лишний раз не спрашивал, а запомнил раз и навсегда: человечеству наплевать на системы, научные познания и ложные присяги интеллектуалов, которые, героически перед ним накривлявшись, уходят за кулисы, чтобы мамочка перевязала им мизинец с заусеницей.
Фонографические пластинки не случайно имеют форму диска — как солнце. А купола-луковки русских церквей, как братья-близнецы, похожи на нигерийские хижины, сложенные из глины и помета; они только несколько выше подняты над землей, но это, наверное, вызвано различиями в климате. Так чему удивляться недовольным колониальным правителям? У них, несмотря ни на что, чутье лучше, чем мы предполагали. Да только аналогия между Екатеринославом и Угандой возникла не вчера — достаточно послушать фонографические пластинки, — однако до вчерашнего дня она никого не тревожила. Пермские крестьяне уже давно сроднились со своими братьями с Замбези, из новой Каледонии и с острова Пасхи — сроднились, не прилагая к этому никаких особых усилий, — сроднились в созвездиях, где уже давно не бушевало никаких космических землетрясений; что удивительного в столь близком родстве, если Хамов сын непроизвольно раскачивается в том же ритме и с той же амплитудой, как и тот, кто, на мгновение охваченный смятением от неожиданного наступления ученых узурпаторов, ищет такое место, где он мог бы остаться в новой «системе» тем же, кем он был в прошлой? Ибо важно именно место, а вовсе не система; Россия же, чья единственная сегодняшняя проблема — это суметь любой ценой стать тем, чем она не может не быть, чтобы не погибнуть, то есть тем, что познает окружающее всей поверхностью, всеми порами, предрассудками, суевериями, атавизмами и до безумия испуганной интуицией, но никак не забитой доктринами головой, так вот, Россия заразила своими парадоксами, своими заблуждениями и своими истинами (сплошная кровь) всех тех, с кем она потаенно в родстве, всех, всех тех, чья память столь прекрасна, что они способны связать сон ночи и сон дня узлом столь крохотным, что даже самое нежное прикосновение не нащупает его.
Это опять ты, летательный аппарат, которому завидуют птицы, ибо ты смотришь свысока, даже не оторвавшись от земли. К чему давать имя вратам, не имеющим размеров, за коими начинается край, где не существует понятий верх и низ, слева и справа, изнанка и лицо, где вчера — это завтра, а послезавтра — год тому назад, где векам, стянутым в одну секунду, так же удобно, как Золушкиному платью в лесном орешке! Нутро континентов, окраска, речь, история и «цивилизация» которых соперничают друг с другом, как черное с белым, вдруг словно сводит судорогой; острое осознание того, что они тождественны, пробивает войлочный футляр и входит в них, как фонографическая игла, перед которой напрасно всякое притворство: она видит тебя насквозь и вынуждает говорить на твоем собственном языке. Эта судорога — не что иное, как прерывистый Божий сон, нарушаемый еретическими бунтами людей, стремящихся вовсе не к познанию Бога (ведь познать Его означает остаться в Нем и Им), но выйти из Бога, ибо они хотят посмотреть (сколь глубока пословица, что тем, кто долго глядится в зеркало, является дьявол!), а молния из тьмы во тьму, ударяющая порой внутри каждого из нас (когда, например, ты слышишь, как ночная бабочка бьется крыльями о колпак горящей лампы, когда ты, чуть пьяный, пристально всматриваешься в бармена, трясущего шейкером, когда тупой бурав клаксона ввинчивается в засыпающую природу, когда в пустом еще баре стук игральных костей сливается с долетевшими с улицы звуками воскресной шарманки, когда на блюде, полном мейсенских яблок, ты обнаруживаешь чернильное пятно свежей фиги), так вот, эта молния, ударяющая из целостности, которой мы не хотим признать, в целостность, к которой мы стремимся, будучи одновременно дорогой, которой надо было бы последовать, и ее обрывом, из-за которого мы никуда не можем двинуться, есть образ этого гигантского Божьего сна.
Какое же пламя горит в тебе, о ты, что в одиночестве своей комнаты сидишь на стуле, который так ловко встал в самый ее арифметический центр, отказавшись от моральной опоры даже самого маленького столика, что очутился именно там, где ему нечего искать, и теперь упрямо стремится к невозможному духовному слиянию с остальной мебелью, находящейся на своих местах; какое пламя горит в тебе, о ты, чьи руки повисли, а запрокинутая голова словно ждет, что ее окатит душем майский дождь? что бьется в тебе, праздный дневной посетитель артистического погребка, ведущий молчаливую беседу с головами очкариков-денди, на которых наводят тоску их собственные силуэты на шершавом матовом стекле изящных ламп? что плещется внутри вас, замшелых, и почему сегодня, отставив свои ящики букинистов, стоите вы в ряд, забавно сгорбившись, перегнувшись через вечно недовольные перила набережной, в то время как ваше тоскующее «я» давно уже составило компанию падали, что Сена, обгладывая, уносит прочь, и воде, и рыбам. («Я» прыгнуло в воду, и гладь даже не подернулась рябью.) Что это, как не нетерпеливое желание разобраться в разветвлениях несложного генеалогического древа, которое питают всего лишь два корня, из коих один тянется к стихиям, а другой — к вам?! Пылать, сливаться и — слиться! Свобода углов в треугольнике, которые не в силах не описать полукруг и не могут описать ни меньше, ни больше, свобода четвертого в тройном правиле, которое вольно или невольно, своей формой и предназначением втянуто в свое предназначение и в свою форму, свобода случайности, происходящей тогда и там, когда и где было рассчитано для нее уже тогда, когда в арифметической прогрессии, этом левиафане, еще не мелькнула даже ее тень, свобода вод, всосанных невидимым отверстием подземной воронки, свобода мертвых кошек, собак и мелкого скота, крыш, кроватей и колыбелей, унесенных наводнением и забывших свою неподвижно стоящую на посту цель; кто лишил человека свободы невозможного выбора, кто навязал ему эту жадность, от которой он соглашается быть зависимым и не перерубать оков, созданных зависимостью, кто был тот, кто разъел светлую тьму светом мысли, которая не светит, но лишь ослепляет, кто ограбил родину, но по забывчивости оставил ностальгическую тягу к ней? Всю свою жизнь мы проводим, обманывая ее невыполнимыми обещаниями. А когда утро за утром я с хрустом потягиваюсь, щелкая пальцами, которые кажутся мне на вытянутой руке такими далекими, чужими, белоснежными и изящными, как бабочки-капустницы, щелкая пальцами, которыми залюбовался мой новый, поначалу недоверчивый, но вскоре сдавшийся взгляд — сдавшийся четким и тесным берегам утра и бодрствования (тому, что мы называем бодрствованием: красному цвету одеяла, расхлябанным петлям орехового шкафа, сине-желтым зубчатым оборкам на полках книжного шкафа с бутоньерками в стиле Людовика XV) — я, пробуждающийся соня, наслаждаюсь этим знакомым и чужим пейзажем своей спальни, подчиняющейся законам гравитации, оптики и акустики, наслаждаюсь, подобно утопающему, только что выловленному из воды, который наслаждается вылизанным ладом и складом в доме протестантского пастора (семья как раз завтракает), где ему оказали первую помощь, наслаждается своей испуганной благодарностью, в которой вот-вот забьется головастик отвращения, и удовольствием, которое пощекотал первый, пока еще неяркий огонек любви к анархистскому и сладкому произволу (который тоже есть лад и склад, но только некоей неизвестной, неважно какой организации), на которое уже покусилась первая заусеница боли — доводилось ли вам проследить начало мучительной и долгой боли, скажем, зубной? — боли словно в ампутированной конечности, которой уже нет, а мы ее еще чувствуем.
Облегчение от того, что мы встали на якорь в «реальности», уже, однако, червиво отрицаемым прежде разочарованием, вызванным тем, что загадка сна испарилась. Пока мои пальцы-капустницы летят, летят за забытым сном, отдохнувшая моя голова уже безнадежно поникла, и я проваливаюсь в бдящий день: в свою половинчатую родину, до того, если присмотреться к ней повнимательнее, «натуральную», что тут явно не обошлось без какого-то обманного грима.
Невозможно, невозможно, чтобы было определено искупать отдых этим вынужденным ограничением; невозможно, невозможно, чтобы эта непреодолимая пропасть между сном, который пленит, и сном, который освобождает, существовала по праву и не была проклятием. Есть где-то мостик, по которому с берега на берег переходят так же медленно, так же легко и естественно, как из предместья в город и обратно (когда бы сон ни пригрезился), он где-то есть, и есть где-то те, кто по нему ходит. С берега на берег — но над такой глубиной, над такой тьмой, над таким подземным громыханием! И что с того; переход этот столь же безопасен, как показ головокружительных трюков в кино. И тот, кто, пробудившись на заросшем камышом берегу (он решился спать возле трясины, а потому комары его не тревожили), вскочил на ноги — ты ошибся бы, посчитав, что скачок, которым его дух перенесся из ночи в день, был аналогом этого водружения горизонтали, этого вскакивания «на ноги», резкого, зигзагообразного, молниеносного. Его дух не знает того зияния, что раскалывает на две половины наш день: взгляни на него, этот человек — черный, блестящий — встал и вновь отправился в путь, опираясь на кривой сломанный им сук, он шагает в облаке пара, что испускает его тело, почти нагой, он не знает, где вчера остановился, откуда вышел и куда направляется. Этот плот из отточенных, не прилегающих вплотную друг к другу копий, подвешенный, как трос канатоходца, по которому, не поранив ступни, он брел в полнолуние сквозь тьму (пока тело его лежало в камышах), с поразительной легкостью уворачиваясь от тяжелых телег и толп одетых людей, преодолевающих тот же узкий плот, но в противоположном направлении, сон этот был ничуть не мрачнее, чем та протоптанная гениями тропинка, по которой шагает он ныне среди высокой степной травы (да, ее протоптали гении, ибо тянется она, как ему сказали, из незапамятных времен и ведет, вечно трапецевидная, как ему известно, во времена столь же незапамятные), как эта тропинка, где он не встречает никого, разве что свою тень и прошуршавшую мимо мускусную крысу, некое светлое и звонкое скольжение: свою тень, которую надо сторожить, чтобы ею не завладел какой-нибудь враждебный колдун, и крысу, к чьей семье, может быть, он принадлежит, и это светлое, звонкое, неведомое скольжение, чудесное, но вовсе не изумляющее. — Он и не изумляется; ибо жизнь есть сон, жизнь есть сон, жизнь есть сон, ничем не нарушаемый; разве что настанет день, когда сон этот вдруг сгустится, когда его контуры станут четче и отделятся от фриза, на котором они были прежде вырезаны; возвращение, прощание, слияние, смерть.
Сказали мне (физики, физиологи, анатомы, психологи мне сказали): очевидно — если не истинно! — что образ, возникающий на человеческой сетчатке, не может быть более чем двухмерным; следовательно, мы воспринимаем мир плоским. Bon![27] Но как же тогда выходит, что мы видим вглубь? Вглубь мы видим потому, сказали физиологи и психологи, потому, что, слава Богу, тут вмешивается суждение. И это суждение основывается на опыте. Точная наука не довольствуется тем, что, например, работает на руку алхимии и астрологии, бывшим наукам-суевериям (наука в кавычках, суеверие как таковое, без кавычек), которые ныне благодаря ее заслугам реабилитированы. Заметим кстати, что научный подход как способ реабилитации «оккультных» наук и магии — это зрелище скорее комичное. Итак, она не довольствуется реабилитацией наук оккультных; один пируэт гавота — и точные науки любезно согласятся совершить то же самое для священной истории. Они уже, например, склоняются к гипотезе, что мир был создан за шесть дней. Интерпретируя, конечно: библейский день равняется геологической эпохе. Мне это не дает покоя: позаимствую-ка я точные науки, чтобы оправдать существование первородного греха. Первородный грех был, как известно, совершен тогда, когда человек, несмотря на запрет, съел плод с древа Познания. А наказанием стало изгнание из рая, потеря рая. Доставим радость точным наукам и отождествим Познание с удовлетворенным церебральным суждением. Эта замена — вы следите за моей мыслью? — незаметно приведет нас к выводу, что человек лишился рая в то самое мгновение, когда он, глупец, изобрел дедукцию и индукцию. То есть — вы следите за моей мыслью? — мир понимаемый, мир судимый — куда человек выгнан в наказание — является (неизбежно, ибо это наказание!) рестрикцией мира рационалистически не интерпретированного. Человек изгнан из рая за то, что съел плод с древа Познания, «изгнан из рая» равняется «изгнан из края, где не изумляются», ибо лишь там все одинаково «вне суждения». Искупление и наказание. Не кажется ли тебе, любезный читатель, что и тебе порой случается очутиться в тех краях, где ты не изумляешься? Неужто бы ты изумлялся во сне? То есть изумлялся бы, отправив «суждение» в отпуск, когда тебе, если так можно выразиться, приходится видеть плоско? — «Pardon», — отвечает господин, производящий чудеса строго научным способом, то (с помощью дедукции) из правил евклидовой геометрии, то обобщая выводы энтомологических наблюдений, то добавляя фантазии — о, лишь капельку! — в правило больших чисел: господин Метерлинк, одним словом.
— «Pardon», — говорит он, — сон вовсе не плоское воззрение, напротив, более чем вероятно, что он взят из четвертого измерения. (Не время ли это?)
Думаю, я нашел ответ на вопрос, почему господин Метерлинк так отстаивает четвертое измерение (а также пятое, шестое и т. д., различие чисто количественное, а совсем не качественное, ибо наше представление о четвертом как две капли воды похоже на представление о пятом, и т. д., то есть оно никакое). Это оттого, что он верит в большее и меньшее. Ему кажется, что будет уместнее поставить сон, который он считает явлением если не необычайным, то, по крайней мере, из ряда вон выходящим, под защиту цифры 4, а не 2 (цифра 3 в расчет не принимается, ибо выражает, несмотря на все свои мистические корни, трехмерный материальный мир, мир, зримый «суждением»), и только потому, что 4 ему кажется большим, то есть в определенной мере более возвышенным, чем 2. А представьте себе, что это предпочтение проявляет кто-то, кто, говоря о мире четырехмерном, объясняет его еще и как мир, где часть может быть больше целого!..
Зачем я все это пишу? Чтобы показать, как часто даже самого горячего желания мало для того, чтобы влиться в сверхъестественное.
Почему «четырехмерное» должно быть чудеснее двухмерного, каким — тут мы опять передаем слово естествоиспытателям — представляется мир немым тварям? Сон как врата в четвертое измерение (что это такое)? Почему я должен признавать за ним «больше» необычайности, чем за двухмерным миром немых тварей, которые «там, где человек видит неподвижное тело, ощущают движущуюся плоскость»? Если мир чудесного четырехмерный, то и мир двухмерный таков же. Но выбросим цифры за борт. К какой бы из них мы ни прибегли, она каждый раз приведет нас все к тому же зыбкому континенту. Сон-символ? Сон-иносказание? Сон — выныривание подцензурного я? Может, то, а может, это. То ли, это ли — безразлично, ибо и то, и это является одинаково произвольным путешествием в край до первородного греха. А если такого определения сна вам не достаточно, оставьте надежду что-нибудь понять. Хотя что значит понять, когда речь идет о сне? Поэтому выразимся четко: оставьте надежду на то, что когда-нибудь вам попадется летательный аппарат, с которого все видится так, как видят птицы, хотя (именно поэтому!) аппарат остается на земле.
Свобода падали и свобода ангелов. Свобода тех, кому отказали в выборе; свобода сплавляемых, летящих, возносящихся туда, куда им нельзя сплавляться, куда не направляться они не могут, куда они возносятся не по своей воле. Я никого не называю, не обозначаю, не выбираю. Я — горе, обретшее свободу, когда отказалось выбирать, — открываю объятия тростинкам на марше: тебе, с одного края бесконечности шагающему навстречу другому, начавшему свой путь с противоположной стороны, походящем на тебя все больше по мере того, как вы сближаетесь, и ты, не изумляясь, в конце концов сливаешься с ним, как с чем-то от тебя неотъемлемым, как со своей тенью, когда достигает апогея тот свет, которым вы поделитесь друг с другом; тебе, вскричавшему «я иду» скалам, окаймляющим реку, столь же недвижную, как Мертвое море (весла влюбленных лодок зачмокали в вечерней тишине, точно поцелуи людоедских божков), и услышавшему от эха «оцепенев, я догоню тебя», и понимающе улыбнувшемуся в ответ улыбкой заговорщика; тебе, усиленно продирающемуся сквозь толпу ряженых, густую, пеструю, искренне и громогласно смеясь прямо в глазницы свежевыкопанного черепа, который платит тебе безудержным весельем старых, уродливых, наконец-то нашедших клиента проституток; и тебе, тебе, что после некоторых колебаний все-таки стянул из корзинки старой цветочницы замусоленный букетик фиалок (даже не пармских), и его аромат — пока ты стремишься куда-то, и ноги твои окрылены неизвестно кем — судорожно вдыхают самые желанные девушки, постепенно соблазняемые капризными временами года и неожиданно сами для себя разрешающие все свои проблемы при помощи ядовитого раствора фосфора. Я раскрываю вам объятия, готовые вот-вот сомкнуться над этой ничем не смущенной свободой.
Стихи прорастают из перерубленных побегов, используя которые, чудеса седьмого дня — дня отдыха — хотели кощунственно соединиться с праздниками рабов. Мы, тростинки, не сопротивляемся. И именно потому наш взгляд упирается как раз в пограничный ров, что отделяет согласие от отрицания. Именно потому наш взгляд не видит различия между «да» и «нет», именно потому он стеклянный, как закрытый взгляд утопленников, которым не дано изумляться.
Я отрицаю, что я якобы отождествил сон, чудо, ясновидение, предчувствие с чудовищным, то есть с тем, что парадоксально примиряет самые резкие противоположности («да» и «нет») с чем-то таким, что по своим понятиям, представлениям и взглядам совершенно бесполо: мы же не среди орхидей. И если они кажутся нам пугающе чуждыми, то это не из-за их наряда; это результат нашего усеченного зрения. Поэтому и только поэтому чудесное, когда бы наше сознание ни споткнулось о него (происходит это лишь иногда и изредка, ибо, будь оно непрерывным и цельным, оно перестало бы быть чудесным, превратилось бы в норму, а это означало бы, что мы с самого своего начала причастны Целому, то есть блаженны, иначе говоря, недосягаемы для первородного греха, что было бы абсурдно), кажется по крайней мере странным — или даже чудовищно парадоксальным — и внутренне столь противоречивым, что «разум» приходит в ужас, если его не отрицает. Это выглядит так, словно в нем кипят «да» и «нет» столь равноценные, что они незаметно нейтрализуют друг друга. Это «пекло-рай»[28], это нечто вроде ужасающего кармана фокусника, вроде этого комичного, но вызывающего подозрительное беспокойство выворачивания наизнанку внутренностей ярмарочного шарлатана.
Как бы то ни было, каждый, на кого наваливался сон, знаком с интуицией, которая настолько убедительна, что в убедительности не уступает адекватной мысли, то есть мысли правдивой, мысли, автоматически трансформирующейся в акт, мысли-акту — и завеса рвется. Безразлично, какая. Безразлично, между чем и чем: ясно только, что это завеса, то есть разграничительный признак, настолько же условно материальный, насколько безусловно виртуальный и при этом надежно изолирующий. И если удар этого интуитивного познания менее ощутим во сне спящих, который — с физиологической точки зрения — мозговую функцию суждения если не отключает полностью, то по крайней мере ослабляет, то во снах бодрствующих он очень силен. Ибо кто станет отрицать, что мы видим сны, бодрствуя. Не только «мечтатели» и «поэты»; каждый. А сон бодрствующего имеет все признаки сна спящего. Он так же быстр, так же мимолетен, так же сопротивляется нормальной памяти, но при этом так же интенсивен и по сути своей даже более убедителен, чем сон спящего, поскольку вторгается в полностью включенное сознание и проявляется не только сам по себе, но также и в совокупности с видением «сознания», то есть видением «контролируемого мира». К этой соотносимости (или скорее тождественности) сна спящего и сна бодрствующего я вернусь чуть позже. А пока несколько слов о всеобщем характере этого второго зрения во время бодрствования — не отождествлять со «вторым зрением» пророческим! — о характере, со следующим определением которого — о, это определение! — ты, читатель, не можешь не согласиться, если не хочешь беззастенчиво лгать самому себе: все свидетельствует за то, будто нам было послано внезапное озарение, которое позволило бросить короткий взгляд на край, откуда мы были изгнаны — хотя и с разной степенью непреклонности и с разнящимися по степени скупости разрешениями на временные краткие возвращения, — из края, который дополняет мир; взглянуть на Целое, бросить один общий взгляд, вовсе не претендующий на интерпретацию, на Целое, насквозь ясное и отчетливое, «вовсе ничем не изумляющее», то есть на рай. Если допустить, что существуют люди, которые, говоря о сне (грезах, чудесах, предчувствии и т. п.), не могут не говорить одновременно и о четвертом измерении, то лучше бы им, наверное, считать грезы, чудеса, предчувствия непосредственно четвертым измерением, а не только воротами в него. Но мы уже сказали, что евклидова или любая иная геометрия нас не очень-то занимают; они — вообще не наша забота. Потому мы и внушаем читателю, чтобы сну, интерпретированному как четвертое измерение, он не придавал большего значения, чем следует.
Если читатель еще помнит, в начале настоящего памфлета мы объявили о намерении представить поэтику не только данной книги, но и всех наших забытых работ — прошлых и будущих. Мы не отклонились и не отклоняемся от этого намерения.
Мы назвали эту книгу «Сонником»[29]. Заметим для начала, что мы рассматриваем это слово не в его привычном свете. Наш сонник снов не толкует — он их сохраняет; это — гербарий снов. Наверное, он — нечто более высокое или, по крайней мере, хочет таковым быть. Позже мы увидим, удалось ли ему это.
Здесь настало время поговорить о себе. Ошибается тот, кто считает, что мы несколько запоздали со своими откровениями. К подозрениям склонны даже неплохие люди: при виде местоимения «я» они удрученно покачивают головой, приговаривая: «Ну вот, опять он тут!» Это потому, что они находятся во власти предрассудка, будто самый прямолинейный вывод как раз и есть вывод единственно верный. Это одно из распространеннейших заблуждений. Думать, что тот, кто говорит в первом лице, говорит о себе, значит одновременно недодумывать и думать слишком далеко вперед: те, которые хотя бы пытались следовать за моей мыслью, обнаружили уже, что я использую местоимение первого лица единственного числа прежде всего тогда, когда говорю, скажем, об ангелах; поверят ли они мне, если я добавлю, что знаю многих, кто, говоря об ангелах, говорит в основном о себе? Итак, пришло время сказать о себе правду. Это неприлично. Многие на нашем месте сделали бы то же самое, они бы сделали и в десять раз больше — да и как еще объехать собственную поэтику, если не на той кобыле, что являет собой хромое, но упорное я? — однако использовали бы синтаксические и иные уловки, чтобы ничего никому не примерещилось, чтобы никто ничего не сказал. Человеку, связанному по рукам и ногам, наивно полагать, что ему удастся смягчить читателей и критиков — читатели и критики: это почти плеоназм, — тем, что он — в цепях — станет притворяться, будто кокетничает с безличным. Если я не ошибаюсь, у меня репутация моралиста. Если нет, то тем хуже, ибо она была бы заслуженной. Но позвольте досказать: иметь репутацию моралиста — это то же самое, что иметь репутацию педанта. А быть педантом — значит быть музыкантом, играющим фальшиво с таким упорством, что вас не потерпит ни один оркестр. Правильно играть в ансамбле означает выполнять определенный минимум, которым как раз и является игра в общем ключе. Оркестр составляют те, кто расслышал общий «ключ своей эпохи» и для кого важно именно в этом ключе постичь собственную партитуру. Но не приведи меня бог бросить отдельным участникам ансамбля, столь достойного презрения, упрек, который несомненно заслужил весь ансамбль как таковой. Надеюсь, что каждому из участников время от времени доводится взять фальшивую ноту. Именно что надеюсь: ибо фальшь неизбежна, если слушатель, а главное музыкант, хочет выпутаться из лжи — и это существенно, — словно «эпоха» на самом деле хоть чем-то отличается от рубашки, которая пачкается трижды в неделю. Все, что важно, вне «эпохи». Так называемые ценности — ценности любого рода — представляют собой душную халупу, которая хороша только на зиму. Взять фальшивую ноту — и это так естественно! — это то же самое, что разбить оконное стекло. Ведь даже мерзляку иногда бывает нужно, позарез нужно выйти на мороз. Очутиться там, где вместо сыгравшихся музыкантов он услышит произведения, исполняющиеся, быть может, фальшиво (кто знает!), но имеющие хотя бы то преимущество, что они штучные. Я не хвастаюсь, будто никто, кроме меня, не умеет фальшивить. Фальшивит множество людей — причем частенько. Поэтов много — и поэтическим грезам предаются не только люди, — так почему же они стыдятся, взяв фальшивую ноту, вместо того чтобы, напротив, гордиться этим? Почему они стыдятся, случись им оказаться моралистами, то есть случись им напомнить об ответственности и напоминанием этим обратить людей в соляные столпы, сотворить из них соляные столпы? Теперь я поведу речь об определении этой ответственности. Ясно, что художник не имеет права согласиться на то, чтобы быть ответственным перед коллективами, — и пусть никто не думает, что это у меня от Юлиана Бенды, я говорю так, ибо я в этом убежден, и именно потому, что я в этом убежден, теперь подобным же образом станет думать любой, — такими коллективами, как родина, класс, группа, церковь, синдикаты и политические партии. Горько, что приходится напоминать эту неколебимую истину. Он обязан отказаться быть ответственным перед всем тем, что с этим прямо или косвенно связано: справедливостью, социальной совестью и правдой, любовью к ближнему, самаритянским фетишизмом, прогрессом и евгеникой, всевозможными реформами и революциями, цивилизацией, наукой, искусством и народным образованием. Если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют нечаянно — да, нечаянно! — предметы столь униженные и презренные, как дождь, перебирающий четки на крыше нашего дворового сарая; зеленая полоса, задержавшаяся после захода солнца на западном краю неба несколько дольше, чем предписывает ей атавистическая и ставшая машинальной человеческая память; ребенок, однажды на наших глазах в полпятого пополудни переходивший безлюдную деревенскую площадь, трубя при этом в садовую лейку; писк, возмутительным образом выбившийся на рассвете из общего бесхребетного птичьего хора; зеленые, как трава, жалюзи прокаженного домика в южнофранцузском городке, соскопившие с одной петли, и на них видна четкая черная полоса, бессмысленно намалеванная краской (о, эта мечтательность!); слово Caillaux[30], написанное углем на обороте рекламного щита в трехстах метрах от станции Ле Лиоран, надпись, бросившаяся нам в глаза, когда мы, прогуливаясь, подняли нос от Монтеня, которого перед тем читали (эссе о жестокости); ящик на вокзальном перроне, ожидающий поезда, но в таком отдалении от остального товара, что в этом таился некий умысел, и если бы вы посвятили меня в его суть, я был бы вам безмерно благодарен, ибо одновременно разъяснилось бы и все остальное, что не даст мне покоя (lasciate ogni speranza[31]); итак, я утверждаю: если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют эти презренные и униженные предметы (вы действительно думаете, что Эйфелева башня — самое высокое парижское сооружение? неподалеку от монтрейских ворот я знаю один выкрашенный оливковой краской домик с маленьким кафе; трамвайные пути проходят от него столь близко, что 25 марта 1926 года я пережил там несколько секунд такого ужаса — и это оливковое за моей спиной! — что разглядел все походы Александра, да еще в подробностях…); итак, повторяю: если он неспособен на то, на что способны эти презренные и униженные предметы и еще множество иных, которые — в сравнении с Эйфелевой башней или с важностью клятвопреступного священника, служащего пасхальную мессу, — кажутся еще менее значительными, то пускай он посчитает для себя великой честью, когда кто-нибудь предложит ему ответственную должность — компостировать билеты в подземке! Ибо если он не в силах сотворить то, что так легко и естественно — точно ненароком! — удается этим клавишам бог весть какого органа, которых случайно и неизбежно касаются пальцы бог знает какого рассеянного и сосредоточенного музыканта, то пусть он осознает, что все прочее под силу кому угодно, и кто угодно превзойдет его в этом, так что ему нечего и пытаться. Ты расплакался? Слезы — бисер, действительно предназначенный свиньям. Последний актеришка из бродячего театра, мечтающий лишь о том, чтобы служанка на его следующей квартире была посговорчивее, превзойдет его. Удалось ли тебе так вдохновенно описать человеческое великодушие, что и в грудь подлеца ворвался некий очистительный вихрь? Забытый государственный деятель, удвоивший территорию своей страны, заслуживший неблагодарность, отправленный в отставку из-за интриг и все же не ставящий это в вину своим политическим противникам, превзойдет тебя, едва обмакнув перо в чернила… а речи над его гробом, какая это золотая жила для суетливых выскочек, но если задуматься, то золото это добывается проходимцами в засохших навозных кучах… Ни то, ни другое? Тогда, поэт, ты, наверное, горишь честолюбием до такой степени по-коровьи растрогать человеческие души, чтобы девушка, читающая под цветущей яблоней последний роман господина Моруа, оторвалась от книги и принялась искать глазами описанный тобой кусочек горизонта (прислушайся-ка к кукушке и перепелкиному свиристению), куда унылый ее взгляд, настоенный на целомудрии, вонзится, как палец в масло? Послушай: в одной деревеньке департамента Верхняя Луара я знаю семидесятилетнюю старушку, высохшую, как мушмула. Когда колокол звонит к молитве, она устраивается перед своим домиком с подушечкой для плетения кружев и принимается так стучать коклюшками, что если закрыть глаза, то можно подумать, будто это ангелы играют в кости. Румяный закат. Бим-бом; мир да покой; длинные вереницы коров, бредущих с пастбищ, — завтра их погонят на бойню — путник взошел на вершину соседнего с деревушкой холма, усталый, он страдал от голода и жажды, иначе говоря: не любая чушь была ему не чужда — и узрел эту идиллию. Какие стансы Вергилия отважились бы соперничать с нею. Путник тает, тает; что бы ты там ни высидел, оно никогда не растрогает его так, как эта естественная и бесхитростная олеография… Загляни-ка лучше в кабачок — Главная улица, дом пять, — где ждут тебя ветчина с яйцами и кувшин местного вина… Ты, верно, специалист по производству отзвуков психических головокружений? Да уж, от суповой кастрюли, в которой ты мешаешь лаву из пропастей, зияющих меж гор, уже покоренных «духом», и Гималаями, «которые еще предстоит штурмовать», тянет смрадом. Какая жалость, право! Вчера меня остановила госпожа Робер, сказавшая: «Я пригласила пять гостей, но у нас лишь четыре стула. Как мне быть?» Не знаю, госпожа Робер, как вам быть, но я вас поздравляю. Благодаря благословенной вашей беспомощности я столкнулся с проблемой более головокружительной, чем запутаннейшая антиципационная теория Уэллса. Поэту, который спекулирует на неустрашимом героизме и его чувственных коррелятах, я отвечаю: Линдберг. Тому, кто думает, будто показывает тебе бог знает какое далекое ничто, когда прижимает твой нос к телескопическому окуляру, я привожу в пример ярмарочного звездочета с его куклой из молочного стекла… Головокружительная любовь? Цветущий конский каштан; скамейка; полнолуние, пока еще робкое; десять ударов с башни собора; шаги одинокого прохожего где-то вдали; он приближается, он незамеченный подошел к этому конскому каштану как раз тогда, когда раздалось «а-ах!» — одно, непреложное, неоплатное и неподкупное, бесстыдное и мученическое, вместе «ой» и «аллилуйя» — «а-ах!», от которого Песнь Песней убегает без оглядки, как Давид от Голиафа, тот Давид, который, в отличие от библейского, не стал бы мошенничать. «А-ах!», которых в майские ночи, как хрущей, и которые безмерно ценнее, чем твоя трусливая эротика.
Вопрос, который я задаю, пугающе прост; ты способен, ты готов, ты можешь, ты настолько прост, ты настолько мертв, ты настолько неистов, слеп и сокрушителен, чтобы совершить то, на что способна длинная череда этих вещей, униженных, презренных и незначительных, а именно: обратить человека в соляной столп? Соляной столп: выражение, на котором я настаиваю. — Сможешь? Ладно! Не умеешь? Тогда все напрасно. Уходи… но давайте все же будем вежливы.
Для ясности нужно прежде всего сказать следующее: вкус у меня не столь одряхлел, чтобы я мог, хотя бы даже подсознательно, намекать на связь между соляным столпом и выражением «соль земли». «Соль земли» и Величка интересуют меня в той же мере, что Страсбург и гусиный паштет, Швеция и спички без фосфора, Горжице и тамошние игрушки. Соль земли можно добывать всюду, где люди плачут, то есть на каждом миллиметре земной поверхности, хотя плач меня тоже не интересует. (Слезы — бисер, действительно предназначенный свиньям.) Встаньте, пожалуйста, за мной, вплотную друг за другом и ради большей безопасности положите ладонь на плечо того, кто стоит впереди. Шагом марш!
На краю этого подземного коридора горят две лампы: одна пыжится, как угасающая горелка Ауэра, чей спесивый свет меркнет через десять метров под натиском тьмы, словно доверие разодетого Сганареля, встретившееся с причесанной хитростью неверной жены (для зрителя этим все кончается, для дурака Сганареля «ничего не случилось»), другая же похожа на воровской фонарик: он не бахвалится, но светит далеко. Одна — это свет того представления, которое обнажает сияющий факел мысли, или же, говоря точнее, чадящая лучина, при свете другой являются видения, столь режущие глаз, что они не поддаются никакой интерпретации. Это видение, четко и ясно сообщающее то, что должно быть сообщено, но — при помощи знаков, взбунтовавшихся против шарлатанов, сплетников, филантропов и философских обманщиков — а каждый из нас или то, или другое, — взбунтовавшихся так, что без ключа невозможно разобраться в этой чуждой нам азбуке, если только не воспользоваться симпатическими чернилами, которые проявят эту угловатую тайнопись. Ключ или симпатические чернила — к чему бы мы ни прибегли, все равно это будет нечто вроде загадочного электрического разряда, который не озарил тьму, но разорвал непроницаемую стихию и обнажил ее качество и внутреннюю структуру. Разорвал и обнажил на стотысячную долю секунды, но разряд этот оказался столь ошеломляющим, что когда над ним вновь сомкнулась мертвая секунда, что когда над ним вновь заструился задумчивый поток непрерывного времени, он стал вечностью: вечностью не в смысле длительности, но по интенсивности убедительности, которая сметает все возражения, как катастрофа сметает страх. Перед лицом зрелища столь ужасно-прекрасного опустошенный смертный лишен выбора. Надеюсь, вы не представляете его себе ни растроганным, ни растерянным; и он не рисуется вам сидящим за столом в свете «лампы ученого» с ладонями, поднесенными ко лбу; и вы не посылаете к нему внучат (топ-топ к дедушке из детской, в долгополых рубашонках, с развевающимися кудряшками и сияющими, точно звездочки, небесно-голубыми глазенками), и не предлагаете ему задумчиво гладить их головки и размышлять над ними о бесконечной смене поколений, бальзаме для уверенного в своей бренности индивида; и не делаете из него садовника, утешающегося (золотушным) потомством, которому он по-нищенски, то есть великодушно, завещает плоды, которые сам уже не соберет; или астронома, этакого трудолюбивого мошенника, пытающегося убедить себя и нас, будто бесконечность можно подменить некими манипуляциями с несчетным количеством километров; или дряхлого и совершенно выжившего из ума болвана, который пытается добиться того же при помощи трюка с интерференцией между так называемыми геологическими эпохами… Действительно, опустошенный смертный лишен выбора: ему остается только обратиться в соляной столп. Вот каково действие ужаса, который внушает милостивое цельное зрение, ужаса, подобного вырванному жалу пустившей его в ход пчелы — и вырванному именно потому, что пчела пустила его в ход. Вот каково действие этого не подвластного ни единому силомеру толчка, энергетический эквивалент которого был вначале едва ли не равен тому, что возникает при выпадении волоска, но зато потом при помощи системы зубчатых колес, рычагов и клиньев он, один из избранных, оказался перенесенным к пределу, откуда достаточно уже всего лишь прыжка, чтобы петли, на которых держится космос, расшатались, и он сам принялся бы вращаться — все быстрее и алчнее. Во что, кроме соляного столпа, можно обратиться при виде муравьиной силенки, перед которой цепенеет высокогорная мускулатура Голиафа? Во что, кроме соляного столпа, можно обратиться перед дерзновением краски, звука, словечка, земная реальность которого столь же невероятно непропорциональна оккультной его силе, как агуканье грудного младенца — буре, ломающей пирамиды (если допустить, что оно каким-то чудом внезапно ее заглушило)? В соляной столп; но вовсе не из-за одного лишь ужаса, вызванного захватывающей дух непропорциональностью между причиной и следствием, но также из-за ликующего ужаса, из-за ужаса узреть свои корни, из-за ужаса, который внушает милостивое цельное зрение. Соляной столп: словно душа, которой было суждено забыть, что она узник материи; и словно материя, которой было дано забыть, что ее узник сильнее и великодушнее, чем она сама. Соляной столп: двоякость, растопленная Дыханием и после вновь отлитая в творение, ставшее адекватным отражением духа, с которым она, возможно, враждовала, от которого, возможно, была отчуждена. Соляной столп! Многое единое и единая множественность, полнолуние, наконец-то соскользнувшее в баню, откуда оно когда-то появилось, и бессознательно познавшее свою суть. Соляной столп! Атом, встретившийся со своей матерью и тут же разметавший ее в несчетные созвездия, частицы которых еще бессознательнее, чем был когда-то он сам.
Ты способен, ты готов, ты можешь, ты настолько прост, ты настолько мертв, ты настолько неистов, слеп и сокрушителен, чтобы совершить то, на что способны эти предметы, униженные, презренные и незначительные, которые тебя, погляди-ка, вон там, на опушке рощи, куда долетают только редкие, хотя и тяжелые капли перепелкиного свиристения, там, где пылкость сока доискалась до возможности одновременно произносить сладкие речи и стекать деловитым потоком, там, где роса становится бисером, этой окаменевшей радугой, и где накопленная музыка прорастает, цветет и благоухает в прекрасных стройных стволах и невероятно естественных искусственных цветах, названия которых отлетают прочь вместе с последним вздохом умирающего, вздохом, от коего даже невидимые полосы радужного спектра обретают вдруг цвета, — итак, говорю я: подобен ли ты этим вещам, которые на опушке рощи вдруг столкнули тебя с вызубренной орбиты вокруг нашего солнца, которое только-только неохотно приняло тебя за своего, и зашвырнули в эти безнадежно многообещающие революции, где «быть» означает «сдаться»?
Если тебе удастся то, что стольким рабам — и людей, и вещей — удалось просто потому, что они по каким-то причинам задержались там, откуда «по правилам» давно уже должны были исчезнуть, что попались тебе на глаза именно тогда, когда глаза эти пытались вызвать их к жизни с помощью некоей таинственной оптики, с помощью неких давних воспоминаний об истинах — равно бесспорных и никуда не годных… если и тебе удастся достичь этого ненужного единения, которое тут же рассыпается невидимым прахом, оставляя, однако, по себе несмываемые и горькие свидетельства, если и ты сумеешь добиться этой игры воспоминаний, которые, наверное, и впрямь есть Божий шепот, то я рад за тебя.
Рядом с этой позитивной тщетой все остальное — только хорошее и полезное. Слово «искусство» — одно из тех редких слов, которые из-за особенностей своей пищеварительной системы я после обеда стараюсь не произносить. Да и в другое время, если мне надо его произнести, приходится принимать определенные меры — иначе произойдет катастрофа. Меры эти вот каковы — следует повторить сто и один раз, что, произнося «искусство», я, собственно, всего лишь использую не вполне равноценный синоним иного слова: искусство — это эффект, который производит все то, что ввергает нас в тщетное, сахарское и возрождающее воспоминание, длящееся секунду и вбирающее в себя вечность. Лишь после такого ответа на question préalable[32] я в силах говорить об Искусстве с большой буквы И. Вставьте разные Искусства в рамочку, и воздадим должное Искусствам, 1) которые являются оазисами в повседневной жизни и позволяют в должной мере облагораживать и омывать человеческую душу; 2) которые дают представление о высотах, куда сумеет вознестись человек, посвященный — разумеется, избранный — разумеется, но все же представитель рода человеческого, один из нас — вон, поглядите на него! — тот, кем этот род может гордиться, иначе говоря — гордиться самим собой; 3) которые теми или иными, но всегда дозволенными законом фокусами могут снять чары с того, что являет собой всего лишь единичный случай, и тем ярче и великолепнее осветить сущность творчества; 4) которые интуитивно обнаруживают в материи, простой материи, представьте себе, живой принцип и таким образом по меньшей мере удваивают интенсивность космической эйфории; 5) которые возводят человека на те крутые вершины, где уже нет никаких препятствий между ним и живительными лучами неугасимого Божьего солнца, где, иными словами, шафран не дороже кормовой соли; 6) которые служат наслаждением и молитвой, просьбой и ее удовлетворением, слабостью и поддержкой, неразрывным всеобщим объединением — и все это благодаря вдохновению, которое направляет мысль к единственному воистину живительному источнику, и благодаря мысли, которая управляет вдохновением, следя, чтобы эта шавка не забежала туда, выбраться откуда можно было бы только прыжком — стремительным, напрасным и хорошо если не смертельным.
Воздадим должное этим учебным пособиям института по улучшению человеческой расы, выстроимся шпалерой, чтобы они могли пройти так, как подобает особам высокого звания, и вернемся.
И прежде всего дадим отпор клевете. Нам кричат: во-первых, вы говорите нелепости, а во-вторых, говорите их самонадеянно. Нелепости — пусть, но самонадеянно ли? Разве заслужил я столь позорные упреки? Если мы подходим (подходим!) к искусству с такими исключительно строгими мерками (я вновь пишу «искусство»; но вежливо отсылаю к примечанию выше, которое меня оправдывает, оправдывает, оправдывает в большей степени, чем это необходимо), то помните: делаем мы это единственно потому, что считаем его потенциально способным возвести, уничтожить и возродить так же, как удается подобное униженным, незначительным, презренным предметам, которые даже во сне не мечтали быть искусством. Напротив, мы скромны и покорны. Мы говорим только, что лишь тогда преклоним колени перед картиной, стихами, музыкой[33], когда они добьются — хотя бы словом, хотя бы тоном — того же, чего добиваются световые экспозиции снов и воспоминаний.
И добавлю: меня бы опечалило, реши кто-нибудь, будто все, что я уже написал, пишу или напишу, — это только лишь хитроумный, лукавый и завуалированный маневр, имеющий целью проникновение с заднего крыльца в классификацию каких-нибудь «измов». Господи, да вовсе нет! Для меня же не существует никакой иерархии. Хоть на куски меня режьте, но я, пока способен буду слово вымолвить, так и не объясню… не объясню, почему, к примеру, сюрреализм будит ассоциативное воображение (смотри примечание) успешнее, чем импрессионизм, романтизм или кубизм… Лучше, пожалуй, я без утаек скажу вот что: если мы заявляем, например, что Песни Малдорора (По, Рембо, чтобы не говорить о живых) представляют собой некий максимально заряженный аккумулятор эвокативных элементов, световых экспозиций снов и воспоминаний, то мы совершенно не имеем в виду, будто произведения, созданные на основании иных мысленных, эстетических, чувственных посылок, этих элементов роковым образом лишены. (Слова, которые я сейчас употребляю, вызывают у меня дурноту, но — в конце концов — наступают в жизни такие минуты, когда нужно любой ценой объясниться — с равными себе.) Допустим, что Лотремон может очень часто превращать господина X в соляной столп, что он наделает из него максимум соляных столпов; но это вовсе не означает, что господам Моне, Дега, Ламартину, Стендалю, Флоберу, Виктору Гюго и Полю Верлену; господам Пикассо, де Сегонзаку, господину Полю Валери; господам Карелу Томану, Дуриху и Карелу Чапеку; господам Рутте и Тайге; господину Яну Врбе и etc., etc. (эта номенклатура безумна, но поверьте, что системы в ней нет); господам Отокару Фишеру и Тееру; господину Декарту; пьесам из театра Амбигю; некоторым местам из ревю Казино де Пари; итальянским шарманкам; господам Масканьи, Пуччини, Витезславу Новаку и Кржичеку; барышне Жозефине Бейкер; господину Линдбергу, статуэткам и олеографиям из Сент-Сюльпис; господину Мухе, господам Майолю и Гашлеру; обоим господам Бурианам; господам Восковцу, Вериху и Гоффмейстеру — короче говоря: это вовсе не означает, что им не под силу тоже наделать из господина X соляных столпов. Вообще-то, они легко с этим справятся, хотя, наверное, господин X (о котором я предполагаю, что Песни Малдорора, По, Рембо и подобные им наделают из него максимум соляных столпов) был настроен прежде всего на ключ Лотремон и Ко. Ибо дух дует туда, куда захочет, и нечего удивляться, если он сильнее надул парус ярмарочного певца, чем парус Таможенника Руссо. Я и вправду не знаю лучшего, чем приведенные имена (добавить к ним еще тысячу не составило бы для меня труда), доказательства того, что я не признаю никакого первенства, основанного на кредо эстетическом, философском и т. п. В плане генетическом никакого. Но вот что касается прибыли (прибыли в соляных столпах), что касается практики, то дело обстоит несколько иначе.
Ибо я уже сказал, что каждому случается взять фальшивую ноту; и тому, кто добросовестно старается играть в общем оркестровом ключе; и даже тому, кто нарочно хочет играть фальшиво, как господин доктор Тайге. Надо только учитывать волю тех, кого приносят в жертву. Но и у тех, кто жертвами не является и являться не может, может все-таки быть воля стать ими. Такая воля не противится желанию превратиться в инструмент. Но намерение это не воля. Выбора нет; а потому также нет противоречия в высказывании, что можно достичь чего-либо, не желая этого. Можно остановиться посреди мистерии и тут же позабыть о ней: милость. Можно ходить по свекольным полям, не догадываясь о близости моря, и обнаружить его. Многие, находясь на пути в Еммаус и осознавая это, думают о просвещении лишь как о желанной добавке к удовольствиям, ради которых они туда собрались; может быть, такой человек станет даже просвещеннее, чем тот, вся воля которого опирается на мистерию, — ибо, повторяю, милость не соответствует заслугам — но для тех, кто сердцем с Ним, и неудача воссияет светом вдвое светлее, чем успех для тех первых. Имманентный бог, хотя он и распят, не отказывается от надежды позже все-таки достичь триумфа бога трансцендентного. В этой неиссякающей надежде — и, следовательно, уверенности — заключается его всемогущество. Те, кто ищет новаторский фальшивый тон (а самый глубинный смысл «искусства» для нас всех, для одних — осознанно, для других — никоим образом, это вынесение на поверхность забытых снов, чтобы хоть на мгновение могли вновь расцвести те перерубленные побеги, которыми мы до проклятия и на заре своей жизни касались Великого Господа), те поступят лучше, если доверятся другим, чья воля быть инструментами так напряжена, что они отказываются льстить хоть сколько-нибудь банальным удовольствиям нашей куцей жизни. Даже в хаосе разбушевавшихся стихий — а это нормальное состояние космоса — надеяться, что до нас доберется Божий вестник, весьма рискованно; однако еще рискованнее надеяться на это в выстраданные минуты покоя, когда буря улеглась и когда у Господа, вероятнее всего, сиеста; а вот из смятения, темноты, из всего того, чего до ужаса боится контроль над нашими органами чувств, молния ударит скорее, чем с высот, где сияет солнце духа, то есть мысль, артикулирующая, как деревянный паяц, красота, то есть воскресная прическа девушки, которая будет через минуту изнасилована, добро, то есть леопард, переваривающий свой обед, ясность, то есть мгновение перед закатом, мудрость, то есть предательская гармония, когда вот-вот наступит неизбежный dies irae[34]; чем с высот, где сияют солнца, выстраданные в минуты человеческого малодушия.
Моя поэтика исходит из нескольких кажущихся парадоксов: просвещение приходит из тьмы, мудрость — от безрассудных, отдохнуть можно лишь среди бурлящих волн, если ты голоден, садись за пустой стол, а если хочешь заглянуть в ближайшую обитель бесконечности, доверься тьме. А моему поэтическому честолюбию хватило бы, если бы после долгих-предолгих километров пускай лунатического бреда, пускай циничного богохульства, злых шуток, наглого бахвальства, чарующих мелодий, мелодичных чар, сватоплуковской мудрости, соломоновой сообразительности, аполлоновой горячности, дионисийской завороженности, магической проникновенности я написал всякий раз — случайно! — одно слово и сумел ему — невольно — подготовить такое окружение, такой смысл, такой звук и музыку, дабы тебе, столкнувшемуся с ним, была явлена изумляющая и объемная множественность, дабы заскрежетало столько ржавых неповоротливых замков, дабы запылало столько таинственных пожаров, сколько удалось устроить той жестянке на дворе, которая ослепила тебя нынче утром, когда ты открывал ставни; как тому козленку на берегу реки Крез, который, хотя и с опаской, все время словно нарочно держался подальше от матери; как тому ботинку со шнурком, ботинку с разинутой пастью, который я заметил из окна поезда на куче шлака за Сен-Дени; как тому настойчивому звуку валторны, которым лесничий в бехиньском заказнике созывал много лет назад своих косуль к кормушке.
Проблема, если так можно выразиться, техническая, проблема, о которой идет здесь речь, хотя и ясна, но сложна. В сущности, я говорю о том, как закрепить вербально сны и воспоминания. И не столько даже о том, как их закрепить, сколько о том, как сделать так, чтобы они дошли до максимального количества «посторонних», то есть тех, у кого нет никакого собственного опыта подобных снов и воспоминаний. Короче говоря, речь идет о закреплении для тебя и объективизации для других. Нет сомнения, что литературная техника — вольно или невольно — стремится лишь выработать способ передать видения, сны и воспоминания так, чтобы они сохранили как можно больше своей «эвокативной» сущности. Нет поэта, достойного этого звания, который не был бы совершенно уверен, что может стать спасителем, или — если без громких слов — освободителем, советчиком, помощником, дельным мастеровым, то есть кем-то совершенно незаменимым, но стать он им сможет, лишь выполнив следующее условие: найти способ, как передать, как донести до других свои видения, свои сны, свои воспоминания. (Это перечисление вовсе не конечно; пожалуйста, не придавайте никакого оттенка сентиментальности этим трем словам. Нет ничего проще, чем обобщить их в выражении «поэтический опыт». Лишь в технических целях мы прибегли к словесной дифференциации вещи, в сущности единой.) Первое затруднение, с которым мы сталкиваемся, — это затруднение мнемотехническое. Каждый знает, как коротка память на сны. Менее явна краткость памяти на эвокативные воспоминания и видения. Менее явная она потому, что мы принимаем регистрируемые воспоминания за бодрствование, за нечто, существенно от сна отличающееся. Но параллелизм между навязчивой долговечностью некоторых снов и некоторых воспоминаний свидетельствует, как мне кажется, — не говоря уже о свидетельстве иного рода, о котором мы собираемся сказать позже, — о том, что между сном и эвокативным воспоминанием разницы нет. Обращусь к примерам. Каждый читатель — я в этом уверен — сумеет на их основании вспомнить аналогичные примеры из собственного опыта, доказательные в том же смысле (или в тех же смыслах).
Я испытал на себе метод маркиза д’Эрве де Сен-Дени[35]и обнаружил — признаю это откровенно, — что он себя оправдывает: моя память на сны, которой до тех пор вообще не существовало, значительно укрепилась. Я, у которого после пробуждения прежде оставалось лишь «осознание», что я видел «очень живой» сон, но осознание, так сказать, рамочное — выражение, кстати, крайне уместное, ибо все, что оставалось от сна, действительно напоминало раму, и хотя я знал, что изначально она пустой не была, что из нее была вырезана картина, однако же о самой картине я не имел ни малейшего представления, и в памяти в лучшем случае сохранялось только несколько фрагментов сна, которые, впрочем, вскоре испарялись без остатка — обычно за то время, пока я одевался, — так вот, я сумел достичь, несколько упростив метод д’Эрве, действительно значительного закрепления воспоминаний о сне. Но когда я более глубоко задумался о тренинге, то кое-какие обстоятельства исподволь навели меня на подозрения — а не является ли все это лишь грубым самообманом? Ведь я уже давно (то есть до того, как начал упражняться в этом мнемотехническом методе) замечал, что это испарение фрагментов сна начиналось тем, что данные фрагменты начинали непроизвольно сгущаться, словно выстраиваясь в некую логическую цепочку, которой сам сон был явно лишен. Образование этих цепочек вело к парадоксальному результату, а именно: сон или же обрывки сна складывались перед самым своим исчезновением в более компактное целое, чем непосредственно после пробуждения. Итак, факт, что память, вероятно, ослабевала (чтобы позже и вовсе отказать), создавая образы тем более цельные, логичные, убедительные, чем ближе было угасание, представлялся чем-то столь парадоксальным, что неизбежно напрашивался вывод: память эта ложная, хотя на сне и основывающаяся, но творящая за пределами его области — разумеется, лишь до тех пор, пока не выскажется настоящая память сна. Подведу итог: весь прогресс, которого достиг я указанным методом, состоял, собственно, лишь в том, что сны, сконцентрированные этой памятью сознания бдящего, сопротивлялись времени лучше, чем прежде. Общим же с первичными скоплениями фрагментов у них было то, что они также достигли логического сгущения, психологической «возможности», формы действия, поддающегося повествованию. Как только я констатировал этот факт, сомнений не осталось: весь метод д’Эрве ведет лишь к закреплению преимущества памяти вторичной (бодрствования) над памятью первичной (сна), а сохраняемый сон в лучшем случае расплещется. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать, что бежал я от этого прекрасного произведения как от чего-то поистине сатанинского. С ностальгией вспоминал я время, когда, не прошедший мошеннических тренировок, смел полагаться на свою память, будто на надежное сито, которое хотя и удержит лишь то, что сумеет, то есть немногое, но и наверняка не удержит плевел. Ведь прежде, сохранив одно зерно, мы получали право на определённые выводы, которых, если быть честными, преднамеренно натренированная память не допускает. К счастью, нет ничего проще, чем отказаться от этого недобросовестного метода: достаточно прекратить делать заметки «по свежим следам». Так и произошло; и все прочее опирается лишь на такую память — невоспитанную…
Итак, эта невоспитанная память сохранила для меня, собственно, лишь один сон. Зато сохранила так, что и не сотрешь. Это сон, посетивший меня лет в десять, и вот каков он.
Хрупкий подросток едет в карете. Это добротное закрытое ландо, с мягкой обивкой внутри, с глубоким задним сиденьем и без сиденья переднего. На этом единственном сиденье устроились две молоденькие подружки невесты: с миртовыми веночками; эти подружки внешне не похожи, но все же друг от друга неотличимы. Их белые кисейные платья бросаются в глаза — и прежде всего потому, что они «плоеные» и от этого каким-то непостижимым образом перекликаются с прическами этих девушек, с их тугими и тоже плоеными локонами. Обе они сидят, скрестив ноги, и так близко друг к другу, что это обстоятельство рождает странные, кудрявые и незнакомые мысли в голове мальчика, который играет роль свадебного пажа, хотя на нем всего лишь обыденный черный суконный наряд (короткие брюки и однобортный, застегивающийся — и застегнутый — на многочисленные круглые пуговицы сюртук с широким отложным воротником и плоеными невообразимо нежными манжетами). Та из девушек, на чьих коленях покоится голова дружки, говорит безмятежно: «Карета едет без лошадей». Та из девушек, на чьих коленях ноги дружки, говорит столь же безмятежно: «Карету везут лошади без голов». Подросток — а это я — глядит сквозь переднее окошко, и ему не надо для этого ни наклоняться, ни поворачиваться. И он видит, что карету везут два вороных, запряженные задом наперед. Они бегут, пятясь, заглядывают внутрь экипажа, и один из них смеется, а другой плачет. У каждой из подружек невесты на коленях по темно-синему игольнику, но оба они как-то сливаются в один, причем сливаются непрерывно и булькая. Я лежу на спине, но не прямо на коленях девушек, а на этом игольнике, и девушки, пристально глядя сквозь переднее окно и совершая движения якобы невинные, но при этом словно бы назло мне, втыкают в игольник булавки: сквозь меня. Это совсем не больно, и смеющийся и плачущий вороные кони говорят за меня: «Мне все равно».
Музей снов. Бедный музей снов. За 44 года один-единственный экспонат. Хранитель не перетрудится[36].
«Хранитель, — заявляет сладким голосом известный чехословацкий критик, — это прежде всего человек с очень бедным воображением, чья интеллектуальная жизнь, видимо, столь же резва, как садовая улитка в агонии, и который вот уже девяносто страниц подряд предпринимает бесплодную попытку передать читателю вещь непередаваемую, то есть вещь, лишенную всякого интереса, утомляя нас, утомляя нас…»
Благодарю известного чехословацкого критика. И все же, пусть читатели и утомились — что у меня сомнений не вызывает, — здесь, на 90-й странице рукописи, эти строчки читают лишь те, кто до этой 90-й страницы добрался. (Утверждение, не требующее доказательств.) Тот факт, что они дошли до этого места, в определенной мере свидетельствует в мою пользу — что, напротив, является утверждением, требующим доказательств, утверждением, которому и так, без доказательств, любой может отказать в каком бы то ни было правдоподобии.
Ах, критик, критик!.. Если кто-нибудь, десятки лет позволявший опутывать себя паутиной, решился наконец совершить движение, которое ее прорвет, если он обнаружил, что может легко и просто освободиться, то за каким чертом станет он считаться с тем, забавляет это кого-нибудь или утомляет? Вот почему вмешательство известного чехословацкого критика оказалось столь же действенно, как рев мухи, ибо и мух, конечно, иной раз охватывает стремление взреветь, поддавшись которому, они бывают уверены, что взревели ужасно, ибо взревели по убеждению. Однако же у меня есть причина чувствовать себя в долгу перед критиком, он указал мне путь, путь…
Да, именно потому, что хранитель моего музея снов, я сам, добыл так мало, именно потому, что «воображение его бедно, а интеллектуальная жизнь, видимо, столь же резва, как садовая улитка в агонии», именно потому можно отважиться на предположение, что сохраненный сон — это перст. (Пока я не говорю, что перст Божий.) Ибо если «я» принимает решение о сохранении снов, здешних и здесь, то нет причины запоминать скорее этот сон, а не другой, забыв обо всех остальных, удерживать один-единственный. Это очевидно. Я рискую малым или же вообще ничем, высказав с бесспорной уверенностью утверждение, что мои способности и недостатки, мои склонности и предпочтения, мое «я», контролируемое и прослеживаемое, не имеют с этим сохранением ничего общего. Если бы речь шла еще о сохранении в памяти! Но какую роль отвести памяти, пусть памяти на сны, то есть способности воскрешать некую прошлую, материальную или нематериальную реальность на основании аналогий и ассоциаций, происхождение которых можно проследить иногда с большим трудом, но идентификации которых путем рационального анализа тем не менее удается достичь всегда, — какую роль, говорю я, отвести памяти в психическом феномене, который не является эвокацией, но во многом скорее близок нашептыванию, заклинаниям, то есть не вызван и обусловлен аналогиями (пусть самыми отдаленными, самыми скрытыми), но, напротив, аналогии вызывает и обуславливает, который подобен отзвуку выстрела, услышанного нами ранее, чем мы заметили перед дулом вспышку; короче говоря, феномен этот — начитанный читатель поймет меня, а для кого же мне еще и писать, как не для читателя начитанного?! — подобен негативу прустова намоченного в чае кекса или его знаменитой фразы из сонаты Вантейя. Возможно, однако, что вы до сих пор не поняли. Чему тут изумляться! То есть я требую от вас примерно такого же усилия, какое понадобилось бы вам, чтобы продолжить мое «нежная паутина, зацепившаяся о покрытый мхом булыжник…» словами: «…раздробила булыжник этот в пыль», будь даже правдой то, что она раздробила его в пыль…
Тогда попробую упростить. Сон о безболезненно прокалываемом мальчике, или, вернее, воспоминание об этом сне, ассоциативно не подстраивается к какой-то определенной категории впечатлений бодрствования, но напротив: это воспоминание означает, что, возможно (но вовсе не обязательно), определенные категории впечатлений находятся на пороге: неожиданное письмо; восстановление справедливости в отношении меня; книга, на страницах коей я удивительным образом нахожу отклик на свои самые потаенные мысли; любовное приключение. Короче: нечто духовно обновляющее, за чем, однако, следует мощная депрессивная реакция, причиной которой, думаю я, является вовсе не качество, но ограниченность во времени этого обновляющего импульса.
Однако в целом от этого здесь мало что зависит. Напротив, обращаю внимание на порядок, который в сравнении с обычным опытом можно назвать извращенным; на тот немаловажный факт, что сон анекдотический, если можно так сказать, моя память сохранила лишь один; но зато зафиксировала его не только неизменным, но и реальным, как если бы он находился в твердом состоянии; что я словно одержим предчувствием, будто именно ему суждено стать последним, что я восприму в моей земной жизни; что ему предначертано быть моим пропуском в иное; моим удостоверением личности; пока еще неопределимым, но существенным дополнением к тому человеку, которым я стану, когда очищусь.
Причиной этой неопределимости — в чем я не сомневаюсь — является то обстоятельство, что речь идет именно о сне, то есть о действительности хотя и реальной, но такой, куда мы ступили, вооруженные чувством, которого мы лишены в тех фазах существования (существования рудиментарного), когда мы способны к координирующим операциям, результатом коих становится лишенная Бога уверенность, будто мы постигли если не смысл своей жизни, то хотя бы общее направление своих действий и восприятий… То есть о факте хоть и навязчивом, но неуловимом, который, кажется, соскользнул с орбиты рационалистических детерминант нашего «я», так что мы непроизвольно отодвигаем его в ряд минутных помешательств, которые дисциплинированному мозгу позволено не замечать.
Сон есть атмосфера; но атмосфера словно бы над континентом необитаемым; я бы даже сказал — над континентом никаким. Однако этот ленивый и трусливый тезис удивительным образом шатается, если мы поверяем его психическим механизмом воспоминаний; воспоминаний бодрствующих. Читатель, возможно, еще помнит — предмет настоящего памфлета уводит меня так часто и так далеко от исходных пунктов (исходных пунктов! как будто мы куда-нибудь движемся!), что неудивительно было бы, если бы он об этом забыл, — читатель, возможно, еще помнит, что мы говорили об аналогии между снами и определенными воспоминаниями.
В общем так: я и пальцем не шевелю, чтобы вырвать у господ механицистов даже этот незаметный анклав их карликовой державы под названием память. Они разделили человека на отделы; с одними они не знают, что делать; зато на других, к которым они якобы нашли ключ, они отыгрываются, как расшалившиеся мальчишки. К этим механистическим champs clos[37] относится память, а следовательно — естественным образом — также и ее изделия, воспоминания. «А ехал поездом из X в Y. Подъезжая к Y, он взглянул в окно и заметил пасущуюся белую корову. Через год А прогуливался в окрестностях Z. Неподалеку от Z он заметил пасущуюся белую корову. Он мгновенно вспомнил путешествие их X в Y, свое пребывание в X». Это одна из простейших схем механизма памяти и возникновения воспоминаний. Достаточно овладеть соответствующим словарем: мозг, мозжечок, серое вещество, межклеточная коммуникация, аналогия изображения на сетчатке, повторение реакции, оптическое эхо и т. п.; достаточно притвориться, будто законы аналогии, законы периодичности — это нечто осязаемо понятное и ясное (на самом деле они, конечно, пугающие ничуть не запутаннее, но и ничуть не яснее, чем, например, проблема гравитации или теплопроводности; но разве это прибавляет или убавляет вопросительные знаки?), и возникновение определенного воспоминания рассчитываешь по заранее предложенным данным при помощи тройного правила или системы неопределенных уравнений, которые называют неопределенными только для того, чтобы произвести впечатление.
Отдаю вам на милость толкование воспоминаний; отдаю его в ваши руки, как плащ, без которого я обойдусь, а вам было бы очень холодно! Может быть, такой ценой я хотя бы спасу жизнь. Я сумею, если захочу, вспомнить тысячи, сотни тысяч вещей — без помощи белых коров, то есть более загадочным образом… — но весь этот хлам бодрствующих воспоминаний я дам вам в придачу, если вы вставите в свою схему воспоминания бодрствующие таким же образом, как и все прочие; например, такое вот воспоминание. — Я студент пражского технического училища. Живу в доме, соединяющем Мелантрихову улицу с Кожным переулком. Прекрасное майское утро, ближе к полудню. Я иду по Мустеку. Подходя к нашему дому, замечаю трех девочек. Они шагают передо мною. Три девочки с косичками, одна подле другой, настоящая лесенка; они шагают, держась за руки, и даже сзади заметно, с каким интересом они друг с другом разговаривают. Посередине самая высокая, слева — средняя, а справа — малышка-недомерок. Внезапно мне приходит в голову, что этой малышке хочется отпустить руку самой высокой девочки. Но в этом желании заключено еще одно, и очень важное желание: выпустить эту руку так, чтобы та, кому она принадлежит, то есть самая высокая из девочек, не обиделась. Дальнейшее происходит очень быстро, но при этом так, что я замечаю все подробности, словно кто-то комментирует события: малышка отпустила руку. И пока две другие девочки, увлеченные беседой, продолжают как ни в чем не бывало (собственно, ни в чем и не бывало) шагать дальше, третья огибает их сзади, описывая дугу, возникающую в результате двух механических движений: перехода с правого крыла на левое и непрерывной ходьбы двух других; прелестная закругленность этой дуги выражается, однако (непроизвольно?), следующим трудно разрешимым, почти ангельским, уравнением; стремление к переходу справа налево — эта реализация желания быть возле любимой девочки, находящейся посередине, — равняется стремлению не обидеть самую высокую девочку, которую малышка любит так, что готова отказаться от осуществления своего первого стремления, если только почувствует, что может этим ранить высокую. Далее прелестная дуга замыкается. Малышка ухватилась за руку девочки слева, и все три — как ни в чем не бывало — шагают дальше. Думайте что угодно об описании этой сцены; единственное, с чем я не буду спорить, так это с тем, что я не способен выразить словами ее святость, которая сразу бросилась мне в глаза, заставив вспомнить о благовещении. Надеюсь, мне поверят на слово, если я добавлю, что уже тогда, когда описанная сценка разыгрывалась передо мной, я был уверен, что она, невзирая на свою простоту, если не сказать — банальность, приобретет для меня значение мифа, станет воспоминанием о чем-то, чего мне более всего не хватает на этом свете, воспоминанием блуждающим и вечно ускользающим, которое внезапно и чудесно сложилось — своими формой, линиями и движениями — в сеть, ячейки коей приспособлены к тому (и ни к чему иному!), чтобы выловить роковое, утерянное в результате бог знает какого греха дополнение, без которого тщетна любая жажда слияния, то есть самоуничтожения, то есть спасения. И выловить откуда? Из беспредельных просторов! Задумайтесь над столкновением двух случайностей: среди огромного-преогромного города я замечаю сценку столь ничтожную, причем замечаю ее как раз в ту долю секунды, когда она лишь и может быть действенной, то есть именно тогда, когда пересекаются пути двух антагонистических и ностальгических половинок; и попытайтесь и далее отрицать первородство чудесного.
Воспоминание это всплывает так часто и так автоматически, что мне не остается ничего иного, кроме как считать его ценностью, присутствующей вечно, но латентно. Итак, вид дома, где я недолгое время жил и где взяло начало некое событие, позже сыгравшее в моей жизни довольно заметную роль. Отдельные фазы этого действа память моя также сохранила — и с точностью. Сохранила она их способом, полностью удовлетворяющим господ механицистов: я вспоминаю о них, если мне захочется или к случаю. Я суверен этих воспоминаний; но сцена с девочками и сама по себе суверенна. Она всплывает, когда ей вздумается; всплывает, вызывая представление об этом длинном доме; но только почему так редко я перескакиваю с мысли о доме к событию, связанному с ним настолько тесно? Почему сценка с тремя девочками словно не решается слиться с этим небольшим романом, с которым соотносится лишь по месту действия? Почему сценка с тремя девочками словно заводит нас в тупик?
Отважусь написать, что это из-за ее сущности, отличной от сущности воспоминаний «механистических». Именно потому, что это воспоминание о событии столь мирском и столь тонком, я не могу отказаться от убеждения, что настойчивость, с которой оно меня не отпускает, это тоже перст; и перст, указующий на факт тем более значительный, что связан он с той фазой существования, когда наши контролирующие и координирующие органы чувств работали несомненно в полную силу. Сон, реабилитированный бодрствованием: сон, реальность которого бодрствованием подтверждается; четвертое измерение жизни, перенесенное в трехмерную проекционную «реальность» и этой проекцией переданное. Сонная сущность воспоминания о сценке с тремя девочками не коренится в анекдотической мелкости и незначительности этой сценки; коренится же она в непропорциональности этой мелкости и незначительности той неутихающей силе, с которой манит меня оно, чтобы вновь и вновь всматривался я в слепое зеркало, которое мне бы ответило, сумей прозреть мое «я».
Пожалуй, для многих будет полезно, если я обращу их внимание на подробность, которую, возможно, они до сих пор не заметили: есть некая аналогия между единственным сохранившимся моим сном и этим непобедимым бодрствующим воспоминанием, что порождает блаженство[38]. Я предлагаю это обстоятельство их аналитическому уму. Откровенно говоря, я не нахожу в этом обстоятельстве ничего особо увлекательного. Ни от чего я так не далек, как от попыток выдать психоанализ за врата к основополагающему «почему». Сны и воспоминания интересуют меня единственно как элементы или же как отправная точка поэтики. Я ищу — и сегодня вовсе не впервые — возможности их использовать в качестве виртуального и наиболее основательного фундамента для «нравственной» словесности, единственной словесности не «напрасной», и — о, вот парадокс, не правда ли? — нисколько не напрасной потому, что она базируется именно на том, что мы считаем самым ненужным: на снах и навязчивых, прилипчивых, сонных, эвокативных воспоминаниях.
Я писал об этом выше, не скрывая своих сомнений в достижимости цели: недостаточность и фальшь памяти на сны, «усиленной» методом, скажем, д’Эрве. Существует и другая трудность: трудность композиции и словаря. Трудности словаря не самые большие: мне кажется, что при наличии подготовленного и снисходительного читателя я имею право на определенную денатурализацию словаря: в сущности, речь идет о замещении тех представлений, которые традиционно вызывают некоторые слова, представлениями иными, часто, не отрицаю, довольно отдаленными; то есть об ускорении процесса, для повседневной жизни совершенно обыденного. При наличии подготовленного и снисходительного читателя, как я уже говорил, было бы относительно просто договориться о том, что, например, слово «масло» будет означать «камень», а если я пишу «шел», то вообще-то имею в виду «стоял», и что «нос корабля» означает не самую узкую его часть, а, напротив, самую широкую, словосочетание же «служанка пошла на рынок» по желанию автора может вызвать в сознании образ «матери, благословляющей детей», и т. д. Предвосхищаю возражение, которое напрашивается, и напрашивается изо всех сил: зачем нам эти выверты, почему не выбирать слова, которые для большинства читателей ассоциируются как раз с теми представлениями, о которых говорит писатель. «Вы непременно хотите выделяться! Вы хотите быть герметическим!» Да ни в коей мере. Я просто говорю, что в общей суете, глядя на которую, я мечтаю непостижимым образом сорвать со всех маски — о, этот бал-маскарад, где танцующие опознаются тем легче, чем более «неузнаваема» их маска! — слова не просто посредники и помощники в зарождении ассоциаций, замыкающих круг, то есть ассоциаций, которые держат нас взаперти (а взаперти держит едва ли не каждая из ассоциаций), а тех, что по-настоящему живут, обладая неповторимыми цветом, формой, красотой или мерзостью, этикой; то есть, короче говоря, эти ассоциации подобны раскрывающимся куколкам, из которых высвобождается новый и полноценный мир. Слишком тяжелым выкупом был бы отказ ради «понятности» от возможности столь восхитительных открытий. Что, это открытия эгоистические? Тоже мне открытие! Разумеется, это открытия эгоистические, но если среди сотен и сотен ты наткнешься на одно, которое откроет тебе то, что открыло мне, ты вознагражден тысячекратно. Во-вторых: кто бы отрицал, что эти слова для замены, эти слова изменчивого, если мне позволено будет так выразиться, состояния, эти слова-калейдоскопы или артикулирующие паяцы, или — иначе — слова о совершенно невероятных и непостоянных системах и положениях, слова, наделенные некоей вездесущностью представлений, являются именно той единственно возможной основой для снов, до которой мы, убогие, можем еще кое-как аналитически докопаться.
Хуже обстоит дело с трудностями синтаксическими и трудностями, вытекающими из кажущейся анархии, которую сон сопрягает с глаголом, а также из анархии, вторгающейся в правила о месте и функциях частей предложения. Как выразить директивно, без объяснений и комментариев, что пирамида, стоящая на острие, именно потому стоит так прочно, что не опирается на основание? как поступить, чтобы читатель также проникся той легкостью, с какой продел я в иглу корабельный канат, и теми трудностями, с какими продевал я обычную нитку? как описать просто те дворцовые залы, где устраивают балы огромные чудовища, но куда не поместится детская кукла? как потребовать от вас искреннего убеждения в том, что X, увиденный мною на горизонте, казался намного больше, чем Y, который находился совсем рядом со мной? что поколение 1928 года завещало весь свой жизненный опыт поколению 1830? что V, ведущий за руку Z, уже давно прошел городские ворота, a Z все еще очень и очень далеко? И т. д., и т. д.
Итак, несмотря на все эти и подобные им трудности, несмотря на ненадежность памяти на сны, я хочу попытаться. Хочу попытаться ради славы первооткрывателя. Открытие так велико, что возможная неудача меня не пугает. Говоря литературно: я хочу писать рамы. Пусть читатель заполнит их сам. Моя задача — принудить его этими рамами к тому (под рамой я не имею в виду отдельные «рассказы» настоящего тома, но абзацы, предложения и, если посчастливится, слова), чтобы он самостоятельно вкладывал в них, чтобы должен был вложить лишь то, в чем он познает себя, то, по чему он непоправимо тоскует. Для меня важна литература нравственная, почти дидактическая. Инструкция, но инструкция внушения, но внушения вовсе не методического, а достигающего наивысшей точки в присущей мне бесприютности и моем волевом стремлении дать бесприютности этой выход, инструкция, как выпрямить замкнутый круг, которым мы являемся, так, чтобы он стал направляющей откуда-то куда-то. Откуда? От атавистического уже не только предчувствия, но уверенности, что призвание человека — пребывать в Боге, не потому, наверное, что мы «лучшие», но потому, что самые цельные. — Куда? — В край, где не изумляются, то есть туда, где он, читатель, является Богом сам. Операция эта прерывиста. Начинать ее надо вновь и вновь. Удается это каждый раз всего только на мгновение. Будьте же скромны. Ясно лишь, что стихотворение, этого не достигшее, — стихотворение провалившееся.
Человек могуч; он всемогущ; но армии его рассеяны. Но не потому, что они против него взбунтовались. Человек сам себе солнце, но он заслоняет себя настолько, что узнает лишь по тени, которую отбрасывает. Вы хотели знать слишком много. Вы уничтожили, то есть развеяли в прах и то, в чем были уверены. Чем больше вещей вы понимаете, тем больше толпы вещей, вызывающих ваше изумление. Человек перестает изумляться, превратившись из круга в прямую направляющую. Я думаю о тех, кто, будучи брошен, летит подобно копью, в острие которого застряли свойства вещи. К этой обожествляющей деградации до орудия, работающего свободно, мы приходим только тогда, когда уничтожено все то, чем мы в качестве чьего-то орудия гордились. Мы всемогущи, когда видим сны, и наши органы чувств, наше мудрствующее «я», создали нам мир столь извращенный и лживый, что мы даже не догадываемся, что касались сюрреальных явлений именно тогда, когда нам казалось, что между нашими пальцами скользят лишь переплетенные волокна безумия. И все же: ключи к тому, кто мы, к тому, о чем мы обреченно тоскуем, — наверное, нет необходимости говорить, что мы и предмет нашей тоски — это два имени одной и той же вещи; есть сон; сон во сне и наяву. Потому также было и будет целью моего труда писать то, что следует sub specie[39]снов. Создать словесный эквивалент той реальности, которая хотя и не осознана, но все же является реальностью. Как? Моя тайна! Я не могу открыть ее, ибо это тайна поэта. Не она принадлежит мне, но я — ей. Все зависит от того, сумеем ли мы так солгать о нашей зеркальной тюрьме, которую прекрасно знаем изнутри, чтобы читатель узнал ее снаружи, узнал такой, какой нам ее никогда видеть не доводилось. А раз уж я говорю о зеркале… Если я всматриваюсь в него пристально и долго, то обязательно наступает — о, сколько раз я испытал это! — одно нескончаемое в своей краткости и освобождающее в своем ужасе мгновение, когда образ мой утрачен и оловянная плоскость, его поглотившая, зияет удивительной пустотой, в которую без следа всасывается все то, в чем я являюсь самим собой, пока не остается лишь совершенно неопровержимая уверенность, что я — не более чем свой самый верный знак. Мы называем это вознесением. Почему на непрозрачной и неотражающей плоскости белой бумаги — вспомните письмо, безумный тайфун, тонущий корабль и последнего уцелевшего человека, в которых мы всматривались вначале; и измерьте тщетность человеческой воли, и оцените источник той милости, благодаря которой тщетность эта становится — порой вопреки всему — всемогуществом едва ли не божественным, соотнесите ее с невольным и горестным признанием, что человек, стремившийся распрямить круг, в конце пути узнает, что ему, наверное, даже на мгновение не удалось вырваться с этой замкнутой орбиты; почему, говорю я, на непрозрачной и неотражающей плоскости белой бумаги, словно на зеркале, ослепшем от того, что оно выпило все, чем мы сами для себя являемся, не проступит то, что высматриваем мы, которые — всего лишь свой знак? Только давайте всматриваться пристально, долго, прогнав прочь сомнение, этого нежелательного чужака. Разве что черт помешает нам справиться с тем, с чем играючи справляется ребенок, водящий карандашом по мелованной бумаге; не то чудо, что «картинка получается», чудо, что именно у ребенка, у неизумляющегося, получается всегда то, что он хотел.
На белой бумаге я напечатаю белое. Напечатаю белое, пренебрегая собой, что сокрушает меня, как Медуза; я напечатаю белое ради этой могущественной потребности примирения, с помощью ножа, вошедшего так нежно, как пролившийся золотым дождем Бог, ради этой жажды примирения — за исключением предыдущего, такого грубого прощения; напечатаю белое этими колышущимися, вечно изменяющимися и всегда императивными знаками уверенности, коими неохраняемые мгновения моей жизни выжжены так, как выжжен ландшафт полосами вечернего и утреннего тумана, которые превращают его в рай в соответствии с нашей ставшей чистой картиной; напечатаю белое такими удивительно переплетающимися, такими путаными и то и дело, то и дело убегающими куда-то в сторону путями, дорожками и стежками, над которыми, как рои старательных пчел, снуют мои воспоминания о снах, теряясь то в странной и бессмысленной пустыне Гоби, то в пампасах, то в хохочущих эхом пропастях, куда нельзя добраться и про которые невозможно не верить, что они ведут именно туда, куда необходимо дойти; напечатаю белое посредством своего омерзения от стыда, который иногда, как коварный злодей, нападает на меня и грабит, от стыда, что, вынужденный выбирать между двух или более «зол» или «благ», я начал с того, что отшвырнул прочь здравое человеческое суждение — точно паршивую шавку; напечатаю белое всем тем, что я, вопреки давлению так называемых немотивированных внушений, когда-то не упомянул; напечатаю белое своей утренней безнадежностью, которую неизбежно, как один ночной дозор — другой, сменяет мое более действенное доверие, бьющее крылами, подобно голубице, ржущее, подобно напоенному коню, ангел, трубящий в тромбон, дает знак к спасительному отступлению; напечатаю белое цветами, аромат которых поет, птицами, чья песнь затвердевает в испанские замки, пусть эфемерные, зато неприступные все то время, пока они существуют; исчезнувшими фаунами, которые я воскрешаю, и будущими, которые я пока храню в антикварных коллекциях; своим благородством, которому я угрожаю, и своим коварством, которое я запрятал подальше от любопытных взглядов, растворив его в искренних слезах; напечатаю белое своей шпионящей совестью и своей любовью, которые годятся разве что для навозной кучи. Напечатаю; вы, вы черкайте по моему волшебному оттиску. И что у вас получится?
Поднялся ветер, буря. Погода самая подходящая для того, чем мы с тобой занимаемся. А у тебя есть, чем прикрепить такой нужный белый волшебный лист, это слепое зеркало, которое нужно рассмотреть. — Нет? — А как же наши чертежные кнопки? П.С., Квайде, Бельтрам и т. д.? Как было бы удобно иметь под рукой сон со всеми удобствами и современным комфортом. Не стоит скромничать. Давайте не будем говорить, что удовлетворимся тем, что имеем; скажем правду: я честолюбивее обычных копиистов. Из двух ребер и трех позвонков вывели весь скелет мамонта или динозавра. Они ненастоящие, но они существуют. И, существуя, они — как всегда — лучше, чем «правда». — Покусимся на кое-что лучшее. Для нас чертежные кнопки не являются даже элементами; мы используем их единственно с тем, чтобы заворожить тщетность, которой потеет судьба, от которой не уйти, и произвол, который нас к ней понуждает. Заворожить, чтобы она окаменела в пещерах, где воет вьюга, метущая из неизвестности в неизвестность. Но что из того, знаем ли мы хотя бы — куда?! В общем, никакие это не транскрипции снов, а как бы сны в квадрате. Эта смешная малость, которую сохранила наша память, в сущности служит нашему труду только для зачаровывания листа, в который мы вглядываемся до тех пор, пока он не ответит нам отражением нашей намеренной беспомощности.
Осталось добавить несколько слов pro domo[40]. Осталось — например — разбить какую-нибудь посудину об голову тех, кто нападет на нас с сюрреализмом. Таким, пусть в остальном и веским, аргументам я всегда принципиально противился. Если бы я сказал, что впадал в уныние уже тогда, когда сюрреализм ходил в коротких штанишках, это вовсе ничего бы не означало и одновременно многое бы доказывало[41]. Но вот доказав, что я уже тогда предчувствовал и говорил, что к Богу можно прийти единственно через последовательное отчаяние, то есть через отчаяние, которое не обманет никакое утешение и в конце которого тому, кто ожесточенно шел вперед, открывается пропасть света, куда достаточно броситься сломя голову, я бы отомстил всем, хотя на самом деле вовсе не был настолько дурным, чтобы об этом даже подумать. А я бы сумел это доказать. Но к чему торговаться, пусть даже и об этом? Существует столько, столько людей, своим отчаянием хвастающихся; пусть оно им служит. Для меня достаточно любить все, то есть любить с закрытыми глазами, перед которыми пляшут радуги в кругах, все более и более широких. Для меня достаточно руки, которую подает мне одно-единственное создание, наклонив голову, чтобы я не видел слез, пока с улыбкой, которая вот-вот явится и которой мне не узреть иначе, чем став безымянным всем, Бог месит манну, которой мне не вкусить.
LONG IS THE WAY TO TIPPERARY…[42] © Перевод И. Безрукова
Введение к тому, что последует, дольше, чем уговоры змея, который вместо Евы принялся бы совращать самого себя. (И наверняка преуспел бы и в этом тоже.) Почему же, ну почему мне столь необходимо сказать еще кое-что? Не страшись сомнений, нагоняющих мысль, которую ты как раз сейчас оседлал, облюбовав ее. Именно потому, что она фаворитка, она обречена. Спрыгни и дай им растоптать себя. Они — провозвестники. Ты поймешь это, когда испустишь под их копытами последний вздох.
* * *
Я сидел на краю зубчатой башни упсальского замка. Весь он был темно-красный; этот цвет называется sang de boeuf[43]. Я сидел на краю зубчатой башни упсальского замка. Болтал ногами. Большой, тяжелый ветер, многогранный настолько, что казался шаром, тихо уговаривал меня сзади, чтобы я упал. Я бы и рад был поддаться на эти уговоры, но пока не ощущал даже головокружения. Я болтал ногами, на мне были ботинки, крепкие ботинки, подбитые подковками, штукатурка сыпалась. Моря подо мной не было, а было, как ни странно, только озеро, да и то замерзшее. В Упсале стояла зима. Я был красивый, я не старился. Это все говорили. Там были девушки, они стояли под башней. Белокурые тугие косы, лазоревые сатиновые юбки с широкой черной каймой из плюша; их собрали здесь шведские фильмы. Я не видел их лиц и знал, почему: лиц у них не было вовсе; но думать об этом я не осмеливался. Зато я был красив, как тот, кому приказали не стареть и кто, Скрепя сердце, подчинился приказу. «Итак, я обречен на вечный голод», — говорил я сам себе. Я ощущал голод. Он был подобен ветру… С башни было далеко видно. Я видел длинную череду больших, освещенных, открытых настежь веранд. Это было парижское кафе «У двух обезьян»; я его знаю; то, что я видел, никоим образом на него не походило; однако же у меня не было причин сомневаться, что это именно оно. Это было кафе «У двух обезьян». Я был там сегодня, как и каждый день: между шестью и семью; как бы мне хотелось узнать, откуда я с такой точностью знаю, что сейчас между шестью и семью; но мне это не удавалось. Я заметил, что читаю «Le Temps». И понял, что именно поэтому сейчас где-то между шестью и семью. — Кафе «У двух обезьян» выглядит иначе, чем в действительности. Однако же все рядом и около несет налет истинности. Налет грубый, словно терка. Продавщица газет выкрасила свой киоск бычьей кровью. Я взглянул на нее; вместо юбки она носила шишковатый хвост, как у сирены; мысленно я невольно укорил ее за то, что она прислушивается к таким дурным советам. Но тут же пожалел, что вообще упрекаю ее в чем-то: бессмысленно. — Она, ничего не зная об этом внутреннем споре; улыбалась мне каким-то особенным образом. Я долго пытался понять, каким же это образом она мне улыбается. И счел, наконец, что так улыбаются хорошим знакомым. Но вопросы были запрещены; вот чем объяснялось, между прочим, то, что возле столика, за которым я сидел, росли низенькие елочки. С высоты упсальского замка, которого (возможно) и нет, видны «Две обезьяны», которые, возможно, и есть, оттуда легко глядится сквозь страны, моря, города, людей, а еще сквозь заросли виселиц, сквозь заросли низеньких елочек. Из городов меня привлек Амстердам. Не своей красотой, а тем, что лежал по левую руку; мне это показалось неестественным. Однако он меня не пленил; зато я весьма пленился зарослями низеньких елочек. Это я. Я очень некрасивый и дряхлею на глазах. Но каково сходство!
Свет был таким, каким он бывает летом в пять вечера, то есть таким, как в девять утра. Эти два света вообще-то одинаковы. Я вспомнил, что когда-то доказал это научным способом. Вижу как сегодня — и вдалеке: я уснул после обеда. Проснувшись, я захотел понять, откуда взялась во мне эта странная беспомощность, которая переполняла меня и которая напоминала молочное сияние опалов. Я знал, что это — последствие дневного времени. Я не мог сказать, девять ли утра сейчас или пять вечера; знал только, что либо то, либо другое, но наверняка одно из двух. Оба времени суток были одинаково убедительны, но я колебался. Я склонялся скорее к девяти, но и пять часов приводили кое-какие веские доводы. День выглядел подозрительным, как шкатулка с двойным дном. В конце концов я положил конец этому спору. Решил, что сейчас пять вечера, и надменно настаивал на своем решении, хотя что-то нашептывало мне, что ничего я не решил, ибо все есть так, как есть — и не иначе. Я полнился огромной гордостью. Но одновременно почувствовал вдруг некое внезапное истощение. Это было настоящее чувство физического истощения. Я знал, что это результат расставания с моей нерешительностью. Теперь, когда я избавился от нее, она казалась мне двоякопреломляющей призмой; возможно, даже многаждыпреломляющей. А спор между пятым и девятым часом напоминал театральную постановку, сопровождаемую музыкой, кудахтаньем кур, полетом ласточек и звяканьем подойников (доносящимся из коровника). Когда же я наконец принял решение, то на куриное кудахтанье точно опустилась вуаль, кривые, которые вычерчивали ласточки, стали не такими резкими, а подойники, звеневшие прежде, словно пастушьи колокольчики, внезапно как будто треснули.
Рощица, та самая рощица возле «Двух обезьян», в которой я сижу. Я некрасивый, я дряхлею, и с каким же равнодушием взирает на это красавец, полубог на зубчатой башне упсальского замка! «Такое сходство! — обращаюсь я просительно к Упсале. — По какому же праву ты отрекаешься от меня?» — «Сгинь! — говорю я Парижу. — По какому праву ты домогаешься меня?» — Произношу я это по-северному синими глазами, блуждая ими по бледному небосклону, черные же мои глаза стыдливо опускаются и слезятся, не ощущая боли. И когда глаза опускаются, они видят землю, устланную хвоей (ели опадают так, как будто бы тоже роняли слезы), видят, что люди, в том числе и родные, вовсе не то, чем они должны были бы стараться быть, что они не ворота, широко распахнутые навстречу всему иному, чем мы, но что они закрыты даже для нас, таких же, как эти люди, так что нам приходится оставаться снаружи.
Я читаю в газете, что только что закончено возведение того самого огромного купола. «Что это за купол?» — обращаюсь я к официанту, наливающему мне кофе. Он наливает его движением, которое явно пытается сообщить мне, что оно значит именно это… «Но что же?» — вопрошаю я, хотя в том уже нет нужды, ибо я понял, что движение это означало требование ко мне поднять голову. И я смотрю наверх, и действительно — над «Двумя обезьянами» вздымается беспредельный купол, можно даже сказать, что он беспредельнее, чем небеса, он молчит, молчит, но я-то знаю, что ему предназначено сообщить мне, почему люди должны быть воротами, распахнутыми навстречу всему отличному от них.
Чем дальше, тем больше мне кажется, что рощица, за которой я сижу — такой некрасивый — и за которой дряхлею, является очень важным лицом. Будь мы в ином климате, она была бы оазисом, полным финиковых пальм, усыпанных финиками, тем самым оазисом, куда я так беззаботно бегал целых двадцать лет и который потерял, причем потерял его лишь я один. Он наверняка еще где-то существует. Я подавлен, но все же продолжаю читать «Le Temps», я читаю и читаю и с иронией убеждаюсь, что телеграммы в рубрике «Dernière heure»[44] преисполнены серьезности и ответственности. Я забавляюсь своей иронией, как кошка коготками. И вот я читаю, что П.С. отплыл сегодня в Швецию, дабы урегулировать кризисную ситуацию между либералами и консерваторами. Между строк читается, что положение усугубляет придуманный Брантингом нейтралитет. А еще там прочитывается — но ни в строках, ни между ними, может быть, дело в оттенках типографской краски? — что кризис этот будет преодолен… Я вижу корабль, на котором отплыл П.С., я не могу разобрать, как он называется, знаю только, что принадлежит он компании «Messageries Maritimes». Я вижу судно так, как если бы оно было его собственным изображением на открытке, причем изображение это располагается на равном расстоянии от меня, красивого и нестареющего, что сидит на зубчатой башне упсальского замка, и меня, что сидит, съежившись среди хвои, в зарослях рождественских елок возле «Двух обезьян» и читает. П.С. проплывает на корабле «Palanguera» между нами обоими, он плывет в Швецию кружным путем мимо Великобритании, это самая короткая дорога.
Пока он на этом корабле один. Я говорю «пока», но меня тут же начинают мучить опасения, а не будет ли так до самого конца плавания? Ладно, пускай он в одиночестве, приходит мне в голову, но почему же тогда на носу корабля столько пустого места? Злюсь на себя за то, что мне это кажется странным; теперь-то ясно, что П.С. не рассчитывал плыть в одиночестве. Я не могу заглянуть ему в глаза. Говорят, в одном из них видна карта Малых Антильских островов, а в другом — карта Рая. Не то чтобы я всецело этому верил. Я убежден, что следует набраться терпения. Ибо я уже такого навидался! Помню, в Пернамбуку на базаре продавалось множество карт Рая, но все они оказались подделкой, следы Адама так перепутывались со следами Евы, что нельзя было отличить одни от других. Нечего было и пытаться понять, встретился ли когда-нибудь этот с… (Тут оказалась совершенно черная клякса.)
Я вижу П.С. вполне явственно. Он знаком мне, хотя я был уверен, что до сих пор ни разу не видел ни его, ни того, кого он напоминал мне, меня сбивало с толку, что он вышел как бы из очага и шагал одновременно по множеству тропинок, разбегающихся в разные стороны, но, невзирая на это, сумел вернуться в самого себя. (Я вижу это «в самого себя» и с трудом удерживаюсь от улыбки, понимая, что отсюда могло возникнуть недоразумение.) Одновременно я ощущаю присутствие в мире кого-то, кто хочет узнать, известно ли П.С., что путь в Швецию — если плыть кружным путем мимо Великобритании — пролегает так близко от Фингаловой пещеры, что даже при северном ветре можно слышать черный гул ее базальтовых труб. «Задушенные негой» — дает понять эта сущность, однако иначе, нежели голосом, но столь странным способом, что я невольно оборачиваюсь. Ничего.
Я вижу, что если в Стокгольме есть порт, то П.С. высадится там, а мне придется отправиться другим путем. Таким образом, нам предстоит расстаться. Мы расстанемся, ибо я внезапно осознаю, что Стокгольм — это и впрямь порт. Это столь неотвратимое расставание кажется мне чем-то, что никогда не случится, но я уже знаю также, что когда оно случится, у меня возникнет ощущение, что никогда не было ничего более неотвратимого, более естественного, чем оно.
В тот момент вдруг все отступило перед мыслью, которая, как я отчетливо видел, вилась, точно обматывающийся вокруг головы бинт; в то же время она была телеграфной лентой, на которой при помощи значков азбуки Морзе сообщалось следующее: есть люди, в которых мы заключены, словно в цельном стеклянном шаре, мы вделаны в него, мы глядим из него — и сквозь него — на все четыре стороны, и внезапно кто-то разбивает его, он рассыпается в пыль, как булонская бутылочка, я свободен и независим, и странно — тот, кто был причиной, что я не мог смотреть иначе, как сквозь него, вдруг стал для меня еще более неодолимо ничем, нежели самый безразличный мне смертный из тех, кого я могу вообразить.
Фингалова пещера трубит наперегонки с полетом чаек, П.С. прислушивается на палубе, опершись о поручень. Он слышит полет чаек, видит игру базальта. Нет, нет, он видит то, что видит, слышит то, что и предназначено слуху, но он пребывает в печальной уверенности, что лишь тогда на него снизошло бы познание, когда бы он услышал то, что сейчас только видит, когда бы увидел звуки. Конфликт либералов с консерваторами, который он едет разрешить, испарился из него. Его присутствие на палубе вследствие этого стало несколько ощутимее — еще и потому, что он сделался как бы прозрачнее. А я, не зная точно, кто я — человек на краю зубчатой башни упсальского замка или же посетитель «Двух обезьян», будучи скорее всего сращением их обоих и не чувствуя своего существа, — слежу за ним с верхушки средней мачты, в то время как он медленно тает. И вот уже не осталось ничего, кроме его тени, которая растекается по водной поверхности, состоящей из очень коротких застывших волн, подобных гофрированному железу. С этой тенью я некогда встречусь. Это будет тень, хотя бы она и не казалась таковой, но она не ужаснет меня. Прощай, мы больше не увидимся. Ибо моя миссия столь же безнадежна, как радость по поводу того, что мы ответили на вопрос, который желал остаться без ответа. Открылся горизонт — а до сих пор не было горизонта, была воистину бесконечность, и ее безграничность не потрясала, появился горизонт — на удивление твердый и четкий (твердый и четкий), а на нем — купола-луковки. Вот оно, Мальме! Тот славный университетский город, который Упсала так хотела превзойти. Когда занавес поднялся вновь, скал уже не было, а декорацию представляло собой нечто иное, не могу сказать, что. Вокзал имел таковой роковой, такой серьезный вид, что все, помимо него, утопало в равнодушии, точно Винета в своем мокром склепе, равнодушии, которое непостижимым образом проистекало из природы самой воды. Я все еще вижу этот вокзал так же явственно, как если бы я на самом деле видел его лишь во сне. И его сущность была чем-то таким, что можно было увидеть без подпорок атрибутов, — сущность как таковая. Этот вокзал был ее источником. Она вытекала из вокзала. И было заметно, что она никогда не вытечет до конца. Она текла по пологим конструкциям, образуя буруны, эти конструкции были деревянными и очень напоминали желоб, по которому поступала вода на миниатюрную мельницу парка в городе Писек. По этим конструкциям она выливалась в море. Это было, несомненно, море, но оно имело столь континентальный вид, что мы невольно искали глазами вальдшнепов или других болотных птиц. Наконец мы нашли уголок, точно сошедший с открытки, там были камыш и перевернутая лодка. И то, и другое там и в самом деле присутствовало, но только для того, чтобы издателю открыток было что фотографировать. Голос, беспомощно перемещавшийся по воздуху и напрасно пытавшийся сделаться приятным слуху, в конце концов был вынужден чем-то непреодолимым отозваться такими словами: «О Путимь, стоит тебе пожелать — и станешь ты шведской со своей часовенкой, глядящей на Штекень!»
Мы вышли из вокзала и вновь очутились перед той знакомой уже театральной декорацией, главной приметой которой была необыкновенная наполненность, телесность, я бы даже сказал — «обставленность» (так бывает обставлена квартира), а также необыкновенная вещественность. Но предметов как таковых не было. Все сияло прозрачностью, и она усиливалась, как будто поднимались газовые легкие занавеси. Это была прозрачность непостижимым образом духовная. Мы понимали, что это прозрачность, проистекающая из тех неожиданных вещей, что нас ожидают и потому не смогут удивить. Мы знали, многие из нас сказали бы скорее, что это прозрачность, проистекающая из неожиданных вещей, нам приготовленных, которые нас, однако, не удивят, мы знали, что это именно так и следует выразить, именно так, а не так, как мы это видели, но мы не могли решиться и потому не могли быть счастливыми настолько, чтобы светиться. Мы долго не знали — впрочем, что значит «долго» во сне? — откуда эта прозрачность нам знакома. В конце концов нам пришло в голову, что мы знаем ее по прогулкам в тех французских парках, рациональная регулярность которых постепенно, по мере нашего в них углубления, набухает, точно некое сонное воспоминание. Это подобно тому, как если бы молочно-стеклянная крышка стола медленно загоралась радугой — и какая же это прелесть! И я невольно переношу это разноцветное чудо на очарованность, схема которой — да, схема! — совершенно иная, очарованность, что я испытываю, решившись представить себе печальный круг, переходящий в капризную спираль. В конце концов парк разбежался по лесам — так что мы даже не смогли сказать, где и когда началось это бегство; оттуда же он набросился на вольную природу, подобно захватчику, который немедленно ассимилируется теми, кого он покорил. И он превратился в хаос, то единственно божественное, что еще осталось в сотворенной природе. Мы поняли, что эта прозрачность есть не что иное, как сумбурное сосуществование разнообразных плавно перетекающих друг в друга порядков.
Мы чувствовали, что тоже стали прозрачными. Сколько ни было огоньков, приготовленных для нас неразборчивым созидателем взаимоотношений между нами и тем, что существует помимо нас, каждый из них сумел проникнуть в наши тела. Так давайте же следовать за этим созидателем, ибо сейчас — именно та минута, когда мы не стыдимся подчиняться. Мы шагали вдоль колоннад. Он тек вдоль них, причем очень быстро, и вместе с ним текли шум и сутолока вокзала. Он тек не только в определенном направлении, но еще и к определенной цели, которая, однако, была от нас сокрыта. (Он давал нам понять, что сокрыта до поры до времени.) Нельзя было выразить это иначе, чем словами, что он на ходу преображается в движение и шум совершенно иного качества. Мы угадали гораздо раньше того момента, когда он закончил свое преобразование, чем именно он станет. Мы угадали это скорее по его замыслу, чем по постепенно протекающему преобразованию. И действительно, мы и оглянуться не успели, как он разразился роением огромного количества студентов. Так же, как еж, свернувшийся клубочком, разражается ежом, ощетинившимся колючками. Студенты все как на подбор были в студенческих мундирах. На них красовались белые фуражки с черными козырьками, а над козырьками золотились шнурки. Поскольку студентов было так много, что они составляли нечто вроде монолита, и поскольку все они были одного роста, то эти шнурки сложились в ровную, золотую, на удивление непрерывную полосу. Я немедленно назвал ее золотым веком.
Между ними быстро перемещалась тень П.С. Я мог с уверенностью предсказать, что она не испугает меня. Это было торжественное богослужение в честь нашего неотвратимого расставания. Неотвратимость расставания создавала вокруг тени П.С. особую ауру, в которой — словно созвездия на Млечном Пути — мерцали имена Бельтрам и Квайде. Я не знал, что они означают; они были знакомы мне; я не знал, откуда, не знал, почему; меня это не волновало. На это не было времени. У меня не было времени озаботиться этим, потому что роение — смотри выше — происходило оттого, что студенты носили в университетскую трапезную тарелки с супом. Они делали это по приказу тени с изящной шпагой. Мне сразу вспомнились маркизы Великого века. Мне подумалось, что вокзал переходит в университет точно так же, как французский парк переходит в вольную природу. А еще мне подумалось — и я на некоторое время остановился на этой мысли, — что моя аналогия с французским парком возникла не просто так (еще тогда, когда я вышел с вокзала). Я почувствовал приятную гордость, осознав вдобавок, с какой смелостью соотношу я со словом «шпага» нечто такое (выдавая это за логическую цепочку), за что любой гимназист-восьмиклассник получил бы неуд на экзамене по логике. Но я же сплю! Переход вокзала в университет оказался настолько абсурдно-суверенным, что возражать не хотелось. И суверенитет этот был таким возвышенным, таким торжественным, как будни в полседьмого вечера, когда подземка превращается в людоеда-бонвивана, вокзал перед Военным училищем — в преддверие ада в храмовый праздник, внезапная любовь уподобляется тетиве лука, натянутой с таким напряжением, что она позабывает о стреле, ради которой, собственно, и была натянута; и когда города простирают друг к другу облаченные в броню, брызжущие искрами руки, образующие небосвод над несметным множеством забытых Богом деревень, лесов, прудов и долин, над одинокими людьми, заблудившимися в сумеречном междуцарствии; и когда сбитые вместе толпы звенят, как металлическая полоска, вибрирующая в тисках.
А еще мне пришло в голову, что я остался кое-что должен. Я пытаюсь отыскать свой долг, я взволнован. Он медленно всплывает из глубин чего-то молочно-белого и плавного. Теперь я знаю, какой долг числится за мной уже довольно давно. Я пообещал кому-то — вот только кому? — поведать о студенческих фуражках нечто такое, что сразу бы объяснило, как именно они выглядят. Мой долг сказать: это фуражки для гольфа. Итак, он выплыл из глубин чего-то молочно-белого и плавного. Это оказался пар, поднимающийся над тарелками с горячим супом. И этот пар, собирающийся в непоседливые, кудрявые и дрожащие клубы, и есть самое истинное из всего того, что я здесь вижу. Мало сказать, что он и есть самое истинное; не будь его, все бы тут рассыпалось; он являет собой некую плотницкую скобу, которая поддерживает кровлю моего сна. Со всех тарелок ниспадают вьюнки на коротких стебельках, вьюнки мраморных муранских скал. Они быстро множатся. Теперь я будто бы очутился в замке Спящей Красавицы. Цветочные, точно наполненные ветром занавеси внезапно сдвинулись над П.С. Предполагал ли он, что влечет меня за собой? Разумеется, я был грузом на его ногах, весившим не больше паутинки. Не знать о ней куда проще, чем отдавать себе в ней отчет. Однако же этот парадокс нисколько не ущемляет ее право на существование. Во мне промчалась огромная жажда, промчалась, точно гальванизированная змея, и мы, взявшись за руки, повернулись лицом ко всем тем паутинкам-диктаторам, которым мы подчиняемся в вечном самообольщении, что легко разорвем их, легко — как пряжу фей, пряжу такую нежную, такую тонюсенькую, что она не годится даже для одежды сказочных героев. А между тем из нее можно смастерить даже водолазный скафандр!
Актовый зал был переполнен, сложен и обозрим. Переполнен вещами явно разнородными, но их тем не менее невозможно было отличить друг от друга, потому что вся их разность отступала перед тем, что для них всех было общим: их занимательностью. Однако занимательность эта была нарочитой, существующей будто бы лишь для того, чтобы мы заметили ту невероятную скорость, с какой вновь про них забывали. Будь побольше времени, из них можно было бы добыть что-нибудь полезное, и я догадывался, какая именно драгоценная руда скрывалась в их недрах. Но полночное солнце, присланное в Мальме экспресс-почтой из Лапландии, — я сам видел, как его выгружали из вагона на вокзале — (Мальме, Упсала! название это напоминает змееобразно свернувшееся слово Калипсо), — полночное солнце бранится.
Нам пора возвращаться, сейчас самое время; никогда мы уже не добудем руду в этом месторождении, над которым пляшут синеватые огоньки. (Я знаю, что это горит окись углерода). Экая жалость; ибо сколько же аккуратно утрамбованных истин можно, наверное, извлечь из слов «занимательные вещи, которые нельзя себе представить, но вместе с тем нельзя и забыть». Эхо отвечает: «А сколько было сделано самых обыкновенных шажков, из следов которых не извлечешь даже вечности».
Нам пора возвращаться, сейчас самое время. Против галдящего потока, текущего с вокзала в актовый зал. Как будто против шерсти хищника из семейства кошачьих. Гладящие против шерсти. Гладить против шерсти, как мне кажется, это синоним выражения «лелеять иронию». Мы лелеем иронию, когда идем на вокзал, имея в мыслях остаться. Мы лелеем самоиронию павлиньего пера на клоунском колпаке, которое любуется своим собственным отражением в хрустальном зеркале. Павлинье перо распознает себя и отражение; те же, кто только смотрит, легко их путают.
Дороги, то по течению, то против течения, отличаются друг от друга не только по смыслу; возможно, нам удастся отыскать между ними и более глубокие различия. Согласие и отрицание — это не только ориентиры; картина, на которую мы смотрим то сверху, то снизу, превращается в две разные картины. Дорога с вокзала в актовый зал была торжественно нисходящей; обратная дорога отыскивает точную границу между двумя разными мирами. Об этом нам стоило бы задуматься. Сон — это не бесшабашный кутеж, которому недостает лишь пастуха, что согнал бы его в единое стадо. А если даже и так, то зачем же отдавать стаду предпочтение перед разбежавшимися овечками? Хотя им поодиночке и грозит большая опасность, но зато они более свободны; следовательно, они более правдивы; на них можно положиться.
Когда идешь с вокзала в актовый зал, границу не пересечь; а вот когда из зала на вокзал — то пожалуйста. Ею является турникет. Он скрипит. Я слышу этот скрип сквозь сон. Его поворачивает человек с галльскими усиками. На губах у него играет улыбка. Кое-что говорит за то, что стереть эту улыбку можно не с большим успехом, чем татуировку. Она настолько приросла к своему месту, что утратила право именоваться улыбкой. Это уже, скорее, неуязвимый скепсис, запечатленный усилием лицевых мускулов. Тот самый интеллигентный пессимизм, который безжалостно отсекает головы собственным иллюзиям, но зато охотно подпитывает надежды грубой толпы. За турникет этот человек держится, как за штурвал; кто его знает, может, в выходные он и впрямь стоит у рулевого колеса. Он спрашивает: «Вы уходите навсегда?» — «Возможно, я еще вернусь». — «Вы имеете право вернуться, только если предъявите его». — «Но что именно?» — «Я узнаю вас по числу шагов».
— Я узнаю вас по числу шагов, — вот что он сказал. Еще одна чертежная кнопка. Я прикалываю ею к торфяному слою себя и свою застенчивость.
Бабочка.
Да, надо было, чтобы эта бабочка прилетела — как же многозначителен ее полет! — ибо иначе я бы не понял, что нахожусь уже вне вокзала. И хотя — как я уже говорил — ничто, помимо вокзала, не несло на себе клейма роковой серьезности, я смело мог сказать, что я — помимо всего. Вдобавок я это чувствовал. Помимо всего; точно центр тяжести некоторых тел; центр тяжести, лишенный гордыни.
Передо мною ширь. Такая ширь, что мои расставленные в стороны руки сами собой взметнулись кверху. Я так страдал в этой бесконечности, что просто вынужден был попытаться обзавестись крыльями. Из пальцев вырываются электрические искры. Меня омывает мелкий дождик невыносимого блаженства, свежий — о, какой свежий! — холодок которого состоит из расплавленных болей, обид, страстей, угрызений, тщательно лелеемой недоброжелательности. Ничто меня не обманет. Разве кто-то сомневался, что меня не обманула даже эта фата-моргана? Я знал, что все это лишь видения, но моя до сих пор непостоянная радость обретает устойчивость только сейчас и именно потому, что она сознает, как ее обманывают. Она закрепляется и обретает форму: розовая скала, с которой, подобно чешуйкам слюды, слетают непереводимые вести из доисторических времен бдения.
И вдруг — навевающая воспоминания тень. Она лишь слегка хлестнула меня, но в ней были настолько сконцентрированы мои неотъемлемые права на жизнь (отчего я стесняюсь написать, что эта тень была пересыщенным их раствором?), что один только ее удар осыпал меня воспоминаниями. (Как они блестят, как мерцают! Словно солнце в горах во время каникул, пока оно еще не сорвалось с небосклона. Как они слепят!)
Я направлялся в город, и мне пришлось идти по тоннелю под железной дорогой. Вот откуда взялась тень. Это дорога в моем родном городе; это тоннель, перпендикулярный железнодорожным путям; это раннее вставание перед экзаменами на аттестат зрелости, прогулки за городом с листанием учебников; это взгляды, устремляемые в сторону Праги с наступлением первых ненастных вечеров в конце сентября; это страдания юности, которые вечерами бывали тверды, как горох, а к утру от них оставался не более, чем жалобный призвук нетерпения, с коим новый день врывался в мой сон; это опавшая листва конских каштанов, шуршащая под несмелыми шагами возвращений с полей, тогда как вороны выкаркивали свою радость, приглушенную черным монашеским капюшоном.
Край за тоннелем под железной дорогой был необъятным и неподготовленным. Море извинялось, причем уже очень издалека. Край неподготовленный, но бодрый, полный движения — тихого и четко очерченного. Ящики, приехавшие из Суботиште (наклейка с названием станции отправления), содержали в себе упакованные жилища троглодитов, вырубленные в известняковых скалах вдоль дороги Вьерзон — Тур. И именно в этот момент случился некий сбой. Я использую это слово за неимением лучшего. Это было скорее отклонение, продлившееся одно мгновение, еще более короткое, чем скорость света (не расстраивайте меня замечанием, что я сравниваю несравнимое). Отклонение чего-то… Именно здесь сон начинает становиться чудотворным: выносить на поверхность помыслы. Их материя и форма не были похожи ни на что на свете, но это были именно материя и форма. И один помысел отличался от другого точно так же, как конус отличается от шара. Нельзя было ошибиться: каждый из них являл собой законченное целое. Вначале я увидел сознание. Вот что означало отклонение! Это отклонилось сознание. Сознание ни с чем не связанное, свободное. Оно соотносилось лишь — впрочем, не происходя из него — с каким-то бурлящим хаосом, из которого возникал мир, пока еще не рожденный. Нечто очень сильное заставило меня не сомневаться, что сознание это есть всего-навсего некое обличие страха, который промелькнул в этом только-только готовящемся мире и уже до зачатия пробудил в нем чувство смертности.
Однако вот как развивались события в последовательности, доступной обычному наблюдению: посреди поросшей травой равнины, заставленной жилищами троглодитов, привезенными сюда с дороги Вьерзон — Тур (река Шер течет там лениво), возникла девушка в белом газовом платьице, точь-в-точь подружка невесты. Или это зажегся маленький конус воздушного взвихрения, который вертелся на своем острие, словно до головокружения подхлестываемый волчок, растаявший в собственной, поглотившей его скорости? (Как тут не быть очарованным столь редким явлением, когда возвышенная материя растворяется в своем благородстве, которое заменяет и ее саму и ее форму!) Едва та подружка невесты зажглась, головокружительное взвихрение перетекло в неподвижность. Не осмелюсь сказать, что оно замерло; в самом деле, оно вдвинулось в неподвижность столь же легко и несомненно, как вещь в свою форму. Это не подружка невесты, это прима-балерина: обратите внимание на ее двойной подскок и двойное приземление, причем ее напрягшиеся ножки почти не сгибаются; в них связующее звено между движением и неподвижностью: даже во сне природа не любит прыжков. В этом столько же грации, как в заключительных диминуэндо низвержения дьявола с небес на натянутую внизу ткань, куда ему следует упасть. А театральные поцелуи прима-балерины, которые она посылает направо и налево, — это только иначе переписанная мелодия, с помощью коей таинственные метаморфозы входят в круг, для них определенный.
Двойной этот подскок и поцелуй подают сигнал к удивительным переменам. Все скрывается занавесом, и занавес этот недвижен. Он невидим, но сомневаться в его существовании не приходится. Его присутствие неотъемлемо от чего-то, и точно так же от этого «чего-то» неотъемлемы цвет, запах, вкус. Это «что-то» — замедление. Растянулся ритм вещей движущихся, но также и неподвижных. Это было замедление, воспринимаемое не зрением, не слухом, но неким новым органом чувств, которое было тем и другим, но одновременно чем-то большим. При помощи этого органа чувств я узнал, что обворожительная улыбка подружки невесты — это, собственно, напор того сока, что заставляет яблони расцветать, и точно таким же образом мне стало известно, что жилища троглодитов никогда не появились бы здесь, если бы не мой разговор с человеком у турникета. Возникло тяжелое, материальное ощущение, что взаимоотношения между помыслами и миром, который может быть постигнут чувствами, намного теснее, чем мы думаем, и что многое из этих взаимоотношений ускользает от нас потому, что мы не успеваем уследить за стадиями, через которые они проходят — от общей вершины туда, где начинают казаться независимыми друг от друга. Так, например, я еще и сегодня не мог избавиться от удивления по поводу того, как это я уже вчера в состоянии полного бодрствования не предчувствовал, что всплывшее вдруг доказательство теоремы Пифагора (в два часа пополудни) неотвратимо ведет в сон о путешествии в Швецию.
Слова «в состоянии полного бодрствования» и «неотвратимо ведет в сон» — это были больше, чем слова, это были слова видимые — они вздыбились, как два плотницких ватерпаса, которые, слишком резко сблизившись, зацепились друг за друга и теперь тщетно пытаются разъединиться, борясь, точно огонь с водой, — причем неизвестно, кто из них гасит, а кто поджигает.
Улыбка девушки угасала. Да, буквально угасала, словно свет, приглушенный густыми облаками пара, за которыми все исчезало. Но из виду ничего не пропадало; было хорошо известно, что оно проваливается в невозвратность хотя бы не навсегда. (Это «в невозвратность хотя бы не навсегда» меня глубоко тронуло.) И тотчас же появилось нечто, постепенно и спокойно ужасающее. Я правильно выразился — именно «постепенно и спокойно», ибо ужас этот наползал медленно, частичка за частичкой, как будто щадя меня; и спокойно, ибо ему чего-то недоставало: он не удивлял. Это был аккуратный, это был вежливый ужас: я понял, что сплю. Я понял, что сплю, то есть я осознал это во сне. Сегодня, когда я пишу эти строки в состоянии полного бодрствования, я понимаю, конечно, что само осознание того, что я сплю, меня не ужаснуло. Нам часто снится, что мы спим. Тут было совсем иное. Я понял, что в мой сон пробирается нечто. Я не знал точно, откуда оно, но у меня было такое чувство, что можно обойтись следующими словами: «Откуда-то с враждебной чужбины». И довольно скоро — впрочем, это всего лишь поэтическая вольность; когда речь идет о сне, «довольно скоро» звучит как ересь, — так вот, довольно скоро я осознал, что это я сам. Именно я: и «нечто» это я, и «откуда-то с враждебной чужбины» — тоже я. Мне виделись будто бы три разноцветных слоя; слово «коктейль» в тот момент не пришло мне в голову; как странно: теперь-то я вижу, что это был именно многослойный коктейль; три слоя, соприкасающиеся между собой двумя пока еще резко отграниченными поверхностями, но в жидкостях уже понемногу подготавливается диффузия; это коктейль из трех эссенций с общей вершиной, однако отстоящих друг от друга настолько, что они кажутся себе различными, как масло, вода и ртуть. Я, который просто спит, я, который сознает, что спит, я, обожествленный и всемогущий, который смиренно взирает на все вокруг, понимая, что достало бы неизмеримо малого движения воли, как для чувствительных весов — небольшой гирьки, чтобы произошло великое колебание: я в глубоком сне либо вновь бы ожил, либо бы рабски покорился бдению, но тем не менее я не делаю ровным счетом ничего, предпочитая созерцать троякое отражение собственного обличия. Я как будто некто, находящийся между параллельными зеркалами, который знает, кто он, но в то же время знает, что точно так же мог бы быть одним из бесконечной цепи образов, из которых он не то чтобы не мог выбрать — нет, он вовсе не хочет что-либо выбирать. Я одновременно и един в трех лицах, и являюсь каждым из них, и я же — то верховное существо, которое создало эту сложность и эту непостижимую простоту.
А теперь — гляньте-ка! — на голубых крыльях сюда устремляется огромная стрекоза; она атакует сумятицу — ибо я ощущаю, что нахожусь посреди сумятицы, и абстракция «сумятица» столь же убедительно и отчетливо конкретна, как все предыдущее, — она атакует сумятицу с такой силой, какой я и не предполагал в ее голубых крыльях, и сумятицу рассекает глубокая гладкая трещина (айсберг, разбитый ломом, который застрял в бесконечности и который вытягивают из противоположной бесконечности). В этой трещине я узнаю… Нет, не узнаю! То, что эта трещина столь непреодолимо внушает, есть призрак уверенности, что еще шажок, еще один неизмеримо малый шажок — и я доверился бы Вечности столь же, сколь я доверяюсь своему умилению при чтении эклог у камина. Если бы я знал — не существовал бы. Мною овладевает отчаяние; нет, я жадно заглатываю его, подобно тому, как распахнутые настежь створки плотины где-то на реке Меконг заглатывают быструю, легкую, беспомощную и не сопротивляющуюся малайскую пирогу. И хотя я знал, что это утроение меня самого, этот неравный поединок сна с его отраженной сублимацией и его материальным осадком, эта смелая попытка конечного объять бесконечное — вещи реальные, однако слишком холодные, чтобы не раствориться в безмерной влаге бытия, куда я вот-вот буду ввергнут; хотя я знал, что от них не останется и следа, что они не помогут ни человечеству в его страданиях, ни моим собственным страхам, что это — всего лишь суета, тем не менее я не сомневаюсь, что я — участник великих событий, и я ликую.
Они записаны, эти события, события ни с чем не сравнимые, записаны неуклюжим школярским почерком. Почерком безыскусным и веселым, точно щебетание детей перед школой, незадолго до начала каникул, когда обсуждаются летние поездки. Почерком несмелым и боязливым, который начинает хромать, когда замечает, что пишущий разгадал тайну его хитросплетений. Почерком, который не выдержал бы ноши своей тайны, не приди ему на помощь его невинность.
Квайде и Бельтрам! Они и впрямь таковы, каковыми провозвещало их смутное трепещущее блистание в гаснущем ореоле над П.С. Квайде — шут: короткие штанишки с зубчатыми краями, белые чулочки, костюмчик Арлекина — и облачко муки, которое поднимается над ним при малейшем движении. Бельтрам, на две головы его выше, — юный чернокнижник или скорее та соединенная из разных частей человеческого тела модель для рисовальщиков, которая так привлекала мое внимание в витрине магазина «Бельский & Ешек». Кто знает и кто когда узнает, как они выбрались из газового платьица белоснежной балерины? И вот вдруг они стоят тут посреди поросшей травой равнины; на горизонте дорога Вьерзон — Тур, окаймленная непрерывной чередой небоскребов (où sont les neiges d’antan?[45]); вдали гудит поезд. Да, это тот самый! Он вез меня в день, когда нельзя было усомниться, хотя и трепещущая крыльями уверенность тоже отсутствовала. Это было в том самом купе второго класса, где я, сорокалетний, бодрствовал над коробом, в котором отдыхали двадцать лет, что никогда уже не истлеют. Квайде и Бельтрам — кондукторы. На полном ходу они проверяют билеты, снуя по ступенькам снаружи вагонов. Год сейчас 1891. Станция — это восьмистенный дом. В плане он прост настолько, насколько может быть прост дом о восьми стенах, но внутренность его не менее сложна, чем закулисье любительских театров, закулисье, в котором актеры, уйдя со сцены, терялись, точно в лабиринте.
Квайде, шут! Бельтрам, примерный ученик! Это ваш родной дом. Ваша мать, вдова, продает билеты и владеет магазином со всякой всячиной. Дом полон братишек и сестренок. Куда ни глянешь, повсюду мелькают косички или рубашонки. И опять они пропали. Я ищу, ищу их: о, таинственное закулисье провинциального любительского театра.
Однако пора ехать. Я покупаю билет до Исландии. Кто-то тянет меня за полу. Наконец-то попался! Я знаю, что это значит.
Это значит — отправиться с тобой в лавочку и опоздать на поезд. Следующий будет еще не скоро. И вот мы идем; я знаю, что до места недалеко, но мы как будто никогда туда не доберемся. Мы идем как бы сквозь шпалеры человеческой сущности; они подвижные и колышущиеся, но нигде ни души. Тишина! А лавочка — точь-в-точь как все лавочки в обеденный перерыв; дверную ручку сняли. Я никогда бы не поверил, что отсутствие дверной ручки может так на меня подействовать. Нас ожидает склад стеклянных пожарных касок с бронзовой патиной. Какое это трудное и светлое слово — «ожидает»! Квайде — ибо со мною Квайде — захотел одну из них.
«Есть здесь кто-нибудь?» — Ни звука. Каска, что лежала на самом верху, упала. Она сама наделась Квайде на голову. Она его не поранила. Но где же Квайде?
Восьмистенный дом со скрипом закрылся. Теперь я знаю, что это было: этакий роскошный ящичек для сигар, в виде садовой беседки, подобные ящички запираются на какой-то тайный замочек, в то время как скрытый механизм играет нежную песенку. И впрямь: послушай-ка!
Закулисье провинциального любительского театра… «Квайде! Где ты, Квайде?» — Ничего. — «Бельтрам? Бельтрам!» — Только музыка. Феи, убегающие по клавишам крохотного металлического пианино.
«Мама, мама! Мамочка моя золотая, где ты? Это же ты продала мне билет до Исландии. Это была ты! Ты!»
И в окне, большом-большом окне, я вижу: Мальме! Университетский город, который уступил всю славу Упсале, так к этому стремившейся. Я сижу на краю зубчатой башни упсальского замка, я прекрасен, я вечно юный бог. Вдали сияют огнями окна кафе «У двух обезьян». За столиком в окружении маленьких елочек — я, безобразный и дряхлеющий. Я узнал его. Кто кого одолеет? Я в Упсале ликую, я «У двух обезьян» — старею. Кто кого одолеет? Сияние. Оно повсюду. Сияют следы Квайде, Бельтрама, сияет лицо, которое склонится надо мной, когда морщинистое любопытство погонит меня прочь из замка сновидений, кожица которого уже покрылась белым налетом, точно сентябрьская слива.
Глаза открылись. Но не я их открыл. Надо мной — сияющее лицо: вещи, люди, которым я отдал частицы своей души, словно по описи. (Прошу не усматривать в этом игру слов с названием города Упсала…) Что их нелюбовь в сравнении с моей самоотверженной верностью? Кто кого одолеет? Сдавайтесь, сдавайтесь! Долог путь до Типперери, я на полпути, и ноги у меня не болят.
ЭЛЯ © Перевод И. Безрукова
Я в точности не знаю, спал я тогда или бодрствовал. Иногда это бывает трудно определить, хотя бы даже мы давно встали, писали что-то, разговаривали, прогуливались: все то, что мы проделываем сами, — это точно цепочка из прочно соединенных логических звеньев, однако же то, что вне нас, подобно одиноким бесплодным зернышкам, которые закатились неведомо куда, туда, где мы и не чаяли их отыскать и где, как ни странно, им самое место.
Ты, к примеру, совершенно уверен, что вон там, в газовой печке, горит газ; но как же так вышло, что ты внезапно замечаешь, что она говорит, говорит на языке неслыханном, который, впрочем, ты, едва услышав, прекрасно понимаешь? Она говорит тебе, к примеру, что твое предположение правильно; что зеркальце, перед которым ты нынче в полдевятого утра брился, совершенно верно вписало тебе в глубокую морщину под левым глазом: в тот момент Эля и впрямь о тебе думала, думала о тебе в Праге как раз тогда, когда ты в Париже о ней даже не вспоминал. Если бы сейчас ты написал Эле: «Слушай, Эля, в такой-то день в полдевятого утра ты обо мне думала?», и если бы Эля ответила тебе: «Понятия не имею, вообще-то, положа руку на сердце, не припоминаю, чтобы за последние два года я подумала о тебе хотя бы однажды, сам понимаешь, расстояние, годы, собственные заботы — не сердись, но я и вправду о тебе не думала…»; если бы Эля так ответила, не верь ей, а верь газовой печке, которая знает больше, чем она и чем ты… Даже если будет доказано — документально доказано! — что Эля в такой-то день в полдевятого утра думала только о том, что ей надо доделать коронку для госпожи Икс — Эля работает зубным техником, — что с того? Что это доказывает? Ни она, ни ты не можете знать, не присутствовал ли в этой мысли о коронке также и ты, газовая-то печка умнее и проницательнее вас. Подтверждением этому…
Подтверждением этому было — я говорю о дне, когда звонок у дверей укрепил меня в мысли, что совершенно неясно, бодрствую я или сплю, — подтверждением этому было, что хотя звонок зазвенел точно так же, как это он имеет в обыкновении, однако же громкость его несомненно показывала, что, прежде чем прозвучать, звук решал, быть ему или не быть, невзирая на то, что он не только обращал внимание на присутствие за дверями чужого, но и возвещал о нем. Скорее даже возвещал, чем обращал внимание. Я бы сказал, что звук был пророческим, если бы так можно было сказать о звуке, который предназначен только для одного — возвещать о том, что уже случилось, о том, что человек нажал кнопку. Однако бояться слова «пророческий» — трусость. Ибо в конце концов я твердо знаю, что это стрекотание имело таки пророческий оттенок, пускай даже ни я, ни, думаю, Эля до сегодняшнего дня не знали, к чему именно относилось это пророчество. Возможно, к тому, что вот-вот наступит…
Я говорю «ни я, ни Эля», ибо это была Эля. Вряд ли я прямо вот так вот сразу смог бы воскликнуть: «Надо же, Эля!», но вместе с тем я не решаюсь утверждать, что не узнал ее немедленно. Бессовестные писатели, которые и не предполагают, насколько сложным, насколько таинственным, насколько горьким является процесс узнавания, пишут в таких случаях: «Мне потребовалось время, чтобы узнать ее», пускай даже — если они говорят о себе — отлично понимают, что узнали человека немедленно; просто им невдомек, что сразу же после этого понимания последовало умозаключение, которое нарушило равновесие, в результате чего возникла серия колебаний, прекратившихся только с постановкой на весы гирьки физической реальности — и тому подобное…
— Это ты, Эля? Какими судьбами?
Мы не виделись долгие годы. Не знаю точно, сколько именно.
— Так просто. Посмотреть Париж. Ты меня не сразу узнал?
Она протягивала мне руку в нитяной митенке, какие давно уже никто не носит. Прикосновение ее руки раздражающе холодное, точно сама действительность, и оно навевает сумбурные воспоминания о множестве вещей — лишь для того, чтобы тут же их сгладить. (То есть воспоминания об этих вещах.) Не знаю, почему я заметил, что она протягивает мне левую руку. Это было как-то между прочим, мимолетно. Тем не менее я осознал, что это — левая рука, и лишь потом отметил про себя, что в другой руке она сжимает поводок, к которому привязано некое живое существо. В передней сумрачно.
— Pass nicht auf, das will nichts heissen[46], — сказала она, перехватив мой взгляд. Вообще-то мы говорили по-чешски. Эта фраза, однако, показалась мне незначащей единственно потому, что была произнесена по-немецки. Просто тогда я еще не догадывался, сколь часто будет она ее повторять и что слова эти станут чем-то вроде пароля, который, хотя сам по себе и ничего не значит, является неким бродом, коим мы станем пользоваться, чтобы перебраться через потоки недобрых и очень много значащих слов, что нельзя произносить даже под угрозой наказания… под угрозой наказания… Боже мой!
Из передней до гостиной рукой подать. Но этих трех шагов хватило, чтобы я почувствовал некую удивительную перемену, случившуюся с самой атмосферой моего жилища. Вот как бы я ее описал: арфа с порванными и запутавшимися струнами. И еще: звонок будто бы тренькнул снова. Но я на это не поддался; я отлично знал, что то была лишь прелюдия. Я шагал перед Элей — если можно употребить слово «шагать», говоря о жалких трех шагах, — и когда в гостиной я вновь повернулся к ней лицом, то мгновенно заметил, что у нее какая-то странная походка: она демонстративно шла на цыпочках; в этом было что-то вызывающе продажное. Но одновременно было в этом и нечто от ангела из сновидений.
Она села, скрестив руки на коленях и так и не выпустив поводок; мало того, она сделала его короче. В гостиной немного светлее: это живое существо на поводке оказалось мохнатой черной собачкой. Собачкой той странной породы, какую изобрели некоторые современные течения в искусстве, собачкой, с точки зрения эволюции и выживания невозможной. Одним из тех животных, перед которыми вы совершенно теряетесь: вы не удивились бы, если бы оно заговорило, и наоборот, задев его ногой, удивились бы, что оно заскулило. Однако собачка Эли была куда более материальна. Будь она моею, она бы скорее всего умерла от голода. Не из-за моей жестокости или небрежения, но в силу моей неспособности представить себе, что подобному существу требуется пища. Это была злая собака.
Эля заметила, как я смотрю на собаку. А она между тем разлеглась как у себя дома.
— Я не могу обойтись без этого морского конька.
Морского конька?
— Лошадиная голова — и в то же время вопросительный знак; эта двойственность меня очаровывает. Однако каждый час собаке надо окунаться в воду — иначе она умрет. А люди на нее так глазеют!
Она сказала это как бы в шутку и тут же добавила:
— Pass nicht auf, это собака. Просто я прозвала ее морским коньком.
Не знаю, почему я перестал ей верить. То есть, тогда-то я знал это точно, но теперь забыл. Конечно, я мог бы выдумать это «почему», причем выдумать весьма правдоподобно. Однако ложь мне претит. Короче говоря: тогда я знал, почему, а теперь не знаю.
— Какой сюрприз, Эля!
Она засмеялась. Я узнал ее давний смех: он вызывал мысли о смехе и гомоне вокруг лечебных источников, когда лечение — это только предлог и когда благоухает сено. Сейчас, однако… как бы это сказать? Да, конечно, это был все тот же прежний смех, но она как будто отталкивала его прочь: он начинал раздражать ее, едва родившись. Она брезгливо отталкивала его носком туфли.
— Да нет, какой там сюрприз. Все просто: я сказала себе, что поеду в Париж попрактиковаться.
— Попрактиковаться в зубной технике?
— В зубной технике. — Пауза. — Я понимаю, ты удивлен. Потому что сначала я сказала, что приехала просто так, поглядеть на Париж. Pass nicht auf; и то, и другое верно.
— Что же ты не написала? Я бы, может, подыскал тебе какую-нибудь работу. Хотя у тебя, наверное, уже есть что-то на примете.
— Где там! — залилась она смехом.
Пнула свою собачку. Та и ухом не повела.
— Как странно, Эля… Люди и вправду не видят дальше собственного носа. Если бы ты, скажем, была художницей, мне показалось бы совершенно естественным, что ты едешь сюда практиковаться. Или шляпницей. Или портнихой. Но зубной техник… Я и понятия не имел, что в Париже…
— Где уж там! — Это прозвучало коротко и зло. Она дернула поводок, сдернула митенки.
— Ты плохо выглядишь, Тонда. И ты состарился.
— Еще бы! Столько лет!.. А ты не изменилась. Все такая же красивая…
— Дерьмо!
Да, так она сказала. Сказала тогда, когда я смотрел ей прямо в глаза. Так что я убежден, что ее глаза об этом слове не знали; да и она сама, целиком, вся не знала об этом слове.
Я ясно услышал его, это слово. Но оно было произнесено настолько между прочим, что затоптало в зародыше любое удивление, изумление или возмущение. Если бы я сказал, что не заметил его нарочно, то покривил бы душой. Просто случилось так, будто этого слова вовсе не было. Вообще не было! Не будто. Слова и на самом деле не было.
— Ты все такая же красивая. То есть, разумеется, немного изменилась. Но стоит тебе опереться подбородком о ладонь — вот так, как сейчас, — и ничего незаметно, ничего. Все дело в подбородке. Какая же ты красивая, Эля!
— Будет тебе! Еще насмехается! Я же сказала, что ты постарел. Тощий какой-то. И такое несешь, что меня тошнит.
(Вопреки тому, что повествование замедлится, вопреки всем канонам, я все же решаюсь сделать тут паузу и просить читателя, слезно просить его минутку потерпеть. Иначе я это вообще не скажу. Лгать я не умею. Позже я, возможно, опять помирюсь с читателем. Но неужели читатель не знает, неужели не знает, что несчастье не рядится в пышные одежды, что оно не величественно, что оно иной раз подобно жабе, а говорит, точно выпивоха, и… и все-таки является при этом несчастьем, то есть лишением, превращающим нас, вопреки всему, почти что в святых?!)
Эля не произносила все эти ужасные слова вызывающе. Никакого извращенного бахвальства, никакого намерения ранить или оскорбить. Я не решаюсь написать еще раз, что этих слов будто и не было, либо же, что их и в самом деле не было. Я не провокатор по натуре, я не хочу дразнить читателя, несмотря на то, что на самом деле эти слова… Эти слова были. Да, эти слова были, но они ей не принадлежали. Она принадлежала им, как мы принадлежим болезни. Казалось, что-то отвратительное подхватило Элю, понесло ее, вынесло на берег — в мой собственный дом — и разлилось здесь. (И впрямь — сколько пятен кругом, сколько мерзких пятен!) Однако Эля оставалась невинной. Разве можно плохо отозваться о человеке, который тяжко болен и которого из-за его болезни отовсюду гонят прочь, так что ему пришлось научиться скрывать ее столь искусно, что никто ни о чем не догадывается? Что можно сказать о том, кто кажется таким чистым, но кому уже опротивело притворство и потому он сорвал повязки, надеясь, что другие распознают его ангельскую суть, распознают ее, не обращая внимания на засохшие струпья и язвы, и что увидят они не ангела, пораженного проказой, но ангела, коему опротивело лгать?
— Однако же ты еще не спросил, как поживают мой муж и мой мальчик, Хуберт.
— Да-да, и как же они поживают?.. Я как раз собирался…
— Да ладно, — сказала она, — ты как раз собирался спросить, как же это со мною могло случиться?
Я наполнил две рюмки.
— Крепкое? — спросила она, но ответа дожидаться не стала. Ибо ее «понесло». Это самое подходящее слово. Она говорила столь же бурно, как горные водопады. И с такой же жалобной яростью. И с такой же обреченностью и беспомощностью.
— Знаешь, однажды утром в постели — я давно уже сплю в отдельной спальне, там тихо, окна выходят в сад, заросший такой травой — живучкой, ну вот, однажды утром лежу я — я привыкла спать на спине — сколько могло быть времени? полдевятого могло быть, и говорю себе вдруг, про себя говорю, надо, наконец, сегодня доделать коронку для госпожи Зауэр, тебе это ничего не говорит, Тоничек, правда? коронка для госпожи Зауэр, коронка для господина Вайс, коронка для барышни Амштетен (Эля вообще-то немка, вот почему она не склоняла, как чехи, все эти фамилии), я их столько уже наделала, сплошные коронки, словно у королевы, сплошные мосты, как в Праге, помнишь? Ты помнишь еще, как я там жила, а ты однажды возвращался с военных сборов и заглянул ко мне, нас было уже не помню сколько, и на всех — три кроны тридцать, мы послали за пивом и за сосисками и были так счастливы, помнишь, Тонда? Теперь я уже не такая — так вот, представляешь, лежу я в кровати, одна, в ночной рубашке (а что в этом такого?), по-прежнему красивая, чего уж там, красивая, что греха таить, но при этом мать и женщина тридцати пяти лет — а ведь что такое тридцать пять? И вот уже десять лет, целых десять лет ничего, кроме коронок и мостов, — мосты, куда-то они приведут меня, а эти коронки? Тонда, Тонда, послушай, я села в кровати, ты представляешь, как я сижу вот так в ночной рубашке?! И все гляжу в заросший сад, но вижу не его, а эти свои тридцать пять лет, они, как шар, когда-то им казалось, что они будут кататься туда-сюда, но это было давно, когда шар только точили (опять это ее особенное словечко), ну… когда его только делали, когда он был новый, и ему казалось, что он туда покатится, а потом сюда… и вдруг его покупают для кегельбана, и он оказывается в желобе, и какой-то человек кидает им в кегли, а мальчик возвращает его по тому же желобу назад — не знаю, Тонда, можешь ли ты себе это представить, — погоди, не хочу тебе лгать, короче, я уже некоторое время… понятия не имею, чем он живет, я все время твердила ему: нет! нет! и вообще мне уже… короче, я уже не девочка, муж, собственное дело, ребенок, он упрашивал, приходил, караулил, он знал, какой дорогой я хожу на работу и где мой кабинет, — видишь ли, у него машина, он ждал, сидел за рулем, при виде меня выскакивал из кабины, я часто поддавалась на его уговоры: «Всего на минутку, Эля, давайте перекусим в „Стромовке“, послушайте, всего на минутку, ладно? Я вас потом отвезу назад, и никто ничего не узнает…» Он был такой глупенький, и вообще — откуда мне было знать, чего он, собственно, добивался, ну да, ты, наверное, рисуешь его себе этаким наглецом, но он был не такой, понятно, что этого, он, наверное, тоже хотел. Но то, что меня так трогало, что было так прекрасно… это чувство было чем-то… не хочу сказать большим, но чем-то другим, почти болезненным… иногда я давала себя уговорить, но ничего ему не позволяла (Эля залилась смехом), он был молодой, Тонда, такой молодой, намного моложе меня, и такой печальный — Бог знает почему! Ведь не могла же я?.. И вот сижу я на кровати, мир кажется мне таким широким — нет, не широким — это было по-другому, как бы это выразить: разнообразным, да, точно большой склад, где можно отлично спрятаться… ну да (сказала она вдруг рассудительно, очень рассудительно), я помню это чувство с тех пор, как мы играли в прятки… я спрыгнула на пол, было ровно полдевятого, я уже опаздывала, у меня есть такой саквояжик свиной кожи, я все в него побросала, схватила его и без завтрака — нет, не так, в кафе за углом я влила в себя кофе, до сих пор помню, какой он был горячий, — побежала на работу, где занялась коронкой госпожи Зауэр, доделала ее, но все время была сама не своя, мне не давал покоя этот саквояжик, ведь у меня и в мыслях не было — ну, ты понимаешь?! — честное слово, не было…
Эля принялась натягивать митенки.
— Как странно, Тонда, я была сама не своя, — продолжала она (менее бурно, я бы сказал, однако иногда ее монолог обжигал), — но все же то и дело повторяла себе: что это на меня утром нашло, что я, дура, что ли; но внутри у меня все кипело, это трудно объяснить, в общем, я была не в своей тарелке, но твердила себе: после работы зайдешь к колбаснику, приготовишь ужин, Хуберт порвал чулочки, надо их заштопать… надо их заштопать. Вот что промелькнуло у меня в голове, когда я брала саквояж, — что я пойду домой, загляну к колбаснику, — надо их заштопать! — понимаешь, у меня вдруг появилось такое чувство, что мне вот-вот станет дурно… я вышла с работы, он ждет, за рулем, выскочил: «Эля, Эля, только на минутку, в „Стромовку“, поедем со мной, я знаю, вы меня не любите, но я угадал, что я тот единственный, кто охраняет вас от… от чего? от чего?.. я не знаю, от чего, но это нечто такое, чего вы боитесь…» Он так и сказал: боитесь… сказал: боитесь… и он даже не предполагал, что наделал этим словом… поднял бурю… чего вы боитесь. Он был молодой, а тут я впервые заметила, что он еще и красивый, не то чтобы какой-то особенный, а просто красивый… и я говорю «нет», говорю «нет, сегодня никуда не поедем», но один Бог знает, как я это сказала и что случилось потом, я помню только, как говорю «нет, сегодня никуда не поедем», а он странно так подошел ко мне, подошел и шепчет: «Эля, о деньгах не беспокойтесь, я богатый» — нет, он не сказал «я богатый», он не такой грубиян, он выразился иначе, более утонченно, хотя речь шла о деньгах, вот именно что речь шла еще и о деньгах, это я нарочно так говорю «я богатый» — чтобы звучало еще противнее, еще противнее, — а потом говорит: «Ты жила бы беззаботно, а этот саквояжик, зачем ты его с собой взяла? Вот видишь! Видишь! Прага такая большая, а мир еще больше, озера, кипарисы, равнины, поросшие цветущим вереском, прерии, пустыни — и города, города, огромные, которые тебя не знают, потому-то они так огромны, дома, точно пчелиные улья, и в одной ячейке мы, никто нас не знает, никто, мы одни, а вокруг люди! Столько людей, это же как на маскараде, Эля!» Я стояла, чувствовала, что не могу двинуться, все закружилось, я прошептала, не знаю, почему: «В Париже Тонда» — «Париж! — выкрикнул он. — Париж!»
Эля добавила сухо и коротко:
— Я здесь с Франком.
Ее собака встала, отряхнулась, прошлась слева направо и снова улеглась. Похоже было, что они с хозяйкой так условились. Собака, которая не разговаривает, — ничего особенного, правда? И тем не менее меня так и подмывает написать: «Собака встала, отряхнулась, молча прошлась и снова легла». Эля подала мне поводок.
— Подержи минутку, я посмотрю, как ты тут живешь.
Моя квартира такая крохотная, что тот, кто по ней «прохаживается», невольно выглядит немного смешным. Однако люди неисправимо вежливы, они «осматривают», они «прохаживаются», потому что для хозяина «ça fait plus riche»[47].
— У тебя странный вкус, Тонда. А впрочем, здесь не так уж и гадко, — она приблизилась вплотную ко мне. — Кажется, я уже говорила, что ты постарел.
— Что с того, Эля? Конечно же, я постарел.
— Не знаю, почему я вдруг так разозлилась, когда увидела тебя в коридоре?.. Когда — да нет, правда, я не кривлю душой: когда Франк намекнул мне, что мы с ним могли бы куда-нибудь уехать, когда я в этом приступе помешательства — а это было помешательство! — когда я вскричала «В Париже Тонда!», я не знала — как бы это сказать? — не знала, думаю ли я о тебе, потому что ты в Париже, или о Париже, потому что…
Почему я называю это животное морским коньком? Не знаешь? — спросила она внезапно и разразилась смехом, смехом — в общем-то, конечно, смехом, но со всех сторон усеченным: отрезком смеха.
— И вправду, что за странная идея, Эля?
— Отгадай!
— Гадаю, гадаю…
— Потому… потому — да ведь это и есть морской конек!
Она засмеялась и изогнулась в талии; словно при поклоне. Как это получилось, что я только сейчас заметил ее шляпку? Где она сумела найти подобное чудище с черными ягодами рябины и лентами? Они завязывались под подбородком. И как странно: шляпка не просто не бросалась в глаза; нет, не только это; она «шла» к нитяным митенкам, а нитяные митенки «шли» к ней; они поддерживали друг друга; сама по себе любая из этих вещей была кошмаром, но они взаимно «исправляли» этот кошмар. Это чудище, вообще-то, было ей к лицу. Эля составляла с ним единое целое. Видеть ее в такой шляпке — а честно говоря, трудно было представить себе ее в другой… Этот головной убор отводил ей некое место; трудно было сказать, какое именно, но бросалось в глаза, что это — ее место.
— Pass nicht auf, das will nichts heissen, — прошептала она растерянно. — Ты уже не помнишь, Тонда?
— Помню, но это не более чем воспоминание.
— Ну конечно! А ты не можешь для меня ничего сделать?
— О чем ты, Эля?
— Я о работе для меня. — И, не ожидая ответа, она продолжала: — Понимаю, зубная техника — это не твое. Но это неважно; у меня есть рекомендательные письма к кое-каким художникам, писателям…
— Касательно зубной техники?
— Да, конечно, но разве это важно? Разве это важно, если тут со мной Хуберт?!
— Франк.
Она поглядела на меня не просто непонимающе, но так, словно свалилась с луны.
— Франк? Да-да, разумеется, Франк. Я сама не знаю, что говорю.
Она забрала у меня поводок, но садиться уже не стала.
— Мы так толком и не поговорили… Ты бы хоть написала. Все так неожиданно. Ты на многое намекала, но именно что намекала. Вообще, это твое появление выглядело таким странным — мне кажется, я еще по-настоящему не проснулся. Наверное, я выгляжу смешным.
— On le serait à moins[48].
— A ты прекрасно говоришь по-французски!
— On le serait à moins, on le serait à moins, — повторила она, как автомат. И с акцентом… С акцентом… Сильным акцентом.
— Я вообще-то пришла просто сказать, что мы еще увидимся. Я представлю тебе… представлю… — с непонятной самоиронией протянула она, приседая в глубоком реверансе. — Мы живем на me d’Athènes[49] (она произнесла «ру» — с одной стороны, потому, что иначе не умела, а с другой — потому что хотела это подчеркнуть), гостиница «Европа».
* * *
— Да, но эти дамы вот уже два дня тут не появлялись. Вы, наверное, господин Икс?
— Я господин Икс, но постойте, вы говорите — эти дамы. Может быть, дама и господин?
— Дама и господин? Нет. Две дамы — две дамы, уверяю вас. И они мне сказали: мы едем в Мант, если придет господин Икс, пусть поднимется к нам в номер. Там для него письмо.
В письме значилось: «Тоничек, Франк с радостью бы с тобой познакомился, но этому помешали мои капризы. Эти капризы вызвал один странный случай: я встретила на площади Нации одну давнюю пражскую приятельницу, француженку, она вышла замуж за какого-то банкира — вышла замуж, ну, ты же понимаешь! — у них в Манте дом, и, мол, не приедем ли мы к ним на субботу-воскресенье?.. В понедельник мы наверняка вернемся. Не забывай о нас».
Это был номер с альковом. Полным-полно женских вещичек, но ни одной — мужской. Рядом с кроватью — открытый чемодан. Никакой не саквояж, просто дешевый деревянный чемодан, обтянутый грубой фибровой подделкой под свиную кожу. Открытый и почти пустой. На дне — небольшой несессер, смятая ситцевая пижама и не вставленная в рамку детская фотография, самый что ни на есть обыкновенный «воскресный» провинциальный снимок. Через спинку одного из стульев перекинут уже знакомый собачий поводок. Под раковиной с батистовой занавеской — ведро с грязной водой, в которой плавают окурки. Я откинул занавеску. Там была полка для обуви: пара войлочных тапочек, бальные туфли из золотой парчи с сильно стоптанными каблуками, пара обувных патентованных колодок. А среди всего этого виднелось что-то странное, сморщенное. Я взял это в руки и тут же отбросил. Потому что на ощупь оно было омерзительным. Я присмотрелся внимательнее: это был засушенный морской конек.
Мне захотелось отдернуть эту батистовую занавеску до конца, но этому помешала отделка стен. Unüberwindlicher Drang[50]. Стены были оклеены теми самыми бумажными обоями à ramagés[51], с какими мы сталкиваемся во всех третьеразрядных парижских гостиницах, которые пытаются «произвести впечатление». К стенам с помощью чертежных кнопок были прикреплены разные картинки: олеография, изображающая лазоревую женщину, лежащую перед пещерой и читающую книгу; олеография тициановской «Любви земной и любви небесной»; фотография «Инфанты» Веласкеса из Лувра; фотография «Ночного дозора» Рембрандта; несколько вырезок из модных журналов «по искусству», фотография, кажется, из «Die Dame», неведомого джаз-оркестра с белозубыми неграми и одним совершенно мученического вида белым, вырезка из французской газеты, касающаяся заполнения налоговой декларации, крохотная вырезка из колонки новостей о пожаре в каком-то сарае в Кобылисах, несколько шелковых «узоров» и «Снятие с креста», которое привело меня в состояние полной растерянности…
— Они не сказали, когда вернутся? — спросил я у портье.
— О, — произнес он. — Это не в первый раз. Когда-нибудь вернутся.
— То есть…
— То есть… что вам сказать… вы видели, как они разукрасили комнату?
— Так все это пришпилили они?
— Ну да, эти женщины!
В письме сообщалось: «…Я встретила на площади Нации…» Но как она очутилась на площади Нации?
Была суббота, вторая половина дня. Около пяти. В это время Париж переодевается. К воскресенью. Его не узнать. На него нападает горячка, не щадящая даже площадь Бастилии, которая принципиально не замечает воскресений. Есть бульвары, сходящие в это время с ума, точно подмастерья, живущие от воскресенья до воскресенья, однако же бульвары эти всякий раз прикидываются удивленными; есть тихие улочки, взволнованные, как гимназистка перед первым балом, — и что это такое с ними творится? Площадь Нации не знает, за что хвататься. Она вечно не знает, за что хвататься. Эта площадь походит на малосимпатичную особу, с которой случилось несчастье и которую мы жалеем не потому, что сочувствуем ей, но наоборот — именно потому, что не умеем ей сочувствовать. Сюда со всех сторон устремляются улицы, которым ни с одного конца не за что зацепиться; а посередине этой площади, которая скорее представляет собой огромную, даже в сравнении с другими дырами дырявую, дыру, находится сквер с фонтаном. В этот фонтан дыра беспрерывно кидается, чтобы положить всему конец, однако же шесть бронзовых крокодилов, которым она не по вкусу, которые хотели бы поживиться чем-нибудь другим, беспрерывно выплевывают ее обратно. Ничего, ничего не появляется со стороны бульвара Вольтера, на который выглядывает Республика, едущая, сама того не сознавая, на триумфальной колеснице и принимающая торжественный вид, чтобы всем казалось, что выглядывает она просто так, а не ожидая чего-нибудь. Напрасная надежда, которая стесняется своей тщетности и прикидывается, что не надеется, не ждет. Эта площадь точно создана для свиданий, на которые ходят понапрасну и с предчувствием, что там можно дождаться разве что позорного клейма, которое выжигают на лбу тех, кто обманулся в ком-то или в чем-то и кого роднит с его собратьями непередаваемая улыбка. Эта площадь больна, и по ней не прогуливаются — от нее спасаются бегством. Она кажется такой большой лишь потому, что дома упорно пятятся с нее, пятятся, словно зеваки, собравшиеся поглазеть на нечто малопривлекательное. Может быть, это статуя Торжествующей Республики? Или какое-нибудь безобразие, что учинил невидимый genius loci[52]? Да, это безобразие, что учинил невидимый genius loci.
Как же попала Эля на площадь Нации? Как это возможно — встретить кого-нибудь на площади Нации? Я был там всего однажды, в качестве послушного туриста, который идет, находит и не ропщет. Я отправился пешком. От Лионского вокзала туда ведет бульвар Дидро. Все, что попадается навстречу, наверняка взялось именно с этой площади, его как будто высосало оттуда. Все же, что движется в направлении площади, движется против некоего течения, которое с тех, кто ему сопротивляется, все равно постепенно все смывает, так что остается лишь грубый скелет клацающей безнадежности. А та, дойдя, куда шла, останавливается, не зная, что делать дальше, и в конце концов ей тоже остается только рассыпаться прахом.
Я добрался туда около восьми. Было уже темно. Огни пытались утонуть хотя бы в чем-нибудь, но у них это никак не получалось. Не скажу, что я просто-таки вынужден был проделать то, что сейчас опишу, но бесспорно одно: едва я туда дошел, меня буквально сцапало мерзкое, глупое и как бы запачканное пятнами рвоты чувство, что мне полегчает, если я это проделаю. Меня, однако, сцапало не только оно, но и желание ему противостоять. Я знал, что второе чувство сильнее, по именно поэтому я решил действовать вопреки ему, то есть обходить площадь: сперва вдоль домов, потом — по внешнему периметру сквера и в конце концов — вокруг фонтана. Каждый из этих кругов был, можно сказать, бессильным проклятьем упрямого дурака. Затем я направился к единственному здешнему кафе. Нас было трое посетителей и утомленная вера в невесть какое чудо, вот почему кассирша превратилась в душе в паука-сенокосца, что тянет по всему залу свою легкую и липкую паутину. Эта паутина цеплялась к официанту, и еда, которую он разносил, потому казалась мерзкой. Я сел возле окна и отодвинул занавеску.
Как она очутилась на площади Нации, на этой доске объявлений размером с площадь? Несколько прохожих, несколько наемных экипажей, казалось мне, отыскивают самую короткую секущую, и чем дольше я наблюдал, тем больше все они начинали напоминать предметы, втянутые в некий круговорот, откуда невозможно выбраться.
На краю тротуара стоял на удивление бесполезный полицейский. Когда я подносил ко рту чашку с черным кофе (какое же это было бесстыже обманчивое пойло!), меня охватило чувство, что темнота удвоилась и очертания предметов поэтому стали менее четкими; будто бы я глядел сквозь закопченное стеклышко, а кто-то подсунул мне второе такое же. Полицейский изящным движением плеч сбросил свою пелерину, принялся делать простенькие гимнастические упражнения и очень напомнил мне неосвещенный семафор.
На тротуаре неподалеку от кафе, откуда ни возьмись, небольшое черное пятно. Это была собака. Собака, похожая на ту, которую приводила ко мне Эля. Она была одна. За ней тащился длинный поводок, но вовсе не тот, которым пользовалась тогда Эля: тот был круглый, а этот — плоский. А так в ней не было ничего необычного. Боже меня упаси написать «она выглядела так, как будто совсем недавно долго и с жаром говорила — и вдруг умолкла, упрекая себя в излишней опрометчивости»; я выражусь скромнее: «У меня создалось такое впечатление, как будто…» и т. д.
Собака какое-то время постояла, потом встряхнулась, огляделась вокруг и вдруг побежала, словно по команде. Она трусила вдоль домов и вскоре скрылась из виду — то ли из-за темноты, то ли потому, что площадь была круглой. Спустя какие-нибудь четверть часа она появилась вновь, с противоположной стороны. Из этого я заключил, что собака обошла всю площадь. Она походила на существо, которое выполнило часть поставленной перед ним задачи, довольно собой, отдыхает и готовится продолжать. И впрямь! Вскоре после этого собака задумчиво спустилась на мостовую и направилась в сторону тротуара, окаймлявшего сквер. Я как раз расплатился и шел к выходу. «Bonsoir», которое, словно заклинание, бросила мне вслед кассирша, упало на пол за моей спиной; я это услышал. Я вышел на улицу и двинулся за собакой, которая теперь бежала по тротуару вокруг сквера. Немного быстрее, чем раньше, и в противоположном направлении. Я тоже ступил на этот же тротуар, чтобы убедиться, вернется ли собака туда, откуда она появилась.
В остальном на площади ничего не изменилось: все то же беспорядочное, кое-как разбросанное движение, какой-то шорох: подобные звуки издавал бы, возможно, chaos nebulos[53] Млечного Пути, если бы слушатель находился в той невообразимой дали, куда этот путь пролегает. Меня охватило сострадание к домам, окружающим площадь: высокие, белые, надутые доходные дома соседствовали с развалюхами и со стенами из голого кирпича, смысл которых, с тех пор как их принялся рисовать Утрилло, стал столь глубоким. Сострадание, вызванное тем, что они тщетно пытаются придать хотя бы какой-нибудь вид этой воронкообразной площади. Испытание осознанием того, что оно смешно, это сострадание выдержало с честью.
И вот я стою, жду собаку, вернется или не вернется, — и вдруг ненароком поглядел в сторону кафе, где я ужинал. Там стояла какая-то женщина. Я мгновенно узнал Элю, хотя одета она была совершенно иначе, чем позавчера у меня в гостях. Она была с непокрытой головой, и ее короткие волосы, сплошные кудри, напрасно покушались на то, что невозможно выразить лучше, чем словами «юноновская красота Эли». Напрасно покушались на это и одежда Эли, и ее движения. На ней, правда, не было классического красного шелка, черной блузки, фартучка и туфелек с излишне высокими каблуками — в этом-то я был уверен, хотя впотьмах и на таком расстоянии я не мог разглядеть детали, — но все в ее облике отчего-то заставляло вспомнить о наряде gigolette[54], который, впрочем, существует только в ревю мюзик-холлов. Поначалу мне пришло в голову, что жесты и движения Эли были как бы вертикальным ответом жестам и движениям той собаки, которую я увидел перед кафе. У Эли, однако, все это сливалось в нечто неприятное и отталкивающее — смесь робости и грубости проститутки, заманивающей прохожих. И все эти телодвижения закончились тем, что Эля прижала руки к бокам и, словно бегун на тренировке, припустила вдоль домов, но в другом направлении, нежели раньше обегала площадь ее собака. (Ибо это, несомненно, была ее собака.) При этом Эля непрестанно озиралась вокруг, будто ища кого-то. Я наблюдал за ней со своего тротуара, окаймлявшего сквер. Эля и собака бежали в противоположных направлениях, и вскоре хозяйка заметила своего питомца. Она тут же свернула и направилась к центру сквера. У меня едва хватило времени отскочить в сторону фонтана, вокруг которого шла дорожка. На этой дорожке стоит несколько скамеек. На газоне, чуть поодаль, заброшенный газетный киоск. Я спрятался за ним. На ближайшей ко мне лавочке сидел какой-то человек. На нем были цилиндр, пиджак, брюки в полоску, лакированные туфли, светло-коричневый жилет и длинный галстук, в глазу — монокль, в петлице — камелия; короче говоря, он был одет, как те vieux marchéurs[55], которые плесневеют в мюзик-холлах. Но он был молод. Несмотря на весь этот маскарад, он был удивительно красив. Он просто как бы продал свою красоту этому смешному наряду. Рядом с ним лежало нечто наподобие мешка. Этот человек сидел, опираясь подбородком о золоченую рукоять трости, и было видно, что ничего из происходящего от него не ускользает. Мне показалось, что он заметил и меня. Однако в его взоре было нечто, говорящее о том, что это неважно — заметил он меня или нет, и в то же время о том, что я могу не обращать внимания на то, что он меня заметил, — некое доверительное молчаливое соглашение между ним и мною.
Собака увидела Элю, ушла из сквера и направилась к дорожке вокруг фонтана. Эля побежала за ней, однако не обогнула сквер, так что какое-то время они бегали друг за дружкой по двум концентрическим окружностям, но в противоположных направлениях. Ошибиться было невозможно: Эля гналась за собакой, собака от нее удирала, однако, Бог знает почему, нельзя было ошибиться и в том, что, вопреки видимости, перед нами разыгрывался отрепетированный спектакль.
Постепенно Эля тоже очутилась на дорожке возле водоема. Собака как раз подбегала к сидящему господину, когда тот поднялся и взял с лавки свой мешок. Затем он присел на корточки, раскрыл мешок и подставил его собаке, которая не только не стала шарахаться от него, но, наоборот, забежала прямо внутрь. Когда я говорю «забежала прямо внутрь», то имею в виду, что забежала без колебаний! Она влетела туда старательно, как если бы ее ожидало там освобождение. Да, Освобождение: другого слова и не подобрать. И ни звука: собака не лаяла, Эля не звала ее, господин был нем. Беспорядочное движение на площади — точно дождь, мочивший всю эту пантомиму. Эля стояла, господин, державший под мышкой мешок, в котором легонько вертелась собака, выпрямился. Если читатель еще помнит, я говорил о бронзовых крокодилах, их шесть, и они стоят кружком. Струи воды, вырывающиеся из их пастей, поливают Торжествующую Республику. Чуть-чуть фантазии — и их и днем можно принять за больших морских коньков; что уж говорить о ночи. Эля остановилась перед одним из этих крокодилов, поднесла руки к груди и произнесла: «Ах!» Все было ясно: он напомнил ей того самого сморщенного морского конька, которого я нашел в ее номере на полке под умывальником.
Следует признать, что этот спектакль удивлял меня чем дальше, тем менее, хотя я и с самого начала был не слишком-то удивлен. Постепенно меня охватило чувство, что и я, я тоже играю в этой комедии; началось это в ту минуту, когда по отведенному в сторону взгляду человека с мешком я понял, что он знает о моем присутствии. Вот почему, покинув свое укрытие, я нашел вполне естественным, что и Эля не изумлена моим нежданным появлением.
— Pass nicht auf, das will nichts heissen, — сказала она, выгнувшись в талии точно так же, как тогда у меня. И представила мне этого господина: — Мсье Андре…
— Может быть, Франк?
— Нет, не Франк. Андре.
Господин Андре поклонился и сделал чисто французский жест, показывая, что не хочет быть неделикатным. Мне и в самом деле хотелось бы поговорить с Элей без свидетелей. Мы отошли в сторону.
— Элечка, я понимаю, что ты угадала, что я подумал; нет: что я чувствую; то есть нет… как бы это сказать? Короче говоря, ты угадала, что я был удивлен, но больше уже не удивляюсь… нет, не так: я больше не изумляюсь своему изумлению…
— Да, — произнесла она очень и очень серьезно.
— Однако уже позавчера, когда ты была у меня… ты, конечно, понимаешь, кое-что уже тогда… короче, я не мог себе кое-что уяснить… Ты же говорила, что несчастлива?
— Я это сказала, хотя ты об этом не спрашивал. Да, я несчастлива, и ты знаешь, почему.
— Да… Но ведь с тобой Франк!
Эля не отвечала. Ее рот искривился. Ненадолго, очень ненадолго.
— Элечка, твои рекомендательные письма — это ты придумала, правда?
— Все эти письма я уже вручила.
— Ну хорошо, но что касается места зубного техника — это неправда?
— Это неправда.
— А что касается Франка, это тоже неправда?
Элю, которая до сих пор говорила так спокойно и даже покорно, вдруг словно оса ужалила.
— Идиот! — притопнула она ногой. — Я сказала — Франк, значит, Франк существует! Франк существует!
— В Праге. Но здесь… Ты только что сама сказала — Андре, да и у меня дома ты путала имена.
— Франк! — Она произнесла это так, как будто ставила точку в разговоре.
Я отвернулся.
— Ты болван, Тонда. Есть Франк, а есть Андре. Есть Хуберт. Есть ты, я… Ты, ты, ты болван!
И внезапно, ни с того ни с сего, она повела себя как рассвирепевшая торговка:
— Я приезжаю в Париж, я тут в жизни не была, я одна, не знаю, куда приткнуться, ты прекрасно понимаешь, почему я здесь, но даже и не думаешь оказать мне гостеприимство!
— Да я и понятия не имею, почему ты здесь, то есть мне известно только то, что ты сама мне рассказала. И как я могу оказать тебе гостеприимство?
— Pass nicht auf, — и она погладила меня.
— Я был у тебя в гостинице. Думал, ты в Манте.
— Я в Манте.
— Но Элечка!
— Ни слова: я в Манте.
Я не посмел настаивать. Как вести речь с помешанной? Пускай даже с такой помешанной, с которой мы когда-то «миловались». Я говорю «миловались», умному достаточно, а что касается меня, то я хорошо знаю, что слово «миловались» — это грубая замена слова «любовь» и что это, по сути дела, есть не что иное, как эллипсис спряжения «я негодяй, ты негодяй», где «ты» — это опять-таки «я». Я не посмел настаивать, ибо она была едва ли не в ярости.
Между тем господин Андре подошел и нежно обнял Элю за талию.
— Голубка будет нынче спать со мной? — спросил он учтиво, точно стареющий пылкий любовник. От этого его красота стала ужасающе слащавой. Под мышкой у него был мешок. Там уже ничего не шевелилось.
— Она будет, — ответила Эля.
Он отвел ее немного в сторону. Эля повернула ко мне голову — словно актриса в амплуа первой кокетки, только что сыгравшая сцену неудачного любовного свидания. Наверное, она это где-то подсмотрела.
Андре обнимал ее за талию и шагал так широко, что почти тащил ее за собой. Они остановили наемное авто и поехали в сторону площади Республики. Андре, однако, прежде чем сесть, выбросил свой мешок. Я нагнулся. Там была собака… задушенная.
* * *
В письме значилось: «В понедельник мы наверняка вернемся».
Я отправился туда в понедельник.
— Да, — сказал портье, — кажется, они дома. — И занялся разборкой почты. Мне показалось, что с излишним усердием.
Начинало темнеть. Эля сидела возле окна и штопала шелковый чулок.
— Здравствуй, Тонда, — произнесла она и добавила таким тоном, словно вот уже много лет мы виделись изо дня в день: — Раз уж ты возле двери, то зажги свет.
Я повернул выключатель. Поразительное убранство стен никуда не делось. Однако Эля! Куда подевалась старомодно одетая женщина, позвонившая в пятницу у моей двери? И куда подевалась субботняя gigolette?
Ничто в самой Эле и ничто вокруг не строило козней против ее «юноновской» красоты. Она выглядит просто. Даже самый искушенный взгляд не отыскал бы противоречия между тем, какой Эля кажется, и тем, какой мы бы хотели ее видеть. Эле тридцать пять лет. Изначально Тот, кто предопределял ее красоту, видел Элю роскошной, с пышными формами, округлой; нынче же, когда решение о своей красоте принимала и она сама, она не то чтобы изменила своей предопределенности (да и как это возможно?), но добавила к ней немного интеллигентной робости, немного сдержанности: Юнона, чье тело мечтает о стройности и хрупкости, все еще Юнона, но — обеспокоенная. И у нее были русые волосы, цвет которых напоминал июль, потому что это был беличий цвет, и голубые глаза, цвет которых уклонялся от сравнения с чем-либо, ибо был цветом памяти, и подбородок обстоятельный, словно основополагающая мысль, и рука, которая становилась прекрасной, когда на нее опирался подбородок, а ее обеспокоенные пальцы как будто перебирали струны арфы, и извлекаемые звуки были достойны этих пальцев. Мне бы хотелось, чтобы вы сумели представить себе Элю такой, какой увидел ее в тот понедельник я, когда, постучав, вошел в комнату после протяжного «oui»[56], в котором звучала слегка аффектированная неуверенность, объясняющаяся тем, что она не догадывалась, кто именно сейчас войдет. Не знаю, к сожалению, сумел ли я передать читателю свое тогдашнее впечатление. Возможно, мне это удастся лучше, если я воспользуюсь слогом обозревательницы мод и напишу: «В сумрачной комнате сидела женщина определенного возраста, ни разу не сошедшая с дороги, которой должна придерживаться женская красота, что желает всегда идти в ногу à la page»[57].
Итак, эта Эля положила чулок на колени, сложила там же руки и сказала:
— Здравствуй, Тонда, мне так жаль, что позавчера ты приходил сюда напрасно.
(Я не упоминал о том, что цвет ее глаз уклонялся от сравнения с чем-либо?)
— Садись, — и она указала на стул, что стоял подле ее стула.
Я невольно взглянул на сиденье этого стула. Мне в голову пришло слово «предательство». Но это лишь поначалу. Потом подозрения рассеялись, и я сел. Тут я заметил, что отчего-то пытаюсь сложить руки так, как если бы хотел подражать ей, и меня охватило чувство собственной неполноценности. Однако план моей речи был продуман, и я знал, что не изменю ему.
Мы впились в зрачки друг друга.
— Ты лгунья, Элечка, и интриганка. После того, что я видел, я уже не знаю, пришел ли я сюда из любопытства или из симпатии.
— Разумеется, ты пришел из любопытства, но какая разница? Да, если хочешь, я лгунья, но не интриганка… К чему ты, собственно, клонишь? Я приехала в Париж. Ну и что?
Иронически извинившись за то, что буду сейчас говорить вещи общеизвестные, я перешел к позавчерашним событиям на площади Нации. Поскольку я вел речь о вещах общеизвестных, то и обрисовал их очень коротко. Но от финального аккорда я отказываться не хотел:
— В мешке я нашел собаку, но — мертвую!
— Как она могла быть мертвой, — произнесла Эля с оттенком язвительности в голосе, — как она могла быть мертвой, если сейчас она на прогулке?
— Ха-ха-ха!
Элю, однако, вопреки моему ожиданию, взрыв этого презрительного смеха нимало не рассердил. Она внезапно перевела взгляд на мои губы, как если бы на них ей что-нибудь померещилось, изумленное недоверие промелькнуло на сей раз в ее взгляде, и она сказала с надрывом, не отводя глаз от моих губ:
— Так как же все это было?!
И тогда я начал подробно и обстоятельно объяснять, что именно происходило в субботу.
— И вообще, Эля! Уже эти твои нитяные митенки, твоя странная шляпа, в которой ты ко мне пришла, все твои речи, твой смех — все, все! Элечка, что ты вытворяешь? Мы, которые были… между которыми было…
Она прикрыла мне рот рукой; зачем? ясно же было, что последних слов она не расслышала.
— Тоничек, собака сейчас гуляет. Как бы то ни было, она сейчас гуляет, Миря вот-вот приведет ее, ты сам увидишь. Что же ты видел? Что ты видел?
Не знаю, как мне удалось выкрикнуть «Эля!», ибо мне казалось, что я задыхаюсь.
Элины глаза по-прежнему смотрели на меня. Надо ли говорить, что я рассказывал ей, какое впечатление произвел на меня ее тогдашний визит, рассказывал о том, что видел позавчера на площади Нации? Наверное, я лишь бормотал нечто нечленораздельное, наверное, я, словно животное, лишь издавал звуки, потому что эти глаза!!! Рядом со мной находились два копейщика, что бросали на меня враждебные косые взгляды.
— Кто это тебе рассказал? — воскликнула она вдруг, громко рассмеявшись, и откинулась на спинку стула.
— Кто мне рассказал — что?
— Может, я сама проговорилась? — Стоило ей произнести это, и я понял, что ее опять понесло и что она ни с того ни с сего сейчас заговорит столь же бурно, как в пятницу у меня. — Но я этого, право, не помню. Как же много вокруг клеветников! И кто это только мог тебе рассказать? Кто мог рассказать тебе, что однажды — но с тех пор столько лет прошло!!! — интересно, я уже была тогда замужем? Да, была. Это случилось во вторник, на масленицу, я хотела на бал, а муж — ну, ты же их знаешь! — и говорит: ну ты и выдумала, с тем, что ты носишь под сердцем… он имел в виду нашего Хуберта… короче, вышла отвратительная ссора, одна из тех, что заканчиваются хлопаньем дверью и уходом в пивную… Впрочем, Курт отправился не в пивную, для этого он слишком благороден, нет, Курт не таков, он пошел в кафе, а я осталась одна, одна. Вижу все, как сегодня. Одна!.. Я замужем, жду ребенка, на горизонте — некий рубеж; он как будто отделяет то, что было, от того, чего уже не будет, это все равно как сказать дважды «чего уже не будет»… и в тебе что-то взывает к тому, что тебе принадлежит, и ты этого жаждешь, я хожу по квартире, закрываю за собой двери, тихонько, чтобы оно не проснулось, потому что, пока оно спит, оно остается с тобой… и вот ты стоишь над выдвинутым ящиком комода, полного семейных реликвий. Вещи, оставшиеся от бабушки, я беру их в руки, одну за другой, вот вязаный зимний шерстяной чепец, весь в лентах и розетках, который завязывается под подбородком, вот нитяные митенки, вот черная мантилья, усеянная черными же бусинками, которые задевают друг о друга и шуршат, мне пришло в голову облачиться в этот наряд, и, как ни странно, по мере того, как я надевала на себя одну вещь за другой, преображаясь в старуху, с моих плеч точно сваливалось по нескольку лет, но дело было не только в этом, все эти опадающие годы были подобны слоям, и каждый такой слой обнажал нечто новое, что прежде было им прикрыто, нечто странное, не слишком привлекательное, в меня входило что-то новое, оно опутывало меня, и я стыдилась этого, сама не зная, почему. Потом, когда я уже переоделась в старуху, мне захотелось выйти на улицу. На бал? Да нет. Просто на улицу. Мне захотелось на улицу, и это было дурно. У нас была беспородная собачка, маленькая, поместилась бы в муфту, и я придумала, будто бы ее надо выгулять. Представляешь, Тонда, прямо в этом маскарадном наряде! Площадь Иржи из Подебрад находилась совсем рядом. Стояла оттепель. В одной из подворотен была скамейка, на ней сидел человек, сразу и не поймешь — то ли ряженый, то ли нет. Светло-коричневая шляпа, темный пиджак с большой бутоньеркой, клетчатые брюки, бакенбарды и монокль.
Эти бакенбарды старили его, он походил на взбалмошного щеголя, пылкого любовника, каких изображают в комедиях, но когда я подошла ближе, то поняла, что бакенбарды могут быть фальшивыми. Я немного боялась, вокруг-то ни души, но эти бакенбарды не давали мне покоя, я все думала, какой бы он оказался, если бы их снял, а вдруг молодой и красавец. Ты, Тонда, можешь мне не верить, но честное слово, когда я про себя произнесла «красавец», да еще так сладострастно, что даже сама испугалась, то во мне словно что-то загорелось. Словно искры полетели. И вот иду я мимо этой скамейки, веду собачку, немножко нарочно горблюсь, ногами шаркаю, шаги делаю короче — и вдруг слышу за спиной: «Эй, тетка!» Он точно пощекотал меня, но одновременно я взбесилась, я сама себе тогда эти слова сказала: «пощекотал» и «взбесилась», обрати внимание, Тонда, это ведь все не просто так, не знаю, почему, но я тогда нарочно подбирала такие вот простые, грубые слова, и это доставляло мне удовольствие, да, такие слова… в общем, ты, наверное, понимаешь! Может, это было даже похуже, чем «пощекотать», короче, я разозлилась. Оборачиваюсь, сдергиваю с головы чепец — а он уже стоит рядом и сделал то, о чем я так мечтала, нехорошо было об этом мечтать… бакенбарды сорвал, шляпу тоже. Клянусь тебе, Тонда, он оказался красавцем, но как бы это объяснить? Он был наглецом. Церемониться не собирался. Хватать меня он пока еще не решался, но уставился во все глаза, да и стоял почти вплотную…
Я давно уже ерзал на своем стуле. Мне больно было слышать эту внезапную и непрошеную Элину бесстыдную исповедь. Я не выдержал:
— Эля, значит, подобное с тобой уже было!
Но она повторила, как будто ей это было безумно важно, повторила капризно, едва не топая ногой:
— Говорю же, он уставился на меня во все глаза, подошел почти вплотную — ясно тебе? — и вдруг говорит: «Никакая ты не тетка. Ты в самом соку. Ну что — займемся этим?» В общем, я не стану тебе описывать, как именно он на меня смотрел. Но вот как смотрела я, если он осмелился на подобное, — ты слышишь, Тонда? — как же смотрела я? Ладно, Тонда, я расскажу тебе все, если ты знаешь, что я из себя представляю, а может, ты что-то слышал или видел… «Ах вы идиот, что значит — займемся этим?» И влепила ему такую… нет, эта пощечина не была искренней, потому что все во мне играло, но и не такая, как ты подумал… А он расхохотался, даже обрызгал меня: «Так вот ты, значит, как, девка? А что ты скажешь на это?» И не успела я глазом моргнуть, как он схватил эту собачку, — вот видишь, я опять сказала схватить — она и не пискнула, и швырнул мне ее к ногам. Задушенную. Сколько у меня с тех пор было мужчин!!!
— Эля!
— Понимаешь, я не могу без этого, без этого самого. Не то чтобы я хвасталась, нет, и не стоит так уж пытаться отучать меня от этого! Конечно же, это болезнь!
(«Конечно же, это болезнь!» — она произнесла почти с гордостью.)
— Хуже всего то, что я прекрасно знаю, что изменилась бы, если бы хоть кто-то из них остался со мной — потому что, видишь ли, все они… и какая мне, казалось бы, разница?.. я не знаю, почему, но они потом всегда выкидывают меня, даже на глаза больше не показывайся, ты, лахудра, вот что они говорят, и я не понимаю, почему, мне кажется, я к ним всей душой, такая ласковая — на чем это я остановилась? ах да! в общем, я изменилась бы, если бы кто-то из них не бросил меня, но он должен все знать, понимаешь, он заранее должен был бы знать, какая я, должен, понимаешь?
— Но ведь ты же его нашла, у тебя есть Франк, с тобой же здесь Франк, он тебя любит, — воскликнул я, совершенно раздавленный таким подробным и жутким рассказом. Раздавленный и отупевший; довольно долго я уже вообще никак не реагировал. Опустошенность. Возможно, слегка прикрытая жалостью, возможно; но жалость эта напоминала трухлявое дерево: рассыпалась при первой же попытке всхлипнуть. Повергало в изумление меня только одно: если она не скрывает такие вещи, то почему отрицает, что была в субботу на площади Нации?
Некоторое время она непонимающе глядела на меня:
— Какой Франк? Ах, ты об этом? Какой же ты недотепа, Тонда! — засмеялась она (и, честное слово, засмеялась просто и естественно, совсем невпопад с тем, что она только что рассказывала), — неужели ты все еще не понял? Франком я называю про себя того, кто должен был бы им быть. Подумай хорошенько: Франк, Франк, ты же знаешь французский, правда? Это кто-то искренний, короче, тот, кто в силах освободить.
— А позавчера на площади Нации?
Эля подскочила с места, как ненормальная:
— Сколько раз я должна повторять, что я там не была, мы были в Манте, я и Миря. Это тебе надо бы объяснить, зачем ты пристаешь ко мне с этой выдумкой! Кто тебе что понарассказал? Откуда ты узнал? Неужели тебе неясно, что я никогда не стала бы тебе ничего говорить, если бы ты не застал меня врасплох с этой площадью Иржи из Подебрад, ты ведь держался так, будто видел все собственными глазами, но только здесь, в субботу.
— Как это?
— Нет, нет, — вдруг прошептала она изменившимся голосом, — это неправда, что я бы тебе ничего не рассказала, хотя…
— Что — хотя?
— Pass nicht auf, das will nichts heissen. Позавчера ты меня видеть не мог — да вот, взгляни-ка!
В комнату входила какая-то девушка. На поводке она вела лохматую собаку. Это была та самая, которую Эля приводила в пятницу ко мне.
* * *
Я обернулся. Миря вряд ли рассчитывала застать здесь постороннего. Она входила по своему обыкновению. Когда же она меня заметила, то попыталась изобразить профессионализм. По-моему, это называется — принять вид неискушенной лицеистки. Позднее я понял, что это было ее излюбленное амплуа. Сейчас, однако, ей не хватило времени; кроме того, она не была накрашена, то есть не накрашена, как подобает. Выражение выпуклых глаз не достигло заученной невинности, рту чуть-чуть недоставало изумленной боязливости, а с ангельски задумчивого лобика еще не исчезли морщинки профессиональных забот. Когда я обернулся к ней, Миря попыталась было придать своему лицу проказливое выражение, но понимая, что уже не успевает, отказалась от этого и вновь стала такой, какой была, когда входила в дверь, ни о чем не догадываясь. Только слепой мог бы не понять, с кем имеет честь. Миря, видя, что проиграла, отказалась от своего замысла окончательно. Как говорится, un beau joueur[58]. И возникла та парадоксальная ситуация, когда сцена, начавшаяся с откровенного лицемерия, вполне естественным образом завершается непритворной искренностью.
Приветственное «Gu’n Tag» Мири относилось и ко мне, как и весь ее грубовато-дружеский тон. Но при этом присутствовала собака. Собака, которая меня обезоруживала. Миря, передавая ее Эле, сказала, поведя плечом: «Тонда?»
Собака, почувствовав, что ее поводок в руках Эли, немедленно легла. Однако тут же поднялась, прошлась слева направо и легла снова. При этом она вела себя точно так же, как тогда у меня: как животное, которое не хочет разговаривать. Значит, это была она. Но в то же время я ощущал нечто большее, чем то, что это просто она: произошла будто бы перемена декораций при поднятом занавесе.
Миря не была загадочной; Миря не была интересной; Миря была одной из тех двадцатипятилетних, которые, если это необходимо, выглядят на семнадцать. Потому что это — их жанр. Бог знает, каким образом Миря показывала другим, что это — ее жанр и что это изо дня в день ей необходимо. Она была воплощением порока — причем порока белоснежно-невинного.
Я: То-то вы, должно быть, удивились, встретив Элю? В Париже!
Миря прыснула со смеху.
Миря: Где встретила?
Я: На площади Нации.
Миря: Вот еще придумали!
Эля: Миря приехала со мной. Мы приехали вместе.
Я: Вместе? Ведь ты писала, что вы встретились на площади Нации.
Эля: Pass nicht auf, das will nichts heissen.
Я: Зачем эта ложь, Эля, зачем она тебе, если ты исповедуешься, хотя никто тебя об этом не просил, да еще исповедуешься так, что от этого делается больно?
Эля: Привычка. Pass nicht auf.
Я: Эля, я был в субботу на площади Нации! Это не сон. Я могу это доказать. Я там ужинал, видел тебя, говорил с тобой, говорил с Андре, видел, как ты села в наемное авто, держал в руках тот самый мешок, нашел там…
Эля: Меня там не было. (С каменным выражением лица.) Миря, где мы были в субботу вечером?
Миря: В Манте, конечно.
Эля: А что мы делали в Манте?
Миря: Ну как же, были у того старика…
Эля: Ты меня ревнуешь, Миря?
Миря: Les affaires sont les affaires, junger Herr![59]
Я: Но зачем столько лжи, Эля, зачем столько лжи? Ложь требует таких усилий!
Эля: Pass nicht auf.
Я: Эти картинки пришпилили вы?
Миря: S’ gefällt ihnen, nicht wahr?[60]
Я: Так это вы?
Миря: Man will’s doch schön haben[61].
Я: К чему вся эта глупая ложь, к чему вся эта бесстыдная ложь?
Эля: Мы еще не закончили, Тонда. Das alles will nichts heissen.
Кто-то постучал в дверь.
Миря: Hereinspaziert[62].
Вошла толстая еврейка. Толстая, представительная еврейка-сводница.
Эля (вежливо поднявшись): Господин Икс, мать Мири.
Мать Мири: Vergnügen[63]. Эля о вас рассказывала.
Появление матери Мири было подобно линейке. Ты точно знал, что линия пройдет прямо. Но каждая линейка имеет конец; куда же направится линия после этого?
Миря и ее мать говорили только по-немецки. Обе они были еврейки из Черновиц, бежавшие от погромов. Их большая семья после этого рассеялась.
Это была толстая представительная еврейка-сводница. Там, где она появлялась, все точно начинало охать: это было оханье по поводу пережитых ужасов, погромов, врожденное, неожиданно проявившееся декадентское оханье по поводу страха перед будущим, чудесным образом приспособленное к нынешним временам; это, наконец, было будущее оханье всех продажных девок, изумленных той легкостью, с какой они выпутываются из любых ситуаций.
Миря и ее маменька обосновались в Праге. Миря «работала» танцовщицей, Мирина маменька придумала «уловку», как слиться с русской эмиграцией (обе немного говорили по-русински[64]); красавице Мире было двадцать пять лет, однако когда ей хотелось, то восемнадцать; это была ее «уловка», но она превратилась в нечто гораздо более привлекательное — в жанр.
Этот господин из Манта был вовсе не из Манта. «Он служил родине», то есть занимал какой-то пост в Праге и там приметил Мирю. В Манте у него был всего лишь загородный дом.
Маменька Мири сплела для меня эту путеводную нить за каких-нибудь пять минут; отрывисто охая, отрывисто говоря и держась при этом с достоинством дипломата, повествующего о деликатном, однако вполне благопристойном предмете, и жесты ее были жестами гонимого божества, которое так до сих пор и не поняло, отчего же оно впало в немилость.
Маменька Мири: Sie verstechen doch![65] Этот француз само очарование, он любит Мирю, но еще ей не открылся. Он уже в возрасте. Wer kann wissen? Auf ihn allein können wir uns nicht verlassen[66]. Моей дочке нет даже двадцати. Und das Talent, das sie hat[67].
Я (по-чешски): Зачем ты написала мне, что встретила ее? Почему умолчала о том, что приехала с ней, а не с каким-то там Франком? Почему ты выбрала именно ее? Куда тебя несет, Эля? Элечка, ты ли это?!
Эля (по-чешски): Потому что она… она все умеет. Видишь ли, она такая надежная, ни чуточки не эгоистичная, и ходы знает.
Я (по-чешски и после долгой паузы): А мне все вспомнилось именно теперь! Именно теперь!
Собака встала и безмолвно прошлась справа налево.
Эля (пнув ее, по-немецки): Kannst nicht still sein![68]
Я (по-чешски): А твой муж? Как вышло, что он ни о чем не догадался? Он не мог не догадаться! Значит, ты сбежала от него? Или он тебя прогнал?
Эля (по-чешски): Что это ты себе вообразил? Разве я не говорила тебе, что приехала сюда попрактиковаться? Он знает, что я здесь, мы обо всем договорились.
Я (по-чешски): Неужели этот болван за столько лет ничего не заметил?
Эля (по-немецки): За сколько лет?
Я (по-чешски): За сколько лет? Да с площади Иржи из Подебрад!
Эля: Es ist kaum ein Monat her[69].
Маменька Мири: Also werden sie mit ihrem vzavzavza bald aufhören?[70]
Эля (по-чешски): Нет! Ты все хочешь по правилам! Так вот: я сказала тебе, что это тянется уже годы. Но неужели ты думаешь, что я вынесла бы хоть полгода такой жизни?
Я (вид непонимающий, не издаю ни звука).
Эля: Неужели ты не понимаешь, что я приехала сюда потому, что для меня и месяц такой жизни — это уже слишком? Что…
Я (вид непонимающий, не издаю ни звука).
Эля: Um Himmelswillen, pass’ nicht auf![71]
Маменька Мири: Endlich! Enfin! Das ist eine Unart czechissch zu reden. Wir, die nichts verstehen. Sie, ein Gentleman![72]
Я (по-немецки): Но почему ты написала, что именно на площади Нации?
Миря: Я влюбилась в площадь Нации, понимаете? Я обожаю шикарные тротуары, такие шикарные, что из-за этого по ним никто не ходит. Я там одна, понимаете? И потом, разве я не русская? Я люблю простор. Er ist so weit, er ist so weit, dieser Platz de la Nation![73]
Блики, блики, замысловатые злые блики.
Я (по-чешски): А Хуберт. Твой ребенок Хуберт?
Эля (по-чешски): Я не виновата, Тонда! Наверное, это просто сон, Тонда! Тоничек, это не я! Я поехала сюда ради такой гнусности… Как будто отправилась в паломничество к святым местам… Разве это я?.. Что ты сказал?
Я: Я сказал — «Хуберт». Я сказал «твой ребенок Хуберт». Я сказал «Элечка!»
Эля: Это не я.
Маменька Мири: Гы-ы!
* * *
Это было что-то наподобие гриппа.
Эля писала мне: «Лежу, у меня жар. Приходи, Тонда. На Афинской улице я больше не живу, перебралась на Бернскую. Живу одна. Я получила телеграмму».
Я осведомился у портье, где Элина комната; он сказал, что у нее врач.
Я встретил его на лестнице. Но действительно ли я встретил его на лестнице? Он оказался колченогим старичком, испуганно вцепившимся в перила. Его глаза — это были глаза врача, которые нарочно смотрят так, чтобы ничего не замечать, потому что они видят столько, что боятся напугать вас, случайно открыв вам все то, что им пришлось повидать, открыв то, что навсегда осталось в них, точно аккуратно пришпиленные бабочки «павлиний глаз» или «мертвая голова»… да-да, точно аккуратно пришпиленный «павлиний глаз» из коллекции. Не знаю, отчего мне почудилось, будто он в сморщенной серой шляпе, в очках с костяной оправой, с тростью и с клистиром под мышкой. Не знаю, отчего, но этот элегантный господин показался мне доктором Кальяри (о, слава кинофильмам, вдохнувшим новую жизнь в заброшенную фабрику по производству сказок, легенд и мифов!), который вежливо, который почти подобострастно вжался в стену, чтобы я мог пройти. Это была узкая винтовая лестница, привычная для небольших гостиниц, лестница, где являются привидения — если вам этого захочется или если вы замечтаетесь. Я представился.
— Разрешите узнать, доктор, как обстоят дела в восьмом номере?
— В восьмом номере пожар, — ответил он, старчески хихикая, вытянул перед собой палец и прикоснулся к моей груди.
— Я знаю, — сказал я, ибо мне не только показалось совершенно естественным, что в восьмом номере пожар, но я даже увидел его своим внутренним взором, как если бы именно слова доктора и разожгли пламя; это была памятная плита, усеянная пестрыми язычками огня, которые стегали Элю, лежащую посередине, словно искусно изготовленная клумба с нарциссами и тюльпанами на Карловой площади. Тюльпанами были язычки огня, которые облизывали ее, не нанося никакого вреда.
— А если вы знаете, — захихикал он, — то вам известно также и то, что она только прикидывается, будто у нее жар. Чтобы оправдать своего морского конька, свой фетиш, с которым она не расстается и с которым играет.
— Я знаю, — сказал я, увлекшись яростной битвой, что разыгралась между его жестоко ухмылющимся ртом и печальным сочувствующим взглядом.
— Я знаю, — продолжал я, приблизившись к нему вплотную, — что это ангел в женском обличии, на которого Бог не обратил еще свой взор, и что ее болезнь — это совсем другое.
— Вы словно читаете мои мысли! Да, ее болезнь — это другое, но Бог, который отнюдь не всеведущ (что за клевета!), уже прослышал об этой женщине. Когда у Него выдастся свободная минутка, Он заметит ее, вот увидите.
— Профессия врача — это прекрасная профессия, — ответил я и тем самым, не желая того, ушел в сторону от предмета нашей беседы, ибо как раз в этот момент жестокость начала перемещаться от рта врача в сторону глаз, а печаль взгляда — в сторону рта, где накапливалась. — Благодарю вас, — сказал я, поклонившись, и продолжал взбираться по ступенькам.
Однако, оглянувшись, я заметил, что он следует за мной, семеня и отдуваясь и при этом маня меня пальцем. Я остановился и шагнул ему навстречу. Но теперь он сделал пальцем отрицательный жест и, вытянув тощую старческую шею, просипел:
— Passen sie nicht auf, das will nichts heissen, через пару дней она поправится.
Эта комната была совсем иная, чем на Афинской улице. Обивка мебели однотонная, стены голые. Почти как в монастырской келье.
Таково было ее внешнее убранство. Но средоточие комнаты, или скорее ее внутреннюю оболочку, представляло собой нечто такое, в чем я тут же распознал ее иную, истинную сущность, и это нечто в точности соответствовало картине, которая возникла у меня в мозгу, когда доктор сказал: «В восьмом номере пожар». Однако же такое восприятие комнаты, пускай столь же реальное, как и она сама, рисовалось лишь тому взгляду, который, как я понял, был дан мне лишь на очень короткое время. Мои глаза видели только яркий белый свет — и ничего, кроме света, в котором утопало все (пестрые язычки огня, лижущие Элю, которая лежит среди них) и который как будто обращался ко мне с непонятными словами — смысл коих мне, однако, не был чужд, — и слова эти означали на обычном языке «сон об уверенности, что я не сплю». В остальном, впрочем, за окружающим наблюдали мои истинные глаза, я заметил в головах Элиной кровати лампочку с абажурчиком из шелковой бумаги. В белом конусе света виднелись Элины голова и руки. А еще — голубой бланк телеграммы и высохший морской конек. Несмотря на все попытки освободиться, Элины голова и руки не могли покинуть пределы конуса. Свет не то чтобы преследовал их, он просто поместил их в свои границы — из любви к ним.
— Ты вырвалась от них, Эля?
Ни слова; поскольку я все-таки посмотрел на этого засушенного конька, лежащего поверх белого покрывала рядом с телеграммой (а как было на него не посмотреть?), Эля, которая играла с ним, сказала, точно арфа пропела:
— Это он, понимаешь?!
(Это «понимаешь?!» в тот вечер она произнесла еще много раз. Она говорила это слово с интонацией, мне знакомой. Это было «понимаешь?!» тех умирающих, которым выпала милость узреть чуть раньше, чем яркий свет полностью поглотит их, и которые поэтому прощаются так легко и без злобы к живым.)
Я рассказал ей, что нашел его еще тогда.
— Нехорошо рыться в чужих вещах, — сказала она, улыбнувшись. — Однажды я увидела его в аквариуме. Он плавал сверху вниз, сверху вниз. Одновременно и лошадиная голова, и знак вопроса. Знак вопроса, которому нет покоя: сверху вниз, снизу вверх — непрерывно. А потом я отыскала в какой-то лавочке вот этого — засушенного. Я все вспомнила. И купила его. Это мой фетиш.
— Но фетиш не бросают Бог знает где.
— Мой знак вопроса тоже Бог знает где.
Элины глаза были теперь опять такими, как прежде: незабудки. Множество воспоминаний, которые растворяются одно в другом и именно поэтому оставляют после себя цвет незабудки: Воспоминание.
Со мной опять была Эля. Это была она.
Если поначалу меня и занимало, почему она вновь в одиночестве, почему с ней нет больше ни мохнатой собаки, ни Мири с ее маменькой, а также когда и почему она дала им всем отставку, если поначалу это меня и занимало, то при виде незабудок все ушло куда-то, внезапно я все уже знал, и Эля знала, что я все знаю.
Мы оба знали, что об этом фетише можно больше не говорить, что говорить о нем не нужно, нельзя.
Я положил свою руку поверх ее. Теперь я тоже очутился в этом конусе света. Он согревал меня.
— Хуберт болел, — сказала она, — вот телеграмма. Но сейчас ему уже лучше. А место я себе так и не нашла, — добавила она небрежным тоном и улыбнулась.
— Место! — Это слово вырвалось у меня, и я испугался; потому что тотчас же заметил легкое облачко, омрачившее Элин лоб.
— Почему ты не хочешь поверить, что я здесь и из-за места тоже? Не думаешь ли ты, что я убежала?
Мы вновь оказались всего только в гостиничном номере — и нигде больше. И лишь маленький конус света — скорее даже золотой пыли, а не света, и я словно бы видел, как эта пыль оседает на Элиных руках, — лишь этот маленький конус остался после боев, которые уже отгремели. После битв латников, сражавшихся со лживой людской правдой.
— Ты, наверное, думаешь, что это был всего лишь предлог. Что я приехала сюда из сумасбродства, ради этого, но я точно так же, и совершенно искренне, приехала искать место, попрактиковаться, как я тебе говорила… а возможно, и из-за чего-то еще, что мне только предстоит узнать… а может быть, я уже и начала это узнавать. Тонда, как ты мог не заметить, что эти три силы, которые гнали меня в Париж… что эти три силы — это как раз то, что нам следовало бы понять, чтобы постичь самих себя и что мы вряд ли когда-либо поймем! Разве с тобой не бывает так: ты совершаешь нечто ради чего-то, совершаешь именно из-за этого, а не из-за чего-то другого, и тем не менее какой-то голос нашептывает тебе — тихо, но убедительно: наивный, нет, нет, это не то?! И ты чувствуешь себя так, как будто едешь на поезде, который думает, что едет по расписанию туда-то и туда-то, но при этом знает, что доедет — если вообще доедет — только туда, где ему предстоит сойти с рельсов?
Моя рука все еще лежала поверх ее рук, рук, которые, словно сговорившись, слегка подрагивали — но только слегка.
Мы долго сидели так и говорили о многом, не сводя друг с друга глаз. Город шумел, и шум этот устремлялся ввысь, удивительным образом соответствуя нашим невысказанным словам.
И мы втроем так хорошо понимали друг друга, что Парижу и мне сразу стало ясно, что имела в виду Эля, когда вдруг ни с того ни с сего произнесла: «Да».
Эле, однако, этого как будто не хватило. Нет, не то чтобы не хватило, но словно бы оказалось недостаточно. Словно она была настолько богата, что могла позволить себе роскошь заплатить по старым долгам: она взяла мою руку и слегка пожала ее.
И, как бы продолжая, она заговорила:
— …ну вот, а как-то раз, когда я уже не знала, куда деваться, сижу я перед какой-то шкатулкой. Воспоминания. Перебираю разные бумажки, бутоньерки, ленточки, списки партнеров по танцам. Вот письмо. Я с первого взгляда угадала, чье оно. Это было то письмо, которое ты однажды послал мне, а я над ним посмеялась. Я лгала. Мне тогда и в голову не приходило…
— Это уже почти неправда, Эля.
— Правда — это всегда правда, Тонда. Правда — она навеки, Господь Бог не шутит. Я сказала себе: «Сейчас» — понимаешь, сейчас — это, наверное, мое наказание за тогдашнее. А еще всплыло воспоминание о морском коньке. Знак вопроса! Почему этот знак вопроса так манил меня? В конце же стояло — Париж.
— Париж!
— И словно мельница завертелась: Париж — Тонда, Тонда — Париж, Париж — Тонда, Тонда — Париж… И так до бесконечности.
— Нет!
В это время потребление электричества резко падает. Магазины и конторы закрываются. Огни, которые остались, становятся ярче. Белее.
— Франк, это ты.
— Нет!
— Но я же ничего от тебя не хочу, Тонда…
— Но я же от тебя ничего не хочу, — повторила она, немного волнуясь. — Ты стал Франком именно потому, что я ничего от тебя не хочу, понимаешь?
Вечер внезапно точно обернулся утром. И я — не знаю, поверите ли вы мне, — но я только сейчас вспомнил, что нынче Сочельник и что я приготовил для Эли подарок. Я подошел к своему зимнему пальто, достал из кармана коробочку и положил ее рядом с телеграммой и морским коньком.
Эля, которая все больше походила на ангела, не поблагодарила меня, она продолжала говорить, чуть сильнее сжав мою руку.
— Когда мы отправляемся в паломничество к святым местам, мы не ждем за это награды. Мы отправляемся в паломничество, потому что эти места нам кое-что напоминают. Понимаешь?!
— Нет.
— Ну, что это именно то место, которое ведет куда-то…
— Не понимаю.
— Что это место никуда уже привести не может… А ты не покинул меня. Иначе тебя бы не было здесь, рядом со мной, с той, которая столько лгала. Но почему? Почему?
Теперь я ясно услышал — но к чему говорить, что именно я услышал? Я сказал что-то, сам того не заметив. И удивился, когда Эля спросила:
— Ты так думаешь?
— Что я думаю?
— Ты уже сам не знаешь, что говоришь, Тонда? Ведь ты сказал: «Наверное, ты лгала потому, что боялась открыть правду, которая так тебе нравится».
— Я это сказал? И что же, я угадал?
— Думаю, нет, — проговорила Эля, — наверное, я лгала потому, что правда не нужна этому миру.
* * *
Эля писала мне: «Муж телеграфирует, что Хуберт скучает без меня и плачет, что он уже выздоровел, но все-таки плачет. Может быть, это и есть тот истинный голос, что звучит именно благодаря нам. Зачем мне оставаться в Париже, если место я себе так и не подыскала? Итак, я уезжаю, я видела Франка, он и впрямь не покинул меня, он точно столб, к которому поспешает арка, а над ней — небесный свод, где обитает тот, третий… в общем, ты понимаешь. До свидания, Тонда, Тоничек, я оставила для тебя кое-что у портье».
В маленьком свертке оказался засушенный морской конек, а еще там был клочок бумаги, а на нем — большой знак вопроса, рядом с которым стояло: «Поняла».
Гостиничные портье обретаются в теплых передних, окруженные множеством вещей, разобраться в которых непосвященному очень трудно. Например, там висит колокольчик. Портье отлично известно, что возвещает этот колокольчик, когда он начинает звонить, но что скажет эта акустическая азбука Морзе непосвященному?
Я взял ту мою коробочку и отошел в сторону, чтобы открыть ее. И тут зазвонил колокольчик. Я поднял голову, сам не сознавая, сплю ли я еще или уже опять бодрствую. Ведь никогда не знаешь, что произойдет, если у твоих дверей вдруг грянет звонок. Поистине: мир необъятен; столь необъятен, что мудрейшим оказывается тот, кто признал, что теряется в нем, и, с запрокинутой головой и зажмуренными глазами, просто внимает.
Примечания
1
Все переводы из текста Вайнера во вступительной статье сделаны Е. Араловой.
(обратно)2
Покороче (фр.).
(обратно)3
В зеркалах (фр.).
(обратно)4
Верлен «Мудрость» (фр.).
(обратно)5
Человек, пользующийся дурной славой (фр.).
(обратно)6
Человек с признаками вырождения (фр.).
(обратно)7
Бродячего народа (нем.).
(обратно)8
Непререкаемо, букв, «с кафедры» (лат.).
(обратно)9
Благопристойно (фр.).
(обратно)10
Равнодушный (фр).
(обратно)11
Учтиво (фр.).
(обратно)12
Посылка (нем.).
(обратно)13
Пешком (лат.).
(обратно)14
Полностью одетыми (фр.).
(обратно)15
Исходя из совершившегося (лат.).
(обратно)16
Инициалы ныне здравствующего французского писателя (прим. автора).
(обратно)17
Раз и навсегда напоминаю — здесь это уместно, — что выражение «несколько слов» — это всего лишь выражение, то есть оно меня ни к чему не обязывает. Впрочем, отсылаю вас к началу (прим. автора).
(обратно)18
Что он говорит (фр.).
(обратно)19
Излюбленный грех (фр.).
(обратно)20
Ради случая (фр.).
(обратно)21
Третье в сравнении (лат.).
(обратно)22
Один раз живем (нем.).
(обратно)23
На потребу дня (фр.).
(обратно)24
Ровным счетом ничего (фр.).
(обратно)25
В конце-то концов (фр.).
(обратно)26
«Новое французское обозрение», ноябрь (фр).
(обратно)27
Отлично (фр).
(обратно)28
В сущности, чудесное — которое есть не что иное, как на мгновение открывшее себя постоянное сосуществование «бодрствования» и «сна» (открывшее себя через сознание, на которое снизошла милость) — так же просто, как бумажная детская игрушка, с какой играют во всем хорошо известное «небо, пекло, рай, куда хочешь душу посылай» (пекло-рай можно легко переделать также в «кораблик», «шляпу» и т. п.), и какая своей примитивной сложностью всегда приводила меня в ужас, напоминая некий зародыш неодолимого лабиринта. Дети осложняют все тем, что «рай», возникающий простым перемещением координат ада, с которым он тождествен размером и формой, оставляют белым, а «ад» красят каким-нибудь цветным карандашом. Игра поэтому удивительным образом сочетает в себе отрицание и утверждение и кажется поистине чем-то нерукотворным (прим. автора).
(обратно)29
Название было изменено позже. Но и после этого она осталась сонником, сонником в том смысле, как мы его трактуем (прим. автора).
(обратно)30
Щебень (фр.).
(обратно)31
Оставь надежду (ит.).
(обратно)32
Предварительный вопрос (фр.).
(обратно)33
Произведения изобразительного искусства в сравнении с произведениями словесными и музыкальными по этой причине одновременно и привилегированные, и какие-то отверженные. Ведь произведения изобразительного искусства воспринимаются целиком. Если они содержат элемент, называемый нами для удобства элементом эвокативным, то мы замечаем его с первого взгляда, между тем как в стихах или музыке может быть лишь слово и его позиция, лишь тон и его гармоническое дополнение, развивающиеся в протяженности; эвокативный же элемент может появиться только после многочисленных страниц вербальной и музыкальной пустыни. Однако, с другой стороны, поэт и музыкант может готовить читателя или слушателя к кульминации, а художнику этого не дано. Если он творит не потому, что его посетил Бог, то его произведение никому не нужно; поэт же и музыкант, начав писать, могут надеяться, что Бог их еще навестит, но только позже… А художник или начал именно в тот момент, когда грянул гром, или начал зря. Поэт и музыкант могут верить в сгущающиеся тучи, в то, что гром еще грянет. Им дан срок; художнику — нет (прим. автора).
(обратно)34
День гнева (лат.).
(обратно)35
Маркиз д’Эрве де Сен-Дени разработал особую систему для воспитания памяти на сны, систему сложную, требующую большого физического напряжения и долгого изматывающего тренинга: Маркиз д’Эрве велел будить себя от первого сна сто шестьдесят раз — причем в разные периоды жизни — целых 34 ночи подряд. Метерлинк не стал подвергать себя такой пытке. Он рекомендует способ, видимо, менее совершенный по своим результатам, но все же совсем не бесполезный: если после каждого пробуждения записывать сон, только что нас посетивший, мы вскоре заметим, что память на сны удивительным образом укрепляется. И не только: сны, контролируемые таким образом, постепенно якобы становились более точными, упорядоченными и логичными (прим. автора).
(обратно)36
Говоря о единственном сохранившемся сне, я несколько преувеличиваю. Есть еще membra disjecta (разбросанные члены) второго. Он приснился мне много позже, и единственно преданность исторической правде принуждает меня представить здесь список обломков этого развеянного сна. Отмечу лишь, что разрозненные звенья эти, хотя они и упорно не желают складываться в единую цепь, по отдельности так же ярки и отчетливы, как монументальный сон, только что описанный, и плывут они, словно снулые рыбы, в такой же, как он, молочно-белой, но при этом прозрачной атмосфере. Да будут здесь перечислены имена тех элементов, из которых каждый может выстроить то, что пожелает, но я ни за что больше ответственности не несу. Начало учебного года; коридор реального училища; на стенах картины — наглядные пособия по зоологии и биологии, очень резкие, но неопределяемые изображения; я; наш домашний врач доктор Кон (к тому времени уже покойный); одновременно в роли профессора реального училища и врача; он целится указательным пальцем в мою грудь (на нем серые нитяные перчатки, которых он никогда не снимал) и произносит: «Учитесь; папа (то есть мой отец) этого не переживет; я (ударение на я) буду снисходителен» (прим. автора).
(обратно)37
Огороженные поля (фр.).
(обратно)38
Кто-то, кому я когда-то рассказал о сценке с тремя девочками, ошеломил меня вопросом: «Вы, наверное, никогда не были в борделе?!» (Я бывал в борделе довольно часто и не только в качестве наблюдателя.) Вопрос этот интересен тем, что задал его человек, одержимый в то время Фрейдом. И в этом сказалось пагубное влияние фрейдизма: он вызвал деградацию подсознания до уровня грубого и нелепого предателя сексуальности; уничтожил понятие подсознания как бодрствующего запаса духовных возможностей; понятие подсознания как мира, откуда к нам на мгновение вырывается испепеляющее нас пламя; понятие подсознания как потаенного спасения. Если вопрос «вы никогда, наверное, не были в борделе» вкратце выражает содержание «неомистицизма», мистицизма вне Бога, то несложно предположить, что он заводит в тупик. Для полноты добавлю, что как наряду со сном «о подружках» я сохранил в памяти хотя и фрагментарно, но точно всего один или два других сна, так и наряду с воспоминаниями о сценке с тремя девочками, у меня есть то ли одно, то ли два воспоминания, таких же настойчивых и эвокативных, хотя и не в той мере, как воспоминание описанное. Я уверен, что этот параллелизм интересен не только мне (прим. автора).
(обратно)39
Под углом зрения (лат.).
(обратно)40
В защиту моего дома (лат.).
(обратно)41
Несколько этих заключительных автокритических, да, автокритических, слов было написано незадолго до опубликования статьи, которую ad vocem второго издания моих «Ужасов войны» доктор Мирослав Рутте напечатал как в «Розправы Авентина», так и в «Народних листах» (январь, февраль 1929). Если бы я этого не сказал, могло бы возникнуть предположение, что я себя недооцениваю. А дурной репутации я боюсь (прим. автора).
(обратно)42
Долог путь до Типперери… (англ.).
Это прозаическое произведение и есть то самое, что я назвал в предисловии «шведскими путевыми заметками» (прим. автора).
(обратно)43
Бычья кровь (фр).
(обратно)44
«В последний час» (фр.).
(обратно)45
Но где снега минувших лет? (фр., цитата из стихотворения Ф. Вийона, пер. И. Эренбурга).
(обратно)46
Не обращай внимания, это так, ничего особенного (нем.).
(обратно)47
Так приятнее (фр).
(обратно)48
Еще бы (фр.).
(обратно)49
На Афинской улице (фр.).
(обратно)50
Невыносимо отвратительно (нем.).
(обратно)51
В цветочек (фр.).
(обратно)52
Гений места (лат.).
(обратно)53
Скопление туманностей (греч.).
(обратно)54
Платного танцора (фр.).
(обратно)55
Состоятельные пожилые господа (фр.).
(обратно)56
Да (фр.).
(обратно)57
Со временем (Фр.).
(обратно)58
Она знает свое дело (букв. «она умеет проигрывать», фр).
(обратно)59
Дела есть дела, молодой человек (фр… нем.).
(обратно)60
Они вам нравятся? (нем.).
(обратно)61
Нам хочется, чтобы тут было красиво (нем.).
(обратно)62
Прошу вас (нем.).
(обратно)63
Очень приятно (нем.).
(обратно)64
Подразумевается русинский язык — ответвление украинского, существовавший в Подкарпатской Руси, которая была составной частью Чехословакии с 1920 по 1939 г. (прим. пер.).
(обратно)65
Вы меня понимаете? (нем.).
(обратно)66
Как знать? На него одного полагаться нельзя (нем.).
(обратно)67
А какой у нее талант! (нем.).
(обратно)68
Да замолчи ты! (нем.).
(обратно)69
Да с тех пор всего-то месяц прошел (нем.).
(обратно)70
Вы перестанете наконец это ваше вза-вза-вза? (нем.).
(обратно)71
Господи, да не придавай ты этому значения! (нем.).
(обратно)72
Ну наконец-то! Это невежливо говорить по-чешски. С нами, которые не понимают. Вы же джентльмен! (фр. нем.).
(обратно)73
Там так просторно, на этой площади Нации! (нем., фр.).
(обратно)
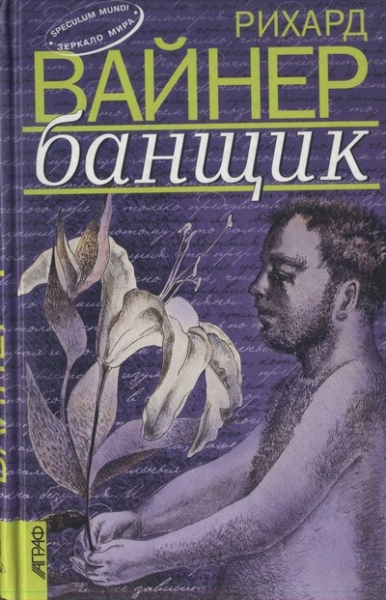


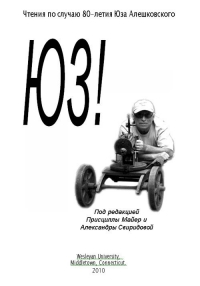
Комментарии к книге «Банщик», Рихард Вайнер
Всего 0 комментариев