Стивен Крейн
Предисловие
Стивен Крейн умер на рубеже столетия, когда облик грядущего был смутен и неясен. Но он многое угадал и дорисовал, увидев то, что еще было скрыто от большинства. Такая зрелость видения ошеломляла. Американский писатель Хоуэллс сказал, что Крейн родился вооруженным до зубов. Эволюция Крейна — одна из «тайн» американской литературы. Правда, во французской литературе тоже поражало удивительное мастерство молодого Мопассана, но всем было известно, что он прошел искус под руководством великого мастера Флобера. Ничего подобного не было в биографии американского газетного корреспондента. И все же «тайна» Крейна, если она существует, объясняется своеобразием развития американской литературы.
Американские писатели часто вызывали восхищение у европейцев. Пушкин с похвалой писал об Ирвинге, Белинский — о Купере, Бодлер переводил Эдгара По, Корней Чуковский объяснял Уитмена, а люди XX века с не меньшим вниманием относятся к творчеству Хемингуэя.
Малая изученность американской культуры, отсутствие бросающихся в глаза традиций создавали вокруг всех этих художников атмосферу сенсации и неожиданности.
Америка переживала в 50-х годах героический период своей истории, наполнивший неложным пафосом и творчество Бичер-Стоу с ее проклятием рабству и гимны торжествующей демократии в лирическом монологе Уитмена.
То, что для Европы оказалось уже историей, для Америки было настоящим. Она развивалась похоже, но быстрее по сравнению со Старым Светом. Это рождало предпосылки как для аналогий, так и для прозрений.
Вашингтон Ирвинг, Фенимор Купер, Гарриет Бичер-Стоу, Эдгар По, Уолт Уитмен, Герман Мелвил, Марк Твен, Джек Лондон — это могучие рубежные фигуры американской литературы. Но само обилие их потребовало почвы, на которой они вырастали, существование огромного количества так называемых малых талантом, отмечавших постепенность перехода одной литературной эпохи и другую. Натаниель Готорн, Генри Джеймс, Уильям Хоуэллс, Гемлин Гарленд, Генри Фуллер, Фрэнк Норрис, Эрл Робинсон, Амброз Бирс — вот неполный список имен, оттесненных историей на вторые роли.
Среди них находится и Стивен Крейн. Многие из перечисленных писателей были его современниками. И Фрэнк Норрис, и Теодор Драйзер, и Джек Лондон могли найти в его творчестве свои собственные устремления. Однако он оказался предтечей и дли Хемингуэя, и для Стейнбека, и для Колдуэлла. Такова естественная логика искусства — ведь оно способно опережать время своим пророческим вдохновением.
Чуткость и зоркость Крейна сверхъестественны. Он замечателен тем, что ни на мгновение не отрывался от жизни. Суровая жесткость его художественной манеры была подсказана ему эпохой и литературной традицией, которую он избрал. Говоря о революционных эпохах, Маркс подчеркивал, что как раз в то время, когда люди, казалось бы, только и заняты переделыванием всего вокруг, они попадают в цепкие лапы традиции. Это верно и по отношению к литературному новаторству.
Литературная карта Америки во времена Крейна была очень пестрой. На фоне «нежного реализма» Хоуэллса развивались и изящный психологизм Джеймса, и критический реализм Твена, и натурализм Фуллера и Гарленда. Из Европы пришло влияние двух гигантских талантов — Толстого и Золя.
Упомянутые американские писатели были в большинстве своем эклектики, лишенные исходных точек в прошлом и ориентиров в будущем. Крейн сделал смотр своим современникам и отверг их. Зато с тем большим вниманием относится он к творчеству Л. Толстого. Это был единственный художник среди современников, который увлекал его по-настоящему. По заветам Толстого пытается он развивать принципы американского реализма. Он учится у Толстого радостному и в то же время строгому отношению к жизни. Учится всепроникающей человечности, этической требовательности и философской обобщенности.
Крейн замечателен не только тем, как он пишет, но и тем, о чем он пишет. Ведь он первый сорвал покров доблести с милитаризма, и трущобы Бауэри для него первого оказались самой интересной частью города, о которой он сказал полноценную правду.
Стивен Крейн родился 1 ноября 1871 года в семье методистского священника. Один из его родственников был корреспондентом другой — участником гражданской войны Севера и Юга. В семье бережно хранились воспоминания о предке, героически погибшем во время революции. Окончив школу, Крейн поступил в морскую академию в Клеверане, которую покинул для поступления в университет.
С 1891 года он отдается литературной работе. Появление в 1895 году «Алого знака доблести» вызвало сенсацию, и ему предлагают стать военным корреспондентом.
Начинается самый бурный период его жизни. Восстание на Кубе, испано-американская война, греко-турецкая война становятся источником материала для его корреспонденций. Возвращаясь с Кубы, он терпит кораблекрушение у берегов Флориды. Ему удалось спастись, но вследствие простуды у него развился туберкулез, который свел его в могилу в 1900 году.
На короткую жизнь Крейна, насыщенную странствиями и трудами, наложил отпечаток зачинавшийся век мировых войн и пролетарских революций. Глаза писателя и публициста созерцают пламя революционной борьбы и нарождение новых империалистических хищников, среди которых ведущую роль занимает его родина.
В подобных условиях создает Крейн свои стихи, новеллы, романы; сочиняет корреспонденции для газет. Он работает весьма интенсивно. Собрание сочинений, изданное в 1925–1926 годах, составило двенадцать томов.
Разумеется, в этих томах не все на одном уровне, но среди его романов и новелл есть несколько ставших шедеврами и положивших начало американской литературе XX века.
Американская, равно как и европейская, культура XX века формировалась уже после первой мировой войны. Но еще задолго до нее, и именно с эпохи Крейна, начинает создаваться ее художественный язык.
Произведения Крейна довольно пестры как по форме, так и по содержанию. Традиции американской литературы были прочно им усвоены.
На то, что он охотно учился, указывают его новеллы, где часто возникают интонации, присущие то Брет Гарту, то Марку Твену, то другим его современникам. Но на фоне многообразия творческих устремлений отчетливо выделяются три темы, определяющие стилеобразующее единство: жизнь трущоб, трагедия войны и детская обездоленность.
Из них ни одна не была чужда современникам, но, пожалуй, только у Крейна встречались все эти три темы.
Первым произведением, которое принесло писателю известность, была повесть «Мэгги — девушка с улицы». Тема проституции пережила сложную эволюцию в буржуазном искусстве. У романтиков образ куртизанки идеализируется, входит в мир «отверженных», тех, кто подвергается гонениям и выступает против правящих классов. Бальзак в «Блеске и нищете куртизанок» придал этой проблеме социальную значимость. Даже любовь становится предметом «купли-продажи» в буржуазном обществе. С новой силой проблема женской судьбы в буржуазном обществе потрясла мир в произведениях великих русских реалистов. Сонечка Мармеладова и Настасья Филипповна у Достоевского, Катюша Маслова у Толстого явились трагическими персонажами невиданного до той поры масштаба. Почти в то же время у Гонкуров и Золя эти мотивы превращаются в воплощение, символ биологического рока. Крейн ближе к русской традиции. В американской литературе Гарленд, Фуллер, Норрис уже приучили читателя обращаться к изнанке жизни. Однако их подчеркнутый социологизм, дидактичность отталкивали многих поклонников художественной литературы, склонявшихся в силу этого к Хоуэллсу и Джеймсу. Крейн шел своей дорогой, равно чуждаясь и морализирования и эстетского психологизма. Тема «Мэгги» была для него скорее поводом, чтобы высказать горькие слова по поводу своих соотечественников. Крейн писал несколько лет спустя после появления этой книги: «У меня, когда я работал над „Мэгги“, не было другого желания, как показать людям их ближних такими, как они есть».
В отличие от французов, он не рисует профессионального пути Мэгги. Он обращается к обстоятельствам, которые увлекли ее на дно, а потом изображает ее гибель.
Сюжет, таким образом, прост, даже банален. А. П. Чехов, формулируя свои поэтические принципы, сказал: «Сюжет должен быть нов, а фабула может отсутствовать». Крейн не мог знать этих слов. Но по-своему он шел тем же путем, отказываясь от исконного англосаксонского «фабулизма». Справедливость требует заметить, что с этой традицией борется не он один. Амброз Бирс мобилизует для этого поэтику кошмаров и ужасов, а позднее О. Генри придает иронический характер сюжетной занимательности при помощи ошеломляющего алогизма своих развязок.
«Мэгги» — первая книга, где Крейн дает пример своей жесткой, законченной стилистики. Он старается не комментировать, избегает красивости; трезво и порой даже деловито описывает явления действительности, стараясь разбудить в них самих тот выразительный язык, которым они говорят. Деталь, которой он пользуется умело, но скупо, никогда не является для него самоцелью. Мы уже достаточно хорошо знаем мать Мэгги с точки зрения психологической, когда эта характеристика дополняется весьма эмоциональным портретом женщины.
Крейн использует то, что впоследствии кинематографисты назовут крупным планом. Слова просты, но полны динамизма, банальный эпитет в сочетании с глагольной формой приобретает эмоциональный подтекст. Так словесное мастерство Крейна возвышается до степени живописной убедительности.
В качестве сюжетной основы повести Крейн избирает типичный случай, почерпнутый из городского фольклора или газетной хроники. Здесь нет никакой исключительности. Все просто до предела. Крейн обладает способностью, характеризующей больших мастеров, доводить банальность до искусства. Мэгги — типичное дитя улицы: мать ее распутная, вечно пьяная женщина, только с этой стороны всем известная. Это типичная мещанка, которая добавляет к своим порокам отвратительное лицемерие. Именно она первая начинает разрушение жизни своей дочери.
Гневом и ужасом по отношению к миру «респектабельности», то есть лицемерия и ханжества, пронизана эта повесть. Новые «спасители» пекутся не о чужих душах, а о своей репутации. Брошенная, отвергнутая всеми, Мэгги кончает самоубийством. Крейн — не писатель, который пишет «в лоб», поэтому самоубийство Мэгги не показано. Тем более впечатляющей является картина последнего, крестного пути девушки среди атмосферы разврата и пошлости. Эту заключительную картину автор перемежает изображением забывшего о ее судьбе, веселящегося Пита.
Повесть написана о «респектабельных» людях, прикрывающих внешней формой христианского благополучия свое полное равнодушие к судьбам человека.
Тема общественной безответственности всегда глубоко занимала писателя, и к ней он возвращается в рассказе «На тему о нищете».
Герой его тоже отщепенец, на этот раз юноша. Фабула в этом рассказе еще менее заметна, чем в «Мэгги». Дождливый вечер в городе, ночь в ночлежке и утро — вот все происшествия в этой новелле. События заменены чувственной остротой деталей:
«Через несколько минут после начала этого путешествия юноша почувствовал, как у него подступает к горлу тошнота: откуда-то из темных, таинственных углов внезапно поползли странные, непередаваемые запахи. Они налетели на него, как злая, крылатая зараза. Это были испарения человеческих тел, заполнявших сверху донизу эту трущобу; дыхание сотен зловонных ртов; перегар бесчисленных вчерашних попоек; свидетельство бесчисленных сегодняшних страданий».
Рассказ с самого начала строится вокруг метафор, связанных с темой разложения и кладбища:
«Юноша запер шляпу и башмаки в саркофаг…»
«Он долго дрожал на этом сооружении, похожем на могильную плиту…»
«Почти все спящие здесь казались статуями, изваяниями, мертвецами. Нелепые ящики, торчавшие повсюду, словно надгробные памятники, придавали комнате странный вид, делая ее похожей на кладбище, заваленное трупами, оставленными без погребения».
Тема человеческой разбитой судьбы — основная тема новеллы. Сплетаясь с ней, прорастает и тема человеческого одиночества, отрешенности от мира, усталости.
Все эти люди, о которых говорится в рассказе, — несчастные жертвы жизненных катастроф. Их ночные стоны — не просто стоны, а единый приступ отчаяния, в котором вылились страдания целой общественной группы.
Пока эти люди еще не одеты, то есть пока на них не появляются знаки социальных различий, они еще напоминают людей, и порою красивых людей. Но как только они одеваются, они сразу обращаются в уродов:
«Некоторые беспечно разгуливали нагишом. Среди них было несколько мускулистых силачей — их гладкая красновато-коричневая кожа блестела. Они принимали позы и стояли величественные, как статуи, похожие на индейских вождей. Но как только они напялили свои нелепые лохмотья, с ними произошла разительная перемена: они сразу стали корявыми и нескладными».
Тема людских бедствий предстает перед нами и в новелле «Люди в непогоду». И здесь сюжет сведен к минимуму, да и индивидуальный, характерный герой здесь отсутствует. Это этюд, получивший наиболее последовательное раскрытие в романе «Алый знак доблести».
Основное внимание писателя как бы устремлено на описание борьбы между людьми и природой. Природа равнодушна и зла, но в ней нет сознания, и протестовать против нее бессмысленно. Тем сильнее в сопоставлении с нею становится подразумеваемое равнодушие сильных мира сего к своему ближнему.
Крейн мастерски характеризует массы. При описании он употребляет самые различные планы. Он даже как бы открывает съемку сверху, описывая толпу, увиденную с высоты небоскреба.
Стивен Крейн, как всякий художник, стремится создать образ — обобщение. И не случайно снова встает уподобление статуям, на этот раз не надгробным, а величественным, античным. И, конечно, не случайно воспоминания о естественном состоянии ассоциируются с индейскими вождями, «естественными людьми» американского материка. С одной стороны, Крейн как бы обращается к стилистике Возрождения, когда обнаженное человеческое тело выступало как символ человеческого вообще. С другой стороны, он заставляет вспоминать традицию американской литературы от Купера до Брет Гарта.
Тема естественного человека, звучавшая как идеал в литературе американского Просвещения и аболиционизма, у Крейна встает уже как разрушенная иллюзия, остаточная метафора, подчеркивающая крушение идей буржуазной демократии.
Таким образом, отзвуки просветительской идеологии, всегда очень сильные в Америке, сказываются и у Крейна. Братство людей, их подобие, уничтоженное только внешними признаками — одеждой, — основная мысль не только для Крейна, но, например, и для Марка Твена в «Принце и нищем».
По существу, люди одни и те же, природа создала их равными и прекрасными. Современная буржуазная цивилизация наложила на них отпечаток неравенства и отверженности. Крейн не развертывает этой темы. Развернуто о ней говорили другие. Для него это — общезначимый элемент нового художественного языка.
Рассказ «На тему о нищете» завершается могучим аккордом, раскрывающим причину человеческого неравенства и отверженности.
«А позади сурово высилась равнодушная серая громада зданий. Она казалась ему символом страны, которая вздымала над облаками свою царственную голову, не удостаивая взглядом землю и в величии своих стремлений не замечая обездоленных, копошащихся у ее ног. В гуле города ему слышался лепет каких-то неведомых голосов. Это звенели деньги. Это был голос, в котором воплотились надежды города, но они были не для него.
Он чувствовал себя отщепенцем, и в глазах его, блестевших из-под полей низко надвинутой шляпы, появилось виноватое выражение, словно это чувство было равносильно преступлению».
Синтетический образ Крейна фиксирует и гордую устремленность ввысь деловых небоскребов, и их презрение к человеку труда, и напев денег, звучащий неясным гулом голосов, напев, враждебный всему подлинно человеческому.
Буржуазное общество, как бы говорит Крейн, основывается на преступлении одной части общества против другой, а те, кто является объектом этого преступления, всем ходом событий доводятся до положения «без вины виноватых». На этой почве и слагается система буржуазных отношений, в которых лейтмотивом являются деньги.
Просветительские традиции врываются в манеру художника, сообщая ей некую публицистичность. Голос писателя, при всем его, пренебрежении к громкой фразе, подымается до высокого ораторского пафоса, не впадая при этом в орнаментальные излишества.
Главная тема Крейна — тема равнодушия человека к человеческим судьбам, тема преступления, совершаемого одной частью общества по отношению к другой, получает более общую философскую разработку в новелле «Голубой отель».
Судьба шведа, героя этой новеллы, глубоко трагична. С самого начала писатель рисует его как человека, преследуемого мрачными предчувствиями: ему кажется, что его должны убить. В рассказе не показаны причины маньякального состояния шведа, по-видимому коренящиеся в социальных обстоятельствах, и в этом сказалась слабость психологизма Крейна.
Крейн, разумеется, не мог игнорировать общественные тенденции американского образа жизни и идеологии.
Пренебрежение к истории свойственно идеологии американского империализма, пытающегося делать вид, что законы истории для него не существуют. Крейн в данном случае отдает дань распространенным в обществе предрассудкам:
«На интерес или просто так, это неважно, — ответил Блэнк. — Джонни передергивал. Я видел. Я знаю. Я все видел. И у меня не хватило духу сказать это. Я не заступился за шведа, и ему пришлось драться. А ты… ты распетушился и сам лез в драку. Старик Скалли тоже хорош! Мы все в этом виноваты! Несчастный шулер! Он тут не существительное, а что-то вроде прилагательного. Каждый содеянный грех — это грех совместный. Мы пятеро совместными усилиями убили этого шведа. Обычно в убийстве бывает замешано от десяти до сорока женщин, а тут во всем виноваты пятеро мужчин — ты, я, Джонни, старик Скалли и этот болван, этот несчастный шулер».
Люди враждебны и нечестны по отношению друг к другу. Гибель человека — результат усилий его близких. Крейн приближается к обобщению, грандиозному по своим масштабам. Хочет он этого или не хочет, построенная им цепочка должна быть продолжена, и вот тогда становится понятным социальный смысл происходящего. Шведа, очевидно, травили давно, а пятеро участников новеллы только завершили затеянное раньше дело. Так возникает целая система уничтожения человека в американской действительности. Несмотря на нелюбовь Крейна к комментариям, и в данной новелле идеологические акценты проставлены четко. Человек человеку волк — такова формула американского образа жизни.
Новелла Крейна, как уже отмечалось, создается на основе исторического опыта всей американской новеллистической традиции. Жанр новеллы в своем возникновении исторически связан с рождением демократии. Но связь эта носит не односторонний характер. Крейн не только принимал эстафету, но и передавал ее другим. Характерным примером является новелла «Как новобрачная приехала в Йеллоу-скай».
Новелла как жанр только по недоразумению отнесена к эпосу. Само название ее — новелла, сенсация, новость — говорит о том, что она возникла из желания уловить мгновение, сообщить, ошеломить. Именно поэтому новелла сопровождала развитие буржуазного строя, именно поэтому она расцвела в США, где устойчивость и традиции отсутствовали, а интерес к сенсации искусственно подогревался. Новелла — жанр не столько повествовательный, сколько освежающий неповторимость данного мгновения, и поэтому в ней почти нет предыстории и будущего. Она вся в кульминации.
Крейн прибегает к замедленному темпу экспозиции, обстоятельно рассказывает о поведении новобрачных в поезде, показывает беспокойство Джека Поттера, объясненное как боязнь ответственности за его тайную женитьбу.
Затем следует сцена в салуне, которая одновременно и поясняет обезлюдение городка и еще раз отдаляет развязку.
Но вот, наконец, самое главное. Враги встретились. Озлобленный, до зубов вооруженный Скрэтчи Уилсон и безоружный Поттер под руку с женой. И тут-то происходит чудо. Беспощадный бандит прячет пистолеты и поспешно удаляется. Кровавый финал подменен неожиданной, но счастливой развязкой.
Скрэтчи Уилсон — собрат героев Брет Гарта, а также прямой предшественник персонажей О. Генри, иллюстрирующих тезисы о сентиментальном воспитании правонарушителей («Возрождение Каллиопы»). Лирические тенденции этого повествовательного жанра, с одной стороны, его драматизм, с другой, обеспечивали ему распространение там, где вопрос о правах личности становился особенно актуальным.
При всем своем традиционизме новелла Крейна, однако, отличается лишь ей свойственными чертами. Внешне ей как будто не присуща та острота столкновений, которая характерна, например, для О. Генри. Но при более внимательном анализе становится ясным, что у О. Генри это результат столкновения индивидуумов. У него люди свободно противостоят друг другу, с той степенью свободы, которая на самом деле им в американской действительности не присуща. Крейн же сводит своих героев лицом к лицу с их социальной судьбой. И хотя он не в состоянии конкретно назвать ее носителей, мы ощущаем тяжесть подобного давления на личность, размалывающего ее. Герои Брет Гарта и О. Генри как бы дуэлянты, где шансы уравновешены числом, искусством и оружием противника. Герои Крейна — жертвы могущественной и неотвратимой силы, и в этой борьбе нет равенства.
Вместе с тем отсутствие чисто авантюрной линии позволяет усилить лирический пафос новеллы. Новелла Крейна полна своеобразного сочетания внутреннего лиризма и внешнего пафоса. В монологах, которые ведутся либо от лица автора, либо от лица его героев, звучат подчас ораторские интонации. В этом — стремление парализовать местное звучание произведения и дать ему некое вселенское значение.
Самое страшное проявление безответственности по отношению к человеку — война. И тема войны заняла в творчестве Крейна огромное место. Наиболее значительное как по своему трагическому смыслу, так и по объему произведение писателя «Алый знак доблести» посвящено войне. «Алый знак доблести» поразил при первом же с ним знакомстве горечью своего отношения к действительности и очень трезвой оценкой военной темы. Недаром один из самых крупных современных писателей Герберт Уэллс сказал о Крейне, что он, «несомненно, лучший писатель нашего поколения».
Уэллс глубоко понимал трагические судьбы того поколения, к которому принадлежал сам. Он оценил Крейна как художника, написавшего пролог к эпохе мировых войн. Причем сам Крейн, при всей своей ненависти к войне, не был ни пессимистом, ни человеком, изверившимся в возможности героического. Человеческому, героизму посвящены и новеллы «Чудовище», «Шлюпка в открытом море» и являющаяся эпилогом к «Алому знаку доблести» новелла «Ветеран», где писатель снова показывает нам своего героя Генри Флеминга, самоотверженно гибнущего при спасении лошадей из горящей конюшни.
Крейн был писателем-реалистом, который хотел совлечь романтический покров с лика войны. Его современники были уверены, что Америка непохожа на другие страны, что ей не свойственны признаки надвигающегося империализма. Крейн же видел в войне (возможно, не без влияния Толстого и Стендаля) жестокую стихию, трагическую атмосферу для бытия человека XX столетия. Войну он рисовал как неестественное состояние общества, искажающее подлинный образ человечества.
Крейн происходил из военной семьи, учился в военной школе, осознавал логику военных действий — и столкнулся с войной лицом к лицу. Но он честно относился к войне, вполне отдавая себе отчет в тех бедствиях, которые она несла миру.
Задача, которую он поставил себе в этом романе, заключалась в том, чтобы показать войну изнутри. Не такой, какой она кажется человеку, находящемуся извне, в стороне, а так, как она представляется тому, кто находится в самом центре боя. Крейн попытался крупным планом показать лицо войны, лишенное праздничности и лакировки. Это была сложная задача, тем более что сам Крейн в это время не имел непосредственного военного опыта. На темы о войне им написан не только «Алый знак доблести». Сюда относятся такие рассказы, как «Военный эпизод», «Тайна героизма» и др. Все эти рассказы объединены одной идеей — идеей бессмысленности войны и тех трагедий, которые она вызывает. Война всегда нечто бессмысленное, о чем даже впоследствии вспоминают с изумлением, а некоторые и со стыдом. Во многом в этой трактовке войны Крейн предвосхищает Хемингуэя. В новелле «Военный эпизод» он рассказывает историю ранения своего героя. Человек делил продовольствие между солдатами, шальная пуля ранила его, и он потерял руку. Он не совершил ничего героического, ничего из ряда вон выходящего, но потерял руку. Поражает сама бессмысленность всего происшествия. «Вот и весь рассказ о том, как лейтенант потерял руку. Когда он приехал домой, мать, сестры и жена долго рыдали, глядя на его пустой рукав».
В романе «Алый знак доблести» Крейн показывает бездушный механизм войны, где личность не играет никакой роли, где все абсолютно случайно.
Как и Толстой, у которого он многому учился, Крейн не видит в войне сознательного искусства полководца и целеустремленной деятельности солдат. Нет, это стихийные, большей частью совершенно бессознательные и разрозненные действия различных людей. Как чувствует себя и что ощущает человек на поле битвы, каковы импульсы, которые им движут, — вот вопросы, вставшие перед Крейном. В Америке, равно как и в английских школах, в традиции школьного воспитания господствовала античность. Возможно, что стихи Архилоха, Алкея, Горация о брошенных щитах, о бегстве в пылу битвы послужили отправной точкой для размышления над этой проблемой. Недаром античные реминисценции часто всплывают в сознании героя. Но главным, конечно, было другое. Америка стремительно росла, превращаясь в империалистическую державу, и вот против милитаризма, составлявшего основу империалистической идеологии, в системе которого такое большое место занимает героизация войны, выступил Крейн.
Обращает внимание еще одно обстоятельство. Роман «Алый знак доблести» написан о войне за освобождение негров. Того пафоса великого деяния, которое проникает книги Бичер-Стоу, Хилдрета, Марка Твена и стихи Уитмена, в произведении Крейна нет и следа. Где причины дегероизации великой темы? Роман, разумеется, не исторический. Он писался о современности, но материалом была история. Великие события и великие люди ушли в прошлое. Америка становится заурядным империалистическим государством. И невольно встает вопрос: а была ли героика вообще? Не поэтизация демократического прошлого, а истоки прозы современного империализма интересуют писателя, хотя при этом несколько искажается историческая перспектива.
Действие романа протекает как последовательная смена отношений Генри Флеминга к войне, к битве, в которой он участвует. Молодой человек впервые должен идти в бой, и ожидание боя, участие в нем, поведение во время боя становятся предметом повествования. Весь роман строится на системе контрастов, контртезисов, которые оспаривают друг друга. Вот юноша, взволнованный ожиданием битвы, вспоминает историю того, как он шел на войну, и Крейн сопоставляет энтузиазм молодого человека и прозаическую интонацию матери:
«И все-таки она разочаровала его, ни слова не сказав о возвращении со щитом или на щите. Он заранее настроился на трогательную сцену. Он даже приготовил несколько фраз, которые, по его мнению, должны были прозвучать очень красиво. Но она расстроила его планы».
Представление юноши о войне сопоставляется с ее реальным обликом.
«Он думал, что настоящая война — это кровавые бои с короткими передышками, чтобы солдаты могли поспать и поесть. Но с той поры, как полк прибыл на фронт, они стремились только к одному: как-нибудь согреться».
Наконец он осознает свое нежелание участвовать в битве, но вскоре выясняется, что от его желания или нежелания ничего не изменится.
Мысль о надвигающейся битве наполняет ужасом душу молодого человека. Страх перед неизвестностью охватывает его с такой силой, что ему даже хочется бежать.
В юноше вырастает протест, а вместе с протестом — понимание того, что он никогда не хотел быть на войне, что его принудили, пригнали.
«Обнаружив это, он вдруг понял, что ему никогда не хотелось воевать. В армию он пошел не по доброй воле. Его безжалостно втянуло в нее правительство. А теперь его волокут на бойню».
Этот своеобразный спор, который герой ведет с самим собой, завершается постепенным его созреванием.
Крейн проводит своего героя через смену ощущений, через целую гамму настроений — от надежды к отчаянию и страху, а затем снова к надежде. Внезапно он начинает ощущать чувство военного братства:
«Им овладело неизъяснимое ощущение военного братства — того братства, которое обладает большей силой, чем даже цель, во имя которой они сражались. Это было таинственное сообщество, рожденное пороховым дымом и смертельной опасностью».
Затем описывается бегство героя и стыд, который охватывает его, когда он осознает свой поступок. У него появляется жажда загладить свой поступок.
«Ему тоже хотелось получить рану — алый знак доблести».
Война предстает своей страшной, антиромантической стороной. Образ ее, создаваемый Крейном, вырастает до значимости общечеловеческого стимула. Солдаты, идущие в сражения, кажутся толпою, приносимою в жертву.
«Им предстояла встреча с войной, с этим багряным зверем, с этим раздувшимся от крови богом».
Страшное зрелище смертей, бездушное обращение командиров заставляют героя почти стремиться к смерти.
Юноша ранен — он получил свой «знак доблести», получил его в результате нелепой, трагической случайности. Роман завершается своеобразным катарсисом, очищением души героя. Вечный образ чистой, незапятнанной природы противопоставляется облику войны. Этот последний контртезис совлекает с войны ее героическое обличье, глубоко ее осуждает. Смотря в небо, герой испытывает чувства, сходные с теми, которые испытывает раненый толстовский князь Андрей:
«Он выздоровел от алого недуга войны. Удушливый кошмар рассеялся. Он был измученным животным, выбивавшимся из сил в пекле и ужасе боя. Теперь он вернулся с неистребимой жаждой увидеть тихое небо, свежие луга, прохладные родники — все то, что исполнено кроткого вечного мира».
Антивоенный роман Крейна написан во имя мира, как самой великой ценности на земле. «Алый знак доблести» — название ироническое. Война — чудовище бессмысленное и нелепое. Она пожирает людей направо и налево. Недаром в конце «алый знак доблести» становится болезнью сражений, от которой необходимо избавить мир. И для того чтобы стать человеком, необходимо пройти сквозь это чистилище войны и отречься от него. Когда-то Крейн говорил о том, что «Мэгги» написана с целью показать людей такими, как они есть. «Алый знак доблести» написан, чтобы показать такой, как она есть на самом деле, войну.
Книга Крейна произвела глубокое впечатление на грядущее поколение американской литературы. «Алый знак доблести» был дальнейшим шагом вперед по сравнению с «Мэгги». Генри Флеминг не только эпический, но и лирический герой романа. Лирический колорит повествования еще дальше уводит автора от рецептов натурализма и ведет навстречу к XX веку. Ему многим, как уже говорилось, обязан Хемингуэй. Новелла «Военный эпизод» Крейна и темой и жестокостью своего тона напоминает «Самую короткую новеллу» Хемингуэя. А когда в книге стихов американского поэта Ли Мастерса «Антология Спун-Ривер» мы читаем стихотворение «Ноулт Хохаймер», то снова приходит на память «Алый знак доблести»:
Я один из первых пал у Миссионерских холмов. Когда пуля пронзила мне сердце, Я пожалел, что не остался и не сел в тюрьму За кражу свиней у Кэрл Тринери, А зачем-то бежал и поступил в армию. В тысячу раз лучше сидеть в тюрьме, Чем лежать под крылатой фигурой из мрамора И под гранитным пьедесталом С надписью «Pro Patria». Что она, собственно, значит?![1]Трущобы большого города, пафос войны — вот те реальные приметы буржуазного общества эпохи империализма, о которых пишет Крейн. Причины их в человеческой безответственности, в забвении капитализмом простых истин гуманности. Не только трущобы, не только войны — сфера проявления закономерностей буржуазного мира. Рассказ «Чудовище» тоже посвящается этим закономерностям. Героем его является негр Генри Джонсон. Негр этот — подлинный герой. Из пламени пожара, рискуя собственной жизнью, он выносит маленького Джимми, сына хозяина. Сам он при этом так обгорает, что доктору Трескоту, отцу спасенного мальчика, с трудом удается спасти ему жизнь. Но вместо лица у несчастного негра на всю жизнь остается чудовищная маска. Как бы вспоминая заветы романтической поэтики Гюго, Крейн рассказывает о человеке с исковерканной внешностью, за которой скрывается благородное, героическое сердце. Но внешность решает все. Доктору приходится вести героическую борьбу за жизнь «чудовища», которое становится предметом возмущения для целого города. Развивая тему «Алого знака доблести», Крейн говорит о том, что человеку буржуазного мира нужен формальный знак, нужна внешность, в нем утрачено понимание сути вещей, глубина отношения к миру. Крейн гневно повествует об утрате в буржуазном обществе непосредственности отношения к действительности, реальной ценности вещей и поступков. Чтобы добраться до сущности, надо пробиваться через форму.
Непосредственное отношение к вещам есть только у детей. Вслед за Диккенсом в Англии, Марком Твеном и Брет Гартом в Америке Крейн обращается к детской теме.
Детская тема в конце XIX и в начале XX века начинает занимать все большее место в англосаксонском искусстве. Детскому миру Крейн посвящает целый ряд новелл: «Его новые варежки», «Каретные фонари», «Стыд», «Рысья охота», «Смерть и дитя» и др. Как бы по следам Марка Твена написана новелла «Его новые варежки». Коллизия в ней складывается из противоречий между двумя мирами: миром взрослых и миром детей. Мир взрослых — это мир вещей, воплощенный в бережном отношении к новым варежкам. Детский мир презирает диктатуру вещей, но сам находится под властью условной формы. Ни там, ни здесь нет истины. Невольный проступок маленького Горация и бессмысленное наказание ведут к поспешному бегству, а затем к возвращению в до смерти перепуганную семью.
Это напоминает конспект детских романов Марка Твена. Но концовка произведения у Крейна отменяет условности и того и другого мира. Над ними встает подлинно человеческое. Дети Крейна — это особые дети, они чем-то напоминают своих литературных сверстников, например у Марка Твена, но многим от них и отличаются. Джимми, главный герой писателя, весьма «трудный» ребенок: он разбивает каретные фонари, затевает охоту на рысь и вместо нее стреляет в корову, но при всем этом ему (как и всей его ребяческой компании) присущи простодушие и искренность. В новелле «Каретные фонари» отец, давясь от смеха, подслушивает сговор друзей сына, стремящихся освободить его из «тюрьмы».
Вместе с тем дети эти совсем не идеальные. Не случайно Крейн создает жестокий эпизод, повествуя о том, как Джимми, спасенный негром Генри от мучительной смерти в огне, сам впоследствии издевается над несчастным, обгоревшим «чудовищем». Дети не изолированы от страшного мира взрослых, и это накладывает на них свой отпечаток. Крейна, пожалуй, не столько интересует своеобразие сознания ребенка, сколько тема похищенного детства. Процесс проникновения мира взрослых в ребячий мир и уничтожение его занимает в его творчестве видное место. Страшное детство такого ребенка рисует Крейн в повести «Мэгги». С еще большей силой эта тема эпизодом возникает в новелле «Темно-рыжая собака». Здесь опять-таки взята традиционная схема — дружба случайной, приблудной собачонки и ребенка из Бауэри. Но в новелле Крейна нет и следа сентиментальности. Это очень жесткое и немногословное произведение. Ребенок, вырастающий в обстановке трущоб, представляет собою весьма своеобразный характер. Там, где он растет, заброшенный и позабытый, собачонка — его единственный друг. Ее ненавидят остальные члены семейства, а ребенок всеми силами защищает. Однажды бывший не в духе глава семьи хватает ни в чем не повинное животное и выбрасывает его за окно на улицу.
«Наверху ребенок разразился протяжным, горестным плачем и торопливо, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Он не скоро добрался до переулка — он был еще так мал, что спускался по лестнице на четвереньках, опираясь ногами на каждую ступеньку и хватаясь руками за предыдущую.
Когда за ним пришли, он сидел у тела своего темно-рыжего друга».
С характерным для него лаконизмом, избегая рассуждений, Крейн нарисовал эпизод, содержанием которого стала трагедия детской души.
Тема крушения иллюзий молодого, хорошего, по существу, человека в атмосфере большого города постоянно притягивала к себе. Крейна. В новелле «Мать Джорджа» он рассказал такую историю. Это повесть о битве, которую ведет одинокая старушка за своего сына с джунглями большого города.
Как и всегда, Крейн не обращается к исключительным ситуациям. Джордж — хороший парень, совсем еще не испорченный, но явно проявляющий, склонность стать шалопаем. С самого начала Крейн связывает с образом матери Джорджа облик воительницы. Она воюет у себя дома с нищетой и грязью. Ее победные гимны, которые она распевает, вызывают раздражение у обитателей трущоб. Она ведет борьбу и за душу своего сына.
Но борьба эта бесплодна и обречена. Общество не помогает ей. Оно слишком равнодушно. Джордж сбивается с пути, бросает работу, становится завсегдатаем хулиганской компании.
Автор оставляет героя как бы на распутье. Смерть матери, не выдержавшей этой напряженной борьбы, потрясает его душу. Но надолго ли это потрясение? Окажется ли оно плодотворным? Изменится ли путь Джорджа? Об этом Крейн не говорит, Отчасти виной этому жанр новеллы, который не позволяет исчерпать все линии борьбы, а дает возможность нарисовать только один эпизод ее.
Но, с другой стороны, сказывается и общественная беспомощность автора, не умеющего распутать сложность социальных противоречий.
Драматизм новелл Крейна еще больше подчеркивается развитием в них диалогических кусков. Диалог занимает большое место в его произведениях. Его герои постоянно спорят, аргументируют, и это усиливает драматический колорит борьбы.
Стивен Крейн слишком рано ушел из жизни и количественно мало сделал для родной ему культуры. Однако в устремлениях его индивидуального стиля были уже заложены многие тенденции дальнейшего развития американской литературы.
Он обращается к тем же темам, что Гарленд, Бирс, Норрис и молодой Драйзер, отличаясь от них резкой самостоятельностью своего художественного мышления.
Страшный облик буржуазного мира по-разному рисовался американскими писателями. Еще Марк Твен в формах заразительно смешных коснулся темы восстания вещей. Впоследствии эта тема получила иное воплощение в произведениях Амброза Бирса.
Для Крейна вещи, в отличие от этих писателей, служат только знаками, отмечающими движение героев. Описание для него никогда не самоцель, и если иногда он дает описание обстановки, то делает это сжато, попутно физическим и психологическим движениям. Правда, внешне он холоден и бесстрастен, так же как и многие его современники. Но этот внешний натурализм резко взрывается изнутри. Крейн одним из первых среди американских прозаиков использует великие достижения американской лирики Уитмена, Эмили Дикинсон и других. В эпическую ткань прозаического повествования он вносит лирическое начало и тем самым открывает путь лирическому жанру, который был узаконен Хемингуэем. В романах и новеллах он уничтожил натуралистическую диктатуру вещей. Это повело к своеобразной импрессионистической лирике детали, которая проявляется, например, в описании рассвета из рассказа «Лошади — стремительный порыв!»:
«Внезапно Ричардсон вздрогнул и проснулся. Дыхание на мгновение прервалось. Окостенелые пальцы выпустили револьвер, и он со стуком упал на глинобитный пол. Ричардсон поспешно схватил его и, озираясь, скользнул взглядом по комнате. Смутный голубой луч рассвета победил: подробность возникала за подробностью. Страшное одеяло было неподвижно. Шумная компания либо уехала, либо умолкла».
Каждая такая картина составляет законченное целое, и каждый такой образ является символическим выражением идейного содержания произведения. Но в то же время он результат личного видения героя, и Стивен Крейн смотрит на мир не своими глазами, а глазами своих персонажей. Картина возникает как отражение действительности на сетчатке глаз действующего лица. Эволюция творчества Крейна — эволюция от пассивного созерцания к активному познанию. Процесс познания мира раскрывается Крейном при помощи внутренней динамики образов. При осмыслении мира происходит процесс перехода от мысли к мысли, от чувства к чувству, от действия к действию. Анализ действительности перемежается с самоанализом. В какой-то степени здесь Крейн перекликается с Генри Джеймсом. Однако у последнего анализ является абсолютной самоцелью.
Познание мира невозможно без слова. То, что познано, должно быть закреплено в слове. На этой почве рождается техника внутреннего монолога, предваряющая технику Джойса, Пруста и впоследствии Хемингуэя.
Эти литературные новации возникают не сами по себе. Они рождаются как средство эстетического и философского освоения мира.
Крейн предвосхитил некоторые тенденции буржуазной литературы XX века и тем самым угадал ее технику, выступая прямым предшественником американского реализма XX столетия. Его биограф имел полное право сказать, что Крейн заслужил свой собственный «алый знак доблести».
Б. А. СмирновАлый знак доблести
ЭПИЗОД ИЗ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В АМЕРИКЕ
Перевод Э. ЛинецкойГлава I
Холод нехотя отпустил землю, и туман, поредев, поднялся с холмов, где, расположившись лагерем, спала армия. Когда все вокруг из мглисто-бурого стало вновь зеленым, армия начала просыпаться, тревожно вздрагивая в ожидании новостей. Она все время поглядывала на дороги, которые из длинных канав, полных жидкой грязи, постепенно превращались в обычные пути сообщения. У ног ее плескалась река, отливавшая в тени берегов янтарем. По ночам, когда вода становилась траурно-черной, багровые огни костров на противоположной стороне враждебно сверкали, точно глаза под насупленными бровями дальних холмов.
Долговязый солдат деловито спустился к реке — у него было похвальное намерение выстирать рубаху. Вернулся он бегом, размахивая ею, как флагом. Его распирало от желания поделиться новостью: ему сообщил ее приятель, вполне надежный парень, а тому сообщил некий осведомленный кавалерист, а тому сообщил брат — ординарец штаба дивизии, посвященный во все тайны. Вид у долговязого был значительный, как у герольда в золоте и пурпуре.
— Завтра выступаем, это точно, — торжественно объявил он солдатам на ротной линейке. — Идем вверх по реке, потом переправа, обход и удар с тыла.
Он тут же изложил внимательным слушателям подробный, многообещающий, блистательный план кампании. Как только он кончил, люди в синих мундирах, оживленно переговариваясь, кучками разбрелись по проходам между приземистыми бурыми лачугами. Негр-возчик, плясавший до этого на ящике из-под галет перед толпой гогочущих солдат, теперь остался в одиночестве. Приуныв, он плюхнулся на ящик. Дым лениво тянулся из множества труб самого диковинного вида.
— Брехня это! Бессовестная брехня! — громко заорал другой солдат. Его гладкое мальчишеское лицо пошло пятнами, он насупился и сунул руки в карманы. Новость он принял как личное оскорбление. — В жизни не поверю, что эта вонючая армия сдвинется с места. Мы здесь вроде как приросли. За две недели я раз восемь собирал пожитки, а мы все топчемся и топчемся на этом пригорке.
Долговязый, считая себя ответственным за новость, чуть не полез в драку с горластым.
Какой-то капрал начал громко чертыхаться. Только подумать, он как раз настелил у себя отличный деревянный пол, — жаловался он. — Всю весну остерегался, ничего не достраивал, чуяла душа, что армия вот-вот выступит. А потом решил, что они просидят тут до скончания века.
Солдаты бурно обсуждали новость. Кто-то с удивительной точностью изложил тайные планы главнокомандующего. Ему возражали, отстаивая другие планы кампании. Все орали друг на друга, каждый тщетно пытался привлечь внимание товарищей. Между тем солдат, принесший новость, с важным видом протиснулся вперед. Его осаждали вопросами.
— Что там стряслось, Джим?
— Снимаемся с места.
— Да ну, не ври! Откуда ты это взял?
— Хочешь верь, хочешь не верь, дело твое. Мне-то что?
Тон у него был такой, что невольно наводил на размышления. Ему готовы были поверить именно потому, что он не желал ничего доказывать. Люди не на шутку заволновались.
Совсем еще юный солдат напряженно ловил и слова долговязого и комментарии остальных. Досыта наслушавшись рассуждений об атаках и маршах, он ушел и через причудливую дыру в стене, заменявшую дверь, влез в свою лачугу. Его одолевали такие мысли, с которыми хотелось побыть наедине.
Он прилег на широкую скамью, занимавшую целую стену. В углу напротив, поближе к очагу, стояли ящики из-под галет — они заменяли стол и стулья. К дощатой стене была прилеплена картинка из иллюстрированного еженедельника, на колышках параллельно висели три винтовки. Повсюду была развешана амуниция, на кучке дров стояла оловянная посуда. Крышей служила свернутая палатка. Сквозь нее струились бледно-желтые теплые солнечные лучи. На заваленный хламом пол падала из оконца косая полоска белесого света. Иногда дым из очага, презрев глиняный дымоход, начинал валить прямо в помещение, и тогда этот растрескавшийся дымоход и поленья грозили пожаром всей хибарке.
Юноша был потрясен до глубины души. Итак, все же их отправляют на передовую. Быть может, уже завтра грянет бой и он примет в нем участие. Он старался поверить этому — и не мог. Ему трудно было привыкнуть к мысли, что он станет действующим лицом в одном из огромных мировых событий.
Он, конечно, всю жизнь мечтал о битвах, о каких-то неведомых кровавых схватках и дрожал от восторга, представляя себе вспышки выстрелов и сумятицу сражений. В воображении он уже побывал во многих боях. Народы благоденствовали, охраняемые его неусыпной отвагой. Но в трезвые минуты он считал войны багряными пятнами на страницах былого. Вместе с тяжелыми коронами и высокими замками они отошли в прошлое. Была когда-то в истории человечества эпоха войн, но ему казалось, что она давно и безвозвратно скрылась за горизонтом.
Его юношеские глаза недоверчиво смотрели из окон родного дома на войну в его собственной стране. Не может она быть настоящей. Он давно потерял надежду стать свидетелем битв, достойных древнегреческих героев. Такое никогда не повторится, — размышлял он. — Люди стали не то лучше, не то трусливее. Светское и духовное воспитание подавило кровожадные инстинкты. А может быть, просто материальное благополучие держит страсти в узде.
Несколько раз он порывался уйти в армию. Страну будоражили рассказы о грозных событиях. Пусть у Гомера все это выглядит иначе, тем не менее сколько в них величия! Он читал о походах, осадах, стычках и горел желанием увидеть войну собственными глазами. В его распаленном мозгу одна за другой возникали монументальные, ослепительно яркие картины неслыханных деяний.
Но мать все время расхолаживала его. Она делала вид, что и его патриотизм и его военный пыл выглядят довольно глупо. Ей ничего не стоило сесть и тут же непреложно доказать ему, что на ферме он куда полез* нее, чем на поле боя. Она умела говорить так, что в каждом ее слове он чувствовал глубокую убежденность, И он свято верил, что в спорах с ним она исходит только из высоких принципов.
Но в конце концов он все же восстал против этого стремления то и дело окатывать холодной водой его раскаленное честолюбие. Газетные статьи, болтовня соседей и собственное воображение так взвинтили юношу, что удержать его на привязи стало невозможным. Армия и в самом деле здорово сражалась. Газеты чуть ли не ежедневно сообщали об окончательной победе.
Однажды вечером, когда он был уже в постели, ветер донес до него звон церковного колокола: какой-то энтузиаст изо всех сил раскачивал веревку, делясь таким способом со всей округой слухом — кстати, ложным — о великом сражении. Услышав этот глас народа, ликующего в ночи, юноша пришел в неистовое волнение. Немного погодя он отправился в спальню матери.
— Мама, я запишусь в армию.
— Не болтай чепухи, Генри, — ответила мать. Она натянула одеяло на лицо. На этом разговор и кончился.
И все же наутро он пошел в город, ближайший к их ферме, и записался в роту волонтеров, которая там формировалась. Когда он вернулся домой, мать доила пеструю корову. Рядом дожидались своей очереди еще четыре коровы.
— Мама, я записался, — робко сказал он.
— На все воля божья, Генри, — помолчав, ответила она и снова начала доить пеструю корову.
Когда юноша стоял на пороге с вещевым мешком за спиной, до того переполненный восторженными предвкушениями, что печаль разлуки с домашним очагом уже не умещалась в его сердце, он увидел, что по морщинистым щекам матери медленно катятся две слезы.
И все-таки она разочаровала его, ни слова не сказав о возвращении со щитом или на щите. Он заранее настроился на трогательную сцену. Он даже приготовил несколько фраз, которые, по его мнению, должны были прозвучать очень красиво. Но она расстроила его планы. Она ожесточенно чистила картошку и говорила:
— Смотри, Генри, береги себя на войне, смотри береги себя. И зря ты думаешь, что можешь одним махом всех мятежников перебить. Не можешь ты этого. Ты еще совсем несмышленый парнишка, а таких парнишек там тьма тьмущая, так что помалкивай и делай что тебе прикажут. Я-то знаю тебя, Генри.
Я тебе связала восемь пар носков, Генри, и положила лучшие твои рубашки, чтобы моему сыночку было тепло и хорошо, не хуже, чем другим солдатам. Как порвешь их, так сразу отсылай мне, я их зачиню.
И товарищей себе выбирай подумавши. В армии много дурных людей. Они там совсем сбились с толку, и им по душе верховодить молоденькими парнишками, которые в первый раз из дому уехали и без материнского присмотра остались, и они учат их пить и ругаться. Ты держись от них в стороне, Генри. И смотри не делай ничего такого, чтобы тебе передо мной стыдно было, когда я узнаю. Ты всякий раз думай, что я смотрю на тебя. И ничего худого тогда с тобой не случится.
И всегда помни, сынок, о своем отце, помни, что он спиртного в рот не брал и редко когда сквернословил.
Не знаю, Генри, что мне еще сказать тебе… Только не вздумай, сынок, ради меня от чего-нибудь увиливать. Если уж случится так, что тебе или на смерть идти, или что-нибудь бесчестное сделать, так ты поступай, как тебе совесть велит, потому что на многих женщин свалилась теперь такая беда, и господь не оставит нас в нашем горе.
Не забудь о носках и рубашках, сынок. И еще я положила тебе банку черносмородинного варенья, оно ведь твое любимое. До свидания, Генри. Береги себя и будь хорошим мальчиком.
Слушая ее, он, конечно, еле сдерживал нетерпение. Он ждал совсем другого, и пока она говорила, по его лицу было видно, что он недоволен. Попрощался он с каким-то чувством облегчения.
Но у калитки он все-таки оглянулся и увидел, что мать стоит на коленях среди картофельной шелухи. Поднятое к небу загорелое лицо было залито слезами, исхудалое тело дрожало. Ему вдруг стало стыдно за себя, и он ушел, повесив голову.
По дороге он завернул в школу — повидаться перед отъездом с друзьями. Они окружили его, полные удивления и восторга. Он чувствовал, какая пропасть отделяет его от них, и сердце его наполнялось тихой гордостью. Он и те его товарищи, которые надели синие мундиры, в один день стали необыкновенно значительными, и это было очень приятное ощущение. Они пыжились, как индюки.
Какая-то светловолосая девушка ужасно издевалась над его воинственным задором. Зато там была другая, темноволосая, и он пристально смотрел на нее, и ему показалось, что она притихла и погрустнела при виде его синего мундира и бронзовых пуговиц. Выйдя из школы в дубовую аллею, он оглянулся и увидел, что девушка стоит у окна и смотрит ему вслед. Она сразу отвела глаза и стала смотреть на небо сквозь ветви высокого дуба. Он заметил, как смущенно и потешно она вскинула голову. Потом он часто думал об этом.
По дороге в Вашингтон он чувствовал себя на верху блаженства. Везде их так кормили и так ими восхищались, что юноша и вправду поверил, что он — герой. Их поили кофе и до отвала кормили хлебом, холодным мясом, соленьями, сыром. Девушки ласково улыбались, старики хлопали по плечам, и он ощущал, как растет в нем воля к свершению воинских подвигов.
Кружными путями, беспрестанно останавливаясь, они добрались до места назначения, а потом потекли месяцы однообразной жизни в военном лагере. Он думал, что настоящая война — это кровавые бои с короткими передышками, чтобы солдаты могли поспать и поесть. Но с той поры, как полк прибыл на фронт, они стремились только к одному: как-нибудь согреться.
Мало-помалу он вернулся к прежним своим убеждениям. Битвы, достойные древнегреческих героев, отошли в прошлое. Люди стали не то лучше, не то трусливее. Светское и духовное воспитание подавило кровожадные инстинкты, а может быть, просто материальное благополучие держит страсти в узде.
Он научился относиться к себе как к незаметному участнику огромного парада синих мундиров. Он должен был по возможности заботиться о собственных удобствах — остальное его не касалось. В качестве развлечения он мог вертеть пальцами и гадать, чем набиты головы генералов. Кроме того, была муштра, и муштра, и смотры, и опять муштра, и опять смотры.
Неприятельские силы представлялись ему только в виде дозорных на том берегу реки. Эти загорелые, философски настроенные парни время от времени задумчиво палили в синемундирных дозорных. Когда их потом распекали за это, они обычно от души раскаивались и клялись всеми своими богами, что ружья выстрелили сами собой, не спросись хозяев. Стоя однажды ночью в дозоре, юноша перекинулся несколькими словечками с одним из них. Вражеский дозорный был слегка обтрепан, так искусно сплевывал, что всякий раз попадал точно между носками башмаков, и обладал неограниченным запасом безмятежной, детской самоуверенности. Юноше он понравился.
— Янки, ты парень что надо, — сказал дозорный, и эти слова, услышанные в ночном безмолвии, заставили его на мгновение пожалеть о том, что идет война.
Бывалые солдаты наперебой рассказывали ему всякие истории. Они говорили об устрашающих ордах бесшабашной солдатни, о полчищах усачей в серых мундирах, которые ругались на чем свет стоит, с неслыханной отвагой жевали табак и, подобно гуннам, все сметали на своем пути. Другие повествовали о голодных оборванцах, которые палили из ружей просто с отчаяния. «Да они на самого черта набросятся, только бы вещевым мешком разживиться! При эдакой голодухе им долго не продержаться!» После таких рассказов юноше начинали мерещиться обтянутые окровавленной кожей скелеты, на которых болтались дырявые, выцветшие мундиры.
Все-таки он не совсем доверял бывалым солдатам, потому что они любили постращать желторотую молодежь. Они все время толковали о выстрелах, дыме, крови, но как тут разобраться, где правда, а где ложь? Они то и дело обзывали его сопляком, и полностью полагаться на их слова не следовало.
Так или иначе, но он уже начал понимать, что судить противника нужно не столько по внешности, сколько по решимости сражаться, а эту решимость никто и не пытался отрицать. Юношу заботила более серьезная проблема. Он сосредоточенно размышлял над ней, лежа на своей койке. Он пытался с математической точностью доказать себе, что не удерет с поля боя.
До сих пор такая мысль ни разу не приходила ему в голову. Многое в жизни он принимал на веру, считая, что из любой переделки сможет выйти победителем, и не задумываясь, какими путями и средствами достигнет этого. Но тут речь шла о чем-то очень для него важном. Он вдруг понял, что в разгаре боя может дезертировать. Он вынужден был признаться, что понятия не имеет о том, как будет вести себя в сражении.
Еще совсем недавно он не допустил бы этой мысли даже на порог своего сознания, но теперь от нее уже нельзя было отмахнуться.
Он испытывал нечто похожее на панический страх. Чем яснее рисовался ему бой, тем отчетливее он видел, какие ужасы ему предстоит там изведать. Он никак не мог представить себе, что будет стойко держаться среди опасностей, крадущихся к нему со всех сторон. Тщетно пытался он вернуться к своим мечтам о героях со сломанными шпагами; во мраке надвигающейся грозы он чувствовал, что все это — пустые бредни.
Он вскочил с койки и начал беспокойно расхаживать по лачуге.
— Боже милостивый, что это со мной делается? — вслух спросил он.
Он понимал, что в час испытания те правила, по которым он собирался жить, ему не помогут. Бесполезным оказалось и все, что он знал о себе. Он стал неизвестной величиной. Придется ему снова, как в ранней юности, ставить над собой опыты. Нужно собрать побольше сведений о себе и быть все время начеку, иначе эти неведомые ему самому свойства навеки опозорят его.
— Боже милостивый! — растерянно повторил он.
Но тут в дыру ловко влез долговязый, а за ним и горластый. Они продолжали пререкаться.
— А я говорю, что правда, — твердил долговязый. — Хочешь верь, хочешь не верь, мне-то что? — Он выразительно махнул рукой. — Твое дело маленькое: сиди себе и помалкивай. И очень скоро уразумеешь, кто тут был прав.
Его товарищ что-то упрямо промычал. Он задумался на секунду, видимо подыскивая ответ поязвительней, потом сказал:
— Что ж, выходит, ты знаешь все на свете?
— Когда это я говорил, что знаю все на свете? — сердито возразил долговязый. Он принялся аккуратно укладывать пожитки в вещевой мешок.
Юноша, все еще беспокойно бродивший взад и вперед, остановился и опустил глаза на деловито склоненную фигуру товарища.
— Джим, скажи правду, нас действительно поведут в бой? — спросил он.
— А как же! — ответил долговязый. — А как же! Погоди до завтра и такое сражение увидишь, какое никому и не снилось. Ты только погоди.
— Дьявольщина! — сказал юноша.
— На этот раз драка будет заправская, братец, драка что надо, — продолжал долговязый таким тоном, точно собирался облагодетельствовать этим боем своих друзей.
— Чушь! — буркнул из угла горластый.
— Слушай, а ты не думаешь, что это очередная утка? — снова спросил юноша.
— Как бы не так! — возмутился долговязый. — Как бы не так! С чего бы тогда вся кавалерия выступила сегодня утром? — Он с вызовом посмотрел на товарищей. Никто ему не возразил. — Сегодня утром выступила вся кавалерия, — повторил он. — Говорят, в лагере ни одного кавалериста не осталось. Их должны перебросить в Ричмонд, или как его там, пока мы будем управляться с пехотой. В общем, какую-то хитрость придумали. И в полку тоже приказ уже получен. Мне об этом сегодня шепнул парень, который сам был около штаба, когда туда привезли приказ. И теперь весь лагерь поднят на ноги — этого разве только слепой не заметит.
— Вздор! — сказал горластый.
Юноша помолчал. Потом снова обратился к долговязому:
— Джим!
— Чего тебе?
— Думаешь, полк не осрамится?
— Они будут драться как черти, когда дойдет до дела, — с ледяным спокойствием ответил тот. Он говорил о себе и своих однополчанах только в третьем лице. — Конечно, все над ними потешаются, дескать — желторотые и всякая такая штука, но драться они будут как черти.
— А вдруг кто-нибудь удерет? — настаивал юноша.
— Может, и удерет — без таких ни в одном полку не обходится, особенно раз они еще не нюхали пороху, — снисходительно заметил тот. — Конечно, может случиться, что и все побегут, если сразу станет очень горячо, а потом, может, и остановятся и снова полезут в драку. Чего вперед загадывать? Конечно, они еще необстрелянные и с одного маху всех мятежников им не одолеть, но я-то думаю, драться они будут не хуже других. Так я полагаю. Говорят, в полку одни сопляки и всякое прочее, но парни у нас что надо, и почти все будут драться не за страх, а за совесть, когда привыкнут к выстрелам, — закончил он, сделав особое ударение на последних четырех словах.
— Можно подумать, что ты знаешь… — пренебрежительно начал горластый. Долговязый злобно обернулся к нему. Последовала короткая перебранка, во время которой оба награждали друг друга затейливыми эпитетами.
— Джим, а тебе приходило когда-нибудь в голову, что и ты можешь удрать? — прервал их юноша и тут же рассмеялся, точно его вопрос был веселой шуткой. Горластый тоже захихикал.
Долговязый махнул рукой.
— Как тебе сказать, — веско произнес он, — там такое может быть пекло, что и Джиму Конклину станет жарко, и если все парни начнут улепетывать, надо думать, и я задам стрекача. А уж если я покажу пятки, так будь спокоен, сам черт меня не догонит. Но если все будут стоять на месте и стрелять, буду стрелять и я. Это как пить дать. Можешь на меня положиться.
— Чушь! — сказал горластый.
Юноша, о котором мы рассказываем, был глубоко признателен долговязому за его слова. Он боялся, что все необстрелянные солдаты, кроме него, спокойны и уверены в себе. Теперь он немного утешился.
Глава II
Наутро юноша убедился, что его долговязый товарищ опередил события и оказался просто болтуном. С особенной яростью обрушились на долговязого его наиболее горячие сторонники; посмеивались над ним и те, кто с самого начала не поверил ему. Долговязый подрался с парнем из Четфилд Корнерс и основательно отлупцевал его.
Таким образом, вопрос, волновавший юношу, остался открытым. Более того — ответ на него тягостно откладывался. Слух о близком бое породил в юноше тревожную неуверенность. Озабоченный этой новой для него проблемой, он тем не менее принужден был вернуться к прежнему состоянию, то есть вновь стать незаметным участником парада синих мундиров.
Целыми днями он ломал себе голову, но эти размышления приводили его к самым печальным выводам. Он понял, что ничего не может выяснить. Подумав еще, он пришел к заключению, что единственный способ проверить себя — это ринуться в схватку и там понаблюдать, фигурально выражаясь, за достоинствами и недостатками своих ног. С великой неохотой он признал, что если будет сидеть в тылу, пуская в ход лишь палитру и кисть своего воображения, то ничего о себе не узнает. Как химику, решающему научную задачу, нужны всевозможные вещества, так и ему нужны выстрелы, кровь и опасность. Поэтому он так нетерпеливо ждал дня испытания.
А пока что он неустанно сравнивал себя с товарищами. Рассуждения долговязого вселили в него некоторое спокойствие. Юноша знал его с самого детства и не допускал мысли, что может опозориться в деле, из которого тот выйдет с честью; поэтому душевная безмятежность долговязого отчасти вернула ему потерянную было веру в себя. Все же его смущала мысль, что, возможно, его друг заблуждается на свой счет, или же, наоборот, что он самой судьбой предназначен для свершения воинских подвигов, хотя до сих пор влачил мирное, безвестное существование.
Юноша мечтал поговорить с кем-нибудь, кто так же сомневался бы в себе, как он. Они благожелательно сравнивали бы свои переживания, и как это облегчило бы ему жизнь!
Он пробовал задавать наводящие вопросы товарищам, выведывая, у кого из них подавленное настроение, но ни разу никто даже обиняком не признался ему в страхах, втайне одолевавших его самого. Заговорить прямо о своем смятении он не решался, опасаясь, что не слишком совестливый наперсник сочтет выгодным отмолчаться, а потом с высоты своего превосходства его же и высмеет.
Насчет своих товарищей он придерживался крайне противоречивых взглядов. Иногда он склонялся к тому, что все они герои. Вернее, он почти всегда считал в душе, что другие стоят куда больше, чем он. Юноша вполне допускал, что человек, как будто ничем не примечательный, может обладать огромным запасом мужества, невидимого для окружающих. Хотя многих своих однополчан он знал с детства, ему порой начинало казаться, что он неправильно судит о них. Потом его настроение менялось, он издевался над собой за подобные мысли и убеждал себя, что эти люди тоже волнуются и трусят, но умеют это скрыть.
Он был в таком смятении, что ему становилось не по себе, когда в его присутствии солдаты говорили о предстоящем бое только как о драматическом действии, которое должно разыграться у них на глазах. Их лица выражали такое нетерпеливое ожидание, что он нередко подозревал этих людей в лицемерии.
Тут же он начинал казнить себя за постыдную подозрительность. Временами угрызения совести так мучили его, что он места себе не находил, считая себя преступником, посягнувшим на богов общественного мнения.
Ему было так тяжело, что он все время возмущался недопустимой, на его взгляд, медлительностью генералов. Пока они прохлаждаются на берегу реки, он изнемогает под бременем своей великой проблемы. Он во что бы то ни стало должен ее решить. Ему не под силу эта ноша, думал он. Иногда его гнев на штабистов доходил до такого накала, что он начинал ворчать и браниться на весь лагерь не хуже какого-нибудь испытанного в боях вояки.
Но все же наступило такое утро, когда он стал в ряды походной колонны. Люди переговаривались шепотом, гадая, куда их поведут, пересказывали давнишние слухи. В предрассветном сумраке мундиры солдат отливали густо-фиолетовым оттенком. С того берега на них по-прежнему смотрели багровые глаза. На востоке по небу протянулась желтая полоса, точно кто-то бросил ковер под ноги восходящему солнцу. На этом фоне четким черным силуэтом выступала гигантская фигура полковника на гигантском коне.
Из темноты доносился топот ног. По временам перед юношей возникали тени, похожие на шевелящихся чудищ. Казалось, протекла вечность, а полк продолжал стоять вольно. Юноша начал терять терпение. Все это делалось черт знает как. Сколько времени может еще длиться это ожидание?
Юноша напряженно смотрел в таинственный полумрак, и ему чудилось, что пройдет минута — и зловещая дал* озарится вспышками выстрелов и он услышит раскаты завязавшегося сражения. Вглядываясь в багровые глаза на том берегу, он подумал, что они ширятся, как глаза подползающих драконов. Он повернулся к полковнику как раз в ту секунду, когда тот поднял гигантскую руку и спокойно провел ею по усам.
Наконец с дороги у подножия холма донесся стук копыт. Должно быть, везут приказ выступать. Затаив дыхание, юноша подался вперед. Волнующее цоканье становилось все громче, эхом отдаваясь в его душе. Всадник, бряцая оружием, подскакал к полковнику и осадил коня. Они обменялись отрывистыми словами. Люди в первых рядах вытягивали шеи, чтобы лучше слышать.
Всадник круто повернул лошадь и уже на скаку бросил через плечо:
— Не забудьте сигары!
Полковник что-то пробормотал в ответ. Юноша так и не понял, какое отношение имеют сигары к войне.
Через минуту полк, извиваясь, вступил в темноту. Теперь он напоминал чудовищную многоножку. Было холодно и промозгло. Влажная трава шуршала под ногами, как шелк.
Стальные щетины на спине этой огромной ползущей рептилии порою вспыхивали и переливались холодным блеском. С дороги доносились лязг и скрежет: там везли неповоротливые орудия.
То и дело спотыкаясь, люди не переставали судить и рядить. Слышались приглушенные споры. Какой-то солдат упал, и когда он потянулся за винтовкой, товарищ наступил ему на руку. Тот, кому отдавили пальцы, громко и злобно выругался. Кругом тихонько захихикали.
Потом они вышли на дорогу, и идти стало легче. Впереди темной массой двигался чужой полк, позади, позвякивая оружием, тоже тянулись воинские части.
Занимался день, разливаясь за их спинами желтоватым светом. Потом, смягчив все очертания, хлынули первые солнечные лучи, и юноша увидал, что зеленую землю прорезают две длинные, узкие черные колонны войск: их головы уже исчезли за вершиной ближнего холма, а хвосты еще не появились из леса. Они были как змеи, выползающие из пещеры ночи.
Реки не было видно. Долговязый расхвастался, доказывая, что проявил незаурядную дальновидность. Несколько человек начали бурно уверять, что полностью разделяли его взгляды, и тоже хвастались. Другие говорили, что прогнозы долговязого не оправдались. Они выдвигали собственные теории. Снова разгорелся ожесточенный спор.
Юноша не принимал в нем участия. Он шагал, не слишком соблюдая равнение, занятый все той же проблемой. Он никак не мог отвлечься от этих мыслей. Подавленный, угрюмый, он исподлобья поглядывал по сторонам. Иногда он всматривался вдаль и вслушивался, не раздастся ли грохот выстрелов.
Но длинные змеи переползали с холма на холм, а дыма все еще не было видно. Ветер относил серовато-коричневое облако пыли вправо. Небо над головой было неправдоподобно синее.
Юноша изучал лица соседей, стараясь отыскать на них отпечаток того чувства, которое испытывал сам. Но результаты наблюдений не радовали его. Воздух был так жгуче-свеж, что роты «старичков» шагали бодро, словно под звуки песни. Подтянулся и полк желторотых. Солдаты заговорили о победе, как о чем-то несомненном. Долговязый торжествовал и злорадствовал. Их явно ведут в тыл неприятелю. Все снисходительно сочувствовали частям, оставшимся на берегу реки, и поздравляли друг друга с тем, что вошли в ударную группу.
Юноша, чувствуя себя отщепенцем, еще больше мрачнел от веселых, соленых словечек, передававшихся из шеренги в шеренгу. Полковые остряки прямо из кожи вон лезли. Полк шагал в такт смеху.
Горластый солдат отпускал в адрес долговязого такие язвительные замечания, что остальные хохотали до слез. Они как будто совсем не помнили, куда их ведут. Бригады дружно смеялись, полки гоготали.
Один толстый солдат попытался угнать лошадь со двора фермы. Он рассчитывал навьючить на нее вещевой мешок. Он уже вел на поводу свою четвероногую добычу, как вдруг из дома выскочила девушка и вцепилась в гриву коня. Началась перебранка. Раскрасневшись, блестя глазами, девушка стояла неподвижно, как статуя бесстрашия.
Полк, отдыхавший в это время у обочины, завопил и единодушно принял сторону девушки. Люди так увлеклись этой схваткой, что и думать забыли о другом, большем сражении, в котором им всем придется участвовать. Они глумились над вороватым толстяком, критически — оценивали особенности его телосложения и с неистовым пылом защищали права девушки.
Из толпы неслись настойчивые советы:
— А ты его шестом, шестом!
Толстяк отступил, оставив лошадь на поле боя; его встретили мяуканьем и свистом. Полк был в восторге от его поражения. Солдаты громко поздравляли девушку, а она, тяжело дыша, смотрела на них с вызовом и недоверием.
В сумерки командиры, разбив колонну, отвели полки в поле на отдых. Земля мгновенно покрылась палатками, словно невиданными растениями. Огни костров, похожие на алые редкостные цветы, испятнали вечерний полумрак.
Насколько это было возможно, юноша старался избегать разговоров с однополчанами. Вечером он отошел на несколько шагов от лагеря, и его сразу окружил мрак. Было что-то сверхъестественное, что-то сатанинское в зрелище множества кроваво-красных огней, на фоне которых взад и вперед скользили силуэты солдат.
Он лег на землю. Травинки нежно касались его щеки. В ветвях высокого дерева запуталась луна. Окутанный скользящим безмолвием ночи, он ощутил безмерную жалость к себе. В легких порывах ветра таилась ласка, и юноше казалось, что в этот его трудный час даже темнота полна глубоким сочувствием к нему.
Он хотел одного: вернуться к себе на ферму и целые дни ходить из дома в хлев, из хлева на поле, с поля в хлев, из хлева в дом. Он вспомнил, как часто проклинал пеструю корову и ее товарок, когда ему приходилось доить их, как часто вскакивал с табурета и злобно опрокидывал его. Теперь ему чудилось, что коровьи головы окружены ореолом счастья, и за возможность снова увидеть их он отдал бы все бронзовые пуговицы всей страны. Он говорил себе, что в нем нет настоящей воинской закваски, и всерьез размышлял над коренным различием между ним и теми людьми, которые, как злые духи, бродили вокруг костров.
Шорох травы прервал его думы, и, подняв голову, он увидел горластого.
— Эй, Уилсон! — позвал он.
Тот подошел и остановился над ним.
— Это ты, Генри? Что ты тут делаешь?
— Да так, думаю, — сказал юноша.
Горластый присел рядом и осторожно раскурил трубку.
— Ты, я вижу, загрустил, друг. Вид у тебя, прямо скажем, неважный. Что это с тобой творится?
— Ничего не творится, — ответил юноша.
Горластый пустился в рассуждения о предстоящей встрече с неприятелем.
— Теперь шалишь, им от нас не уйти! — При этих словах его мальчишеское лицо расплылось в радостную улыбку, голос восторженно зазвенел. — Теперь им от нас не уйти! Уж мы им, чертям собачьим, наложим! Говоря по правде, — добавил он тоном куда более сдержанным, — до сих пор не мы им, а они нам накладывали. Но теперь наш черед.
— Что-то мне помнится, будто ты совсем недавно возражал против нашего выступления, — сухо заметил юноша.
— Ты не так меня понял, — возразил тот. — Я не против выступления, лишь бы оно кончилось доброй дракой. Но я бешусь, когда нас гоняют то туда, то сюда, а толку никакого, только потертые ноги да собачий голодный паек.
— Джим Конклин говорит, что сейчас драка начнется нешуточная.
— На этот раз он прав, хотя как оно все получится, я пока даже представить себе не могу. Знаю только, что дело будет настоящее, и мы им покажем, не сомневайся. Эх, и поддадим же мы им коленом под зад!
Он вскочил и начал взволнованно расхаживать. Охваченный порывом энтузиазма, он двигался как-то особенно гибко. Вера в победу придавала ему мужество, силу, непреклонность. Он смотрел в будущее ясным, горделивым взором, а когда бранился, у него был вид заправского ветерана.
Несколько секунд юноша молча следил за ним. Когда он заговорил, голос у него был горький, как хина.
— Надо думать, ты совершишь геройские подвиги.
Горластый затянулся трубкой и задумчиво выпустил облако дыма.
— Не знаю, — ответил он с достоинством. — Не знаю. Постараюсь быть не хуже других. В лепешку расшибусь, а постараюсь. — Ему, видимо, нравилась собственная скромность.
— Как ты можешь знать, что не удерешь оттуда? — спросил юноша.
— Удеру? — изумился тот. — Удеру? А с чего мне удирать? — Он рассмеялся.
— Ты же сам знаешь, — сказал юноша, — сколько стоящих парней тоже собирались совершить невесть что, а как дошло до дела, так только пятки засверкали.
— Бывало и такое, — ответил тот. — Только я не удеру. Плакали денежки того, кто побьется об заклад, что я покажу пятки. — Он уверенно мотнул головой.
— Чушь какая! — сказал юноша. — Ты что же, храбрее всех на свете?
— Да брось ты! — возмущенно крикнул горластый. — Разве я это сказал? Я сказал, что буду воевать как положено, только и всего. И буду. А ты-то сам кто такой? Подумаешь, тоже вообразил себя Наполеоном Бонапартом! — Бросив на юношу сердитый взгляд, он зашагал прочь.
— Ну, чего ты, чего в бутылку полез? — кричал ему вслед юноша, но тот ушел, ничего не ответив.
Юноша почувствовал себя совсем одиноким, когда его разобиженный товарищ исчез из виду. Пытаясь найти хоть что-нибудь общее в их точках зрения, он снова потерпел неудачу, и теперь ему стало еще хуже, чем раньше. Эта проклятая проблема терзает, как видно, его одного. Он урод, отщепенец.
Он медленно побрел к своей палатке и растянулся на одеяле рядом с похрапывающим долговязым солдатом. В темноте перед ним заплясало видение тысячеязыкого страха, который будет неумолчно что-то нашептывать ему на ухо и заставит убежать с поля боя, в то время как другие хладнокровно сделают все, что им поручила страна. Он признавался себе, что не сладит с этим чудовищем. Каждый нерв в его теле превратится в ухо и будет прислушиваться к голосу страха, тогда как все остальные солдаты останутся глухи и невозмутимы.
Эти мысли были так мучительны, что на лбу у юноши выступил пот. Между тем до его слуха все время доносились негромкие, спокойные слова:
— Ставлю пять.
— Всего шесть.
— Семь.
— Ответил.
Он следил за алыми отсветами пламени на белых стенах палатки до тех пор, пока не уснул, обессиленный и вконец больной от этих непрерывных душевных терзаний.
Глава III
Следующей ночью войсковые колонны, похожие на фиолетовые полосы, переправились по двум понтонным мостам через реку. Полыхающее пламя костров окрашивало воду в винно-красные тона. Отсветы, ложась на спины движущихся солдат, вспыхивали порой то серебряными, то золотыми блестками. На фоне неба рисовались волнистые контуры темных таинственных холмов противоположного берега. Ночь голосами насекомых пела свой торжественный гимн.
После переправы юноша вбил себе в голову, что из хмурых пещер леса на них вот-вот ринутся грозные полчища. Он все время вглядывался в темноту.
Но полк благополучно добрался до привала, и солдаты уснули непробудным сном утомленных людей. Утром командиры, еще полные энергии, выстроили их и быстрым маршем повели по узкой дороге, углублявшейся в лес.
Этот стремительный переход почти стер с полка тот особый отпечаток, по которому сразу можно узнать свежесформированные части.
Люди устали и по пальцам отсчитывали милю за милей. «Только и проку, что стертые ноги да собачий голодный паек», — сказал горластый. Солдаты потели и ворчали. Потом они побросали рюкзаки. Одни равнодушно оставляли их на дороге, другие старательно прятали, уверяя, что при первой возможности вернутся за ними. Многие сняли фуфайки. Теперь почти все несли только самую необходимую одежду, одеяла, вещевые мешки, манерки, оружие и патроны.
— Мы можем есть и можем стрелять, — сказал юноше долговязый. — А большего нам и не положено.
Обученная лишь теории неповоротливая пехота вдруг превратилась в пехоту легкую и подвижную, уже умудренную практикой. Избавившись от лишнего груза, люди почувствовали прилив сил. Но он достался им ценой утраты дорогих рюкзаков и, в общем, очень хороших фуфаек.
Все же разница между ними и солдатами-ветеранами не совсем стерлась. Полки ветеранов были очень малочисленны. Когда полк желторотых прибыл на место, к ним подошло несколько «старичков», оказавшихся поблизости, и один из них, обратив внимание на длину колонны, крикнул:
— Эй, ребята, какая это бригада? — Когда ему ответили, что это вовсе не бригада, а полк, «старички» только развели руками и со смехом воскликнули — О господи!
Кроме того, почти на всех желторотых были одинаковые кепи, а в полковых кепи воплощается история головных уборов за многие годы. И золотые буквы на полковом знамени не потускнели, они были новые и красивые, а древко блестело потому, что знаменосец обычно протирал его маслом.
Армия снова застряла на месте, словно собираясь с мыслями. Мирный запах сосен щекотал ноздри солдат. По лесу разносились монотонные удары топора. Насекомые, покачиваясь на былинках, как-то по-старушечьи жужжали. Юноша вернулся к теории синемундирного парада.
Но вот однажды на сереньком рассвете долговязый потянул его за ногу, и, еще не совсем очнувшись от сна, он вдруг оказался на лесной дороге и побежал вместе со своими однополчанами, уже задыхающимися на бегу. Манерка ритмично ударяла его по бедру, вещевой мешок мягко покачивался, ружье слегка подскакивало на плече при каждом шаге и норовило сбить кепи с головы.
До него доносились отрывистые, тихие замечания:
— Это еще… что… такое?
— Куда это… к черту… мы бежим?
— Билли… да не наступай мне на пятки… Бежишь… как корова.
Раздался пронзительный голос горластого:
— Какого дьявола они так спешат?
Юноше казалось, что сырой утренний туман расступается под натиском массы бегущих солдат. Вдруг откуда-то донесся треск выстрелов.
Он был ошеломлен. Он бежал, окруженный со всех сторон товарищами, и изо всех сил старался думать, но при этом твердо помнил, что стоит ему упасть — и задние его сомнут. Все его способности были ему нужны сейчас только для того, чтобы огибать препятствия или преодолевать их. Толпа несла его.
Солнце разлило свои не терпящие тайн лучи, и, один за другим, стали видны полки, словно вооруженные воины, выросшие из-под земли. Юноша понял, что пришло его время. Сейчас он пройдет проверку. Перед лицом великого испытания он на секунду почувствовал себя младенцем, почувствовал, как до ужаса проницаема плоть, облекающая его сердце. Улучив минуту, он осторожно оглянулся.
Тотчас ему стало ясно, что улизнуть отсюда не удастся. Полк замыкал его в себе. К тому же существовали железные законы общественного мнения, и они сжимали его с четырех сторон. Юноша был заключен в движущийся ящик.
Обнаружив это, он вдруг понял, что ему никогда не хотелось воевать. В армию он пошел не по доброй воле. Его безжалостно втянуло в нее правительство. А теперь его волокут на бойню.
Полк сбежал с откоса и вброд переправился через ручей. Печально и медленно струилась одетая черной тенью вода, а из нее на людей пристально смотрели белоглазые пузырьки воздуха.
Когда они взбирались на противоположный берег, начала бить артиллерия. Юноша ощутил такое острое любопытство, что все остальное вылетело у него из головы. Он вскарабкался на откос с быстротой, которой мог бы позавидовать любой самый кровожадный вояка.
Он надеялся увидеть настоящую битву.
Перед ним простирались полоски полей, охваченных и стиснутых лесами. В траве и среди древесных стволов залегали группы и колышущиеся цепи солдат, которые то и дело вскакивали и мчались вперед, стреляя куда попало. Темная линия передовых позиций проходила по залитой солнцем поляне, отливавшей оранжевым цветом. Вдалеке трепетало знамя.
На откос уже взбирались другие полки. После короткой заминки бригада, рассыпавшись на боевые цепи, медленно двинулась через лес по направлению к отступающим стрелкам, которые то исчезали из виду, то снова появлялись. Они все время что-то сосредоточенно делали, похожие на пчел, занятых своими маленькими распрями.
Юноша старался ничего не упустить. Он не замечал ни деревьев, ни веток и даже забыл о своих ногах, которые то спотыкались о камни, то путались в кустах шиповника. Передвигающиеся батальоны казались ему жуткими алыми нитями, которые вплетаются в чудесную нежно-зеленую и коричневатую ткань. Нет, это место никак не подходило для поля боя.
Он не мог отвести глаза от стреляющих солдат. Они палили в заросли, в дальние, отчетливо видные деревья, и юноша понимал, что каждый выстрел может стать причиной трагедии — скрытой, неведомой, величавой.
Раз они наткнулись на труп солдата. Он лежал навзничь, уставившись в небо. На нем была мешковатая форма желто-коричневого цвета. Юноша обратил внимание на подметки его башмаков: они износились до того, что стали не толще почтовой бумаги. Из большой дыры жалостно торчал мертвый палец. Судьба предала солдата: когда он умер, она выставила на обозрение врагам нищету, которую при жизни он, быть может, скрывал даже от друзей.
Незаметно расступаясь, солдаты обходили труп. Мертвец, став неуязвимым, требовательно заявлял о своих правах. Юноша пристально посмотрел в пепельно-серое лицо. Ветер играл темно-рыжей бородой, и она шевелилась, словно чья-то рука поглаживала ее. Юноше смутно захотелось ходить и ходить вокруг трупа и смотреть на него: жажда живого прочесть в мертвых глазах ответ на вопрос.
Душевный подъем, охвативший юношу, когда он увидел поле боя, исчез бесследно. Его любопытство было удовлетворено. Если бы с откоса перед ним открылась захватывающая картина битвы во всей ее яростной красоте, он, возможно, с криком бросился бы в атаку. Но они слишком спокойно шли среди обступившей их природы. У него была возможность подумать, было время заглянуть в себя и разобраться в своих ощущениях.
Странные мысли зароились у него в мозгу. Пейзаж не радовал его. Напротив, он ему угрожал. Дрожь пробежала по спине юноши, и, говоря по правде, ему показалось, что с него вот-вот свалятся штаны.
Мирный дом среди дальних полей, казалось, предвещал недоброе. В лесных тенях крылась угроза. Юноша всем своим существом чувствовал, что за любой прогалиной могут сидеть в засаде свирепоглазые воины. У него мелькнула мысль, что генералы сошли с ума. Это западня. Лес того и гляди ощетинится штыками винтовок. С тыла появятся стальные полки. Он и его товарищи обречены на гибель. Генералы просто тупицы. Неприятель одним махом уничтожит все войско. Юноша испуганно оглянулся, уверенный, что смерть уже подкрадывается к нему.
Его сверлила мысль, что необходимо сейчас же выскочить из рядов и предупредить товарищей. Нельзя допустить, чтобы их перебили, как свиней, а это непременно случится, если им не сказать об опасности. Генералы, эти безмозглые идиоты, загнали их в ловушку. Во всей армии только он один зрячий. Он выступит вперед и обратится к солдатам с речью. Страстные, потрясающие слова уже дрожали у него на губах.
Войсковая колонна, расколотая рельефом местности на мелкие подразделения, спокойно ползла по лесам и полям. Юноша окинул взглядом идущих рядом и почти на всех лицах увидел выражение глубокой сосредоточенности, как будто люди были заняты каким-то необычайно интересным исследованием. У нескольких человек вид был до того воинственный, точно они уже сражались с врагом. Иные ступали как по тонкому льду. Но в большинстве своем эти солдаты, впервые шедшие в бой, были тихи и погружены в себя. Им предстояла встреча с войной, с этим багряным зверем, с этим раздувшимся от крови богом. Их мысли были поглощены целью похода.
Юноша подавил уже готовый сорваться крик. Он понял, что даже если солдаты дрожат от страха, они все равно посмеются над его предостережениями. Они начнут глумиться над ним и забрасывать на ходу чем попало. Если считать, что опасность существует только в его воображении, то после таких исступленных призывов его все сочтут трусом.
Тогда он повел себя как человек, обреченный в одиночестве нести ответственность за то, о чем другие и не подозревают. Он трагически поднимал глаза к небу и еле волочил ноги.
Неожиданно на него налетел молоденький лейтенант из их роты и начал колотить его эфесом сабли.
— Эй ты, молодчик, не вылезай из рядов! И не пытайся спрятаться, все равно ничего не выйдет! — кричал он громко и очень нагло.
Юноша незамедлительно ускорил шаги. Он ненавидел лейтенанта — тот явно был не способен оценить мыслящего человека. Грубый скот — вот что такое этот лейтенант.
Немного погодя бригада остановилась в лесу, озаренном словно собор. Суетливые стрелки все еще палили. Сквозь боковые приделы леса было видно, как стелется дым от выстрелов. Иногда он поднимался ввысь плотными белыми клубочками.
Во время привала многие солдаты начали насыпать перед собой небольшие холмики. В дело пошли камни, сучья, земля — все, что, по мнению людей, могло задержать пули. Кто насыпал холмик повыше, кто удовлетворялся совсем маленьким.
Из-за этих холмиков разгорелся спор. Одни считали, что в бою надо вести себя как на дуэли: стоя во весь рост, служить мишенью врагу. Они говорили, что их тошнит от всяких хитроумных предосторожностей. Другие в ответ посмеивались и показывали на фланги, где «старички» рылись в земле, как терьеры. Вскоре вдоль фронта полка протянулась настоящая баррикада. Но тут же пришел приказ сниматься с места.
Юноша был так возмущен, что даже забыл о своих страхах.
— Зачем же они притащили нас сюда? — обратился он к долговязому. Тот начал что-то сложно объяснять: он по-прежнему был полон спокойной веры, хотя и ему пришлось расстаться с маленьким бруствером из камней и грязи, на который он затратил немало труда и терпения.
Каждому солдату хотелось укрыться от опасности, и на новой позиции возникла новая линия небольших укреплений. Обедали они в третьем месте. Потом их увели и оттуда. Их гоняли с места на место безо всякой видимой цели.
Юноше постоянно, твердили, что первый бой совершенно меняет человека. Он горячо уповал на эту перемену, поэтому ожидание было для него такой мукой. Его била лихорадка нетерпения. Он находил, что генералы начисто лишены здравого смысла. Он стал жаловаться долговязому.
— Не могу я так больше, — кипятился он. — Ну, какого черта зря протирать подметки?
Он хотел вернуться в лагерь, — уж кто-кто, а он отлично понимает, что все это просто синемундирный парад, — или же броситься в бой и убедиться, что его опасения вздорны и что храбрости у него не меньше, чем у любого настоящего мужчины. Напряжение стало невыносимым.
Долговязый, отличавшийся философским складом характера, оглядел галету с куском свинины и беспечно сунул ее в рот.
— Наверно, мы должны разведать местность, — чтобы не подпустить их слишком близко, или обойти их, или еще что-нибудь в этом роде.
— Чушь! — сказал горластый.
— Ох! — воскликнул юноша, никак не успокаиваясь. — Я бы, кажется, на все согласился, только бы не валандаться целый день до потери сознания и к тому же без всякого прока.
— Я бы тоже согласился, — сказал горластый. — Неправильно все это. Говорю вам, если бы армией командовали люди с мозгами в голове…
— Да замолчите вы! — заорал долговязый. — Ты сопляк. Да, да, обыкновенный дурацкий сопляк. Без году неделя, как напялил на себя этот мундир, а туда же, рассуждаешь, как будто…
— Я сюда воевать пришел, — предал его горластый, — а не прогуливаться. Прогуливаться я могу и дома вокруг хлева, если придет охота.
Долговязый побагровел и с таким видом сунул в рот галету, словно, отчаявшись, принял яд.
Он начал жевать, и по лицу его снова разлилось выражение спокойствия и довольства. Не может человек злиться и ссориться, когда перед ним лежат галеты со свининой. Во время еды у долговязого всегда был такой вид, точно он наслаждался созерцанием того, что попало к нему в желудок. Казалось, его дух общается с проглоченной пищей.
Ни новая обстановка, ни новые обстоятельства нисколько не влияли на его хладнокровие, и при первой же возможности он сразу начинал подкрепляться запасами из вещевого мешка. В походе он шагал, как заправский охотник, не жалуясь ни на быстроту марша, ни на дальность расстояния. И он не ворчал, когда ему три раза подряд пришлось расстаться с маленькими укреплениями из камней и грязи, хотя он так старался, сооружая их, словно хотел посвятить их памяти своей бабушки.
К середине дня полк вернулся на то самое место, где впервые останавливался утром. Окружающая природа уже не казалась юноше зловещей. Он привык к ней, сроднился с нею.
Однако, когда их погнали дальше, им снова овладели тревожные мысли о тупости и неспособности командования, но на этот раз он стойко отмахнулся от них. Его собственная проблема причиняла ему достаточно беспокойств; с горя он решил, что тупость — не такая уж большая беда.
Он даже подумал, что неплохо бы сразу получить смертельную рану и больше ни о чем не тревожиться. Поглядев краешком глаза на смерть, он увидел в ней только умиротворение и какую-то долю секунды страшно удивлялся, как это он мог так волноваться из-за того, что его убьют. Он умрет и очутится в таком месте, где его оценят. Смешно было бы рассчитывать, что люди вроде того лейтенанта поймут глубину и утонченность его чувств. Чтобы найти понимание, ему нужно умереть.
Треск одиночных выстрелов превратился теперь в долгий, неумолкающий гул. С ним сливались приглушенные далью вопли наступающих. Потом заговорили орудия.
Тотчас же вслед за этим юноша увидел бегущих стрелков. Им вдогонку неслось щелканье ружейных выстрелов. Потом замелькали жгучие зловещие вспышки. С медлительной наглостью поползли над полем клубы дыма, похожие на любопытствующих призраков. Гул все нарастал — казалось, где-то вблизи грохочет поезд.
Бригада, двигавшаяся впереди и справа от них, с оглушительным ревом бросилась в атаку. Впечатление было такое, что она взорвалась. Пробежав немного, она залегла перед какой-то преградой, такой длинной и серой, что с первого взгляда нельзя было разобрать, стена это или дым.
Юноша смотрел как зачарованный, забыв о своем превосходном намерении поскорей получить смертельную рану. Глаза его, округлившись, жадно впились в картину сражения, рот приоткрылся.
Вдруг чья-то тяжелая, словно налитая скорбью, рука легла ему на плечо. Выведенный из экстаза, в который его привело созерцание, юноша обернулся и увидел горластого.
— Слушай, старик, это мой первый бой и последний, — с мрачной торжественностью сказал тот. Лицо его побледнело, девичьи губы дрожали.
— Ты что? — удивленно пробормотал юноша.
— Старик, это мой первый бой и последний, — повторил горластый. — Чует мое сердце…
— Что?
— Мне отсюда живым не выйти, и я хочу… хочу, чтобы ты отдал это… моим родителям… — Судорожно всхлипнув от жалости к себе, он протянул юноше пакетик в желтой оберточной бумаге.
— Какого дьявола… — начал юноша, но горластый посмотрел на него потусторонним взглядом, пророчески взмахнул обмякшей рукой и отвернулся.
Глава IV
Бригада остановилась на опушке рощи. Припав к земле между стволами, люди беспокойно держали под прицелом дальние поля. Они щурились, пытаясь разглядеть, что происходит за пеленой дыма.
Оттуда выбегали солдаты. Размахивая руками, они выкрикивали новости.
Юноша и его товарищи внимательно смотрели и слушали, ни на минуту не переставая работать языками и передавать соседям слухи о ходе боя. Они мусолили эти россказни, которые, как птицы, залетели к ним из неведомых краев.
— Говорят, Перри отступил с большими потерями.
— Да, Кэррот дал тягу в госпиталь. Заявил, что болен. Ротой «Г» теперь командует этот молодчина лейтенант. Ребята говорят, что если Кэррот вернется к ним, они просто сбегут. Они и раньше знали, что он отъявленный…
— Батарея Хэнниса захвачена.
— Ничего подобного. Я сам четверть часа назад видел ее на левом фланге.
— Но…
— Генерал объявил, что будет самолично командовать триста четвертым, когда мы пойдем в наступление, и еще сказал, что мы будем драться, как ни один полк еще не дрался.
— Говорят, нам досталось на левом фланге. Говорят, они прижали нас к болоту и захватили батарею Хэнниса.
— Враки! Батарея Хэнниса только что была здесь.
— Этот молодой Хэзбрук — офицер хоть куда! Не побоится и черта.
— Я встретил парня из сто сорок восьмого Мэнского, так он говорит, что их бригада добрых четыре часа сдерживала всю неприятельскую армию у заставы и уложила пять тысяч. Он говорит, еще одно такое дело — и войне конец.
— Билл тоже не испугался. Не на такого напали. Не так-то легко его напугать. Просто он обозлился. Когда этот парень наступил ему на руку, он вскочил и заорал, что готов пожертвовать рукой ради отечества, но не позволит всякой деревенщине ходить по ней. Наплевал на бой и отправился в госпиталь. У него три пальца размозжены. Этот вонючий доктор хотел было их ампутировать, но Билл, говорят, такой поднял крик — только держись. Парень что надо!
Грохот на переднем крае превратился в оглушительный рев. Юноша и его товарищи, оцепенев, умолкли. Впереди, в дыму, негодующе трепетало знамя. Вокруг него метались расплывчатые силуэты. По полю прокатился бурный людской поток. Диким галопом проскакала на другую позицию батарея, раскидав во все стороны бегущих.
Снаряд, визжа как адский дух, пролетел над припавшими к траве солдатами резерва. Он разорвался в роще и взметнул алое пламя и бурую землю. Людей обдало дождем из хвои.
Среди ветвей начали со свистом проноситься пули. Посыпались сучки и листья. Казалось, по деревьям гуляют тысячи невидимых топориков. Большинство солдат то и дело пригибали головы.
Ротному лейтенанту пуля угодила в ладонь. Он так забористо выругался, что по цепи солдат пронесся нервный смешок. Грубая брань офицера вернула их к обыденности. Они с облегчением перевели дух. Как будто все это происходило дома и лейтенант молотком стукнул себе по пальцам.
Он осторожно оттопырил руку, чтобы кровь не капала на штаны.
Ротный капитан, сунув саблю под мышку, вытащил носовой платок и перевязал рану лейтенанту. При этом они спорили, как правильнее накладывать повязку.
Боевое знамя вдали снова стало яростно метаться из стороны в сторону, словно пытаясь сбросить с себя какую-то непомерную тяжесть. Горизонтальные языки пламени прорезали клубящийся дым.
Оттуда выскочили люди и побежали по полю. С каждой секундой их становилось все больше — видимо, бежала целая часть. Знамя вдруг поникло, как бы сраженное насмерть. Потом бессильно упало на землю.
За дымовой стеной раздались исступленные вопли. Смутный набросок в ало-серых тонах превратился в отчетливую картину: беспорядочная толпа, несущаяся как табун необъезженных коней.
Старые, обстрелянные полки, стоявшие на флангах 304-го, начали глумиться над беглецами. К страстному напеву пуль и адскому визгу снарядов присоединились громкий свист и обрывки издевательских советов насчет того, куда лучше всего спрятаться.
Но волонтеры замерли от ужаса. «Боже! Полк Сондерса разбит!» — прошептал кто-то над ухом юноши. Они отползли назад и прижались к земле, словно боясь, что их снесет волной.
Юноша метнул взгляд на синие цепи своего полка. Лица людей, видные ему в профиль, были неподвижны, словно высечены из камня, Он запомнил, что сержант-знаменосец стоял, расставив ноги, как будто ожидая, что его попытаются повалить на землю.
Снова к левому флангу бросилась толпа беглецов. Как беспомощные щепки, захваченные водоворотом, мелькали фигуры офицеров. Они били плашмя саблями, и свободной рукой молотили по головам, и ругались как грузчики.
Один офицер, ехавший верхом, пришел в такую ярость, что стал вести себя как капризный мальчишка. Он выражал свое возмущение головой, руками, ногами.
Другой офицер, командир бригады, все время налетал на людей, не переставая что-то орать. Шляпа слетела у него с головы, мундир перекосился. Он напоминал человека, который прямо с постели бросился тушить пожар. Копыта его коня не раз угрожали головам бегущих, но солдаты увертывались с неожиданным проворством. Они мчались, слепые и глухие ко всему. Их осыпали проклятиями, однако даже самая крепкая брань не доходила до их сознания.
Когда, грохот на секунду утихал, какой-нибудь ветеран-остряк отпускал невеселую шутку, но отступающие даже не замечали, что окружены зрителями.
На лицах обезумевших солдат еще лежал отсвет боя, и юноша почувствовал, что, будь он одним из них и владей он хоть сколько-нибудь своими ногами, даже силы небесные не удержали бы его от бегства.
Эти лица были отмечены страшной печатью войны. Бой в пороховом дыму как бы оставил свое изображение на бескровных щеках и в глазах, горящих одним неодолимым желанием спастись.
Эти беглецы, охваченные паникой, как стремительный поток, сметали на своем пути камни, кусты, людей. Резервные части держались из последних сил. Волонтеры то бледнели и преисполнялись решимости, то краснели и теряли мужество.
В разгаре этого безумия юноша все же успел принять решение. Многоголовое чудовище, обратившее в бегство другие полки, еще не появилось. Он хоть разок взглянет на него, а уж потом покажет, что умеет бегать не хуже самых быстроногих бегунов.
Глава V
Несколько минут они ждали. Юноше представилась улица его родного городка весной перед приездом бродячего цирка. Он вспомнил, как совсем еще малышом переступал от волнения ногами, готовясь броситься вслед за грязноватой леди на белой лошади или за оркестром, восседающим в облупленном фургоне. Он снова видел желтую дорогу, ряды ожидающих горожан, опрятные дома. Особенно отчетливо вспомнился ему старик, который сидел у дверей своей лавки на перевернутом ящике из-под галет и делал вид, что презирает подобные зрелища. Память юноши запечатлела тысячи отдельных штрихов, мельчайшие цветовые оттенки. Передний план был отмечен фигурой старика на ящике.
— Идут! — крикнул кто-то.
Солдаты задвигались, заговорили. Каждому хотелось, чтобы патроны, все до единого, были у него под рукой. Они старательно подтягивали и оправляли патронные сумки, как будто семьсот женщин занимались примеркой новых чепцов.
Долговязый, положив перед собой винтовку, вытащил из кармана красный носовой платок. Он начал завязывать его вокруг шеи и целиком углубился в это занятие, когда по рядам снова глухо прокатилось:
— Идут! Идут!
По затянутому дымом полю неслась бурая лавина пронзительно вопящих людей. Они бежали, низко пригнув головы, беспорядочно размахивая винтовками. В передних рядах кто-то нес знамя, сильно наклонив его вперед.
Увидев неприятеля, юноша вдруг похолодел: ему показалось, что его ружье не заряжено. Он стоял, стараясь собраться с мыслями и точно вспомнить, когда же он его зарядил, но так и не вспомнил.
Генерал с обнаженной головой подскакал на взмыленной лошади к командиру 304-го и сунул ему под нос кулак.
— Остановите их! — заорал он не своим голосом. — Вы обязаны остановить их!
— С-слушаюсь, генерал, с-слушаюсь! Богом клянусь, мы сделаем ч-что см-можем! — От волнения полковник начал заикаться. Генерал негодующе махнул рукой и пустил коня в галоп. Полковник, вероятно давая выход своим чувствам, раскричался, как мокрый попугай. Оглянувшись, чтобы проверить, все ли в порядке в задних рядах, юноша увидел, что тот смотрит на свой полк с такой неприязнью, словно больше всего жалеет в эту минуту о своей причастности к нему.
Сосед юноши тихонько бубнил:
— Вот и для нас заварилась каша, вот и для нас…
Ротный командир беспокойно расхаживал сзади. Он наставлял солдат, как учительница наставляет мальчишек, в первый раз открывших буквари. Речь его состояла из сплошных повторений:
— Поберегите патроны, ребята! Не стреляйте, пока я не подам знака. Не стреляйте без толку. Дайте им подойти поближе. Не будьте идиотами!
Пот ручьями струился со лба юноши, лицо его было перемазано, как у ревущего мальчугана. Нервным движением он то и дело вытирал рукавом глаза. Рот его все еще был приоткрыт.
Он взглянул на поле, кишащее врагами, и мгновенно перестал думать о том, зарядил он ружье или нет. Еще внутренне не приготовившись, еще не сказав себе, что вот и для него начался бой, он вскинул послушную, хорошо пристрелянную винтовку и, не целясь, выстрелил. Дальше он уже стрелял как автомат.
Он вдруг забыл о себе, перестал смотреть в грозное лицо судьбы. Он был не человеком, а винтиком. Что-то, чему он принадлежал — полк ли, армия ли, дело или страна, — было в опасности. Он входил составной частью в сложный организм, живущий единым желанием. В эти мгновения он так же не мог бы убежать, как не может мизинец поднять бунт против руки.
Приди ему в голову мысль, что полк будет уничтожен, возможно он и отрезал бы себя от него. Но он все время слышал своих однополчан, и это вселяло в него уверенность. Полк напоминал зажженный фейерверк, который будет гореть, пока не истощится его огневая энергия. Он пыхтел и стрелял с завидным усердием. Юноше казалось, что полоска земли перед ними усеяна поверженными врагами.
Он ни на минуту не забывал, что товарищи рядом с ним. Им овладело неизъяснимое ощущение военного братства — того братства, которое обладает большей силой, чем даже цель, во имя которой они сражались. Это было таинственное сообщество, рожденное пороховым дымом и смертельной опасностью.
Юноша был занят делом, как плотник, уже сколотивший много ящиков и теперь сколачивающий еще один; только работал он с лихорадочной быстротой. Мысленно он все время куда-то уносился: точно так плотник, трудясь, насвистывает и думает о своих друзьях и недругах, о семье и кабаке. Потом эти обрывки мыслей представились ему роем бесформенных, туманных образов.
На нем начала сказываться атмосфера боя — он обливался едким потом, и ему казалось, что глазные яблоки вот-вот треснут, как раскаленные камни. Уши наполнял обжигающий грохот.
Им овладела неистовая ярость. То было бешенство отчаяния, как у загнанного животного, как у кроткой коровы, преследуемой собаками. Юноша негодовал на свою винтовку за то, что одним выстрелом она может прикончить только одного человека. Он горел желанием броситься вперед и стиснуть руками чье-нибудь горло, жаждал стать таким могучим, чтобы единым взмахом стереть с лица земли все живое. Сознание своего бессилия еще больше разъярило его, он бесновался, как зверь в клетке.
Задыхаясь в пороховом дыму, он не так ненавидел людей, которые бежали на него, как эти взвихренные призраки войны, душившие его, засовывавшие свои дымовые одеяния в его пересохшую глотку. Подобно укрытому с головой ребенку, который бьет руками по безжалостному одеялу, он исступленно боролся за передышку для своих нервов, за глоток свежего воздуха.
На лицах, искаженных напряжением, как бы застыл вопль безумного гнева. Многие солдаты что-то цедили сквозь зубы, и эти чуть слышные восклицания, брань, проклятия, молитвы сливались в страстную, дикую песнь, в приглушенную и потрясающую мелодию, идущую под бравурный аккомпанемент воинственно-маршевых аккордов. Сосед юноши все время бормотал какие-то слова, нежные и ласковые, словно лепет ребенка. Долговязый громко ругался. Грязные слова черными стаями срывались у него с губ. Вдруг кто-то начал возмущаться таким тоном, точно запропастилась его шляпа: «Какого черта нам не шлют подкреплений? Почему не шлют подкреплений? О чем они думают?»
В лихорадке боя юноша слышал это как сквозь сон.
Выглядело все это на редкость негероично. Люди, охваченные яростью спешки, наклонялись и снова выпрямлялись, принимая самые странные позы. С лязгом и звоном они торопливо загоняли в горячие стволы винтовок стальные шомпола. Клапаны патронных сумок были откинуты и нелепо подрагивали при каждом движении. Перезарядив ружья, солдаты вскидывали их и, почти не целясь, стреляли в дым или в одну из расплывчатых фигурок, несущихся по полю и растущих на глазах, точно куклы, к которым прикасается волшебник.
Офицеры, стоя на постах в тылу своих подразделений, забыли и думать о выправке и осанке. Они подпрыгивали на месте, ободряя солдат, выкрикивая, куда целиться. Мощь их голосов была неслыханной. Они выжимали из своих легких все, что было возможно. Стараясь разглядеть неприятеля сквозь мятущийся дым, они чуть ли не становились на головы.
Ротный лейтенант помчался наперерез солдату, который при первом же залпе своих товарищей бросился бежать, вопя истошным голосом. Они столкнулись за рядами стреляющих, и там разыгралась своеобразная сцена. Солдат навзрыд плакал, глядя на лейтенанта как побитый пес, а тот держал его за ворот и бил наотмашь. Потом лейтенант отвел парня на место, награждая его тычками и подзатыльниками. Бедняга шел покорно, тупо, не спуская с офицера по-собачьи преданных глаз. Быть может, в суровом, жестком, без намека на страх голосе лейтенанта ему чудилось что-то сверхъестественное. Он попытался перезарядить ружье, но не смог — так тряслись у него руки. Лейтенанту пришлось помочь ему.
То там, то здесь люди падали на землю, как подкошенные. Капитан был убит в самом начале дела. Он лежал в позе человека, который устал и прилег отдохнуть, но на лице у него застыло удивленное и горестное выражение, словно над ним злобно подшутил приятель. Пуля оцарапала бормочущего соседа юноши, и кровь струей потекла по его лицу. Он схватился за голову, вскрикнул и побежал. Другой вдруг охнул, как будто его ткнули дубинкой в живот. Он сел, скорбно глядя в пространство. В глазах его был немой упрек бог весть кому. Немного подальше солдату, стоявшему за деревом, раздробило коленный сустав. Он уронил винтовку и обеими руками обхватил дерево. Так он и остался стоять, беспомощно прижимаясь к стволу и умоляя помочь ему отойти от дерева.
Наконец по нестройным рядам пронесся радостный вопль. Пальба стихла, закончившись несколькими мстительными выстрелами. Медленно рассеялся дым, и юноша увидел, что вражеская атака отбита. Противник рассыпался на маленькие нерешительные отряды; какой-то солдат влез на изгородь и, оседлав ее, послал прощальный выстрел. Волны отхлынули, усеяв землю темными пятнами обломков.
Кое-кто из рядовых начал дико орать. Остальные молчали. Казалось, они пытаются разобраться в себе.
Немного опомнившись от лихорадки боя, юноша почувствовал, что вот-вот задохнется. Только сейчас он ощутил зловоние, в котором сражался. Он был чумаз и потен, как рабочий-литейщик. Схватив манерку, он жадно хлебнул тепловатую воду.
Все повторяли с небольшими вариациями одну и ту же фразу: «Мы их отбросили!», «Ей-богу, отбросили!», «Да, мы их отбросили!» Закопченные лица солдат сияли, они обменивались улыбками.
Юноша посмотрел назад, направо, налево. Он радовался, как всегда радуются люди, когда у них наконец появляется возможность отдохнуть и оглядеться.
Неподвижные, жуткие фигуры лежали на земле в странных, неестественных позах. Сведенные руки, неловко повернутые головы. Так лежат люди, упавшие с большой высоты и разбившиеся насмерть. Казалось, кто-то швырнул их с неба на землю.
В глубине рощи непрерывно стреляла батарея, и снаряды перелетали через головы солдат. Сперва огненные вспышки испугали юношу. Ему почудилось, что артиллеристы целятся прямо в него. Он видел сквозь листву черные силуэты батарейной прислуги, работавшей быстро и напряженно. Они делали свое сложное дело. Юноша не мог понять, как среди такого хаоса они умудряются помнить углы прицела.
Пушки, казалось, присели на корточки, как индейские вожди, усевшиеся в ряд на каком-то зловещем сборище. Они выплевывали короткие яростные реплики. Вокруг них деловито сновали их слуги.
Раненые один за другим уныло брели в тыл. То была струя крови из поврежденного тела бригады.
На правом и левом флангах темнели цепи других подразделений. Далеко впереди юноша с трудом различал скопления войск, серыми клиньями выступавшие из лесу. У самой линии горизонта он заметил несущуюся во весь опор батарею. Крохотные всадники подгоняли крохотных лошадок.
С пологого холма донеслись выстрелы и крики людей, пошедших в наступление. Дым медленно просачивался сквозь листву.
В гуле орудий звучали громоподобные ораторские нотки. Мелькали знамена, их алые полосы бросались в глаза. На темном фоне войск они казались сгустками тепла.
У юноши, как всегда, дрогнуло сердце при виде эмблемы его страны. Эти знамена были как прекрасные птицы, не ведающие страха и в бурю.
Прислушиваясь к реву, доносившемуся с холма, к глухому пульсирующему буханью где-то намного левее их позиций и к другим разнообразным, хотя и не таким громким звукам, летевшим со всех сторон, он вдруг понял, что бой идет и там, и там, и там — повсюду. А он-то думал, что сражение разыгрывается у него под носом!
Он взглянул на небо и был потрясен его чистой синевой, потрясен солнцем, бросающим лучи на деревья и поля. Как странно, что природа продолжает свое мирное, залитое золотым светом существование, когда кругом творится так много зла!
Глава VI
Юноша опомнился не сразу. Лишь постепенно он снова обрел возможность смотреть на себя со стороны. Несколько секунд он оглядывал себя с таким удивлением, словно никогда прежде не видел. Он подобрал с земли кепи, повел плечами, расправляя мундир, и, став на колени, завязал шнурки башмака. Потом задумчиво вытер потное лицо.
Вот оно и кончилось. Великое испытание пройдено. Багровые ужасы войны преодолены.
Он был беспредельно доволен собой. Жизнь представлялась ему необычайно приятной. Как бы отделившись от себя, он созерцал стычку, в которой принял участие. Так сражаться мог только настоящий мужчина.
Он молодчина, он дорос до тех идеалов, которые прежде казались ему недостижимыми. Юноша улыбнулся, бесконечно признательный судьбе.
Он был полон благоволения и нежности к товарищам.
— Ну и жарища! — приветливо обратился он к солдату, который из всех сил тер взмокшее лицо рукавом мундира.
— Жарища здоровая, — добродушно ухмыльнулся тот. — Отродясь не бывал в таком пекле. — Он с наслаждением растянулся на земле. — Так-то, брат. Надеюсь, следующая схватка будет после дождичка в четверг.
Юноша обменялся рукопожатиями и прочувствованными словами с людьми, раньше знакомыми лишь по виду, а ныне связанными с ним кровными узами. Он помог товарищу, который ругался на чем свет стоит, перевязать раненую голень.
Внезапно по рядам пронесся изумленный возглас: «Они снова идут! Снова идут!» Солдат, разлегшийся на земле, вскочил с восклицанием: «Черт!»
Юноша мгновенно обернулся к полю. Он увидел, что из дальнего леса выскакивают бесчисленные фигурки. Наклоненное знамя опять неслось вперед.
Снаряды, совсем было переставшие беспокоить полк, снова проносились над головами, разрываясь в траве или среди ветвей. Казалось, это распускаются невиданные, смертоносные цветы войны.
Солдаты вздыхали. Глаза их потускнели, перепачканные лица выражали глубокое уныние. Медлительные, неповоротливые, они хмуро следили за несущимися в атаку врагами. Изнуренные рабы в храме бога войны, они роптали на своего свирепого повелителя и ворчливо жаловались друг другу: «Ну, это уж слишком! Какого дьявола нам не шлют подкреплений?», «Что ж, выходит, нам и вторую атаку придется отбивать? Я вовсе не собираюсь воевать с целой армией мятежников, будь они прокляты!»
Кто-то жалобно простонал:
— Экая досада, что меня угораздило наступить на руку Биллу Смизерсу! Лучше бы он наступил на мою!
Болезненно морщась, полк готовился к обороне; его затекшие суставы хрустели.
Юноша смотрел во все глаза. «Не может это повториться», — думал он. Он ждал чего-то, будто надеясь, что неприятель остановится, принесет извинения и с поклоном ретируется. Должно быть, это какое-то недоразумение!
Но вскоре на флангах завязалась перестрелка. Вслед за горизонтальными языками огня появлялись толстые клубы дыма, которые, пометавшись и покружившись в безветренном воздухе у самой земли, уплывали сквозь ряды солдат, как сквозь ворота. На солнце они были грязно-желтого цвета, в тени — мертвенно-синего. Порою знамя совсем скрывалось за этой завесой, но чаще оно ярко сверкало в солнечных лучах.
Глаза у юноши стали похожи на глаза измученной клячи. Его шея нервически подергивалась, мышцы онемели и обессилели, руки казались такими большими и неловкими, словно на них были надеты невидимые варежки. Колени его обмякли.
Он вспомнил, как перед началом канонады товарищи кричали: «Ну, это слишком! Какого дьявола нам не шлют подкреплений? Я вовсе не собираюсь воевать с целой армией мятежников, будь они прокляты!»
Невольно он стал преувеличивать выдержку, искусство и отвагу наступающих. Измотанный до предела, он был потрясен их упорством. Должно быть, это не люди, а какие-то стальные машины. Тяжкое дело — отражать натиск таких чудовищ, а отражать его придется, пожалуй, до самого захода солнца.
Он медленно поднял винтовку и, окинув взглядом голе, усеянное солдатами, выстрелил в быстро приближающуюся гроздь фигурок. Потом снова опустил ее и стал всматриваться в затянутую дымом даль. Он обратил внимание на то, что вид этого поля, по которому сломя голову бежали вопящие люди, все время меняется.
Юноше они казались страшными драконами. У него отнялись ноги, словно к нему ползло багряно-зеленое чудовище. Он застыл на месте, и поза его выражала ужас и напряженное ожидание. Он как бы закрыл глаза в ожидании, что его вот-вот сожрут.
Его сосед, до сих пор лихорадочно стрелявший, внезапно вскрикнул и стал удирать. Увидев это, какой-то парнишка, лицо которого минуту назад светилось восторженным мужеством и величавой самоотверженностью, мгновенно превратился в жалкого труса. Он побледнел, как бледнеет человек, который в ночном мраке вдруг замечает, что стоит на краю пропасти. У него словно пелена спала с глаз. Он тоже бросил винтовку и побежал. Судя по его лицу, ему не было стыдно. Он улепетывал, как заяц.
Еще несколько человек нырнули в дымовую завесу. Выведенный этим из столбняка, юноша оглянулся с таким чувством, как будто весь полк ушел, оставив его одного на произвол судьбы. Он увидел несколько бегущих теней.
Он взвыл от страха и закружился на одном месте, на секунду уподобившись в этом хаосе звуков пресловутой курице: он не знал, куда бежать от опасности. Гибель грозила отовсюду.
Потом огромными прыжками он помчался в сторону тыла. Винтовку и кепи он потерял. Ветер раздувал его расстегнутый мундир. Клапан патронной сумки, не переставая, хлопал, манерка на тонком шнурке била его по спине. На лице отражался ужас, рожденный тем, что нарисовало ему воображение.
К нему бросился, бранясь, лейтенант. Юноша успел заметить, что тот, побагровев от ярости, замахнулся на него саблей. На секунду он удивился, что в таких обстоятельствах этот странный лейтенант может думать о всяких пустяках, и тут же забыл о нем.
Он бежал, как слепой. Несколько раз он падал, а один раз так стукнулся плечом о дерево, что со всего размаха грохнулся на землю.
Стоило ему повернуться спиной к месту, где шло сражение, как страхи его удесятерились. Смерть, готовая вонзиться между лопаток, была куда ужаснее, чем смерть, которая целилась в лоб. Вспоминая об этом потом, он пришел к выводу, что лучше уж видеть то, чего боишься, чем только слышать. Звуки, доносившиеся с поля боя, были как камни: ему чудилось, что они собьют его с ног.
Юноша смешался с толпой других беглецов. Он смутно различал людей справа и слева от себя, слышал за собой их шаги. Казалось, бежит весь полк, подгоняемый зловещими взрывами.
Этот топот ног сзади немного успокаивал его. Он смутно верил, что смерть сперва настигает тех, кто ближе к ней, что драконы начнут свое пиршество с отставших. Им владел безумный азарт бегуна, который любой ценой хочет сохранить за собою первенство. Это было состязание на быстроту бега.
Выскочив первым на поляну, он оказался в зоне разрыва снарядов. Они перелетали через его голову, протяжно и пронзительно воя. Юноше чудилось, что у этих воющих штук зубастые, насмешливо оскаленные пасти. Один снаряд взорвался прямо перед ним, и синевато-багровое пламя преградило юноше путь. Он пополз, но потом опять вскочил и опрометью бросился в кустарник.
Совсем близко он увидел стреляющую батарею и поразился, обнаружив, что орудийная прислуга ведет себя совершенно спокойно, словно не замечая приближающейся гибели. Батарея вступила в состязание с едва различимым противником, и артиллеристы были в восторге от меткости своей стрельбы. Они все время просительно наклонялись к пушкам. Со стороны казалось, что они похлопывают их по спинам и ободряют словами. Голоса флегматичных и бесстрашных пушек были полны упрямой отваги.
Сдержанный энтузиазм владел этими искусными артиллеристами. Они то и дело бросали взгляды в сторону окутанного дымом холма, откуда вела по ним огонь вражеская батарея. Юноша на бегу пожалел их. Педантичные идиоты! Машиноподобные болваны! Когда пехота выскочит из лесу и сметет их, они поймут всю бессмысленность своей теперешней радости оттого, что им удается с такой точностью попадать в расположение неприятельской батареи.
В его память врезалось лицо молодого всадника, который так самозабвенно хлестал брыкающегося коня, как будто объезжал его на мирной ферме. Юноша не сомневался, что перед ним обреченный человек.
Жалел он и орудия, шестерых верных друзей, смело стоящих друг подле друга.
Он встретил бригаду, идущую на выручку к своим попавшим в беду товарищам. Взобравшись на холмик, он увидел оттуда, как стройно движутся люди, не теряя равнения на ухабистой дороге. Над синевой рядов поблескивала сталь, реяли яркие знамена. Что-то кричали офицеры.
Это зрелище тоже повергло его в изумление. Бригада бодро шагала прямо в адскую пасть бога войны. Что же это за люди — необыкновенные герои или ничего не понимающие дураки?
Орудийная прислуга засуетилась — батарея получила какой-то срочный приказ. Офицер на вздыбленном коне махал руками как сумасшедший. Из тыла прискакали ездовые, повернули орудия, и батарея умчалась. Пушки, свесив носы, ворчали и хмыкали, напоминая храбрых, но неповоротливых людей, протестующих против спешки.
Страшные звуки остались позади, и юноша замедлил шаг.
Так он шел, пока не увидел дивизионного генерала на лошади, которая прядала ушами, с любопытством прислушиваясь к далеким отголоскам боя. Желтая лакированная кожа седла и уздечки ослепительно сверкала. Человек, сидевший на великолепном скакуне, казался серым, как мышь.
Взад и вперед скакали, бряцая оружием, адъютанты. Порою генерала окружали верховые, порою он оставался в одиночестве. Вид у него был озабоченный. Так мог бы выглядеть биржевик, акции которого то повышаются, то падают.
Юноша довольно долго бродил вокруг этого места. Потом, крадучись, он подошел поближе, надеясь что-нибудь услышать. А вдруг генерал, запутавшись в этом хаосе, подзовет его, чтобы получить у него сведения? И юноша даст их, все ему объяснит. Армия в тяжелом положении, и даже дураку должно быть ясно, что если они не воспользуются сейчас последней возможностью отступить, то…
Как ему хотелось стукнуть этого генерала или хотя бы подойти к нему и выложить все, что он думает о нем. Только преступник может вот так спокойно сидеть на коне, не пытаясь помешать уничтожению армии. Юноша все переминался с ноги на ногу, страстно желая, чтобы генерал подозвал его.
Он осторожно кружил вблизи от генерала, когда тот вдруг раздраженно крикнул:
— Томкинс, скачите к Тейлору, передайте ему: нечего спешить как на пожар. Пусть придержит бригаду на опушке. Пусть отрядит полк на укрепление центра; иначе будет прорыв. Так и передайте. Скажите, пусть поторопится.
Стройный молодой человек на горячем гнедом коне едва дослушал скороговорку командира. Он так спешил исполнить поручение, что с места послал скакуна в галоп. За ним взвилось облако пыли.
Не прошло и минуты, как генерал взволнованно подскочил в седле.
— Отбили, ей-богу отбили! — Он наклонился вперед, его лицо пылало. — Наши отбили атаку! Отбили! — ликующим голосом орал он штабистам. — Теперь мы им всыплем! Уж мы им всыплем! — Он круто повернулся к одному из адъютантов. — Эй, Джонс, быстро, догоните Томкинса, скачите к Тейлору, пусть идет в наступление немедленно, сию секунду!
Когда второй офицер помчался вдогонку за первым, генерал расплылся в такой сияющей улыбке, что стал похож на солнце. По его глазам было видно, что ему хочется запеть победный гимн. Он все время повторял:
— Отбили, ей-богу отбили атаку!
Его волнение передалось коню; тот рванулся вперед, но генерал только ласково стиснул ему бока и выругался. Он радостно приплясывал в стременах.
Глава VII
Юноша весь съежился, точно его застигли на месте преступления. Боже милосердный, значит они все-таки устояли! Эти идиоты не отступили и теперь оказались победителями! В его ушах зазвенели их ликующие клики.
Он привстал на цыпочках, вглядываясь туда, где шло сражение. Над верхушками деревьев колыхался желтый туман. Где-то внизу стреляли. Судя по хриплым воплям, началось наступление.
Он отвернулся, недоумевая, негодуя, чувствуя себя незаслуженно обиженным.
Он убежал, — размышлял юноша, — потому, что на них надвигалась гибель, и был прав, заботясь о себе, об одном из винтиков, составляющих армию. Пришел час, когда каждый обязан думать только о своем спасении. Потом офицеры соберут их вместе, и снова получится передовая линия. Если же у винтиков не хватит здравого смысла ускользнуть от разящей смерти, что станется с армией? Он лишь благоразумно следовал мудрым правилам игры — это же ясно как день. Его поступок продиктован не только осторожностью, но и глубоким стратегическим замыслом. Он мог гордиться столь предусмотрительным поведением своих ног.
Он подумал о товарищах. Хрупкая синяя линия выдержала удар и победила. Эта мысль наполнила юношу горечью. Слепые, нерассуждающие винтики предали его. Он опрокинут и раздавлен упрямством, с которым они удерживали позиции, хотя, будь у них капля разума, они сразу поняли бы, что это невозможно. А вот он дальновиден, его глаза пронзают мрак грядущего, он наделен высшей проницательностью и знанием, поэтому он и убежал. Он возмущался своими товарищами. Они дураки, это не требовало доказательств.
Нетрудно догадаться, что они скажут, когда он вернется к ним. Он представил себе, каким издевательским воем они его встретят. Они слишком тупы, чтобы понять превосходство его точки зрения.
Ему до боли стало жаль себя. С ним плохо обошлись. Железная пята несправедливости растоптала его. Он поступил как нельзя более мудро и правильно, а нелепое стечение обстоятельств разрушило все его замыслы.
В нем поднялся слепой, неукротимый гнев на однополчан, на войну, на судьбу вообще. Он понуро плелся, охваченный тревогой и отчаяньем. При каждом звуке он вздрагивал и подозрительно оглядывался, и в гла: зах у него было такое выражение, какое бывает у преступника, который знает, что его вина велика, велико будет и наказание, но не находит слов, чтобы оправдаться.
С поля он свернул в чащу леса, словно желая укрыться в ней. Он хотел уйти от щелканья выстрелов, звучавших для него как человеческие голоса.
Деревья стояли вплотную друг к другу, расходясь наверху, как стебли букета; земля заросла кустарником и ползучими растениями. Юноша с трудом прокладывал себе дорогу; каждый его шаг гулко отдавался в лесу: Растения цеплялись за ноги и с треском отрывались от деревьев, к которым они прилепились. Молодая поросль так шуршала расступаясь, словно старалась оповестить весь мир о том, где он находится. Лес не желал мириться с его присутствием. Он протестовал при каждом его движении. Когда юноша отдирал стебли плюща от стволов, потревоженная листва поворачивалась к нему, размахивая руками. Он смертельно боялся, что этот шелест, этот хруст привлекут внимание людей; в поискал глухого, затерянного тайника он забирался все глубже.
Ружейные выстрелы стали глуше, пушечная пальба отдалилась. Солнце, прежде невидимое, вдруг засверкало в просветах между деревьями. Ритмично жужжали насекомые. Они как будто дружно, в унисон скрипели зубами. Из-за ствола выглянула нахальная физиономия дятла. Пролетела, махая беспечными крыльями, какая-то птица.
Грохот смерти остался позади. Теперь ему казалось, что природа глуха.
Глядя вокруг, юноша чувствовал, что к нему возвращается уверенность. Этот пейзаж был чудесным заповедником жизни, источником веры в нерушимый мир. Он перестал бы существовать, доведись его робким глазам увидеть кровь. Природа представлялась юноше женщиной, которой ненавистна трагедия.
Он запустил шишкой в резвящуюся белку, и та удрала, что-то испуганно вереща. Она остановилась только на вершине дерева, осторожно выглянула из-за ветки и, замирая от ужаса, посмотрела вниз.
Случай с белкой наполнил юношу торжеством. «Таков закон», — твердил он себе. Сама Природа подает ему знак. Как только белка обнаружила опасность, она немедленно обратилась в бегство. Она не осталась на месте, не подставила пушистое брюшко под удары шишек, не погибла смертью храбрых, устремив последний взгляд в исполненные сострадания небеса. Нет, она удирала со всех ног. А ведь это, надо думать, обыкновенная белка, а не философ среди своего племени. Юноша зашагал дальше, чувствуя, что Природа заодно с ним. Она подтверждала его рассуждения доказательствами, которые можно найти везде, где светит солнце.
Он чуть не увяз в болоте. Пришлось перескакивать с одной мшистой кочки на другую, стараясь не проваливаться в маслянистую жижу. Остановившись на минуту, чтобы осмотреться, он заметил какого-то маленького зверька, который нырнул в черную воду и сразу же вынырнул с поблескивающей рыбкой в зубах.
Юноша снова углубился в густые заросли. Когда он наступал на ветки, они трещали так, что заглушали канонаду. Он пробирался во тьме, гонимый желанием скрыться в еще большей тьме.
Наконец он оказался в таком месте, где ветви смыкались, как свод, высоко над головой. Он осторожно раздвинул зеленые двери и вошел. Сосновые иглы и хвоя лежали на земле мягким коричневым ковром. Царил торжественный, церковный полумрак.
На пороге этой часовни он замер, пораженный ужасом, ибо увидел нечто.
Там, прислонясь к колонноподобному стволу, сидел мертвец и смотрел на него. На нем был мундир, некогда синий, а теперь выцветший до уныло-зеленого цвета. Глаза, глядевшие на юношу, были студенисты, как глаза дохлой рыбы. Открытый рот обнажал нёбо жутко желтого цвета. По серым щекам бегали маленькие муравьи. Один из них волочил какую-то ношу по верхней губе мертвеца.
Оказавшись лицом к лицу с этим нечто, юноша вскрикнул. На несколько мгновений он окаменел. Он смотрел в остекленелые глаза мертвеца. Мертвый и живой обменялись долгим взглядом. Потом юноша осторожно пошарил рукой позади себя и нащупал ствол. Держась за него, он стал шаг за шагом отступать, все еще обратившись лицом к трупу. Он боялся, что если он отвернется, тот вскочит и беззвучно погонится за ним.
Ветви хлестали его и грозили толкнуть к мертвецу. Ноги беспомощно цеплялись за узловатые корни, и все время его преследовало неотвязное чувство, что он прикасается рукой к холодному, мертвому телу. Его пронизала дрожь.
Наконец он вышел из оцепенения и побежал напролом через кустарник. Его преследовало зрелище черных муравьев, алчно копошащихся на сером лице и подбирающихся до ужаса близко к глазам.
Потом он остановился и, с трудом переводя дыхание, прислушался. Ему казалось, что из мертвого горла сейчас вырвется чудовищный голос и прохрипит ему вслед ужасные угрозы.
Деревья у входа в часовню успокоительно шелестели под легким ветерком. Скорбное молчание воцарилось в усыпальнице.
Глава VIII
Деревья начали тихонько петь гимн сумеркам. Солнце скатилось к горизонту, и его косые бронзовые лучи озарили лес. Насекомые вдруг примолкли: казалось, они благочестиво молятся, склонив хоботки к земле. В наступившей тишине слышался только мелодичный хор деревьев.
Внезапно в безмолвие вторгся оглушительный шум, Издали донесся устрашающий рев.
Юноша замер. Кошмарная мешанина звуков приковала его к месту. Впечатление было такое, словно вдребезги разбиваются небесные светила. Тарахтение ружейной стрельбы смешивалось с бухающими разрывами снарядов.
Мысли юноши заметались. Ему чудилось, что армии, как пантеры, бросились друг на друга. Он прислушался. Потом побежал в ту сторону, где шел бой. Он понимал, какая ирония скрыта в том, что теперь он торопится как раз туда, откуда так жаждал уйти. Но, — говорил он себе, — если станет известно, что земля вот-вот налетит на луну, многие, надо полагать, захотят вылезти на крыши, чтобы увидеть это зрелище.
На бегу он обнаружил, что лес перестал петь, словно обрел наконец способность внимать посторонним звукам. Деревья смолкли и застыли. Вся природа прислушивалась к грохоту, к треску, к ошеломляющему грому. Сливаясь воедино, эти звуки плыли над тихой землей.
Внезапно юноше пришло в голову, что сражение, в котором он успел принять участие, было всего лишь ленивой перестрелкой. Судя по тому, что творилось теперь, он, очевидно, еще и не видел настоящего боя. Так грохотать может только битва небесных воинств, схватившихся в воздухе не на жизнь, а на смерть.
Продолжая размышлять, он понял, как смешны были и его товарищи и он сам в их первой стычке с неприятелем. Они так серьезно относились к себе и к вражеским отрядам и воображали, что они-то и решают исход войны! Маленькие людишки считали, что их имена будут вырезаны на бронзовых дощечках, не знающих тления, а образы — запечатлены в сердцах сограждан; в действительности же газеты сообщат об этом сражении петитом под ничего не говорящим заголовком. Но он понимал и то, что, думай солдаты иначе, они все дезертировали бы — все, кроме самых отчаянных и отпетых.
Он ускорил шаги. Ему хотелось поскорее подойти к опушке и выглянуть.
В его мозгу возникали картины потрясающих сражений. Мысль, привыкшая работать только в одном направлении, научилась все воссоздавать зрительно. Грохот боя был словно голос красноречивого рассказчика.
Порою терновник, вставая сплошной стеной, не желал пропустить его. Деревья протягивали лапы и преграждали путь. Лес, который недавно был так враждебен к нему, теперь удерживал его, и это наполняло юношу сладкой болью. Казалось, природа еще не хочет его убивать.
Но, упрямо обходя препятствия, он все же добрался до места, откуда видна была завеса дыма над полем боя. Голоса пушек оглушали юношу. Ружейные залпы звучали, как долгие воющие жалобы, больно отдаваясь в ушах. Он остановился, вглядываясь вдаль. В глазах его был благоговейный ужас. Он боязливо смотрел туда, где шло сражение.
Юноша снова пошел вперед. Битва представлялась ему огромной страшной машиной, которая неустанно перемалывает людей. Ее сложность и мощь, мрачное дело, которое она творила, гипнотизировали юношу. Он должен подойти поближе и посмотреть на это производство трупов.
Он подбежал к изгороди и перескочил через нее. Там, на земле, были разбросаны ружья и солдатская одежда. В грязи валялась сложенная газета. Уткнувшись лицом в руку, лежал мертвый солдат. Поодаль несколько мертвецов собрались в сумрачный круг. Все было залито палящими лучами солнца.
Ему стало не по себе, точно он вторгся в чужие владения. Этот уголок, откуда бой уже откатился, принадлежал мертвецам, и юноша поспешно ушел, смутно опасаясь, что одна из раздувшихся фигур поднимется во весь рост и прогонит его.
Наконец он вышел на дорогу, откуда видны были вдалеке быстро перемещающиеся темные пятна воинских частей, окаймленные дымом. По дороге шагала в тыл окровавленная толпа. Раненые ругались, стонали, вскрикивали. Грохот по-прежнему стоял такой, что чудилось — еще немного, и он опрокинет землю. С мужественным говором артиллерии и презрительными репликами ружей сливались дикие вопли наступающих. И оттуда, где раздавались эти звуки, лился непрерывный поток изувеченных.
У какого-то раненого башмак был полон крови. Он прыгал на одной ноге, как резвящийся школьник, и при этом истерически смеялся.
Другой божился, что ему прострелили руку только по вине генералов, которые так по-дурацки командуют армией. Третий шел, выпятив грудь, передразнивая напыжившегося тамбурмажора. Его лицо отражало странную смесь веселья и боли. Срывающимся дискантом он на ходу выкрикивал куплеты:
Эх, затяни победную, Пуль у нас полно! Два десятка мертвецов Запекли… в пирог.Многие ковыляли и подпрыгивали в такт песне.
У одного солдата на лице уже лежала серая печать смерти. Зубы у него были стиснуты, рот плотно сжат, скрещенные на груди руки обагрены кровью. Казалось, он ждет минуты, когда можно будет растянуться во весь рост. Он двигался так, словно уже стал призраком солдата, и горящий его взор был устремлен в неведомое.
Были там и такие, которые угрюмо брели, злясь и на свои раны и на всех окружающих, точно те были виновниками их несчастья.
Двое рядовых несли офицера. Он все время бушевал.
— Джонсон, да не тряси ты меня так, болван несчастный! — кричал он. — По-твоему, у меня нога железная, что ли? Если не можешь нести по-человечески, убирайся к черту, пусть несет кто-нибудь другой!
Он орал на медлительную толпу раненых, которая задерживала его носильщиков.
— Да пропустите же, черт бы вас всех подрал! Пропустите, слышите?
Они нехотя расступились и отошли к обочинам. Когда офицера проносили мимо них, они отпускали ехидные замечания по его адресу. Взбешенный, он выкрикивал угрозы, а они посылали его ко всем чертям.
Один из носильщиков, сгибаясь под тяжестью офицера, сильно толкнул плечом призрачного солдата, глядевшего в неведомое.
Присоединившись к раненым, юноша пошел вместе с ними. Истерзанные тела этих людей говорили о той страшной мясорубке, которая их перемолола.
Иногда сквозь толпу прорывались верховые адъютанты и ординарцы, и раненые разбегались вправо и влево, осыпая всадников проклятиями. Печальное шествие то и дело сбивали вестовые, а иногда в него с громом и лязгом врезались мчащиеся батареи, и тогда офицеры орали и требовали, чтобы им очистили путь.
Рядом с юношей тихо брел оборванный солдат, с ног до головы покрытый пылью, запекшейся кровью и пороховой гарью. Он внимательно и смиренно слушал, как бородатый сержант, не жалея подробностей, расписывал сражение. На худом лице оборванного застыло выражение страха и восторга. Он был похож на парня, который, стоя в деревенской лавке, среди сахарных голов, слушает всякие небылицы. На рассказчика он смотрел с молитвенным восхищением. Рот у него был открыт, как у настоящей деревенщины.
Заметив это, сержант прервал свою потрясающую историю и насмешливо бросил:
— Эй, приятель, смотри, муха влетит!
Оборванный солдат сконфуженно замедлил шаги.
Немного погодя он как бы невзначай присоединился к юноше и стал делать неловкие попытки завязать с ним дружеский разговор. Голос у него был нежный, как у девушки, взгляд — умильно-просительный. Юноша с удивлением отметил, что его спутник дважды ранен: голова у него была завязана окровавленной тряпицей, простреленная рука висела, как сломанная ветка.
Некоторое время они шли молча, потом оборванный солдат набрался духу и робко проговорил:
— Ну и горячее было дело!
Юноша, погруженный в свои мысли, взглянул на измазанное кровью страшное лицо, с которого смотрели по-овечьи кроткие глаза.
— Что? — переспросил он.
— Дело, говорю, было горячее.
— Да, — коротко ответил юноша и прибавил шагу.
Но оборванный тоже заковылял быстрее. Хотя всем своим видом он как будто просил прощения, однако в душе, очевидно, считал, что стоит ему немного поговорить с юношей, и тот сразу увидит, какой он славный парень.
— Горячее было дело, — сказал он тоненьким голосом и, окончательно расхрабрившись, продолжал: — А ребята как дрались, черт меня побери! Как они дрались! Я-то, конечно, знал, что, когда дойдет до дела, они себя покажут. До сих пор им вроде и негде было показать себя, но зато нынче они маху не дали. Я-то не сомневался в этом. С ними не так просто сладить, будьте спокойны! Настоящие они бойцы, наши парни!
Он даже вздохнул — так его переполняло смиренное восхищение. Несколько раз он взглядывал на юношу, словно ждал хоть какого-нибудь ободряющего слова. Ободрения не последовало, но постепенно он увлекся и уже не мог остановиться.
— Я как-то перекинулся словечком с их дозорным, — он был из Джорджии родом, — так он мне сказал: «Ваши парни чуть заслышат пушку, так и побегут, как зайцы». А я ему и говорю: «Может, и побегут, только непохоже на это, — говорю я. — И чем черт не шутит, а вдруг ваши парни, как заслышат пушку, так и побегут не хуже зайцев?» Он давай смеяться. А что же вышло на поверку? Побежали наши, что ли? Нет, наши дрались, и дрались, и дрались до конца.
Его невзрачное лицо светилось любовью к армии, которая была для него воплощением всего сильного и прекрасного.
Потом он взглянул на юношу:
— Ты куда ранен, друг? — Таким тоном он мог бы обратиться к брату.
Юноша мгновенно похолодел от страха, хотя все значение этого вопроса дошло до него не сразу.
— Что? — только и сказал он.
— Ты куда ранен? — повторил оборванный.
— Да вот, — начал юноша, — я был, то есть я…
Круто повернувшись, он шмыгнул в толпу. Он был красен как рак и нервно теребил пуговицу на мундире. Опустив голову, он рассматривал эту пуговицу, словно видел ее впервые.
Оборванный солдат растерянно посмотрел ему вслед.
Глава IX
Юноша пятился, пока оборванный солдат не исчез из виду. Затем он снова двинулся в путь вместе с остальными.
Но вокруг него зияли раны. Люди истекали кровью. После вопроса оборванного солдата юноше начало мерещиться, что все видят его позор. Он непрерывно бросал взгляды исподлобья, проверяя, не читают ли его спутники постыдную надпись, которая жгла ему лоб.
Временами он начинал завидовать раненым. Он считал всех этих людей с изуродованными телами счастливцами. Ему тоже хотелось получить рану — алый знак доблести.
Рядом с ним, как живой упрек, шел призрачный солдат. Глаза его все еще были устремлены в неведомое. Всякий, кому случалось взглянуть в это серое, жуткое лицо, невольно замедлял шаги и приноравливался к торжественной поступи призрака. Солдаты обсуждали его ранение, обращались к нему с вопросами, давали ему советы. Он угрюмо отмахивался от них, показывая знаками, что просит оставить его в покое. Тени на его лице сгущались, плотно сжатый рот словно старался удержать стон отчаяния. Его движения были странно осторожны, как будто он боялся разгневать свои раны. Казалось, он все время присматривает для себя место: так люди ищут места для могилы.
Отстраняя окровавленных и полных сострадания солдат, он сделал жест, который заставил юношу подскочить, как от удара. Охваченный ужасом, он громко вскрикнул. Потом подошел вплотную к призрачному солдату и дрожащей рукой тронул его за плечо. К нему повернулось восковое лицо.
— Боже! Джим Конклин! — простонал юноша.
Губы долговязого тронула самая обыкновенная улыбка.
— Здорово, Генри! — сказал он.
Юноша пошатнулся и дико посмотрел на того.
— О Джим, Джим, Джим! — заикаясь, повторял он.
Долговязый протянул руку, на которой пятна крови, свежей и запекшейся, образовали удивительное сочетание черного с алым.
— Где ты был, Генри? — спросил он. Потом монотонным голосом продолжал: — Я уж думал, может ты убит. Сегодня много народу полегло. Я беспокоился за тебя.
— О Джим, Джим, Джим! — продолжал причитать юноша.
— Я был вон там, — произнес долговязый и осторожно показал где. — Господи, что там творилось! И меня ранило, да, ранило. Ей-богу, меня ранило. — Он повторял эти слова так удивленно, точно не мог взять в толк, как же это случилось.
Юноша протянул трясущиеся руки, чтобы помочь ему, но долговязый твердым шагом шествовал вперед, словно кто-то завел его изнутри. Как только юноша выступил в роли его телохранителя, остальные потеряли к нему интерес. Они снова потащились в тыл, погрузившись в созерцание своих собственных трагедий.
Внезапно долговязым овладел ужас. Лицо его стало похоже на серое тесто. Он схватил друга за руку, все время оглядываясь, словно опасался, что кто-нибудь их подслушает.
— Знаешь, чего я боюсь, Генри? — заговорил он срывающимся голосом. — Знаешь, чего? Я боюсь, что упаду, и тогда, понимаешь… эти чертовы артиллерийские упряжки… они раздавят меня…
— Я не брошу тебя, Джим! — истерически выкрикнул юноша. — Я не брошу тебя! Разрази меня бог, не брошу!
— Правда, не бросишь, Генри? — умолял долговязый.
— Ну да, ну да, говорю тебе, что не брошу, — уверял юноша. Он говорил невнятно и все время всхлипывал.
Но долговязый продолжал шепотом упрашивать его. Теперь он, как ребенок, повис на руке у юноши. От безумного страха глаза у него закатились.
— Я всегда был тебе хорошим другом, ведь был, правда? Я всегда был хорошим парнем, правда? И прошу-то я самую малость. Положи меня на обочину, вот и все. Я бы сделал это для тебя, ей-богу сделал бы!
Пришибленный, жалкий, он остановился, ожидая ответа.
Юношей овладело такое отчаяние, что он навзрыд заплакал. Стараясь выразить свою дружескую преданность, он делал какие-то бессмысленные жесты.
Но долговязый вдруг совсем забыл о страхе. Он снова превратился в угрюмо и торжественно шествующего призрачного солдата. Чугунной походкой двигался он вперед. Юноша просил друга опереться на него, но тот, качая головой, повторял непонятные слова:
— Нет… нет… нет… оставь меня, чтоб я… оставь меня, чтоб я…
Его глаза снова были устремлены в неведомое. Отмахнувшись от юноши, он шел к своей таинственной цели.
— Нет… нет… оставь меня, чтоб я… оставь меня, чтоб я…
Юноше пришлось подчиниться. Вдруг он услышал за собой чей-то тоненький голос. Обернувшись, он увидел оборванного солдата.
— Лучше бы ты, парень, свел его с дороги. Вон там батарея несется во весь опор, как бы не переехала его. Он вот-вот кончится, я по лицу вижу. Лучше бы ты свел его с дороги. Откуда только у него еще силы берутся?
— Один бог ведает! — воскликнул юноша, беспомощно ломая руки. Потом подскочил к долговязому и схватил его за локоть. — Джим, Джим, — уговаривал он, — пойдем со мной!
Долговязый сделал слабую попытку освободиться.
— Ох, — произнес он без всякого выражения. Несколько секунд он в упор смотрел на юношу. Затем заговорил, словно что-то дошло до его сознания — Ага! Ты хочешь в поле? Ага!
Он как слепой побрел по траве.
Юноша оглянулся на ездовых, которые нахлестывали лошадей, и на подпрыгивающие пушки. И тут же раздался пронзительный крик оборванного:
— Господи помилуй! Да он бежит!
Мгновенно обернувшись, он увидел, что его друг, спотыкаясь, пошатываясь, бежит к небольшой заросли кустарника. При виде этого юноше показалось, что сердце у него сию минуту выпрыгнет из груди. Он замычал, как от боли. Потом вместе с оборванным бросился догонять долговязого. То была странная погоня.
Поравнявшись с долговязым, юноша начал просить его, стараясь найти слова поубедительней:
— Джим, Джим, что ты делаешь? Зачем ты так? Ты только повредишь себе…
Лицо долговязого не изменило выражения. Он тупо повторял, не отрывая глаз от неведомого места, к которому стремился:
— Нет… нет… не держи меня… оставь меня, чтоб я… оставь меня, чтоб я…
Глядя на долговязого с боязливым недоумением, юноша спрашивал дрожащим голосом:
— Куда ты, Джим? Что у тебя на уме? Куда ты идешь? Скажи мне, Джим.
Долговязый посмотрел на него так, как смотрит человек на своего безжалостного преследователя. Глаза его умоляли.
— Оставь меня, ладно? Оставь меня на минуточку, чтоб я…
Юноша отступил.
— Джим, — сказал он растерянно, — что с тобой?
Тот отвернулся и, как-то накренившись, пошел дальше. Юноша и оборванный солдат плелись за ним, пригибаясь к земле, точно побитые собаки, чувствуя, что, если он снова обратит к ним лицо, они не выдержат его взгляда. Они начали понимать, что здесь совершается некая торжественная церемония. Что-то ритуальное было в движениях отмеченного судьбой солдата. Он был похож на приверженца безумной религии, кровавой, людоедской, костедробящей. Полные благоговейного ужаса, они держались на расстоянии, словно в его руках было смертоносное оружие.
Вдруг он остановился как вкопанный. Они ускорили шаги и увидели по его лицу, что наконец он нашел место, которое так искал. Его тонкая фигура выпрямилась, окровавленные руки спокойно лежали на груди. Он терпеливо ждал встречи, ради которой пришел сюда. Он явился на свидание. Они тоже остановились, ожидая.
Наступило молчание.
Грудь обреченного солдата начала медленно вздыматься. Она поднималась и опускалась с таким судорожным, все возрастающим напряжением, точно в ней билось животное, рвущееся на свободу.
При виде этого медленного удушения юноша начал корчиться, а когда его друг выкатил глаза, он увидел в них нечто такое, что, рыдая, повалился на землю. Он вложил всю душу в последний призыв:
— Джим… Джим… Джим…
Долговязый разомкнул губы и заговорил. Он сделал движение рукой.
— Оставь меня, чтоб я… не держи меня… оставь меня, чтоб я…
Он ждал чего-то. Снова наступило молчание.
Внезапно его тело вытянулось и напряглось. По нему пробежала крупная дрожь. Он смотрел в пространство. Двое, глядевшие в жесткие черты этого страшного лица, видели на нем печать глубокого, удивительного достоинства.
Что-то ползучее, что-то непередаваемое медленно обволакивало его. Дрожь в ногах принудила его проплясать чудовищный танец, руки дико рассекали воздух, словно в приступе бесовского ликования. Его долговязая фигура стала еще выше. Раздался такой звук, словно что-то порвалось. Потом тело начало клониться вперед, медленно, не сгибаясь, как падает дерево. Из-за короткой мышечной судороги левое плечо коснулось земли первым. Ударившись о землю, труп слегка подскочил.
— Боже! — вскрикнул оборванный солдат.
Оцепенев, юноша созерцал церемонию на месте назначенной встречи. Лицо его исказилось от страданий, которые он мысленно пережил вместе со своим другом.
Потом он вскочил на ноги и, подойдя ближе, взглянул в бумажно-белое лицо. Рот у мертвеца был открыт, зубы оскалены в усмешке. Полы синего мундира распахнулись, и юноша увидел грудь долговязого: казалось, ее изгрызли волки.
В приступе внезапного исступленного бешенства юноша повернулся к полю боя и погрозил ему кулаком. Он как будто собирался разразиться потоком слов.
— Черт!..
Алое солнце, похожее на сургучную печать, словно приклеилось к небу.
Глава X
Оборванный солдат стоял задумавшись.
— Ну и ну… — сказал он наконец тоненьким голосом, в котором звучало боязливое восхищение. — Не человек, а дуб могучий. — Он осторожно потрогал носком башмака вялую руку. — Дуб могучий, ничего не скажешь. Не пойму, как у него силищи хватило? В жизни не встречал таких людей. Это ж надо было так смерть встретить! Да, не человек, а дуб могучий.
Юноше хотелось выкричать свое горе. Он был безмерно потрясен, но рот его стал могилой, в которой лежал мертвый язык. Он снова бросился на землю и погрузился в скорбные мысли.
Оборванный солдат снова задумался.
— Слушай, товарищ, — сказал он немного погодя, не отрывая глаз от мертвеца. — Он свое уже отжил, так ведь? Теперь нам самое время позаботиться о себе. Горю слезами не поможешь. Он свое уже отжил, так ведь? И ему здесь хорошо. Никто его не тронет. А я, по правде говоря, сам еле на ногах держусь.
Оборванный сказал это так, что юноша пришел в себя. Вскинув глаза на своего спутника, он увидел, что тот посинел и шатается.
— Боже милостивый! — воскликнул он. — Неужели и ты… Нет, нет!
Оборванный солдат сделал отрицательный жест.
— И не подумаю помирать, — сказал он. — Мне бы сейчас поесть горохового супу и лечь на хорошую кровать. Эх, гороховый суп! — мечтательно произнес он.
Юноша поднялся с земли.
— Не понимаю, как он сюда попал. В последний раз я видел его там. — Он показал где. — И вдруг вижу его здесь. А шел он оттуда. — Он махнул рукой в противоположном направлении. Они смотрели на мертвеца, словно ожидая от него разъяснений.
— Ладно, — заговорил оборванный солдат. — Хватит нам стоять тут без толку да спрашивать у него.
Юноша устало кивнул. Они снова взглянули на труп. Юноша что-то пробормотал.
— Дуб могучий, а не человек, — словно в ответ ему сказал оборванный.
Они отвернулись и зашагали прочь. Шли они медленно, волоча ноги, а мертвец, лежа в траве, продолжал улыбаться.
— Что-то мне невмоготу становится, — опять прервал молчание оборванный. — Что-то мне совсем невмоготу.
— О боже! — простонал юноша. Неужели ему предстоит, корчась от муки, быть свидетелем еще одного сумрачного свидания?
Но его спутник успокоительно помахал рукой.
— Нет, нет, мое время еще не пришло. Мне сейчас никак невозможно помереть. Нет, братец! Тут и разговаривать нечего. Нельзя — и все тут. Ты бы посмотрел, сколько у меня дома ребятишек мал мала меньше.
Увидев на лице оборванного подобие улыбки, юноша понял, что он шутит.
Они потащились дальше, и оборванный продолжал:
— А если бы я и помер, то не так, как этот парень. Такого и во сне не увидишь. Я бы просто грохнулся на землю — и дело с концом. В первый раз вижу такую смерть. Ты знаешь Тома Джемисона? На родине наши дома рядышком стоят. Хороший он парень, и мы всегда были с ним добрыми друзьями. И упорный. Кремень, а не парень. И вот сегодня во время боя он как начнет ругаться, — а уж ругаться он мастер. «Да ты ранен, лопни твоя печенка!» — орет он во всю глотку. Я сразу за голову схватился и как отнял потом руку и взглянул на свои пальцы — да, думаю, и вправду ранен. И тут я закричал и давай бежать, только и двух шагов не пробежал, как вторая повыше локтя саданула так, что я аж на месте закружился. Перетрусил я, конечно, здорово, когда они мне вслед стреляли, и побежал снова, чтобы шкуру спасти, только бегун я был неважный. Я бы и не знал, что ранен, не скажи мне Том Джемисон. — Потом он спокойно добавил: — Их у меня две, и обе маленькие, но что-то они меня здорово начали донимать. Прямо ноги подгибаются.
Некоторое время они брели молча.
— Да и ты в лице изменился, — опять начал оборванный. — Помяни мое слово, она у тебя хуже, чем ты думаешь. Ты бы перевязал ее, что ли. С такими вещами не шутят. У тебя, может, она вся внутри, а тогда дело табак. Куда тебя ранило? — Не дожидаясь ответа, он продолжал: — Когда наш полк отдыхал, одного парня на моих глазах в голову ранило. Тут все давай кричать: «Тебя ранило, Джон? Сильно тебя ранило?» — «Нет», говорит. Он вроде как удивился и стал рассказывать, что он чувствует. «Ничего, говорит, не чувствую». И провалиться мне на месте, если через минуту он не помер. Да, да, помер и похолодел. Так что ты смотри. У тебя тоже, может быть, какая-нибудь такая рана. Сам ведь никогда не знаешь. Тебя куда ранило?
Как только оборванный спросил о ране, юноша весь задергался.
— Ох, да не приставай ты ко мне! — злобно крикнул он и замахал руками. Он ненавидел сейчас оборванного и с радостью задушил бы его. Юноше казалось, что все товарищи в заговоре против него. Они только и делают, что поднимают призрак его позора на острие своего любопытства. Он повернулся к оборванному с яростью отчаянья.
— Перестань приставать ко мне! — повторил он, и в его голосе послышалась неприкрытая угроза.
— Господи, да у меня и в мыслях не было приставать к тебе, — ответил тот и горестно добавил: — Бог свидетель, у меня своих забот хватает.
Юноша, продолжая вести мучительный спор с собою и глядя на оборванного с ненавистью и презрением, грубо бросил:
— Прощай!
Оборванный воззрился на него непонимающими глазами.
— Да что же это, братец? Куда ты идешь? — спросил он дрожащим голосом. Взглянув на него, юноша увидел, что во всем его облике начинают проступать черты тупой отрешенности, как и у того, первого. Видимо, мысли у него начали мешаться. — Слушай… слушай… погоди минутку… Том Джемисон… Слушай, так дело не пойдет… Не годится так… Куда… куда ты идешь?
Юноша неопределенно указал головой.
— Гуда, — ответил он.
— Да… да ты… послушай меня… — бессвязно, как полоумный, забормотал оборванный. Голова у него свесилась на грудь, он с трудом выговаривал слова. — Так не годится, слышишь, Том Джемисон. Не годится. Я тебя знаю, упрямый ты осел! Хочешь даже раненый туда пойти. Неправильно это. Слушай, Том Джемисон… Не годится так… Ты не хочешь, чтобы я позаботился о тебе… Это не годится… не годится… тебе идти… туда… ты раненый… Это не… не… не годится… никуда…
Вместо ответа юноша перескочил через изгородь и зашагал прочь. Оборванный что-то жалобно блеял ему вслед.
Один раз юноша все же злобно оглянулся.
— Чего тебе?
— Слушай… постой… Том Джемисон… слушай… не годится…
Юноша ушел. Отойдя подальше, он оглянулся еще раз и увидел, что оборванный, спотыкаясь, плетется по полю.
Юноша думал теперь о том, как ему хочется умереть. Ему казалось, что он завидует солдатам, чьи тела распростерты на траве в полях и на опавшей листве в лесу.
Простодушные вопросы оборванного вонзились в него, как ножи. Они словно исходили от всего общества, которое безжалостно старается проникнуть в человеческую душу, пока тайное не становится явным. Бесхитростная настойчивость его спутника с очевидностью показала юноше, что ему не удастся замкнуть свое преступление у себя в груди. Оно будет вырвано оттуда одной из тех стрел, которые целыми тучами проносятся в воздухе, впиваются куда попало и открывают миру то, что люди хотели бы скрыть навеки. Юноша понимал, что против этих сыщиков он беззащитен. Тут не поможет никакая предусмотрительность.
Глава XI
Он вдруг заметил, что адский рев сражения становится все громче. Коричневые облака, плывущие в безветренном воздухе, приближались. Приближался и грохот. Солдаты словно сыпались из леса, и поля были теперь испещрены черными точками.
Обогнув невысокий пригорок, он увидел дорогу, стонущую от скученных повозок, упряжек, людей. Из этой устрашающей неразберихи неслись уговоры, приказания, проклятия. Командиром там был страх. Бичи щелкали, лошади рвались вперед, натягивая постромки. Беловерхие повозки упрямились и спотыкались, точно жирные бараны.
Юношу немного успокоило это зрелище. Все они отступали. Значит, он не так уже виноват. Он сел и стал наблюдать за охваченными паникой повозками, которые удирали, как неуклюжие, беспомощные животные. Глядя на орущих беглецов, он преувеличивал опасности и ужасы боя, доказывая себе тем самым, что преступление, в котором его могут обвинить, по существу было самым естественным поступком. С некоторым даже удовольствием он следил за столь стремительным шествием своего оправдательного приговора.
Потом на дороге появилась колонна пехоты, невозмутимо двигавшаяся на передовую. Солдаты шли быстрым шагом. Им все время приходилось лавировать между повозками, поэтому колонна извивалась на ходу, как змея. Те, что шагали в первых рядах, отгоняли мулов штыками. Они кололи штыками и ездовых, если те были глухи к окрикам. Люди силой прокладывали себе путь сквозь толпу. Плотная голова колонны действовала как таран. Разъяренные ездовые выкрикивали замысловатые проклятия.
В требованиях расступиться и освободить дорогу чувствовалась глубокая уверенность людей в своем праве. Они шли в самое пекло. Им придется выдержать яростный натиск неприятеля. Они гордились тем, что идут вперед, в то время как остальные валяют дурака. Они отшвыривали обозных, глубоко убежденные, что так и нужно, лишь бы они сами не опоздали на передовую. Эта вера сообщала их лицам строгую сосредоточенность. Офицеры шли, вытянувшись в струнку.
Юноша смотрел на них, снова ощущая свинцовую тяжесть горя. Эти люди казались ему избранниками богов, героями. Они были так же недосягаемы для него, как если бы несли в руках огненные мечи и сотканные из солнечного света знамена. Ему никогда не сравниться с ними. Им овладела такая тоска, что он чуть не заплакал.
Он изощрялся в проклятиях по адресу той непонятной силы, того неведомого существа, которое представляется людям конечной причиной всех их бед. Оно — кем бы оно ни было — виновато в его проступке, думал он. Сам он тут ни при чем.
Стремление колонны скорее попасть на поле боя представлялось погруженному в отчаяние юноше еще более прекрасным, нежели стойкость в сражении. Даже героям, думал он, необязательно идти до конца этой длинной, забитой людьми дороги. Они могли бы повернуть назад и достойно оправдаться перед небом, не утратив уважения к себе.
Он не мог понять, из чего сделаны люди, которые так торопятся стать лицом к лицу с мрачной угрозой смерти. Чем больше он вглядывался в них, тем сильнее им завидовал, пока наконец ему не показалось, что он хочет стать одним из них. Он готов на любое усилие, повторял он себе, чтобы вылезти из своей шкуры и сделаться лучше, чем он есть. Перед ним промелькнули картины, в которых главным действующим лицом был он сам, отделившийся от себя и вместе с тем неразрывно с собой связанный: отважный воин в синем мундире готов к смертоносной атаке, колено выдвинуто вперед, сломанная сабля высоко поднята; бесстрашный воин в синем мундире, грудью принимая свирепый, грохочущий натиск, спокойно встречает смерть на высоком холме, куда устремлены взоры обеих армий. Он представил себе, как потрясающе-величаво будет выглядеть его мертвое тело.
Эти мысли вернули ему бодрость. В нем зажегся воинский задор. Слух его наполнился звучанием победных голосов. Он ощутил безумное ликование молниеносной успешной атаки. Тяжелые шаги солдат на дороге, громкие окрики, бряцание оружия слились в стройную музыку, которая подняла его с земли на алых крыльях войны. Несколько мгновений он был исполнен великолепного мужества.
Он решил вернуться на передовую. И, конечно, сразу увидел себя: вот он, запыленный, страшный, задыхающийся, прибегает на поле боя как раз вовремя, чтобы схватить за глотку черную, злобную ведьму военной неудачи.
Но тут его стали одолевать мысли о трудностях, подстерегающих его на этом пути. Он колебался, неловко стой на одной ноге.
У него нет винтовки. Не может же он воевать голыми руками, — сердито сказал он себе. Но винтовку можно подобрать. Их тут валяется несметное множество.
К тому же, продолжал он, ему ни за что не отыскать своего полка. Но сражаться можно в рядах любого полка.
Он нерешительно сделал несколько шагов. Двигался он так, словно боялся наступить на что-то, способное взорваться. Он вступил в единоборство со своими колебаниями.
Если его товарищи заметят, в каком виде он вернулся, они сразу поймут, что он постыдно струсил. На это последовал ответ, что солдаты только тогда обращают внимание на происходящее сзади, когда там появляется неприятель. В горячке сражения его лицо станет невидимым, словно под капюшоном.
Но, придумал он новую отговорку, жестокая судьба воспользуется первой же передышкой в сражении и подошлет человека, который начнет приставать к нему с вопросами. Ему рисовались недоверчивые взгляды товарищей, сверлящие его в ту минуту, когда он подыскивает лживые ответы.
Все его мужество ушло на эти препирательства. Пока он спорил с собой, его пыл угас.
Отказавшись от своего намерения, он не слишком опечалился; поразмыслив, он решил, что доводы против возвращения неопровержимы.
К тому же он начал плохо себя чувствовать. Теперь ему было уже не взлететь на крыльях войны высоко в небо. Когда человек изнурен, может ли он видеть себя в героическом свете? Юноша повалился на землю.
Он обнаружил, что мучительно хочет пить. Кожа у него на лице стала такой сухой и жесткой, что он как будто даже слышал, как она шуршит. Все кости ныли, и, казалось, от любого неосторожного движения они переломятся. Ноги были словно две сплошные раны. Кроме того, его тело требовало пищи. Это было куда сильнее обыкновенного голода. Юноша ощущал в желудке тяжесть и тупую боль, и когда он попытался встать и продолжить путь, голова у него закружилась и он с трудом сохранил равновесие. Он почти ничего не видел, перед глазами у него плыл зеленый туман.
Пока его раздирали противоречивые мысли, он не замечал дурного самочувствия, но теперь оно настойчиво заявляло о себе. Он больше не мог отмахиваться от него и вдвойне ненавидел себя за это. Полный отчаяния, он говорил себе, что сделан из другого теста, чем те солдаты, которых он только что видел на дороге. Где уж ему стать героем! Он жалкое ничтожество. Как смешны все его мечты о славе! Он застонал так, словно у него разрывалось сердце, и побрел дальше.
Линия фронта притягивала его, как свет притягивает мошку. Ему страстно хотелось все увидеть, узнать новости. Он жаждал выяснить, кто победит.
Юноша твердил себе, что, невзирая на свои неслыханные страдания, он все время мечтал о победе, хотя, — нерешительно добавлял он, как бы прося прощения у собственной совести, — разгром армии для него сейчас очень выгоден. Успех неприятеля расколет полки, и тогда, — считал он, — многие даже храбрые солдаты вынуждены будут дезертировать. Они разбегутся, как цыплята, и он затеряется в их толпе. Все они превратятся в товарищей по несчастью, и он постарается забыть, что бежал быстрее и дальше остальных. А если он сам поверит в собственную безгрешность, то, конечно, без труда убедит в ней и других.
Стараясь найти оправдание этой надежде, он говорил себе, что армия уже не раз терпела поражение, а потом, спустя несколько месяцев, встряхнувшись после кровопускания и неудач, начисто забыв о страшном крушении, как бы заново рождалась, отважная, блистательная, доблестная, полная веры в непобедимость своих легионов. Пронзительные голоса соотечественников будут некоторое время звучать плаксиво и жалобно, но для того и существуют генералы, чтобы выслушивать эти причитания. Он без всякого раскаяния готов был принести в жертву любого генерала. Раз он не знает, кто именно станет мишенью для нападок, значит и сочувствовать некому. Соотечественники далеко от фронта, а могут ли люди правильно судить о том, чего не видят? Вполне вероятно, что стрелы поразят невиновного, который, опомнившись от удивления, весь остаток жизни потратит на опровержение басен о его мнимой бездарности. Факт весьма печальный, что и говорить, но для юноши в данном случае самый лучший генерал ничего не стоил.
Если армия потерпит поражение, он, юноша, будет полностью оправдан. Более того — это подтвердит его дальновидность, благодаря которой он своевременно дезертировал. Пророк, который хочет, чтобы поверили его предсказанию о потопе, должен первым вскарабкаться на дерево: только это докажет людям, что он ясновидящий.
Юноша придавал большое значение моральному оправданию. Без этого оправдания где ему взять силы, чтобы всю жизнь носить язвящий знак своего позора? Если сердце станет непрерывно напоминать ему о его ничтожестве, он каждым жестом будет выдавать людям свое презрение к себе.
Победа армии сулит ему гибель. Если этот грохот означает, что древка знамен направлены вперед, он обречен на бесчестие. Ему придется уйти от людей и существовать в полном одиночестве. Если солдаты сейчас наступают, их равнодушные ноги топчут его надежды на достойную жизнь.
Он боролся с этими мыслями, мелькавшими в его мозгу, пытался отогнать их. Он называл себя негодяем, твердил, что свет еще не видывал такого гнусного эгоиста. Воображение рисовало ему солдат, которые не страшатся грудью встретить яростно вопящих врагов; он видел землю, усеянную телами истекающих кровью людей, и говорил себе, что он их убийца.
Ему снова показалось, что он хочет умереть. Он считал, что завидует мертвым. Размышляя об убитых, он в конце концов начал презирать многих из них, словно они были виноваты в том, что лишились жизни. Должно быть, им просто повезло, думал он, и их убили раньше, чем они смогли убежать или прошли через настоящее испытание. Однако общественное мнение увенчает их лаврами. Он с горечью повторял, что эти лавры краденые, а героизм, который облекает их, словно мантией, — подлог. Тем не менее он продолжал жалеть, что не находится в их числе.
Поражение армии представлялось ему единственной возможностью спастись от последствий своего проступка. Все же он уже начал понимать, что думать о такой возможности бесполезно. Он с детства был приучен считать, что могучей синемундирной машине успех всегда обеспечен, что она так же легко изготовляет победы, как пуговичная машина — пуговицы. Все мечты, противоречащие этой истине, он теперь зачеркнул. Он вернулся к вере, подобающей солдату.
Когда он снова пришел к выводу, что армия непобедима, он попытался изобрести такую историю, которую мог бы рассказать товарищам, отвратив тем самым от себя острия их насмешек.
Но так как он смертельно боялся их, то все выдумки казались ему неубедительными. Он перебирал один вымысел за другим и тут же отбрасывал. Он сразу видел, какими белыми нитками они шиты.
Кроме того, он опасался, что какое-нибудь язвительное замечание пронзит его раньше, чем он успеет, как щитом, закрыться ложью.
Он представлял себе, как весь полк повторяет: «А где это Генри Флеминг? Наверно, удрал? Ну и ну!» Он уже сейчас мог назвать тех, кто не даст ему ни минуты покоя. Они, конечно, будут задавать ему издевательские вопросы и хохотать над его неуверенными, запинающимися ответами. Во время следующей атаки они постараются не спускать с него глаз, чтобы уследить, когда именно он удерет.
Проходя по лагерю, он всегда будет встречать пристальные, жестокие, наглые взгляды. Он видел, как пробирается мимо группы однополчан и кто-то говорит ему вслед: «Вот он идет!»
И сразу все, точно ими управляет одна общая мышца, поворачивают к нему лица, расплывшиеся в насмешливых улыбках. Он даже слышал чью-то сказанную вполголоса шуточку. Остальные радостно гогочут. Он станет всеобщим посмешищем.
Глава XII
Не успела скрыться войсковая колонна, которая так мужественно шла по запруженной дороге, как из лесу на поля выкатились темные волны людей. Юноша сразу понял, что в их сердцах не осталось ни капли твердости. Солдаты рвались из мундиров и снаряжения, словно из терновых зарослей. Они бежали на юношу, как стадо испуганных буйволов.
За ними вился и расползался над верхушками деревьев синий дым; порой сквозь густую листву юноша различал далекую розовую вспышку. Хор пушек не умолкал ни на минуту.
Юноша остолбенел от ужаса. Потрясенный, он смотрел широко раскрытыми, недоумевающими глазами. Он забыл, что собирался сразиться со всей вселенной, выбросил за ненадобностью неписаные правила поведения для отверженных и трактаты на тему о философии дезертирства.
Бой проигран. Драконы неотвратимо приближаются. Армия, беспомощная в лесной чаще, ослепленная надвигающимся мраком, будет проглочена врагом. Война, багровое чудовище, упившееся кровью божество, наестся до отвала.
Что-то в его душе громко кричало. Он жаждал произнести ободряющие слова, запеть боевую песню, но непослушный язык твердил одно: «Как… как… что… что… случилось?»
Вскоре он оказался в лавине беглецов. Они мчались и прыгали вокруг него. Их побелевшие лица блестели в сумерках. Казалось, они полны неиссякаемой энергии. Юноша поворачивался то к одной, то к другой несущейся фигуре, но никто не отвечал на его несвязные вопросы, никто не обращал внимания на призывы. Они как будто не видели его.
Иногда они что-то бессмысленно лопотали. Огромный детина, глядя на небо, спрашивал:
— Слушай, а где здесь мощеная дорога? Где мощеная дорога?
Можно было подумать, что он потерял ребенка. Он плакал от досады и сознания своей беспомощности.
Теперь солдаты бежали кто куда, без всякого смысла. Впереди, сзади, с флангов громыхали пушки, путая представление о пространстве. Сгустившаяся тьма скрыла приметы местности. Юноше представилось, что он попал в самый центр грандиозного сражения, и выхода оттуда для него нет. Бегущие люди задавали тысячи глупейших вопросов, но ни от кого нельзя было добиться ответа.
Юноша метался, тщетно обращаясь к оглохшим толпам отступающей пехоты, потом схватил какого-то солдата за руку. Тот обернулся, и они взглянули друг другу в лицо.
— Как… как… — заикаясь, начал юноша, но язык не повиновался ему.
— Пусти меня! Пусти! — взвыл солдат. Лицо его было мертвенно-бледно, глаза дико вращались. Задыхаясь, глотая ртом воздух, он все еще стискивал винтовку обеими руками, забыв, видимо, разжать их. Он как безумный рвался вперед, таща за собой повисшего на нем юношу.
— Пусти меня! Пусти!
— Как… как… — лепетал юноша.
— Ну так получай! — заревел солдат в яростном исступлении. Он ловко и сильно взмахнул винтовкой. Удар пришелся юноше по голове. Солдат побежал дальше.
Пальцы юноши обмякли и выпустили руку солдата. Мышцы его мгновенно ослабели, перед глазами мелькнули огненные крылья молнии, в ушах раздался оглушительный раскат грома.
У него отнялись ноги. Извиваясь, он упал на землю. Потом попытался встать. Он боролся с жестокой болью, как с неведомым существом, сотканным из воздуха.
То была страшная схватка.
Стоило ему приподняться и ударить руками по воздуху, как он снова падал, цепляясь за траву. Его посеревшее лицо покрылось испариной. Из груди вырывались глухие стоны.
Наконец, изловчившись, он встал на четвереньки, а потом и на ноги, как ребенок, который учится ходить. Сжимая ладонями виски, он побрел, спотыкаясь о стебли.
Он мучительно боролся со своим телом. Отупевшие чувства приказывали ему потерять сознание, но он упрямо сопротивлялся: ему казалось, что, если он упадет среди поля, нечто неведомое раздавит его или изуродует. Он шел, как недавно шел долговязый. Ему мерещились укромные уголки, где никто не потревожит, не повредит его тело и, чтобы найти такой уголок, он осиливал приступы боли.
Один раз он поднял руку и осторожно коснулся раны на макушке. Рвущая боль от прикосновения заставила его втянуть воздух сквозь стиснутые зубы. Пальцы его были в крови. Он долго смотрел на них.
Неподалеку сердито поскрипывала пушка: лошади, повинуясь хлысту, бешено мчали ее на передовую. Молодой офицер на заляпанном грязью коне чуть не опрокинул юношу. Отскочив, он обернулся и посмотрел на скопище пушек, людей и лошадей, которые широкой дугой устремлялись к пролому в изгороди. Офицер взволнованно размахивал затянутой в перчатку рукой. Пушки нехотя следовали за лошадьми, словно их тащили за ноги.
Офицеры из разбежавшихся пехотных частей сквернословили, как торговки рыбой. Их злобная ругань перекрывала рев орудий. В невероятную сумятицу на дороге ворвался эскадрон кавалерии. Выцветшая желтизна нашивок весело блестела. Споры и перебранки не прекращались.
Пушки все прибывали, словно созванные на совет.
Синяя вечерняя дымка одела поля. Леса казались сгустками фиолетовых теней. На западе вдоль горизонта тянулось облако, постепенно скрывая алый закат.
Юноша не прошел и нескольких шагов, как вдруг взревели орудия. Они сотрясались от неистовой ярости, выли и рычали, как дьяволы у ворот преисподней. Неподвижный воздух наполнился их громкоголосым гневом. В ответ раздался грозный ружейный залп: стреляла вражеская пехота. Обернувшись, юноша увидел, что мглистая даль позади него озаряется полосами оранжевого света. В вышине возникали какие-то вспышки и мгновенно гасли. Порой ему чудились мятущиеся толпы людей.
Он прибавил шагу. Стало так темно, что идти приходилось наугад. Фиолетовая тьма была населена людьми, которые кого-то упрекали, что-то бубнили. Иногда на фоне темно-синего неба возникали жестикулирующие силуэты. По-видимому, в лесу и в полях было великое множество людей и орудий.
Узкая лесная дорога опустела. На ней валялись опрокинутые повозки, похожие на высушенные солнцем валуны. Русло пересохшего ручья было забито искореженными частями орудий и трупами лошадей.
Юноша вдруг заметил, что его рана почти не болит. Все же он боялся двигаться быстро, чтобы не растревожить ее. Голову он держал неподвижно и старался не спотыкаться. Он был напуган, и лицо его все время напрягалось и морщилось от страха перед болью, которую мог разбередить любой неверный шаг во мраке.
Он шел, все время напряженно думая о своей ране. В ней было какое-то холодное, влажное ощущение, и ему казалось, что из-под волос сочится кровь. Голова так распухла, что стала слишком тяжела для шеи.
Его очень тревожило то, что теперь он ничего не чувствует. К тихим, но жгучим голосам боли, звучавшим раньше на его макушке, он относился как к сигналам опасности. По этим голосам он судил о своем состоянии. Но когда они зловеще замолчали, он струсил и стал думать о страшных пальцах, вцепившихся ему в мозг.
Одновременно в его памяти всплыли разрозненные картины прошлой жизни. Он припомнил кушанья, которые готовила дома его мать, особенно свои любимые блюда. Перед его глазами возник накрытый стол. Сосновые стены на кухне блестят, тепло озаренные пламенем плиты. Потом он вспомнил, как вместе с товарищами отправлялся из школы на берег тенистого пруда. Он видел свою одежду, брошенную в беспорядке на траву, всем телом ощущал ароматную прохладу воды. Низко склонившийся клен певуче шелестит листвой под ветерком раннего лета.
Постепенно им овладела тяжелая усталость, голова склонилась на грудь, плечи ссутулились, словно он тащил огромный мешок. Юноша еле волочил ноги.
Он все время решал вопрос: стоит ли ему лечь тут же на месте и уснуть или все же лучше дотащиться до какого-нибудь укромного уголка. Он пытался не думать об этом, но тело упрямо требовало своего, а чувства капризничали, как избалованные дети.
Вдруг над самым его ухом раздался веселый голос:
— Видно, тебе совсем худо, паренек?
Не поднимая глаз, юноша с трудом пробормотал:
— Угу.
Обладатель веселого голоса крепко взял его под руку.
— Вот и хорошо, — сказал он, добродушно засмеявшись. — Нам по дороге. Всем сейчас по дороге. Я тебе подсоблю.
Он вел юношу, как человек, который провожает домой подвыпившего приятеля.
По дороге незнакомец расспрашивал юношу и помогал ему отвечать, словно имел дело с малым ребенком. Порой он рассказывал какую-нибудь историю.
— Ты какого полка? Что? Триста четвертого Нью-Йоркского? А в какой корпус он входит? Да ну? А я-то думал, что его не было в сегодняшнем деле, он стоял далеко в центре. Значит, и он там был? Что ж, сегодня на всех хватило горячих пирогов. Я сколько раз считал, что тут-то мне и крышка. Там палили и здесь палили, там орали и здесь орали, а кругом тьма кромешная, так что под конец я, хоть умри, уже не мог разобрать, на какой я стороне. Иной раз я думал: «Ну ясно, я из Охайо», а потом готов был поклясться, что из самой что ни на есть Флориды. В жизни не видывал такой дьявольской каши. А эти леса кругом и вовсе с толку сбивают. Чудо будет, если мы сегодня ночью разыщем наши полки. Ну да ничего, скоро мы начнем встречать часовых, и разводящих, и черта, и дьявола. Ого! Видишь, офицера несут. Смотри, как у него рука болтается. Бьюсь об заклад, он свое отвоевал. Не станет больше толковать о своей репутации и прочей чертовщине, когда ему оттяпают ногу. Вот бедняга! У моего брата такие же бакенбарды. А как ты забрел сюда? Твой полк стоит далеко отсюда, верно? Ну, ничего, найдем. Знаешь, в моей роте сегодня убило такого парня, что лучше на всем свете не найти. Джек его звали. Парень что надо! Просто сердце горит, как подумаешь, что Джек убит наповал. У нас передышка была, и вот стоим мы себе тихонечко, а вокруг все носятся как угорелые, и тут подходит здоровенный такой, толстый парень. Берет он Джека за локоть и спрашивает: «Как тут пройти к реке?» Джек на него и внимания не обращает, а он все тянет Джека за локоть и пристает: «Как пройти к реке?» Джек вперед смотрел, старался разглядеть, не лезут ли эти черти из лесу, и он долго не обращал внимания на толстяка, потом все-таки повернулся и говорит: «Пошел ты к дьяволу, у него и узнаешь, как пройти к реке». И тут как раз пуля угодила ему в голову. Он был сержантом. И это были его последние слова. Ох, черт, хоть бы найти сегодня наши полки. Нелегкое будет дело. Но уж как-нибудь найдем.
Во время этих поисков юноше казалось, что у человека с веселым голосом есть волшебная палочка. Он выбирался из лабиринта зарослей с удивительной ловкостью. При встречах с часовыми и патрулями он обнаруживал сметливость сыщика и отвагу сорвиголовы. Даже препятствия, и те становились для него подмогой. Свесив голову на грудь, юноша безучастно следил за тем, как тот без труда справляется с враждебной природой.
Лес казался огромным жужжащим ульем; люди бестолково носились в нем по каким-то безумным кругам, но веселый человек уверенно вел юношу. Наконец он радостно и самодовольно засмеялся:
— Ну, вот и пришли. Костер видишь?
Юноша тупо кивнул.
— Вон там и стоит твой полк. А теперь прощай, парень, желаю удачи.
Горячая и сильная рука на секунду сжала вялые пальцы юноши, затем раздался веселый, беззаботный свист. И когда тот, кто так дружески помог ему, навсегда скрылся из его жизни, юноша вдруг сообразил, что ни разу не видел лица этого человека.
Глава XIII
Юноша медленно побрел на свет костра, к которому его привел ушедший друг. Еле передвигая ноги, он думал о предстоящей встрече с товарищами. Он был убежден, что сейчас пернатые стрелы насмешек вонзятся в его наболевшее сердце. У него не осталось сил на выдумки. Он будет прекрасной мишенью.
Его смутно тянуло уйти в темноту и спрятаться, но голоса усталости и боли удерживали его. Недомогание требовало, чтобы он во что бы то ни стало отыскал пищу и кров.
Он нетвердо шагал к костру. Силуэты солдат, озаренных алым светом, отбрасывали черные тени. Когда юноша подошел ближе, какое-то чувство подсказало ему, что кругом на земле спят люди.
Вдруг перед ним выросла чудовищная черная тень. Сверкнул ствол винтовки.
— Стой! Стой!
Он испугался, но затем уловил знакомые нотки в этом встревоженном голосе.
— Это… это ты, Уилсон? — стоя под дулом винтовки, позвал он.
Винтовка чуть-чуть опустилась. Вглядываясь в лицо юноши, горластый сделал несколько шагов ему навстречу.
— Генри?
— Да, это… это я.
— Ох, друг, ну и рад же я тебе! А я уже распрощался с тобой. Думал, ты убит. — Горластый даже охрип от волнения.
У юноши подкашивались ноги. Его силы внезапно иссякли, но он считал, что, если сию секунду не придумает какой-нибудь правдоподобной истории, безжалостные товарищи осыплют его градом издевательств.
— Да, да… я… я попал в страшный переплет… — шатаясь, заговорил он. — Я все время был там… С правой стороны. Такое пекло… Я попал в переплет… Отбился от полка… Там, справа, меня и ранило… В голову. Ну и пекло! Ужасный переплет… И как только меня угораздило отбиться от полка?.. И к тому же я был ранен…
Его друг подскочил к нему.
— Как? Ты ранен? Что же ты сразу не сказал! Ах ты бедняга! Нужно… Погоди минутку… Как же мне быть? Ага! Позову Симпсона.
В это мгновение из темноты возникла вторая фигура. Они разглядели капрала.
— С кем это ты разговариваешь, Уилсон? — сердито спросил он. — С кем ты разговариваешь? Такого паршивого часового, как ты… Батюшки! Это ты, Генри? А я-то думал, что ты давным-давно уже покойник. Господи боже мой! Каждые десять минут кто-нибудь да возвращается. По подсчетам мы потеряли сорок два человека, но если так будет продолжаться, к утру вся рота окажется в сборе. Где ты был?
— Справа. Я отбился… — довольно развязно начал было юноша, но горластый поспешно перебил его.
— Да, и он ранен в голову, и ему нехорошо, и нужно поскорее перевязать его.
Переложив винтовку в левую руку, он правой рукой обнял юношу за плечи.
— Ох, и больно же, наверно, тебе! — сказал он.
Юноша тяжело оперся о плечо друга.
— Да, больно, очень больно, — слабеющим голосом ответил он.
— Вот оно что! — С этими словами капрал подхватил юношу под руку и потянул за собой. — Идем, Генри. Я помогу тебе.
— Ты укрой его моим одеялом, Симпсон! — крикнул им вслед горластый. — И погоди минуту — вот моя манерка. В ней кофе. Взгляни при свете, какая у него там рана на голове. Может, очень опасная. Меня сменят через несколько минут, и уж тогда я присмотрю за ним.
Чувства юноши так притупились, что голос друга еле доносился до него и он почти не ощущал руки капрала. Он пассивно подчинялся силе, куда-то увлекавшей его. Голова его опять свесилась на грудь, ноги подгибались.
Капрал подвел его к костру.
— Ну-ка, Генри, — сказал он, — дай взглянуть на твою голову.
Юноша покорно сел, и капрал, положив винтовку на землю, начал разбирать его густые волосы. Он повернул голову юноши так, что вся она была освещена пламенем костра. Капрал критически оттопырил губы, потом подобрал их и свистнул, потому что его пальцы нащупали запекшуюся кровь и странной формы рану.
— Вот она где, — сказал он и осторожно продолжал обследование. — Так я и думал, — добавил он немного спустя. — Тебя оцарапало пулей. Шишка такая, будто тебя дубиной стукнули. Кровь уже не течет. Утром десятый номер кепи будет тебе мал, вот и все. И голова станет горячая и сухая, как паленая, свинина. И еще могут быть всякие неприятности. Кто его знает. Но я так полагаю, что ничего худого не будет. Про, сто здоровая гуля на голове, и все. Ты посиди тут смирно, я пойду сменю часовых. Потом пришлю Уилсона — пусть он побудет с тобой.
Капрал ушел. Юноша продолжал сидеть на земле, похожий на куль с мукой. Пустыми глазами он смотрел на огонь.
Потом он начал приходить в себя, и тогда предметы вокруг него стали вновь обретать форму. Он увидел, что на окутанной мраком земле спят люди в самых немыслимых позах. Вглядываясь в темноту, он и поодаль различал лица, бледные и жуткие, как-то странно фосфоресцирующие. Они были так бессмысленны, что, казалось, в лесу спят не измученные солдаты, а упившиеся гуляки. Пролети в эту минуту над ними ангел, он решил бы, что тут недавно бушевал омерзительный разгул.
Напротив юноши, по другую сторону костра, сидел прямой, как струна, офицер. Он крепко спал, опираясь спиной о ствол дерева, и его поза была на редкость неустойчива. Очевидно, его мучили кошмары, потому что он вздрагивал и качался из стороны в сторону, как старый дед, хвативший лишнего и задремавший у камелька. Лицо его было пыльно и грязно, нижняя челюсть отвисла, словно у него не хватало сил держать ее в нормальном положении. Он был олицетворением солдата, обессиленного пиром, который задала война.
Он уснул, надо полагать, сжимая в руках саблю. Сперва они так и спали, обнявшись, но потом сабля незаметно соскользнула на землю. Отделанная бронзой рукоять лежала на тлеющих углях.
Розовато-оранжевый свет костра озарял и других солдат, которые то тяжело дышали и всхрапывали, то лежали так тихо, словно они уже были мертвы. Из-под одеял торчали прямые и неподвижные ноги, башмаки, облепленные глиной и покрытые дорожной пылью, штанины, распоровшиеся по швам, изорванные колючим терновником, через который пришлось поспешно продираться их владельцам.
Костер мелодично потрескивал. Над ним вился дымок. Вверху тихо колебались ветви. Листья, повернувшись лицевой стороною к огню, отливали серебром, кое-где переходящим в багрец. Справа, сквозь далекий просвет в деревьях, виднелись звезды, брошенные, точно пригоршня блестящих голышей, на черную гладь ночи.
Порою в этом зале с низко нависшими сводами какой-нибудь солдат приподнимался и тотчас опять укладывался, но уже по-иному, так как во сне он успел изучить все неровности, все кочки своей земляной постели. Или же он садился, секунду растерянно моргал, уставившись на костер, бросал быстрый взгляд на простертых товарищей и опять валился, сонно хрюкнув от удовольствия.
Юноша неподвижно сидел, словно забытый мешок, пока не вернулся его друг; в каждой руке у горластого было по манерке, и он помахивал ими на ходу, держа за веревочные ручки.
— Ну, Генри, — сказал он, — сейчас мы в одну минуту приведем тебя в порядок.
У него были суетливые ухватки фельдшера-любителя. Он разворошил сучья в костре, а когда они запылали, заставил своего пациента напиться кофе. Юноше оно показалось божественным напитком. Закинув голову, он долго не отнимал манерку от губ. Прохладная влага ласково струилась по его пересохшему горлу. Допив, он облегченно и радостно вздохнул.
Горластый с довольным видом взирал на товарища. Потом он вытащил из кармана огромный носовой платок, сложил его полоской и середину обмакнул в манерку с водой. Этой примитивной повязкой он обмотал голову юноши, завязав концы на затылке причудливым узлом.
— Вот так, — сказал он, отходя и любуясь делом своих рук. — Ты похож на черта, но бьюсь об заклад, что теперь тебе полегчало.
Юноша благодарно смотрел на друга. Голова у него распухла и болела; влажный платок казался ему нежной женской рукой.
— Скажи пожалуйста, ни разу не охнул, — сказал горластый. — Фельдшер из меня вроде как из медведя, а ты и не пискнул. Молодчина ты, Генри! Другие на твоем месте давно улепетнули бы в госпиталь. Ранение в голову — нешуточное дело.
Юноша, не отвечая, начал теребить пуговицы на мундире.
— Ну хорошо, — продолжал его друг, — пойдем, я тебя уложу. Тебе нужно как следует отдохнуть.
Юноша осторожно встал, и друг повел его между рядами спавших вповалку солдат. Потом он остановился и поднял свои одеяла. Резиновое он расстелил на земле, шерстяное бросил юноше на плечи.
— Ну вот, — сказал он. — Ложись и постарайся уснуть.
Юноша со своей теперешней собачьей покорностью улегся по-старушечьи осторожно и медленно. Вытянувшись, он что-то блаженно пробормотал.
— Погоди минуту. А где будешь спать ты? — вдруг встрепенулся он.
Друг нетерпеливо махнул рукой.
— Да здесь же, возле тебя.
— Нет, погоди минуту, — не отступался юноша. — На чем ты будешь спать? Ты мне отдал свои…
— Заткнись и спи! — рявкнул горластый и строго добавил — Не валяй дурака.
После такой отповеди юноша умолк. Им овладело чудесное дремотное оцепенение. Разнеженный мягким теплом одеяла, он уткнулся в согнутую руку и не спеша сомкнул отяжелевшие веки. Услышав отдаленное щелканье ружейных выстрелов, он с равнодушным удивлением подумал, что эти люди, должно быть, никогда не спят, потом глубоко вздохнул, свернулся калачиком и через мгновение уже ничем не отличался от своих товарищей.
Глава XIV
Юноша проснулся с таким ощущением, словно он проспал тысячу лет и теперь его глазам откроется небывалый мир. Серый туман медленно рассеивался под натиском первых солнечных лучей. Небо на востоке с каждой секундой разгоралось все ярче. Когда юноша приподнялся, ледяная роса обожгла ему лицо, и он немедленно опять завернулся в одеяло. Он лежал, не отрывая взгляда от листвы, колеблемой ветерком — глашатаем утра.
Грохот сражения наполнял и раскалывал даль. В этих звуках было такое убийственное постоянство, как будто они существовали и будут существовать вечно.
Вокруг юноши спали вповалку те солдаты, которых он смутно видел накануне ночью. Они жадно глотали перед пробуждением последние капли отдыха. В призрачном свете четко рисовались измученные лица, впалые щеки, грязные мундиры; заря окрашивала кожу солдат в трупные тона, подчеркивала безжизненную вялость раскинутых рук и ног. Юноша вскрикнул, — увидев множество зелено-бледных людей, неподвижно и неестественно распростертых на земле: его неуравновешенное воображение приняло опушку леса за огромный морг. Поверив на секунду, что он попал в обитель мертвых, юноша замер: он боялся, что стоит ему шевельнуться — и трупы с воем и визгом вскочат на ноги. Опомнившись, он затейливо выругался по своему адресу: он сообразил, что эта мрачная картина не столько реальность, сколько пророчество.
Он услышал потрескиванье горящих сучьев, звонко разносившееся в холодном воздухе, и, повернув голову, увидел своего друга, хлопотавшего возле небольшого костра. Еще несколько человек двигались в тумане; слышались гулкие удары топора.
Внезапно прозвучала глухая барабанная дробь. Где-то негромко пропела труба. Дальние и ближние закоулки леса огласились такими же звуками, то тихими, то громкими. Горнисты перекликались, как медногорлые бойцовые петухи. Совсем рядом загремели полковые барабаны.
Спящие солдаты заворочались. Один за другим они приподнимали головы с земли. Лес наполнился бормотанием человеческих голосов, в котором преобладали низкие ноты проклятий: люди обвиняли каких-то неведомых богов в том, что на войне приходится вставать в такую рань. Начальственно прозвенел офицерский тенорок, и окоченевшие солдаты задвигались быстрее. Лежащие вповалку тела отделились друг от друга, лица трупного цвета скрылись за кулаками, которые медленно ввинчивались в глазницы.
Юноша сел и во весь рот зевнул.
— Черт! — капризно сказал он. Он протер глаза и, подняв руки, осторожно обследовал повязку. Его друг, заметив, что он проснулся, отошел от костра.
— Ну, как ты сегодня, старик? — спросил он.
Юноша снова зевнул, потом недовольно надулся. У него тупо ныло под ложечкой, а голова была тяжелая, как дыня.
— О господи! Хуже не бывает.
— Черт! — воскликнул горластый. — А я-то думал, что утром ты будешь в порядке. Дай-ка я посмотрю повязку: кажется, она сползла.
Он так неловко копошился в ране, что юноша не выдержал.
— Будь ты неладен! — раздраженно выругался он. — Не человек, а медведь! Что у тебя там, руки или копыта? Не можешь полегче, что ли? Лучше бы по мне из пушек стреляли, чем такая помощь. Не торопись — не гвозди вбиваешь!
Сверкая глазами, он грубо покрикивал на друга, а тот старался его утихомирить:
— Ладно, ладно, пойдем! Заморишь червячка, может веселее станет.
У костра горластый ухаживал за ним, как заботливая, нежная нянька. Он хозяйственно поставил рядом черные жестяные походные кружки и налил в них из закопченного жестяного ведерка дымящуюся жидкость чугунного цвета. Ему удалось раздобыть свежее мясо, и он быстро поджарил его, насадив вместо вертела на палочку.
Потом он сел, удовлетворенно глядя, как юноша уплетает его стряпню.
Юноша отметил про себя, что с того дня, как они покинули лагерь на берегу реки, его товарищ очень переменился. Он уже не любовался собственной доблестью, не приходил в ярость от любого замечания, уязвлявшего его тщеславие. В нем появилось спокойное самообладание. Он перестал быть горластым юнцом. Теперь он твердо знал, чего хочет и что ему по силам. Видимо, эта уверенность в себе и помогала ему не обращать внимание на колкости товарищей.
Юноша задумался. Он всегда считал, что его друг — шумливый мальчишка-сорванец, привыкший задирать нос у себя на ферме, храбрый по неопытности, полный показной отваги, беспечный, упрямый и самолюбивый. Юноша не мог понять, почему так изменился его взгляд на мир и когда он успел сделать великое открытие, что на свете немало людей, которые вовсе не собираются ему подчиняться. Очевидно, друг юноши, взобравшись на высокий утес мудрости, обнаружил, до чего сам он мал и ничтожен. Юноша понял, что теперь иметь дело с ним куда приятнее, чем прежде.
Тем временем его товарищ покачивал на колене черную от копоти кружку.
— Слушай, Генри, — заговорил он, — как ты думаешь, какие у нас шансы? Думаешь, мы разобьем их?
Юноша секунду подумал.
— Третьего дня, — резко ответил он, — ты побился бы об заклад, что самолично справишься со всей их сворой.
Тот с некоторым удивлением посмотрел на юношу.
— Да ну? — спросил он и погрузился в размышление. — Может, ты и прав, — вымолвил он наконец. Он смиренно уставился на огонь.
Юноша был сбит с толку таким неожиданным ответом.
— Нет, конечно, это я так сказал, — попытался он взять назад свои слова.
Но тот сделал просительный жест.
— Не извиняйся, Генри. Видно, я был тогда болван болваном. — Он говорил так, словно с тех пор прошли годы.
Они помолчали.
— Офицеры рассказывают, что мы взяли мятежников в клещи, — прервал молчание друг юноши, откашлявшись, как ни в чем не бывало. — Они вроде считают, что мы завели их, куда нам нужно.
— Насчет этого ничего не знаю, — ответил юноша. — Но судя по тому, что я видел на правом фланге, они зря это болтают. С того места, где я был, все выглядело так, будто это нам задали вчера хорошую трепку.
— Ты думаешь? А мне казалось, мы вчера здорово им всыпали.
— Ничего не всыпали. Господи, ты же просто не видел сражения. — Внезапно юноша вспомнил. — Ох! Ведь Джим Конклин убит.
— Что? Убит? Джим Конклин? — вздрогнув, спросил его друг.
— Да. Убит. Ему прострелили грудь, — медленно произнес юноша.
— Не может быть. Джим Конклин… Не повезло бедняге.
Кругом пылали другие костры, у которых сидели солдаты с черными кружками в руках. Вдруг послышались громкие проклятия. У одного из ближних костров двое проворных парней дразнили огромного бородатого детину, подталкивая его с двух сторон так, что он все время проливал кофе на свои синие штаны. Детина разъярился и со вкусом выругался. Тогда обиженные мучители начали осыпать свою жертву злобной и несправедливой бранью. Назревала драка.
Друг юноши встал и пошел к ним, миролюбиво помахивая руками.
— Ну, к чему это, ребята? — сказал он. — И часу не пройдет, как мы схватимся с мятежниками, зачем же нам еще драться между собой?
— Иди ты с твоей проповедью знаешь куда!.. — набросился на него один из проворных парней, побагровев от бешенства. — Чарли Морган отколошматил тебя, и теперь, конечно, драки тебе не по нутру. Не суй носа не в свое дело. Другим тоже не советую вмешиваться.
— А я и не собираюсь, — добродушно ответил тот. — Только не могу я спокойно смотреть…
Тут поднялся общий крик.
— Он… — вопили проворные, возмущенно тыча пальцами в противника.
Бородатый детина стал совсем лиловым от гнева.
— Они… — Он показывал на проворных рукой, похожей на клешню.
Но пока они орали друг на друга и обменивались крепкими словечками, желание пустить в ход кулаки начало постепенно остывать. Друг юноши вернулся на свое место, а трое спорщиков у соседнего костра уселись тесным кружком.
— Джимми Роджерс требует, чтобы я дрался с ним сегодня вечером после сражения, — усаживаясь, сказал друг. — Он не желает, чтобы совали нос в его дела. А я не могу смотреть, когда ребята дерутся между собой.
Юноша рассмеялся.
— Здорово же ты изменился. Совсем стал другой. Помнишь, как ты с тем ирландцем… — Он не кончил и снова рассмеялся.
— Верно, я был другим, — задумчиво произнес тот. — Это ты правду сказал.
— Я не хотел… — начал было юноша.
Друг опять сделал просительный жест.
— Не извиняйся, Генри.
Они помолчали.
— Полк потерял вчера почти половину людей, — как бы между прочим заметил друг. — Я, конечно, считал, что они убиты, но они всё возвращались и возвращались этой ночью, так что, выходит, мы потеряли только нескольких человек. Остальные отбились, бродили по лесам, сражались в других полках, кому как пришлось. В общем, как ты.
— Да? — сказал юноша,
Глава XV
Приставив ружья, полк ожидал на краю поляны приказа выступить, когда юноша вдруг вспомнил о пакетике в желтой выцветшей оберточной бумаге; этот пакетик вручил ему горластый, что-то мрачно бормоча при этом. Юноша резко выпрямился и с неразборчивым восклицанием повернулся к товарищу.
— Уилсон!
— Что?
Его друг стоял рядом с ним в шеренге и задумчиво смотрел на дорогу. Лицо его почему-то выражало в эту минуту глубокое смирение. Юноша покосился на него и передумал.
— Ничего! — сказал он.
— Ты что-то хотел сказать?
— Ничего! — повторил юноша.
Он решил пощадить товарища. Достаточно и самого факта. Незачем добивать человека этим злосчастным пакетом. К тому же он боялся расспросов, понимая, какую брешь они пробьют в его душевном равновесии. Пройдет время, думал юноша, и товарищ, который так изменился, перестанет терзать его своим неотвязным любопытством, но сейчас, в первую же свободную минуту, он обязательно начнет приставать с просьбой рассказать о происшествиях вчерашнего дня.
Юноша радовался, что у него в руках маленькое оружие, которое можно пустить в ход, как только тот захочет учинить ему допрос. Теперь он хозяин положения, он будет издеваться и острить.
В минуту слабости друг, всхлипывая, заговорил о своей смерти. Не дожидаясь похорон, он сам себе произнес печальное надгробное слово и, надо полагать, вложил в пакет с письмами мелкие подарки родным. Но он не умер и теперь оказался во власти юноши.
Хотя юноша был исполнен сознания своего превосходства над другом, все же, снисходя к его слабостям, он обращался с ним добродушно-покровительственно.
К нему полностью вернулось самоуважение, под раскидистой сенью которого он стоял на ногах твердо и устойчиво. Поскольку теперь ничто не могло выплыть наружу, юноша уже не боялся посмотреть в глаза судей и не позволял себе никаких мыслей, несовместимых с принятой им позой мужественности. Раз его проступок никому неведом, значит, он по-прежнему мужчина.
Более того — вспоминая о своей вчерашней удаче, оценивая ее со стороны, он находил в ней нечто необыкновенное. У него есть все основания пыжиться и разыгрывать из себя опытного вояку.
О недавних своих страданиях он предпочитал не думать.
Теперь он считал, что только пасынки судьбы выкладывают в таких обстоятельствах правду. Нормальные люди предпочитают помалкивать. Человек, уважающий себя и своих товарищей, не должен высказывать свое возмущение вслух, даже когда он замечает какой-то непорядок во вселенной или в обществе. Пусть бранятся недотепы; остальные в это время развлекаются игрой в камешки.
Он не слишком задумывался о битвах, предстоящих ему в недалеком будущем. Нечего ломать себе голову над тем, как он будет вести себя. Он твердо усвоил, что можно без труда избежать выполнения многих жизненных обязательств. Вчерашний день показал, что возмездие неповоротливо и слепо. К чему же тогда лихорадочно размышлять о том, что принесут ему ближайшие сутки? Пусть решает случай. Кроме того, в нем тайно проросла вера в свою звезду, распустился цветок самонадеянности. Он теперь мужчина с немалым опытом. Он встретился с драконами, и они не так страшны, как он думал. К тому же они неловки: их ударам не хватает меткости. Твердые духом часто сами бросают им вызов и благодаря этому избегают опасности.
Да его и нельзя убить, потому что он избранник богов и предназначен судьбой для великих дел.
Он помнил, как бежали многие солдаты с поля боя. Он видел их искаженные ужасом лица и глубоко презирал их. Обстоятельства не оправдывали ни такой резвости, ни такого страха. Они были слабодушными смертными. А он, даже удирая, сохранял достоинство и выдержку.
Из этого раздумья юношу вывел его друг, который все время переминался с ноги на ногу, уставившись на деревья. Наконец он кашлянул в виде вступления и позвал:
— Флеминг!
— Что?
Друг приложил руку ко рту, поежился и снова кашлянул.
— Слушай, — сказал он, глотая слюну, — пожалуй, верни мне эти письма. — Темный жгучий румянец залил его лоб и щеки.
— Как хочешь, Уилсон, — сказал юноша. Расстегнув две пуговицы на мундире, он вытащил и протянул другу пакет. Тот взял его, отвернувшись.
Юноша доставал пакет с нарочитой медлительностью, стараясь придумать какое-нибудь насмешливое замечание. Но ему не пришло в голову ничего остроумного, и он выпустил из рук пакет, а с ним и друга, которого так и не удалось уязвить. Тут же он похвалил себя за это. Он поступил благородно.
Стоя рядом с ним, его друг испытывал, видимо, мучительный стыд. Взглянув на него, юноша почувствовал себя еще более сильным и стойким. Ему никогда не приходилось так краснеть за свои поступки. Он наделен незаурядными достоинствами.
«Вот ведь бедняга! — подумал он со снисходительной жалостью. — Должно быть, ему здорово не по себе!»
После этого происшествия, перебирая в уме недавно виденные сцены сражения, он пришел к выводу, что теперь вполне может вернуться домой и воспламенить сердца сограждан рассказами о военных подвигах. Вот он сидит в комнате, окрашенной в теплые тона, и повествует собравшимся о пережитом в боях. Вот он показывает им свой лавровый венок. Конечно, не велика важность — венок, но в округе, где лавры — редкость, он произведет впечатление.
Он уже видел затаивших дыхание слушателей, которым нарисует потрясающие картины. Центральной фигурой этих картин будет он сам. И он представлял себе, с какой жадностью станут ловить его слова мать и та девушка из школы и какие испуганные восклицания будут у них вырываться. Он поколеблет смутные женские представления о любимых, совершающих подвиги на поле брани без риска для жизни.
Глава XVI
Вдали по-прежнему трещали ружейные залпы. Потом в пререкания вступили пушки. Их голоса гулко отдавались в туманном воздухе. Эхо не умолкало. Эта часть земного шара жила странной, воинственной жизнью.
Полк юноши был послан на смену части, долго пролежавшей в сырых окопах. Люди залегли позади волнистой линии стрелковых гнезд, которая, точно борозда, проведенная плугом, окаймляла опушку леса. Перед ними была просека, покрытая низенькими кривыми пнями. Из дальнего окутанного туманом леса глухо доносилась ружейная стрельба пехоты и разведчиков. Справа что-то устрашающе бухало и рокотало.
Устроившись поудобнее за маленькими насыпями, солдаты ждали своей очереди. Многие повернулись спиной к неприятелю. Друг юноши лег ничком, уткнувшись лицом в руки, и сразу уснул.
Припав грудью к бурой влажной земле, юноша старался разглядеть, что происходит на флангах и в лесу. Ему мешал заслон из деревьев. Он различал только неглубокие траншеи, несколько лениво развевающихся знамен, воткнутых в земляные холмики, ряды темных фигур, да кое-где над насыпями головы любопытных.
В лесу напротив и слева все время стреляли; справа грохот достиг неслыханной силы. Орудия ревели, не переводя дыхания. Казалось, пушки, собранные со всего мира, затеяли здесь чудовищную ссору. Разговаривать было невозможно.
Юноше хотелось сострить — привести к месту цитату из газет: «На Раппахэнноке все спокойно». Но пушки не желали, чтобы кто-нибудь подшучивал над их ревом. Так и не удалось ему договорить фразу до конца.
Наконец орудия замолчали, и от окопа к окопу начали вновь, как птицы, перелетать слухи; только теперь это были черные твари, которые, неуклюже хлопая крыльями, проносились над самой землей и не желали подниматься ввысь на крыльях надежды. Наслушавшись всяких небылиц, солдаты помрачнели. До них дошли рассказы о нерешительности тех людей, которые несли бремя власти и ответственности, а все, чему они были свидетелями, казалось подтверждало истории о непоправимом крахе. Гром ружейной стрельбы справа становился все громче, словно там бушевал выпущенный на волю сам бог звука; эта пальба лишний раз подчеркивала безнадежное положение армии.
Солдаты пришли в уныние и начали роптать. Их жесты говорили красноречивее слов: «Мы-то что теперь можем сделать!» Они были потрясены слухами и никак не могли примириться с вестями о разгроме.
Солнечные лучи еще не рассеяли серой завесы тумана, а полк растянутой колонной уже отступал через лес. Вдали, за рощами и полосками полей, мелькали порой беспорядочные, суетливые толпы врагов. Они пронзительно и торжествующе вопили.
Увидев это, юноша забыл о своих собственных заботах и пришел в бешенство. То и дело он громко возмущался:
— Наши командиры настоящие олухи, будь они прокляты!
— Это, собственно, уже всем известно, — заметил кто-то.
Друг юноши, которого недавно разбудили, никак не мог прийти в себя. Он все оглядывался назад, пока до его сознания не дошло, что они отступают.
— Выходит, нас побили, — печально сказал он.
Юноша чувствовал, что ему не пристало вслух осуждать других. Он пытался сдержаться, но горькие слова сами слетали с языка. Он произнес длинную и запутанную обвинительную речь по адресу главнокомандующего.
— Может, он не так уж виноват, не он один виноват. Он сделал, как считал лучше. Такое наше счастье — постоянно отступать, — устало сказал его друг. Он брел, потупившись, ссутулив плечи, как человек, которого побили палками и выгнали.
— А разве мы не деремся как черти? Разве не делаем все, что в человеческих силах? — выкрикнул юноша и тут же втайне испугался. Лицо его вдруг потускнело; он виновато оглянулся. Но никто не оспаривал его права говорить такие слова, и он опять принял воинственный вид. Он даже повторил фразу, которая утром на привале облетела всех:
— Сказал же бригадный, что никогда ни один новый полк не дрался лучше нас! И, наверно, есть еще полки, которые вели себя не хуже. Значит, армия не виновата?
— Конечно, не виновата, — суровым тоном ответил его друг. — Никто не посмеет сказать, что мы не дрались как черти. Никто никогда не посмеет этого сказать. Ребята дрались как бешеные. И все-таки… все-таки нам не везет.
— Ну, раз мы деремся как черти, а неприятель стоит как вкопанный, значит, виноваты генералы, — самодовольно и решительно сказал юноша. — И я не понимаю, какой смысл сражаться, и сражаться, и сражаться, и терпеть поражение за поражением из-за какого-то старого тупицы-генерала.
— Да ты небось воображаешь, Флеминг, что все вчерашнее сражение вынес на своих плечах, — с ленивым сарказмом заметил солдат, который шел рядом с юношей.
Эти случайные слова пронзили юношу. Он весь как-то обмяк. Ноги у него подкосились. Он робко взглянул на саркастического солдата.
— Нет, нет, — примирительно забормотал он, — вовсе я этого не думаю. Я так только…
Но тот, видимо, ничего не знал и ничего худого не думал. Просто у него была такая манера.
— Да ну? — лениво усмехнулся он.
Тем не менее юноша принял это как сигнал тревоги. Он замолчал, ибо разум его отказывался идти навстречу опасности. Слова насмешника сбили с него спесь; ему уже не хотелось все время вылезать вперед. Он сразу присмирел.
Солдаты тихонько переговаривались. Офицеры раздраженно покрикивали и хмурились, слушая эти непрестанные толки о поражении. Войска угрюмо пробирались лесом. Когда в роте юноши кто-то громко расхохотался, человек десять оглянулись на смеющегося с молчаливым укором.
Гул выстрелов преследовал их по пятам. Порой он как будто немного отступал, но потом вновь начинал терзать их с удвоенной наглостью. Люди злобно оглядывались и чертыхались.
Наконец они остановились на поляне. Полки и бригады, оторвавшиеся друг от друга во время марша по густым зарослям, снова сомкнулись и заняли оборону лицом к вражеской пехоте, догонявшей их с неумолчным лаем.
Эти неотвязные звуки, это рычание рвущихся вперед металлических псов — все слилось в ликующий рев, но в ту минуту, когда солнце приветливо взошло на небеса, пронизав лучами тенистые заросли, он раскололся на отдельные громовые раскаты. Лес затрещал, словно охваченный пожаром.
— Ух ты как! — сказал кто-то. — Здорово! Ну и пекло, будь я проклят!
— Так я и думал, что как только взойдет солнце, они пойдут в наступление, — буркнул ротный лейтенант юноши. Он свирепо подергал свои усики. С суровым достоинством он расхаживал позади своих солдат, залегших за жалкими прикрытиями, которые они успели соорудить.
Артиллеристы, установив в тылу полка батарею, начали старательно пристреливаться. Еще не подвергшийся обстрелу полк ждал мгновения, когда серые тени деревьев перед ним будут прорезаны огненными языками. Люди ругались и брюзжали.
— Господи! — ворчал юноша. — Всегда-то нас загоняют в угол, как крыс. Меня прямо тошнит от этого. Никто и знать не хочет, куда мы идем и зачем идем. Стреляют то справа, то слева, то здесь, то там, и никто не знает, почему и зачем. Чувствуешь себя как котенок в мешке. Пусть мне кто-нибудь объяснит, на кой черт нас привели в этот лес. Чтобы устроить подходящую мишень для мятежников? Мы приходим сюда, и путаемся в этом проклятом шиповнике, и собираемся сражаться, когда они уже овладели положением. И пусть мне не говорят, что это невезение. Я-то знаю! Этот старый черт…
Хотя друг, видимо, еле держался на ногах, он перебил юношу и сказал спокойно и уверенно:
— Все кончится как надо.
— Держи карман шире! И не читай мне своих дурацких проповедей. Нечего сказки рассказывать. Уж я-то знаю…
Но тут сердитый лейтенант, которому необходимо было дать выход накопившемуся раздражению, перебил его:
— Помолчите, ребята! Нечего вам попусту рассуждать о том и о сем. Кудахтаете, как старые курицы. Ваше дело маленькое — воевать с мятежниками, а через десять минут их тут будет хоть отбавляй. Поменьше болтать и побольше драться — зарубите это у себя на носу. И откуда только берутся такие болтливые ослы!
Он умолк и стоял, готовый накинуться на всякого, кто осмелится возразить ему. Но все молчали, и он снова начал с достоинством расхаживать взад и вперед.
— Слишком много шума и слишком мало дела на этой войне, — добавил он, взглянув на них.
Солнце поднялось выше и залило лучами кишащий людьми лес. До позиции, где укрылся полк юноши, донесся еле уловимый запах боя. Передовые части слегка передвинулись, чтобы стойко встретить врага. Они ждали. Медленно ползли напряженные мгновения, предшествующие буре.
Одинокая пуля впилась в кустарник перед окопами. За ней тотчас же последовали другие. Лес загудел от хруста и треска, слившихся в мощный гимн. Вражеские снаряды, как репейник, летели в батарею, установленную позади; пушки проснулись и, разгневанные, вступили в отвратительную перепалку с нападающей бандой неприятельских орудий. Гул сражения превратился в гром, в непрерывный, неумолкающий раскат грома.
Странная тревога охватила солдат, исказив их лица. Люди издергались, измучились, недоспали, перетрудились. Они стояли, ожидая удара, глядя на близящееся сражение. Иные дрожали и невольно отшатывались. И все же они стояли на месте, стояли, словно прикованные к столбу.
Глава XVII
Юноше казалось, что враги приближаются, как беспощадные охотники. Он весь кипел от гнева, топал ногой и злобно скалил зубы навстречу клубящемуся дыму, который устремлялся на него, словно некий призрачный поток. Противник явно решил не давать ему ни минуты передышки, ни минуты на то, чтобы сесть и подумать. Было от чего взбеситься. Вчера он сражался и без оглядки убежал. У него было много приключений. Он заслужил сегодня право отдохнуть и поразмыслить. Ему хотелось рассказывать неискушенным слушателям о том, чему он был свидетелем, или глубокомысленно обсуждать перспективы войны с другими бывалыми солдатами. Кроме того, он должен был восстановить свои силы. После вчерашнего у него ныли все кости. Он достаточно потрудился, пора и отдохнуть.
Но враги были неумолимы; они продолжали сражаться в прежнем темпе. Юноша люто их ненавидел.
Вчера, когда ему казалось, что на него ополчился весь мир, он возненавидел его богов — и больших и малых. Сегодня он так же страстно ненавидел неприятельскую армию. Он не допустит, чтобы его терзали, как мальчишки терзают котенка, твердил себе юноша. Не следует припирать людей к стене: в такие минуты у самых кротких вырастают когти и клыки.
Он наклонился к другу и прошептал ему, грозя лесу кулаком:
— Если они и дальше будут наседать на нас, пусть пеняют на себя. Нельзя так испытывать терпение людей.
Тот взглянул на него снизу вверх и спокойно ответил:
— Если они и дальше будут наседать, то сбросят нас в реку.
Юноша прямо взвыл от этого замечания. Он стоял, скорчившись, за деревцом, злобно сверкая глазами, по-собачьи ощерясь. На нем все еще была неудобная повязка с темным пятном запекшейся крови. Волосы у него стояли дыбом, и несколько непокорных прядей болталось над повязкой. Мундир и рубашка были расстегнуты, обнажая загорелую юношескую шею. Он судорожно глотал слюну.
Его пальцы нервно вцепились в ружье. Как ему хотелось, чтобы оно обладало всесокрушающей мощью!* Враги смеются, издеваются над ним и его товарищами, убежденные в их слабости и ничтожности. Юноша понимал, что не может отомстить им за это, и, захлестнутый гневом, темным и буйным, как злой дух, совершал в воображении неслыханные жестокости. Эти изверги были комарами, алчно пьющими его кровь, и ему казалось, что он с радостью отдаст жизнь, лишь бы воздать им по заслугам и увидеть их лица, искаженные гримасами ужаса.
Ветер войны бушевал вокруг полка, и вот уже над головами солдат просвистела пуля, за которой мгновенно последовали другие. Тотчас же прогремел дружный, достойный ответ полка. Густая завеса дыма медленно опустилась на землю. Острые, как ножи, вспышки ружейного огня резали ее и кромсали.
Солдаты представлялись юноше животными, сгрудившимися для смертельной схватки на дне черного рва. Ему чудилось, что он и его товарищи, прижатые к стене, яростно бодаются, отражая бешеный натиск каких-то скользких, изворотливых существ, которые, ловки уклоняясь от ударов огненных рогов, с непревзойденным искусством ускользают от смерти.
Когда у юноши смутно, словно во сне, мелькнула мысль, что его ружье стоит не больше, чем обыкновенная палка, он окончательно забыл обо всем, кроме своей ненависти, кроме жажды размозжить сверкающую улыбку торжества, которую он угадывал на лицах противников.
Окутанная дымом синяя линия извивалась, как полураздавленная змея. В страхе и ярости она судорожно дергала головой и хвостом.
Юноша уже не сознавал, что стоит, выпрямившись во весь рост, что под ногами у него земля. Один раз он даже потерял равновесие и тяжело грохнулся, но тут же снова вскочил. Все же в его взбудораженном мозгу успела промелькнуть недоуменная мысль: не потому ли он упал, что его ранило? Но он тут же забыл об этом и больше не вспоминал.
Снова пристроившись за деревцом, юноша собирался защищать эту позицию от всего мира. Он был убежден, что сегодня армия будет разбита, но это лишь подстегивало его воинственный пыл. Лес кишмя кишел солдатами, и юноша окончательно потерял ориентировку. Он твердо знал теперь только одно: с какой стороны залег враг.
Пламя жалило его, горячий дым обжигал кожу. Ствол ружья так накалился, что в другое время юноша не смог бы дотронуться до него, но сейчас он продолжал вгонять заряды лязгающим, гнущимся шомполом. Если ему удавалось прицелиться в фигуру, скользившую за пологом дыма, он нажимал собачку с таким злобным ворчанием, точно изо всей силы бил кого-то кулаком.
Когда неприятель отступал перед ним и его товарищами, юноша бросался вперед, похожий на пса, который, видя, что враги начали уставать, нападает на них, время от времени оборачиваясь и прося у хозяина поддержки. Когда же ему приходилось опять возвращаться на прежнее место, он делал это медленно, нехотя, и в каждом его шаге чувствовалось негодующее отчаяние.
Он был так поглощен своей ненавистью, что продолжал палить, даже когда все остальные прекратили стрельбу. Занятый своим делом, он не заметил наступившей тишины.
Его привел в себя хриплый смех и не то удивленное, не то презрительное восклицание:
— Ты что, совсем спятил, дурак чертов? Не видишь разве, что стрелять не в кого? О господи!
Он вздрогнул и, все еще не опуская ружья, взглянул на синюю линию однополчан. Теперь, когда для них наступила передышка, они с изумлением уставились на него. Они стали зрителями. Он посмотрел в сторону неприятеля и обнаружил, что за клубящимся к небу дымом никого нет.
Секунду он стоял в полной растерянности. Потом в туманной пустоте его глаз зажегся огонек понимания.
— Ах так! — сказал он, осмыслив происшедшее.
Подойдя к товарищам, он повалился на землю. Его как будто сбили с ног. Тело заливало жаром, в ушах все еще звучал грохот боя. Он ощупью потянулся к манерке.
Лейтенант продолжал смеяться каркающим смехом. Он точно опьянел от сражения.
— Ей-богу, будь у меня десять тысяч таких диких кошек, как ты, я бы в неделю выколотил душу из этой войны, — крикнул он юноше и надменно выпятил грудь.
Солдаты, что-то бормоча, боязливо поглядывали на юношу. Пока он без устали заряжал ружье, стрелял и ругался, они, как видно, нет-нет да озирались на него. Он представлялся им теперь воплощением злого духа войны.
Шатаясь, подошел его друг и спросил с недоуменным испугом:
— Как ты сейчас, Флеминг? Ты здоров? Скажи правду, Генри, с тобой ничего не стряслось?
— Ничего, — с трудом ответил юноша. Ему казалось, что в горле у него полно игл и колючек.
Этот случай заставил его призадуматься. Значит, где-то в нем сидит первобытный человек, дикий зверь. Он дрался, как язычник, защищающий свою религию. Так драться было захватывающе-приятно и совсем не страшно. А со стороны он, должно быть, производил потрясающее впечатление. В этом бою ему удалось одолеть препятствия, казавшиеся ему неприступными горами. Они упали к его ногам, как картонные скалы, и теперь он имеет право называть себя героем. Он и не заметил, как это произошло. Он спал, а когда проснулся, то оказалось, что его уже посвятили в рыцарское звание.
Растянувшись на земле, юноша с наслаждением ловил взгляды однополчан. Пороховая гарь размалевала их лица черной краской всевозможных оттенков. Иных совсем нельзя было узнать. От них разило потом, они дышали тяжело и с присвистом. Эти перепачканные физиономии все время поворачивались к нему.
— Жаркое дело! Жаркое дело! — кричал лейтенант, как в бреду. Беспокойный, взбудораженный, он шагал взад и вперед, порой ни с того ни с сего разражаясь диким хохотом.
Когда лейтенанту приходило в голову особенно глубокое соображение о военном искусстве, он всякий раз бессознательно обращался к юноше.
Среди солдат царило мрачное оживление.
— Ай да мы! Попробуй найди в армии еще такой полк!
— Ишь чего захотел!
Орешину, пса и женщину беи: Побои идут им на пользу, ей-ей!Так и мы.
— У них невесть сколько народу полегло. Приди какая старуха с метлой лес подметать — мусору не обобралась бы.
— А приди через час — еще больше вымела бы.
Лес все еще изнемогал под бременем грохота. Из-за деревьев доносились раскаты ружейной стрельбы. Дальние кустарники напоминали дикобразов, ощетинившихся странными огненными иглами. Темное облако дыма, словно на дотлевающем пожарище, устремлялось к солнцу, яркому и радостному в эмалевой синеве неба.
Глава XVIII
Полк отдыхал. Его ломаная линия несколько минут была неподвижна. За время этой паузы бой в лесу достиг такого ожесточения, что, казалось, от выстрелов колеблются деревья и земля дрожит под ногами бегущих людей. Голоса орудий слились в нескончаемый долгий гул. Дым так сгустился, что нечем было дышать. Легкие солдат жаждали хоть глотка свежего воздуха, их пересохшие рты — хоть капли воды.
Пока длилась передышка, какой-то тяжелораненый, не умолкая, вопил от боли. Может быть, он вопил и тогда, когда они отбивали атаку, но его никто не слышал. Теперь же все обернулись и посмотрели на землю, откуда неслись жалобные стоны.
— Кто это? Кто это?
— Джимми Роджерс. Это Джимми Роджерс.
Несколько человек направились к раненому, но, увидев его лицо, боязливо остановились поодаль. Лежа в траве, неестественно извиваясь и дергаясь, он непрерывно кричал. Заметив нерешительность товарищей, он пришел в исступление и начал осыпать их проклятиями.
У друга юноши была какая-то географическая иллюзия насчет близости ручья, и он отпросился пойти за водой. На него тут же посыпался град манерок. «Захвати и мою, ладно?», «И мне принеси заодно», «И мне». Он ушел, тяжело нагруженный. Вместе с ним отправился и юноша, мечтая о том, как он погрузит разгоряченное тело в ручей и, не вылезая из воды, выпьет по меньшей мере бочку.
Их торопливые поиски оказались безуспешными: никакого ручья они не обнаружили.
— Нет здесь воды, — сказал юноша.
Они тут же повернули и пошли назад.
Когда перед ними вновь открылось поле боя, они увидели гораздо больше, чем с позиции полка, тонувшей в клубах порохового дыма. Они различали темные извилистые линии на земле, обнаружили на какой-то прогалине ряд пушек, изрыгающих серые облака, прорезанные яркими вспышками оранжевого пламени. За купой деревьев виднелась крыша дома. Окно сверкало сквозь листву зловещим алым блеском. Над домом высилась наклонная башня дыма.
Оглядывая войска, они увидели людские толпы, медленно принимающие правильные очертания. Солнце играло на стальных остриях. В тылу, у самого горизонта, по склону холма вилась дорога, забитая отступающей пехотой. Наполненные ревом леса и перелески источали дым. Кругом по-прежнему все грохотало.
Совсем близко от них проносились, гудя и воя, снаряды. Порой пуля, жужжа, вонзалась в дерево. По лесу бродили раненые и отставшие от своих частей солдаты.
Сквозь просвет между деревьями юноша и его друг заметили в роще раненого, ползущего на четвереньках; на него чуть не наехал генерал, который в это время что-то сердито кричал своим штабным. Круто осадив коня, ронявшего пену с оскаленной морды, генерал ловко сманеврировал и объехал раненого. Тот сделал мучительное усилие и быстро отполз в сторону, но добравшись до защищенного места, сразу обессилел. Одна рука у него подогнулась, и он упал на спину. Так он и остался лежать, почти бездыханный.
Через мгновение маленькая кавалькада, оглашая лес хрустом веток, поравнялась с юношей и его другом. К генералу подскакал офицер, сидевший на лошади с искусной небрежностью ковбоя. Друзья, никем не замеченные, подались было назад, но не ушли, горя желанием подслушать разговор командиров. — Быть может, те произнесут великие исторические слова, предназначенные лишь для посвященных.
Генерал, — он командовал дивизией, в которой служили друзья, и они знали его в лицо, — посмотрел на офицера и сказал таким тоном, словно критиковал его манеру одеваться:
— Неприятель подтягивает части для новой атаки. Удар придется по Уайтерсайду, и, боюсь, они прорвутся, если мы из кожи вон не вылезем и не сдержим их.
Офицер сердито ругнул своего норовистого коня, потом откашлялся.
— Их будет дьявольски трудно остановить, — коротко сказал он, поднося руку к шляпе.
— Еще бы не трудно! — согласился генерал. Затем он начал что-то быстро и тихо объяснять, подкрепляя слова движениями указательного пальца. Друзья расслышали только его заключительный вопрос:
— Какие части вы можете дать?
Офицер с посадкой ковбоя задумался.
— Я должен послать двенадцатый полк на помощь семьдесят шестому, — сказал он. — Больше у меня ничего нет. Впрочем, есть триста четвертый. Это форменные погонщики мулов. Их я могу дать.
Юноша и его друг изумленно переглянулись.
— В таком случае приготовьте их, — резко бросил генерал. — Я наблюдаю за боем отсюда и дам вам знать, когда вводить их. Это будет, очевидно, минут через пять.
Офицер поднес руку к шляпе и уже повернул коня, когда генерал негромко сказал ему вдогонку:
— Не многие из ваших погонщиков вернутся назад.
Тот что-то крикнул в ответ. Он улыбался.
С испуганными лицами юноша и его товарищ рысью побежали к своим.
Все это заняло несколько секунд, но юноше казалось, что он за это время стал намного старше. Он совсем по-новому увидел мир. Особенно его потрясло сознание своей незначительности. Офицер говорил о полке, словно о метле. Надо было подмести какой-то участок в лесу, и он выбрал подходящую метлу, нимало не заботясь о ее дальнейшей судьбе. Конечно, война есть война, но все же это странно.
Когда они подошли к позиции и лейтенант увидел их, он покраснел от злости.
— Флеминг, Уилсон, сколько вам надо времени, чтобы принести воду? Где вы пропадали? — Но он тут же замолчал, увидев по их округлившимся глазам, что они принесли важные известия.
— Мы идем в наступление! — закричал друг юноши, спеша выложить новость.
— В наступление? — переспросил лейтенант. — В наступление? Великолепно! Значит, будет настоящая драка! — Его измазанная физиономия расплылась в хвастливой улыбке. — Клянусь богом, это великолепно!
Солдаты сразу же окружили друзей.
— А вы не врете? Вот так так, разрази меня нелегкая! В наступление? Почему? Когда? Уилсон, ты и вправду не врешь?
— С места мне не сойти! — визгливым от возмущения голосом сказал юноша. — Говорю тебе, это точно, как выстрел.
— Он вот ни на столько не врет, — поддержал его друг. — Мы подслушали их разговор.
Тут они заметили двух всадников. Один был их полковник, другой — офицер, получивший приказ от командира дивизии. Они махали друг на друга руками. Показав на них, друг юноши передал подслушанный разговор.
Кто-то прибегнул к последнему аргументу:
— Как вы могли услышать, о чем они говорили?
Однако почти все солдаты кивали головами в знак того, что верят друзьям.
Они снова разлеглись на земле; весь их вид говорил о том, что они приняли новость как нечто неизбежное. Солдаты обдумывали ее, каждый с особым, свойственным только ему выражением лица. Тут было над чем поразмыслить. Многие проверили пояса, подтянули брюки.
Через минуту офицеры уже подталкивали солдат, сближая и выравнивая ряды. Они охотились за пытавшимися улизнуть, орали на тех, кто не желал сдвинуться с места. Они были похожи на пастухов, выведенных из терпения упрямым стадом.
Казалось, полк тяжело вздохнул и выпрямился. Лица людей отнюдь не светились глубоким раздумьем. Солдаты наклонились вперед, чуть ссутулив плечи, как бегуны перед стартом. На угрюмых физиономиях поблескивали глаза, устремленные на стену дальнего леса. Все как будто были поглощены расчетами времени и дистанции.
Чудовищные препирательства двух армий ни на миг не умолкали. Миру было не до полка — он был занят другими делами. Полк сам должен был справиться со своей маленькой задачей.
Юноша вопросительно взглянул на своего товарища. Тот ответил ему таким же взглядом. Только они двое знали то, что было неведомо непосвященным. «Погонщики мулов — сдержать будет дьявольски трудно — не многие вернутся назад». Невеселая то была тайна. Но на лицах друг друга они не увидели колебаний и с молчаливым смирением кивнули, когда кудлатый солдат, стоявший рядом, покорно сказал:
— Слопают они нас!
Глава XIX
Юноша пристально смотрел вперед. Ему чудилось, что в листве притаилось что-то грозное и могучее. Он понятия не имел, как отдаются приказы о наступлении, и только краешком глаза видел офицера, который прискакал, размахивая шляпой, — точь-в-точь мальчишка верхом на лошади. Вдруг он почувствовал, что солдаты напряглись и затаили дыхание. Цепь медленно накренилась, как стена, готовая рухнуть; с хриплым вздохом, который должен был означать «ура!», полк начал свой путь. Сперва юноша не мог понять, что происходит, и, лишь когда его начали со всех сторон толкать, пришел в себя, рванулся и побежал.
Устремив глаза на рельефную купу деревьев вдали, где, по его предположениям, скрывался противник, он понесся к ней, как к финишу. Теперь, казалось ему, нужно одним махом покончить с этим неприятным делом — и все будет в порядке. Он бежал, как убийца, спасающийся от преследователей. Его лицо, увенчанное грязной окровавленной тряпкой, побагровело, все черты вытянулись и обострились от напряжения, воспаленные глаза загорелись мрачным огнем, перепачканная одежда измялась, ружье описывало нелепые кривые, амуниция бренчала — он был похож на буйно помешанного.
Когда полк оказался на открытом месте, заросли и кустарники впереди ожили. Навстречу солдатам устремились желтые языки пламени. Лес негодующе протестовал.
С минуту цепь почти не изгибалась. Потом правый фланг выдвинулся было вперед, левый сразу же опередил его и, наконец, середина обогнала их обоих; полк стал похож на клин. Прошло еще несколько секунд — и кусты, деревья, холмики разорвали цепь, превратили ее в разрозненные звенья.
Юноша, легкий и проворный, вырвался, сам того не замечая, вперед. Он по-прежнему не отрывал взгляда от купы деревьев. Оттуда слышались характерные выкрики врагов и выскакивали язычки ружейного огня. В воздухе жужжали пули, среди деревьев выли снаряды. Одна бомба упала в гуще наступающих и с бешеной яростью взорвалась. Какой-то солдат взметнулся в воздух, пытаясь руками защитить глаза.
Настигнутые пулями, люди падали, извиваясь и корчась. Полк отмечал свой путь трупами.
Они добежали до места, где дышать стало легче. Местность вдруг открылась перед ними под совершенно иным углом зрения. Они уже ясно различали орудийную прислугу, суетившуюся у пушек, и серые зубчатые стены дыма в том месте, где притаилась вражеская пехота.
Мир представал перед юношей с необычайной четкостью. Каждая зеленая травинка вырисовывалась тонко и рельефно. Ему казалось, что он улавливает малейшие изменения в прозрачных слоях лениво плавающей, туманной дымки. Он замечал каждую шероховатость на бурых и серых стволах деревьев. Видел он и своих товарищей, их вытаращенные глаза, потные лица, исступленный бег и падения, когда они, словно от толчка, валились ничком и застывали в странной, мертвой неподвижности. Его мозг механически, но бесперебойно запечатлевал ничтожнейшие детали картины, и потом он без труда воссоздал и уяснил себе все, кроме одного: как случилось, что и он оказался среди наступающих.
Солдаты, продолжавшие бежать во весь дух, как будто потеряли рассудок. Они остервенело рвались вперед с нестройным, диким, самозабвенным ревом, который мог бы воодушевить и невозмутимого стоика и безнадежного тупицу. Охваченные неистовым порывом, они способны были сокрушить гранит и бронзу. Люди, одержимые подобным безумием, забывают, что такое страх; они не боятся смерти, они глухи и слепы к собственной судьбе. Эта вспышка самоотречения непродолжительна, но великолепна. Потому-то, быть может, впоследствии юноша никак не мог понять, что именно побудило его броситься в атаку.
Но постепенно этот стремительный бег поглотил энергию солдат. Вожаки, словно сговорившись, замедлили шаг. Залпы ружейного огня действовали на них, как встречный ветер. Полк тяжело и хрипло дышал. Оказавшись среди бесстрастных деревьев, он дрогнул, заколебался. Вглядываясь вдаль, солдаты ждали, чтобы завеса дыма приподнялась и открыла им, что за ней происходит. Их дыхание, их силы были исчерпаны; к ним вернулась осторожность. Они снова стали обыкновенными людьми.
Юноше чудилось, что он пробежал бог весть сколько миль и попал в новую, неведомую страну.
Как только атака захлебнулась, возмущенная трескотня ружейной стрельбы превратилась в неумолчный рев. С вершины невысокого холма низко летели, издавая нечеловеческий свист, плевки желтого огня, стлались длинные ровные лоскутья дыма.
Теперь, стоя на месте, солдаты увидели, как, вскрикивая и охая, падают их товарищи. Несколько человек, безмолвных или слабо стонущих, лежало на земле. Люди застыли, бессильно опустив ружья и глядя, как редеют их ряды. Они были ошеломлены, подавлены. Вид убитых и раненых парализовал их, как бы сковал роковыми чарами. Бессмысленно оглядываясь, они переводили глаза с одного трупа на другой. Странная неподвижность и странное молчание затягивались.
Вдруг, покрывая треск выстрелов, раздался голос лейтенанта. Его совсем еще юное лицо потемнело от гнева.
— Вперед, болваны! — орал он, расталкивая солдат. — Вперед! Здесь нельзя стоять! Бегите вперед! — Он крикнул еще что-то, уже совершенно неразборчивое.
Лейтенант, пробежав несколько шагов, оглянулся на своих людей. «Вперед!» — звал он. Они смотрели на него тупыми, непонимающими глазами. Ему пришлось вернуться. Стоя спиной к неприятелю, он изрыгал в лицо солдатам чудовищную брань. Все его тело вздрагивало от этих сокрушительных проклятий. Он нанизывал ругательства с такой же легкостью, с какой девушка нанизывает бусинки.
Друг юноши очнулся первым. Немного пробежав, он упал на колени и яростно выстрелил в упорствующий лес. Это вывело людей из оцепенения. Они перестали жаться друг к другу, как овцы. Внезапно они вспомнили, что у них есть оружие, и начали стрелять. Подгоняемые офицерами, они снова зашагали. Точно повозка, застрявшая в глинистой грязи, полк медленно и неохотно сдвинулся с места. То и дело люди останавливались, стреляли, перезаряжали ружья и снова осторожно пробирались от дерева к дереву.
По мере их продвижения огонь противника все усиливался, пока не стало казаться, что дальнейший путь полностью прегражден узкими прыгающими язычками. Солдаты смутно видели порой, что справа противник зловеще стягивает войска. Но постепенно дым от выстрелов сгустился в такие темные клубы, что полк с трудом разбирал, в какую сторону идти. Пробираясь сквозь очередную колеблющуюся завесу, юноша всякий раз спрашивал себя, что его ждет, когда он вырвется из нее.
Все же солдаты продолжали брести, пока не подошли к поляне, за которой залегли смертоносные цепи врагов. Тут они остановились, прячась за деревья, цепляясь за стволы так, словно им грозил водяной вал. В их глазах застыл недоуменный ужас: неужели это светопреставление началось из-за них? Шквальный огонь насмешливо подчеркивал их значительность. Люди явно забыли, что пришли сюда собственными ногами: их словно притащили волоком. Они стали похожи на животных, не способных в решающую минуту осмыслить, каковы были те мощные причины, которые побудили их к действию. Многие вообще перестали что-либо понимать.
Стоило им остановиться, как лейтенант опять начал выкрикивать проклятия. Не обращая внимания на злобные угрозы пуль, он уговаривал, распекал, осыпал бранью. Его пухлый, сохранивший детские очертания рот уродливо растягивался и дергался. Он поминал всех богов, каких только мог придумать.
Вдруг лейтенант схватил юношу за локоть.
— Вперед, ты, болван! — заорал он. — Вперед! Если мы будем здесь болтаться, нас всех перебьют! Перебежим через эту поляну, а там… — Конец фразы утонул в буйном потоке ругательств.
Юноша протянул руку.
— Через эту? — Рот его искривился в гримасе сомнения и боязни.
— Ну да! Только перебежать через поляну. Нельзя болтаться здесь! — взвизгнул лейтенант. Он вплотную приблизил лицо к лицу юноши и взмахнул перевязанной рукой. — Вперед! — Словно собираясь бороться с ним, он крепко обхватил его. Казалось, он готов тащить его в атаку за ухо.
Внезапно солдатом овладел неудержимый гнев. Он вырвался и оттолкнул офицера.
— Тогда покажите пример! — вызывающе крикнул он.
Они побежали вдоль цепи. Друг юноши бросился за ними. Остановившись перед знаменосцем, все трое заорали:
— Вперед! Вперед! — Они приплясывали и вертелись, как дикари, которых пытают.
Покоряясь призыву, знамя склонило свое сверкающее полотнище и поплыло. Искалеченный полк, мгновение поколебавшись, издал долгий жалобный вопль и снова двинулся в путь.
Солдаты бежали беспорядочным стадом, состоявшим из горсти людей, брошенных кем-то в лицо неприятелю. Навстречу им сразу прыгнули желтые языки. Синий дым повис непроницаемой пеленой. Грохот стоял такой, что уши стали попросту бесполезны.
Юноша несся, как одержимый, надеясь добраться до леса раньше, чем его найдет пуля. Чтобы удобнее было бежать, он втянул голову, точно футболист, и даже опустил веки. Все расплывалось в его глазах, в уголках губ, пульсируя, пузырилась слюна.
Он неустанно подгонял себя, а тем временем сердце его наполнялось любовью, отчаянной нежностью к знамени, которое было совсем рядом с ним. Прекрасное, непробиваемое, оно было блистающим божеством, склоненным к нему с повелительным жестом, оно было алой и белой женщиной, ненавидящей и любящей, зовущей юношу голосом всех его надежд. И, веря в неуязвимость знамени, наделяя его магической силой, он старался держаться поближе к нему, словно оно защищало от пуль, и беззвучно, жалобно молил о спасении.
В разгаре этой скачки он увидел, что сержант-знаменосец вдруг отпрянул назад, словно его стукнули дубиной; колени его начали дрожать, он пошатнулся, но не упал.
Юноша, подскочив, схватил древко. В ту же секунду в древко с другой стороны вцепился друг юноши. Каждый тянул к себе, упрямо и яростно, но знаменосец и мертвый не хотел отдавать то, что было ему вверено. Эта жуткая схватка продолжалась несколько мгновений. Мертвец, весь скрючившись, с нелепым, страшным упорством не выпускал древка.
Через секунду все было кончено. Когда живые с бешенством вырвали знамя у мертвеца, он, склонив голову, начал падать вперед. Его костенеющая рука высоко взлетела и, негодуя, упала на плечо не успевшего отстраниться друга юноши.
Глава XX
Когда, не выпуская из рук знамени, друзья оглянулись, перед ними был уже не полк, а жалкая толпа людей, понуро бредущих назад. Солдаты, которые бросились в атаку со стремительностью снарядов, уже израсходовали всю энергию. Они отступали, хотя и медленно, полуобернувшись к рычащему лесу и стреляя из раскаленных винтовок. Офицеры, пытаясь остановить людей, истошно орали.
— Куда, к черту, вас несет? — с беспредельным презрением взвизгивал лейтенант, а рыжебородый офицер гудел громоподобным басом:
— Стреляйте в них! Стреляйте в них, будь они прокляты!
Противоречивые и неисполнимые приказы со всех сторон сыпались на головы солдат.
Юноша и его друг поспорили из-за знамени.
— Давай мне!
— Нет, я сам понесу!
Каждый втайне хотел, чтобы оно было у другого, однако считал долгом тянуть его к себе, демонстрируя таким образом свою готовность рисковать за него жизнью и впредь. Юноша грубо оттолкнул друга.
Солдаты отступили к бесстрастным деревьям. Там они задержались на секунду и дали залп по темным фигурам, кравшимся вслед за ними. Потом снова начали отступать, петляя среди стволов. Когда они добрались до первой поляны, их накрыл безжалостный шквальный огонь. Казалось, они окружены несметными полчищами врагов.
Оглушенные грохотом и утратившие мужество, люди двигались как во сне. Покорно и устало ссутулившись, они принимали град пуль. Стену головой не прошибешь, гранит не одолеешь. Нельзя победить непобедимое. Уверовав в это, они начали думать, что их предали. Они то и дело мрачно посматривали на офицеров, особенно на рыжебородого с громоподобным басом.
Все же в арьергарде отступающего полка была еще кучка людей, продолжавших упорно отстреливаться от наседающего неприятеля. Они, видимо, решили как можно больше досадить врагам. Чуть ли не последним в беспорядочной толпе шел молодой лейтенант, равнодушно подставляя неприятелю свою беззащитную спину. Его раненая рука висела, как плеть. Порой он забывал об этом и пытался подкрепить ругательство уничтожающим жестом. Боль становилась нестерпимой, и тогда проклятия достигали неслыханной силы.
Юноша брел неверными шагами, спотыкаясь и зорко оглядываясь. На лице его застыла оскорбленная и гневная гримаса. Он замышлял утонченно отомстить генералу, обозвавшему их погонщиками мулов, а теперь его план рухнул, мечты не осуществились. Погонщики, быстро уменьшаясь в числе, дрогнули, замешкались на полянке и поползли назад. Юноше их отступление казалось позорным бегством.
Его глаза, сверкая на прокопченном лице, с ненавистью обращались к врагам; но еще больше он ненавидел человека, который, не зная его, обозвал погонщиком мулов.
Ярость, знакомая каждому обманувшемуся в своих надеждах, овладела юношей, когда он понял, что полк так и не добился успеха, который заставил бы генерала ощутить хотя бы легкий укол совести. Этот хладнокровный генерал, равнодушно раздававший клички, восседая на коне, как памятник самому себе, был бы куда приятнее, будь он покойником, — думал юноша с такой горечью, что никак не мог изобрести достаточно уничтожающий ответ на замечание командира.
В воображении он уже видел мстительные слова, начертанные алыми буквами: «Это нас вы обозвали погонщиками мулов?» Теперь их придется зачеркнуть.
Закованный, как в броню, в свою уязвленную гордость, юноша высоко поднял знамя. Он урезонивал солдат, страстно убеждал их, толкая в грудь свободной рукой, называя по именам тех, кого хорошо знал. Между ним и лейтенантом, непрестанно бранившимся и почти потерявшим рассудок от гнева, возникло странное чувство товарищества и равенства. Они поддерживали друг друга, взывая к полку хриплыми, лающими голосами.
Но это был уже не полк. Это был испорченный механизм. Двое людей тщетно обращались к нему — в нем иссякла воля к действию. Те солдаты, у которых еще хватало выдержки отступать медленно, теряли остатки храбрости при одной мысли о том, что их товарищи приближаются к исходной позиции куда быстрее, чем они. Трудно думать о чести, когда остальные думают только о шкуре.
Этот мрачный путь был усеян ранеными, тщетно молившими о помощи.
Дым и пламя по-прежнему бушевали вокруг них. Внезапно в густых клубах образовался просвет, и юноша увидел темные отряды врагов, перемешанные и рассыпанные так, что мнилось, их тысячи. Перед ним мелькнуло ослепительно-яркое знамя.
Вслед за этим, словно просвет в дымовой завесе был заранее подготовлен, вражеские отряды разразились пронзительными воплями, и сотни огненных языков кинулись на отступающих. Полк упрямо ответил залпом на залп, и тотчас же между противниками снова заколыхался серый дым. Приходилось опять идти по слуху, целиком полагаясь на многострадальные уши, в которых от оглушительной мешанины звуков стоял вибрирующий звон.
Людям казалось, что отступление длится целую вечность. Они панически боялись заблудиться в облаках дыма и попасть в руки врага. Один раз вожаки этого обезумевшего стада побежали назад и, столкнувшись с задними рядами, закричали, что их обстреливают с той стороны, где, по всем расчетам, должна быть исходная позиция полка. Тут истерическая растерянность и страх овладели и остальными. Какой-то солдат, только что старавшийся образумить своих однополчан и заставить их спокойно одолевать устрашающие препятствия, упал на землю и, уткнувшись лицом в руки, предался на волю судьбы. Другой запричитал, перемежая жалобы грубыми проклятьями по адресу генерала. Люди метались, отыскивая путь к спасению. С бесстрастной методичностью, словно по графику, в них попадали пули.
Юноша сперва безучастно шел среди этой толпы, а потом, не выпуская знамени, остановился, словно ожидая, что его собьют с ног. Он бессознательно принял позу знаменосца, которого видел в сражении накануне. Дрожащей рукой он провел по лбу. В эти короткие секунды, предшествовавшие кризису, он хрипел и задыхался.
— Что ж, Генри, видно, конец нам пришел, — подойдя к нему, сказал его друг.
— Замолчи, идиот проклятый! — ответил юноша, даже не поглядев на него.
Офицеры вели себя как политические вожди, которые стараются сплотить толпу перед лицом опасности. Почва кругом была выбитая, неровная. Впавшие в уныние солдаты припадали к земле за любой кочкой, которая, на их взгляд, могла уберечь от пули.
Юноша отметил, что лейтенант стоит, широко расставив ноги, держа саблю на манер трости, и не произносит ни слова. «Что он, онемел, что ли? Почему не ругается?» — со смутным удивлением подумал юноша.
В напряженном молчании лейтенанта было что-то непонятное. Он напоминал младенца, который, вволю наплакавшись, устремляет взгляд на откатившуюся игрушку. Он так углубился в созерцание, что его пухлая нижняя губа стала вздрагивать от беззвучно произносимых слов.
Медленно клубился ленивый, ко всему безразличный дым. Солдаты, укрываясь от пуль, с ужасом ждали минуты, когда он рассеется и они узнают, что их ждет.
Неожиданно безмолвные ряды ожили: раздался тревожный возглас лейтенанта:
— Идут, ей-ей идут, и прямо на нас! — Его слова потонули в свирепом раскате ружейных выстрелов.
Глаза юноши мгновенно устремились туда, куда взволнованно показывал лейтенант, к которому мгновенно вернулся дар речи. Предательский дым, рассеявшись, открыл неприятельских солдат. Они были так близко, что юноша различал их физиономии. Всмотревшись в них, он убедился, что тип этих лиц ему хорошо знаком. Он даже успел изумленно отметить, что цвет их мундиров довольно приятен — светло-серый с яркими кантами. И одеты они были во все новое.
Враги продвигались осторожно, держа ружья наперевес. Как только лейтенант заметил их, синие дали по ним залп; движение приостановилось. Было очевидно, что они или не ожидали такого близкого соседства с противником, одетым в темное, или ошиблись направлением. Они сразу скрылись в дыму ожесточенных выстрелов. Напрягая зрение, юноша пытался определить, попадают ли эти выстрелы в цель, но перед ним колыхался только дым.
Противники схватились, как двое боксеров. Они обменивались частыми, ожесточенными залпами. Синие, полные решимости, рожденной их отчаянным положением, стремились воспользоваться близостью врагов, чтобы отомстить. Их залпы звучали громко и грозно. Полк, построившись изогнутой линией, ощетинился вспышками огней и оглашал местность лязгом шомполов. Юноша то приседал, то вставал на цыпочки, и несколько раз ему удалось рассмотреть неясные фигуры врагов. Видимо, их было много, и на выстрелы они отвечали без промедления. Шаг за шагом они как будто приближались. Юноша мрачно уселся на землю, зажав знамя между колен.
Глядя на свирепые, по-волчьи оскаленные лица товарищей, он злорадно подумал, что если уж считать полк здоровенной метлой, отданной на съедение врагу, то можно по крайней мере доставить себе удовольствие полезть ему в глотку колючками вперед.
Но ответы серых становились все менее энергичными, пули все реже разрывали воздух, и когда люди наконец на секунду перестали стрелять, чтобы выяснить положение, они увидели перед собой только стелющийся дым. Полк неподвижно лежал и смотрел. Надоедливый дым вдруг капризно заклубился и тяжело пополз вверх. За ним никого не было. Можно было бы подумать, что это взвился театральный занавес, если бы на траве не лежало несколько причудливо скрюченных трупов.
При виде этого синемундирные солдаты выскочили из-за своих прикрытий и от радости тут же пустились в дикий пляс. Глаза их горели, из пересохших глоток вырывались хриплые торжествующие вопли.
Совсем недавно им казалось, что весь ход событий говорит об их полном бессилии. У этих мелких схваток одна только цель: показать людям, что они не умеют сражаться. Солдаты совсем было поверили этому, когда маленькая дуэль с противником обнаружила, что его численный перевес не так уж велик. Им удалось одержать верх одновременно и над своими сомнениями и над своими врагами.
Солдатами вновь овладел энтузиазм. Они обменивались горделивыми взглядами и опять преисполнились верой в свое сумрачное, всегда послушное оружие. Они были мужчинами.
Глава XXI
Теперь они знали, что обстрел кончился. Перед ними опять открыты все дороги. Тускло-синие ряды их товарищей совсем рядом. Вдали слышался все тот же раздирающий уши грохот, но в этой части поля воцарилась тишина.
Они свободны. Оставшиеся в живых глубоко и облегченно вздохнули, сбились в кучу и продолжали обратный путь.
На этом последнем участке людьми овладела паника. Они почти бежали, подгоняемые нервным страхом. Даже, те солдаты, которые в самые критические минуты вели себя с угрюмой решительностью, теперь не могли скрыть обуревавший их безумный ужас. Быть может, они боялись, что их случайно подстрелят именно сейчас, когда подходящий момент для героической смерти уже упущен? Или они считали, что очень уж нелепо умереть на пороге безопасности? Так или иначе, они все убыстряли шаги, тревожно оглядываясь.
Они добрались до своих и тут же стали мишенью для насмешек исхудавших, загорелых солдат, отдыхавших в тени деревьев. Их забросали вопросами:
— Куда вас к черту носило?
— Чего вы приплелись назад?
— Какого дьявола вы вернулись?
— Что, сынок, жарко там?
— Домой торопитесь, мальчики?
— Мама, мама, иди сколей сюда, посмотли на солдатиков, — издевательски запищал кто-то.
Израненный, замученный, полк молчал; только один солдат бросил громогласный вызов на кулачный бой, да рыжебородый офицер, подойдя почти вплотную к высокому капитану из чужого полка, смерил его надменным взглядом. Но лейтенант умерил пыл любителя кулачных расправ, а высокий капитан, хотя и вспыхнул, однако сделал вид, что ничего не произошло, и начал рассматривать какое-то дерево.
Чувствительная кожа юноши очень страдала от этих шуток. Он хмуро и негодующе поглядывал на зубоскалов, обдумывая способы мести. Однако многие его товарищи так виновато повесили головы, что казалось, они несут на плечах гроб своей чести, сгибаясь под этим бременем. Молодой лейтенант, как бы опомнившись, начал бормотать под нос устрашающие проклятия.
Дойдя до своей прежней позиции, они взглянули на то место, где кончилось их наступление.
Юноша был совершенно ошеломлен. Он вдруг обнаружил, что путь, казавшийся ему таким бесконечно длинным, на самом деле до смешного краток. Бесстрастные деревья, среди которых разыгрались главные события, росли совсем близко. Поразмыслив, он понял, что и времени прошло очень мало. Его поразило, что на таких небольших отрезках времени и пространства может уместиться столько чувств и происшествий. «Как все преувеличивают крылатые мысли!» — подумал он.
Значит, в репликах поджарых и загорелых ветеранов скрыта горькая правда. Он пренебрежительно посмотрел на однополчан, распростертых на земле, задыхающихся от пыли, красных, потных, растрепанных, с отуманенными глазами.
Они жадно пили из манерок, вытягивали из них все до последней капли, а потом рукавами и травой размазывали грязь по отекшим, влажным лицам.
Но о своем поведении во время атаки юноша думал с удовольствием. До этой минуты ему некогда было заниматься собственной персоной. Тем приятнее спокойно оценивать сейчас свои поступки. Он припоминал красочные подробности, которые среди сумятицы боя запечатлелись в его мозгу, занятом как будто совсем иными мыслями.
В то время как солдаты лежали на земле, с трудом переводя дух после пережитого, вдоль их позиции прогалопировал генерал, обозвавший их погонщиками мулов. Он потерял шляпу, и его всклокоченные волосы развевались по ветру, а лицо потемнело от досады и возмущения. Уже по тому, как он сидел в седле, видно было, в каком он бешенстве. Подскакав к полковнику, он злобно и безжалостно осадил взмыленного коня. Вслед за этим посыпался град упреков. Солдаты сразу навострили уши: рядовым всегда интересно послушать, как бранятся их командиры.
— Черт вас возьми, Мак-Чесни, что это за ерунда у вас получилась? — начал генерал. Он понизил голос, но у него то и дело вырывались гневные возгласы, и кое-кто из рядовых уловил смысл его слов. — Что за собачья ерунда! Вы застряли буквально в ста шагах от их позиций. Еще хотя бы сто шагов — и вы добились бы настоящего успеха, а так… Не солдаты у вас, а бабы в штанах!
Солдаты, слушавшие затаив дыхание, с любопытством перевели глаза на полковника. Они относились к разговору с интересом досужих зевак.
Полковник выпрямился и ораторским жестом поднял руку. Он был оскорблен, как дьякон, которого обвинили в краже. Солдаты взволнованно заерзали, предвкушая дальнейшее.
Внезапно полковник изменил позу и стал похож уже не на дьякона, а на француза. Он пожал плечами.
— Что ж, генерал, мы прошли сколько смогли, — спокойно ответил он.
— Сколько смогли? Вот как! — фыркнул тот. — Не много же вы смогли, — добавил он, глядя с холодным презрением в глаза полковника. — Да, не много. Вам было приказано сделать диверсию, чтобы отвлечь неприятеля от Уайтерсайда. Насколько вы успели в этом, вам подскажут ваши собственные уши. — Он круто повернул коня и надменно отъехал.
Полковник, которому было предложено прислушаться к нестройному шуму боя в лесу слева, пробормотал проклятие.
Лейтенант, который в течение этого разговора так и кипел от бессильной ярости, вдруг сказал твердо и решительно:
— Мне все равно, кто он такой, пусть хоть двадцать раз генерал, но только болван может сказать, что ребята плохо дрались.
— Лейтенант, — строго оборвал его полковник, — это касается только меня, и прошу вас…
— Слушаюсь, полковник, слушаюсь! — Лейтенант покорно махнул рукой и сел, явно очень довольный собою.
Весть о том, что полк получил нагоняй от генерала, мгновенно облетела всех. Солдаты были ошарашены.
— Вот так дьявол! — восклицали они, глядя вслед удаляющемуся всаднику.
Сперва им казалось, что произошло какое-то недоразумение. Потом они поверили, что их атака действительно сочтена недостаточно энергичной. Юноша видел, как тяжело лег этот приговор на весь полк, напоминавший теперь стадо обруганных, побитых, но не смирившихся животных.
К юноше подошел его друг. Вид у него был обиженный.
— Не понимаю, что ему еще надо! — сказал он. — Может, он думает, что мы там в камушки играли? Ну и человек!
Юноша научился относиться к таким вспышкам философски.
— Не обращай внимания, — ответил он. — Генерал, верно, и не видел, как оно там было. Мы не сделали всего, что ему нужно, вот он и бесится и считает, что мы стадо баранов. Жаль, старика Хендерсона убили вчера: уж он-то понял бы, что мы дрались хорошо и просто не могли сделать больше. Такое уж наше счастье.
— Твоя правда, — согласился друг. Очевидно, он был глубоко уязвлен несправедливостью генерала. — Конечно, нам здорово не повезло. А каково это — идти в бой, когда что бы ты ни сделал и как бы ни сделал, начальству все равно не угодишь? В следующий раз я с места не сдвинусь. Пусть сами идут в наступление и отправляются ко всем чертям.
— Слушай, мы оба вели себя как надо, — успокаивал его юноша. — Хотел бы я посмотреть на болвана, который скажет, будто мы сделали не все, что могли.
— Конечно, сделали, — упрямо повторял друг. — Так бы и свернул шею тому болвану, будь он хоть с каланчу ростом. Но мы с тобой не осрамились. Не зря один парень сказал, что мы дрались лучше всех в полку, и из-за этих его слов у ребят чуть до рукопашной не дошло. Тут же, конечно, вылез другой парень и заявил, что это враки и что он все видел с начала до конца и будто нас там вовсе и не было. Тут вступилась еще целая куча народу, и все сказали, что нет, мы и вправду дрались как черти и что теперь нас пошлют на отдых. Но до чего же я не перевариваю этих старых солдат и все их шуточки и смешки, а тут еще генерал! Да он просто спятил.
— Он осел! — вдруг взорвался юноша. — Я чуть не лопнул от злости! Пусть еще раз сунется к нам! Мы ему покажем…
Он замолчал, потому что к ним бежали несколько солдат. Судя по их лицам, у них были важные новости.
— Ох, Флем, тебе бы самому это послушать! — на ходу выпалил один из них.
— Что послушать? — спросил юноша.
— Тебе бы самому послушать! — повторил тот и приосанился, собираясь приступить к рассказу. Остальные, горя нетерпением, стали в кружок. — Значит, подходит полковник к вашему лейтенанту — а мы как раз неподалеку сидели — и говорит — в жизни еще не слышал такой чертовщины. «Гм-гм, — говорит он, — мистер Хэзбрук, кстати, кто этот парень, который нес знамя?» Слышишь, Флеминг? «Кто этот парень, который нес знамя?» — говорит полковник, а лейтенант ему отвечает: «Это Флеминг, говорит, и он настоящий дьявол». Что? А я говорю, что сказал. Настоящий дьявол, так и отрезал, этими самыми словами. Нет, сказал. А я говорю, что сказал. Если ты лучше можешь рассказать, так давай рассказывай. Ну, тогда прикуси язык и молчи. Значит, лейтенант говорит: «Он настоящий дьявол», а полковник ему: «Гм-гм, он действительно бравый солдат. Он нес знамя в атаку, я сам видел. Бравый солдат», — говорит полковник. «А как же! — говорит лейтенант. — Он да еще этот парень Уилсон все время были впереди и орали прямо как краснокожие». Все время были впереди, — так и сказал. Этот парень Уилсон, — так и сказал. Можешь, братец, записать эти слова и послать домой, матери. «Этот парень по имени Уилсон», — говорит лейтенант, а полковник говорит: «Да ну? Гм-гм, вот так штука!» И еще говорит. «Во главе полка?» — «Да, во главе», — говорит лейтенант. «Вот так штука, — говорит полковник. — Так, так, так, — говорит он, — да ведь они сущие младенцы!» — «Были младенцами», — говорит лейтенант. «Так, так, — говорит полковник. — Они заслуживают производства в генерал-майоры». Так и сказал. Заслуживают производства в генерал-майоры.
Юноша и его друг сказали: «Чушь!», «Ты врешь, Томсон!», «Иди ты знаешь куда!», «Ничего такого он не говорил!», «Что за брехня!», «Чушь!» Но, несмотря на их мальчишеские выходки и смущение, они чувствовали, что краска удовольствия заливает их лица. Они потихоньку обменялись радостными взглядами, словно поздравляя друг друга.
Они сразу забыли о многом. В их прошлом уже не было ни заблуждений, ни разочарований. Они были счастливы, и сердца их наполнились благодарной любовью к полковнику и молодому лейтенанту.
Глава XXII
Лес вновь начал выбрасывать темные отряды неприятеля, но юноша не утратил спокойствия и самообладания. Он слегка улыбался при виде того, как вздрагивают и пригибаются другие солдаты, когда над их головами пролетают с протяжным воем снаряды, брошенные чьей-то гигантской рукой. Он стоял прямо и неподвижно и смотрел, как начинается наступление на синие войска, вытянутые в дугу у подножия ближнего холма. Его полк не стрелял, дым не заслонял поля боя, и юноша хорошо видел отдельные участки ожесточенного сражения. Было огромным облегчением узнать наконец, откуда исходят звуки, которые все время гремели у него в ушах.
Неподалеку от их позиции два синих полка вступили в схватку с двумя полками противника. Происходило это на уединенной поляне. Они наносили и принимали сокрушительные удары, как будто побились об заклад, кто кого. Выстрелы трещали с неимоверной быстротой и злобой. Полки сражались так самозабвенно, что истинные цели войны, видимо, перестали для них существовать; они тузили друг друга, как на цирковой арене.
В другом месте двигалась на диво подтянутая бригада синих; она явно намеревалась выбить неприятеля из леса. Как только она углубилась в лес, он наполнился устрашающим, немыслимым ревом. Вызвав к жизни эти жуткие звуки и найдя их, очевидно, чрезмерными, бригада беззаботно вернулась обратно, нисколько не нарушив равнения своих шеренг. В ее движении не чувствовалось никакой спешки. Казалось, бригада прогуливается, надменно грозя пальцем ревущему лесу.
Слева, на высотке, выстроился длинный ряд орудий, хрипло и свирепо лающих на противника, который, готовясь в лесу к новой атаке, затевал мелкие схватки, мучительные своим однообразием. Круглые алые жерла пушек выбрасывали багровое пламя и столбы густого дыма. Вокруг них копошилась орудийная прислуга. Позади, среди рвущихся снарядов, безмятежно высился белый дом. Лошади, целым табуном привязанные к длинной жерди, бешено рвали недоуздки. Всюду сновали люди.
Схватка между четырьмя полками все еще продолжалась. Почему-то в нее никто не вмешивался, и они решали свой спор сами. Несколько минут они остервенело и грозно палили друг в друга, потом серые полки дрогнули и отступили, а темные исступленно заорали. Юноша видел, как среди лохмотьев дыма весело затрепыхались два знамени.
Неожиданно воцарилось многозначительное безмолвие. Войска синих немного продвинулись, дали залп и остановились, выжидающе поглядывая на немые поля и леса. Тишина была торжественная, как в храме; слышалось только отдаленное буханье какой-то неугомонной батареи, надоедливое как визг расшалившихся мальчишек. Людям казалось, что из-за нее их напряженный слух не уловит вступительных тактов новой атаки.
И вдруг пушки на высотке пророкотали свой вызов. В лесу возобновилась ружейная перепалка. С удивительной быстротой она перешла в низкий рев, от которого загудела земля. Среди войск начали рваться снаряды. Под конец все звуки слились в немолчный гул. Тем, кто находился в центре сражения, чудилось, что это грохочет сама вселенная: в одном из небольших созвездий что-то сломалось, и теперь весь гигантский механизм скрежетал и лязгал. Юноша оглох. Его уши ничего уже не воспринимали.
На склоне холма, по которому вилась дорога, носились толпы людей, шумно приливая и тут же откатываясь. Эти мощные волны враждующих армий в разных точках с дикой силой обрушивались одна на другую. Они качались то туда, то сюда. Порой одна сторона начинала вопить во всю глотку и кричать «ура!», но спустя мгновение другая разражалась такими же воплями. Один раз юноша увидел, как кучка светлых фигур, подобно собачьей своре, бросилась в самую гущу синих. Раздался страшный вой, и серые отхлынули, уводя с собой пленных. Тотчас же синяя волна с таким неистовством обрушилась на серое препятствие, что, казалось, стерла его с лица земли: на месте стычки остался лишь истоптанный дерн. Отчаянные атаки не прекращались; люди выли и орали, как умалишенные.
За какую-нибудь изгородь, за укрытие в гуще деревьев они сражались так, точно это были золотые троны или усыпанные жемчугом покрывала. Эти желанные оазисы все время подвергались ожесточенным нападениям и переходили из рук в руки, словно мячики в детской игре. Знамена всплывали то там, то тут, подобно багряной пене. Определить по ним, чья взяла, было невозможно.
Потрепанный полк юноши отважно вступил в бой, когда пришел его черед. Как только на солдат посыпались пули, они завопили от боли и бешенства. Склонив головы к вскинутым винтовкам, они с лютой ненавистью стреляли по врагам, а потом, не переводя дыхания, гневно лязгающими шомполами проворно забивали патроны в дула винтовок. Желтые и алые острия пламени неустанно пробивали дымовую завесу перед полком.
Окунувшись в сражение, люди мгновенно покрылись слоем копоти. Так черны и грязны они никогда еще не были. Ни минуты не оставаясь в покое, наклоняясь, выпрямляясь, все время что-то бормоча, эти чумазые солдаты с горящими глазами были похожи на безобразных и неуклюжих чертей, пляшущих в адском пекле.
Лейтенант, вернувшись с перевязки, извлек из тайников своей памяти новую порцию крепких словечек, подходящих к изменившимся обстоятельствам. Он хлестал солдат сочными эпитетами, запас которых был у него, видимо, неисчерпаем.
Юноша, так и оставшийся знаменосцем, нисколько не тяготился бездельем. Он весь превратился в зрение и слух. Глядя на величественную трагедию, которая, бурно грохоча, развертывалась перед ним, он всем телом подавался вперед, щурился, гримасничал. Порою с его губ невольно срывались бессмысленные возгласы. Он так погрузился в созерцание, что забыл и о себе и о знамени, неподвижно осенявшем его голову.
Но вот перед полком появился грозный отряд врагов. Они были отчетливо видны: высокие, сухопарые люди с возбужденными лицами бежали большими шагами к заманчивой изгороди.
При виде этой опасности солдаты сразу перестали монотонно браниться. Секунду длилось напряженное молчание; потом они вскинули винтовки и дали дружный залп по неприятелю. Офицеры даже не успели скомандовать: стоило солдатам почуять угрозу атаки, как они, не ожидая приказа, выпустили стаю пуль.
Но враги уже достигли спасительной изгороди. Они немедленно залегли и, надежно укрывшись, начали поливать синих свинцом.
Синие приготовились к тяжелому бою. На их темных лицах сверкали стиснутые белые зубы. В море белесого дыма возникали качающиеся головы. Враги, защищенные изгородью, издевались, выкрикивали оскорбления, но полк угрюмо отмалчивался. Солдаты, быть может, помнили во время этой новой атаки, что их обозвали «бабами в штанах», и чувствовали особую щекотливость своего положения. Они изо всех сил старались удержать позицию и отбросить торжествующего противника. Они стреляли с молниеносной быстротой. На их лицах было написано безмерное озлобление.
Юноша твердо решил не двигаться с места, что бы там ни случилось. Стрелы презрения, вонзившиеся ему в сердце, породили в нем глубокую, невыразимо острую ненависть. Он считал, что месть его лишь тогда будет полной, когда он останется на поле боя, искалеченный, мертвый, полуистлевший. Такова была жестокая кара, изобретенная им для генерала, окрестившего их «погонщиками мулов» и «бабами в штанах». Ибо всякий раз, когда юноша начинал искать виновника своих тревог и терзаний, он неизменно вспоминал человека, который так незаслуженно заклеймил его этими кличками. И он думал, — хотя и не облекал свою мысль в слова, — что труп его будет для этого человека вечным и жгучим укором.
Полк нес большие потери. Снова стали падать на землю стонущие синие фигуры. Сержанту-ординарцу из роты юноши пуля пробила обе щеки и разорвала мышцы челюсти. Челюсть бессильно отвисла, обнажив полость рта, где пульсировало месиво из крови и зубов. Сержант с каким-то жутким упорством все время пытался крикнуть: должно быть, ему казалось, что стоит громко завопить — и ему сразу станет легче.
Юноша видел, как сержант шел в тыл. Он как будто нисколько не ослабел и бежал во всю прыть, бросая по сторонам тревожные, молящие о помощи взгляды.
Другие падали прямо к ногам товарищей. Кое-кому удавалось отползти подальше, но многие так и лежали, скорчившись в неестественных позах.
Один раз юноша глазами поискал своего друга. Увидев молодого человека, встрепанного, закопченного, полубезумного, он сообразил, что это и есть тот, кого он ищет. Невредим был и лейтенант. Стоя позади солдат, он продолжал ругаться, но чувствовалось, что он уже расходует остатки своих запасов.
Огонь, изрыгаемый полком, тоже начал хиреть и затухать. На удивление зычный голос, который гремел из поредевших рядов, стал быстро слабеть.
Глава XXIII
Вдоль фронта полка рысью пробежал полковник. За ним следовали другие офицеры. «Вперед! Вперед!» — кричали они с таким возмущением, будто заранее знали, что солдаты откажутся повиноваться.
Как только раздались эти крики, юноша начал прикидывать расстояние до неприятеля, пытаясь что-то подсчитать в уме. Он понимал, что доказать свое мужество они могут, только немедленно бросившись в атаку. Здесь им всем грозит неминуемая гибель. Отступать тоже нельзя: за ними последуют и другие полки. Чтобы спастись, нужно немедленно выбить обнаглевшего врага из укрытия.
Он был уверен, что его усталых, потерявших подвижность товарищей придется гнать в наступление силой. Каково же было его удивление, когда, обернувшись, он увидел, что они немедленно и безотказно отозвались на призыв. Прозвучала зловещая, лязгающая прелюдия к атаке: солдаты примкнули штыки к стволам винтовок. Не успели офицеры прокричать слова команды, как они огромными прыжками помчались в сторону неприятеля. В их движениях чувствовалась сила, которой никто от них не ожидал. Измученный полк шел в атаку, движимый тем последним судорожным порывом, который предшествует полному изнеможению. Солдаты бежали, как в горячке, неслись так, словно спешили одержать победу, пока еще не улетучился хмель возбуждения. Под сапфировым небом по зеленой мураве кучка людей в пропыленных синих мундирах отчаянно и слепо бежала к смутно рисовавшейся сквозь дым изгороди, откуда в них летели злобные плевки из вражеских винтовок.
Высоко подняв знамя, юноша мчался во главе полка. Неистово описывая свободной рукой круги, он выкрикивал нечленораздельные слова и призывы, уговаривая тех, кто не нуждался в уговорах, ибо люди, бежавшие прямо на смертоносные винтовки, вновь были подхвачены энтузиазмом самоотречения. На них был направлен шквальный огонь такой мощи, что мнилось, все они до единого полягут трупами на траву между их исходной позицией и изгородью. Но в этот миг с солдат слетела вся житейская суетность; в своем исступленном безрассудстве они являли пример великолепного бесстрашия. У них не было ни вопросов, ни расчетов, ни раздумий. Никто ни от чего не увертывался. Казалось, быстрые крылья их стремлений вот-вот ударятся о железные врата невозможного.
В юношу тоже вселился дух фанатического безумия. В эту минуту он был способен на любую жертву, вплоть до мученической смерти. У него не было времени на копание в своей душе, но он знал, что думает о пулях, только как о чем-то докучном, что может помешать ему достигнуть желанной цели. И от этого сознания в нем вспыхивали огоньки радости.
Все свои силы он вложил в бег. Мысли и мышцы работали так напряженно, что перед глазами у него все расплывалось. Он видел лишь огненные ножи, разрезающие облако дыма, но помнил, что где-то в дыму притаилась ветхая изгородь, поставленная фермером, скрывшимся от войны, и что за нею удобно расположились люди в сером.
На бегу он стал думать о том, что произойдет, когда его полк налетит на врага. От толчка они сплющат друг друга в лепешку. Эта мысль слилась с другими, такими же дикими мыслями, рожденными боем. Он чувствовал поступательное движение полка, представлял себе могучий, сокрушительный удар, который повергнет противника в прах и на мили кругом посеет ужас и сумятицу. Движение полка он уподоблял движению катапульты. Подстегнутый этим видением, он побежал еще быстрее в толпе товарищей, которые не переставали хрипло, самозабвенно кричать.
Вдруг юноша понял, что серые не собираются принимать удар. Дым рассеялся, и он увидел, что они удирают, все время оглядываясь на наступающих. Беглецов становилось все больше. Кое-кто на секунду задерживался, чтобы пустить пулю в синюю волну, и стремительно бежал дальше.
Но были среди серых и такие солдаты, которые упрямо и мрачно не двигались с места. Они прочно обосновались за жердями и досками. Их пули угрожающе жужжали; над головами реяло знамя, измятое, но горделивое.
Синий вихрь все приближался; неистовая рукопашная схватка казалась неизбежной. В неподвижности этой горсточки серых было такое подчеркнутое презрение, что ликующие клики синих сменились воплями обиды и гнева. Противники обменивались выкриками, как пощечинами.
Оскалив зубы, выпучив глаза, синие сделали такой рывок, словно собирались вцепиться в глотки упрямцев. Пространство, разделявшее противников, быстро сокращалось.
Все помыслы юноши сосредоточились на неприятельском знамени. Он стал бы героем, если бы завладел им. Ведь знамя можно отнять, только вступив в кровавую схватку, в рукопашный бой. Он безмерно ненавидел всех, кто мешал ему, стоял у него на пути. Из-за них знамя уподоблялось заветному мифологическому сокровищу, которое можно было добыть, лишь совершив трудные и опасные деяния.
Он понесся к нему, как взбесившийся конь, намереваясь отнять его в отчаянной, смертельной борьбе. Его собственное знамя, трепеща и колыхаясь, наклонилось вперед, к вражескому знамени. Чудилось, что это готовятся налететь друг на друга орлы с невиданными когтями и клювами.
Уже совсем вплотную к противнику синие внезапно остановились и дали грохочущий залп, расколовший и разметавший сбившихся в кучу серых. Но оставшиеся в живых продолжали сопротивляться. Синие взревели и бросились на них.
Не останавливаясь, юноша, как сквозь туман, видел распростертые на земле тела и людей, ползущих на коленях, словно их поразил удар с небес. Среди ползущих ковылял и вражеский знаменосец, тяжело раненный, как успел заметить юноша, последним грозным залпом синих. Этот человек вел свое последнее сражение — сражение с дьяволами, повисшими у него на ногах. То была ужасная битва. По лицу солдата уже разлилась смертельная бледность, но мрачные, суровые черты его говорили о непреклонной воле. С угрюмой гримасой решимости он прижимал к себе драгоценное знамя и, шатаясь, продолжал двигаться, надеясь как-нибудь спасти его.
Но израненные ноги знаменосца все время отставали, тянули его назад, и он жестоко сражался с невидимыми демонами, пытаясь освободиться от их мертвой хватки. Те из синих, которые опередили других, с радостным воем кинулись к изгороди. Знаменосец оглянулся на них; в его глазах застыло отчаяние побежденного.
Друг юноши неловко перепрыгнул через изгородь и бросился на знамя, как пантера на добычу. Схватившись за древко, он вырвал его у знаменосца и с громким ликующим криком высоко поднял сверкающее алое полотнище, в то время как его противник судорожно дернулся, ловя ртом воздух, уткнулся лицом в землю и застыл. Трава вокруг была густо забрызгана кровью.
Синие разразились победоносными кликами, жестикулировали, ревели «ура!». Даже обращаясь друг к другу, они орали так, как будто собеседник находится бог весть где. Все, у кого еще сохранились шляпы и кепи, высоко подбрасывали их в воздух.
Толпа синих набросилась на четверых серых и взяла их в плен. Теперь они сидели на земле, окруженные взволнованным и любопытным кольцом победителей. Те разглядывали их, точно редкостных птиц, пойманных в силки. Вопросы сыпались как горох.
Один из пленных держался за ногу, оцарапанную пулей. Он то покачивал ее, как ребенка, то поднимал голову и, отнюдь не стесняясь в выражениях, начинал осыпать синих бранью, посылал их к чертям в пекло, призывал на их головы проклятия несуществующих богов. Он нисколько не был похож на захваченного в плен врага и вел себя так, словно какой-то неуклюжий болван наступил ему на ногу и он теперь считает своим правом и даже долгом честить того последними словами.
Другой, совсем еще мальчик, принял свою участь спокойно и добродушно. Беседуя с синими, он разглядывал их блестящими умными глазами. Разговор шел о боях и о положении обоих войск. На лицах солдат был написан глубокий интерес: люди радовались тому, что у существ, казавшихся им страшными и непонятными, оказались человеческие голоса.
Третий сидел отчужденно и замкнуто, всем своим видом выражая стоическое терпение. На все вопросы он неизменно отвечал: «Ступайте вы к дьяволу!»
Последний из четырех все время молча смотрел туда, где стояло войско серых. Юноша видел, что он совершенно подавлен. Его терзал стыд; он, видимо, страдал оттого, что ему уже не придется сражаться в рядах соратников. Судя по его поведению, он совершенно не думал о своем унылом будущем, не боялся ни крепостей, ни голода, ни жестокого обращения. Он стыдился того, что попал в плен и не может больше сражаться.
Вволю наликовавшись, солдаты уселись за изгородью, но не с той стороны, где прежде укрывался противник, а с противоположной. Кое-кто пальнул несколько раз по невидимой цели.
Земля в этом месте поросла высокой травой. Надежно прислонив знамя к жерди, юноша уютно примостился возле него. Он отдыхал. К нему подошел его друг, счастливый и торжествующий, хвастливо размахивая своим трофеем. Они сидели бок о бок, обмениваясь поздравлениями.
Глава XXIV
Грохот, который, подобно длинной звуковой черте, прорезал лес, начал ослабевать, перемежаться паузами. Еще продолжали вдалеке громогласно переговариваться орудия, но ружейные залпы почти смолкли. Юноша и его друг одновременно подняли головы, ощутив неясное беспокойство: утихли звуки, ставшие частью их жизни. Войска меняли позиции. Части передвигались то туда, то сюда. Лениво протащилась батарея. На вершине холмика блеснули удаляющиеся штыки.
— Хотел бы я знать, что они готовят, — вставая, сказал юноша. Судя по его возмущенному тону, он ожидал новой порции чудовищной пальбы и взрывов. Приставив к глазам грязную руку, он стал вглядываться в поле боя.
Его друг тоже встал и внимательно посмотрел туда же.
— Похоже на то, что мы уходим на тот берег, — заметил он.
— Ух ты! — воскликнул юноша.
Они настороженно ждали. Вскоре полк получил приказ вернуться в лагерь. Люди поднимались с земли, бормоча проклятия: им жалко было покидать мягкое травяное ложе. Они разминали затекшие ноги, сладко потягивались; кто-то, ругаясь, протирал глаза. Все стонали: «О господи!» Солдаты негодовали так, словно получили приказ идти в атаку.
Они нехотя поплелись по тому самому полю, по которому недавно бежали с таким остервенением.
Так они шли, пока не соединились с остальными подразделениями своей бригады. Потом, перестроившись, двинулись колонной по лесу. Выйдя на дорогу, они вместе с другими насквозь пропыленными войсковыми частями побрели параллельно расположению вражеской армии, определившемуся во время боя.
Полк миновал безмятежный белый дом, перед которым, защищенные аккуратным бруствером, лежали в ожидании их товарищи. Орудия, выстроившись в ряд, обстреливали далекого противника. Ответные снаряды поднимали тучи пыли и щепок. Вдоль траншей носились верховые.
Теперь дивизия начала удаляться от поля боя, обходным путем направляясь к реке. Когда юноша понял этот маневр, он оглянулся через плечо на истоптанную, загаженную мусором войны землю. Облегченно вздохнув, он локтем подтолкнул друга.
— Ну вот, все позади, — сказал он.
— И верно, позади, — согласился тот, в свою очередь оглядываясь.
Мысли юноши были сперва смутны и недоуменны. Что-то менялось в его душевном мире. Сперва он никак не мог привыкнуть к тому, что бой окончен, и настроиться на обыденный лад. Все же постепенно мозг его освободился от клубов дыма. Юноша начал понимать и себя и новую обстановку.
Он уразумел, что существованию, состоящему только из атак и контратак, пришел конец. Он побывал в краю чудовищных землетрясений, где владычествуют черные страсти и льется алая кровь, и вырвался невредимым. Первым его чувством была радость.
Потом он начал вспоминать каждый свой шаг, каждую удачу, каждый промах. В памяти юноши еще свежи были события, во время которых его мыслительные способности настолько притупились, что он действовал бессознательно, как баран; теперь он пытался проанализировать свои поступки.
И вот наконец они строем начали проходить перед ним. Со своей теперешней точки зрения он мог судить о них достаточно здраво, как сторонний наблюдатель, ибо, заняв новую позицию, он тем самым нанес поражение многим из прежних своих убеждений.
Принимая этот парад воспоминаний, он торжествовал и ни в чем не раскаивался, потому что возглавляли шествие нарядные и блистательные поступки, совершенные им на людях. Деяния, свидетелями которых были его товарищи, маршировали церемониальным шагом, сверкая позолотой и пурпуром. Они бодро шли вперед под звуки оркестра. Смотреть на них было истинным наслаждением. Юноша пережил счастливые минуты, созерцая эти раззолоченные образы, хранимые его памятью.
Он молодчина. С радостным трепетом он перебирал в уме уважительные слова, сказанные о нем однополчанами.
Но тут перед ним заплясал призрак его бегства во время первого боя. Мысли юноши заметались, он покраснел, и свет в его душе померк от стыда.
Пришли и угрызения совести. Их привел с собой образ оборванного солдата — того изрешеченного пулями, обессиленного потерей крови человека, который тревожился из-за вымышленной раны случайного спутника и отдал долговязому последние крохи своих сил и разума. Человека, ослепленного усталостью и болью, человека, которого он бросил в поле на произвол судьбы.
При мысли, что кто-нибудь узнает об этом, юношу прошиб холодный пот. Неотрывно глядя в лицо призраку, он вскрикнул от ужаса и возмущения.
— Что с тобой, Генри? — спросил его друг, взглянув на него.
Вместо ответа юноша разразился неистовой бранью.
Он шел среди болтающих товарищей по дороге, осененной ветвями, а над ним упрямо склонялось воспоминание о его жестоком поступке. Оно тянулось к нему, заслоняя образы, сверкающие золотом и пурпуром. О чем бы он ни думал, сумрачная тень покинутого в поле неотступно следовала за ним. Он украдкой взглянул на соседей, уверенный, что страх перед содеянным отразился на его лице. Но они, шагая не в ногу, азартно обсуждали события минувшего сражения.
— А по-моему, если хочешь знать, нам как следует надавали.
— Это тебе надавали. По морде. Ничего нам, братец, не надавали. Вот доберемся до берега, повернем и как ударим им в тыл!
— Отстань ты со своим тылом! Я сам теперь понимаю, что к чему. Нечего морочить мне голову!
— Билл Смизерс говорит, что лучше десять раз ходить в атаку, чем один разок побывать в этом паршивом госпитале. Ночью, говорит, был обстрел, и снаряды, так и сыпались на раненых. В жизни, говорит, не видел такого сумасшедшего дома.
— Хэзбрук? Да он лучший офицер в полку. А уж глотка у него, как у кашалота.
— Я же объяснял тебе, что мы зайдем к ним в тыл. Объяснял? Мы…
— Ох, заткнись ты наконец!
Неотступное воспоминание об оборванном солдате выпило всю радость из сердца юноши. Он боялся, что мучительно четкое видение его греха всю жизнь будет стоять у него перед глазами. Он не принимал участия в разговорах, ни на кого не смотрел и замечал товарищей, только когда начинал бояться, что, проникнув в его мысли, они обсуждают каждую подробность его встречи с оборванным.
Но постепенно юноша собрался с силами и оттолкнул от себя образ своего проступка. И тогда глаза его открылись и он все увидел по-новому. Он знал теперь цену трескучей пышности своих прежних речей. И бесконечно радовался тому, что от души презирает ее.
Презрение к пустословию, в свою очередь, породило в нем уверенность. Он ощутил в себе спокойное мужество, не показное, а сдержанное и стойкое. Он уже не струсит, когда те, кого он признает своими вожаками, пошлют его в дело. Он коснулся руки всесильной смерти и понял, что в конце концов это всего лишь всесильная смерть. Он стал мужчиной.
Так случилось, что, пока он брел оттуда, где царили кровь и ярость, в душе его произошла перемена. Он оставил позади тяжелый плуг войны и вышел на тихие просторы клеверных полей, и тяжелого плуга как не бывало. Борозды войны не долговечнее цветов.
Лил дождь. Шеренги усталых солдат смешались. Люди уныло тащились под нависшим, тоскливым небом, вполголоса бранясь и с трудом вытаскивая ноги из бурого месива. Но юноша улыбался, ибо жизнь по-прежнему была для него жизнью, тогда как уделом многих стали только проклятия и костыли. Он выздоровел от алого недуга войны. Удушливый кошмар рассеялся. Он — был измученным животным, выбивавшимся из сил в пекле и ужасе боя. Теперь он вернулся с неистребимой жаждой увидеть тихое небо, свежие луга, прохладные родники — все то, что исполнено кроткого вечного мира.
Золотистый луч пробился сквозь воинство свинцовых облаков, нависших над рекой.
Рассказы
Люди в непогоду
Вьюга сметала снежную пыль с крыш, вздымала ее с мостовых и, кружа, мчала огромными облаками вдоль улиц; лица у прохожих защипало, они запылали, словно от тысячи уколов крохотных игл. Глубоко втянув шеи в воротники пальто, люди шли по тротуарам ссутулившись, как старики. Возницы яростно погоняли лошадей. Наверху, на высоких сиденьях, они ничем не были защищены от непогоды, и это ожесточало их. Конки, направляясь к центру города, двигались медленно, а лошади скользили и с трудом выбирались из рыхлой коричневой грязи, лежавшей между рельсами. Кучера, закутанные по уши, встречали натиск ветра, держась прямо и проявляя мрачный стоицизм. Над головой громыхали и ревели поезда, а с темной громады надземной железной дороги, протянувшейся над проспектом, на грязь и снег стекали вниз маленькие струйки и капли воды.
От покрывавшей булыжник грязи все уличные звуки как-то смягчались, и даже для того, кто смотрел из окна, они приобретали значение музыки, мелодии жизни, ставшей необходимой для слуха из-за страшной и безжалостной в своем неистовстве вьюги. Время от времени на улицах попадались черные фигуры людей, усердно сгребавших с тротуаров белую пелену. Стук лопат вновь пробуждал воспоминания о сельской жизни, которые каждый человек всегда хранит где-то в своей памяти.
Ближе к вечеру, отбрасывая большие оранжевые и желтые лучи на мостовую, засияли огромные витрины магазинов. От них веяло безграничным весельем, но вместе с тем они как-то подчеркивали силу пурги и причиняемые ею страдания и придавали особый смысл движению людей и экипажей. Десятки пешеходов и возниц, бедняг с замерзшими лицами, шеями и ногами, спешили к десяткам неизвестных дверей и входов, растекались в разнообразных направлениях, торопясь попасть под кров, в места, которые воображение наполняло уютом и теплом домашнего очага.
Даже по поступи людей ясно чувствовалось, что они мечтали о горячем обеде. Если бы кто-нибудь стал делать предположения относительно жизненного пути тех, кто двигался в толпе, он заблудился бы в лабиринте социальных проблем; с таким же результатом мог бы он кинуть горсть песка и пытаться проследить за полетом каждой песчинки в отдельности. Но что касается мечты о горячем обеде, то направление его мыслей было бы верным: мечта эта читалась на лице каждого спешившего человека. Это дело традиции, она идет от сказок, слышанных в детстве. И с каждой метелью она появляется вновь.
Однако в западной части города, на одной из темных улиц, собрались люди, для которых такие вещи как бы не существовали. На этой улице помещалось благотворительное заведение, где бездомные за пять центов могли получить ночлег, а утром — кофе и хлеб.
Во время разыгравшейся днем вьюги снежные вихри действовали как погонщики, как люди, вооруженные бичами, и в половине четвертого тротуар перед домом с запертыми дверьми был запружен ожидающими бродягами. Их можно было видеть по обеим сторонам улицы и невдалеке от дома. Они прятались в подъездах, за выступами зданий, теснились, прижимаясь друг к другу, всячески стараясь согреться. Человек десять нашли приют в крытом фургоне, остановившемся у края тротуара. Под лестницей, которая вела к станции надземной железной дороги, еще шесть или восемь, глубоко засунув руки в карманы и ссутулившись, переминались с ноги на ногу. А народ все шел и шел… Странная процессия! Некоторые ступали тяжело и неловко, в их походке, характерной для профессиональных бродяг, чувствовалась безнадежность; иные подходили неуверенным шагом людей, которые столкнулись с этим впервые.
День тянулся невероятно долго. Снежные вихри выискивали прятавшихся в их убогих укрытиях и, ловко забиваясь между ними, обдавали градом колющих мелких хлопьев: и люди сразу промокали насквозь. Они жались друг к другу, что-то бормотали и старались запрятать поглубже в карманы свои красные, воспаленные руки.
Вновь приходившие останавливались около групп и обращались с вопросом: «Уже открыто?» — вероятно, скорее ради формы.
Ожидавшие, склонны были принять вопрос всерьез и презрительно отвечали: «Нет, а то зачем мы торчали бы здесь?»
Толпа беспрерывно и неуклонно росла. А люди все шли, медленно и тяжело ступая, с трудом пробиваясь сквозь вьюгу.
Наконец от вечерних теней снежные прогалины на улице стали принимать свинцовый оттенок. Кругом возвышались мрачные громады зданий, и только там, где окна вспыхивали яркими пятнами света, на снегу мерцали желтые блики. Фонарь на краю тротуара силился осветить улицу, но частые порывы ветра, залепив коркой грязи стекла, довели его до полной слепоты.
В наступившей полутьме бездомные начали выходить из своих укрытий и собираться перед благотворительными дверьми. Среди них попадались люди всякого рода, но главным образом преобладали американцы, немцы, ирландцы. У многих из них, сильных, здоровых, светлокожих парней, лица носили отпечаток, редко встречающийся у искателей благотворительности. Были здесь и люди, несомненно отличавшиеся терпением, прилежанием и умеренностью. В пору невезения такие люди обычно не обрушиваются на общество: они не ворчат на высокомерие богатых и не жалуются на трусость бедных. Нет, в подобные времена они склонны внезапно поддаться странной покорности; они словно видят, как от них ускользают все блага цивилизации, и стараются вспомнить, где именно они впервые потерпели неудачу, и постигнуть, чего же в них, собственно, не хватало, раз они оказались побежденными в жизненной борьбе. Среди этого разношерстного люда мелькали также изворотливые субъекты с Бауэри[2], которые привыкли платить по десять центов за ночлег, но теперь пришли сюда, потому что здесь он стоил дешевле.
Однако сейчас все они так перемешались, что различить в густой толпе тех или иных не представлялось возможным. Исключение составляли только рабочие; во время вьюги они большей частью оставались безмолвными и бесстрастными; со взором, устремленным на окна дома, они походили на статуи терпения.
Вскоре тротуар оказался загроможденным человеческими телами. Словно овцы в зимнюю стужу, люди плотно прижимались друг к другу, стараясь согреть один другого. Сверху эта плотно сжатая толпа могла бы показаться грудой товара, заносимой снегом, если бы эта толпа не покачивалась в едином ритмичном движении. Удивительно выглядел снег, лежавший на голове и плечах этих людей маленькими грядками и достигавший иногда почти дюйма толщины; хлопья падали беспрерывно, все нарастая, точно так же, как они падают на покорную траву в полях. Ноги у всех насквозь промокли и окоченели, желанием согреть их и объяснялось легкое медленное, ритмичное движение. Иногда у кого-нибудь от пронизывающего ветра так сильно щипало в ухе или носу, что он начинал всячески извиваться, пока его голова не оказывалась защищенной плечами товарищей.
Слышалось непрерывное бормотание — обсуждался вопрос, скоро ли откроют двери. Люди то и дело поднимали глаза к окнам. Сталкивались разные мнения:
— Гляньте-ка! В окошке-то свет!
— Нет, это отражение с той стороны!
— Да я же видел, как они его зажгли!
— Ах, ты видел?
— Да, видел.
— Ну, значит, все в порядке!
Когда подошло время, бездомные, в надежде, что им сейчас разрешат войти, ринулись к двери. Стараясь пробиться вперед в этой невообразимой давке, каждый работал плечами так, что, казалось, вот-вот кости затрещат. Мощной волной толпа хлынула к зданию. Вдруг среди моря голов пронесся слух:
— Они не могут открыть дверей! Впереди пробка!
Тогда из рядов тех, кто стоял сзади, раздался глухой гневный рев, но в то же время они продолжали напирать изо всех сил; вскоре передним стало невмоготу, и они принялись кричать и протестовать, готовые на все, лишь бы их не превратили в бесформенную массу:
— Эй, отойдите от двери!
— Убирайтесь оттуда!
— Вышвырните их!
— Прихлопните их!
— Эй, вы там, дайте же им, черт побери, открыть дверь!
— Свиньи вы проклятые, дайте им открыть дверь!
Те, что стояли сзади, время от времени пронзительно вскрикивали, когда кто-нибудь тяжелым каблуком наступал на их промерзшие пальцы.
— Слазь с моих ног, ты, образина косолапая!
— Эй, не стой у меня на ногах! Ходи по земле!
Человек возле самых дверей вдруг закричал: «О-о-ох!
Пустите! Выпустите!» А другой, исполненный беспредельной отваги, повернув голову вполоборота, заорал: «Эй, вы там, перестаньте толкаться!» — и выпустил залп самой крепкой и отборной брани прямо в лицо стоявшим позади него. Он словно молотил их по носу непристойными трехэтажными ругательствами. Лицо его, красное от ярости, с выражением величайшего пренебрежения к тому, что будет, отчетливо выделялось над толпой. Но всем было не до того, чтобы отвечать на его проклятия, — слишком уж пробирал холод. Многие тихонько хихикали, но все упорно продолжали проталкиваться вперед.
Когда движение толпы на время затихало, людям удавалось отпустить шутку-другую, обычно мрачную и, конечно, грубую. Тем не менее шутки эти были примечательны, — ведь нельзя же ожидать веселости от груды старого тряпья, полузанесенного снегом.
Время шло, а вьюга, казалось, свирепела все больше. Иногда порывы снежного вихря, обрушиваясь на это тесное сборище, резали как ножом, кололи как иглой. Люди беспорядочно толпились и ругались, но делали это не как зловещие убийцы, а, так сказать, в американской манере: угрюмо и с отчаянием, однако вместе с тем и с каким-то удивительным тайным смыслом, неясным и мистическим, как будто в этой ситуации, в этой катастрофе, разыгравшейся в вьюжную ночь, таилось что-то забавное.
Один раз витрина огромного мануфактурного магазина на противоположной стороне улицы на несколько минут отвлекла их внимание. В ярко освещенном пространстве появился мужчина. Он был довольно тучен и очень хорошо одет. Борода его была изящно подстрижена в стиле принца Уэльского. Мужчина стоял в живописной позе, выражавшей раздумье. Медленно и величественно поглаживая усы, он смотрел на толпу, занесенную снегом. Стоявшим внизу он казался олицетворением самодовольства. Зрелище, представшее перед его глазами, по-видимому производило на него обратное действие и давало ему возможность сильнее почувствовать великолепие окружающей его обстановки. Кто-то из толпы случайно повернул голову и заметил эту фигуру в витрине. «Эй, гляньте-ка на его баки», — весело сказал он.
Многие повернулись, и сразу поднялся крик. Они взывали к нему на самые разные лады. Они обращались к нему по-всякому, начиная от фамильярных и дружеских приветствий и кончая высказанными в тщательно подобранных выражениях советами и заявлениями о необходимости произвести некоторые изменения во внешности его особы. Человек вскоре обратился в бегство, а толпа злобно загоготала, словно людоед, что-то сожравший минуту назад.
Затем бездомные занялись серьезным делом. Обращаясь к неподвижному фасаду дома, они восклицали:
— О, бога ради, впустите!
— Впустите нас, не то мы все здесь околеем!
— Эй вы, чего ради держать нас, жалких бродяг, на холоде?
И все время слышалось чье-то: «Не наступай мне на ноги!»
Под конец давка в толпе стала невыносимой. При каждом порыве ветра, чувствуя острую боль, люди готовы были передраться. Под безжалостными снежными вихрями борьба за кров достигла своего апогея.
Стало известно, что откроют дверь в нижнем этаже, у подножия небольшой крутой лестницы, и бездомные, как черти, с остервенением толкаясь и напирая, устремились в ту сторону. Слышно было, как они прерывисто и тяжело дышали и стонали, яростно прилагая все усилия, чтобы пробиться к двери.
В передних рядах то и дело раздавался чей-нибудь протест, обращенный к тем, кто находился сзади:
— Ой-ой-ой, да ну же, ребята, не нажимайте так! Вы что? Хотите угробить кого-нибудь?
Прибыл полисмен и устремился в самую гущу толпы. Ворча и ругаясь, а время от времени прибегая и к угрозам, он пользовался лишь силой своих рук и плеч против этих людей, борющихся только за то, чтобы укрыться от метели. Его решительный голос звучал резко: «Перестаньте толкаться, осадите назад! Давайте-ка, ребята, не толкайтесь! Прекратить это! Не напирать! Оставьте это!»
Когда дверь внизу открылась, люди сплошным потоком понеслись вниз по лестнице, которая оказалась необычайно узкой и могла вместить в ширину не более одного человека. Однако они как-то умудрялись спускаться вниз чуть ли не по трое в ряд. Это был трудный и болезненный процесс. Толпа походила на бурлящую воду, пробивающуюся через единственный крохотный выход. Стоявшие сзади, возбужденные успехом передних, делали неистовые усилия, чтобы протолкнуться вперед. Они опасались, что на всех не хватит места и многие останутся на мостовой. Очутиться там было бы бедствием, и поэтому бездомные, в лица которым хлестал снег, извивались и крутились что есть сил. Можно было ожидать, что в этой страшной давке узкий проход к двери в нижнем этаже будет так запружен и забит человеческими телами, что движение вообще прекратится. И действительно, один раз толпе пришлось остановиться. Пронесся слух, что у подножия лестницы ранили человека. Но вскоре медленное движение возобновилось; наверху, на площадке лестницы, полисмен боролся, стараясь ослабить нажим на тех, кто спускался вниз.
Красноватый свет падал из окна на лица людей, когда они по очереди подходили к последним трем ступенькам и уже собирались войти. В этот момент в глаза бросалась перемена в выражении их лиц. На пороге осуществления своих надежд они вдруг обретали удовлетворенный и самодовольный вид. Их взоры больше не пылали огнем, а с губ уже не срывались злые и циничные слова. На раздражавший их прежде натиск они смотрели уже с другой точки зрения, так как было ясно, что теперь они пройдут через эту маленькую дверь туда, где свет манил радостью и теплом.
Мечущаяся по тротуару толпа становилась все меньше и меньше. Снег с безжалостной настойчивостью хлестал по склоненным головам тех, кто ждал. Ветер взметал его с мостовых, неистово крутил в бешеном белом вихре и со свистом кружился вокруг толпившихся людей, один за другим или сразу по трое уходивших из вьюги.
Перевод Ю. ГальпернНа тему о нищете
Был поздний вечер, неслышно моросил мелкий дождь, и мостовая блестела в лучах бесчисленных огней стальными, желтыми и голубыми отсветами. Какой-то юноша, глубоко засунув руки в карманы, медленно и отупело брел по улице, направляясь к той части города, где за несколько центов можно получить на ночь койку. На нем был ветхий, давно уже превратившийся в лохмотья костюм, а его грязная, с обтрепанными полями шляпа приобрела совсем фантастический вид. Голод и жажда сна гнали его вперед, как гонят они вперед всех голодных и бездомных. Когда он добрался до Сити-Холл-парка, визгливые выкрики мальчишек: «Нищий, бродяга!» и другие столь же нелестные прозвища облепили его, казалось, с головы до пят, и он находился в состоянии глубокого уныния. Мелкий, сеявший словно из сита дождь насквозь промочил потертый бархатный воротник его пиджака, и когда он почувствовал на шее прикосновение мокрой ткани, жизнь окончательно потеряла для него всякую привлекательность. Он огляделся вокруг, ища еще такого же отщепенца, который мог бы разделить с ним его невзгоды, но скамейки, стоявшие вдоль аллей и вокруг мокрых газонов и блестевшие от дождя в дрожащем свете фонарей, были пусты. Они отдыхали от своего обычного ночного груза — как видно, их завсегдатаи нашли для себя что-нибудь поудобнее на эту ночь. Только кучки элегантно одетых бруклинцев стекались со всех сторон в направлении моста.
Некоторое время юноша бесцельно слонялся по парку, а потом побрел дальше по Парк-роу, с трудом волоча ноги. Внезапно он испытал облегчение — произошла перемена в окружающей обстановке, и он снова почувствовал себя как бы дома: перед ним мелькали лохмотья под стать его собственным. На Чатам-сквере кучки людей бесцельно торчали перед дверями баров и ночлежных домов — унылые, терпеливые, похожие на цыплят, застигнутых ливнем: Он присоединился к ним и не спеша, озираясь по сторонам, погрузился в людской поток, струившийся вдоль большой улицы.
В тумане холодной, ветреной ночи молчаливой вереницей проносились вагоны трамвая: огромные, сверкающие киноварью и медью, мощные в своем стремительном движении, спокойные и неотвратимые, мрачные и угрожающие, они изредка нарушали тишину громким, яростным визгом звонков. Два людских потока бурлили на покрытых грязью тротуарах, и башмаки прохожих оставляли в грязи отпечатки, напоминающие шрамы. Поезда надземной железной дороги с резким скрежетом колес останавливались у виадука. Столбы его были как лапы, и он, словно чудовищный краб, раскорячился над улицей. Слышно было глухое, тяжкое пыхтенье паровозов. А в глубине переулков висели, казалось, мрачные, пурпурно-черные занавесы с вышитыми на них тусклыми цветами слабо мерцавших фонарей.
Бар на углу улицы походил на прожорливую пасть. Вывеска над входной дверью возвещала: «Сегодня горячий суп бесплатно!» Створки дверей раскрывались, как алчные губы, удовлетворенно чмокая всякий раз, как бар заглатывал очередного посетителя, пожирая их одного за другим с беспримерным и ненасытным аппетитом, наглой усмешкой встречая людей, стекавшихся сюда со всех сторон, подобно жертвам какого-то языческого ритуала.
Привлеченный заманчивой вывеской, юноша дал себя проглотить. Хозяин бара поставил на стойку кружку зловеще черного пива. Она воздвигалась, подобно монументу. Увенчавшая ее шапка пены переросла голову юноши.
— Суп там, господа! — гостеприимно провозгласил хозяин бара. Маленький человечек с желтым, как лимон, лицом, одетый в лохмотья, и только что вошедший юноша схватили свои кружки и торопливо направились к стойке, где буфетчик с сальными, но весьма внушительными усами, любезно зачерпнув что-то из котла, отпустил им подаяние в виде супа, от которого шел густой пар и в котором плавало нечто отдаленно напоминавшее кусочки куриного мяса. Юноша, хлебая свой суп, воспринял теплоту этой жижи как некое выражение радушия и, улыбаясь, посмотрел на человека с сальными, но внушительными усами, который стоял за стойкой, словно священник перед алтарем. «Хотите еще, господа?» — обратился тот к двум маячившим перед ним жалким фигурам. Желтолицый человечек изъявил свое согласие, проворно подставив миску, но юноша покачал головой и направился к выходу следом за каким-то оборванцем, который поразил его своим нищенским видом, — можно было не сомневаться, что у того имеются обширные познания по части дешевых ночлежек.
На улице юноша заговорил с оборванцем:
— Послушай, не знаешь ли, где можно дешево переночевать?
Оборванец ответил не сразу. Он поглядел по сторонам. Потом кивнул куда-то в темноту.
— Я сплю там, — сказал он, — когда у меня есть деньги.
— А сколько нужно?
— Десять центов.
Юноша уныло покачал головой:
— Это мне не по карману.
Тут к ним, пошатываясь, подошел странно одетый человек. Голова его представляла собой хаос всклокоченных волос и бакенбард, из которого, воровато кося, выглядывали глаза. Присмотревшись внимательнее, можно было различить жесткую линию рта, твердо и плотоядно сомкнутые губы, словно он только что проглотил что-то нежное и беспомощное. У него было лицо убийцы, закосневшего в неуклюже и грубо совершаемых преступлениях.
Но сейчас голос его был настроен на льстивый тон, и вид напоминал ластящуюся собачонку. Заискивающе поглядев на них, он завел свою несложную песенку попрошайки:
— Джентльмены, подайте два-три цента бедному парню на ночлег. У меня есть пять, еще два — и я получу койку. По чести, джентльмены, не можете ли вы одолжить мне два цента на ночлег? Тяжело, знаете ли, приходится порядочному человеку, когда не повезет. Вот я…
Оборванец, бесстрастно глядя на поезд, с грохотом проносившийся над головой, равнодушно прервал его:
— Пошел к черту!
Но юноша удивленно спросил этого убийцу-горемыку:
— Спятил ты, что ли? Ты бы клянчил у тех, у кого набиты карманы.
Убийца, пошатываясь на ослабевших ногах и время от времени махая руками у себя перед носом, словно отстраняя какие-то незримые помехи, пустился в пространные психологические разглагольствования. Они были столь глубокомысленны, что понять их оказалось невозможным. Когда он исчерпал эту тему, юноша сказал:
— Покажи-ка свои пять центов.
При этих исполненных недоверия словах на лице убийцы изобразилась пьяная скорбь. С видом жестоко оскорбленного человека он начал рыться в своих лохмотьях; его красные руки дрожали. Наконец он произнес с глубокой печалью, точно обнаружив обман:
— Вот, тут только четыре.
— Четыре, — задумчиво повторил юноша. — Ладно, я здесь впервые. Если ты доставишь меня в твое дешевое логово, я добавлю тебе три.
Лицо убийцы просияло от радости. Усы зашевелились под наплывом приличествующих случаю переживаний. В порыве восторженного дружелюбия он схватил юношу за руку.
— Черт побери! — вскричал он. — Ну, если ты это сделаешь, стало быть ты хороший малый, и я буду тебя помнить. Да, я буду тебя помнить всю жизнь! Я буду тебя помнить, черт побери, и, если доведется, сквитаюсь с тобой! — И прибавил с пьяным достоинством: — Черт побери, я не останусь в долгу и всегда, всегда буду тебя помнить!
Юноша отстранился, холодно взглянув на убийцу.
— Слушай, — сказал он, — ты только покажи мне это логово, больше от тебя ничего не требуется.
Убийца повел юношу по темной улице, жестами изъясняя свою признательность. Наконец они остановились перед низкой и грязной дверью. Убийца торжественно поднял руку.
— Вот! — сказал он, и на лице его отразился испуг, порожденный мудростью долголетнего опыта. — Я сделал, что обещал, я привел тебя сюда, так ведь? Если тебе здесь придется не по вкусу, ты не свернешь мне шею? Нам незачем ссориться, верно?
— Ладно, — сказал юноша.
Убийца театрально взмахнул рукой и двинулся вверх по крутой лестнице. По дороге юноша сунул ему три цента. Наверху какой-то человек, благосклонно поблескивая стеклами очков, выглянул из окошечка, прорезанного в двери. Он забрал у них деньги, записал их имена в книгу, и они торопливо зашагали следом за ним по окутанным мраком коридорам.
Через несколько минут после начала этого путешествия юноша почувствовал, как у него подступает к горлу тошнота: откуда-то из темных, таинственных углов внезапно поползли странные, непередаваемые запахи. Они налетели на него, как злая, крылатая зараза. Это были испарения человеческих тел, заполнявших сверху донизу эту трущобу, дыхание сотен зловонных ртов, перегар бесчисленных вчерашних попоек — свидетельства бесчисленных сегодняшних страданий.
Какой-то человек с заспанным лицом шествовал по коридору. На нем не было ничего, кроме короткой нижней рубашки табачного цвета. Он протер глаза и, оглушительно зевнув, потребовал, чтобы ему сообщили который час.
— Половина первого.
Человек снова зевнул. Он отворил дверь, и на мгновение в ее черном провале обрисовался его силуэт. Когда они тоже подошли к двери и отворили ее, отвратительные запахи, как стая злых духов, обрушились на них, и юноша покачнулся, словно под напором урагана.
Глаза его не сразу привыкли к мраку, но человек с благосклонно блестевшими очками уверенно вел его вперед и лишь на минуту приостановился, чтобы водворить ковылявшего позади убийцу на свободное место. Он подвел юношу к койке, уныло стоявшей у окна, указал ему на высокий ящик для платья, подобно надгробному камню зловеще высившийся у изголовья, и ушел.
Юноша присел на койку и осмотрелся вокруг. В глубине комнаты газовый рожок тускло горел дрожащим оранжевым пламенем. Огромные качающиеся тени рождались во всех углах комнаты, и только вокруг рожка было сероватое пятно света. Когда глаза юноши привыкли к темноте, он начал различать на койках, загромождавших всю комнату, фигуры людей: одни лежали разметавшись, безгласные как трупы, другие храпели и дышали с мучительным усилием, словно вытянутые из воды рыбы.
Юноша запер шляпу и башмаки в саркофаг у изголовья и лег, накинув на плечи свой старый, неразлучный с ним пиджак. Поверх пиджака он брезгливо натянул одеяло. Койка была обита клеенкой, холодной как талый снег. Он долго дрожал на этом сооружении, похожем на могильную плиту. Когда озноб наконец унялся, юноша повернул голову и поглядел на своего приятеля-убийцу, фигуру которого смутно различил в углу. Тот лежал, разметавшись на своей койке с безразличием пьяного, и издавал необычайно мощный храп. Его мокрые волосы и борода отливали тусклым блеском, а воспаленный нос сиял, как красный фонарь в тумане.
Рядом с собой юноша увидел желтые плечи и грудь какого-то человека, не покрытые одеялом, несмотря на ледяной воздух комнаты. Одна рука его свесилась с койки и касалась пальцами сырого цементного пола. Под черными бровями в щелках полузакрытых век виднелись белки глаз. Юноше показалось, что это трупоподобное существо смотрит на него упорным, пристальным взглядом, и в этом взгляде ему почудилась угроза. Он откинулся назад и из-за края одеяла, оставлявшего в тени его лицо, стал наблюдать за своим соседом. Человек ни разу не пошевелился, он хранил мертвую неподвижность, как труп, распластанный на столе и ожидающий ножа анатома.
Куда бы ни взглянул юноша — везде перед ним были обнаженные красно-бурые тела, выступающие из мрака, торчащие над койками конечности, приподнятые колени, руки, длинные и тощие, свисающие с коек. Почти все спящие здесь казались статуями, изваяниями, мертвецами. Нелепые ящики, торчавшие повсюду, словно надгробные памятники, придавали комнате странный вид, делая ее похожей на кладбище, заваленное трупами, оставленными без погребения.
Порой, однако, он видел дикие взмахи рук и ног, причудливые, бредовые жесты, сопровождавшиеся гортанными криками, скрежетом зубов, проклятиями. Напротив него, в темном углу, лежал парень, переживавший во сне какие-то немыслимые бедствия; временами он испускал протяжные вопли, похожие на вой гончей, и они скорбно и глухо отдавались среди этого мрачного скопища надгробных плит и людей, лежавших неподвижно, как трупы.
Начинаясь пронзительным криком, ослабевая постепенно до жалобного стона, этот вопль говорил о жестоких трагедиях, таящихся в неисследуемых глубинах человеческого сна. Но для юноши это не был просто крик потрясенного сновидениями человека — в нем воплотился для него смысл всей этой комнаты и ее обитателей. Он услышал в нем протест обездоленного, который, чувствуя прикосновение неумолимых гранитных колес, молит о чем-то с нечеловеческим красноречием, с неведомой для него самого силой, выражая жалобу всех себе подобных, класса, народа. Этот крик не давал ему уснуть, колыхаясь в его мозгу, переплетаясь с огромными, зловещими тенями, которые, подобно гигантским черным пальцам, обвивали обнаженные тела, и он лежал, рисуя себе историю жизни этих людей на основе собственного жалкого опыта. А человек в углу снова и снова стонал, корчась в агонии своих сновидений.
Потом длинная, тонкая, как лезвие ножа, полоса тусклого света пробилась сквозь пыльное стекло окна. За окном обозначились крыши домов, уныло белые в свете зари. Край полосы желтел, разгораясь все ярче, и наконец золотые лучи утреннего солнца смело и властно проникли в комнату. Они одели лучистым ореолом фигуру маленького толстенького человечка, который храпел прерывисто, словно заикаясь. Его круглый блестящий лысый череп внезапно засиял, как почетная медаль. Он сел, щурясь от солнца, раздраженно выругался и натянул одеяло на ослепительное сияние своей головы.
Юноша, удовлетворенно наблюдая, как перед сверкающими копьями солнечных лучей обращались в бегство побежденные тени, внезапно задремал. Проснувшись, он услышал голос убийцы, громко, с воодушевлением ругавшегося, и, приподняв голову, увидел, что тот сидит на краю койки и сосредоточенно скребет шею длинными ногтями, производя такой звук, словно он работал напильником.
— Будь я проклят, это какая-то новая порода! У них не лапы, а консервные ножи. — Он разразился яростной и замысловатой бранью.
Юноша торопливо отпер свой ящик, вынул башмаки и шляпу. Он шнуровал башмаки, сидя на краю койки и поглядывая вокруг, и заметил, что при дневном свете комната приобрела обыденный и неинтересный вид. Люди натягивали одежду; лица их казались тупыми, вялыми или равнодушными. В комнате стоял гомон шумливо переругивающихся голосов.
Некоторые беспечно разгуливали нагишом. Среди них было несколько мускулистых силачей — их гладкая красновато-коричневая кожа блестела. Они принимали позы и стояли величественные, как статуи, похожие на индейских вождей. Но как только они напялили свои нелепые лохмотья, с ними произошла разительная перемена: они сразу стали корявыми и нескладными.
Другие поражали разнообразными уродствами. У них были сутулые, сгорбленные спины, перекошенные или искривленные плечи. Особенно бросался в глаза маленький толстенький человечек — тот, которому не понравилось, когда его голова так великолепно засверкала. Его мясистая грушеобразная фигурка мелькала то тут, то там. Он ругался, как базарная торговка. По-видимому, у него пропало что-то из одежды.
Юноша быстро оделся и подошел к своему приятелю убийце.
Тот сначала взглянул на него оторопело. Лицо юноши маячило где-то в туманных пространствах его памяти. Он снова почесал шею и задумался. Потом ухмыльнулся, и широкая улыбка медленно расплылась по его лицу, превратив его в круглое сияние.
— Привет, Уилли! — обрадованно воскликнул он.
— Привет, — ответил юноша. — Ну, ты готов? Пора отчаливать.
— Иду. — Убийца тщательно подвязал подметку веревкой и заковылял к двери.
Выйдя на улицу из ночлежки, юноша не почувствовал внезапной перемены. Он уже забыл о зловонии, ему дышалось легко, тошнота и отвращение давно перестали его мучить.
Размышляя над этим, юноша шагал по улице и вздрогнул от неожиданности, когда дрожащая рука убийцы внезапно вцепилась ему в плечо и над ухом у него прозвучал срывающийся от волнения голос:
— Будь я трижды проклят! Там в этой дыре я видел одного малого в ночной рубашке!
Слова эти сначала ошеломили юношу, но затем он снисходительно улыбнулся такому проявлению юмора.
— Врешь ты, сволочь! — кратко возразил он.
В ответ убийца, отчаянно размахивая руками, принялся призывать в свидетели каких-то неслыханных богов. Он яростно накликал на свою голову самые необыкновенные бедствия в доказательство того, что не соврал.
— Говорю тебе, я видел! Лопнуть мне, не сходя с места! — торжественно уверял он, и в широко раскрытых глазах его светилось изумление, а рот нелепо кривился от восторга. — Да, да, сэр! Ночная рубашка! Настоящая белая ночная рубашка!
— Врешь ты!
— Нет, сэр! Помереть мне без единого глотка виски, если на этом типе не было настоящей белой ночной рубашки!
Его лицо выражало безграничное удивление. «Настоящая белая ночная рубашка!» — без конца твердил он.
Юноша увидел темный вход в ресторан в подвале. Вывеска гласила: «У нас кормят без затей!» Там были и другие, замызганные, полустертые надписи, стремившиеся убедить его, что это место ему по карману. Он остановился перед рестораном и сказал убийце:
— Пожалуй, зайду перекусить.
Услыхав это, убийца почему-то пришел в сильное замешательство. С минуту он стоял, уставившись на соблазнительную дверь, потом медленно побрел дальше.
— Ну что ж, прощай, Уилли, — мужественно сказал он.
Юноша посмотрел вслед удалявшемуся убийце. Потом крикнул:
— Эй ты, обожди!
Когда они снова сошлись, он заговорил свирепо, словно боясь, как бы тот не заподозрил его в благотворительности.
— Вот что. Ты, верно, жрать хочешь. Я одолжу тебе три цента на завтрак, только уж дальше смотри, раздобывай себе сам. Я с тобой нянчиться не стану, а то мне и до вечера не протянуть. Что я, миллионер, что ли!
— Клянусь тебе, Уилли, — сказал убийца серьезно, — все, что мне сейчас нужно, — это хороший глоток виски. У меня горло точно раскаленная сковородка. Ну, а раз нет виски, завтрак тоже неплохая штука, и если ты это сделаешь… Черт побери, ты малый хоть куда!
Еще с минуту они изощрялись в обмене любезностями, причем каждый торжественно заверял другого, что тот истый джентльмен, пользуясь собственным оригинальным выражением убийцы. Закончилось это взаимными заверениями в том, что оба — воплощение благородства и добропорядочности, после чего они вместе вступили в ресторан.
Там была длинная стойка, слабо освещенная неизвестно откуда проникавшим светом. Несколько официантов в грязных белых куртках сновали взад и вперед.
Юноша взял себе кружку кофе за два цента и булочку за один цент. Убийца сделал то же. Кружки разузорила паутина коричневых трещин, а погнутые жестяные ложки, вероятно, были найдены при раскопках одной из самых древних египетских пирамид. Они были покрыты наростами, похожими на мох, и хранили следы зубов давно ушедших поколений. Но бродяги за едой согрелись и повеселели. Убийца размяк, чувствуя, как горячая жидкость, словно бальзам, вливается в его пересохшую глотку, а юноша ощутил прилив бодрости во всем теле.
Убийцу начали одолевать воспоминания, и он принялся рассказывать какие-то истории, запутанные и бессвязные, выкладывая их со старушечьей поспешной болтливостью.
— …В Орандже работы хватало. Хозяин заставлял работать день и ночь. Я пробыл там три дня, потом иду к нему и прошу одолжить мне доллар. «Пошел к черту!» — говорит он и прогнал меня.
— На юге не лучше. Проклятые негры работают за двадцать пять — тридцать центов в день. Совсем вытеснили белых. Зато жратва там хорошая. Дешевая жизнь.
— Да и в Толедо малость поработал — сплавлял лес. Весной зашибал два-три доллара в день. Жил шикарно, только холодина там страшная зимой.
— Я из штата Нью-Йорк, из северной части. Ты, верно, бывал там? Пива нет, виски нет, кругом леса. Жратва у нас, правда, неплохая, горячего ешь сколько хочешь, но только и всего. Черт возьми, я валандался там, пока хватало сил, но в конце концов старик выгнал меня. «Проваливай отсюда ко всем чертям, бездельник ты и негодяй, — сказал он, — проваливай ко всем чертям и сдохни на дороге!» — «Хорошо отец, — говорю я ему, — чтоб тебя задавило!» — и ушел.
Выбираясь из этого унылого подвала, они увидели старика, который старался проскользнуть к выходу с крошечным свертком какой-то еды в руках, но высокий мужчина с буйными усами стоял, подобно дракону, преграждая ему путь. Они услыхали, как старикашка жалобно протестовал: «Вот вы вечно допытываетесь, что это я такое выношу отсюда, а нет того, чтобы заметить, что я приношу этот сверток с собой, с работы».
Когда они медленно брели по Парк-роу, убийца совсем разошелся и повеселел.
— Черт возьми, мы живем как короли! — сказал он, удовлетворенно причмокнув губами.
— Смотри, как бы не пришлось расплачиваться за это сегодня же ночью, — угрюмо предостерег его юноша.
Но убийца не пожелал заглядывать в будущее. Он шел своей развинченной походкой, временами как-то по-козлиному подпрыгивая. Он скалил зубы, ухмыляясь во весь рот.
В Сити-Холл-парке они уселись в кольце скамеек, освященных традициями их класса. Они ежились в своих ветхих лохмотьях, ощущая точно сквозь сон, как текут часы, утратившие для них свой смысл.
Люди сновали взад и вперед: их фигуры из расплывшихся темных пятен внезапно превращались в резко очерченные силуэты. Они шли мимо, хорошо одетые, с озабоченным деловым видом, не замечая двух сидевших на скамейке бродяг. Для юноши они были живым воплощением той глубокой пропасти, которая отделяла его от всех жизненных благ. Положение в обществе, комфорт, радости жизни показались ему недосягаемым, сказочным царством. Внезапно его охватил страх.
А позади сурово высилась равнодушная серая громада зданий. Она представилась ему символом страны, которая вздымала над облаками свою царственную голову, не удостаивая взглядом землю и в величии своих стремлений не замечая обездоленных, копошащихся у ее ног. В гуле города ему слышался беспечный лепет каких-то неведомых голосов. Это звенели деньги. Это был голос, в котором воплотились надежды города, но они были не для него.
Он чувствовал себя отщепенцем, и в глазах его, блестевших из-под полей низко надвинутой шляпы, появилось виноватое выражение, словно это чувство было равносильно преступлению.
Перевод Т. ОзерскойМать Джорджа
I
В сумерки начался неистовый ливень, и широкая улица вдруг заблистала темно-голубыми красками, которые так часто осуждаются в картинах художников. Магазины тянулись длинными рядами, их витрины излучали ровный золотистый свет. Здесь и там то окна аптеки, то красные лампочки, указывающие местонахождение пожарных сигналов, отбрасывали на мокрую мостовую неясные, колеблющиеся пурпурные блики.
От огней рождались тени, и от этого здания выглядели как-то по-новому — грузно и массивно, напоминая замки или крепости. Шли бесконечные вереницы людей, могучие толпы; над головами, словно знамена, раскачивались зонтики. Экипажи, сверкающие свежей краской, грохотали в тесном строю между столбами надземной железной дороги. По всей улице раздавалось треньканье звонков, грохот железных ободьев по булыжнику, непрестанный топот сотен человеческих ног. И над всем этим разносились вопли крохотных мальчишек-газетчиков, сновавших по всем направлениям. На углах, укрывшись под навесами от стекающих с карнизов струй, стояло немало бездельников — выходцев из того мира, где люди готовы преклоняться перед внешним блеском.
Смуглый молодой человек шагал вдоль улицы. Под мышкой он держал судки, испытывая из-за них явное неудобство. Парень попыхивал короткой трубочкой. Плечи у него были широкие, надежные, а по манере держать руки и по набухшим на кистях венам видно было, что это — человек физического труда.
Когда он миновал один из перекрестков, какой-то человек в потертом костюме издал крик удивления и, стремительно бросившись вперед, схватил юношу за руку.
— Здорово, Келси, старик! — воскликнул мужчина в потертом костюме. — Как ты живешь, мальчик? Где ты, черт возьми, пропадал последние семнадцать лет? Пусть меня повесят, если я думал встретить тебя здесь…
Смуглый юноша поставил свои судки на землю и ухмыльнулся.
— Да неужто это старый Чарли Джонс? — сказал он, восторженно пожимая ему руку. — Ну, как ты вообще? Где ты пропадал? Да ведь я тебя год не видел…
— Выходит, что так! В последний раз мы повстречались в Хендивиле.
— Верно! В воскресенье…
— Вот именно. В заведении Билла Сиклса. Ну, пойдем, выпьем чего-нибудь!
Они направились в небольшой, с зеркальной дверью, салун, весело подмигивавший проходящей толпе. Он радостно проглотил их одним движением своих широко улыбающихся губ.
— Чего бы ты хотел, Келси?
— Ну, я, пожалуй, выпью пива…
— Налейте мне рюмочку виски, Джон.
Приятели облокотились на стойку, восторженно глядя друг на друга.
— Так, так, я чертовски рад тебя видеть! — сказал Джонс.
— Я думаю! — отвечал Келси. — Твое здоровье, старик!
— Пей до дна!
Они подняли стаканы, алчно оглядели друг друга и выпили.
— Ты не очень-то изменился, только здорово вытянулся, — задумчиво заметил Джонс, ставя свой стакан. — Я узнал бы тебя где угодно!
— Ну конечно, — согласился Келси. — Я тоже узнал тебя с первого взгляда. Хотя, сказать по правде, ты стал другим.
— О да, — подтвердил Джонс с некоторым самодовольством, — пожалуй, что так.
И он поглядел на себя в зеркало, где множились отражения бутылок, расставленных на полке в глубине бара. В зеркале он мог узреть свою улыбающуюся физиономию с довольно красным носом. Его котелок был небрежно сдвинут назад, две пряди волос беспорядочно свисали на впалые виски. Было в нем нечто очень земное и умудренное. Видно, жизнь не слишком его смущала: должно быть, он успел постичь всю ее сложность. Рука, побрякивающая ключами в кармане брюк, и шляпа на затылке — все обличало молодого человека с обширным жизненным опытом. А, широкое знакомство с владельцами баров весьма помогало ему сохранять обычное выражение мудрости.
Покончив с напитком, он повернулся к бармену:
— Джон, заходил сегодня кто-нибудь из нашей банды?
— Нет… пока нет, — отвечал бармен. — Старик Бликер болтался здесь днем около четырех. Он просил передать, если я увижу кого из ребят, что будет нынче вечером, если сумеет вырваться. Я видел еще О’Коннора и с ним другого парня; они проходили по улице примерно с час назад. Я так думаю, они скоро вернутся.
— Здесь завелась у нас замечательная компания, — сказал Джонс, обращаясь к Келси. — Сногсшибательная компания, говорю тебе. Тут мы как дома, когда сойдемся. Загляни как-нибудь вечерком. Мы тут почти каждый вечер. Ну, хоть бы сегодня, клянусь звездами! Будут почти все наши, и мне хочется тебя представить. Потрясающая банда! По-тря-са-ющая!
— Мне тоже хотелось бы, — сказал Келси.
— Так в чем же дело! — радостно воскликнул Джонс. — Они тебе понравятся. Это же неслыханная компания! Заходи сегодня же!
— Приду, если смогу.
— Так ведь у тебя же нет никаких дел, — сказал Джонс. — Ну вот и приходи. Почему бы тебе не провести время с хорошими ребятами? Это знаменитая банда. Знаменитая! Зна-ме-ни-тая!
— А пока мне пора домой, — ответил Келси. — Чертовски поздно. Что ты выпьешь теперь, старина?
— Дайте-ка еще чуточку виски, Джон…
— А я думаю — еще кружку пива.
Джонс опрокинул виски в свой широкий рот и поставил стаканчик на прилавок.
— Давно ты в Нью-Йорке? — спросил он. — Что ж, три года — это для ловкого парня срок немалый. Зарабатываешь прилично?.. Хотя что я, кто же может заработать в наши дни?..
Он скорбно посмотрел на свой потертый костюм.
— Отец у тебя помер, не так ли? Верно я говорю? Свалился, кажется, с лесов? Я где-то слышал об этом. Мать, конечно, жива? Я так и думал. Превосходная старая дама… Просто замечательная. Да, так, значит, ты младший из ее мальчиков… Поначалу вас было пятеро — так, кажется? Я знал тех четверых! Да, пятеро! Знаю… И все померли, кроме тебя? Теперь ты должен держать себя в руках и быть утешением для старухи мамаши. Так, так, так… Кто бы подумал, что один ты останешься из всей этой кучи кудлатых детей!.. Так, так, так… Какой все-таки странный мир… а?
Эти размышления настроили Джонса на грустный лад. Он вздохнул и угрюмо уставился на приятеля, потягивавшего пиво.
— Да, да, странный мир… Черт его подери, странный все-таки мир…
— Да, — отозвался Келси, — я остался один…
В его голосе прозвучала нотка неудовольствия — ему не понравилось, что разговор все время вертится вокруг обстоятельств, имеющих к нему прямое отношение.
— А как поживает старая леди? Помню, в последний раз, как я ее видел, она была такая живая, подвижная, словно маленький сверчок; она моталась по всей округе, выступала в Женском союзе трезвости, то об одном, то о другом…
— Что ж, она чувствует себя неплохо, — отвечал Келси.
— Так, значит, из пяти мальчиков у нее остался ты один? Так, так… Выпей-ка еще на прощание.
— Пожалуй, с меня хватит…
В глазах у Джонса промелькнуло чувство обиды.
— Ну, давай! — приставал он.
— Ладно, возьму еще кружку пива.
— Налейте еще виски, Джон!
Когда закончилась эта церемония, Джонс проводил своего приятеля до дверей салуна:
— До свидания, старина, — молвил он радушно. Его некрасивое лицо светилось дружелюбием. — Теперь обязательно заходи. Сегодня же! Понятно? Это же мировая компания! Ми-ро-ва-я!
II
Краснолицый угреватый мужчина высунулся из окна, отчаянно ругаясь: через два внутренних дворика он запустил пустой бутылкой в окно противоположного дома. Бутылка разбилась о кирпичную стену, и осколки со звоном упали вниз на камни. Мужчина погрозил кулаком.
Женщина с обнаженными руками, занятая развешиванием выстиранных платьев в одном из дворов, случайно посмотрела вверх и прислушалась к его словам. Вслед за мужчиной она тоже стала разглядывать другой дом. В дальнем окне какой-то юноша с трубкой громко высказывался о неудачном броске. Двое детей, находившихся в ближнем дворике, подобрали осколки стекла и начали возиться с ними, как с новой игрушкой.
Из окна, так раздражавшего мужчину, прозвучал старческий голос — там пели. Звук срывался и дрожал в воздухе, как будто у духа голоса надломилось крыло.
Неужто мне на небесах Среди цветов гулять, Когда другим пришлось в морях Кровавых путь держать?..Мужчина в противоположном окне взволновался еще пуще. Он продолжал ругаться.
Голос принадлежал маленькой старушке. Она трудилась над уборкой квартиры на четвертом этаже красно-черного дома. Руки ее были заняты горшками и кастрюлями, иногда метлой и совком. Она потрясала ими, как оружием. Казалось, это их вес согнул ее спину, искривил ее руки, отяжелил походку. Часто она погружала пальцы в раковину. Она расплескивала воду вокруг, и при этом истощенные мышцы ее рук перекатывались под дряблой кожей. И она отходила вся промокшая, словно перейдя вздувшуюся реку.
В комнате ощущалось смятение боя. Сквозь облака пыли или пара можно было разглядеть худенькую фигурку, наносящую могучие удары. Казалось, на ее пути повсюду возникают преграды.
Ее швабра, словно пика, беспрестанно угрожала демонам пыли. Лязг и звон сопровождали ее битву с неутомимыми врагами.
То была картина неуемной доблести. Работая, она часто возвышала голос до протяжного крика, до некоего странного боевого гимна, до воинственного и угрожающего призыва, который взлетал и спадал резкими нотами, терзая уши мужчины с красным и угреватым лицом:
Неужто мне на не-е-бе-сах Среди цве-е-тов гулять…Наконец она на минуту остановилась. Подойдя к окну, уселась, вытирая лицо фартуком. То была краткая пауза, минутная передышка. И все-таки видно было, что даже теперь она замышляет новые схватки, атаки, боевые кампании.
Она внимательно оглядывала комнату, отмечая силу и расположение врагов. Она была настороже.
Затем старушка вернулась к камину. «Пять часов», — пробормотала она, пристально всматриваясь в небольшие щегольские никелированные часы.
Из окна она оглядела густую заросль дымовых труб на крышах. Человек, работавший возле одной из труб, казался не больше пчелы.
Внизу, в лабиринте дворов, веревки, похожие на дикий виноград, цвели диковинными листьями платьев. До ушей старушки донеслись вопли мужчины с красным угреватым лицом. Теперь он был целиком захвачен неистовым спором с юношей, который привлек внимание к его неудачному броску. Оба они походили на зверей в джунглях.
В отдалении огромный пивоваренный завод возвышался над прочими домами. Большие золотые буквы рекламировали марку пива. Густой дым валил из заводских труб и растекался вблизи широкими и мощными крыльями. Казалось, что это большая летящая птица, а буквы вывески — золотая цепь, висящая у нее на шее. Старушка взглянула на пивоваренный завод. На минуту она слегка заинтересовалась — такое изумительное предприятие, такая махина!
Но вот окончен отдых, и опять вступили в бой ее истощенные руки. В мгновение ока битва разгорелась со всей силой. Наносились и отражались неистовые удары. Раздавался грохот нового сражения. Маленькая настойчивая воительница не знала ни сомнений, ни колебаний. Она дралась изо всех сил, с несгибаемой волей. Капли и струйки пота выступали у нее на лбу.
Три синих тарелки стояли в ряд на полке у плиты. Маленькая старушка знала, что так принято.
Напротив красовались круглые никелированные часы. Ее сын воткнул множество папиросных этикеток в оправу висящего рядом зеркала. Несколько литографий были пришпилены прямо на пожелтевших стенах комнаты; одна из них — в позолоченной рамке. То было настоящее чудо — сплошь красные и зеленые тона. Все литографии выглядели как трофеи.
Начинало темнеть. Надвинулась легкая туманная дымка. Дождь мягко шлепал по подоконнику. В доме напротив зажглась лампа; яркий оранжевый луч озарил мужчину с красным угреватым лицом. Он сидел за столом, покуривая и размышляя.
Старушка снова посмотрела на часы: «Четверть седьмого…»
Она задержалась на миг, но тут же неистово бросилась к печке, которая притаилась в сумерках, красноглазая как дракон. Печка зашипела, и снова послышался грохот ударов. Крохотная старушка носилась взад и вперед.
III
Около семи часов старушка начала нервничать. Ей захотелось броситься в кресло и сидеть, сидеть, глядя на маленькие каминные часы…
— Не понимаю, почему его нет, — повторяла она беспрестанно, и в ее голосе слышалась какая-то необычная нотка отчаяния. Пока она сидела так, размышляя и поглядывая на часы, выражение ее лица быстро менялось. Самые различные оттенки чувств мелькали в ее глазах, в уголках ее рта. В своем воображении она, должно быть, переживала весь путь любимого человека. Она представляла себе несчастья и препятствия, подстерегающие его. Что-то страшное и досадное мешает ему прийти к ней…
Она зажгла керосиновую лампу. Комнату затопил яркий желтый свет. Покрытый клеенкой стол казался раньше голым куском коричневой пустыни. Теперь он превратился в белеющий сад, где выросли плоды ее трудов.
«Семь часов!» — пробормотала она наконец. Ее охватил ужас.
И тут внезапно она услыхала шаги на лестнице. Она вскочила и принялась сновать по комнате. С ее лица разом сбежало легкое выражение страха. Она уже готова была начать браниться.
В комнату вошел юный Келси. Со вздохом облегчения он поставил в угол свои судки. Он был явно измучен тяжелым трудовым днем.
Старушка приковыляла к нему, сжимая морщинистые губы. Казалось, она вот-вот расплачется, разразится упреками.
— Привет! — крикнул Келси, желая ее подбодрить. — Беспокоилась?
— Да, — отвечала мать, суетясь вокруг него. — Где ты был, Джордж? Отчего так поздно? Не бросай здесь пиджак. Повесь его за дверью.
Сын повесил пиджак на крючок и принялся плескаться в жестяном тазике возле раковины.
— Видишь ли, я повстречал Джонса… Ты, верно, помнишь Джонса? Старый приятель из Хендивиля… Ну, пришлось задержаться, потолковали о прошлых временах. Джонс — настоящий парень.
Старушка внезапно сжала губы.
— О, этот Джонс! — заметила она. — Не люблю я его…
Юноша перестал вытираться белым полотенцем и бросил на нее сердитый взгляд.
— Ну, зачем все эти речи? — ответил он матери. — Что ты о нем знаешь? Говорила ты с ним хоть раз в жизни?
— Не помню, говорила ли я с ним с той поры, как он вырос, — сказала старушка. — Только знаю, что он не из тех людей, с которыми тебе надо дружить. Он дурной человек, в этом я уверена. Он пьет…
Сын рассмеялся: «Черта с два!» Видимо, это сообщение смутило его, но не слишком расстроило.
Мать покачала головой с видом человека, готовящегося поведать нечто страшное.
— Я в этом уверена! Однажды я видела, как он выходил из гостиницы Симсона — там, в Хендивиле, — он еле на ногах держался. Да, да, он пьет! Уверена, что пьет!
— О господи! — сказал Келси.
Они сели за стол и принялись за плоды ее белого садика. Юноша развалился на стуле с видом человека, который платит за все. Мать сидела нагнувшись, бдительно следя за каждым глотком. Она притулилась на самом краешке стула, готовая вскочить и броситься к буфету или к печке, чтобы подать то, что ему может понадобиться. Она волновалась, словно юная мать, кормящая своего младенца. В небрежной и спокойной позе сына отражалось сознание собственного достоинства.
— Сегодня ты мало ешь, Джордж!
— Да, сказать по правде, я не очень-то голоден…
— Разве тебе не нравится ужин, милый? Ты должен что-нибудь скушать, сынок. Нехорошо уходить голодным.
— Что ж, я ведь ем как-никак…
И он рассеянно ковырялся в тарелке. Старушка сидела напротив, рядом с почерневшим кофейником, и нежно разглядывала сына. Но вскоре ее охватило волнение. Ее сморщенные пальцы напряглись. Она готовилась рискнуть. Для нее настал решительный момент.
— Джордж, — сказала она внезапно, — пойдем сегодня на молитвенное собрание.
Молодой человек уронил вилку.
— Да ты с ума сошла, — ответил он удивленно.
— Нет, голубчик, — быстро заговорила она тоненьким, умоляющим голосом, — мне очень хочется, чтобы ты хоть разик пошел со мной; ты теперь нигде со мной не бываешь, милый, а мне так этого хочется! Давно-давно ты нигде со мной не был.
— Допустим, — сказал он, — но какого же черта…
— Ах, пойдем! — повторяла старая женщина.
Она подошла к нему, обвила руками его шею. Она пыталась убедить его лаской. Но юноша ухмыльнулся.
— Громы небесные, а что мне делать на молитвенном собрании?
Матери почудилось, что он сдается. Она сделала старинный реверанс.
— Что ж, разве ты не можешь проводить свою мать? — ликовала она. — Это такой долгий путь — каждый четверг, да еще одной. Как ты не понимаешь, что если у меня есть такой большой, красивый, рослый мальчик, мне хочется, чтобы он поухаживал за мной? О, я знала, что ты пойдешь!
Он снисходительно улыбнулся. Но сейчас же на лице его отразилась тревога.
— Дело в том… — запротестовал он.
— О, пойдем! — беспрестанно повторяла мать.
Он начал сердиться, он нахмурился. Перед ним мелькнула картина: скучные люди в черном, сидящие строгими рядами. Уже одна мысль об этом угнетала его.
— Видишь ли… — начал он снова, изо всех сил ища доказательств. И наконец взорвался:
— Да какого дьявола стану я торчать на молитвенном собрании?
В ушах у него прозвучал духовный гимн, исполняемый людьми, которые даже головы склоняют под определенным углом, как того требует благочестие. Слишком ясно, что все они лучше, чем он. Стоит ему войти, и они повернутся в его сторону, глядя на него с подозрением. И в этом будет неслыханное унижение: он-то знает, что сам ничуть не хуже их!
— Так вот, понимаешь, — заговорил он кротко, — не хочется мне идти, и ничего хорошего не получится, если я пойду туда против воли…
Как быстро изменилось выражение материнского лица! Она глубоко вздохнула, как это бывало и прежде в подобных случаях. Надела маленький черный чепец, закуталась в старенькую шаль. Бросила на прощание мученический взгляд на сына и ушла подавленная. Ее уход напоминал короткую похоронную церемонию.
Юношу слегка покоробило. Со злости он пихнул ножку стола. Когда затих звук ее шагов, он почувствовал явное облегчение.
IV
В тот же вечер, придя в маленький приветливый салун, Келси застал своего друга Джонса у стойки в яростном споре с каким-то тучным мужчиной.
— Ладно, — говорил этот последний, — ты, Чарли, можешь кричать сколько тебе угодно на молчаливого человека… Но давай-ка лучше выпьем!
Но Джонс размахивал руками, нанося сокрушительные удары по какой-то отвлеченной теории. А тучный мужчина жирно ухмыльнулся и подмигнул бармену.
Наконец оратор приостановился на миг, чтобы сказать: «Налейте мне чуточку виски, Джон». В этот момент он заметил юного Келси и бросился к нему навстречу с приветственным криком: «Здравствуй, старик! А я и не надеялся, что ты придешь!» Затем подвел юношу к плотному мужчине:
— Мистер Бликер… Мой друг мистер Келси!
— Как поживаете?
— Мистер Келси, я счастлив познакомиться с вами, сэр. Выпьем…
Они стали в очередь у стойки. В проворных руках бармена позвякивали стаканы. С отменной вежливостью мистер Бликер прервал выжидательное молчание:
— Вы, кажется, никогда здесь раньше не бывали, мистер Келси? Не так ли?
Молодой человек сделал усилие, чтобы дать светский ответ.
— М-м… нет… Я никогда еще не имел… э… этого удовольствия, — сказал он.
Впрочем, натянутая и осмотрительная вежливость манер скоро была позабыта… Бликер сообразил, что его солидность слегка стесняет юношу. Он сделался мягче. Очевидно, молодой человек из тех, у кого развита способность восприятия. И Бликер сразу же пустился рассказывать о прошедших временах, когда мир был лучше. Он знавал всех больших людей той эпохи. Он воспроизводил свои беседы с ними. В голосе его звучали ноты гордости и сожаления. Он наслаждался славой этого мира ушедших в небытие деятелей. Он сетовал на юность и неопытность нынешнего поколения. Казалось, он живет в высоком небе прошлого и чувствует себя обязанным говорить о том, что он там видел.
Джонс восторженно подталкивал Келси.
— Тебе повезло — старик в самой лучшей форме! — шептал он.
И Келси был горд, что столь выдающаяся личность обращается к нему, заглядывает ему в глаза, ища одобрения своим тонким замечаниям.
Они уже оставили стойку бара и, войдя в заднюю комнату, уселись вокруг стола. Газовый рожок с цветным колпаком распространял пурпурное сияние. Отделанные полированным деревом стены и мебель отсвечивали бледно-розовым. На полу были густо насыпаны опилки.
Теперь к ним присоединились еще двое. Пока Бликер успел рассказать еще три истории из великого прошлого, Келси уже слегка познакомился с вновь пришедшими.
Он от души восхищался Бликером. В отношении остальных, любезных и выдержанных, он начал испытывать братское чувство. Ему стало казаться, что он проводит счастливейший вечер в своей жизни. Ведь его компаньоны были такие веселые и добродушные люди, и все, что они делали, было отмечено такой любезностью!
Поначалу двое вновь пришедших даже не решались обращаться прямо к нему. Они спрашивали: «Джонс, а не хочет ли ваш друг того-то или того-то?» И Бликер начинал свои речи так: «А не кажется ли вам, мистер Келси…»
Вскоре Джордж почувствовал себя самым замечательным и умным юнцом, который нашел наконец свое место в обществе таких же замечательных и умных людей.
Время от времени Джонс нашептывал ему на ухо свои пояснения:
— Говорю тебе, Бликер — это старый завсегдатай скачек. В свое время он был знаменитейшим парнем, можешь мне поверить. Он был одним из самых известных людей во всем Нью-Йорке. Ты бы послушал, как он об этом рассказывает…
Келси слушал внимательно. Его глубоко заинтересовали эти интимные истории о людях, которые в прошлом сияли в лучах солнца.
— О’Коннор тоже отличный парень, — снова вмешался Джонс, говоря об одном из присутствующих. — Один из лучших ребят, каких я знаю. Всегда стоит на правильной точке. И всегда такой, каким ты его видишь сейчас, — добрый, веселый.
Келси кивнул в ответ. Ему легко верилось.
Когда он предложил заказать напитки, раздались шумные протесты.
— Нет, нет, мистер Келси, — вскричал Бликер, — ни за что! Сегодня вы наш гость. Как-нибудь в другой раз…
— Да, — подтвердил О’Коннор, — сегодня моя очередь!
Он постучал и окликнул бармена. Затем уселся, держа в руке монету и зорко наблюдая за остальными, готовый разрушить их замыслы, если бы они попытались платить.
Спустя некоторое время Джонс тоже в высокой степени обнаружил способности к красноречию и остроумию. Его друзья посмеивались.
— Теперь заговорило виски, — заметил Бликер.
Джонс стал серьезным и пылким. Он произносил речи на разные темы. Его лекции казались ему самому впечатляющими. Его возбуждала сила собственных слов. Он был целиком увлечен ими. Прочие соглашались с ним решительно во всем. Бликер был почти ласковым и рассудительно вставлял здесь и там свое словцо. Когда Джонс становился слишком уж напористым, остальные поддакивали ему еще покорнее. Они старались успокоить его дружескими восклицаниями.
Но вот настроение Джонса внезапно изменилось. Он принялся с упоением распевать популярные песенки. Он поздравлял собутыльников с тем, что они находятся в его обществе. Его пыл увлек остальных. Все начали весело брататься. Подразумевалось, что все находящиеся здесь — правдивые и нежные души. Да, они ушли из жестокого мира, наполненного бесчувственными людьми…
Когда кто-нибудь пытался объяснить, чем и как его обидели в окружающем мире, его утешали голоса, проникнутые самой жгучей симпатией. Они наслаждались своим временным уединением и безопасностью.
Неожиданно какой-то вдрызг пьяный субъект, шатавшийся в салуне, отворил дверь в их комнатку и сделал попытку войти. Тотчас все вскочили с мест. Они готовы были задушить всякого, кто осмелится вторгнуться на их островок. Они подталкивали друг друга, споря о том, кто возьмет на себя первый удар в схватке.
— Ох! — воскликнул пьяный, покачиваясь и щурясь на всю компанию. — Да неужто здесь отдельный кабинет?
— Именно так, Уилли, — отвечал Джонс. — А ты сматывайся отсюда, пока мы тебя не выбросили…
— Да, выбросим! — подхватили остальные.
— Ой! — произнес пьяный. С минуту он огорченно взирал на них, а затем удалился.
Все снова уселись. И Келси почувствовал, что ему следовало бы доказать остальным свою преданность, отколотив нахала.
Часто появлялся бармен. «Эй, ребята, давайте ваши кастрюли», — говорил он шутливо, собирая пустые стаканы и вытирая стол салфеткой. Благодаря стараниям Джонса в маленькой комнате стало шумно. Табачный дым клубился, завивался кольцами вокруг человеческих тел. Под потолком стояло густое серое облако.
Каждый старался как-то по-своему объяснить, почему он совсем не к месту в окружающем мире, о котором уже говорилось. Все они обладали различными добродетелями, которые отнюдь не ценились теми, с кем им приходилось обычно соприкасаться; они были созданы, чтобы жить в тени деревьев, в стране, где царят мир и спокойствие. Сойдясь впятером, они блаженствовали, имея возможность высказывать свои сокровенные мысли, не опасаясь быть неправильно понятыми.
Чем больше пива поглощал Келси, тем сильнее бушевала в его груди отвага. Теперь он знал, что способен на высокие дела. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из собутыльников обратился к нему за помощью. В его воображении возникла соответствующая сцена. Он был великолепен в своем порыве дружбы.
Он разглядывал сияющие лица вокруг и сознавал, что если сейчас же настанет момент для великого самопожертвования, то он решится на него с восторгом. Да, он спокойно уйдет в небытие или хоть обанкротится под хвалебные возгласы своих сотоварищей, прославляющих его многочисленные достоинства…
За весь вечер не было ни единой перебранки. Если кто-либо на мгновение возвышал голос, другие немедленно уступали.
Они обменивались комплиментами. Так, например, старый Бликер принялся рассматривать Джонса, и вдруг его прорвало: «Джонс, да ведь вы самый лучший парень, какого я знаю!» Румянец удовольствия залил щеки Джонса, но он сделал скромный, протестующий жест маленького человека.
— Не разыгрывайте меня, старый дружище, — сказал он со всей серьезностью. Тут Бликер закричал, что это вовсе не шутка. Оба встали и взволнованно пожали друг другу руки. При этом Джонс задел за стол и разбил стакан.
Последовали всеобщие рукопожатия. Братские чувства витали в комнате. То был настоящий взрыв дружеских переживаний.
Джонс запел, отбивая такт точно и с достоинством. Он всматривался в глаза своих друзей, стараясь пробудить музыку в их душах. О’Коннор горячо присоединился к нему, но затянул другой мотив. В дальнем углу старый Бликер держал речь.
В дверях появился бармен:
— Эй, ребята, вы что-то уж слишком расшумелись. Мне пора закрывать заведение, а вам пора домой. Уже второй час.
Они затеяли было спор. Но Келси вскочил на ноги.
— Час ночи! — воскликнул он. — Чертовщина! Мне надо бежать…
Громко запротестовал Джонс. Бликер прервал свою речь. «Мой милый мальчик…» — начал он. Но Келси уже искал свою шляпу.
— Мне надо в семь на работу, — сказал он.
Прочие смотрели на него неодобрительно.
— Что ж, — вымолвил О’Коннор, — если уходит один, мы тоже можем уйти…
Они с грустью разобрали свои шляпы и вышли вереницей.
Холодный уличный воздух навеял на Келси смутное беспокойство. Он почувствовал, как горит у него голова. А ноги — ноги были как ивовые прутья.
Мигали редкие желтые огни. Шипела большущая электрическая лампа у входа в ночной ресторан. Звонки конки раздавались на другом конце улицы. Над головой с грохотом промчался поезд надземной дороги.
На тротуаре они торопливо расстались. Они изо всех сил пожимали друг другу руки, уверяя в последний раз в своей пламенной и почтительной дружбе.
Добравшись до своего дома, Келси стал продвигаться с осторожностью. Мать оставила полупогашенную лампу. Один раз он споткнулся по пути. Остановившись, он прислушался: из комнаты матери доносился легкий храп.
Некоторое время он лежал с открытыми глазами и думал о вечеринке. Приятно было сознавать, что он произвел хорошее впечатление на этих славных ребят. Он чувствовал, что провел самый прекрасный вечер в своей жизни.
V
Наутро Келси был очень зол. Матери пришлось долго трясти его, что показалось ему величайшей несправедливостью. К тому же, когда он вышел, моргая, на кухню, мать заметила:
— Вчера, Джордж, ты оставил лампу гореть всю ночь. Сколько раз должна я повторять, чтобы ты не забывал тушить лампу?
Большую часть завтрака он провел в молчании, раздраженно помешивал кофе и глядел в дальний угол комнаты — глаза у него горели. Стоило только моргнуть, и ему казалось, что веки его потрескивают. Во рту был странный вкус, будто он всю ночь напролет сосал деревянную ложку. К тому же настроение было неистовое. Так и хотелось наброситься на кого-нибудь.
Наконец он яростно выпалил:
— Будь проклято это раннее вставание!
Мать подскочила, как будто в нее выстрелили:
— Послушай, Джордж… — начала она.
Но Келси перебил ее:
— Да, знаю, знаю… Но это вставание рано утром… Я болен из-за него. Только разоспишься под утро, как нужно подниматься. Да я…
— Джордж, голубчик, — сказала старушка, — ты же знаешь, дорогой, что я не выношу, когда ты ругаешься. Пожалуйста, не делай этого.
И она посмотрела на него с мольбой. Келси сделал резкое движение.
— Да разве я ругаюсь? — спросил он. — Я только сказал, что это вставание меня мучает…
— Ты знаешь, как меня обижает ругань, — настаивала старушка, готовая вот-вот заплакать. Она задумалась, вспоминая, как видно, людей, не ведавших подобной нечестивости.
— Не могу понять, где ты взял эту манеру так ругаться, — продолжала мать. — Ни Фред, ни Джон, ни Уилли не знали, что значит так выражаться. И Том не ругался, кроме тех случаев, когда сходил с ума.
Сын повторил свой нетерпеливый жест. Этот жест был нацелен в пространство, как будто он увидел там некий призрак несправедливости.
— Громы небесные! — произнес он с отчаянием. Затем снова погрузился в молчание, мрачно разглядывая свою тарелку.
Такое поведение быстро заставило мать покориться. Она заговорила, но теперь уже примирительно:
— Джордж, голубчик, не можешь ли ты принести мне сегодня сахару?
Видно было, что она просит для себя награды. Келси очнулся от своей дремоты.
— Ладно, если не забуду, — отвечал он.
Старушка встала, чтобы положить в судки обед для сына. Покончив с завтраком, он некоторое время с важным видом прохаживался по комнате. Затем надел пальто и шляпу, взял судки и направился к выходу. Здесь он задержался и, не поворачивая головы, сухо промолвил:
— Ну, пока!..
Старушка поняла, что обидела сына. Она не стала искать объяснений. Она уже привыкла к подобным происшествиям и поторопилась сдаться.
— И ты не поцелуешь меня на прощание? — спросила она тихим, жалобным голосом.
Юноша сделал вид, что уходит, глухой к ее просьбе. Он выглядел как монарх, оскорбленный в своем достоинстве. Но старушка снова окликнула его, и в голосе ее прозвучало одиночество:
— Джордж… Джордж… неужели ты не поцелуешь меня на прощание?
А когда он тронулся, то почувствовал, что она уцепилась за полу его пальто. В конце концов юноша обернулся и проворчал: «Ну ладно». И он поцеловал мать. В голосе его был оттенок превосходства, словно он даровал неслыханное помилование. Она же глядела на него с упреком, благодарностью и любовью.
Стоя на площадке лестницы, мать следила, как скользит его рука по перилам. По временам она видела его локоть или часть плеча. И когда он достиг первого этажа, крикнула ему вслед: «До свидания!»
Маленькая старушка вернулась к своей кухонной работе с морщинкой недоумения на лбу.
— Не пойму, что такое сегодня с Джорджем, — задумалась она, — он был сам не свой…
Устало хлопоча по хозяйству, она принялась размышлять. Сын ее тревожил. Она смутно подозревала, что он страдает какой-то опасной болезнью. Да, без сомнения, что-то пожирает его почки или питается его легкими… Потом она представила себе женщину, порочную и красивую, которая приворожила его и отравляет ему жизнь. Воображение старушки создавало множество диковинных опасностей, которые обрушивались на ее сына, словно зеленые драконы. Они, эти опасности, сделали его мрачным, молча страдающим человеком. Она мечтала обнаружить их, чтобы храбро прийти на помощь своему герою сыну.
Она знала, что он, такой великодушный, будет скрывать от нее свои мучения. И она ломала себе голову в догадках.
Но вечером Джордж вернулся домой необыкновенно жизнерадостным. Он казался десятилетним мальчишкой, он прыгал по комнате. Когда мать несла кофейник с плиты на стол, он принялся вальсировать с ней, так что она расплескала немного кофе. Ей даже пришлось побранить его.
За ужином он без конца шутил. Несколько раз ей пришлось рассмеяться, хотя она и считала, что не подобает смеяться над шутками собственного сына. По временам она делала замечания, которые сын пропускал мимо ушей.
Весь вечер Джордж был в духе. Покуривая трубку, он читал вслух заметки из вечерней газеты. Мать хлопотала по хозяйству. Она чувствовала себя такой счастливой рядом с сыном, который лениво пускал облачка дыма и часто перемежал блистательными комментариями газетные новости. Она казалась себе образцовой матерью, раз у нее есть сын, который возвращается к ней вечером и сидит довольный, с усталостью в мышцах, после хорошего трудового дня. Она размышляла о мудрости своего руководства.
Всю следующую неделю она продолжала радоваться, так как Джордж проводил каждый вечер дома и был в отличном настроении. Теперь она окончательно убедилась в своем материнском умении и в том, что воспитала прекрасного сына. Часто глаза ее светились любовью, а морщинистое желтое лицо смягчалось улыбкой, напоминавшей улыбку девушки, глядящей на своего первого и, быть может, последнего избранника.
VI
Обычно старушка старалась подавлять у сына малейшее проявление юношеского тщеславия. Она опасалась, как бы он не стал воображать о себе слишком много, ибо знала, что нет худшей беды. Излишнее самолюбование всегда пассивно, думала она, и если сын привыкнет считать свои умственные способности каким-то блестящим созвездием, то он так и просидит на месте и не совершит чудес, которых она от него ожидает. Поэтому она всегда была начеку, чтобы не допустить даже тени чего-либо подобного. Что касается Джорджа, то он раздумывал об этом с жестокой и мстительной горечью, присущ щей молодым людям, и решил, что мать его не понимает.
Впрочем, несмотря на все ее предосторожности, он часто замечал, что она находит его прекраснейшим юношей в мире. Достаточно было посмотреть на ее глаза, загоравшиеся огнем всякий раз, как он совершал что-нибудь особенно замечательное. В таких случаях он мог видеть, какой торжествующий взгляд кидала она на соседа или на любого, кто случайно был рядом. Ему захотелось почаще вызывать такие взгляды. И он испытывал полное удовлетворение, обнаружив и оценив их.
При всем том он не мог понять, почему вслед за подобной сценой мать способна была приказать ему повесить пиджак на крючок у камина, — приказать с таким отчаянием в голосе, словно он проявил небрежность и глупость в единственно важном, в сущности, деле.
— Если ты привыкнешь, тебе будет легче это сделать, чем бросать вещь куда попало, — говорила она. — Когда ты швыряешь пиджак как придется, кто-то должен его поднять, и скорее всего это придется делать твоей бедной старенькой маме. Ты же сам можешь его повесить, стоит только подумать…
Это было нестерпимо. Обычно в таких случаях он поднимался и со злостью вешал пиджак на крючок. Ее правота сводила его с ума.
Он полагал, что любая женщина, имеющая сына с такими прекрасными данными, могла бы пренебречь тем, что он редко вешает свой пиджак на место. Но было невозможно втолковать это обстоятельство его матери. Она была ужасно ограниченной. И он становился угрюмым.
Настало, однако, время, когда, вопреки ее материнскому восхищению, он уже не мог полностью с ней соглашаться. Он радовался, что ей нравится его остроумие. Он пришпоривал себя, делал новые усилия — все ради ее одобрения. Но чаще всего он убеждался, что мать гордится им совсем по-иному, нежели он сам. Она ценила в нем качества, которые говорили ей, что сыну суждено стать незапятнанным и воистину чистым апостолом среди людей, Ей рисовались картины, где он появлялся как добрый гений, благословляемый бедняками, которых он насытил, как человек глубоких мыслей, благоговеющий перед известными личностями, о которых ей довелось прочесть. Ее чествовали как мать такого необыкновенного человека. Эти мечты служили ей утешением. Ими она ни с кем не делилась, ибо знала, что, будучи высказаны, они покажутся смешными. Но она сжилась с ними, и мечты отбрасывали золотистые лучи на ее долгие дни, на ее утомительную работу. На мертвом алтаре своей жизни она зажигала факел надежды на сына.
Джордж, в меру своего понимания, целиком одобрял мать. То были мудрые мысли, и он восхищался ее предвидением. Однако про себя он лелеял более близкие мечты. А в отдаленном будущем он воображал себя человеком, который скрывает под покровом холодности и свою мягкость и свои ошибки, человеком, на которого окружающие, и в особенности женщины, взирают с почтением. Он соглашался с матерью, что когда придет это время, то он, словно брошенный камень, пробьет любые препятствия, встающие на пути прочих людей. И тогда у него появится власть и он с равным наслаждением прольет на нижестоящих и свою щедрость и свой гнев.
Они, те, кто ниже, должны благоговеть. Он же — и это главное — окружит себя тайной. А в настоящем была уйма других помыслов! Джордж начал присматриваться к большому миру, который как бы вращался у него перед глазами. У него появилось острое любопытство к городу, в сложной жизни которого он участвовал.
Тут, в этом городе, все было непроницаемой тайной. Тут была смесь множества соблазнительных красок. И он мечтал постигнуть до конца тайну города, чтобы с открытыми глазами подойти к его величайшим чудесам, включиться в его могучую жизненную поступь, узнать его пороки. Он мечтал о понимании, которое несет в себе самом награду — восхитительное положение человека с опытом. Он вспоминал Джонса. Разве мог он не любоваться человеком, который знал так много барменов?
VII
Во всех мечтах Келси неизменно участвовала некая неопределенная женщина. По правде сказать, он не представлял себя в роли жениха. Нет, он воображал себя выше, утонченнее и опаснее — таким он рассчитывал стать. В сценах, навеянных чаще всего живописью, этот «образ» сопровождался ухаживанием, гордыми выходками, обманами — целая драма, изумительно расцвеченная пурпурными блестками.
В этой драме он оставался ледяным, сдержанным; но она, девушка-мечта, была охвачена дикой, стремительной страстью. В конце концов он заставлял ее высказать свои чувства перед людьми, и те удивлялись его спокойствию. Их бесконечно поражало, как он остается холодным перед этой великолепной, несравненной женской любовью. Она вымаливала его расположение, как комнатная собачка, но он умел сдерживать проявление своих чувств, и никто не догадывался об его глубокой и преданной любви. Когда-нибудь, в критический момент, он решит открыться… В этих долгих мечтаниях присутствовали обычные аксессуары: дома, похожие на замки, обширные поместья, слуги, туалеты…
Такие мечты зародились у него еще в детстве. Как только Джорджу надоедало воображать себя суровым генералом, устремляющим свою саблю к тревожному и смутному горизонту, он превращался в высокого повелителя смятенного женского сердца. Позже, когда он прочел несколько книг, все это получило более четкое выражение. Из книг он узнал, что есть в мире «богиня», чье дело ожидать, пока ему вздумается обменяться с ней взглядом. И это стало его верой, утонченной и сильной. Она спасала от неудобств и его самого и несколько женщин, которые порхали вокруг. «Богиня» была для него образцом и мерилом.
Порой Джордж сознавал всю горечь ее долгого ожидания, но вера его не пошатнулась. Рано или поздно мир обязан повернуться к нему лицом. Жизнь его должна быть красивой и героической — иначе зачем было ему появляться на свет? Он верил, что обыденная участь — это приговор и судьба для неких людей, не умеющих чувствовать. А его кровь — это горячий жизненный поток. Он думал, что обыденное суждено другим — тем, у кого свинцовые нервы. Случалось, что он удивлялся, каким же образом судьба сумеет преобразить его в гигантскую личность, но в конечном результате не сомневался. За ним прилетит колесница из розовых облаков. Эта вера была смыслом его существования. Попутно он мог мечтать о некоей загадочной женщине, о ее благоухающих розами волосах.
В один прекрасный день он повстречал на лестнице Мэгги Джонсон. В одной руке она держала кувшин с пивом, а в другой — пакет из коричневой бумаги. Она посмотрела на него. Он почувствовал, как горько было бы увидеть, что ее улыбки достаются другому мужчине. Но взгляд, брошенный на него, был так равнодушен, до того не соответствовал внезапному восхищению, вспыхнувшему в его глазах, что он немедленно признал ее вдвойне очаровательной.
Когда Мэгги дошла до площадки, свет из окна серебристым лучом скользнул по девической округлости ее щеки. Это он запомнил.
В тот вечер, за ужином, Джордж больше молчал. А когда заговаривал, то был особенно нелюбезен. Мать, боязливо следившая за ним, тщетно пыталась вообразить себе новую ужасную катастрофу. В конце концов она решила, что сыну не понравилась тушеная говядина. И она добавила соли.
После встречи на лестнице Джордж очень часто видел Мэгги. Он изменил свои мечты и поместил ее в самый центр этого солнечного сияния. Женщина-призрак, «богиня», свергнутая с пьедестала, лежала поверженная, заброшенная. В свете своей новой религии он вспоминал о ней разве только для того, чтобы мысленно обозвать ее глупой и ребяческой.
Иногда он бывал относительно счастлив — например, когда мать Мэгги напивалась и принималась издавать страшные вопли. Тогда он просиживал в темноте, придумывая сцены, в которых спасал девушку от ее отвратительного окружения.
Он составлял хитроумные планы, чтобы столкнуться с ней в коридорах, у дверей, на улице. Когда же ему удавалось с ней встретиться, его подавляла мысль, что девушка уже обо всем догадывается. Он чувствовал, как горят от стыда лицо и шея. Чтобы доказать, будто она ошибается, Джордж отворачивался или глядел на нее каменным взором.
Спустя некоторое время им овладело беспокойство: почему они так далеки друг от друга? Он представлял себе вкрадчивых принцев, стремящихся завладеть девушкой. Часы досуга, а иногда и часы работы он проводил в поисках нужного решения. Тень девушки сопровождала его неотступно. Она участвовала в грандиозных драмах его воображения; он шествовал по облакам, а повседневные дела меркли, окутывались туманом.
Он видел, что стоит ему опрокинуть хрупкие барьеры условностей, и она очень скоро узнает его благородный характер. Порой он ясно представлял себе, как все это будет. Получалось очень здорово. Но вслед за тем, в решительный момент, смелость покидала его. А что, если все приключение покажется ей смешным? Быть может, она уже давно следит за его душевной мукой? Она может рассмеяться… Если так, он чувствовал, что способен умереть или убить ее. Он не мог решиться выдержать эту страшную минуту. Часто он спотыкался на самом пороге познания. После этого он обычно избегал Мэгги, желая показать, что она для него ничто.
Если бы представился случай, думалось ему, спасти девушку от какой-то беды, тогда вся трагедия разрешилась бы очень быстро.
Но однажды вечером в коридоре Джордж повстречал молодого человека, который обратился к нему:
— Скажите, дружок, где здесь живут эти пташки Джонсоны? В этом чертовом притончике я не могу ничего найти… Шатаюсь здесь вот уже полчаса…
— Выше на два пролета, — холодно сказал Келси. Он почувствовал внезапное сердцебиение. Замечательный костюм, изящный светский вид, опытность, уверенность и смелость, отличавшие поведение молодого человека, погрузили Джорджа в глубины отчаяния. Стоя в коридоре, он прислушивался, стыдясь и краснея, пока не различил, что они спускаются вниз вдвоем.
Тогда он улизнул. Какой ужас, если бы Мэгги его заметила! Чего доброго, она пожалела бы его… Возможно, они отправились на спектакль… Этот светский поросенок в разукрашенном плаще собирается подавить ее своим блеском. И Келси размышлял, как несправедливо со стороны других мужчин ослеплять женщин роскошью.
Поняв свое невыгодное положение, он выругался — дико, мстительно и горько. А дома мать тоже повысила голос, закричала на него монотонно и раздражительно:
— Да повесь ты пальто, слышишь, Джордж! Не могу же я вечно ходить за тобой. Разве труднее повесить, чем так бросать? Неужели ты еще не устал слушать, как я кричу на тебя?
— О да! — взорвался Келси, вкладывая в это слово всю глубину своего внезапного гнева.
Он повернулся к матери с покрасневшим, искаженным лицом, жестким от ненависти и бешенства. Минуту они молча глядели друг на друга, затем она повернулась и заковыляла к себе в комнату. Ничего не замечая вокруг, она изо всей силы ударилась боком о край стола. В следующий миг дверь захлопнулась.
Келси плюхнулся на стул, вытянул ноги, глубоко засунул руки в карманы брюк. Подбородок опустился на грудь, глаза уставились в одну точку. Его захлестнуло острое чувство жалости к себе, которое приходит, когда душа вынуждена свернуть с избранного ею пути.
VIII
В течение ближайших дней Келси страдал, впервые придя к мрачному выводу, что мир не испытывает к нему особой признательности за его присутствие на земле. Когда ему говорили резкие слова, он истолковывал их в духе этой недавно обретенной интуиции. Теперь ему казалось, что весь мир ненавидит его. Он погрузился в глубочайшую безнадежность.
Однажды вечером он повстречал Джонса. Тот восторженно накинулся на него:
— Вот ты как раз мне и нужен! Сегодня вечером я собирался зайти к тебе. Как хорошо, что я тебя встретил! Старик Бликер собирается задать кутеж завтра вечером. Напитки — какие пожелаешь! Будут все ребята, и все прочее. Бликер сказал мне особо, что хочет тебя видеть. Замечательный случай! Замечательный. Ты можешь прийти?
Келси горячо сжал ему руку. Теперь он почувствовал, что у него в запасе есть утешительная дружба.
— Конечно, буду, старина, — сказал он хрипло. — Для меня это самое приятное.
Идя домой, он воображал себя непреклонным. Он как бы предвкушал упоительную месть — частичное самоуничтожение. Да, мир раскается в своем отношении к нему, когда увидит его пьяным…
К Бликеру он явился с небольшим опозданием. Джордж задержался из-за того, что мать читала вслух письмо от его старого дяди, который, между прочим, писал: «Да благословит бог мальчика! Воспитайте его таким, каким был его отец». Бликер обитал в старом трехэтажном доме на боковой улице. Какой-то еврей-портной жил в первой от входа гостиной, а старый Бликер — во второй.
Подвальный этаж занимал немец с женой и восемью детьми. Два верхних этажа населяли портные, парикмахеры, разносчик и разные таинственные личности, которых редко можно было увидеть. У второго пролета лестницы, в маленькой спальной, дверь всегда была настежь, и можно было видеть двух согбенных мужчин, занятых починкой театральных биноклей. Немка из столовой была не в ладах с парикмахершей из задней комнаты третьего этажа, и часто они обменивались через перила ужаснейшими ругательствами. Деревянные панели были сплошь исцарапаны и вытерты прикосновениями бесчисленных людей. В одной из стен виднелась длинная щель с расколотыми краями — память о том, как однажды некий жилец бросил топором в жену. В нижнем коридоре вечно торчала женщина с тряпкой и ведром мыльной воды, согнувшаяся над истертым линолеумом. Старый Бликер понимал, что живет в весьма респектабельной, первоклассной квартире. Он был рад случаю пригласить друзей.
Бликер встретил Джорджа Келси в коридоре. Его воротничок был выше и чище, чем обычно. Это сильно изменило его внешность — теперь он выглядел невероятным аристократом. «Как живете, старина?» — провозгласил он, беря Келси под руку, и, весело болтая, провел его по коридору в бывшую гостиную.
Группа стоявших там мужчин отбрасывала большие тени в желтом сиянии лампы. Все они повернулись к входящим.
— Хэлло, Келси, старик! — воскликнул Джонс, поспешно устремляясь навстречу. — Молодчина! Рад, что ты пришел! Ты ведь знаешь О’Коннора… И Смита и Вудса! Вот еще Зьюсентел! Мистер Зьюсентел, это мой друг мистер Келси… Пожмите друг другу руки… Вы оба чудесные парни, будь я проклят! Потом здесь еще… О джентльмены, это мой друг мистер Келси! Он тоже отличный парень. Я знаю его с детских лет. Иди же сюда, выпей…
Все были необычайно любезны. Келси почувствовал, что и у него есть общественное положение. Незнакомцы держались сдержанно и уважительно.
— Обязательно выпейте, мистер Келси, — сказал старый Бликер. — Кстати, джентльмены, раз уж об этом зашла речь, давайте выпьем и мы! — Раздался громкий смех, Бликер бывал иногда так забавен!
С плавными и вежливыми жестами все двинулись к столу. Там стояли бочонок пива и длинный ряд бутылок виски; лежали куча курительных трубок, несколько пачек табаку, ящик сигар; имелась также обширная коллекция стаканов, чашек и кружек. Старый Бликер расставил их так искусно, что все вместе напоминало примитивный бар. Возник серьезный спор из-за треснувших чашек.
Вежливо, но пылко Джонс настаивал, чтобы ему позволили пить из самой скверной чашки. Другие возражали, не теряя спокойствия. Каждый подчеркивал, как он тронут щедрым гостеприимством Бликера. Их манеры отражали восхищение стоимостью произведенных затрат.
Келси уселся в углу со второй кружкой пива. Ему хотелось произвести «светскую рекогносцировку». В другом углу кто-то рассказывал анекдот, причем изредка хрюкал, подражая свинье. Его слушало несколько гостей. Двое или трое других сидели в одиночестве. Они были выжидательно веселы и готовы от всего сердца посмеяться, если кто-нибудь к ним обратится. Батарея бутылок отбрасывала диковинные тени, а сбоку, на стене, пивной бочонок рисовался как зловещая черная фигура, которая упиралась в потолок, возвышаясь над комнатой и гостями, подобно призраку. Табачный дым ленивым облаком висел над головами.
Джонс и О’Коннор стояли у стола и отпускали любезности по всем направлениям. Келси заметил, как старый Бликер подошел к ним и зашептал: «Ну, давайте начнем. Пора начинать!» Келси понял, что хозяин опасается, как бы гости не соскучились. Джонс перемолвился несколькими словами с О’Коннором, а затем тот направился к человеку по фамилии Зьюсентел. О’Коннор явно что-то предлагал. Зьюсентел сразу же отказался. О’Коннор продолжал настаивать. Зьюсентел оставался непоколебимым. В конце концов О’Коннор прервал свои уговоры и, выйдя на середину комнаты, поднял руку.
— Джентльмены, — крикнул он, — сейчас мы услышим в исполнении мистера Зьюсентела рассказ под названием «Свинья Патрика Кленси»!
И, бросив на Зьюсентела торжествующий взгляд, добавил: «Ну, начинайте!» Но Зьюсентел ломался, делал протестующие жесты. Он даже прошептал с упреком: «Какой же вы нахал!»
Все повернулись и минуту разглядывали Зьюсентела, а затем поднялся шум: «Ура! Даешь рассказ! Ну, давайте его! Взрывайте мину! Начинайте!» Но так как Зьюсентел все еще упорствовал, гости начали приставать к нему: «Ну, старик, двинь-ка! Чего ты боишься? Давай! Вперед! Живее!»
Зьюсентел сопротивлялся с какой-то неимоверной скромностью. О’Коннор ухватил его за лацкан и пытался вытащить на середину, но тот упирался, тянул обратно свой пиджак, качал головой: «Нет, нет, не знаю я этого рассказа! Не могу! Я его не знаю. Говорят вам, я позабыл! Нет-нет-нет! Послушайте, отпустите меня, слышите? Что с вами? Говорят вам, что не знаю!»
Гости яростно хлопали. Продолжалась борьба, как вдруг заметили, что Зьюсентел становится поразительно торжественным. Все умолкли — он готовился начинать. Стоя посредине, он нервно поправлял воротничок и галстук. Аудитория сосредоточилась.
— «Свинья Патрика Кленси», — оповестил Зьюсентел пронзительным, сухим, неестественным голосом. И начал быстро декламировать:
Вот Патрик Кленси со свиньей Необычайно ценной: Пол-свиньи величиной Почти что в пол-вселенной.Когда он окончил, все переглянулись с довольным видом. Затем грянули неистовые рукоплескания, все чокались стаканами. Зьюсентел снова уселся, а один мужчина нагнулся к нему, чтобы спросить: «Не скажете ли, где я мог бы это достать?» В общем, успех был большой. После невероятных усилий Зьюсентел согласился прочесть еще два рассказа. В заключение старик Бликер вывел его вперед и щедро угостил выпивкой. По его словам, это было лучшее из того, что ему довелось когда-либо слышать.
Благодаря усилиям Зьюсентела вся компания развеселилась. Посмеявшись вдоволь, все как-то сблизились, и теперь шел общий разговор. К тому же часть гостей уже захмелела.
Незаменимый О’Коннор нашел человека, умеющего играть на губной гармонике. Обтерев свой инструмент рукавом пиджака, тот исполнил все популярные мелодии. В облаках табачного дыма головы покачивались под музыку. Все улыбались, отбивали ногами такт. Варварская, неистовая удаль проступала в их позах, на их лицах, красных и лоснящихся от пота. Разговор перешел в хриплый рев. Джонс, которому показалось, что пиво течет слишком медленно, остался у стола и наклонил бочонок. От этого черная тень на стене отступила, потом возвратилась, таинственно упала, чтобы снова надвинуться с внезапной угрозой, — большая темная фигура, управляемая каким-то неведомым импульсом. Стаканы, кружки и чашки двигались быстро и четко, отбрасывая оранжевые блики в свете лампы. Двое-трое мужчин дошли до того, что поминутно расплескивали свои напитки. Старик Бликер, хихикая от удовольствия, уловил момент, чтобы торжествующе подмигнуть Джонсу. Его вечеринка проходила с успехом.
IX
Внезапно Джорджу Келси пришла в голову утешительная мысль, что он отлично проводит время. Его, словно участника какого-то религиозного праздника, охватил экстаз. Он чувствовал, что есть нечто красивое и волнующее в этой далекой от сурового мира вечеринке, где струился фимиам веселья. Он снова ощутил братское расположение к тем, кто находился рядом. Он завязал с ними ласковую беседу. Не слишком уверенный в последовательности своих мыслей, он знал все же, что в нем самом таится бездна симпатии. Он радовался, глядя на их раскрасневшиеся лица и морщинки улыбок. Он был способен на подвиги.
Джорджа раздражала его трубка — она гасла слишком часто. Он был чересчур занят любезными разговорами, чтобы следить за ней. Но встав, чтобы раздобыть спички, он уловил какую-то неуверенность в ногах: они подгибались и не сразу подчинялись его намерениям. У стола он зажег было спичку, но тут же рассмеялся, услышав какую-то рядом произнесенную шутку, и забыл поднести огонь к трубке. После досадных усилий он прикурил от второй спички. При этом его так раскачивало, что спичка попадала то с одной, то с другой стороны от трубки. По счастью, ему удалось наконец приложить огонь прямо к табаку. Он обжег себе пальцы и принялся их рассматривать, нелепо посмеиваясь.
Подошел Джонс и хлопнул его по плечу:
— Ладно, старик, выпьем за старый город Хендивил!
Келси растрогался и посмотрел на Джонса влажными глазами. «Я поеду туда», — сказал он. С выражением глубокой меланхолии Джонс налил себе немного виски. Они выпили. Потом обменялись пылким взглядом, исполненным нежных воспоминаний, и перешли в тот угол, где Бликер, окруженный гогочущими слушателями, рассказывал какую-то юмористическую историю. Старик восседал, словно тучный веселый бог.
— …И в этот самый момент старуха высовывает голову из окна и говорит: «Майк, ленивый черт, для чего ты шлепнулся на мою новую грядку герани?» А Майк встает и говорит: «К черту такую прачку, которая никогда не выстирает собственные манатки… Вот я и шлепнулся в сплошную грязь и болото».
Гости хлопали себя по коленям, громко хохотали. Они просили Бликера рассказать еще что-нибудь. Но анекдот вызвал столь шумные комментарии, что, когда старый Бликер начал другой, никто его не услышал.
Джонсу вздумалось петь. Внезапно он затянул балладу в зажигательном темпе вальса и, подхватив Келси, сделал отчаянную попытку танцевать. Они споткнулись о чьи-то вытянутые ноги и растянулись во всю длину. Келси с грохотом упал, в глазах у него ослепительно блеснуло. Но он тут же встал, посмеиваясь. Он совсем не чувствовал ушиба. Боль в голове была даже как-то забавна.
Старый Бликер, О’Коннор и Джонс — он теперь хромал и шумно втягивал воздух — хотели было мягко и осторожно проводить Келси к столу и дать ему выпить, но он со смехом оттолкнул их и дошел без всякой помощи. Бликер сказал ему:
— Боже милостивый, да вы же так стукнулись головой, что впору было пень проломить!..
Джордж вновь рассмеялся и, чтобы показать свою стойкость и отвагу, налил себе непомерную порцию виски. Невозмутимо поднес стакан ко рту и выпил… Но получилось так, что эта добавка ошеломила его, как сильный удар. Мгновение спустя его ослепило и оглушило. Неожиданно потеряв равновесие, он почувствовал, что комната закачалась. Его помрачненное зрение различало лишь беспорядочную массу теней, сквозь которую, словно огненные мечи, пробивались лучи света. Звуки множества голосов доносились, как рокот отдаленной реки. И все же он чувствовал, что если только сумеет совладать с этим миллионом скрюченных пальцев, вцепившихся в его мозг, то сможет проделать самые блестящие и занимательные штуки.
Сперва он был уверен, что эти неприятные ощущения мимолетны. Он ждал, пока они пройдут, но умственная и физическая пауза породила лишь новое шатание и качание комнаты. Ему мерещились расщелины с обрывистыми краями; горные пики склонялись к нему. Он оглох и ослеп от удивления. В своем оцепенении он смутно сознавал, что осрамится, если провалится в одну из этих расщелин.
Наконец он различил тень, форму, которая, он знал, была Джонсом. Обожаемый Джонс, мудрейший Джонс расхаживал без страха и заботы по этой удивительной стране — прямой и спокойный. Келси залепетал восторженно и нежно и свалился к ногам своего друга. Голос Джонса прозвучал точно с берегов Неведомого:
— Ну, ну, старина, этак не годится. Возьми себя в руки.
Оказалось, что Джонс не такой уж мудрец.
— О, я… все в порядке, Джонс. Все в порядке. Мне хочется декламировать… Вот и все! Я хочу стихи читать!
Но Джонс был глуп:
— Ладно, садись и замолчи.
Тут Келси воспылал гневом:
— Джонс, оставь меня одного, говорю тебе. Оставь меня одного. Я хочу прочесть ей рассказ. Ей-богу, она прелестная девушка… Живет на моей улице. Из-за этого я и пьян, да! Она…
Джонс подхватил его, потащил к стулу. Джордж слышал, как он смеется. Такого оскорбления со стороны друга он не мог вытерпеть. Он ощутил пылкое желание задушить своего товарища. Уже он порывисто вытянул руку, но Джонс тесно прижал его, и Джордж сделался бессильным, как высохший лист. Его поразило открытие, что Джонс наделен силой двадцати лошадей. Ловко и умело он уложил Джорджа на пол.
Лежа он с изумлением думал о мускулатуре Джонса. Странно, что никогда раньше он не замечал его силы. Все происшествие произвело на него огромное впечатление. В голове промелькнула мысль: ведь он мог бы разоблачить поступок Джонса. Это было бы очень разумно. Произошла бы волнующая, драматическая сцена, и он поразил бы всех присутствующих. Но в этот момент им овладело непреодолимое желание спать. Сумрачные, заглушающие боль сонные облака тяжело надвинулись. Он закрыл глаза с ребяческим вздохом…
Когда он проснулся, вокруг все еще раздавался боевой шум пирушки. Он слегка приподнялся с намерением принять участие в кутеже, но подошел О’Коннор и столкнул его снова на пол. Выдвинув свой подбородок в знак дружеского осуждения, О’Коннор сказал ему, как ребенку: «Ну, то-то».
Перемена, происшедшая с этими людьми, крайне озадачила Келси. Никогда он не видел ничего столь глупого, как их мнение об его состоянии. Он решил доказать, что они имеют дело с человеком в совершенно здравом уме. Он бился и извивался в руках О’Коннора, пока — последним рывком — не встал, шатаясь, на ноги посреди комнаты. Ему хотелось показать, с какой удивительной ясностью он оценивает события:
— О, боже, я л-люблю девушку! Я пьян не… н-не больше, чем вы все! Девушка…
Он почувствовал, что его толкают в угол комнаты, что на него громоздят стулья и столы, пока он не оказался погребенным под большим холмом. Где-то наверху, как у выхода из шахты, звучали голоса, виднелись свет и смутные фигуры. Джордж не пострадал физически, но ему была нанесена невыносимая обида. Его — такого блестящего, доброго, симпатичного — так недружественно исключили из компании. Они оказались бесчувственными, как вареные раки! Это была невыразимая жестокость. Слезы потекли у него из глаз. Он придумывал длинные, дьявольски злые реплики!
X
Сперва в комнату проникли робкие серые лучи рассвета; они задерживались возле окон, опасаясь приближаться к иным мрачным углам. Наконец хлынули живые потоки солнечного света, разгоняя тени, обнажая всяческую гниль, неся безжалостные разоблачения. Келси проснулся, стеная от неопределенной боли. На минуту он закинул за голову свои омертвевшие руки, а затем приподнялся, тяжело опершись на локти, и, моргая, огляделся вокруг. Жестокая правда дня говорила о несчастье и смерти. После волнений минувшей ночи комната напоминала заброшенное поле битвы. Тяжелый и душный воздух был насыщен запахами табака, человеческого дыхания и пива, оставшегося в недопитых стаканах. Валялись кучи разбитых бокалов, трубок, бутылок, рассыпанного табака и сигарных окурков. Стулья и столы были разбросаны так и сяк, словно после какой-то ужасной борьбы. Посреди всего этого беспорядка лежал старик Бликер; он спал глубочайшим сном, вытянувшись на кушетке, такой заброшенный, неподвижный и мертвенно бледный, словно кинутый здесь труп. Постепенно Келси оценил обстановку. Он огляделся вокруг с выражением крайнего огорчения, раскаяния и отвращения. Ему пришлось снова лечь. Над бровями ломило, как от железных тисков.
Так он лежал и раздумывал, а его телесное состояние рождало в нем горькую философию — он догадывался о никчемности «красивой» жизни. Он видел, что проблемы личной жизни наступают на него грозно, как гранитные великаны, а он даже не может встать на ноги, чтобы дать им отпор. В этой войне ему досталось жалкое отступление. Предчувствие беды разрасталось, словно туча.
Под влиянием безжалостной головной боли Джордж готов был исправиться и начать нравственную жизнь. Желудок подсказывал ему, что скромный человек — это единственное мудрое существо. Но будущее воспринималось как безнадежность. Мысль о возвращении к рутине вызывала ужас. Нет, это невозможно! Он трепетал, думая о том, каких усилий это потребует.
Обращаясь к другому пути, Джордж сознавал, что золотые врата греха утратили свою привлекательность. Он больше не хотел прислушиваться к звукам заманчивой музыки. Головная боль убила обольстительных сирен пьянства. Его желания неожиданно оказались мертвыми, словно вытоптанные стебли травы. В итоге, поразмыслив, он увидел, что готов от всей души стать добродетельным, если только явится кто-нибудь, чтобы облегчить ему путь.
Бросив взгляд в сторону старика Бликера, Келси внезапно почувствовал к нему презрение и отвращение. Он смотрел на него как на старую, спотыкающуюся клячу. Противно было сознавать, что пожилые люди так легко предаются порокам. Он боялся, что Бликер проснется и придется быть с ним в какой-то — степени вежливым.
Келси очень хотелось воды. Уже давно он мечтал о глотке чудесной прохладной влаги. Вода представлялась ему абстрактной и невесомой, льющейся на него и устраняющей боль, как нож хирурга. Он встал и медленно побрел к маленькой раковине в углу комнаты. Он понимал, что малейшее резкое движение может причинить ему жесточайшую головную боль. В раковине был хаос битого стекла и выплеснутых напитков. Это зрелище привело Джорджа в содрогание, но он очень тщательно вымыл один стакан, наполнил его и сделал огромный глоток. Вода принесла ему страшное разочарование. Она оказалась безвкусной, слабой для его пересохшего горла и вовсе не прохладной. С жестом отчаяния он поставил стакан. На его лице застыло угрюмое, каменное выражение, как у человека, который может рассчитывать только на целительную силу завтрашнего дня.
Проснулся Бликер. Он перевернулся на спину и громко заохал. Целую минуту он молотил вокруг себя кулаками в бешеной злости на свое закоченевшее тело, на боль. Келси наблюдал за ним, как смотрят на смертельную агонию.
— Боже милостивый, — вымолвил старик, — пиво и виски — это же дьявольская смесь! Вы видели драку?
— Нет, — вяло ответил Келси.
— Ну, Зьюсентел и О’Коннор учинили страшную потасовку. Они дрались, гоняясь друг за другом по всей комнате. Я думал, что они всех нас опрокинут. Но Томсон — вон тот парень в углу, — к счастью, он взялся за это дело. Да, он молодчага! Ему пришлось скрутить Зьюсентела. Старый воробей! Боже, я хотел бы иметь целый Манхэттен!
Пока старик Бликер одевался, Келси пребывал в злобном молчании.
— Пойдемте, выпьем коктейль, — отрывисто сказал Бликер.
Это была одна из его аристократических черточек. Среди них он был единственный, кто разбирался в коктейлях, и он постоянно говорил на эту тему.
— Я вас сразу оживлю! Давайте пойдем! Послушайте, вы слишком быстро надрызгались. Надо было выждать, мой мальчик! Больно вы прыткий!
Келси слегка удивился: где потерял его компаньон свою тягу к изысканным фразам, свою цветистую манерность?
— Пойдем! — повторил Бликер.
Келси сделал пренебрежительный жест по адресу коктейлей, но вышел за ним на улицу. На углу они расстались. Келси попытался выдавить на прощание дружескую улыбку, а затем двинулся вверх по улице. Ему приходилось напоминать себе самому, что он держится вертикально, идет, работая собственными мышцами. Он чувствовал себя бумажным человечком, которого уносит ветер. Уличная пыль раздражала горло, глаза и ноздри, а грохот уличного движения раскалывал ему голову. И все же он был рад, что остался один, избавился от старика Бликера. Смотреть на него было равносильно созерцанию болезни.
Матери не было дома. Джордж машинально разделся в своей комнатушке и окатил водой голову, руки и плечи. Укладываясь между двух белых простынь, он почувствовал первые проблески смягчения своего горя. Подушка была утешительно мягкой. Ее прикосновение было как музыка нежных голосов.
Когда он снова проснулся, над ним склонилась мать, дав волю своим крикам, попеременно выражавшим то скорбь, то радость. Ее руки до того тряслись, что стали беспомощными.
— О Джордж, Джордж, где ты был? Что с тобой приключилось? Я так волновалась, Джордж! Всю ночь я не спала ни минуты!
Келси сразу и окончательно пробудился. Со страдальческим стоном повернулся лицом к стене раньше чем заговорить.
— Пустяки, мать, я в полном порядке. Перестань себя мучить! Меня сбил вчера вечером грузовой фургон, и меня отвели в больницу, но теперь все хорошо. Я только что вышел оттуда. Они сказали, что мне лучше пойти домой и отлежаться…
Мать издала восклицание, в котором слились сострадание, ужас, радость и упрек себе самой, неизвестно за что. Она жадно выспрашивала подробности. Джордж вздохнул с невыразимой усталостью:
— Ох, погоди, погоди… погоди, — промолвил он, закрывая глаза словно от беспощадной и тягучей боли. — Погоди… погоди… пожалуйста, обожди. Я не могу сейчас разговаривать. Мне хочется отдохнуть.
Мать тут же упрекнула себя, слегка всхлипнула. Она поправила ему подушку, руки ее дрожали от любви и нежности.
— Ладно, ладно, не сердись, голубчик! Ты и представить себе не можешь, до чего я расстроилась… Совсем с ума сошла. Право, я чуть не рехнулась. Пошла в твою мастерскую, а там говорят, что тебя совсем не видели. Мастер был очень добр со мной. Он сказал, что зайдет сегодня днем — узнать, вернулся ли ты. Говорил, что я не должна огорчаться. Ты уверен, что у тебя все прошло? Не нужно ли чего-нибудь принести для тебя? Что сказал доктор?
Терпение Келси лопнуло. Он сделал нетерпеливое движение и раздраженно сказал:
— Хорошо… хорошо, мама, говорю тебе — все в порядке. Все, что мне нужно, — это немного отдохнуть, и я буду здоров, как всегда. Мне только хуже делается, когда ты стоишь надо мной, задаешь вопросы и заставляешь меня думать. Оставь меня хоть на короткое время, и я буду совсем здоров. Можешь ты это сделать?
Старушка забавно сморщила губы. «Какой все-таки неуклюжий медведь этот мальчик!» Она весело поцеловала его. И ушла с радостной широкой улыбкой, напоминавшей, должно быть, об ее ушедшей, такой прекрасной девичьей поре.
XI
В свое время у Келси был приятель, которого однажды ударило в голову дышлом фургона, от чего он свалился в беспамятстве. Его свезли в больницу, откуда он вышел на следующее утро очень удивленный, смутно припоминая все происшедшее. Он имел обыкновение как-то по-своему держать в зубах обкуренную вересковую трубку и, сдвинув на затылок коричневую шляпу, вновь и вновь рассказывать свое странное приключение. Келси всегда вспоминал эту забавную историю. Когда мать учинила ему перекрестный допрос по поводу несчастного случая, он пересказал этот анекдот почти без изменений. Его достоверность была вне сомнений.
На следующий день в мастерской Келси встретили с настоящим восторгом. Мастер успел рассказать всю историю, и по этому поводу уже ходили разные шутки. Майк О’Донелл, прославленный остряк, стал тоже подшучивать над ним: его выпады против Келси, в сущности, почти совпадали с истиной. Выслушав их, Келси внезапно поглядел на шутника уголком глаза, но, в общем, остался невозмутимым. В конце концов О’Донелл пришел в отчаяние: «Никак не проймешь этого парнишку! С него как с гуся вода». Келси часто говорил о своем приключении, держа по-особенному трубку в зубах и сдвинув на затылок мягкую шляпу.
Несколько вечеров подряд он провел дома, довольствуясь чтением газет и беседой с матерью. Она даже начала искать некий важный смысл в таком поведении, подозревая, что близость смерти во время недавнего происшествия отрезвила сына и побудила его задуматься о возвышенных вещах. Она без конца размышляла на эту тему, наблюдала за ним, когда он сидел дома, задумчивый и угрюмый. Она говорила себе, что наступил самый критический период в жизни сына. И мать решила приложить все свои силы и умение, чтобы обратить его взор к небесному свету. И вот однажды вечером она сказала:
— Джордж, не хочешь ли ты пойти сегодня вместе со мной на молитвенное собрание?
Это прозвучало резче, чем она хотела. Джордж уставился на мать с удивлением: «Что?» Замирающим голосом она повторила свою просьбу. Она чувствовала, что настал решительный момент:
— Ну, пойди сегодня вечером на молитвенное собрание! Хорошо?
Келси казался смущенным. «О, я, право, не знаю, — начал он, роясь в памяти и пытаясь найти какой-нибудь повод для отказа. — Мне совсем не хочется идти. Я устал как черт!»
Его послушные плечи вяло опустились. Голова томно поникла.
Маленькая старушка, тотчас осознав свою беспомощность, воспылала материнским гневом. Это же просто невыносимо, что она не может заставить его податься в нужную сторону! Волны ее желаний разбивались об утесы его лености. Ей ужасно захотелось побить сына.
— Не знаю, как и быть с тобой, — сказала она прерывающимся голосом. — Ты не хочешь делать ничего, о чем я прошу тебя. Ты не обращаешь на мои слова ни малейшего внимания. Для тебя я не больше значу, чем муха. Что же мне с тобой делать?
Она смотрела на него с вызовом, в ее глазах горел огонь бессильного гнева.
Джордж поглядел на мать иронически.
— Не знаю, — вымолвил он холодно. — Кто ты такая, в сущности?
Он догадывался о ее переживаниях, видел, что она боится, как бы он не взбунтовался. Он вытянул ноги с развязной насмешкой заправского бретера.
— В сущности, что ты собой представляешь?
Старушка расплакалась, не стыдясь своего горя, не мешая слезам стекать по щекам. Она глядела в пространство, и сын понял, что она вспоминает силу и всю волю своих молодых лет. Она как бы признавалась перед лицом рока, что теперь она всего лишь увядшая трава, способная только сгибаться под ветром. Неожиданно его охватил стыд. К тому же за последние несколько дней у него явилось желание быть любезнее. Ему представилось, что, уступив, он сделает нечто значительное.
— Ладно, — сказал он, стараясь подавить в себе раздражение, — ладно, если тебе так нужно, чтобы я пошел, значит придется мне идти.
С неподвижным, странным лицом, мать подошла и поцеловала его в лоб: «Хорошо, Джордж!» В ее мокрых глазах было выражение, которого он не мог понять.
Старушка надела чепец и шаль, и они вышли вместе. Мать была необычно молчалива, и Джордж удивлялся, почему она не радуется его присутствию. Он возмущался, что она так мало ценит его самопожертвование. Несколько раз он даже хотел остановиться и отказаться идти дальше, чтобы таким способом вынудить у нее признание своих заслуг.
В темной улице, между двумя вознесшимися как башни жилыми домами, приютилась маленькая церковь. Напротив нее горел красный уличный фонарь, красиво отражавшийся в мокром тротуаре. Он был похож на нечто призрачное. Подальше сияющие огни проспекта пересекали золотистой чертой черную улицу. Грохот колес и резкие звонки неслись оттуда, сливаясь в шум, который является эмблемой большого города. Казалось, что шум этот чем-то оскорбляет торжественное и строгое маленькое здание. Он предвещал близкое вторжение варваров. Маленькой церквушке суждено было пасть раздавленной, с безграничным и возвышенным презрением к своим убийцам.
Входя вместе с матерью в церковь, Келси ощутил внезапную дрожь. Его колени тряслись, это место внушало ему страх. Угроза таилась и в красном мягком ковре, и в дверях, обитых кожей, усеянных маленькими бронзовыми шляпками гвоздей, которые проникали ему в душу своими безжалостными глазками. А что касается матери, то она приобрела здесь совершенно иной вид, так что он побоялся бы к ней обратиться. В этот грозный миг он чувствовал себя совсем одиноким.
В вестибюле стоял человек, он приветливо взглянул на них. Изнутри доносилось пение. Для Келси оно прозвучало миллионом голосов. Он страшился минуты, когда распахнутся двери. Ему захотелось отступить, но в этот момент любезный человек отворил двери, и Джордж прошел за матерью в центральный придел маленькой церкви. Ему показалось, что там бушует море огней, от которых он сам становится прозрачным. Бесчисленные взоры, обратившиеся к нему, были неумолимы, холодно оценивали.
Люди только что кончили петь. Руководитель собрания подал знак приостановить службу, пока вновь пришедшие не найдут места. Маленькая старушка медленно пошла в первые ряды. По временам она задерживалась, чтобы высмотреть свободные стулья, но, видимо, не находила подходящих. Келси переживал настоящие мучения. Ему чудилось, что мать никогда не сможет решиться. Неописуемо волнуясь, он пошел несколько быстрее, чем она. Вдруг она остановилась, чтобы бросить оценивающий взгляд на какие-то стулья, а Джордж нечаянно вырвался вперед. Он круто повернул обратно, но в это время она возобновила свое глубокомысленное шествие по церкви. Джордж готов был убить ее. Он чувствовал, что каждый мог заметить его пытку; собственные руки казались ему чудовищно распухшими тушами. Он пришел в дикую ярость, от которой даже губы его слегка побелели. Теперь он был готов на какую-нибудь неистовую, кощунственную выходку.
Старушка заняла наконец свое место; сын уселся рядом медленно, с напряжением. Он испытывал сильнейшее желание встать и выйти.
Когда же из-за туманной дымки стыда и унижения перед его глазами возникла общая картина, Келси с удивлением обнаружил, что глаза окружающих отнюдь не прикованы к его лицу. По-видимому, только руководитель собрания заметил его. Он выглядел серьезно, торжественно и грустно. То был бледнолицый, но упитанный молодой человек в черном, до верху застегнутом сюртуке. Для Келси было ясно, что мать уже говорила о нем молодому священнику, и тот старается теперь внушить ему, какую печаль вызывает созерцание его, Джорджа, грехов. Келси тотчас возненавидел этого человека. Какой-то мужчина, одиноко сидевший в углу, начал петь. При этом он закрыл глаза и откинул голову назад. Другие, сидевшие на бесчисленных стульях, подхватили гимн, как только уловили мелодию. Келси слышал слабое сопрано своей матери. Горела одна люстра посредине, и в дальнем конце помещения можно было различить кафедру проповедника, окутанную мглой, торжественную и таинственную, словно гроб. К ней подступила зыбкая темнота, на которую по временам падал отблеск меди или светящегося, как сталь, стекла, — там угадывалось присутствие Армии Неведомого, обладательницы великих и вечных истин, безмолвно внимающей этой церемонии. А высоко наверху неясно рисовались замызганные окна в свинцовых переплетах, напоминающие уныло окрашенные флаги; они лишь изредка отражали случайные темно-красные лучи ламп. Келси погрузился в размышления о чем-то неопределенном, присутствие которого он чувствовал в церкви.
Один за другим люди вставали и коротко говорили о своей религиозной вере. У иных получалось слезливо, другие были спокойными, бесстрастными, убеждающими. Некоторое время Келси внимательно прислушивался. Люди эти возбуждали в нем сильное любопытство. Ему незнакомы были такие типы.
В конце довольно долго говорил молодой священник. Келси был поражен: судя по внешности молодого человека, трудно было ожидать от него такой бойкости; но эта речь не подействовала на Келси, разве только доказала еще раз, что над ним тяготеет проклятие.
XII
Иногда Келси раздумывал, любит ли он пиво. Он вынужден был развивать в себе способность поглощать этот напиток. Родился он с отвращением к пьянству и должен был упорно с этим бороться, пока не научился выпивать от десяти до двадцати стаканов без дрожи и отвращения. По его мнению, выпивка была непременным условием счастья и желанного положения светского столичного человека. В салунах заключалась для него тайна уличной жизни. Он понимал улицу, если знал ее салуны. Пьянство и то, что ему сопутствует, были для него как глаза чудесного зеленого дракона. Он следовал за этим чарующим блеском, а блеск не нуждается в пояснениях.
После вечеринки у старика Бликера Джордж почти исправился. Его утомила, измучила вся эта суматоха, и он смотрел на нее, как смотрел бы на скелет, сбросивший с себя пурпурную мантию, — ему хотелось отвернуться. Но постепенно он снова обрел умственное равновесие. И он признал, со своей точки зрения, что все это было не так уж страшно. Это головная боль заставила его преувеличивать. Попойки не гибель, как он назвал ее однажды в порыве раскаяния. Напротив, это была всего лишь неприятная случайность. Все же он решил впредь быть осторожнее.
Когда снова настал вечер молитвенного собрания, мать подошла к нему, полная надежды. Она улыбалась, как будто ее просьба удовлетворена заранее:
— Ну что, пойдешь со мной сегодня в церковь?
Джордж повернулся к ней с красноречивой поспешностью, а затем уставился в угол.
— Думаю, что нет, — сказал он.
Мать со слезами на глазах пыталась понять его настроение.
— Что на тебя нашло? — спрашивала она, вся дрожа. — Ты никогда еще не был таким, Джордж! Никогда ты не был со мной таким грубым и скверным…
— О, я совсем не грубый и не скверный, — вставил он, выйдя из себя.
— Нет, ты именно такой! Уж не помню, когда я слыхала от тебя приличные слова. Ты только и стараешься грубить. Не знаю, что и думать. Не может быть… — тут в ее глазах промелькнуло, что она собирается поразить и припугнуть сына тягчайшим обвинением, — не может быть, чтобы ты пил!..
Келси презрительно фыркнул, видя такую нелепую выходку.
— Ты становишься просто-напросто старой гусыней!
Ей пришлось слегка улыбнуться, как смеется сквозь слезы ушибленный ребенок. Да, она не думала об этом всерьез. Она хотела только показать сыну, как она смотрит на его ужасающее душевное состояние.
— О да, конечно, я так не думаю, но мне сдается, что ты ведешь себя не лучше, чем пьяница. Мне хочется, Джордж, чтобы ты поступал иначе…
Теперь она была не такой холодной и строгой в своих поучениях, и Келси воспользовался случаем и попытался обратить все в шутку. Он рассмеялся над ее словами, но она покачала головой и продолжала:
— Да, я хочу, чтобы ты стал лучше. Не знаю, что из тебя получится, Джордж. Ты не думаешь о моих словах, словно это ветер в трубе. У тебя одна забота — уходить по вечерам. Я не могу затащить тебя ни в церковь, ни на молитвенное собрание; ты никуда со мной не ходишь, разве что уж нельзя отвертеться; ты ругаешься и раздражаешься бог знает как; ты никогда…
Сын прервал ее гневным жестом:
— Послушай-ка, а ты не думаешь о том, как я работаю?
Тогда она закончила свою проповедь на старый лад:
— Не пойму, что из тебя выйдет…
Затем надела свой чепец и шаль, подошла к нему и остановилась, выжидая. Своей позе она придала оттенок угрозы и непоколебимости. Джордж сделал вид, что погружен в газету. Маленькие щегольские часы на камине внезапно обнаружили свое присутствие, тикая громко и монотонно. Тогда она промолвила решительно:
— Ну, ты идешь?
Сын со злостью отбросил газету.
— Отчего ты не уйдешь и не оставишь меня в покое? — спросил он, почти выйдя из терпения. — Что ты мне надоедаешь? Можно подумать, что тебя подстерегают разбойники. Разве ты не можешь пойти одна или остаться дома? Тебе хочется идти, а мне нет, и ты все время стараешься меня вытащить. Ты же знаешь, что я не хочу…
И он закончил еще одним оскорбительным выпадом:
— Какое мне дело до этих старых пустозвонов! Мне тошно от них!
Мать отвернулась и отошла от него. А Джордж сидел насупившись. Потом он встал и поднял свою газету…
В этот вечер Джонс сообщил ему, что все остались настолько довольны вечеринкой у старика Бликера, что решили учредить клуб. Собрались в маленьком приветливом салуне и с превеликим энтузиазмом составили членский список. Поздно ночью старый Бликер был шумно избран президентом. До конца собрания он произносил речи, исполненные благодарности и удовлетворения. Келси вернулся домой ликуя. Он чувствовал, что, во всяком случае, может иметь истинных друзей. Установили членский взнос — один доллар каждую неделю.
Джордж был крайне увлечен. Много вечеров подряд он бодро проглатывал свой ужин, чтобы поскорее попасть в маленький веселый салун — обсуждать дела новой организации. Все участники были в полном восторге. В один из вечеров владелец салуна объявил, что готов принести в дар клубу половину арендной платы за весьма обширную комнату над его заведением. Это послужило поводом для великого ликования. Когда Келси, вернувшись домой, пытался подняться по лестнице, ноги у него сгибались, как китовый ус, а край каждой ступеньки как-то странно выдвигался вперед. На вопросы матери он только огрызался: «Да нигде я не был!» В других случаях он отвечал ей: «О, встретился кой с кем из друзей! А ты что подумала?»
В конце концов некоторые женщины из их дома пришли к выводу, что у старушки матери — необузданный сын. Они стали захаживать, чтобы выразить ей сочувствие. Часами они просиживали на кухне. А мать рассказывала им об остроумии, о способностях, о сердечности Джорджа.
XIII
С течением времени Келси обратил внимание на неких молодых людей, которые обычно стояли среди груд шлака, между кирпичной стеной и тротуаром, вблизи от черного хода углового салуна. Он находил, что они знают о жизни больше, чем другие. Прислонившись к стене, покуривая и жуя резинку, они обсуждали события и людей. Они до тонкости знали все, что делалось по соседству. Они спорили о маленьких происшествиях, проходивших перед их глазами, покуда не извлекали о них всю возможную информацию. Иногда они затевали небольшие потасовки с чужаками или хорошо одетыми мужчинами. Именно здесь Сапристи Гиэльми, разносчик, заколол на смерть Пита Брэди, за что и был казнен. Каждый владелец салуна, проходя здесь, подвергался пристальному осмотру. Иногда эти парни увязывались по пятам за каким-нибудь человеком и, войдя за ним в бар, уверяли, будто он пригласил их выпить. Если тот возражал, они кричали в один голос, что это страшная обида, и подстерегали его, чтоб отколотить. Когда им удавалось подцепить случайных посетителей или совершенно посторонних людей, бармен пребывал в состоянии флегматичного нейтралитета, равно готовый обслужить и одного и семерых; но раза два-три они напоролись не на таковских. В конце концов владелец салуна вышел однажды утром и сказал им со смелостью, присущей его сословию, что пора прекратить такое времяпрепровождение:
— Здесь это не пройдет! Понятно? Именно здесь. Если вы еще раз попробуете «поработать» тут, я приведу сюда фараона. Все ваши рожи у них засняты, и вас сразу похватают. Ясно? Здесь это не пройдет!
Все же, хоть и не часто, их приглашали в бар для выпивки.
Полицейский этого квартала принимал величественный и проницательный вид, приближаясь к их перекрестку. Иногда он останавливался и, заложив руки за спину, осмотрительно беседовал с ними. Обе стороны понимали, что вежливость — хорошая вещь. Зимой члены банды, слегка сократившись в числе, поеживались в стареньких пальто и вытаптывали в снегу маленькие площадки, не переставая, впрочем, следить за изменчивой жизнью улицы. Летом они оживали. Порой они выходили к обочине тротуара, чтобы поглядеть налево и направо вдоль улицы. Рядом, на вытоптанном участке, окруженном высокими жилыми домами, образовалось между валунами нечто вроде логова. Старый фургон был превращен ими в пристанище. Малолетние окрестные хулиганы избегали этого места — здесь многие из них бывали схвачены и избиты. Там находилось место летнего отдыха банды с перекрестка.
Все они были чересчур умны, чтобы работать. Кое-кто из них в прошлом трудился, но теперь использовал свой опыт только как запас анекдотов. Они напоминали ветеранов с их рассказами о войнах. Один парень в особенности любил вспоминать, как он отхлестал своего хозяина, владельца большой бакалейной фирмы. С мельчайшими подробностями он описывал черты лица, фигуру и костюм своей жертвы. Он хвастался богатством и общественным положением этого негоцианта. В его жизни это был выдающийся момент. Он походил на дикаря, который убил великого вождя.
К окружающей жизни они относились пренебрежительно. Их философия учила, что по большей части жизнь — это пустота и скука. С тонким презрением они насмехались над ее никчемностью. Работают, мол, люди, у которых не хватает мужества пребывать в бездействии, а там хоть трава не расти…
Могучий аппарат общественного порядка указывал им, что есть на свете люди, для которых главное — прожить в спокойствии. Парни выжидали момента, когда можно будет доказать таким людям, что самая восхитительная вещь — это буйный переворот, вихрь разрушения. Они жаждали запустить свои когти в жизнь этих людей. Они смутно мечтали о времени, когда можно будет промчаться вдоль пышных улиц в грохоте и реве войны — как армия отмщения за все радости, давно присвоенные другими, как дикое, стремительное возмездие за годы, прошедшие без хрусталя и позолоты, без женщин и вина. Такая мысль притаилась в них, как образ Рима, возможно, хранился в миниатюре в сердцах у варваров.
Келси настолько уважал этих юнцов, что обычно выбирал другую сторону улицы. Он не решался проходить вблизи, потому что тот, кто был занят своими делами, был для них несносный педант и обидчик; если же прохожий замечал их, то они возмущались, отчего он не займется своим делом, и норовили при удобном случае втянуть его в драку. Келси жаждал познакомиться с ними и подружиться, ибо это давало общественную безопасность и покой, — ведь их всюду побаивались.
Однажды на другой улице какой-то невысокий толстый человек избил Фидси Коркорана. Фидси поднялся и в бешенстве от поражения стал бросать куски кирпича в своего противника. Невысокий человек ловко уклонялся от кирпичей, а затем пустился преследовать Фидси и гнал его больше квартала. По временам он настигал его и наносил удары. Фидси неистовствовал, как в маньякальном бреду. Когда же невысокий человек решил вернуться к своим делам, Фидси, с лицом, измазанным слезами и кровью, снова стал кидаться на него, подстегиваемый яростью побежденного животного. Каждый раз толстяк оборачивался, свирепо ругаясь, и делал короткий бросок. Фидси убегал, но затем возвращался, едва прекращалось преследование. Маленький человек, видимо, удивлялся — когда же этот маньяк даст ему спокойно уйти? Он беспомощно поглядывал на улицу. Там были люди, знавшие Фидси, и они уговаривали его, но он продолжал нападать на низенького человека, вереща как раненая обезьяна, используя для дикой ругани все уличное красноречие.
Наконец толстяк дошел до полного исступления. Он решил закончить бой. С глухим рычанием, зловещий как смерть, ринулся он на Фидси.
Келси случайно оказался тут же. Он ухватил низенького человека за плечо и завопил, как обычно бывает, когда вмешиваются в драку:
— Эй, остановись! Хватит его лупцевать! Ты уже довольно его дубасил. Оставь его в покое!
Низенький человек вырывался и тянул в сторону. Он повернулся лицом к Келси, так что зубы его почти касались щеки Джорджа:
— Пусти меня! Пусти меня!
Конец фразы потонул в громких ругательствах.
Лицо Келси помертвело от страха, но он как-то ухитрился не ослабить своей хватки. А Фидси, после мгновенной паузы, кинулся в новую атаку.
Они принялись избивать низенького человека. Они притиснули его к высокому деревянному забору, и в течение нескольких секунд удары сыпались на его голову. Но тут Фидси заметил подбегающего полицейского и бросился наутек, быстрый как тень. Увидя его исчезновение, Келси помчался за ним вслед.
Пробежав три или четыре квартала, они остановились. Фидси сказал: «Еще минута, и я бы расколошматил этого толстяка». И он стер кровь, заливавшую глаза.
На перекрестке, где собиралась банда, пошли расспросы: «Кто тебя так разукрасил, Фидси?» Его описание было пылким. Все смеялись. «Где-то он сейчас?..» Затем стали задавать вопросы Келси. Тот рассказал им историю, в которой сумел обрисовать себя как значительного и опасного человека. Они посматривали на него и, казалось, прикидывали, что, пожалуй, он может быть настоящим мужчиной.
Однажды, когда старушка вышла купить чего-нибудь на ужин сыну, она увидела, что Джордж стоит у черного хода салуна, погруженный в задушевную беседу с Фидси и прочими. Она прокралась сторонкой, ибо поняла, что опасно столкнуться с ним и с его гордостью в присутствии юношей, которых всегда ставят выше матерей.
Придя домой, Джордж со вздохом усталости швырнул шляпу, как будто проработал много часов, но мать напала на него, прежде чем он успел закончить свой маневр. Он слушал ее проповедь, скривив губы. Вместо защиты он сделал жест полнейшего отчаяния. Увы, ей никогда не понять передовых явлений жизни! Да, его мать была несовременной…
XIV
Маленькая старушка проснулась рано и теперь суетилась, готовя завтрак. По временам она боязливо поглядывала на часы. За час до того, как сыну нужно было уйти на работу, она подошла к его комнате и окликнула его обычным резким тоном:
— Джордж! Джордж!
До нее донеслось сонное ворчание.
— Ну, ну, время вставать! — продолжала она. — Скорее поднимайся!
Чуть позже она снова подошла к двери:
— Джордж, ты встаешь?
— Чего?
— Ты встаешь?
— Да, сейчас! — Он придал своему голосу бодрость, в которой старушка угадала фальшь. Она подошла к кровати и взяла его за плечо:
— Джордж… Джордж… поднимайся же!
В сонном тумане он принялся бессвязно протестовать:
— Ой, оставь меня… пожалуйста… Спать хочется!
Но мать продолжала трясти его:
— Ладно, время вставать! Ну, ну, давай-ка…
Голос ее, резкий от досады, тонкой, пискливой ноткой пронизывал его уши. Он повернулся на подушке, прикрыл голову обеими руками. Теперь его жалобы звучали приглушенно:
— Ох, можешь ты меня оставить? Времени — еще много. Ну, хоть десять минут! Я же сплю!
Но она была неумолима:
— Нет, ты должен встать сейчас же. У тебя не хватит времени позавтракать и поспеть на работу.
В конце концов он встал, мрачный, ворчливый. Потом вышел завтракать, мигая воспаленными веками, с одеревеневшим, хмурым лицом.
Так каждое утро мать приходила к нему в комнату и вела бой, чтобы разбудить сына. Она была настоящим солдатом. Невзирая на мольбы и угрозы, она пребывала на своем посту, невозмутимая и несгибаемая. Эти стычки занимали значительное место в жизни Джорджа.
Порой он бывал вне себя от невысказанного гнева. Все казалось ему сплошным надувательством. Он чувствовал, что его обманом лишают сна. Какая несправедливость — изо дня в день, с жестокой регулярностью, принуждать его вставать раньше, чем боги сна ослабят свои узы! Он ненавидел неведомую силу, которая управляла его жизнью.
Однажды утром он разразился беспорядочными проклятиями, посылая их в пространство, как будто там и коренилась несправедливость. Мать вздрогнула; рот ее вытянулся в ниточку. Она увидела, что наступил важный момент. Пришло время для решительной схватки. Она храбро пошла в наступление:
— Перестань ругаться, Джордж Келси! Ты не смеешь так говорить при мне! Я не желаю этого! Замолчи сию же минуту. Ни слова больше! Ты думаешь, я позволю, чтобы ты ругался? Ни слова! Не желаю! Слышишь, я этого не потерплю!
Сперва брошенные ею слова скользнули по его сознанию, как по льду, но в конце концов привлекли его внимание. Лицо его стало угрюмым от гнева и страдания. Он заговорил с мрачным отвращением:
— К черту твое нежелание! Что ты можешь со мной поделать?
Потом, должно быть находя себя недостаточно выразительным, он встал и медленно придвинулся к матери. Подойдя к ней вплотную, он повторил: «Что ты можешь со мной поделать?» — и поглядел на нее упорно и зло, хотя у него самого был мрачный и жалкий вид, как у осужденного преступника.
Она вытянула руки в бессильном жесте. Она признавала его победу. Джордж взял шляпу и неторопливо вышел.
Три дня они прожили в молчании. Он размышлял об ее мучениях и находил в этом своеобразное удовольствие. Когда представлялся случай, он делал маленькие пакости. Да, он сумеет ее унизить! Теперь он вышел из-под контроля, теперь он никому не подвластен; ему захотелось царствовать. Ее страдания как бы вознаграждали его за собственные муки.
Мать, как всегда, хлопотала по хозяйству, лицо у нее было серое, неподвижное. Казалось, она перенесла побоище, в котором все, чем она дорожила, было похищено свирепыми дикарями.
Как-то вечером, в шесть, Джордж вошел и принялся разглядывать мать, занятую чисткой картофеля. Она равнодушно, без волнения, прислушивалась к его шагам, а при его появлении не подняла глаз.
— Так вот, меня выгнали, — неожиданно сказал. Джордж.
То был последний удар. Ее тело судорожно дернулось на стуле. Когда наконец она подняла глаза, ужас стоял на ее лице, нижняя челюсть отвисла.
— Прогнали? С работы? Но почему, Джордж?..
Он подошел к окну и стал спиной к матери. Он чувствовал на себе ее страдальческий взгляд.
— Да! Выгнали!..
Наконец она вымолвила:
— Так что же ты теперь собираешься делать?
Он постучал ногтем по стеклу и ответил в тоне, который прозвучал хрипло и неестественно из-за усилий придать ему веселую беспечность:
— О ничего!..
Тут она принялась плакать:
— Ах, Джордж… Джордж… Джордж…
Он хмуро посмотрел на мать.
— Так вот ты как? И это все, что я имею, когда прихожу домой, потеряв работу? Можно подумать, что это моя вина. Ведь ничего нельзя было сделать…
Она продолжала всхлипывать с унылой дрожью. В ее позе, в наклоне головы отражалась уверенность, что никто в мире не способен понять ее боль. Сын выждал минуту, а потом, следуя своей обычной тактике, ушел, хлопнув дверью. Бледный поток солнечного света, неизменный в своем назначении, освещал маленькую старушку, согбенную страданием, затерянную в своем кресле.
XV
На следующий день, когда Келси стоял на углу, подбежали трое мальчишек. Двое остановились на некотором расстоянии, а третий выступил вперед. Он стал перед Джорджем и важно произнес:
— Эй, ваша старуха заболела…
— Что?
— Ваша старуха заболела.
— Убирайся!
— Нет, правда, она больна!
— Кто тебе сказал?
— Миссис Калахан. Она велела мне сбегать за вами. Они вас ждут.
Внезапный страх охватил Келси. В мозгу пронеслись, подобно вспышкам света, картины прошлого. Мелькнула мысль о небесном возмездии. Он оглянулся вокруг, и знакомый пейзаж приобрел грозный и мрачный смысл. Было предчувствие беды и на улице, и в домах, и в небе, и в людях. Его нервные, трепещущие ноздри чуяли в воздухе что-то трагическое и страшное.
— Хорошо, иду! — ответил он мальчику с дрожью в голосе.
Позади он ощущал внезапно наступившее выжидательное молчание своих товарищей по шайке. Они наблюдали за ним. Шагая вдоль улицы, он знал, что они вышли на середину тротуара и смотрят ему вслед. Он был рад, что они не могут видеть его лицо, его трепетные губы, его растерянные глаза. Он остановился у дверей своей квартиры и уставился в панель, как будто увидел на ней начертанные письмена. В следующую минуту он вошел и боязливо окинул взглядом комнату.
Мать сидела, глядя на стены и окна в доме напротив. Голова ее опиралась на спинку кресла. Лицо покрывала необычайная бледность, но глаза блестели, губы не кривились.
Джордж ощутил невыразимое чувство признательности, увидев, как спокойно она сидит.
— Что, мама, говорят, ты захворала! — вскричал он, порывисто подходя к ней. — В чем дело?
Она улыбнулась сыну:
— О, ничего особенного. У меня вроде как закружилась голова, только и всего…
Голос ее звучал трезво, с оттенком жизненной силы.
Джордж обратил внимание на ее обычный тон. Не было в ее голосе ни тревоги, ни страдания, но дурные предчувствия, только что пережитые на улице, и пророческая нервная дрожь все еще продолжали его волновать.
— Хорошо… Но ты уверена, что ничего нет? Они напугали меня чуть не до смерти.
— Нет, ничего, только голова как-то кружится. Я упала позади плиты. Миссис Калахан пришла и вытащила меня. Должно быть, я порядочно там пролежала. Доктор сказал, что все будет в порядке через два-три часа. Я ничего не чувствую.
Келси испустил громкий вздох облегчения: «Боже, до чего же я перепугался!» Теперь он сиял от радости, избавившись от страха.
— Да, я просто не мог себе представить, что случилось, — говорил он матери.
— Право же, это пустяки, — отвечала она.
Джордж неуклюже переминался с ноги на ногу, не спуская с нее удивленных глаз, как будто ожидал, что она могла исчезнуть. Теперь он испытывал радостное возбуждение — это была реакция на недавнюю панику. Он принес стул и уселся рядом, но тут же вскочил, чтобы спросить:
— Не надо ли раздобыть тебе чего-нибудь?
Он жадно вглядывался в нее, и в глазах его сияли любовь и радость. Если бы не стыд, он мог бы обратиться к матери даже ласково.
— Нет, ничего не нужно, — отвечала она и тут же продолжала в тоне спокойной беседы: — Ты еще не нашел другой работы?
На него упала тень недавнего прошлого, и он сразу стал суровым. Потом заговорил, и эта фраза прозвучала как обет, как обещание исправиться:
— Нет, пока не нашел, но я буду вовсю охотиться за работой, можешь мне поверить!
Она поняла по его тону, что он хочет помириться, и радостно улыбнулась в ответ.
— Ты хороший мальчик, Джордж! — Лицо ее просияло как звезды.
Немного спустя она сказала:
— Как ты думаешь, твой старый хозяин возьмет тебя обратно, если я схожу к нему?
— Нет, — сразу ответил Келси, — тут толку не будет. У них есть столько рабочих, сколько им нужно. Не хватает помещения. Это ни к чему не приведет.
На минуту он перестал улыбаться, вспомнив о возможности некоторых разоблачений на свой счет.
— Я буду стараться раздобыть работу, и, если где-нибудь она есть, я ее получу!
Она снова улыбнулась ему:
— Правильно, Джордж!
Когда настало время ужинать, он подтащил мать к столу вместе с креслом, а сам засуетился, чтобы приготовить для нее еду. Мать весело подтрунивала над ним.
Джордж оказался и неуклюжим и неумелым. Он нарочно еще преувеличивал свою беспомощность, так что от смеха ей пришлось откинуться на спинку кресла. Потом они сидели у окна. Ее рука покоилась на волосах Джорджа.
XVI
Когда Келси отправился занять денег у старого Бликера, у Джонса и у прочих, он обнаружил, насколько он ниже их по социальному положению. Бликер мрачно ответил, что не знает, как он может дать взаймы в настоящее время. Джонс предложил ему выпить, но тон у него был небрежный. О’Коннор длинно рассказывал о каких-то своих путаных финансовых неудачах. В общем, Келси увидел, что все они совершенно переменились. Они молчали тогда, когда он вправе был ожидать их сочувствия.
Когда Келси шел по улице, приближаясь к своему дому, то заметил Фидси Коркорана и еще одного парня из их шайки. Оба делали красноречивые знаки: «Пойдешь с нами?»
Джордж остановился и поглядел на них:
— Что у вас случилось?
— Идешь ты с нами или нет? — вопрошал Фидси. — Новый бармен! Большущий бидон! Мы его перетащили на наш участок. Говорят тебе: большущий бидон!
И он, так сказать, рисовал в воздухе своими восторженными пальцами.
Келси уныло повернул к своему дому.
— Право, сейчас нет охоты…
— Что это с тобой? — сказал Фидси. — Ты сделался каким-то работягой-методистом. Иди же сюда, говорю тебе! Ты получишь свою порцию из жестянки — ведь ты из нашей банды и не отдашь пива без драки! Верно? А не то другой парень возьмет твою долю. Идем же!
Когда они пришли к убежищу на пустом участке, один из шайки уже пил из большого и помятого жестяного бидона, высоко задрав его кверху. Горло у него сокращалось конвульсивно. За ним жадно и настороженно наблюдали пять или шесть других. Их глаза внимательно следили за каждым движением бидона. Все были очень молчаливы.
Увидя, что происходит, Фидси так и подскочил:
— Эй, Тим, солдафон ты этакий, поставь бидон! О чем ты только думаешь? В чем дело? Хватит!
У пьющего в знак протеста злобно зашевелилось в горле. Он поставил бидон на землю и выругался:
— Кто это солдафон? Я беру не больше, чем следует! Ты чертовски спешишь. Думаешь, что это твой собственный бидончик? Можешь закрыть глаза, пока я выпью свою порцию!
Он перевел дух, а затем опять приподнял и наклонил бидон.
Фидси подошел к нему с тревожным криком. Он так настойчиво вмешался в ход выпивки, что Тим вынужден был снова выпустить ведерко из боязни захлебнуться.
Фидси подхватил сосуд и поспешно заглянул внутрь.
— Ну да! Из-за этого я и орал! Поглядите на пиво! Не хватит и промочить глотку. С этими проклятыми пьяницами никак не выходит по справедливости! Ты же настоящий колодезь, Тим Конниген… Погляди, что ты нам оставил! Нет, вы только посмотрите на этого франта! Кто мы, по-твоему? Церковные прихожане? Мы, что, не хотим выпить? Да ты загляни в ведро! Там сухо, как в аду! О чем ты думал?
Тим бросил взгляд на содержимое, а затем сказал:
— Так вот, парень, что пил до меня, оставил мне только это. Синий Билли — вот кто налакался! А я чуть попробовал…
Сидевший рядом Синий Билли гневно запротестовал:
— Ты врешь, Тим, я только разок глотнул!
На него, как видно, нашло вдохновение, его лицо внезапно повеселело, он встал и подошел к бидону.
— Я еще не получил своей полной порции. По-моему, мне полагается раньше, чем Фидси, разве не так?
С сардонической улыбкой Фидси спрятал бидон за спину.
— Видать гниду! Не так скоро! Ты уже пил. А если нет, так все одно не получишь. Понял?
Синий Билли решительно подступил к Фидси.
— Черта с два, если я не получу…
— Гнида! — повторил Фидси.
Билли вернулся на место. Фидси выпил свою порцию. Затем он ловко маневрировал перед шайкой, пока Келси и второй юноша не получили свою долю.
— Вы куча пьяниц, — заявил он всей банде. Никто не мог бы выпить, если за вами не следить.
В душе Синего Билли разгоралась ненависть к Фидси.
— Эй, заткнись! Чего тебе было ухаживать за этими двумя парнями? Ты же выпил, верно? Значит, все. Катись домой.
— Терпеть не могу типов, которые хлещут, как цистерна, — сказал Фидси. — Но ты брось трепаться по поводу бидона, Синий, а не то тебе влетит.
— От кого же мне влетит? — спросил Синий Билли, вскидывая на него глаза.
— От Келси, — смело отвечал Фидси.
— Черта с два!
— А вот увидишь!
Синий Билли сделал воинственный жест:
— Ему не дожить до того дня, когда он посмеет тронуть меня хоть мизинцем. А будет много болтать, так я подмету землю его мордой…
Фидси окликнул Джорджа:
— Эй, Кел, слышишь, что мелет этот тип?
Келси был явно погружен в другие мысли. Он стоял, наполовину отвернувшись. А Синий Билли заговорил с Фидси в боевом тоне:
— Говорил когда-нибудь Кел, что может справиться со мной?
— Конечно, — отвечал Фидси. — Он сказал, что это даже очень просто. Он говорил, Синий, что может сделать из тебя решето.
— Когда он это говорил?
— О, когда угодно… Побить тебя — это плевое дело. Кел так сказал.
Синий Билли направился к Джорджу. Остальные члены банды последовали за ним, обмениваясь веселыми взглядами.
— Так ты говоришь, что можешь меня отлупить?
Келси медленно обернулся, но продолжал смотреть в землю. Он слышал, как Фидси метался в толпе, рассказывая о его доблести, подготовляя всех к поражению Синего Билли.
Келси тяжело опирался на одну ногу, нервно шевелил руками. Наконец он произнес низким, глухим голосом:
— Ну и что, если я говорил.
Фраза эта вызвала у членов банды трепет удовольствия. Это был грозный вопрос. Синий Билли весь подобрался. Теперь на него падала ответственность за дальнейшее. Банда слегка расступилась. Все выжидательно смотрели на Синего Билли.
Не торопясь, он выступил вперед и оказался лицом к лицу с Келси:
— Что ж, если ты сказал такое, — прорычал он сквозь зубы, — я вышибу из тебя дух на этом самом месте!
Но тут какой-то мальчишка с исступленными глазами скатился, пыхтя, по откосу, как после взрыва, и выпалил скороговоркой:
— Здесь этот Келси? Послушайте, ваша старуха опять заболела! Там все вас ищут! Бегите домой! Она ужас как больна!
Вся шайка обернулась с громким ропотом: «Эй ты, вон отсюда!» Фидси швырнул в мальчика камнем и погнался было за ним, но тот продолжал кричать:
— Скорее бегите домой, Келси! Она страшно больна. Она так кричала! Они ищут вас больше часа.
В своем усердии мальчик опять приблизился, невзирая на Фидси.
Келси отошел от Синего Билли.
— Пожалуй, я пойду, — сказал он. Раздался общий вопль.
— Что ж, — продолжал он, — не могу же я… я не хочу… не хочу оставить мать… ведь она…
Его слова потонули в хоре насмешек.
— Ну, послушайте… — пытался он начать, но всякий раз их возгласы и крики удваивались. Они подталкивали Синего Билли:
— Возьмись за него, Синий! Бей его! Вперед!
Келси медленно удалялся, а они все еще подстрекали Синего Билли сделать решительный шаг. Билли кипел от злости, хорохорился и что-то объяснял.
Когда Келси был уже на приличном расстоянии, Билли слегка выдвинулся вперед и дико выругался. Келси мрачно оглянулся назад.
XVII
Входя в комнату умирающей, Келси все еще размышлял о недавнем столкновении, придумывая разные нелепые способы, как отомстить Синему Билли и остальным.
Маленькая старушка лежала, вытянувшись, на своей кровати. Ее лицо и руки были того же оттенка, что и одеяло. Волосы ее, казавшиеся по-новому и удивительно седыми, падали на виски спутанными клубками и прядями. Она была удручающе неподвижна, одни глаза были в движении, бросая вокруг безумные взгляды.
Молодой доктор только что кончил прописывать лекарство.
— Ну вот, — сказал он с видимым удовлетворением, — думаю, что это ей поможет…
Он быстро направился к выходу и при этом встретился с Келси.
— Ах так! — воскликнул он. — Вы ее сын?
В горле у Джорджа как будто застрял кусочек меха. Когда он овладел голосом, слова сперва прозвучали очень тихо, а потом очень громко, словно прорвавшись через препятствие:
— Будет она… останется она?..
Доктор обернулся и поглядел на кровать. Что-то бормоча, больная наблюдала за ними, как будто это были вампиры.
— Не могу пока сказать, — отвечал доктор. — Она удивительная женщина. В ней больше живучести, чем у вас и у меня вместе. Не могу ничего сказать! Может быть — да, а может быть — нет. До свидания. Приду через два часа…
На кухне миссис Калахан лихорадочно сметала пыль с мебели, вытирала то одно, то другое. Она расставляла все предметы покрасивее. Миссис Калахан готовила все к приходу смерти. Она разглядывала даже пол, словно мечтая натереть его.
Доктор остановился и тихо заговорил с ней, посматривая на кровать больной. После его ухода она возобновила работу с удвоенной быстротой.
Келси приблизился к матери, позвал ее: «Мама… мама…» Он двигался осторожно, как будто опасаясь, что таинственное существо, лежащее на кровати, может вцепиться в него.
— Мама… мама… Разве ты не узнаешь меня? — Он вытянул ищущие дрожащие пальцы и прикоснулся к ее руке. Две блестящих, стального цвета, точки сверкали в ее зрачках. Она смотрела вбок, где ей чудилось что-то угрожающее.
Внезапно старушка повернулась к сыну с диким призывным лепетом:
— Помогите мне! Помогите мне! О, помогите! Я вижу, они идут сюда…
Келси снова окликнул ее как бы издалека: «Мама! Мама!» Она взглянула на него, и тут в ней как бы началась борьба — она стремилась вернуть его в свое сознание. Она сражалась против некой неумолимой силы, когтями впившейся в ее мозг. Заикаясь, беспорядочно выкрикивая, она молила Джорджа о помощи.
Потом она снова посмотрела в сторону.
— А, вот они идут! Вот они идут! О, смотрите… смотрите… смо…
Без помощи рук она села на кровати. Келси почувствовал в горле приступ удушья. Она продолжала выкрикивать, а у него перед глазами поплыла пурпурная завеса.
— Мама… О мама… Там же нет ничего… Ничего нет…
…Она стояла у кухонной двери, держа в руке скатерть. В комнате позади нее только что отзвенела посуда. Вдали, за деревьями сада, она видела в поле пашущего мужчину:
— Билл, эй, Билл, ты не видел Джорджи? Он с тобой в поле? Джорджи! Джорджи! Иди сюда сию минуту! Сию… же… минуту!
Теперь она заговорила с воображаемыми людьми в комнате:
— Хотела бы я знать, что вам здесь нужно! Убирайтесь отсюда! Не желаю, чтобы вы здесь были. Сегодня я чувствую себя плохо и не хочу вас видеть! Мне плохо! Уходите отсюда. — Голос ее стал раздражительным. — Вон отсюда! Вон отсюда! Вон!
Келси лежал в кресле. Его утратившие чувствительность руки свесились вниз, касаясь пальцами пола. Он принудил себя не слушать лепета, доносившегося с кровати, но все время ощущал тиканье маленьких часов на кухонной полке…
Когда Джордж очнулся, перед ним стоял бледнолицый и довольно полный молодой священник.
— Мой бедный мальчик! — начал он.
Старушка лежала тихо, закрыв глаза. На столике у изголовья стоял стакан с бесцветным лекарством. Отраженный свет рисовал на стакане серебряную звездочку. Двое мужчин сидели в ожидании бок о бок. На кухне миссис Калахан уселась и тоже ждала.
Келси принялся разглядывать обои. Узор состоял из букетов коричневых роз. Ему почудилось, что они ползают в его мозгу, как отвратительные крабы.
Сквозь открытую дверь он видел клеенчатую скатерть на столе, светящуюся под теплыми лучами предвечернего солнца. За окном открывалось прекрасное, нежное небо, похожее на голубую эмаль, и кайма дымовых труб и крыш, поблескивающих тут и там. Бесконечный грохот, извечная поступь шагающего города проникали сюда, смешиваясь с неясными криками. По временам беспокойно шевелилась и покашливала женщина у плиты.
Из коридора через фрамугу доносились два голоса:
— Джонни!
— Ну что?
— Иди сейчас же ко мне! Я хочу послать тебя в лавку!
— Ах, мама, пошли лучше Сэлли.
— Нет. Сейчас же иди сюда.
— Ладно, одну минуточку…
— Джонни!
— Через минуту, говорю тебе.
— Джонни…
Послышалась тяжелая поступь, потом мальчишеский визг. Внезапно священник вскочил. Он ринулся вперед, пригляделся. Маленькая старушка была мертва.
Перевод Е. ТанкаВоенный эпизод
Резиновый плащ лейтенанта был разостлан на земле, а на него высыпан весь кофе, выданный на роту. Капралы и другие представители голодных, грязных людей, заполнявших окопы, пришли за порциями для своих взводов.
Лейтенант был хмур и сосредоточен, выполняя задачу распределения кофе. Сжав губы, он проводил саблей бесчисленные борозды в насыпанной перед ним груде, пока на плаще не образовались поразительно одинаковые коричневые квадраты. Лейтенант был уже на грани достижения величайшей победы в области прикладной геометрии, а капралы протискивались вперед, чтобы завладеть каждый своим квадратом, как вдруг он резко вскрикнул и так поглядел на стоявшего рядом солдата, словно тот его ударил. И все закричали тоже, увидев кровь на рукаве лейтенанта.
Лейтенант вздрогнул, точно его что-то ужалило, пошатнулся и выпрямился. Было отчетливо слышно его хриплое дыхание. Он грустно и недоумевающе посмотрел на зеленую полоску леса за окопом, где теперь появилось много клубочков белого дыма. А вокруг него люди стояли безмолвные, как изваяния, испуганные и потрясенные этой катастрофой, настигшей их в ту минуту, когда ее никто не ждал и когда ее можно было наблюдать на досуге.
Лейтенант все смотрел на лес, и вслед за ним они тоже повернули головы в ту сторону и так же безмолвно уставились на далекие деревья, словно старались проникнуть в тайну полета, совершенного пулей.
Конечно, лейтенант вынужден был теперь взять саблю в левую руку. Он не взял ее за эфес, а схватил неуклюже за середину клинка. Оторвав взгляд от враждебного леса, он посмотрел на саблю, которую держал в руке. Казалось, он не знает, что с ней делать и куда ее девать. Оружие сразу превратилось в какой-то непривычный для него предмет. Он озадаченно смотрел на него, словно ему дали в руки трезубец, скипетр или лопату.
Наконец он попытался вложить саблю в ножны. Вложить саблю, держа ее левой рукой за середину клинка, в ножны, висящие у левого бедра, — трюк, достойный цирковой арены. Тяжело дыша, как борец, раненый офицер вступил в отчаянное единоборство с саблей и болтавшимися на боку ножнами.
Но тут наблюдавшие это солдаты очнулись от своей каменной неподвижности и сочувственно столпились вокруг лейтенанта. Ординарец взял у него саблю и бережно вложил ее в ножны. При этом он напряженно отклонился назад, остерегаясь хотя бы пальцем прикоснуться к лейтенанту. Рана необъяснимо возвышает человека в глазах окружающих. Здоровых людей смущает это незнакомое им и пугающее величие. Рука раненого как будто готова приподнять завесу над всеми тайнами бытия, и тогда муравьи и властители, войны и города, снег и солнечный свет, и перо, выпавшее из крыла птицы, — все обретает свой подлинный смысл. Это могущество как бы одевает ореолом окровавленное тело и нередко заставляет остальных чувствовать свое ничтожество. Товарищи раненого в глубоком раздумье смотрят на него широко раскрытыми глазами. Они безотчетно боятся, что одно прикосновение пальца может повалить его на землю, ускорить трагическую развязку, мгновенно низринуть его в туманную, серую неизвестность. Вот почему ординарец так пугливо отклонился назад, вкладывая в ножны саблю лейтенанта.
Кто-то из солдат пришел лейтенанту на помощь. Он робко подставил плечо, чтобы лейтенант мог на него опереться, но тот только уныло отмахнулся. У него был вид человека, который понимает, что он — жертва страшного недуга, и сознает свою беспомощность. Он снова взглянул на лес, видневшийся за краем бруствера, повернулся и медленно зашагал прочь. Левой рукой он осторожно поддерживал раненую руку, словно она была стеклянная.
И солдаты молча посмотрели на лес, потом на удалявшегося лейтенанта, потом снова на лес и снова на лейтенанта.
Когда раненый офицер вышел за линию огня, он увидел многое, чего никогда не видал, пока сам участвовал в сражении, Он увидел генерала на вороном коне, который глядел поверх синих рядов пехоты на зеленый лес вдали, осложнявший его задачу. Адъютант проскакал бешеным галопом, резко осадил коня, отдал честь и протянул донесение. Все это поразительно, до мельчайших подробностей напоминало какое-то историческое батальное полотно.
Позади генерала и его штаба горнист, несколько ординарцев и полковой знаменосец делали отчаянные усилия, чтобы удержать на месте обезумевших лошадей и сохранить должную дистанцию, а снаряды гудели над ними, заставляя лошадей дрожать и яростно рваться прочь.
Грохочущей, сверкающей массой батарея разворачивалась на правом фланге. Бешеный стук копыт, крики ездовых, проклятия и поощрения, понукания и угрозы и, наконец, грохот колес и блеск приподнятых стволов орудий приковали к себе внимание лейтенанта. Батарея развертывалась мощной дугой, вид которой заставлял биться сердце. Порой движение батареи замирало, и в этих паузах было что-то драматическое, как в мгновениях неподвижности, следующих за ударом волн о скалы, а когда она снова устремлялась вперед, в хаосе колес, рычагов и стволов орудий обнаруживалось прекрасное единство, точно это был один гигантский механизм. И грохот батареи звучал как песня войны, до самой глубины проникая в души людей.
Лейтенант стоял, все так же бережно, словно стеклянную, поддерживая свою руку, и глядел на батарею, пока все не слилось в его глазах в одну темную массу, над которой появлялись и исчезали фигуры размахивавших хлыстами ездовых.
Потом лейтенант посмотрел в ту сторону, где шел бой и где выстрелы то трещали, как сухой хворост в огне, то рассыпались с раздражающей неравномерностью, то перекатывались, как гром. Он увидел, дым, клубами вздымавшийся вверх, и толпы солдат, бежавших с криком вперед, и других, которые стояли и беспорядочно палили куда-то в пространство.
Он подошел к группе отставших солдат, и те рассказали ему, как найти полевой лазарет. Они совершенно точно описали его расположение. Эти солдаты, не принимавшие участия в сражении, казалось были лучше всех о нем осведомлены. Они поведали лейтенанту о действиях каждого полка, каждой дивизии и сообщили личные мнения каждого из генералов. Лейтенант посмотрел на них с изумлением и понес дальше свою раненую руку.
У края дороги бригада варила кофе, и оттуда доносился несмолкаемый гул голосов — можно было подумать, что там расположился женский пансион. К лейтенанту несколько раз подходили офицеры и задавали ему вопросы, на которые он ничего не мог ответить. Один, увидав его руку, накинулся на него:
— Это никуда не годится, приятель, надо сделать перевязку.
Он завладел лейтенантом и его раной. Он разрезал рукав и обнажил руку, каждый нерв которой трепетал от его прикосновения. Не переставая ворчать, он перевязал рану своим носовым платком. Его тон заставлял предполагать, что у него уже вошло в привычку чуть ли не ежедневно получать ранения. Лейтенант повесил голову, он чувствовал себя рядом с ним совершенным профаном и сознавал, что понятия не имеет о том, как полагается вести себя раненому.
Низкие белые палатки лазарета были разбиты вокруг старого школьного здания. Там царила необычайная суматоха. Две санитарные повозки завязли в грязи, сцепившись колесами. Ездовые, ругаясь и размахивая руками, старались растащить их в разные стороны. Беспрерывно приходили и уходили люди со всевозможными повязками. Многие, усевшись под деревьями, нянчились со своими увечьями, поглаживали кто руку, кто ногу, кто голову. На крыльце школы разгорелась перебранка. У солдата, который сидел на земле, прислонившись спиной к дереву, и безмятежно курил маисовую трубку, лицо было серое, как новое солдатское одеяло. Лейтенанту захотелось броситься к этому солдату и растолковать ему, что он умирает.
Хирург с озабоченным видом прошел мимо лейтенанта.
— Добрый день, — сказал он и дружески улыбнулся. Затем увидел руку лейтенанта, и выражение его лица сразу изменилось. — Ну-ка, дайте взглянуть. — Он, казалось, внезапно исполнился к нему глубочайшего презрения. Эта рана, по-видимому, ставила лейтенанта в его глазах на очень низкий социальный уровень. — Какой это осел накрутил сюда тряпку? — раздраженно закричал хирург.
— Так, один малый, — отвечал лейтенант.
Когда рана обнажилась, хирург пренебрежительно потрогал ее пальцем.
— Н-да, — сказал он, — идемте-ка со мной, я займусь вами.
В его голосе снова прозвучало презрение, словно он сказал: «Придется отправить вас в тюрьму!»
Лейтенант, стоявший все время с очень кротким видом, внезапно покраснел и в упор взглянул на хирурга.
— Послушайте, я не позволю ее ампутировать! — сказал он.
— Вздор! Вздор! Вздор! — закричал хирург. — Идемте, я не стану ампутировать. Ну, пошли, не будьте слюнтяем!
— Оставьте меня в покое, — злобно сказал лейтенант, отстранившись от него. Его взгляд был прикован к дверям старой школы, которые казались ему зловещими, как двери морга.
Вот и весь рассказ о том, как лейтенант потерял руку. Когда он приехал домой, мать, жена и сестры долго рыдали, глядя на его пустой рукав.
— Ладно, перестаньте, — пробормотал он смущенно, стоя среди этого потока слез. — Стоит ли так убиваться?
Перевод Т. ОзерскойКак новобрачная приехала в Йеллоу-скай
I
Плавное движение большого пульмановского вагона, стремительно мчавшегося вперед, было совсем неощутимым, и, лишь взглянув в окно, пассажир мог убедиться, что равнины Техаса уносились на восток. Обширные низины с зеленой травой, унылые места, заросшие мескитом и кактусом, разбросанные небольшими группами каркасные домики, леса со светлой и нежной листвой деревьев — все это плыло на восток, уплывало за горизонт, куда-то в пропасть.
В Сан-Антонио в этот вагон села только что обвенчавшаяся пара. От долгого пребывания на ветру и на солнце лицо мужчины было красным, а кирпичного цвета руки непрерывно и весьма выразительно двигались — уж очень неловко он себя чувствовал в непривычном для него новом черном костюме. Время от времени он с уважением оглядывал свой наряд. Положив руки на колени, он сидел как человек, ожидающий очереди в парикмахерской. В беглых взглядах, которые он бросал на других пассажиров, сквозила застенчивость.
Новобрачная, уже не первой молодости, не отличалась красотой. На ее синем кашемировом платье, усеянном изрядным количеством стальных пуговиц, то тут, то там красовались кусочки бархата. Она беспрестанно вертела головой, стараясь разглядеть свои рукава буфами, очень жесткие, прямые и высокие. Они стесняли ее. Было совершенно очевидно, что жизнь ее прошла в стряпне и что, сознавая свои обязанности, она собиралась стряпать и впредь. Странное впечатление производила на этом простом, неумном лице со спокойными, почти невозмутимыми чертами краска смущения от легкомысленных взглядов, которыми ее окинули некоторые пассажиры, когда она вошла в купе.
Новобрачные, по-видимому, были очень счастливы.
— Когда-нибудь ездила в салон-вагоне? — спросил он, восторженно улыбаясь.
— Нет, — ответила она, — никогда. Просто чудно, правда?
— Шикарно. Мы скоро пойдем в вагон-ресторан, и нам подадут много блюд. Самую превосходную еду на свете. Берут доллар.
— Ах, неужели? — воскликнула новобрачная. — Целый доллар? Ну, это слишком дорого для нас, правда, Джек?
— Только не в этой поездке, — храбро ответил он. — Мы все это выдержим.
Потом он дал ей объяснения насчет поездов.
— Понимаешь, от одного конца Техаса до другого тысяча миль, а этот поезд проходит их, останавливаясь только четыре раза.
В нем чувствовалась радость владельца. Он указывал ей на ослепительную отделку вагона: и глаза ее действительно раскрывались шире, когда она созерцала узорчатый бархат цвета морской воды, сверкающую латунь, серебро и стекло, дерево, отливавшее таким же темным блеском, как поверхность нефтяной лужи. В одном конце вагона бронзовая фигура поддерживала опору, разделявшую купе, и потолок в различных местах украшала роспись оливкового цвета с серебром.
Паре этой казалось, что окружающая обстановка отражает великолепие их бракосочетания, состоявшегося утром в Сан-Антонио; то была обстановка, которая приличествовала их новому положению. Особенно у мужчины лицо так и сияло. Проводнику-негру он показался очень смешным; время от времени он поглядывал на них издали и с видом превосходства скалил зубы. Иногда он ловко подшучивал над ними, но делал так, что им это было не совсем ясно. Он тонко пользовался всеми приемами снобизма самого неотразимого рода. Он даже угнетал их, но они почти не чувствовали этого угнетения, а вскоре забыли и пассажиров, изредка насмешливо поглядывавших на них с выражением явного удовольствия. С незапамятных времен в ситуации новобрачных обязательно усматривают что-то забавное.
— Мы должны прибыть в Йеллоу-скай в три сорок две, — сказал он, нежно заглядывая ей в глаза.
— Неужели? — ответила она, будто ей это было неизвестно.
Удивляться тому, что сказал муж, отчасти входило в обязанности любезной жены. Она вынула из кармана маленькие серебряные часики и, когда, держа их перед собой, она с хмурым вниманием уставилась на циферблат, лицо молодого супруга засияло.
— Я купил их в Сан-Антонио у одного своего друга, — проговорил он весело.
— Семнадцать минут первого, — сказала она, вскинув на него глаза с некоторым застенчивым и неуклюжим кокетством.
Какой-то пассажир, заметив эту игру, настроился весьма сардонически и подмигнул самому себе в одно из многочисленных зеркал.
Потом они пошли в вагон-ресторан. Два ряда негров-официантов в сверкающих белизной костюмах наблюдали за их появлением с интересом, а также равнодушием людей, заранее предупрежденных об их приходе. Обслуживать эту пару выпало на долю официанта, которому, по-видимому, доставляло удовольствие руководить ими в выборе блюд. Он оглядывал обоих с отеческой добротой кормчего, и лицо его излучало благосклонность. Покровительство это, соединенное с обычной почтительностью, было им непонятно, и когда они вернулись в свой вагон, на их лицах ясно читалось, что они рады были уйти оттуда.
Налево, вдоль длинного красного откоса, на много миль тянулась полоска тумана там, где катила свои воды Рио-Гранде. Поезд приближался к ней под углом, в вершине которого находился Йеллоу-скай. По мере того как сокращалось расстояние до Йеллоу-скай, беспокойство супруга все возрастало. Теперь это стало очевидным. Его кирпично-красные руки выделялись еще резче. По временам он даже проявлял некоторую рассеянность, и когда новобрачная, наклонясь вперед, обращалась к нему, он производил впечатление человека, вернувшегося откуда-то издалека.
По правде говоря, Джек Поттер начал чувствовать, что над ним нависла тень некоего поступка и давит его, как свинцовая плита. Он, начальник полиции, персона видная, известная, уважаемая и внушающая страх в своем городке, отправился в Сан-Антонио на свидание с девушкой, которую, как ему казалось, он любит, и, после обычных просьб, уговорил ее выйти за него замуж, ни о чем ни с кем не посоветовавшись в Йеллоу-скай. И теперь он привозил новобрачную к пребывающей в неведении и ничего не подозревающей общине.
Разумеется, люди в Йеллоу-скай женились по своему усмотрению, в соответствии с общепринятыми обычаями; но таково уж было представление Поттера об его ответственности перед друзьями или об их понятиях о его долге, не говоря уже о том, что существует неписаный закон, согласно которому люди теряют над собой контроль в подобных делах, что он чувствовал себя отвратительной личностью. Он совершил неслыханное преступление. В Сан-Антонио, лицом к лицу с этой девушкой, подстрекаемый сильным порывом, он опрометчиво преступил все социальные преграды. В Сан-Антонио, вдали от дома, он походил на человека, как бы скрытого во мраке. В этом чужом городе ему легко было взять в руки нож и вырвать из сердца любое чувство долга, любое чувство обязанности по отношению к друзьям, в какой бы форме оно ни выражалось. Но час прибытия в Йеллоу-скай — час наступления дневного света — приближался.
Джек Поттер отлично знал: его женитьба для города — важное событие. Превзойти его по значению мог бы только пожар, уничтоживший новую гостиницу. Его друзья ему не простят. Он не раз подумывал известить их по телеграфу. Это было бы разумно, но его всякий раз одолевала не свойственная ему трусость. Он побоялся это сделать. И теперь поезд мчал его туда, где его ожидали удивление, веселье и упреки. Он бросил из окна взгляд на зыбкую линию тумана, медленно надвигавшуюся на поезд.
В Йеллоу-скай имелся род духового оркестра, который, к всеобщему восторгу, старательно развлекал население своей музыкой. При мысли о нем Поттер безрадостно засмеялся. Если бы жителям городка пришла в голову мысль о возможности его прибытия с новобрачной, они устроили бы на станции парадную встречу с оркестром, а затем со смехом, веселыми возгласами, поздравлениями сопровождали бы до самого их глинобитного дома.
Он решил использовать все возможности, употребить всю ловкость, чтобы как можно быстрее проделать путь от станции к дому. А находясь уже в безопасности в этой крепости, он выпустит нечто вроде устного бюллетеня и не будет показываться среди горожан столько времени, сколько понадобится на то, чтобы их восторг малость поубавился.
Новобрачная с тревогой вглядывалась в его лицо.
— Что тебя беспокоит, Джек?
Он снова засмеялся:
— Я не беспокоюсь, деточка; я только думаю о Йеллоу-скай.
Она поняла и вспыхнула. Они преисполнились сознанием общей вины и почувствовали еще большую нежность. Они смотрели друг на друга глазами, горевшими мягким светом. Но Поттер часто нервно посмеивался; с лица новобрачной не сходил румянец.
Человек, изменивший чувствам жителей Йеллоу-скай, пристально наблюдал за быстро проносившимися пейзажами.
— Мы уже почти там, — произнес он.
Пришел проводник и объявил, что они приближаются к Йеллоу-скай. В руке он держал щетку: все его веселое превосходство улетучилось; он принялся чистить новый костюм Поттера, а тот медленно поворачивался то в одну, то в другую сторону. Поттер порылся в кармане, нашел монету и дал ее проводнику, как это делали другие пассажиры. Для него это было тяжелое дело, которое потребовало такого же усилия, какое необходимо человеку, подковывающему в первый раз лошадь.
Проводник взял их чемодан, и, так как поезд начал замедлять ход, они двинулись вперед, к крытой площадке вагона. И вот оба паровоза с длинной цепью вагонов стремглав влетели на станцию Йеллоу-скай.
— Им здесь нужно набрать воду, — проговорил Поттер сдавленным голосом и таким печальным тоном, каким обычно извещают о смерти. Перед тем как поезд остановился, он окинул взглядом весь перрон и с радостью и удивлением обнаружил, что на нем никого нет, кроме начальника станции, который с несколько тревожным видом торопливо шел по направлению к колонкам с водой. Когда поезд остановился, проводник сошел первым и подставил небольшую убиравшуюся подножку.
— Ну, пойдем, деточка, — хрипло сказал Поттер.
Он помог ей сойти; оба засмеялись, но их смех прозвучал фальшиво. Поттер забрал у негра чемодан и попросил жену взять его под руку. Стараясь побыстрее улизнуть со станции, он тем не менее бросил виноватый взгляд в сторону колонок и заметил: в обеих вода убывала, а начальник станции, стоявший далеко впереди, возле багажного вагона, повернулся и бежал к нему, размахивая руками. Поттер засмеялся и застонал одновременно, уловив первое впечатление, которое его супружеское счастье произвело на Йеллоу-скай. Он крепко прижал руку жены, и они пустились бегом. Позади стоял проводник и глупо посмеивался.
II
Калифорнийский экспресс должен был прибыть по южной железной дороге в Йеллоу-скай через двадцать одну минуту. В салуне «Утомленный джентльмен» у стойки сидело шесть человек. Один, коммивояжер, болтал без удержу, у трех техасцев в этот момент не было настроения для разговоров, а два мексиканских пастуха молчали, в соответствии с общепринятым в салуне «Утомленный джентльмен» обычаем. Собака хозяина лежала на дощатом настиле перед дверьми. Опустив голову на лапы, она бросала полусонные взгляды то туда, то сюда, все время начеку, словно привыкла получать пинки. На песчаной улице ярко зеленели островки травы; на фоне залитого пылающим солнцем песка они имели такой изумительный вид, что вызывали сомнение в своей подлинности. Они напоминали циновки из травы, которыми пользуются на сцене для изображения лужаек. На более прохладной стороне железнодорожной станции на складном стуле сидел человек без пиджака и курил трубку. Берег Рио-Гранде со свежескошенной травой опоясывал город, за ним тянулась большая равнина с мескитовыми деревьями цвета сливы.
За исключением оживленного коммивояжера и других посетителей салуна, Йеллоу-скай был погружен в полудремотное состояние. Коммивояжер, изящно наклонясь над стойкой, рассказывал всякие истории с уверенностью барда, неожиданно встретившего новую аудиторию.
— …И в тот момент, когда, старик упал с лестницы, охватив комод руками, старуха подошла с двумя ящиками угля и, конечно…
Рассказ коммивояжера прервал молодой человек, внезапно появившийся в открытых дверях. Он выкрикнул: «Скрэтчи Уилсон пьян и разошелся вовсю!» Оба мексиканца тотчас же поставили свои стаканы и скрылись через задний выход.
Коммивояжер, пребывая в неведении и в игривом настроении, ответил:
— Ладно, старина. Предположим, он выпил. Ну и что с того? Как бы там ни было, войди и пропусти стаканчик.
Но это известие словно обухом по голове ударило каждого из присутствовавших в комнате, и коммивояжеру пришлось оценить его значительность. Все сразу почувствовали серьезность положения.
— Послушайте, — сказал он, весьма заинтересованный, — что это значит?
Трое мужчин сделали жест, обычно предваряющий пышную речь, но молодой человек, стоявший у дверей, предупредил их.
— Это значит, мой друг, — ответил он, входя в салун, — что город этот в течение ближайших двух часов не будет походить на курорт.
Хозяин подошел к двери, запер ее на ключ и на засов. Высунувшись из окна, он втащил внутрь тяжелые деревянные ставни и закрыл их тоже на засов. В комнате сразу воцарился торжественный мрак, какой бывает в церкви. Коммивояжер переводил взгляд с одного на другого.
— Скажите, — воскликнул он, — что же это, в самом деле? Вы ведь не предполагаете, что здесь будет перестрелка!
— Не знаю, будет ли перестрелка или нет, — ответил один из присутствующих, — но стрельба будет, и здоровая.
Молодой человек, который их предостерег, помахал рукой: драка произойдет довольно скоро, пусть только найдется охотник. Всякий может ввязаться в драку, вот здесь на улице драка как раз и ждет желающих.
В коммивояжере, казалось, происходила борьба между любопытством постороннего и ощущением нависшей над ним опасности.
— Как, вы сказали, его имя? — спросил он.
— Скрэтчи Уилсон, — ответили они хором.
— И он может убить кого-нибудь? Что же вы собираетесь делать? Это часто случается? Он буйствует раз в неделю или чаще? Может он ворваться через эту дверь?
— Нет, он не может взломать эту дверь, — ответил хозяин. — Он уже трижды пытался. Но когда он придет, вам, человеку чужому, лучше лечь на пол. Он как пить дать будет стрелять в нее, пуля может пройти насквозь.
После этого коммивояжер не отводил взгляда от двери. Для него еще не настало время лечь плашмя на пол, но желая принять некоторые меры предосторожности, он придвинулся бочком поближе к стене.
— А он может убить кого-нибудь? — спросил он опять.
Четверо мужчин ответили на его вопрос тихим и презрительным смехом.
— Он вышел, чтобы стрелять. Он вышел, чтобы натворить бед. Лучше с ним и не связываться, ничего хорошего из этого не выйдет.
— Но что вы предпринимаете в подобных случаях? Что вы предпринимаете?
Один ответил:
— Как же, он и Джек Поттер…
— Но, — прервали остальные хором, — Джек Поттер в Сан-Антонио.
— А кто он такой? Какое он имеет отношение к этому?
— О, он начальник полиции в городе. Он выходит и сражается с Скрэтчи, когда на того находит приступ буйства.
— Уф! — сказал коммивояжер, утирая пот с лица. — Хорошенькое у него занятие!
Голоса затихли и перешли в шепот. Коммивояжеру хотелось задать еще вопросы, — они были порождены его растущей тревогой и замешательством, — но когда он попытался обратиться с ними к присутствующим, они только посмотрели на него с раздражением и предложили ему замолчать. Над ними нависла напряженная, полная ожидания тишина. В затемненной комнате глаза их блестели; они прислушивались, не донесутся ли с улицы какие-нибудь звуки. Один из мужчин трижды сделал знак хозяину, и тот, двигаясь как привидение, подал ему стакан и бутылку. Мужчина налил полный стакан виски и бесшумно поставил бутылку на место. Проглотив виски залпом, он вновь молча повернулся к двери и неподвижно застыл на месте. Коммивояжер увидел, как хозяин тихонько вынул из-под прилавка винчестер, а затем поманил его к себе. Тогда он на цыпочках пересек комнату.
— Лучше идите ко мне за стойку.
— Нет, благодарствуйте, — сказал коммивояжер, покрываясь испариной. — Я бы предпочел быть там, откуда можно удрать через заднюю дверь.
В ответ владелец бутылок сделал добродушный, но настойчивый жест. Коммивояжер повиновался; когда он очутился на ящике, где голова его оказалась ниже уровня стойки, и увидел различные цинковые и медные приспособления, имевшие сходство с броней, в душу его как бы пролился бальзам. Хозяин удобно уселся на соседний ящик.
— Понимаете, — прошептал он, — этот самый Скрэтчи Уилсон — чудо с револьвером, совершенное чудо! И когда он выходит с револьвером дулом вперед, мы, естественно, стремимся к своим берлогам. Он последний из старой шайки, она имела обыкновение слоняться здесь вдоль берега. Пьяный он наводит на всех ужас. Но трезвый он очень хороший человек — совсем простой и мухи не тронет, самый милый парень в городе. Но когда он пьян — у-ух!
Время от времени наступало молчание.
— Я бы хотел, чтобы Джек Поттер уже вернулся из Сан-Антонио, — сказал хозяин. — Он однажды попал в Уилсона — в ногу. Он энергично взялся бы за дело, и уж толк получился бы.
Вскоре они услышали в отдалении звук выстрела, за которым последовал троекратный дикий вой. Это сразу как бы сняло путы с людей в затемненной комнате. Послышалось шарканье ног. Они посмотрели друг на друга.
— Вот он идет, — сказали они.
III
Человек в фланелевой рубашке каштанового цвета с претензией на щегольство, сшитой какой-то еврейкой в восточной части Нью-Йорка, завернул за угол и вышел на середину главной улицы Йеллоу-скай. В каждой руке он держал по длинному, тяжелому иссиня-черному револьверу. Он то и дело пронзительно орал, и его крики резко звучали в казавшемся пустынном селении, разносясь над крышами с силой, которая не имела ничего общего с обычным звучанием человеческого голоса. Окружающая тишина как бы образовала над ним могильный свод. Его крики, вызывающие на лютый бой, разбивались о стены молчания. На ногах у него были сапоги с красными отворотами с золотым тиснением, какие любят носить мальчишки, катаясь зимой на санях по склонам холмов Новой Англии.
Лицо мужчины пылало от ярости, вызванной виски. Вращая белками глаз, достаточно проницательных, чтобы заметить засаду, он внимательно наблюдал за дверьми и окнами. Он шел легкой, крадущейся поступью кошки, совершающей полночную прогулку. Время от времени он, рыча, выкрикивал свои угрозы. В его руках длинные револьверы казались легкими соломинками, которые вертелись с поразительной быстротой, а мизинцы иногда играли, как у музыканта. Жилы на шее, выступавшей из низкого ворота рубашки, то вздувались, то опадали, то вздувались, то опадали, по мере того как им овладевали порывы гнева. Единственными звуками, нарушавшими тишину, были его страшные призывы. Глинобитные дома сохраняли свой спокойный вид, когда по середине улицы шествовало это ничтожество.
Драться никто не предлагал — никто. Человек взывал к небесам. Вокруг не замечалось ничего, что могло бы его привлечь. Он бушевал, и злился, и размахивал своими револьверами.
Собака хозяина салуна «Утомленный джентльмен» не почуяла приближения грозных событий. Она все еще лежала, полудремля, перед дверьми. При виде собаки человек остановился и шутливо поднял револьвер. При виде человека собака вскочила и побежала наискось, сердито рыча. Человек пронзительно заорал, и собака помчалась сломя голову. Когда она уже вбегала в переулочек, раздался громкий шум, свист, и что-то ударилось об землю прямо перед ней. Собака завыла, в ужасе завертелась и опрометью ринулась вперед по новому направлению. Снова раздался шум, свист, и перед ней словно вздыбился песок. Объятая страхом, собака заметалась, как животное в загоне. Человек стоял подбоченившись, с оружием в руках, и смеялся.
В конце концов его привлекла запертая дверь салуна «Утомленный джентльмен». Он подошел к ней и, барабаня револьвером, потребовал виски.
Дверь хранила тот же невозмутимый вид; подняв с тротуара клочок бумаги, он пригвоздил его ножом к дверной раме. Затем презрительно повернулся спиной к этому общедоступному месту отдыха и перешел на противоположную сторону улицы, где, быстро покрутившись на каблуках, выстрелил в клочок бумаги, но промахнулся на полдюйма. Тогда он выругался и пошел прочь. Потом он начал очень ловко стрелять в окна своего самого близкого друга. Человек играл с городом, который превратился для него в игрушку.
Но предложения начать борьбу все еще не последовало. Вдруг ему пришло в голову имя Джека Поттера, его старого противника, и он решил, что отколет веселую шутку — пойдет к дому Поттера и, барабаня в дверь, заставит его выйти и вступить с ним в бой. Человек в каштановой рубашке двинулся по направлению к желанной цели, распевая песню апачей о скальпах.
Дойдя до дома Поттера, он обнаружил, что фасад его имеет такой же спокойный вид, как и у остальных домов. Заняв стратегическую позицию, он бросил свой вызов, который прозвучал как рев. Но дом глядел на него словно большой каменный бог и не подавал никаких признаков жизни. Выждав немного, человек стал громко выкликать свои призывы, сдабривая их самыми удивительными эпитетами.
Вскоре он уже походил на человека, который довел себя до глубочайшей ярости потому, что дом словно застыл в оцепенении. Он рвал и метал, словно зимний ветер, налетающий на одинокую хижину в северной прерии. На расстоянии поднятый им шум можно было бы принять за схватку чуть ли не двухсот мексиканцев. По мере необходимости он останавливался, чтобы перевести дыхание или перезарядить револьвер.
IV
Поттер и его жена шли быстро; вид у них был застенчивый. Иногда они стыдливо и тихо смеялись.
— За следующим углом, дорогая, — сказал он наконец.
Они шли согнувшись, словно борясь против сильного ветра. Поттер собирался уже поднять руку и показать жене их новое жилище, как вдруг, повернув за угол, они лицом к лицу столкнулись с человеком в рубашке каштанового цвета, который лихорадочно вкладывал патроны в огромный револьвер. Человек сразу бросил револьвер наземь и молниеносно вытащил из кобуры другой. Вторым револьвером он прицелился в грудь новобрачного.
Они молчали. У Поттера язык словно прилип к нёбу. Инстинктивно он быстро высвободил руку из сжимавшей ее руки женщины и опустил чемодан на песок. А у новобрачной лицо пожелтело, как выцветшая ткань. Привыкнув рабски подчиняться отвратительным обычаям, она пристально глядела на появившееся перед ней видение, точно это была змея.
Двое мужчин стояли лицом друг к другу на расстоянии трех шагов. Человек с револьвером улыбнулся как-то по-новому, спокойно и жестоко.
— Пытался подкрасться ко мне, — сказал он. — Пытался подкрасться ко мне!
Глаза его стали еще злее. Поттер сделал легкое движение, и тот яростно выкинул вперед револьвер.
— Нет, не делай этого, Джек Поттер! И пальца пока еще не смей протянуть к оружию. И глазом не моргни. Настала пора мне рассчитаться с тобой, и я собираюсь сделать это на свой лад и обойдусь без постороннего вмешательства. Так что, если не хочешь стоять под направленным на тебя револьвером, послушай, что я тебе скажу.
Поттер посмотрел на своего врага.
— У меня нет при себе оружия, Скрэтчи, — сказал он. — Честное слово, нет.
Он становился более жестким и спокойным, но где-то в глубине сознания пронеслось видение пульмановского вагона: узорчатый бархат цвета морской воды, сверкающая латунь, серебро и стекло, дерево, отливающее темным блеском, как поверхность нефтяной лужи, — все великолепие свадьбы, обстановка, олицетворяющая новое положение.
— Ты знаешь, Скрэтчи Уилсон, я дерусь, когда дело доходит до драки, но у меня с собой нет оружия. Тебе придется стрелять одному.
Лицо его врага стало синевато-багровым. Он шагнул вперед и начал размахивать своим оружием перед грудью Поттера.
— Не говори мне, что у тебя нет при себе оружия, щенок ты этакий. Нечего говорить мне такую ложь. Нет человека в Техасе, который видел бы тебя без оружия. Не думай, что я ребенок.
Глаза его пылали огнем, а в горле что-то клокотало.
— Я не думаю, что ты ребенок, — ответил Поттер. Он не отступил назад ни на дюйм. — Я думаю, что ты паршивый идиот. Говорю тебе — у меня нет оружия, значит у меня его нет. Если ты собираешься меня застрелить, лучше начинай сейчас. Тебе больше никогда не представится такого удобного случая.
Столь настоятельное увещевание подействовало на гнев Уилсона — он сделался спокойнее.
— Если у тебя нет с собой оружия, то почему у тебя нет ружья? — произнес он с издевкой. — Был в воскресной школе?
— У меня нет оружия, потому что я как раз возвращаюсь из Сан-Антонио с моей женой. Я женат, — сказал Поттер. — И если бы я предполагал, что натолкнусь здесь на такого рыскающего в поисках добычи зверя, как ты, когда я везу домой свою жену, у меня, уж будь уверен, было бы оружие.
— Женат, — выговорил Скрэтчи, не совсем понимая.
— Да, женат. Я женат, — произнес Поттер отчетливо.
— Женат? — переспросил Скрэтчи. По-видимому, он впервые увидел поникшую, словно в воду опущенную женщину рядом со своим противником.
— Нет, — промолвил Скрэтчи. Он походил на существо, которому позволили бросить взгляд в другой мир. Он сделал шаг назад, и рука его с револьвером опустилась.
— А это и есть эта дама? — спросил он.
— Да, это и есть эта дама, — ответил Поттер.
Опять последовало молчание.
— Ну так, — промолвил наконец Уилсон, — я полагаю, теперь все кончено.
— Если ты так говоришь, Скрэтчи, значит все кончено. Ты знаешь, не я заварил кашу.
Поттер поднял свой чемодан.
— Ладно, согласен, пусть с этим покончено, Джек, — сказал Уилсон. Глаза его были устремлены вниз. — Женат!
Он не брал уроков рыцарства, но, когда он столкнулся с чуждой ему ситуацией, оказалось, что он простое дитя прерий и принадлежит более отдаленным временам. Он поднял свой револьвер и, сунув оба револьвера в кобуры, пошел прочь. В рыхлом песке ею ноги оставляли воронкообразный след.
Перевод Ю. ГальпернГолубой отель
I
Отель «Палас» в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась. В силу этого отель «Палас» так громогласно заявлял о себе, что его кричащая голубизна превращала ослепительный зимний пейзаж Небраски в серую болотистую немоту. Он торчал на равнине одиночкой, но в метель города из «Паласа» совсем не было видно, хотя их отделяло друг от друга каких-нибудь двести ярдов. По дороге со станции приезжие должны были проходить мимо этого отеля, прежде чем ступить за черту низких деревянных домишек, из которых состоял форт Ромпер, и, разумеется, никто из них не мог миновать «Палас», не взглянув на него. Хозяин голубого отеля Пат Скалли проявил талант истинного стратега в выборе окраски для своего заведения. Правда, когда длинный трансконтинентальный экспресс, покачивая на ходу пульмановскими вагонами, пролетал в ясные дни мимо форта Ромпер, его пассажиров ошарашивало это зрелище, и строгий вкус восточных штатов, признающий лишь красновато-коричневые тона да различные оттенки темно-зеленого, выражал при виде него ужас, чувство жалости и негодования — всё в одном коротком смешке. Но жителям этого затерянного среди равнин городка и людям, приезжающим сюда из подобных же мест, Пат Скалли угодил как нельзя более. У форта Ромпер и у тех пристрастий, у той самовлюбленности, роскоши и богатства, что ежедневно проносились мимо него по рельсам, палитры были разные.
Но — как будто броская прелесть голубого отеля была недостаточно притягательна — Скалли взял себе за правило выходить на станцию и утром и вечером, к приходу почтовых поездов, останавливающихся в форте Ромпер, и обольщать тех приезжих, которые, случалось, в нерешительности стояли на платформе с саквояжами в руках.
Однажды утром, когда обледенелый паровоз подтащил к станции длинный товарный состав с единственным пассажирским вагоном, Скалли превзошел самого себя, уловив в свои сети троих пассажиров. Один из них был быстроглазый и все почему-то поеживающийся швед с большим глянцевитым дешевым чемоданом; второй — загорелый рослый ковбой, который добирался на ферму где-то у границы с Дакотой; третий — маленький молчаливый человек откуда-то с востока, непохожий на жителя восточных штатов и не считавший нужным вдаваться в подробности о себе. Скалли буквально взял их в полон. Он был такой расторопный, веселый, ласковый, и приезжие, видимо, решили, каждый сам по себе, что отделываться от него будет верхом жестокости. Они шли по скрипучим деревянным мосткам следом за шустрым маленьким ирландцем. На голове у него сидела плотно надвинутая мохнатая меховая шапка. Два красных уха топырились из-под нее, точно вырезанные из жести.
Но вот Скалли, весьма замысловато и шумно выражая свое гостеприимство, поднялся вместе с постояльцами на крыльцо голубого отеля. Комната, в которую они вошли, была совсем маленькая. Она представляла собой как бы капище огромной железной печки, стоявшей посредине и гудевшей грозно, словно разгневанное божество. Бока ее светились в нескольких местах, раскаленные до желтизны. Возле печки сын Пата Джонни играл в педро с седовато-рыжим стариком фермером. Они ссорились. Фермер то и дело поворачивался к стоявшему за печкой ящику, полному бурых от табачной жижи опилок, и, кипя от раздражения, посылал туда плевок за плевком.
Скалли сбросил карты с доски, громко покрикивая на сына, и погнал его наверх отнести часть багажа новых постояльцев. Сам же повел их к трем умывальным тазам с самой холодной водой, какая только мыслима на белом свете. Ковбой и приезжий с востока наумывались до того, что лица и руки у них стали медно-красного цвета, точно от полуды. А швед лишь осторожно, боязливо опустил в ледяную воду кончики пальцев. Нехитрая церемония с умыванием была явно рассчитана на то, чтобы трое путешественников оценили предупредительность Скалли. Он оказывал, им любезность за любезностью. В том, как он передавал полотенце от одного к другому, чувствовались порывы щедрой на благодеяния души.
Потом постояльцы вернулись в первую комнату и, сидя у печки, молча слушали, как Скалли по-хозяйски поторапливает дочерей, готовивших обед. Так обычно молчат в чужой компании люди, много повидавшие на своем веку. Только старый фермер, который храбро остался сидеть у самого теплого бока печки, нет-нет да и отворачивался от ящика с опилками и задавал чужакам вопросы, один другого глупее. Отвечали ему большей частью ковбой и приезжий с востока, отвечали коротко без обиняков. Швед молчал. Он был поглощен тем, что исподтишка разглядывал своих соседей. Казалось, ему не дают покоя какие-то нелепые подозрения. Вид у него был перепуганный насмерть.
Позднее, за обедом, швед стал немного словоохотливее, но все же ни к кому, кроме Скалли, не обращался. Он сам сказал, что приехал из Нью-Йорка, где портняжил ни много ни мало десять лет. Скалли воспринял это сообщение как нечто потрясающее и потом тоже поведал, что живет в форте Ромпер четырнадцатый год. Швед поинтересовался, хороши ли в здешних местах урожаи и ценятся ли рабочие руки. Пространные ответы хозяина он еле слушал. Его глаза по-прежнему перебегали с одного лица на другое.
Под конец он отрывисто хмыкнул и сказал с многозначительным подмигиванием, что в некоторых западных городках надо держать ухо востро, так как народ тут бесшабашный, и после такого заявления вытянул ноги под столом, запрокинул назад голову и громко расхохотался. Другие явно не поняли, что все это означает. Они недоуменно взглянули на него и промолчали.
II
Когда четверо мужчин тяжелыми, медленными шагами вернулись после обеда в первую комнату, за двумя ее маленькими оконцами разбушевалось кипящее море метели. Огромные руки ветра сильными круговыми взмахами тщетно пытались уловить мелькающие в воздухе снежинки. Столб у ворот, похожий на человека с мертвенно-бледным лицом, стоял, застигнутый врасплох этим разгулом. Скалли бодрым голосом сообщил присутствующим, что на дворе метет. Гости голубого отеля, раскурившие трубки, встретили эту новость по-мужски невозмутимым, ленивым ворчанием. Своей отрешенностью от всего мира комнатушка отеля «Палас» с гудевшей в ней печкой могла поспорить с островком, затерянным в океанских просторах. Сын Скалли Джонни вызвал фермера с седовато-рыжей бородой еще раз сразиться в педро, причем интонации его не оставляли сомнений в том, что он высоко оценивает свое искусство игрока. Фермер принял вызов с презрительной и злобной миной. Они подсели ближе к печке и, раздвинув колени, положили на них широкую доску. Ковбой и приезжий с востока заинтересовались игрой. Швед держался в стороне, как бы не замечая их, но странное, ничем не объяснимое волнение не покидало его.
Новая ссора, вспыхнувшая между седобородым и Джонни, положила конец игре. Фермер встал, смерив своего противника ненавидящим взглядом. Он медленно застегнулся на все пуговицы и с чудовищно напыщенным видом вышел из комнаты. Деликатное молчание у печки нарушил громкий смех шведа. В его смехе было что-то ребячливое. К этому времени остальные уже начали настороженно приглядываться к нему, словно собираясь спросить, что с ним такое происходит.
Обмениваясь шутками, трое у печки составили новую партию. Ковбой вызвался сесть с Джонни, после чего все они посмотрели на шведа и пригласили его в партнеры к приезжему с востока. Швед спросил, какая это игра, и, узнав, что она называется по-разному и что ему приходилось когда-то играть в нее, только под другим названием, согласился сесть четвертым. Он подошел к игрокам с опаской, точно боясь, как бы они не набросились на него. Опустился на стул, оглядел всех по очереди и визгливо рассмеялся. Смех этот был настолько неуместен, что приезжий с востока быстро взглянул на шведа, ковбой так и замер с открытым ртом, а Джонни придержал колоду неподвижными пальцами.
Наступило короткое молчание. Потом Джонни сказал:
— Ну, давайте! Подсаживайтесь.
Сдвинув стулья, они подставили колени под доску. Игра началась, и трое игроков так увлеклись ею, что забыли думать о странном поведении четвертого.
Ковбой оказался партнером шумным. Когда к нему приходили хорошие карты, он с размаху шлепал их одну за другой на импровизированный стол, а забирая взятки, так сиял и гордился своим умением играть, что его противники кипели от негодования. Если в игре участвует такой «шлепун», она неминуемо становится напряженной. Физиономии у шведа и у приезжего с востока горестно вытягивались всякий раз, как ковбой со стуком выбрасывал на доску своих тузов и королей, а Джонни только похохатывал, радостно сверкая глазами.
Сосредоточенность мешала им замечать странности шведа. Все их внимание было устремлено на карты. Но вот во время очередной сдачи швед вдруг спросил Джонни:
— А немало, наверно, поубивали людей в этой комнате?
Игроки разинули рты и недоуменно уставились на него.
— Что это вы какую чепуху несете! — сказал Джонни.
Швед снова залился дребезжащим смехом, в котором звучала показная отвага и дерзость вызова.
— Не прикидывайся, прекрасно ты все понимаешь, — ответил он.
— Клянусь богом, нет! — негодующе крикнул Джонни.
Сдачу приостановили, и они все трое в упор посмотрели на шведа. Джонни, видимо, решил, что ему, хозяйскому сыну, следует поставить вопрос ребром.
— На что вы, собственно, намекаете, мистер? — спросил он.
Швед подмигнул ему — подмигнул многозначительно, с хитрецой. Его пальцы, державшиеся за край доски, дрожали.
— Ты, может, меня за деревенщину принимаешь? Может, думаешь, я здесь новичок, ни в чем не разбираюсь?
— Я вас совсем не знаю, — ответил Джонни. — И наплевать мне, деревенщина вы или нет. Я вас спрашиваю: на что вы намекаете? В этой комнате еще никого не убивали.
Заговорил ковбой, внимательно смотревший на шведа все это время:
— Мистер! Да какая вас муха укусила?
Швед, видимо, решил, что ему угрожают. Он задрожал, уголки губ у него побелели. Он бросил умоляющий взгляд на приезжего с востока. Но и в эту минуту напускной задор не оставил его.
— Прикидываются, будто им невдомек, о чем я спрашиваю, — с издевкой проговорил он.
Приезжий с востока промолчал, осторожно раздумывая.
— Я тоже вас не понимаю, — последовал бесстрастный ответ.
По тому, как передернуло шведа, было ясно, что он усмотрел предательство в словах единственного человека, от которого ждал если не поддержки, то хотя бы сочувствия.
— А! Я вижу, вы все против меня! Я вижу, вы…
Ковбой, услышав это, совершенно остолбенел.
— Слушайте! — крикнул он и что есть силы швырнул колоду на доску. — Слушайте! Да вы куда гнете, а?
Швед так стремительно рванулся с места, точно увидел змею у себя под ногами.
— Я драться не намерен! — крикнул он. — Не намерен я драться!
Ковбой лениво, не спеша вытянул свои длинные ноги. Кулаки у него были засунуты в карманы. Он сплюнул в ящик с опилками.
— А кто говорит, что вы лезете в драку? — осведомился он.
Швед быстро попятился в угол комнаты. Руки у него из предосторожности были подняты на уровень груди, и все же он изо всех сил старался побороть страх.
— Джентльмены! — послышался его срывающийся голос. — Я знаю, меня отсюда живым не выпустят! Я знаю, меня отсюда живым не выпустят!
Он смотрел на них глазами умирающего лебедя. Снег за окнами мало-помалу голубел в сгущающихся сумерках. Ветер накидывался на дом, и что-то равномерно билось о дощатые стены, точно это постукивал какой-то невидимка.
Дверь в комнату отворилась, вошел Скалли. При виде трагической позы шведа он в недоумении остановился на пороге. Потом спросил:
— Что такое? Что случилось?
Швед не задержался с ответом.
— Они хотят убить меня, — быстро проговорил он.
— Убить? — воскликнул Скалли. — Вас? Да что это вы?
Швед раскинул руки жестом мученика.
Скалли резко повернулся к сыну:
— Что случилось, Джонни?
Джонни сидел насупившись.
— А я почем знаю? — буркнул он. — Сам ничего понять не могу. — И он стал тасовать колоду, с остервенением щелкая картами. — Говорит, будто в этой комнате много кого поубивали. И будто его тоже убьют. Я не знаю, что ему вдруг померещилось. Сумасшедший, наверно.
Скалли перевел вопросительный взгляд на ковбоя, но тот только пожал плечами.
— Вы говорите, вас убьют? — снова спросил Скалли, обращаясь к шведу. — Да вы совсем спятили!
— Нет, я знаю! — закричал швед. — Я знаю, как все будет! Я сумасшедший, ну и пусть! Пусть сумасшедший! Но что я знаю, то знаю… — Лицо у него взмокло от пота. — Живым мне отсюда не выбраться, вот что я знаю!
Ковбой тяжело перевел дух, точно прощаясь с остатками разума.
— О господи! — чуть слышно пробормотал он.
Скалли круто повернулся к сыну:
— Это ты его довел?
Джонни взорвался, не стерпев обиды:
— Господи боже, да я ему ничего не сделал!
Швед перебил его:
— Успокойтесь, джентльмены. Я сейчас уйду. Я уйду из этого дома, потому что… — Сколько драматизма было в его обвиняющем взгляде! — …потому что я не хочу, чтобы меня здесь убили!
Скалли яростно накинулся на сына:
— Ты скажешь, чертенок, что здесь случилось? Ну что? Признавайся!
— Да отвяжись ты! — в отчаянии крикнул Джонни. — Говорю, не знаю! Он… он сказал, что мы хотим его убить, вот и все. А что с ним такое, я знать не знаю.
Швед твердил свое:
— Успокойтесь, мистер Скалли, успокойтесь. Я уйду. Я уйду из вашего дома, потому что я не хочу, чтобы меня здесь убили. Сумасшедший? И пусть сумасшедший! Но что я знаю, то знаю. Я уйду. Я уйду из вашего дома. Успокойтесь, мистер Скалли, успокойтесь. Я сейчас уйду.
— Нет, вы не уйдете! — крикнул Скалли. — Вы не уйдете до тех пор, пока я не разберусь, в чем тут дело. Если вас кто обидел, я с этим человеком сам расправлюсь. Это мой дом. Вы нашли приют под моей кровлей, и я не позволю, чтобы в моем доме людей обижали ни за что ни про что. — Он бросил свирепый взгляд на Джонни, на ковбоя и приезжего в востока.
— Успокойтесь, мистер Скалли, успокойтесь. Я сейчас уйду. Я не хочу, чтобы меня здесь убили.
Швед шагнул к двери, выходившей на внутреннюю лестницу. Он, видимо, решил, ни минуты не медля, взять свой багаж.
— Нет, нет! — крикнул Скалли тоном, не допускающим возражений, но швед, белый как полотно, шмыгнул мимо него и исчез за дверью.
— Ну, — сурово проговорил Скалли. — Как прикажете это понимать?
Джонни и ковбой крикнули в один голос:
— Мы его не трогали!
Взгляд у Скалли был холодный.
— Значит, не трогали? — повторил он.
Джонни крепко выругался.
— Да я таких полоумных в жизни не видал. Мы ничего ему не сделали. Сидели играли в карты, а он…
Не дав сыну докончить, отец повернулся к приезжему с востока.
— Мистер Блэнк, — спросил он, — что они с ним сотворили?
Приезжий с востока подумал, прежде чем ответить.
— Я ничего плохого не заметил, — медленно проговорил он наконец.
Скалли прямо-таки взвыл:
— Так как же прикажете это понимать? — Он свирепо уставился на сына. — Ты у меня получишь, голубчик!
Джонни вскипел.
— Да что я такое сделал? — заорал он на отца.
III
— Языки проглотили? — сказал под конец старик Скалли, обращаясь ко всем троим — к сыну, ковбою и к приезжему с востока, и с этим язвительным замечанием вышел из комнаты.
Наверху швед второпях затягивал ремни на своем большом чемодане. Очутившись ненароком вполоборота к двери, он вдруг услышал за ней какой-то шорох и, громко вскрикнув, вскочил с пола.
Скалли вошел в комнату с маленькой лампой, и в ее свете его морщинистое лицо имело вид довольно страшный. Желтый огонек, тянувшийся вверх, освещал его скулы, и нос, а глаза прятались в таинственной тени. Убийца! Как есть убийца!
— Мил человек! — воскликнул Скалли. — Что вы, совсем рехнулись?
— Э-э, нет! Э-э, нет! Не вы одни тут умные, другие тоже кое-что смыслят, понятно? — ответил швед.
Минуту они молча смотрели друг на друга. На мертвенно-бледных щеках шведа горели, как нарисованные, два четких ярко-красных пятна. Скалли поставил лампу на стол и опустился на край кровати. Он заговорил медленно, будто думая вслух:
— Вот честное слово, первый раз в жизни этакое вижу. Чепуха какая-то! Разрази меня господь, не понимаю, откуда вам это в голову пришло. — Потом он поднял глаза на шведа и спросил: — Вы и вправду подумали, что они хотели убить вас?
Швед пристально вглядывался в лицо старика, пытаясь прочесть его мысли.
— И вправду подумал, — сказал он наконец.
Он, видимо, решил, что после такого ответа ему несдобровать. Рука его, затягивающая ремень на чемодане, задрожала, локоть затрепыхался, точно это был лист бумаги.
Скалли ударил кулаком по спинке кровати, чтобы придать больше веса своим словам:
— Слушайте, мил человек! К весне у нас в городе будут ходить электрические трамваи.
— Электрические трамваи… — оторопело повторил швед.
— А из Брокен-Арм сюда проведут железнодорожную ветку. Я уж не говорю о четырех церквах и о большой школе — не какой-нибудь там, а кирпичной. И фабрика у нас тоже не маленькая. Да, года через два наш Ромпер будет столицей штата.
Справившись со своим багажом, швед выпрямился.
— Мистер Скалли, — спросил он, вдруг осмелев, — сколько я вам должен?
— Ничего вы мне не должны, — сердито ответил старик.
— Нет, должен, — отрезал швед. Он вынул из кармана семьдесят пять центов и протянул их Скалли, но тот лишь презрительно щелкнул пальцами в знак отказа. Три серебряные монеты остались лежать на ладони у шведа, и они оба почему-то не сводили с них глаз.
— Не надо мне ваших денег, — буркнул наконец Скалли. — Особенно после того, что случилось. — И вдруг его осенила какая-то новая мысль. — Стойте! — крикнул он и, взяв лампу со стола, шагнул с ней к дверям. — Стойте! Пойдемте-ка со мной.
— Не пойду, — испуганно сказал швед.
— Нет, пойдем! — не отступал старик. — Ну, пошли, пошли! Я хочу показать вам одну картину… через коридор… у меня в комнате.
Швед, видно, решил, что жить ему осталось считаные минуты. Челюсть у него отвисла, оскал зубов стал как у мертвеца. И все же он вышел в коридор следом за Скалли, но такой походкой, будто на ногах у него были кандалы.
Высоко подняв лампу, Скалли осветил ею правую стену комнаты. Из темноты выступила нелепая фотография девочки. Она стояла, облокотившись о балюстраду, на фоне пышных декораций; в глаза прежде всего бросалась ее низко подстриженная челка. Эта фигура могла поспорить грациозностью с поставленным стоймя санным полозом, к тому же и цвет у фотографии был какой-то свинцовый.
— Вот, — с нежностью проговорил Скалли. — Это портрет моей покойной дочки. Ее звали Керри. А какие у нее были волосы! Я души в ней не чаял, она у меня…
Оглянувшись, он увидел, что швед и не смотрит на фотографию, а пристально вглядывается в темные углы комнаты.
— Мил человек! — вырвалось у Скалли. — Это портрет моей покойной дочки. Ее звали Керри. А вот мой старший сын, Майкл. Он у меня видный адвокат, живет в Линкольне. Я дал ему самое лучшее образование и не жалею об этом. Полюбуйтесь на него! Вон какой молодец! Живет в Линкольне — настоящий джентльмен, всеми уважаемый и почитаемый. Всеми уважаемый и почитаемый джентльмен! — повторил Скалли для большего форсу. И с этими словами весело хлопнул шведа по спине.
Швед вяло улыбнулся.
— А теперь, — сказал старик, — мы еще вот что сделаем.
Он вдруг опустился на четвереньки и сунул голову под кровать. Швед услышал его приглушенный голос:
— Если б не этот щенок Джонни, я бы ее под подушкой держал. Да и от старухи моей… Где же она? Каждый раз приходится перепрятывать в новое место. Ну, куда ж ты запропастилась?
Через минуту-другую Скалли неуклюже выбрался из-под кровати, волоча по полу свернутую узлом старую куртку.
— Нашел все-таки, — пробормотал он. Потом стал на колени, раскутал сверток и извлек из его сердцевины большую, желтоватого стекла, бутылку виски.
Прежде всего он посмотрел бутылку на свет. Убедившись, что виски в ней не уменьшилось, он широким жестом протянул ее шведу.
Трусливый швед так и потянулся к этому источнику мужества и, вдруг отдернув руку, с ужасом уставился на Скалли.
— Пейте, — ласково сказал старик. Он поднялся с колен и теперь стоял лицом к лицу со шведом.
Наступило молчание. Потом Скалли повторил:
— Пейте.
Швед дико захохотал, Он схватил бутылку, поднес ее ко рту; когда же губы его безобразно присосались к горлышку и кадык заходил вверх и — вниз с первыми глотками, он горящим ненавистью взглядом так и впился в лицо старику.
IV
После ухода Скалли трое мужчин долго не могли прийти в себя от изумления и, по-прежнему держа игральную доску на коленях, молчали. Потом Джонни сказал:
— Ну и швед! Я такого паршивца в жизни своей не видел.
— Какой он швед! — презрительно бросил ковбой.
— А кто же? — удивился Джонни. — Кто же он тогда?
— Надо полагать, — не спеша ответил ковбой, — что он из немцев. — По давней почтенной традиции в этих местах считали шведами всех блондинов, говоривших так, будто у них каша во рту. Следовательно, суждению ковбоя нельзя было отказать в смелости. — Да, сэр, — повторил он. — Надо полагать, что это какой-нибудь немец.
— Он называет себя шведом, — проворчал Джонни. — А вы как считаете, мистер Блэнк?
— Право, не знаю, — ответил тот.
— А с чего это он так чудит? — спросил ковбой.
— Со страху. — Приезжий с востока выбил трубку о выступ печки. — Он боится, так боится, что света божьего не видит.
— Чего боится? — в один голос вскрикнули ковбой и Джонни.
Приезжий с востока подумал, прежде чем ответить.
— Чего ему бояться? — снова воскликнули те двое.
— Да кто его знает. По-моему, он наглотался всякого чтива и вообразил, будто здесь самое пекло… Пальба, резня и все такое прочее.
— Позвольте! — сказал ковбой, возмущенный до глубины души. — Это же не какой-нибудь там Уайоминг. Это Небраска!
— И правда, — подхватил Джонни. — Махнул бы куда-нибудь подальше на запад. А тут-то что?
Мистер Блэнк, человек бывалый, рассмеялся.
— И даже там ничего такого нет — во всяком случае, за последнее время. А ему кажется, что он попал здесь в самое пекло.
Джонни и ковбой задумались.
— Комедия! — сказал наконец Джонни.
— Да, — согласился ковбой. — Чудное дело! Не застрять бы нам тут из-за метели, ведь тогда от этого немца никуда не денешься. Избави бог от такой компании.
— Выставил бы его отец за дверь, и дело с концом, — сказал Джонни.
Вскоре на лестнице послышались громкие шаги, сопровождаемые веселым голосом Скалли и хохотом. Хохотал не кто иной, как швед. Мужчины у печки невидящими глазами посмотрели друг на друга.
— Вот тебе и на! — сказал ковбой.
Дверь распахнулась, и в комнату ввалился весь красный, весело балагурящий старик Скалли. Он без умолку толковал что-то шведу, который, задорно похохатывая, появился следом за ним. Они были как двое забулдыг, только что вставших из-за пиршественного стола.
— Ну-ка, подвиньтесь, — бесцеремонно скомандовал Скалли, обращаясь к троим мужчинам. — Дайте нам погреться.
Ковбой и приезжий с востока беспрекословно потеснились. Но Джонни развалился на стуле поудобнее и не пожелал трогаться с места.
— Ну, ты! Убирайся отсюда! — крикнул Скалли.
— С той стороны тоже можно сесть, — сказал Джонни.
— Что же нам, на сквозняке торчать? — рявкнул его отец.
Но швед, вдруг изволивший сменить гнев на милость, вмешался в их перепалку.
— Не надо! Пусть сидит, где сидит, — прикрикнул он на Скалли.
— Хорошо, хорошо! — почтительно проговорил старик. Ковбой и приезжий с востока обменялись недоуменным взглядом.
Пять стульев образовали полукруг около печки. Швед говорил не умолкая; тон у него был заносчивый, наглый, он сквернословил. Джонни, ковбой и приезжий с востока хранили угрюмое молчание, зато старик Скалли откликался на каждое слово шведа и сочувственно поддакивал ему.
Но вот шведу захотелось пить. Он приподнялся со стула и сказал, что пойдет за водой.
— Я принесу, — встрепенулся Скалли.
— Не надо, — надменно сказал швед. — Я сам схожу. — Он встал и с таким видом, будто этот отель принадлежит ему, удалился в его хозяйственные недра.
Дав шведу выйти, Скалли вскочил со стула и проговорил свистящим шепотом:
— Когда мы были наверху, он думал, что я хочу его отравить.
— Слушай, — сказал Джонни. — Сил моих больше нет. Чего ты с ним нянчишься? Выставь его за дверь.
— Теперь все обошлось, — ответил Скалли. — Ведь в чем было дело? Он из Нью-Йорка, и ему казалось, тут у нас одни головорезы. А теперь обошлось, успокоился.
Ковбой восхищенно посмотрел на приезжего с востока.
— Ты будто в воду глядел, — сказал он. — Этот немец перед тобой как облупленный.
— Ты говоришь, все обошлось, — сказал Джонни отцу, — а я что-то этого не замечаю. Раньше он трусил, а теперь слишком уж задается.
В речи Скалли ирландский темперамент и ирландская напевность уживались со всеми теми затасканными словосочетаниями, которые он черпал из книжек и газет. И вот сейчас на голову его сына обрушилась весьма любопытная смесь всего этого.
— Кто я такой? Кто я такой? Кто я такой? — загремел он и ударил себя по колену в знак того, что сам ответит на свой вопрос, а те, у кого есть уши, пусть слушают. — Я хозяин отеля! Хозяин отеля, понятно? Тот, кто находит приют под этой кровлей, пользуется священными правами моего гостя. Я никому не позволю запугивать моих гостей. Мой гость не услышит ни единого слова, которое могло бы склонить его в пользу какого-нибудь другого заведения. Я этого не потерплю! Нет такого отеля в нашем городе, где могли бы похвастаться, что они приютили человека, побоявшегося остаться у меня. — Он повернулся всем телом к ковбою и приезжему с востока. — Прав я? Да или нет?
— Да, мистер Скалли, — ответил ковбой. — Вы совершенно правы.
— Да, мистер Скалли, — ответил приезжий с востока. — Вы совершенно правы.
V
За ужином, в шесть часов, швед воспламенился, заискрился, как огненное колесо. Временами казалось, что он вот-вот грянет какую-нибудь разудалую песню, и во всех его бесчинствах ему потакал старик Скалли. Приезжий с востока держался замкнуто; ковбой сидел, раскрыв рот от удивления, и забывал о еде, а Джонни яростно уничтожал порцию за порцией. Когда надо было подложить оладий на блюдо, хозяйские дочери, крадучись, как индейцы, входили в комнату и тут же убегали, не в силах даже скрыть свой страх. Швед главенствовал за столом, и по его милости эта трапеза превратилась в какую-то варварскую вакханалию. Он будто стал выше ростом; он с наглым пренебрежением посматривал на своих соседей. В комнате только и слышался его голос. Вот ему понадобилась оладья, он ткнул в нее вилкой, точно гарпуном, и чуть не поранил этим оружием руку мистера Блэнка, спокойно протянувшуюся к той же самой оладье.
После ужина, когда мужчины один за другим потянулись в соседнюю комнату, швед со всего размаха ударил Скалли по плечу.
— Ну, старина, накормил ты нас на славу!
Джонни с надеждой посмотрел на отца: он знал, что плечо у него еще побаливает после давнего ушиба. И действительно, Скалли чуть было не вспылил, но через секунду улыбнулся кривой улыбкой и смолчал. Остальные поняли, что он принимает на себя всю ответственность за изменившееся поведение шведа.
Но Джонни все-таки успел шепнуть своему родителю:
— Заодно дай спустить себя о лестницы — ничего другого тебе не остается.
Вместо ответа Скалли только бешено сверкнул на него глазами.
Когда они снова собрались у печки, швед потребовал, чтобы составили еще одну партию в педро. Скалли стал было отговаривать его от этого, но он ответил ему волчьим взглядом. Старик сдался, и тогда швед насел на остальных.
Тон у него был угрожающий. Ковбой и приезжий с востока равнодушно ответили, что они будут играть. Старик сослался на то, что ему надо встретить поезд 6.58, и тогда швед с грозным видом посмотрел на Джонни. На секунду взгляды их скрестились, точно клинки, потом Джонни улыбнулся и сказал:
— Что ж, сыграем.
Они сели друг против друга, игральную доску положили на колени. Приезжий с востока и швед снова оказались партнерами. Ковбой — этого нельзя было не заметить с самого начала игры — больше не шлепал картами о доску. Скалли тем временем подсел к лампе, вздел очки на нос, что сразу придало ему сходство с престарелым священником, и углубился в чтение газеты. Когда время подошло, он собрался встречать поезд 6.58 и, выходя, несмотря на все свои предосторожности, напустил в комнату мороза. Ледяной ветер, ворвавшийся в дверь, не только раскидал карты, но и пронизал холодом игроков. Швед скверно выругался. Вернувшись, Скалли снова нарушил мирную, дружескую игру. Швед снова выругался. Но через минуту картина была прежняя: сосредоточенное внимание, склоненные над доской головы, быстро мелькающие руки. Шлепаньем по доске теперь щеголял швед.
Скалли снова развернул газету и надолго погрузился в изучение вопросов, не имеющих к нему решительно никакого касательства. Лампа начала подмигивать, и он на секунду оторвался от чтения, чтобы приспустить фитиль. Газетные листы уютно, мирно шуршали у него в руках. И вдруг он услышал два страшных слова:
— Ты передернул!
Такие эпизоды сплошь и рядом доказывают, что сценической обстановки для них вовсе не требуется. В любой комнате может разыграться трагедия, любая комната может стать подмостком для комедийного действа. Этот маленький закуток в отеле стал в мгновение ока страшнее камеры пыток. Его изменил новый облик тех, кто здесь был. Швед держал свой огромный кулак у самого лица Джонни, а Джонни, не мигая, смотрел поверх кулака в горящие глаза своего обвинителя. Приезжий с востока побелел как полотно, ковбой выразил свое удивление обычным способом, то есть остолбенел и разинул рот. После того как были произнесены те два слова, первым, что нарушило тишину, было шуршанье газеты, когда она, позабытая, скользнула к ногам Скалли. Очки у Скалли тоже упали с носа, но он поймал их на лету. Неловко задранная рука с очками так и застыла у него на уровне плеча. Он не спускал глаз с игроков.
Тишина длилась, может быть, не больше секунды. А потом все с такой стремительностью сорвались каждый со своего места, точно из-под ног у них выдернули половицы. Пятеро мужчин бросились в одну точку на середину комнаты. Но Джонни в своем броске к шведу запнулся на какую-то долю секунды, вдруг вспомнив, как это ни странно, про доску с картами и придержав ее. Момент был упущен, Скалли подоспел вовремя, а ковбой оттолкнул шведа так, что тот отлетел в сторону. Дар речи вернулся ко всем пятерым одновременно; хриплые, яростные вопли, окрики, возгласы ужаса вырвались у них из глоток. Ковбой толкал, теснил шведа назад, а Скалли и приезжий с востока изо всех сил цеплялись за Джонни. Но сквозь клубы табачного дыма над мечущимися из стороны в сторону миротворцами две пары глаз не отрывались одна от другой, и своими взглядами, холодными и в то же время горячими, как огонь, воители слали друг другу вызов.
Игральную доску, разумеется, перевернули, карты разлетелись по полу, и сапоги топтали дородных размалеванных королей и дам, а они бессмысленно взирали на войну, бушующую над ними.
Скалли кричал громче всех;
— Стой! Стой! Тебе говорят, стой!
Джонни, силившийся вырваться из рук отца и мистера Блэнка, вопил истошным голосом:
— Он говорит, я передергиваю! Он говорит, я передергиваю! Я такого ни от кого не потерплю! Раз он сказал, что я передернул, значит…
Ковбой твердил шведу:
— Брось! Брось! Слышишь?
Швед не умолкал:
— Он передергивал! Я видел! Видел!
Приезжий с востока повторял одно и то же, хотя его никто не слушал:
— Минутку! Подождите минутку! Стоит ли затевать драку из-за карт? Подождите минутку!
В этом содоме никого нельзя было расслышать толком. «Передернул!», «Брось!», «Он говорит…» — только эти отдельные слова и прорывались сквозь возню и топот. И любопытно, что на Скалли, надрывавшегося больше всех этих бесноватых, и вовсе никто не обращал внимания.
Затишье наступило сразу, как будто всем им одновременно понадобилось перевести дух. Ярость их все еще накаляла комнату, но опасность столкновения на время миновала, и тогда Джонни, оттолкнув отца плечом, стал почти вровень со шведом.
— Ты зачем сказал, что я передергиваю? Ты зачем сказал, что я передергиваю? Я не передергивал и никому не позволю так говорить!
Швед крикнул:
— Я видел! Я все видел!
— Хорошо! — ответил ему Джонни. — Я такого никому не спущу. Будем драться.
— Нет, не будете! — сказал ковбой.
— Перестань! Тебе говорят, перестань! — сказал старик, становясь между противниками.
В относительной тишине, наступившей в комнате, стал слышен и голос приезжего с востока. Он твердил одно и то же:
— Подождите минутку! Стоит ли затевать драку из-за карт? Подождите минутку!
Багровая физиономия Джонни снова показалась над отцовским плечом, и он крикнул шведу:
— Значит, я передернул?
Швед ощерился:
— Да.
— Ладно, — сказал Джонни. — Будем драться.
— Ну и будем! — взревел швед. Он бесновался. — И будем драться! Я тебе покажу, с кем ты имеешь дело. Я тебе покажу, на кого ты замахиваешься! Ты, может, думаешь, я с тобой не слажу? Не слажу, думаешь? Ты у меня посмотришь, мерзавец, шулер! Да, ты передернул! Передернул! Передернул!
— Хорошо, мистер, откладывать не будем, — холодно сказал Джонни.
Ковбой так усердствовал, разнимая их, что лоб у него взмок от пота. Он в отчаянии повернулся к Скалли.
— Ну, что теперь делать?
Кельтский лик старика изменился до неузнаваемости. Теперь он еле сдерживал себя; глаза у него сверкали.
— Пусть дерутся, — ответил он решительно. — Лопнуло мое терпение. Хватит нянчиться с этим проклятым шведом. Пусть дерутся.
VI
Надо было выходить во двор. Приезжего с востока так трясло, что он никак не мог попасть в рукава своей новой кожаной куртки. Ковбой дрожащими руками надвинул меховую шапку на уши. Только Джонни и старик Скалли ничем не выдавали своего волнения. Все пятеро одевались молча.
Скалли распахнул дверь.
— Пошли! — сказал он.
Под свирепым порывом ветра огонек лампы сейчас же замигал у самого фитиля, из стекла черным облачком вымахнула копоть. Печка, стоявшая на самом сквозняке, загудела, равняясь силой своего голоса с ревом бури. Затоптанные, порванные карты подхватило с полу и отнесло к дальней стене. Мужчины наклонили головы и нырнули в буран, как в морскую пучину.
Снегопад кончился, но вихрь взметал тучи снежинок с земли, завивал их космами, и они с быстротой пуль неслись к югу. Белая равнина шелковисто отсвечивала призрачной голубизной; никаких других красок на ней не было, только у приземистой темной станции, казавшейся такой далекой отсюда, крошечным драгоценным камешком мерцал одинокий фонарь. С трудом шагая по глубоким, по колено, сугробам, мужчины услышали голос шведа. Скалли подошел к нему, тронул его за плечо и подставил ухо.
— Вы что? — крикнул он.
— Я говорю, что мне не сладить с вами! — заорал швед. — Я знаю, вы все на меня наброситесь.
Скалли негодующе дернул его за руку.
— Да что вы, в самом деле! — крикнул он. Ветер сорвал слова с его губ и разметал их по равнине.
— Вы все заодно. Вы все… — надсаживался швед, но конец этой фразы тоже унесло вдаль.
Повернувшись спиной к ветру, мужчины обогнули угол отеля и стали там под защитой его стены. Этот жалкий домишко охранял здесь от буйства метели небольшой треугольный участок мерзлой травы, захрустевшей у них под ногами. Какие же сугробы должно было намести у отеля с подветренной стороны! Когда они добрались до этого относительно тихого места, голос шведа послышался снова:
— Я знаю, что вы задумали! Вы все на меня насядете! А мне одному вас не одолеть!
Скалли набросился на него как тигр.
— Всех вам не придется одолевать. Вы хоть одного Джонни одолейте — моего сына. А тот, кто вмешается в вашу драку, будет иметь дело со мной.
Приготовления не затянулись. Швед и Джонни стали друг против друга, повинуясь отрывистой команде старика, на лице которого в чуть подсвеченном снегом сумраке бесстрастно залегли суровые морщины, как на медалях с изображением римских полководцев. Приезжий с востока лязгал зубами и подпрыгивал на месте, точно заводная игрушка. Ковбой врос в землю, как скала.
Противники не захотели освобождаться от лишней одежды. В чем вышли, в том и остались. Они подняли кулаки на уровень груди и смотрели друг на друга спокойно, но в их спокойствии таилась львиная ярость.
Короткой паузы было достаточно, чтобы мозг мистера Блэнка, точно негатив, надолго запечатлел этих троих: распорядителя с его железной выдержкой; шведа — бледного, неподвижного, страшного; и Джонни, олицетворявшего собой спокойствие и свирепость, зверство и героизм. Приступ к трагедии был трагичнее ее самой, и это ощущение усугублял протяжный, гулкий голос метели, гнавшей вихри жалобно плачущих снежинок в черную бездну юга.
— Ну! — сказал старик.
Противники рванулись с места и сшиблись, как быки. Послышались глухие звуки ударов и брань, вырвавшаяся сквозь сжатые зубы у одного из них.
Что касается зрителей, то мистер Блэнк с таким безмерным облегчением выдохнул воздух, задержанный в груди, будто пробка выскочила из бутылки. Ковбой с диким воплем подскочил на месте. Скалли окаменел от изумления, от страха перед яростью этой схватки, которую сам он разрешил и наладил.
Первые несколько минут драка в темноте представляла собой такую неразбериху мелькающих в воздухе рук, что понять ее ход было так же трудно, как уловить мелькание спиц в быстро вращающемся колесе. Вот, словно в мгновенной вспышке света, обозначится лицо — страшное, все в красных пятнах. Секундой позже покажется, что это мечутся тени, и только по сдавленным выкрикам можно признать в них живых людей.
Всесокрушающая кровожадность вдруг обуяла ковбоя, и он сорвался с места, точно дикий мустанг.
— Так его, Джонни! Так его! Бей! Бей на смерть!
Скалли стал перед ним.
— Назад! — сказал он, и по его взгляду ковбой уразумел, что имеет дело с родным отцом Джонни.
Приезжему с востока виделось во всем этом одно лишь побоище, омерзительное в своем однообразии. Беспорядочная потасовка длилась вечность, а он всем своим существом жаждал конца, благословенного конца. Была минута, когда противники чуть не сшибли его с ног, и, отскочив назад, он услышал, как они дышат, — точно на дыбе.
— Бей его, Джонни! Бей! Бей насмерть! — Искаженное судорогой лицо ковбоя было похоже на страшную маску из музея, запечатлевшую предсмертную агонию.
— Молчать! — ледяным тоном проговорил Скалли.
И вдруг надсадный стон — короткий, сразу оборвавшийся, и, отвалившись от шведа, тело Джонни с хватающим за сердце глухим стуком тяжело рухнуло на землю. Ковбой едва успел помешать озверевшему шведу броситься на поверженного противника.
— Не сметь! — крикнул он, преградив ему путь рукой. — Стой! Подожди!
Скалли мгновенно очутился около сына.
— Джонни! Джонни, сынок мой! — Голос у Скалли был грустный и нежный. — Джонни! Ты сможешь дальше? — Он испуганно вглядывался в его окровавленное, опухшее лицо.
Минута молчания, а потом Джонни ответил своим обычным голосом:
— Да… смогу… дальше.
С помощью отца он кое-как поднялся с земли.
— Постой, отдышись сначала, — сказал старик.
В двух шагах от них ковбой поучал шведа:
— Сейчас не смей! Подождешь минутку.
Приезжий с востока дергал Скалли за рукав.
— Довольно, — умоляюще говорил он. — Хватит. Покончим на этом. Хватит.
— Билл, — сказал старик. — Отойди. — Ковбой отступил. — Ну! — Теперь противники действовали с большей осторожностью. Сближаясь, они примеривались друг к другу взглядами, и вдруг швед с молниеносной быстротой нанес удар Джонни, вложив в него вес всего тела. Джонни, хоть и не оправившийся от дурноты, каким-то чудом ухитрился вильнуть в сторону, и его кулак свалил потерявшего равновесие шведа.
Ковбой, Скалли и приезжий с востока разразились торжествующими криками, точно солдаты на поле боя, но не успели их голоса смолкнуть, как швед вскочил и неистово кинулся на своего врага. В воздухе снова замелькали кулаки, и Джонни во второй раз отвалился от шведа и рухнул на траву, точно тяжелый куль, сброшенный с крыши. Швед нетвердыми шагами отошел к тонкому деревцу, раскачивающемуся на ветру, и прислонился к нему спиной, дыша, как паровик, не сводя дико горящих глаз с мужчин, которые нагнулись над Джонни. Вот оно, блистательное одиночество, подумал приезжий с востока, переведя взгляд с Джонни на того, кто один как перст стоял у деревца и ждал, что будет дальше.
— Джонни, силы у тебя еще есть? — дрогнувшим голосом спросил Скалли.
Его сын охнул и в истоме чуть приподнял веки. После короткой паузы он ответил:
— Нет… больше… сил… не могу. — И заплакал от стыда и боли так горько, что слезы ручьем потекли у него по лицу, бороздя кровавые пятна. — Вес… у нас… разный.
Скалли встал с колен и обратился к молча выжидавшему шведу.
— Незнакомец, — сдержанно проговорил он. — Мы кончаем. — Потом в голосе у него прозвучали хриплые, вибрирующие нотки, появляющиеся при самых простых и самых беспощадных заявлениях. — Джонни сдается.
Ничего не ответив на это, победитель пошел к дверям отеля.
Ковбой изрыгал неслыханные дотоле, несусветные ругательства. Приезжий с востока обнаружил неожиданно для себя, что они стоят на ветру, который дует, видимо, прямо с погруженных во мрак ледяных полей Арктики. Он снова услышал жалобные вопли снежинок, гонимых на юг, в ожидающую их там могилу, и, почувствовав, что все это время холод глубже и глубже проникал в его тело, удивился, почему он еще не замерз. К тому, как чувствует себя побежденный, он был равнодушен.
— Джонни, ты дойдешь сам? — спросил отец.
— А ему… ему досталось? — спросил сын.
— Дойдешь, сынок? Сам дойдешь?
Голос Джонни сразу окреп. Он заговорил грубо, нетерпеливо.
— Я спрашиваю: ему досталось?
— Да, да, Джонни, — поспешил успокоить его ковбой. — Еще как досталось!
Они помогли ему встать, и он побрел к крыльцу, отказавшись наотрез от чьей-либо поддержки. За углом дома буран почти ослепил их. Лица им обожгло, точно огнем. Ковбой перетащил Джонни через сугроб. Лишь только дверь в комнату отворили, несколько карт снова взметнулось с пола и порхнуло к дальней стене.
Приезжий с востока кинулся к печке. Он так прозяб, что готов был обнять ее раскаленные бока. Шведа в комнате не было. Джонни упал на стул и, положив руки на колени, уткнулся в них лицом. Скалли грел то одну, то другую ногу о выступ печки, с кельтской угрюмостью бормоча что-то нараспев. Ковбой стащил с головы меховую шапку и, ошеломленный, разочарованный, ерошил всей пятерней свои кудлатые волосы. Наверху слышалось поскрипыванье половиц — это швед шагал там из угла в угол.
Гнетущую тишину нарушило хлопанье кухонной двери. В комнату одна за другой вбежали женщины. Они с горестными воплями кинулись к Джонни. Но, прежде чем увести свою добычу на кухню, обмыть ей там раны и обрушить на нее жалостливые причитания вперемежку с попреками, как и полагается женскому полу, одна из них, мать, выпрямилась и устремила на старого Скалли негодующий взгляд.
— Стыд и срам, Патрик Скалли! — крикнула она. — Что сделал с родным сыном! Стыд и срам!
— Ладно, ладно… Молчать, — вяло проговорил старик.
— Стыд и срам, Патрик Скалли! — Дочери подхватили материнский клич и презрительно фыркнули в сторону затрепетавших соучастников злодеяния — ковбоя и приезжего с востока. Потом они увели Джонни, предоставив троим мужчинам думать их горестные думы.
VII
— Я бы сам схватился с этим немцем, — сказал ковбой, первым нарушив затянувшееся молчание.
Скалли с грустью покачал головой.
— Нет, нельзя. Это будет нечестно. Это будет нечестно.
— Почему? — не сдавался ковбой. — Не вижу тут ничего дурного.
— Нет, — героически, но скорбно ответил Скалли. — Это будет нечестно. С ним дрался Джонни, и мы не можем навязывать ему другого противника только потому, что Джонни сдался.
— Что верно, то верно, — сказал ковбой. — Но… пусть он меня не задирает, я этого не потерплю.
— Ты его пальцем не тронешь, — отрезал Скалли, и тут они услышали шаги шведа на лестнице. Его появление было по-театральному эффектно. Он со стуком распахнул дверь и горделиво вышел на середину комнаты. Трое мужчин будто и не заметили этого.
— Ну! — нагло крикнул он хозяину. — Теперь, надеюсь, вы скажете, сколько я вам должен?
Старик остался непреклонным:
— Ничего вы мне не должны.
— Гм! — хмыкнул швед. — Гм! Не должен я ему!
Заговорил ковбой:
— Слушайте, любезнейший, с чего это вы так развеселились?
Старик Скалли сразу насторожился.
— Хватит! — крикнул он, взмахнув рукой. — Замолчи, Билл!
Ковбой небрежно сплюнул в ящик с опилками.
— А что я такое сказал? — спросил он.
— Мистер Скалли, — снова начал швед, — сколько я вам должен? — Он, видимо, собирался уходить, так как был в шапке и держал чемодан в руке.
— Вы мне ничего не должны, — все так же невозмутимо повторил Скалли.
— Гм! — хмыкнул швед. — Пожалуй, вы правы. Если уж на то пошло, так, может, мне с вас причитается. Вот так-то! — Он повернулся к ковбою, крикнул, передразнивая его: — Бей, Джонни! Бей! Бей насмерть! — и торжествующе захохотал. — Бей, Джонни! — Его прямо-таки корчило от хохота.
Но с равным успехом он мог бы дразнить мертвецов. Трое мужчин не шелохнулись и остекленевшими глазами молча смотрели прямо перед собой.
Швед распахнул дверь и вышел, успев бросить с порога презрительный взгляд на неподвижную группу у печки.
Как только дверь за ним затворилась, Скалли и ковбой вскочили с мест и начали сыпать бранью. Они метались из угла в угол, размахивая руками, сжимая кулаки.
— Ох! Нелегко было стерпеть! — причитал Скалли. — Ох, нелегко! Ведь он, мерзавец, глумился, измывался над нами! Разок, один только разок съездить бы его по носу! Я бы за это сорока долларов не пожалел! Билл! А ты-то как вытерпел?
— Как я вытерпел? — срывающимся голосом крикнул ковбой. — Как я это вытерпел? А-а!
Старик затянул нараспев:
— Насесть бы на этого шведа, да повалить бы его на каменный пол, да палкой, палкой, так, чтобы живого места на нем не осталось!
Ковбой подхватил со стоном:
— А-а! За шиворот сгрести бы этого немца и лупить, лупить, — он с такой силой хлопнул по столу, будто выстрелил, — до тех пор лупить, пока он себя от падали не отличит!
— Я бы ему всыпал!..
— Я бы ему показал!..
И они взвыли, как одержимые, с мукой в голосе:
— А-а! Попадись он нам!
— Да!
— Да!
— Я бы ему!..
— А-а-а, а-а!..
VIII
Крепко держа в правой руке чемодан, швед, точно корабль на всех парусах, лавировал в пучине бурана. Он старался не терять из виду голые, задыхающиеся на ветру деревца, которые указывали дорогу к городу. Ему было не только не больно, но даже приятно подставлять снежному вихрю свое лицо, носившее следы кулаков Джонни. Вскоре впереди что-то замаячило. Он узнал в этих темных квадратах городские строения, отыскал среди них улицу и пошел по ней, всем туловищем налегая на ветер, свирепо набрасывающийся на него из-за каждого угла.
Городок словно вымер. Нам мнится, будто планету нашу из края в край заполняет победоносное, гордое человечество, но здесь, среди трубных гласов метели, трудно было представить себе, что в мире есть что-то живое. Существование на земле человека казалось немыслимым, и ореол чуда окружал ничтожных букашек, которые всеми силами старались удержаться на этой кружащейся, как волчок, опаляемой огнем, скованной льдами, пораженной всеми болезнями луковице, затерянной в пространстве. Разбушевавшаяся метель свидетельствовала, что заносчивость человека — основной двигатель жизни. И надо было обладать поистине чудовищной самонадеянностью, чтобы не погибнуть в этой метели. Так или иначе швед добрался до салуна.
У крыльца неустрашимо горел красный фонарь, и, пролетая сквозь четко очерченный круг его света, снежинки словно наливались кровью. Швед толкнул дверь и шагнул за порог. Перед ним протянулось усыпанное песком пространство, в дальнем конце которого за столиком сидели и пили четверо мужчин. Вдоль правой стены шла ярко освещенная стойка, и хранитель ее, опершись на локти, прислушивался к разговору мужчин, сидевших за столом. Швед поставил чемодан на пол и, по-братски улыбнувшись бармену, сказал:
— А ну-ка, дайте мне бутылочку.
Бармен поставил перед ним бутылку, стакан для виски и стакан с водой, в которой плавали льдинки. Швед налил себе огромную порцию и выпил ее в три глотка.
— И погодка же разыгралась! — равнодушно проговорил бармен. Он прикидывался слепым, как это водится у людей его профессии, а сам украдкой разглядывал кровяные пятна, оставшиеся кое-где на лице шведа. — Да, погодка, — снова сказал он.
— А я не жалуюсь, — запальчиво ответил швед, наливая себе второй стакан. Бармен взял со стойки монету — плату за виски — и опустил ее в поблескивающий никелем кассовый аппарат. Звякнул звоночек; из верхнего отверстия выскочила карточка; на ней стояло: «20 центов».
— Погода как погода, — продолжал швед. — Я не жалуюсь.
— Да? — лениво протянул бармен.
После второго стакана шведа прошибло слезой, дыхание у него участилось.
— Да, мне такая погода нравится. Очень нравится. Подходящая погода. — Он явно вкладывал какой-то особый смысл в свои слова.
— Да? — снова протянул бармен. И, повернувшись к нему боком, невидящими глазами уставился в зеркало за стойкой, по которому были выведены мылом завитушки, похожие на птиц, и птицы, похожие на завитушки.
— Ну что ж, еще, что ли, выпить? — сказал швед. — А вы не хотите?
— Нет, спасибо. Я не пью, — ответил бармен. Потом вдруг спросил: — Что это у вас с лицом? Разбились?
Швед тут же расхвастался:
— Нет, в драке. Я в этом «Паласе», у Скалли, одного молодчика чуть на тот свет не отправил.
Четверо за столом наконец-то проявили интерес к их разговору.
— Кого это? — спросил один из них.
— Джонни Скалли, — выпалил швед. — Хозяйского сынка. Он теперь недели две не очухается. Здорово я его отделал. Он подняться не мог. На руках в дом внесли. Выпьем?
Словно невидимая стена мгновенно выросла между ним и теми четырьмя.
— Нет, спасибо, — сказал один из них.
Компания была весьма любопытная по своему составу. Двое крупных местных торговцев, окружной прокурор и профессиональный шулер из тех, что именуются «честными». Впрочем, наблюдая за ними со стороны, никто не мог бы отличить тут шулера от людей более почтенных профессий. В хорошем обществе он держался так деликатно, при выборе жертв проявлял такое здравомыслие, что мужская часть населения Ромпера восхищалась им и оказывала ему всяческое доверие. Его называли джентльменом. Чувство страха и презрения, которое обычно питают к этого рода деятельности, несомненно служило причиной того, что он считал нужным выделяться своим спокойным достоинством на фоне спокойного достоинства разных шапочников, маркеров и приказчиков. Если не считать какого-нибудь случайно подвернувшегося простофили из приезжих, этот шулер охотился только на бесшабашных пожилых фермеров, когда они, собрав хороший урожай, появлялись в городе с горделивым и самонадеянным видом, который свойствен непроходимым глупцам. До именитых граждан Ромпера время от времени доходили слухи о том, что одного-другого фермера обчистили до нитки, но они лишь презрительно посмеивались над очередной овечкой и если вспоминали о волке, то с чувством гордости, так как им было известно, что он не посмеет посягнуть на их мудрость и отвагу. Кроме того, у шулера была законная жена и двое законных детей, которые жили со своим примерным супругом и отцом в хорошеньком загородном коттедже. Это обстоятельство пользовалось широкой известностью, и стоило кому-нибудь хотя бы вскользь, намеком коснуться некоторых несообразностей в моральном облике этого человека, как остальные дружным хором начинали восхвалять его семейный очаг. И тогда те, кто сами были примерными отцами семейств, и те, кто не отличался такой добродетелью, шли на попятный и соглашались, что толковать тут больше не о чем.
Когда же общество подвергало шулера каким-нибудь ограничениям, — как, например, в новом клубе «Головастик», заправилы которого не только отвергли его кандидатуру, но запретили ему даже показываться в стенах этого учреждения, — безропотность и скромность, проявляемые им в таких случаях, разоружали многих из числа его врагов, а в сторонниках распаляли совершенно фанатическую преданность. Шулер проводил строгое различие между собой и любым почтенным гражданином Ромпера, и это делалось столь неукоснительно и с такой откровенностью, что по сути дела его отношение к ним было не чем иным, как непрерывным широковещательным комплиментом.
Важно также отметить самое существенное в том положении, какое он занимал в Ромпере. Факты с неопровержимостью доказывали, что в делах, выходящих за пределы его ремесла, в отношениях, неизменно складывающихся между людьми, этот прожженный шулер проявлял величайшее благородство, величайшую справедливость и нравственность, и, случись ему тягаться со своими согражданами в вопросах морали, он посрамил бы девять десятых из них.
И вот сейчас он сидел в салуне за одним столиком с двумя крупными местными торговцами и окружным прокурором.
Швед стакан за стаканом пил неразбавленное виски и все приставал к бармену, чтобы тот принял участие в его возлияниях.
— Ну, выпьем! Что же вы? Ну, хоть рюмочку! Надо же мне отпраздновать свою победу, черт возьми! Как я его отлупил! Джентльмены! — крикнул он, обращаясь к сидящим за столиком. — Выпьем, джентльмены?
— Ш-ш! — сказал бармен.
Четверо мужчин хоть и прислушивались к тому, чти происходило у стойки, но делали вид, будто заняты разговором. Теперь один из них поднял глаза на шведа и коротко сказал:
— Спасибо. Не хотим.
Услышав это, швед по-петушиному выпятил грудь.
— Ах, вот как! — взорвался он. — Не желают составить мне компанию в этом городе? Вот как? Ну, ладно!
— Ш-ш! — сказал бармен.
— Вы мне рта не затыкайте! — огрызнулся швед. — Не на таковского напали. Я джентльмен и хочу, чтобы со мной выпили. Хочу, чтобы вот они со мной выпили. Сейчас, сию минуту. Понятно? — Он постучал по стойке костяшками пальцев.
За долгие годы, проведенные у стойки, бармен привык ко всему. Он только нахмурился.
— Я не глухой.
— Ах, не глухой? — не унимался швед. — Ну, тем лучше. Видите этих людей? Они со мной выпьют. Запомните мои слова. А теперь глядите, что будет.
— Эй! — крикнул бармен. — Стойте! Нельзя так!
— Почему нельзя? — спросил швед. Гордым шагом он подошел к столику и, протянув руку, положил ее на плечо шулеру — первому, кто подвернулся. — Ну, что же вы? — кипя от ярости, проговорил он. — Ведь я приглашал вас выпить.
Не меняя позы, шулер повернул к нему голову и бросил через плечо:
— Слушайте, любезнейший, я вас не знаю.
— Подумаешь, важность! — ответил швед. — Пошли выпьем.
— Друг мой, — кротко проговорил шулер, — уберите руку и уходите и занимайтесь своими делами.
Шулер был маленький, щуплый, и странно было слышать, как он покровительственным тоном обращается к рослому шведу. Остальные трое молчали.
— Что? Не хочешь со мной выпить? Так я тебя заставлю, шут гороховый, заставлю!
Не помня себя, швед схватил шулера за горло и рванул его со стула. Остальные трое вскочили на ноги. Бармен выбежал из-за стойки. Началась свалка, и вдруг в руке шулера блеснуло длинное лезвие. Оно скользнуло вперед и с такой легкостью вошло в человеческое тело — в сосуд добродетели, мудрости, силы, — будто это была дыня. Швед рухнул, успев только дико, изумленно вскрикнуть.
Почтенные торговцы и окружной прокурор, пятясь задом, в один миг выскочили из салуна. Бармен заметил это, когда пришел в себя и увидел, что стоит, цепляясь за спинку стула, и смотрит в глаза убийце.
— Генри, — сказал шулер, вытирая нож о полотенце, висевшее на поручне стойки, — объясни им, где меня найти. Я буду ждать их дома.
И он тоже исчез. Минутой позже бармен бежал по улице, взывая сквозь метель о помощи и, главное, о том, чтобы хоть кто-нибудь был рядом с ним.
Мертвый швед лежал в салуне один, уставившись в жуткую надпись поверх кассы: «Проверьте сумму ваших затрат».
IX
Несколько месяцев спустя ковбой стоял возле плиты на маленькой ферме у границы Дакоты и жарил свинину, как вдруг невдалеке послышалось быстрое цоканье подков, и через две-три минуты на пороге его домика с газетами и письмами в руках появился Блэнк.
— Знаешь? — сразу начал он. — Тому, кто убил шведа, дали три года тюрьмы. Немного, правда?
— Три года? Тюрьмы? — Ковбой поднял сковородку с огня и задумался. — Три года. Это немного.
— Да. Приговор легкий, — сказал Блэнк, отстегивая шпоры. — Говорят, в Ромпере все были на его стороне.
— Дурак бармен, — все так же задумчиво продолжал ковбой. — Если бы он вмешался с самого начала и огрел бы этого немца бутылкой по голове, ничего бы такого не случилось.
— Если бы да кабы, — сердито сказал Блэнк.
Ковбой снова поставил сковородку на плиту, но рассуждений своих не прекратил.
— Чудно, правда? Если б этот немец не сказал, что Джонни передернул, остался бы он жив и здоров. Болван он был. Ведь игра шла не на интерес, а просто так. У него, наверно, мозги набекрень были.
— А мне жалко этого шулера, — сказал Блэнк.
— Конечно, жалко, — сказал ковбой. — Неправильно его осудили. Ведь смотря кого убьешь.
— Если бы все было по-честному, шведа не убили бы.
— Не убили? — воскликнул ковбой. — Если бы все было по-честному? Да ведь он сказал, что Джонни передергивает, и уперся на этом, как осел. А в салуне? И в салуне полез на рожон. — Столь вескими доводами ковбой рассчитывал сразить Блэнка, но вместо этого привел его в бешенство.
— Дурак ты! — злобно крикнул Блэнк. — Ослиного упрямства в тебе в тысячу раз больше, чем в том шведе. Послушай, что я скажу. Нет, ты послушай! Джонни на самом деле передергивал!
— Джонни, — растерянно проговорил ковбой. Последовала пауза. Потом он отрезал: — Нет! Игра шла просто так, не на интерес!
— На интерес или просто так, это не важно, — ответил Блэнк. — Джонни передергивал. Я видел. Я знаю. Я все видел. И у меня не хватило духу сказать это. Я не заступился за шведа, и ему пришлось драться. А ты… ты распетушился и сам лез в драку. Старик Скалли тоже хорош! Мы все в этом виноваты! Несчастный шулер! Он тут не существительное, а что-то вроде прилагательного. Каждый содеянный грех — это грех совместный. Мы пятеро совместными усилиями убили этого шведа. Обычно в убийстве бывает замешано от десяти до сорока женщин, а тут во всем виноваты пятеро мужчин — ты, я, Джонни, старик Скалли и этот болван, этот несчастный шулер. Но он только завершил, только довел до высшей точки то, что подготовлялось раньше, а расплачиваться пришлось ему одному.
Ковбой, возмущенный, обиженный, крикнул во весь голос, стараясь разогнать криком туман этой странной теории:
— Да я-то тут при чем? Что я такого сделал?
Перевод Н. ВолжинойЕго новые варежки
I
Маленький Гораций возвращался из школы домой, щеголяя ослепительно новыми красными варежками. Проходя мимо поля, он увидел мальчиков, весело игравших в снежки. Они окликнули его:
— Иди к нам, Гораций! У нас сражение.
Опечаленный, Гораций ответил:
— Нет, не могу, мне надо домой.
В полдень мать наставляла его:
— Как только кончатся уроки, ты прямо иди домой, Гораций. Слышишь? И смотри не промочи свои прекрасные новые варежки. Слышишь?
И тетя его сказала:
— Ну, скажу я тебе, Эмили, просто позор, как ты позволяешь этому ребенку портить вещи. — Она имела в виду варежки.
Матери Гораций послушно ответил:
— Да, мама.
Но сейчас он стоял в нерешительности невдалеке от группы орущих мальчишек, которые кричали, как вспугнутые птицы, когда снежки взлетали в воздух.
Некоторые из них немедленно подвергли анализу эту необычайную нерешительность:
— Ха-ха! — Желая поиздеваться, они прервали игру. — Боишься за свои новые варежки, да?
Несколько мальчиков поменьше, не столь умудренных опытом в распознавании человеческих побуждений, приветствовали это нападение неразумными и неистовыми аплодисментами.
— Боит-ся за свои ва-реж-ки! Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки! — Они пели эти строчки на жестокий и монотонный мотив, такой же, быть может, старый, как детство Америки, и совершенно забытый свободными от школьных традиций взрослыми. — Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки!
Гораций бросил взгляд мученика в сторону своих товарищей и, опустив глаза, уставился на снег под ногами. Затем он повернулся к стволу одного из больших кленов, росших у края тротуара, и сделал вид, что пристально рассматривает шершавую, крепкую кору. В его представлении столь знакомая ему улица Уиломвил, казалось, потемнела от нависшего над ним плотной тенью позора. Деревья и дома уже оделись в пурпур.
— Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки! — Этот ужасный мотив по смыслу напоминал песни каннибалов, распеваемые под воинственные звуки барабана при лунном свете.
Наконец Гораций с величайшим усилием поднял голову.
— Не в них дело, — сказал он сердито. — Мне надо идти домой, вот и все.
После этого все мальчики вытянули указательные пальцы левой руки, словно карандаши, и начали насмешливо их точить указательным пальцем правой. Они подступили к нему и запели, как настоящий хор:
— Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки!
Когда Гораций, опровергая обвинение, повысил голос, его заглушили крики ребят. В полном одиночестве противостоял он всем традициям мальчишества, выдвинутым перед ним неумолимыми его представителями. Он пал так низко, что один мальчик, совсем малыш, обошел его с фланга и влепил ему в щеку здоровенный снежок. Поступок этот был встречен шумным одобрением и глумлением над Горацием. Он обернулся, чтобы броситься на своего противника, но тут на противоположном фланге незамедлительно последовал новый выпад, и ему пришлось повернуться лицом к ватаге веселых мучителей. Малыш в полной безопасности отошел в тыл, где за смелость его встретили взрывом одобрительных восклицаний. Гораций медленно отступал по тропе. Он все время пытался заставить мальчиков выслушать его, но в ответ лишь звучала песня: «Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки!» Отступая в отчаянии, окруженный врагами и измученный, мальчик испытывал больше страданий, чем выпадает обычно на долю даже взрослого человека.
Хотя сам Гораций был мальчишкой, он совсем не понимал своих сверстников. Его, конечно, не покидала гнетущая уверенность, что они будут преследовать его до самой могилы. Но у самого края поля дети вдруг как будто обо всем забыли. Они обладали лишь злорадством, свойственным легкомысленным воробышкам. Их интерес легко перенесся на что-то другое. В одно мгновение они уже снова оказались в поле и радостно возились в снегу. Какой-нибудь мальчишка, пользующийся авторитетом, возможно сказал им: «Эй, пошли!»
Когда преследование прекратилось, Гораций тоже прекратил свое отступление. Некоторое время он потратил на то, что, видимо, явилось попыткой вновь обрести чувство собственного достоинства, а затем начал украдкой двигаться к группе ребят. В нем также произошла важная перемена. Быть может, его мучительные душевные страдания были так же непродолжительны, как и злорадство остальных мальчиков. В этой мальчишеской жизни подчинение какому-то неписаному символу веры, касающемуся вопросов поведения, внедрялось причудливым образом, но с беспощадной суровостью. В конце концов они все же его товарищи, его друзья.
Занятые пререканиями, мальчики не обратили внимания на его возвращение. По всей видимости, сражение должно было произойти между индейцами и солдатами. Детей поменьше и послабее убедили выступить в первой схватке в качестве индейцев, но сейчас им это надоело, и они настойчиво выражали свое желание обменяться ролями. Все мальчишки постарше уже успели отличиться, произведя огромные опустошения в рядах индейцев, и им хотелось продолжать войну так, как было условлено сначала. Они наперебой объясняли, что солдатам всегда полагается бить индейцев. Малыши не пытались отрицать справедливость этого аргумента, они просто твердили: «В таком случае мы хотим быть солдатами». Каждый из них с величайшей готовностью призывал остальных оставаться индейцами, но сам упорно выражал желание завербоваться в солдаты. Мальчики постарше были в отчаянии от такого недостатка энтузиазма у маленьких индейцев. Они то льстили им, то грозили, но не могли убедить малышей, предпочитавших скорее подвергнуться ужасному унижению, нежели вынести еще одну жестокую атаку солдат. Их обзывали всеми обидными детскими именами, которые глубоко уязвляли их самолюбие и задевали гордость, но они оставались твердыми.
Тогда один страшенный мальчишка, признанный вожак, способный поколотить даже подростков, вдруг надул щеки и закричал:
— Ну, да ладно уж, я сам буду индейцем!
Малыши громкими возгласами приветствовали пополнение своих потрепанных рядов и, видимо, были очень довольны. Но дела это отнюдь не исправило, так как вся личная свита страшенного мальчишки, да еще со всеми зрителями в придачу, добровольно покинула флаг и объявила, что они тоже индейцы. Зато теперь не оказалось солдат. Индейцы проявляли полное единодушие. Страшенный мальчишка пустил в ход все свое влияние, но оно не могло поколебать верность его друзей, которые соглашались сражаться только под его знаменами.
Было ясно, что не оставалось ничего иного, как принудить малышей к повиновению. Страшенный мальчишка снова превратился в солдата, а затем любезно разрешил присоединиться к нему тем, кто представлял собой подлинную боевую силу в толпе мальчиков, но не допустил в свои ряды весьма жалкий отряд маленьких индейцев. Затем солдаты атаковали индейцев, побуждая их при этом к сопротивлению.
Сначала индейцы избрали политику поспешной сдачи в плен, но она не имела успеха, так как никого из них в плен не брали. Тогда, возмущенно протестуя, они обратились в бегство. Жестокие солдаты с громкими криками пустились в погоню. Сражение разрасталось, и в ходе его возникали всякие невероятные эпизоды.
Гораций уже несколько раз собирался было идти домой, но, по правде говоря, зрелище битвы заворожило его. Оно зачаровывало больше, чем это доступно пониманию взрослого. В глубине души его ни на минуту не покидало ощущение вины, даже ощущение неминуемого наказания за непослушание, но оно не могло перевесить упоения, вызванного этим снежным сражением.
II
Один из атакующих солдат заметил Горация и, пробегая мимо, крикнул: «Бо-ит-ся за свои ва-реж-ки!» Гораций вздрогнул от обиды при этой новой насмешке, а мальчишка, желая еще немного поиздеваться, остановился. Гораций набрал снега, слепил снежок и бросил его в противника.
— Ага! — заорал мальчишка. — Ты индеец! Эй, ребята, вот еще один неубитый индеец!
Между ним и Горацием завязалась дуэль, в ходе которой оба так торопились лепить снежки, что им даже некогда было хорошенько прицелиться.
Один раз Горацию удалось попасть своему противнику прямо в грудь.
— Эй! — закричал он. — Ты умер. Ты больше не можешь драться, Пит. Я тебя убил. Ты мертвый!
Второй мальчик весь вспыхнул, но продолжал неистово заготовлять боеприпасы.
— Ты до меня ни разу не дотронулся, — возразил он сердито. — Ты ни разу до меня не дотронулся. Ну, а куда, — добавил он с вызовом, — куда ты меня ударил?
— По пальто! Прямо в грудь! Ты больше не можешь драться! Ты умер!
— Ты меня ударил? Ничего подобного!
— Нет, я попал! Эй, ребята, разве он не мертв? Я попал прямо в него.
— Да врет он все!
Никто не видел, как было дело, но некоторые мальчики приняли сторону того из противников, с кем их связывали узы дружбы. Противник Горация шумел все больше:
— Он ни разу даже не дотронулся до меня! Он даже и близко ко мне не подходил! Он даже и близко ко мне не подходил!
Страшенный мальчишка тоже вышел вперед и напал на Горация:
— Ты кем был? Индейцем? Ну, значит, ты мертв — вот и все. Он ударил тебя, я сам видел.
— Меня? — взвизгнул Гораций. — Он ближе, чем на милю, никогда ко мне и не подходил.
В этот момент он услыхал свое имя, произнесенное на некий хорошо знакомый мотив из трех нот, в котором последняя нота была пронзительной и долгой. Он глянул в сторону тротуара и увидел там мать, стоявшую в своем вдовьем трауре с двумя пакетами в грубой оберточной бумаге под мышкой. Среди мальчиков воцарилось молчание. Гораций медленно направился к матери. Она, казалось, не замечала его приближения, а сурово и пристально смотрела сквозь оголенные ветви кленов туда, где две малиновые полосы заката лежали на темно-синем небе.
В десяти шагах от нее Гораций решился на отчаянный шаг.
— О мамочка, — захныкал он, — можно мне остаться еще немного?
— Нет, — строго ответила она, — ты пойдешь со мной.
Гораций знал это выражение на ее лице: оно было неумолимым. Но мальчик продолжал упрашивать мать; в голове у него шевелилась мысль; если он сделает вид, что очень страдает сейчас, ему, может быть, меньше придется страдать потом.
Гораций не смел оглянуться назад, на своих товарищей. Какой позор, что ему нельзя оставаться на улице так же поздно, как другим мальчикам! Он представил себе, в каком он теперь будет положении, после того как мать опять потащила его домой на глазах у всех. Он был глубоко несчастен.
Тетя Марта открыла им дверь. Свет струился по ее прямой юбке.
— О, — сказала она, — итак, ты нашла его на дороге. Вот оно что! Ну, скажу я тебе, почти вовремя!
Гораций прокрался на кухню. Плита, растопырив четыре железные лапы, тихонько жужжала. Тетя Марта, по-видимому, только что успела зажечь лампу, так как она подошла к ней и стала крутить фитиль, налаживая ее.
— А теперь, — сказала мать, — покажи нам твои варежки.
Гораций опустил голову. Стремление, страстное желание преступника найти укрытие от возмездия, от правосудия пылало в его сердце.
— Я… я… не… не знаю, где они, — наконец с трудом вымолвил он, проводя рукой по карманам.
— Гораций, — сказала мать нараспев, — ты мне рассказываешь небылицы.
— Это не небылицы, — ответил он едва слышно. Он походил на вора, укравшего овцу.
Мать отвела его руку и стала обыскивать карманы. Почти тотчас же ей удалось вытащить пару очень мокрых варежек.
— Ну, скажу я тебе! — воскликнула тетя Марта. Обе женщины подошли поближе к лампе и стали внимательно осматривать варежки со всех сторон. Потом, взглянув вверх, Гораций увидел обращенное к нему печальное некрасивое лицо матери и залился слезами.
Мать пододвинула стул к плите.
— Сиди теперь здесь, пока я не велю тебе встать. — Он покорно пробрался бочком к стулу. Мать и тетя, не теряя времени, занялись приготовлением ужина. Они игнорировали мальчика, точно его и не существовало, и в своем пренебрежении к нему дошли до того, что даже перестали разговаривать друг с другом. Вскоре они отправились в столовую, служившую вместе с тем и общей комнатой. Гораций слышал, как они там стучали посудой. Тетя Марта принесла тарелку с едой, поставила ее на стул возле него и удалилась, не произнеся ни слова.
Гораций сразу решил, что не дотронется ни до одного кусочка. Он часто прибегал к такой уловке, когда имел дело с матерью. Он не понимал, почему это приводило ее к уступкам, но иногда, конечно, так оно и бывало.
Когда тетя вернулась в комнату, мать, подняв глаза, спросила:
— Он ест свой ужин?
Тетка, старая дева, закосневшая в своем невежестве, отнеслась к этому проявлению заботливости с жалостью и презрением.
— Да откуда мне знать? — спросила она. — Что же, мне все время стоять над ним? Все твои мучения из-за этого ребенка… Просто позор, как ты воспитываешь его!
— Да, но должен же он поесть чего-нибудь, нельзя ведь ему ходить не евши, — слабо возразила мать.
Тетя Марта, глубоко презирая политику уступок, которую означали эти слова, подавила долгий пренебрежительный вздох.
III
Сидя один на кухне, Гораций мрачно смотрел на тарелку с едой. В течение долгого времени он ни единым знаком не обнаруживал готовности уступить. Его настроение оставалось неизменным. Он был полон решимости не продавать свою месть за хлеб, холодную ветчину и пикули; и все же следует признать, что вид их производил на него могущественное воздействие. Особенно много соблазна таилось в обольстительно прекрасных пикулях. Гораций угрюмо воззрился на них.
Наконец, не в силах далее совладать с собой, он с любопытством протянул палец и дотронулся до пикулей: они оказались прохладными, гладкими и округлыми. Но вдруг мальчик осознал всю жестокость и горечь своего положения; глаза его наполнились слезами, и они покатились по щекам. Он засопел. Сердце его пылало ненавистью. В воображении ему рисовались сцены смертельного возмездия. Мать узнает, он не из тех, что безропотно терпят преследования, не подняв даже руки в свою защиту. Так в мечтах Гораций пытался подавить свои чувства и в конце концов представил себе, как мать, согбенная страданиями, падет к его ногам. Рыдая, она будет умолять его о милосердии. Простит он ее? Нет, ее несправедливость обратила в камень его некогда нежное сердце. Он не мог ее простить. Она должна понести жестокую кару.
Первым пунктом этого ужасного плана был отказ от пищи. Гораций по опыту знал, какое смятение это вызовет в сердце матери. И он угрюмо ждал.
Но внезапно ему пришло в голову, что осуществлению его мести уже в самом начале грозит неудача. Его поразила мысль — мать может и не капитулировать, как обычно. По его мнению, ей давно уже пора было войти встревоженной, грустно-нежной и спросить, не болен ли он. Она прежде всегда так поступала. И у него вошло в привычку в таких случаях смиренным голосом намекать, что он-де жертва тайного заболевания, но предпочитает страдать в молчании и одиночестве. Если она настойчиво продолжала выказывать беспокойство, он тихим, унылым тоном всегда просил ее уйти и оставить его страдать в молчании и одиночестве, впотьмах и без еды. Ему было известно, что подобное маневрирование иной раз кончалось даже пирогом.
Но что означают эта долгая пауза и тишина? Неужели его старая, испытанная уловка обманула его? Когда правда проникла в его сознание, он почувствовал высшую степень отвращения к жизни, миру, матери. Ее сердце отбивало атаки осаждающего; он побежденный ребенок.
Гораций некоторое время поплакал, прежде чем решиться нанести окончательный удар. Он убежит. Брошенный варварством матери в мир преступлений, он в каком-нибудь отдаленном уголке земного шара станет существом, руки которого будут обагрены кровью. Она никогда не должна узнать о его участи. Он все время будет терзать ее все новыми сомнениями, и раскаяние неумолимо будет гнать ее к могиле. Не избежит кары и тетя Марта. Когда-нибудь, может через столетие, — матери его уже не будет в живых, — он напишет тете Марте и откроет ей, какую роль она сыграла в его неудавшейся жизни. За один удар, направленный против него теперь, он в свое время ответит тысячей — нет, десятью тысячами ударов.
Гораций встал и взял пальто и шапку. Осторожно направляясь к двери, он бросил взгляд назад, на пикули. У него явилось искушение взять их, но он знал: тарелка, оставленная нетронутой, причинит матери еще больше огорчения.
Падал густой снег. В свете чуть слышно потрескивавших электрических фонарей он казался голубым. Люди, согнувшись, быстро двигались по тротуарам. Когда Гораций вышел из кухни на улицу, на него из-за угла подул пронзительный ветер и глаза залепило хлопьями снега. Съежившись, он пошел прочь. Неистовство вьюги словно озарило его и дало мыслям новое направление. Перед ним встал вопрос о выборе отдаленного уголка на земном шаре. Обнаружив, что у него нет планов, достаточно определенных в географическом отношении, он, не теряя времени на раздумывание, остановился на Калифорнии. Он быстро дошел до парадных ворот материнского дома, выходивших на дорогу в Калифорнию. Наконец-то он отправился. Ему было немножко страшновато, у него застрял комок в горле.
Но у ворот мальчик сделал остановку. Он не знал, будет ли его путешествие в Калифорнию короче, если он пойдет по Ниагара-авеню или по Хоган-стрит. Так как ветер был очень холодный, а вопрос очень важный, он решил удалиться для размышлений в дровяной сарай. Войдя в темную лачугу, он уселся на старый чурбан, на котором он, как полагалось, ежедневно в течение нескольких минут колол дрова после возвращения из школы. Ветер вопил и завывал через шаткие доски сарая, и с подветренной стороны щели на полу лежал снег.
Здесь Гораций оставил мысль отправиться в такую ночь в Калифорнию и сидел, горестно размышляя о своем мученичестве. Не найдя другого исхода, он решил проспать ночь в дровяном сарае и отправиться в Калифорнию утром, когда будет светло, и пораньше. Вспоминая о своей постели, он ткнул ногой в пол и обнаружил целую массу щепок, плотно смерзшихся во льду.
Через некоторое время Гораций с радостью заметил в доме признаки суматохи: то в одном окне, то в другом мелькал свет подносимой к ним лампы; затем громко хлопнула дверь кухни, и фигура, закутанная в шаль, торопливо пошла к воротам. Наконец-то он заставил их почувствовать свою силу. Лицо продрогшего от холода ребенка светилось мрачным торжеством, когда в темноте дровяного сарая он со злорадством наблюдал за смятением, возникшим в доме. Закутанная в шаль фигура была тетя Марта, которая подняла тревогу и бросилась к соседям.
Мальчика мучил царивший в сарае холод; он терпел только потому, что причинял своим домашним такое ужасное беспокойство. Но затем ему пришло в голову — если они станут его искать, то, вероятно, заглянут и в дровяной сарай. Он понимал, что дать себя поймать так скоро — отнюдь не геройство. Сейчас он не был твердо убежден, что навсегда покинет дом, но, прежде чем — позволить себя захватить, он, во всяком случае, собирался навредить еще немного. Если ему только удастся рассердить мать, она выдерет его у всех на виду. Ради своей безопасности он должен оттянуть время. Если у него хватит выдержки, его встретят, он был уверен, с приветствиями и любовью, будь он даже весь начинен преступлениями.
Вьюга заметно усилилась; когда Гораций вышел, ветер, набросившись на него с грубой, беспощадной силой, чуть не сшиб его с ног. Задыхаясь, испытывая жгучую боль, наполовину ослепленный несущимися хлопьями, он стал теперь беспризорным изгнанником, жалким и лишенным друзей. Сердце у него разрывалось на части, когда он думал о своем доме и матери. В его растерянном воображении они представлялись ему такими же далекими, как небеса.
IV
Чувства Горация сменялись с такой быстротой, что его, словно бумажный змей, кидало то в ту, то в другую сторону.
Теперь неумолимая жестокость матери повергла его в ужас. Именно она бросила его в эту неистовую пургу и была совершенно равнодушна к его судьбе, совершенно равнодушна. Покинутый скиталец не мог больше плакать. Бурные рыдания застряли у него в горле, прерывистое дыхание выходило из груди с коротким присвистом… Он, казалось, был совсем сломлен. Но оставалось еще одно препятствие, которое удерживало его от полного подчинения: непостижимый детский идеал формы. Мальчик никак не мог отказаться от своего принципа. Когда он будет сдаваться, он должен сдаться таким образом, чтобы не нарушить этот не совсем ясно сформулированный кодекс. Гораций просто жаждал пойти на кухню, ввалиться туда, спотыкаясь, но неведомое чувство, чувство того, что ощущалось им как единственно правильное, запрещало ему это сделать.
Вскоре он обнаружил, что находится в начале Ниагара-авеню и пристально смотрит сквозь снег на ярко освещенные окна мясной лавки Стикни. Мать Горация покупала мясо у Стикни не столько из-за его превосходства над другими мясниками Уиломвила, сколько потому, что он жил рядом и был близким другом покойного отца Горация. В лавке, позади столов, заваленных огромными кусками красной говядины, вниз головой висели лоснящиеся туши свиней. В разных концах лавки покачивались связанные вместе тощие индейки. Стикни, свежий и улыбающийся, шутил с женщиной в плаще, у которой в руке была чудовищной величины корзина. Она торговалась из-за чего-то стоимостью в восемь центов.
Гораций наблюдал за ними через заиндевевшее оконное стекло. Когда женщина вышла из лавки и прошла мимо него, мальчик направился к двери. Он тронул пальцем щеколду, но внезапно снова отошел на тротуар. В лавке Стикни, весело насвистывая, сортировал ножи.
Наконец Гораций с отчаянием двинулся вперед, открыл двери и вошел в лавку. Голова его была низко опущена. Стикни перестал свистеть.
— Здравствуй, молодой человек, — воскликнул он, — каким ветром тебя сюда занесло?
Гораций остановился, но ничего не сказал. Он качал ногой взад и вперед над покрытым опилками полом.
Стикни, широко расставив жирные руки и опираясь о стол ладонями, стоял в позе мясника, встречающего покупателя, но сейчас он выпрямился.
— Ну? Что случилось? — сказал он. — Что случилось, малыш?
— Ничего, — хрипло ответил Гораций. С минуту он старался проглотить комок, застрявший у него в горле, а потом добавил: — Только я — я убежал и…
— Убежал? — воскликнул Стикни. — Убежал от чего? От кого?
— Из дому, — ответил Гораций. — Мне там больше не нравится. Я… — Он заранее приготовил речь, чтобы завоевать расположение мясника; он составил перечень оправданий, рисовавший его поступок в самом логичном и выгодном для него свете, но ветер словно вышиб все у него из головы. — Я убежал, я…
Стикни протянул огромную руку через груды мяса и схватил беглеца за шиворот. Затем он и сам перемахнул через прилавок и очутился возле Горация. Лицо его растянулось от смеха, и он шутя встряхнул своего пленника.
— Да ну, что ты, что ты? Что это за несусветная чепуха? Убежал, а? Убежал?
Тут ребенок, дух которого подвергся столь длительному испытанию, не выдержал и дал выход горю в громких рыданиях.
— Ну, ну, — сказал Стикни озабоченно. — Ладно уж, ладно. Пойдем-ка со мной. Все будет в порядке. Я все устрою. Ничего.
Через пять минут мясник, облаченный поверх передника в широкое и длинное пальто, вел мальчика домой.
У самого порога Гораций из гордости в последний раз поднял флаг возмущения:
— Нет, нет, — всхлипывал он, — я не хочу. Я не хочу идти туда. — Он уперся ногой в ступеньку и оказал серьезное сопротивление.
— Ну, Гораций! — воскликнул мясник. Он со стуком распахнул дверь. — Эй, кто там! — Дверь на другом конце темной кухни, ведущая в общую комнату, отворилась, и в ней появилась тетя Марта.
— Вы нашли его! — воскликнула она.
— Мы пришли с визитом, — громогласно объявил мясник.
У входа в общую комнату все умолкли. Гораций увидел лежавшую на кушетке мать, слабую, бледную как смерть, со страдальческими глазами. Наступившая пауза, как бы насыщенная электричеством, была прервана матерью, протянувшей к Горацию восковую руку.
— Дитя мое, — пробормотала она дрожащим голосом. Вслед за чем злокозненное существо, к которому она обратилась, ринулось к ней с продолжительным воплем, одновременно горестным и радостным:
— Ма-ма! Ма-ма! О, ма-ма!
Она едва могла вымолвить слово, когда обняла его слабыми руками.
Тетя Марта резко повернулась к мяснику, так как лицо выдавало ее чувства. Она плакала. Сделав жест не то воинственный, не то женственный, она проговорила:
— Не выпьете ли вы у нас кружечку эля, мистер Стикни? Мы делаем его сами.
Перевод Ю. ГальпернПримечания
1
Перевод М. Зенкевича.
(обратно)2
Улица в Нью-Йорке.
(обратно)


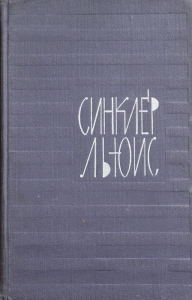
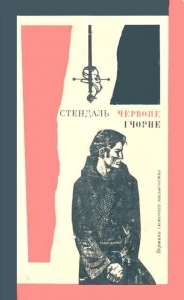
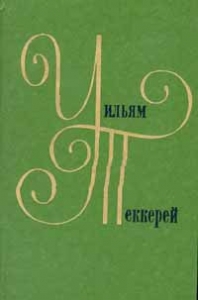
Комментарии к книге «Алый знак доблести. Рассказы», Стивен Крейн
Всего 0 комментариев