Панас Мирный Гулящая
Часть первая В СЕЛЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Другой такой зимы, лютой и неистовой, люди не припомнят! Осень была дождливой: от второй пречистой [Церковный праздник – 4 ноября. ] начались дожди и шли непрерывно до самого Филиппова дня [27 ноября.]. Земля так насытилась водой, что больше ее уже не принимала. Большими лужами и озерами стояла вода на полях и в балках; на проселочных дорогах такая грязь – ни пройти, ни проехать. Не только в другое село, но даже к соседу нельзя было пройти в течение многих недель; жили как в неволе. Осенние дворовые работы приостановились. У кого был овин – молотил понемногу, собирал плоды летней изнурительной страды. Но много ли этих овинов в Марьяновке? У сборщика податей Грыцька Супруна – один; у попа – второй; у пана – третий; а у остальных хлеб гнил в стогах. И урожай этим летом не густой выдался – а нынче осень угрожала и его сгноить… Болело сердце хлебороба при виде залитых водой токов и почерневших, приникших к земле скирд. У Демиденка рожь проросла; у Кнура два стога мыши попортили; совсем скирды развалились, рассыпались – превратились в гниль. У Остапенка крыша продырявилась – вода в хату протекла: собирался этой осенью чинить кровлю, но помешало несчастье. На людей пошли напасти: простуды, лихорадка… Заработка никакого, денег нет. У иных и хлеба уже не стало, да и не у кого занять. Беда, наказанье Господне! Заказывали акафисты, служили молебны – ничего не помогало!
Так было до Филиппова дня. Ночью перед рассветом повеяло холодом; к утру выпал небольшой снежок. С неделю продержался мороз – земля затвердела, точно кость. Люди и этому рады: сразу бросились к хлебу. От зари до поздней ночи стучали цепы, лопаты, шуршало зерно на токах – горячо принялся народ за работу! Через неделю на месте почерневших стогов желтели скирды соломы. С хлебом управились, а отвезти его в город на базар или на ярмарку куда-нибудь – так грязь такая, что со двора не выедешь! Кое-кто не утерпел – поехал, так закаялся: у одного – вол надорвался, а у другого – сразу пара. У кого была лошаденка – еще так-сяк: возил понемножку. Да много ли этих коней в селе? Марьяновские крестьяне испокон веку хлеборобы: вол, а не конь – сила в полевой работе. Марьяновцы всегда предпочитали волов: на коне что? – поехать куда-нибудь на прогулку, а волы – для работы.
Жалко скотину, а тут пристали с подушными податями: ягнята, свиньи, коровы – все за бесценок пошло; в волость забрали да там и продали… Народ горевал, жаловался: ведь это же только первая половина уплачена, а где взять на вторую? Все носы повесили. Одна надежда осталась на ярмарку в Николин день [19 декабря. ] в городе: там если не продашь, то хоть пропадай! Люди в надежде на милость Божью молились, чтобы хоть немного снега выпало, дорогу прикрыло: все же сани не то что воз – и для скотины легче, и потянут больше.
В Наумов день [14 декабря. ] потеплело. Солнце спряталось за зеленые облака; к полудню подул ветер – наступила оттепель. Она продержалась три дня. Накануне Варвары [17 декабря. ] прошел мелкий снежок; до утра его изрядно выпало. Народ скорей собрался на ярмарку: у кого была скотина – запрягал свою, у кого не было – просился в компанию. Все выезжали и уходили: каждому нужно что-либо продать и купить.
Напросился и Филипп Притыка к Карпу Здору, своему соседу и куму. Положил на его сани пять небольших мешков ржи, один – пшеницы да полмешка пшена – весь излишек, который можно было продать; и вместе с кумом ранним утром на Варварин день поехали в город. Снарядила их в дорогу семья Здора; снаряжала мужа и Приська, жена Филиппа, еще не старая годами, но сильно постаревшая молодица; прощалась с ними и дочка Филиппа – семнадцатилетняя Христя. Приська наказывала мужу соли купить с полпуда; Христя просила отца привезти из города гостинец – перстень, сережки или хоть ленту какую-нибудь…
– Ладно, хорошо! Всего навезу! – с горькой усмешкой говорит Филипп, думая больше о подушной подати, про которую уже не раз напоминал Грыцько Супруненко, чем о просьбе дочери.
Город от Марьяновки в верстах двадцати. Если выехать перед рассветом, то к обеду как раз поспеешь. Так они рассчитывали, так и тронулись в путь-дорогу. С утра снег снова начал понемногу падать, потом пошел сильнее и гуще. Было тихо, а тут и ветерок подул, закружились снежные вихри. К обеду поднялась такая метель, что и света белого не видно! Уже не ветер, а вьюга завыла, поднимая с земли целые горы снега и неистово кружа их в воздухе. Не видно стало ни неба, ни земли – все затмила непроглядная метель… аж страшно, тоскливо стало на душе! Так продолжалось до ночи и весь следующий Саввин день [18 декабря.]. Во дворах намело такие сугробы, что глядеть страшно было: некоторые хаты совсем занесло.
Марьяновка раскинулась на двух холмах, между которыми в низине находился небольшой пруд. Теперь этой низины и не видно: извилистые сучья высоченных верб, словно стебли бурьяна, торчат из-под снега; улицы засыпаны, во дворах вровень с хатами стоят большущие снежные сугробы, только ветер треплет их заостренные головы. В подворье Притыки, крайнем от церкви, и хлева, и клети полны снега. Вокруг хаты, словно сторожа, стоят пять высоких сугробов; ветер срывает с них снег и перебрасывает его через кровлю. На ней и на трубе столько снега, что не узнать, то ли это людской очаг, то ли огромный сугроб. На Николин день метель улеглась, зато ударил такой мороз – прямо обжигает! А ветер, того и гляди, опрокинет, сорвет с земли… Такого холода никто не припомнит! Галки замерзали на деревьях и, как ледяные сосульки, падали на землю; воробьи околевали в клетях… В церкви, несмотря на такой большой праздник, не было службы: к храму нельзя было пробраться. Народ с самого утра взялся было за лопаты, чтобы хоть тропинку проложить, но, ничего не добившись, люди разошлись по домам. Скотина третий день не поена: водопой совсем замело, да и сама скотина в неволе, к ней с большим трудом можно было добраться, чтобы кинуть вязанку соломы… Овцы и телята начали околевать… Еще два таких дня – и ничего от скота не останется. Сбылась поговорка: «Варвара погрозит, Савва постелет, а Никола скует».
Собралась утром Приська выйти из хаты – никак двери не откроет! Вместо сеней Филипп смастерил немудреную пристройку, обложив ее навозом. Теперь там было полно снега! А тут еще на беду все топливо вышло – приварка не стало; нечем печку истопить, борщ сварить. С большим трудом Приська с Христей приотворили дверь, придерживая руками снег, но часть его все же попала в хату. Снег таял; лужи текли в подполье, под лавки и печь; в хате стало холодно, как в погребе. Кое-как дверь открыли. Начали выметать снег из хаты в сени, а оттуда на двор. Обе они уморились, даже пот прошиб. Сени очистили от снега и закрыли плетеной корзиной, стоявшей в углу. А теперь нужно как-то к соломе пробиться: не сидеть же в нетопленой хате!
Христя кинулась было во двор – и погрузилась с головой в снег. Приська стала ее вытаскивать; поднялся крик, гам… С соседних дворов доносился такой же шум: и там было не лучше. На улице кто-то кричал, ругался… где-то хохотали… И смех и грех!.. Насилу выбралась Христя из сугроба, но в другой раз попыталась пробраться и снова увязла…
– Нет, не так, – говорит Приська. – Давай корытом снег выгребать.
Взяли корыто. Вокруг хаты был свободный проход; между сугробами тоже виднелись просветы – туда сносили снег. Насилу пробрались к соломе. Ворохов пять натаскала Христя в хату. Приська совсем выбилась из сил, лежала на полу и стонала… Топливо достали, теперь бы надо в погреб пробиться. Попыталась снова Христя – нет, не суйся!
– Да ну его, этот погреб! Еще немного бураков осталось – сварим борщ; пшено тоже есть, на кашу хватит, – решила Приська. – А что картошки нет – уж так и быть!
Христя затопила печь, солома сразу запылала, и дым повалил в хату.
– И трубу занесло… Вот беда! – Едва произнесла Христя эти слова, как из дымохода вывалилась целая охапка снега. Христя торопливо вымела его в сени. Дым начал клубиться над шестком, ища выхода; из трубы еще выпал замерзший снег; его сразу вынесло наружу. Слава Богу! Солома запылала жарко-жарко.
Пока Приська приходила в себя, Христя готовила обед. Сноровистая эта Христя, золотые у нее руки! Не мешкая, она сварила борщ. Задвинула печную заслонку, и стало тепло в хате. А на дворе опять творилось такое, что просто беда!
Солнце, показавшееся с утра, снова спряталось за тучи; зеленые и мрачные, они обложили все небо. Ветер с часу на час крепчал, рвал снег с земли, крутил его во все стороны, вздымал белые вихри. Вокруг хаты словно сто коней плясало; тарахтело на чердаке, завывало в трубе. Хорошо тому, кто теперь дома, у теплого очага! А каково тем, кто в поле, в пути!
Сердце Приськи заныло. Она сегодня ждала Филиппа. Он, верно, выехал утром. Не дай Господи не найдет пристанища! Занесет его снегом, душу заморозит навеки.
Приська еле ходила по хате, бледная, мрачная, и непрерывно стонала. Долго не садилась обедать, все ждала – вот-вот приедет… Потом пообедали – Филиппа все не было. Уже стало вечереть, а его нет. Невеселые думы копошились в голове Приськи.
– Что-то отца нет?… Не дай Господи в поле захватит такое… – сказала Христя.
Приська чуть не вскрикнула. Слова дочери ножом полоснули по сердцу… Ветер сердито рванул так, что кровля затрещала, застучало в окна, заскулило в трубе тонко и жалобно – сердце у Приськи захолонуло.
Ночь спустилась на землю, серая, неприветливая ночь. Сквозь замерзшие стекла окон еле пробивался свет; в углах хаты сгустились тени, и вся она погрузилась в густой сумрак.
– Зажги хоть огонь! – грустно промолвила Приська.
Христя зажгла маленькую коптилку и поставила ее на выступ печи. Подслеповато, чадя вовсю, горел фитилек; ветер гулял по хате; сизое пламя колыхалось во все стороны, словно умирающий мигал померкшими глазами. Христя взглянула на мать и испугалась; с почерневшим лицом сидела она на нарах, подогнув ноги и скрестив руки на груди; повязка на ее голове сбилась набок; серые космы волос свисали, как засохшие будылья кукурузы; длинная тень ее колыхалась на отсыревшей стене.
– Мама! – крикнула Христя.
Приська подняла голову, глянула на дочь, да с такой тоской и болью… Христю всю обдало холодом от этого взгляда.
– Такой ветер в хате! Не протопить ли? – спросила Христя.
– Как хочешь, – ответила Приська, и снова голова ее опустилась на грудь.
Христя затопила печь. Весело замелькали светлые огоньки на тонких стеблях соломы, золотые искры залетали на черные челюсти печи, весь пучок вспыхнул ярким пламенем; оно осветило хату, заблестело на замерзших стеклах и начало угасать. Христя подбросила соломы… еще… и еще… Снова высоко взвилось пламя, осветив хату. Темным призраком казалась при свете пламени фигурка Христи; круглое молодое лицо, как цветок, разрумянилось, глаза сверкали. Огненные блики падали на пол, скользили по стенам, добираясь к перекладинам на потолке. В углу на жерди висит одежда – свитки, юбки, – отбрасывая черную тень; под ее покровом сидит Приська в той же позе; отблески пламени скользят по ее лицу, одежде – ей все равно; сгорбленная, понурившись, она будто прислушивается к буре, которая так страшно гудит и воет за окном. И кажется ей, что-то шелестит там, кряхтит, скребется, стучит. Вдруг послышался голос человека.
– А буря какая, Господи! – промолвила Христя.
– Тсс!.. – крикнула Приська, подняв голову. Лицо ее ожило, в глазах блеснула радость.
– Эй! Слышите? – доносится голос со двора.
Приська вскочила и бросилась в сени.
– Ты, Филипп? – спрашивает она, глядя сквозь изгородь на занесенную снегом фигуру.
– Что это у вас стоит на дороге? – допытывается голос.
– Кто там? – встревоженно окликнула и Христя.
– Это я.
– Кто – я?
– Грыцько Супруненко, сборщик. Пустите в хату… Вот это да! Ну и замело!
С помощью Грыцька корзину отодвинули в сени, и все вместе вошли в хату. Грыцько саженного роста, да еще в бурке с капюшоном, головой касался потолка.
– Здорово! – сказал он, сняв вместе с буркой и шапку и обнажив густое руно поседевших волос на голове, длинное, суровое лицо, насупленные брови, здоровенные замерзшие усы.
– Здравствуйте, – ответила Приська.
– С тем днем, что сегодня!
– Спасибо.
– Филипп дома?
– Нет его.
– Вот тебе и на! На черта и лучше! А мне его надо. Где же он?
– Да как поехал на ярмарку еще в Варварин день, так и не возвращался, – вздохнув, говорит Приська.
– На черта и лучше! – повторил Грыцько.
– А что вам?
– Что? Подушную! – грозно крикнул Грыцько, пройдясь по хате и ударив ногой об ногу.
– Не знаю, – помолчав, говорит Приська. – Когда вернется, скажу… Повез немного хлеба продать; если продал…
– Да я эту песню всюду слышу, – перебил ее Грыцько. – Черт понес их на ярмарку! А тут житья не дают: иди да иди! По такой погоде… ххе!
– Что же им так приспичило? – спрашивает Приська.
– Бог их знает!.. Вот несчастье!.. – почесывая затылок, произнес Грыцько. – Они там на ярмарках гуляют, водку пьют, а ты тут ходи да кланяйся…
Приська молчала. Она хорошо знала этого Грыцька: не было более горячего человека во всем селе. Рассердить его – что раз плюнуть; а если рассердился, так пристанет, как репейник. Лучше уж молчать. Грыцько молча ходил по хате, потирал руки, бил сапогом об сапог.
– А теперь еще плестись к Гудзю! Весь свет, вишь, обнищал, – сердился Грыцько. – Душу за них, проклятых, заложи!.. Да хоть бы деньги давали.
– Что ж, если нет денег, – тихо говорит Приська, – разве б люди не рады были отдать? А если и заработать нельзя?
– Брехня! – оборвал ее Грыцько. – Таков уж нрав лодырей, привычка такая чертова! Так повелось: ходи к ним по десять раз да проси, в ноги кланяйся!.. А нет того, что раз ты должен – отдай, что следует с тебя. Так нет же! Лучше в шинке пропью, чем в казну отдам.
– Было бы что отдавать, – усмехаясь, говорит Приська, – а не то что в шинок носить… Уже, сдается, что у кого было, все содрали… Доколе будут с нас драть?
– То не нашего ума дело… Сказано – дай, значит – отдай.
– Ведь и даванию конец должен быть… Уж все, что было, забрали… ягнят продали, свиней продали, одежду лишнюю… Остались – в чем душа держится. Доколе же его брать и откуда оно возьмется?
– Толкуй! Что тебе, поможет?… А ну, дай-ка, девка, огонька закурить, – подходя к печи, сказал Грыцько.
Христя достала ему жар.
– Как же ты его возьмешь? – крикнул Грыцько, показывая рукой на кучу пепла, в котором тлели угольки. – А с хлопцами небось проворна? – злобно ввернул он. – Давай пучок соломы!
Христя скрутила соломенный жгут, зажгла его и подала Грыцько.
– Так ты ж скажи Филиппу, чтобы беспременно принес деньги, – говорит Грыцько, раскуривая трубку. Огонь осветил его лицо, насупленные брови, серые злые глаза, скользнувшие по лицу Христи… Кажется, трескучий мороз не обдал бы ее таким холодом, как этот взгляд.
– Скажу, скажу…
– Ска-а-жу-у! – нараспев сердито повторил Грыцько, сплюнул, надел бурку и вышел из хаты.
– Учтивый дядька, нечего сказать. Ушел и даже не попрощался! – сказала Христя.
– Жди от Грыцька учтивости – дождешься! Он уже и людское обхождение из-за своей спеси забыл, – вздохнув, промолвила Приська и снова забилась в угол.
Тяжелая, саднящая тоска сдавила ей сердце, гнетущие мысли заполнили голову. Картины ее долгой жизни промелькнули перед глазами. Где ее радости, веселье? День-деньской работа, хлопоты, ни погулять, ни отдохнуть. А нужда какая была, такая и есть, с детства привязалась и не отвяжется… Все хорошее в сердце, живое в душе она, как червь, источила; и красота была, да незаметно поблекла; и сила неизвестно куда девалась; надежды увяли; осталось только одно – дочку пристроить, тогда и умереть можно… Без жалости, без печали, скорее с радостью оставила бы она этот мир: такой он горький, осточертевший, темный и неприветливый… Там – хоть вечный покой, а тут ни отдыха нет, ни одной отрадной минуты… Она и так долго протянула; другого бы раздавила такая тяжелая нужда и горе или заставила руки на себя наложить, а она все вытерпела, все превозмогла… Неудивительно, что в сорок лет поседела; глубокие морщины изрезали высокий лоб, избороздили некогда полное румяное лицо; высушенное и обесцвеченное беспросветной жизнью, оно стало желтым, как воск; стройный стан согнулся, сгорбилась спина и впала грудь, а юный жар в очах погас, потускнел, как вянет цветок на морозе. Глубокие занозы вогнала жизнь в сердце Приськи, страшным морозом сковало ей душу! Как мученица, сидела она теперь на нарах, и не хотелось ей глядеть ни на что, не хотелось жить; закрыв глаза, она тяжко вздохнула.
Буря выла, наполняя отчаянием душу, сердце, все существо Приськи.
– Вы бы легли, мама, отдохнули, – окончив работу, говорит Христя.
– Он уже не вернется сегодня, – глухо промолвила Приська. – И то – отдохнуть пора… – Вытянув свои синие корявые руки, она взобралась на печь. Суставы ее трещали, сама она все время стонала.
Христя проводила взглядом мать, и сердце ее захолонуло. Как она постарела, высохла, немощна. Неужели и ей суждено быть такой? Не приведи Господи!
Всю ночь будили Христю тяжелые вздохи матери, не раз слышала она и сдавленный плач.
– Мама, вы плачете? – допытывалась Христя.
Плач и вздохи на некоторое время замирали. И тогда слышней становилось жалобное завывание вьюги.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Недаром горевала Приська, недаром всю ночь не спала, то заливаясь горькими слезами, то тяжело вздыхая. Уже третий день миновал после Николы, а Филиппа все еще не было. Ежедневно бегала она к Здорихе разузнать, не вернулся ли ее муж. Пока Здора не было, надежда еще теплилась в ее душе, шевелилась на самом дне, согревала. А когда Карпо приехал и сказал, что Филипп, продав хлеб, ушел куда-то и больше ему на глаза не попадался, – ни жива ни мертва вернулась Приська домой. В голове у нее гудит, в ушах звенит, в глазах темно… Она не могла вымолвить ни слова; как слегла, так и пролежала, словно деревянная, до следующего дня.
Назавтра она пошла по селу расспросить у вернувшихся из города, не видел ли кто-нибудь ее Филиппа. Кнур сказал, что видел его в шинке; Грыцько Хоменко рассказывал, что встретил его в компании с Власом Загнибидой; Дмитро Шкарубский сказал, что в самый Николин день Филипп ушел из города. «Куда ты? – спросил Дмитро. Домой? Что, расторговался?» – «Расторговался», – ответил Филипп, ударив рукой по карману. «А не боишься, что метет?» – спросил Дмитро. «Это не про нас метет», – смеясь, ответил Филипп. «А про кого же?» – «Про тех, что в рыдванах ездят и боятся мороза». – И, захохотав, пошел прочь.
Другие на вопросы Приськи ответили, что и в глаза не видали Филиппа; проклинали метель, проклинали дорогу, занесенную снегом; клялись, что во веки веков не поедут больше на эту ярмарку; рассказывали, что много народу замерзло, не говоря уж о тех, кто руку, ногу или нос отморозил… И полиция, и становые пристава ездят всюду, разрывают снежные сугробы и откапывают залубеневшие трупы. «Как дрова они навалены в полиции», – добавил Петро Усенко.
Вернулась Приська домой опечаленная, в слезах. Христя, глядя на нее, тоже плачет; друг другу слова не говорят. А тут еще Грыцько наседает: каждый день за подушной податью приходит – покоя от него нет.
– Где же я возьму? Видишь – Филипп не возвращается, – плача, ответила Приська.
– Запил, должно быть, – не унимается Грыцько. – Все уже вернулись, а его все нет.
– Может, и не вернется никогда… – говорит Приська.
– Черт его возьмет! Такого ничто не берет! – кричит Грыцько, потом еще Христю шпыняет… все хлопцами ее укоряет. Христя знает, куда он гнет, но молчит, чтобы пуще его не разозлить.
Грыцько – богатей, мироед; у него три пары волов, две лошади, целая сотня овец, две хаты – одну сдает внаем, в другой живет сам с женой и сыном. Тихий хлопец его сын Федор, красивый, работящий, послушный; водку не пьет, по шинкам не шатается. Все бы хорошо, да… сватал осенью Грыцько Федора за Рябченкову Хиврю, – хоть и очень некрасивую, зато богатую, – а Федор возьми и заупрямься: «Ни за что не возьму Хиврю». – «А кого же тебе надо? Поповну?» – «Вот, – говорит Федор, – красивая девка у Притыки – Христя». Грыцько так посмотрел на сына, словно хотел этим взглядом пронзить его насквозь. «У Притыки?… Красивая, а что у нее за душой?» – грозно спросил он. И уже больше к Федору не приставал.
С того времени Грыцько никогда не упускал случая так или иначе насолить Притыке. А Федор, несмотря на отцовские угрозы, все больше привязывался к Христе; не так она к нему, как он к ней льнет. По селу пошли разговоры: околдовала Христя Федора да и насмехается над ним. Услышал это Грыцько и совсем взбеленился: выругал Федора, чуть не избил и угрожал, что он этого Притыку со всей его семьей со свету сживет; а если Христю где встретит, сейчас ей начнет глаза колоть хлопцами. Так и теперь – точно иголки втыкал в ее и без того израненное сердце. Христя молчала. Да и что ей сказать? Что ей теперь до хлопцев, когда дома такая беда? Но Приська заступилась за нее.
– Что ты мелешь, Грыцько? – спросила она. – Только увидишь Христю, так все с хлопцами к ней пристаешь…
– А ты за своей дочкой смотришь? – грозно спросил Грыцько.
Защемило материнское сердце. Тяжелая тоска и без того придавила его, а тут острая обида точно шилом проколола.
– Гляди лучше за своими детьми, а то пришел чужих учить, – ответила она с возмущением в голосе.
– И научу!.. Научу!.. – кричал Грыцько.
– Чему же ты научишь? Ты бы еще лучше залил глаза, так увидел бы больше, – не утерпев, сказала Приська, намекая на то, что Грыцько пришел выпивши.
– А ты мне ничего не говори… И ты ведьма, и твоя дочка такая! Вы только и умеете хлопцев заманивать и околдовывать.
– Каких хлопцев? – удивленно спросила Приська.
– Не знаешь? Прикидываешься святой? А кто моего Федора свел с ума? Кто его напаивал, обкуривал? Думаешь – не знаю? Молчи уж!
И, сердито сверкнув глазами, он хлопнул дверью и ушел.
За одной бедой – другая, к обожженному месту прикладывают огонь…
– Что это, Христя, говорят? О ком? – укоризненно, со слезами в глазах обратилась она к дочери.
Та стояла, как стена, немая, как мел – белая. Ее испугала буча, поднятая Грыцько, устрашил его грозный взгляд, крикливый голос. Она ни слова не сказала матери, да так и залилась слезами.
– Так это правда? Правда? – кричала мать с таким отчаянием, точно у нее сердце разрывалось.
– Мама, мама! Ни в одном его слове нет правды! – рыдая, проговорила Христя.
Приська не знала, чему верить, кого слушать. Мысли в ее голове путались, раздваивались: то чудилась ей страшная буря, вой вьюги, замирающий крик человека; она слышит голос Филиппа, видит его – беспомощного, прячущего закоченевшее лицо в снег… Сердце ее разрывается от жалости. То снова перед глазами Грыцько, упрекающий Христю… Бог ее знает! Разве признается матери провинившаяся дочь?… Ее сердце замирает, словно перестает биться; какая-то тяжесть гнетет ее душу, черной пеленой застилает глаза. Господи, какая мука! Какая невыносимая мука!
Короткий день быстро проходит, настает зимняя длинная предрождественская ночь. Чего только за эту ночь не передумаешь? Сколько мыслей промелькнет в голове, встревожит сердце! А Приська за всю эту ночь и глаз не сомкнула. Как легла с вечера, так до самого утра только и слышны были ее глубокие вздохи и приглушенное всхлипывание. Христя тоже долго не могла уснуть.
Она и хотела, и боялась заговорить с матерью, утешить ее, как в минувшие ночи. Знал Грыцько, когда с ней свести счеты. А жалости у него – ни капельки!.. Как ей теперь убедить мать в том, что она невиновна? Рассказать ей о своих тайных встречах с Федором? Какая же девушка выдаст эту тайну? Было, может, и такое, за что мать, дознавшись, и надрала бы ей косы; а коли не знает, оно и так сойдет… сказать об этом сейчас, когда сердце матери и без того обливается кровью, когда она, может, только и видит перед глазами отца, как провожала его на ярмарку, только и слышала его голос? Тоска и досада заполнили ее душу, ножом вонзились в сердце. Христя молча слушала тяжелые вздохи матери, ее безутешное рыдание. Молодое отзывчивое сердце долго не выдерживает такой ноши, такого горя. Не выдержала и Христя. Сон – не сон, а какая-то дрема начала ее одолевать, закрывала ее заплаканные глаза.
На рассвете проснулась Христя и удивилась, что мать еще до сих пор не вставала. То, бывало, когда Христя проспит, мать всегда будит ее; а сейчас уже утро заглядывает в окно своими серыми глазами, но мать лежит еще на печи, даже не пошевельнется.
«Пусть она поспит, – думает Христя. – Пусть хоть немного отдохнет, пока я управлюсь». На цыпочках ходила Христя, чтобы не нарушить тишину в хате; как назло, солома под ногами шелестела и потрескивала. Христя ступала еще осторожнее. Надо умыться, а воды в хате нет. Она по-кошачьи прокралась в сени, а когда вернулась, мать уже встала; в черном печном закутке мелькала ее серая фигура. Это не мать, не живой человек, а выходец с того света. На ее костлявых плечах сереет сорочка, широкая-широкая, словно с чужого плеча; шея, желтая и сморщенная, как у трупа, будто вытянулась, а под дряблой кожей торчат позвонки; щеки ввалились и отсвечивают восковой желтизной; глаза мутные, как оловянные пуговицы, под ними висят синие мешки, а вокруг – красные круги. Она дрожала всем телом; губы ее что-то беззвучно шептали. Едва не уронила ковшик из рук Христя, когда увидела свою мать.
– Не вернулся?… Нет его?… – искривленными губами произнесла Приська, словно сухая трава прошелестела. Она, видно, хотела заплакать, но не смогла; глаза ее горели лихорадочным блеском, и, как она ни мигала набрякшими веками, ни одна слезинка не показалась.
В обед снова Грыцько явился.
– Ох, Господи, ну и повадился к нам этот дядька! – сказала Христя, завидя Грыцька.
– Где мать? – спросил он, войдя в хату.
– На печи, – ответила Христя. Приська так и не сошла с печи.
– Чего лежишь? Вставай и собирайся в город мужа забрать, – сказал он.
– Чего ж я за ним пойду? Разве он сам не придет? – простонала, поднимаясь, Приська.
– Придет… Жди – дождешься!.. Замерз! – рывками бросал слова Грыцько.
Приську словно ножом кто в бок полоснул. Она рванулась, зашаталась да так и окаменела – хоть бы слово сказала, хоть бы вздохнула! Только обезумевшими глазами смотрела на Грыцька.
Христя тоже растерянно взглянула на него, потом на мать, схватилась за голову, прислонилась к печи.
– Ой, батюшка мой родненький! – в отчаянии заголосила она и вся затряслась.
У Грыцька мороз пошел по коже от этого истошного крика, но он не из таких был, чтобы поддаться чужому горю; шагая взад и вперед по хате, начал рассказывать:
– Как раз в волости был… носил подати… При мне получили бумагу – объявить жене, или детям, или родственникам, чтобы пришли в город признать… нашли в снегу замерзшего… Загнибида признал… Так чтобы взяли похоронить, если хотят… Там у него нашли новые сапоги и еще что-то… В волости хотели нарочного за тобой послать, но я сказал: все равно буду на том конце – зайду и скажу.
Окончив рассказ, Грыцько поглядел на Приську, потом на Христю. Приська молчала, Христя причитывала. Он снова прошелся по хате раз, другой; посмотрел на мать и дочь. Никто не мог бы разгадать, что светилось в его глазах: радость или огорчение? Лицо его как-то перекосилось. По-прежнему слышалось рыдание Христи.
– Вы же слышали? – глухо спросил он и, резко повернувшись, вышел из хаты. Следом за ним, точно укор, вырвался отчаянный крик Христи и замер. Грыцько, тряхнув головой, пошел по улице.
– Ой, леличка!.. [Ласковое обращение к пожилой женщине. ] Ой, мамочка! – голосила Христя, подойдя к матери. – Что мы теперь, сироты, будем делать?
Она глядела на мать заплаканными глазами, а мать на нее – сухими и горящими.
– О, горенько наше! Ой, беда тяжкая! – тужила Христя, прижимаясь к матери.
Приська все так же глядела на нее обезумевшими глазами и дрожала. И вдруг, словно что-то разорвалось, треснуло… Страшный хриплый крик вырвался из Приськиной груди, и неудержимые рыдания потрясли ее. Приська приникла к дочери, обхватила ее голову руками и неистово завыла:
– Моя доченька, моя голубка, пропали мы с тобой навек!
Небо нахмурилось, в хате потемнело. И в этой темноте, точно совы, перекликались мать и дочь. Тонкий выразительный голос Христи переплетался с хриплым завыванием матери, растекался по хате, бился о стекла, стлался по полу. Безысходная тоска, казалось, выглядывала из каждого угла осиротевшей хаты.
До самых сумерек голосили они. Забыли и про обед, забыли обо всем на свете. Однако Здориха, услышав из своего двора их отчаянные вопли, пришла узнать, что у них случилось, и насилу добилась от Христи, что они оплакивают отца. Одарка принялась утешать Приську, говоря, что это еще, может быть, и ложь, – чего только люди не придумают? – но этим еще больше расстроила несчастную, и та зарыдала сильнее. И так ее слезы душат, что слова вымолвить не может. Невеселая и с тяжелым сердцем вернулась Одарка домой.
Смеркалось. Точно серый туман колыхался над землей. В хате черным-черно; только замерзшие окна сереют, как глаза, покрытые бельмом, и тихо-тихо, как в могиле. Умолкли дочь и мать. Всему наступает конец – и слезам, и рыданьям; хрипнет голос, иссякают слезы, каменеет сердце. На смену слезам приходят тяжелые воспоминания, мысли – одна другой безотрадней, безутешней. В сгущающейся темени они ширятся, проясняются; минувшее встает перед глазами, точно оно только недавно пережито; приходят люди – живые люди; слышен их говор – живые голоса, их жалобы, смех, радости, слезы…
Не миновали эти мысли Христю и Приську. Забившись в темный угол, Христя тупо глядела в замерзшие стекла, и на их светлом фоне вырисовывались черты покойного отца… ее отца, низенького, плотного, круглолицего, с рыжими усами и карими добрыми глазами. Такой он был – добрый, отзывчивый; недаром говорят: глаза – зеркало души… Он не только никогда не обижал ее, а бывало, и заступится, когда мать начнет бранить. И с людьми он такой же был – скорее своим поступится, чем на чужое позарится. Мать, рассердившись, бывало, скажет: «Что ты за человек? Ты – мямля, за себя постоять не можешь!» А он ей в ответ: «От бешеного пса, хоть полы отрежь, а беги!» И таким она его помнит всегда: даже нетрезвый – сразу ляжет спать, не так, как другие: на копейку выпьет, а домой придет, все вверх ногами перевернет. И вот теперь его нет… «Где он? Слышит ли наши жалобы? Видит ли наши слезы?… Душа, говорят, с девятого дня после кончины летает по свету – может, и его душа теперь среди нас?» Как бы она хотела еще раз поговорить с ним!.. Расспросить, как там – на том свете? Говорят, смерть всех равняет; говорят, на том свете все не так, как тут: здесь было голодно и холодно, там – сытно и тепло; тут душа не знала покоя, там – возрадуется сердце; тут был мужиком, там станешь паном… Значит, и отец ее теперь роскошествует?… Хотела бы она его увидеть паном. Она попросила бы у него и для себя господской жизни… А впрочем, ну ее! Все паны такие неискренние и спесивые – только душу загубишь; пусть уж лучше на том свете… А на этом? Немного бы больший достаток да одежонку праздничную: а то и в будни, и в праздник – все одна! Сапожки бы новые, сережки серебряные – такие, как она видела у Марины, что в городе служит, когда она приходила домой проведать родных. Хорошо бы к серьгам и перстень иметь, тоже серебряный, и по руке, а не большой, как у Горпыны: чтобы надеть его, пришлось пряжей обмотать…
И пошла Христя перечислять в уме одну за другой все нужды да вспоминать свои затаенные желания; невелики они, совсем невелики, но даже их нельзя выполнить, и сердце подсказывает, что теперь, со смертью отца, ее мечты уже никогда не сбудутся.
О чем же думает Приська, сидящая на печи, обхватив голову руками? Перед ее глазами проходят прожитые годы – ее доля, горькая доля, которая гнала ее по белу свету, пока не бросила сюда, в Марьяновку. Она – дочь казака, ребенком осталась круглой сиротой: родители от холеры погибли, и родственники все умерли, она одна осталась… у чужих людей, пасла гусей, свиней, телят, пока выросла. А там пошла батрачить на чужих людей. Наконец вдова-купчиха наняла ее за харчи и одежду прислуживать ей в дороге. Богатой и еще не старой, ей не сиделось на месте, и она металась из города в город – в Харьков, Киев, Одессу. Приська, как верная слуга, всюду ее сопровождала, одевала, причесывала, прибирала за ней.
Однажды они собрались в Киев. Перед отъездом Приське все нездоровилось: болели руки, ноги, голова, так, что свет ей был не мил. Однако пришлось ехать. Добрались до Марьяновки, и Приська совсем слегла. Что было дальше, она и вовсе не помнит; опомнилась уже в хате Грыцька Супруна. Он тогда был приказчиком у пана – и там ее оставила купчиха, так распорядился панский управляющий – немец. Выздоровев, она все поджидала, что вот-вот приедет хозяйка и заберет ее. Да, видно, хозяйку не очень беспокоила судьба Приськи, потому что она слишком уж долго не возвращалась. Приська хотела к кому-нибудь наняться, но Грыцько не пустил ее: «Отслужи, – говорит, – раньше за тот хлеб, что съела во время болезни!» Приська осталась.
Там она и с Филиппом встретилась: он был батраком у приказчика. Одна судьба, одна беда людей соединяет. Грыцько злой, крикливый; жена его Хивря ругает Приську, или Грыцько покрикивает на Филиппа… Служанка и крепостной сблизились, жалуясь друг другу на свою горькую долю. Однако Приська успела заметить, что у Филиппа карие глаза и шелковистые усы. Филиппу тоже бросились в глаза стройный стан Приськи, ее кроткий нрав и ласковый голос… Все чаще и чаще они начали встречаться. Увидя, что Филипп погнал скот на водопой, Приська тут же хватала ведра и бежала за водой. Или пойдет Приська за топливом в огород, а Филипп уже тут как тут. Кончился срок отработки, а Приська все не уходит со двора Грыцька и жалуется Филиппу на злую Хиврю.
Однажды сошлись они в саду под яблоней. Филипп сторожил сад, а Приська… как она здесь очутилась, сама не знает, а может, и забыла… Не забыла только Приська, как в ту ночь целовал Филипп ее разгоряченное лицо; как он клялся ей в том, что будет любить ее до гроба, и обещал построить новую хату, как только они поженятся и заживут своим хозяйством. Приська не соглашалась, потому что Филипп был крепостным. «Разве крепостные не люди? – спросил он. – И они ведь живут на земле, а не под землей…» Думала-гадала Приська: что у нее есть, кроме сиротской доли? Голая, босая и простоволосая, а впереди… нужда и нехватка во всем, вечная работа на чужих… Хорошо еще, пока есть здоровье и силы; а если заболеет, вот как недавно случилось? Без родных, без пристанища – хоть ложись под забор и околевай, как бездомная собака. Правду говорит Филипп: и крепостные живут на земле…
И она согласилась. Пошли к управляющему, а тот еще похвалил за то, что она не побоялась стать крепостной. Сказал, что, может, у других барщина страшна, а у них не то… и хату новую обещал, и огород, и землю. В первое воскресенье они и повенчались. Хотя управляющий и обманул их, надавав столько обещаний, но разве ей не все равно, на кого работать? Работала на купцов, теперь будет работать на пана: объезженная лошадь везет безотказно. Да и управляющий не во всем их обманул: хоть не дал огорода и новой хаты, а велел жить по-соседски с Грыцьком – все же у них свое хозяйство. Грыцько, правда, бранится – что за напасть, все на его шею! Хивря ославила Приську на все село: и такая она, и сякая, и неряха, и неопрятная! Но Филиппу и Приське все равно, им не привыкать к брани. Живут они вдвоем тихо да мирно. Через год родился у них сын Ивась, а на другой – дочка Христя. Ивась недолго жил, а Христя росла и росла. И матери отрада: вырастет – помощницей будет.
Так прошло тринадцать лет; на четырнадцатый пришла радостная весть о воле. Это не был слух, какие всегда ходили среди крепостных, а правда – про это и поп читал в церкви. Свободней вздохнули Филипп и Приська: теперь-то они заживут на воле! Через два года получили долгожданную волю. Филиппу дали землю, две десятины. Сколотил он деньжонки на хату – свою хату!.. Господи, какая же это была радость для Приськи. Как она сил своих не щадила, замазывала каждую щель, чтобы в ее хату холод не проник зимой, а дождь летом. Хоть и дорого им это обошлось, все же легче в своей хате – не слышно постоянной ругани Грыцька и упреков Хиври. Работает Приська в своем маленьком огороде, а Христя помогает. Радуется сердце матери, как растет на воле ее дочка. «Тяжело и горько нам жилось, – думала Приська, – может, детям лучше будет?» И она лелеяла надежду: даст Бог, найдется хороший человек для ее Христи, и примем зятя в хату. Филипп уже стареет, и у нее силы убывают, пусть молодые на глазах у старых учатся вести хозяйство; отдадим им все.
Так мечтала Приська, а вышло как?… Что ей теперь делать, как жить на свете? Кто будет в поле работать? Кто заплатит выкуп за землю, подати? Тяжело пришлось им и от того, и от другого… В прошлом году они наконец собрались и купили корову – души не чаяла Приська в приглянувшейся ей телке. Год, как на беду, выдался неурожайный, еле для себя хлеба хватило, а о том, чтобы продать, и не думай. И заработать негде. Около других сел и пивоваренные заводы, и винокуренные, и сахарные, а у них хоть бы что… А тут пристают – давай подушную подать!.. С весны не заплатил первую половину – осенью отдай все! Ругался Филипп со сборщиком, бранила его и Приська. Потом приехал становой, забрал телку и продал ее резнику. Приська чуть не слегла от горя и слез. Но тогда все же Филипп был, он за все отвечал. А теперь? Теперь придут и всю хату растащат. Что она может сделать, больная, немощная? Теперь Грыцько ее сживет со света. Сердце Приськи обливалось кровью. Да хоть бы умер, как люди, дома, а то хотел сделать, как лучше, а выходит – за смертью пошел. Вот теперь ей только и осталось привезти его труп. Как же в такой холод идти в город? У нее ни одежды теплой, ни обуви нет. А если она и доберется как-нибудь – что же, она на руки возьмет его и поплетется домой? А надо еще хоронить, заплатить попу… Господи! У нее же нет ни гроша; последний рубль отдала она ему на соль. Что же, так и бросить его? Пусть его возьмут, распотрошат и закопают как собаку, без попа, без обряда церковного?… В чем его вина?… Разве он сам себя жизни лишил?… Так Бог дал, такая уж, видно, его воля.
И начинает Приська молиться Богу, выкладывает перед ним свое горе. Но напрасно она ломает руки, напрасно подымает глаза к небу: там на холодном чистом шатре только слабо мерцают звезды. Равнодушно глядят они на землю, как гаснущие искры, отражаются в снежинках, словно играют своим светом. А небо, глухое, как пустыня, холодное и немое, точно камень, темным куполом распростерлось над землей, морозом сковало ее, давит, словно хочет задавить ее.
Кто же ее услышит?… Разве жители села? Да и те, вероятно, спят: ни одно окошко не светится, собака и та не залает, все уснуло мертвым сном. Дома, словно могилы, чернеют на снегу. Молчаливые и глухие, они ничего не говорят о том, что творится в них. Счастливая ли доля оберегает сон их обитателей, или горе не дает им забыться в спасительном сне, и они мечутся в смятых постелях?… Точно укрываясь от холода, хаты, казалось, теснее прижались к земле, и только дым, поднимающийся над трубами, свидетельствует о том, что внутри еще теплится жизнь.
Лишь над хатой Притыки не видно дыма. Как услышала Христя про батьку, так забыла обо всем на свете. Огонь в печи тлел, тлел и погас; тепло ушло в незакрытую трубу; недоваренный обед застыл. Наружную дверь Здориха, уходя, забыла прикрыть, из сеней шел холод; в хате хоть волков гоняй! А Приська и Христя не замечают этого. Огнем обжигает их горе, жгут горючие слезы. Горит голова, горят глаза, от горячего дыхания сохнут и лопаются губы.
Ночь проходит. Сереет небо, покрытое тучами, подслеповатыми глазами глядит на землю мутное утро. Зачем? Какую утеху принесет оно, какой выход укажет?
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Из счастья и горя куется судьба – говорит народная поговорка. Только Приськина судьба складывалась не по-людски. Горя у нее и позади и впереди – не окинуть взором, не измерить. А счастья? Только неясные думы о счастье, только напрасные надежды, которые всегда обманывали, разбивались об острые пороги опостылевшей жизни, полной нужды и лишений, утрат…
До сих пор и это было хорошо. Хоть обманчивые надежды красили злосчастную долю. А теперь? Ни одной, самой маленькой, надежды не осталось. Чуть заметно, как уголек среди пепла, тлеет ее сердце, еле обнаруживая признаки жизни; оно еще бьется, чего-то хочет… Так гниет дерево на корню; уж и ветви засохли, и ствол трухлявый, а оно все стоит; ветер ломает сухие сучья, внутри их точит червь, всюду дырки, дупла, один ствол – и тот сгнивший, а оно стоит! Не ветер нужен, а буря, чтобы повалить его. И оно, поскрипывая, дожидается этой бури.
Ждет и Приська свою. А ее все нет! Мысли, как черви, шевелятся в голове, подтачивают ее больное сердце, подрывают последние силы. Вот уже третий день она думает, как попасть в город. Ложась спать, решает: завтра… завтра непременно соберусь… А назавтра жизнь снова ставит свои препятствия: с чем туда сунуться, да и к чему? И снова мучительные думы терзают ее до вечера; целый день держат ее в своих клещах, чтобы к вечеру внушить несбыточную надежду на завтра.
Так, откладывая со дня на день, и не пошла она в город. На третий день из волости прибежал староста и напустился на нее с бранью.
– Все на нас полагаетесь! – кричал он. – А кому это дело ближе – жене или старосте? Постыдилась бы! У меня своих дел не оберешься: что ни день из-за вас, чертей, в волость тягают, а тут еще в город иди, признавай всякого пьяницу, который замерзнет на свалке!..
Через три дня он снова пришел; принес новые сапоги, узелок с солью и платок.
– И денег, – говорит, – пять рублей было, но их на подушную в волости оставили.
– Там же только три рубля им следовало, – сказала Приська.
– Это не мое дело. В волости оставили. Поди сама, там узнаешь.
Староста ушел. Приська глядит на приношения – вот что теперь осталось от Филиппа!.. А Христя еще подливает масла в огонь, говорит матери:
– И платок новый купили, и сапоги… да такие маленькие и красивые! Кому же? А это – соль. Еще что-то в узелке есть.
Она вынула какую-то пачку и начала ее развертывать. Глаза ее разгорелись, когда она увидела три шелковые ленты, сережки с подвесками. Это уже только ей куплено!..
– Смотрите, мама, что отец мне купил, – говорит она матери.
Приська молча отвернулась. Ей горько было слушать слова дочери, больно глядеть на эти покупки. Во что они обошлись? Она, словно окаменевшая, глядела на все это, припоминая случившееся.
Миновала еще неделя. Дни и ночи ползли, как черви, все дальше и дальше отодвигая в прошлое постигшее Приську несчастье. Оно еще, правда, было близко, смотрело на нее своими мертвыми глазами; но, с другой стороны, и жизнь не оставляла ее в покое, она властно стучалась, заводила свою бесконечную песню.
Вот скоро праздник – Рождество… Ежегодно, как ни горька была ее жизнь, а к кутье и кусок рыбы отыскивался, и пироги; ради Рождества и колбасу покупали. А теперь? Где все это взять? А как тяжело ничего не иметь к празднику? Так горько было Приське от этих дум, точно она полыни наелась. Она вспомнила о деньгах, оставленных в волости. За что они удержали лишних два рубля? Разве не все с нас взяли, что нужно было? Пойду, пойду, свое возьму. На гривенник колбасы куплю. Здор кабана колет, за гривенник отдаст колбасу… Может, он или кто-нибудь другой поедет в город – попрошу солонины купить… тоже на гривенник… еще на черный день останется.
На другой день она пошла в волость.
– Тебе чего? – спрашивает старшина.
– За деньгами, – кланяясь, отвечает Приська.
– Какие тебе деньги?
Приська сказала.
– Деньги взял Грыцько. Он сказал, что так и следует. Иди к нему.
Но как же ей идти к Грыцько после горькой обиды, которую он ей нанес? Нет, она ни за что не пойдет. С какой стати ей идти к нему, если деньги прислали в волость?
– А может, Грыцько сам придет в волость, а то к нему идти… и дойду ли я? – говорит Приська.
– Может, и придет. Дожидайся.
Приська присела на крыльце. В волости суета, беготня: один идет туда, другой выходит, третьего ведут… Прыщенко важно выступает и, сверкая глазами, спрашивает: «Ну что, взял?» За ним Комар, низко наклонившись, глухо бубнит: «Засыпал деньгами, а ты еще спрашиваешь, взять ли? Да еще погоди хвастать… что еще посредник скажет». «Сунься, сунься к посреднику, – кричит Прыщенко. – И посредник тебе напоет!..» И пошли со двора.
За ними выходит Луценчиха, багрово-красная, и сердито ворчит:
– Что это за суд? Какой это суд? Три дня продержали, еще три дня сиди! Дома полный разор, а он одно – сиди! Где это видано – неделю держать человека в холодной?…
– Гляди, как мужа жалеет; сама пришла вызволять… соскучилась! – донеслось из толпы.
Луценчиха презрительно оглядела толпу, плюнула и удалилась; хохот сопровождал ее.
«Всюду свое горе, – думала Приська, – а чужим только смех».
– А вот Грыцько череду за собой ведет! – сказал кто-то.
Приська глянула. По дороге, размахивая палкой, шел Грыцько, а за ним плелись, понурившись, человек десять крестьян.
– И это все на отсидку, – заметил другой.
– Конечно! – добавил третий.
Кое-кто захохотал.
Грыцько приблизился к крыльцу. Среди следовавших за ним Приська узнала Очкура, Гарбуза, Сотника, Воливоду. Подойдя к крыльцу, Грыцько поздоровался.
– Тут старшина?
– Тута.
Он вошел в помещение волости и вскоре вернулся оттуда вместе со старшиной.
– Вы почему не платите подушной? – крикнул тот.
– Помилуйте, Алексеич! Разве вы не знаете, какая осень была? Заработка никакого!
– А на пропой есть? – крикнул старшина.
– Из шинка не вылезают, – тихо сказал Грыцько.
– В холодную их! – приказал старшина.
Десятники повели всех в холодную. У Приськи заколотилось сердце. «Ну за что, про что? – стучало у нее в голове. – Разве они виноваты, что не было заработков? Господи, доколе же они будут с бедных людей шкуру драть? И что им поможет, если они будут держать людей в холодной?» Раньше ей никогда не верилось, когда Филипп, бывало, рассказывал, что его хотели посадить в холодную и он еле отпросился. Теперь она все это видела своими глазами. И Луценко сидит за то же. Она слышала, как ему угрожал Грыцько. Видно, Луценчиха жаловалась, да ничего не вышло, только посмеялись над нею. Они и над этими несчастными смеются. Ни жалости, ни сердца нет у них!.. Настоящие собаки, прости, Господи!
Задумавшись, она и не слышала, как старшина допрашивал Грыцька.
– А ты зачем с этой два рубля удержал?
– С кого? – словно не знал, о чем идет речь, в свою очередь спросил Грыцько.
– Хозяйка! Как тебя? О тебе говорят, – сказал ей кто-то из стоявших поблизости.
Приська поднялась и подошла к старшине.
– С нее? – спросил Грыцько.
– Да.
Грыцько усмехнулся.
– Вы же знаете, что мне пятирублевую бумажку дали, сдачи не было. Два рубля у меня осталось; я ей отдам.
– Так вот у него твои деньги, – сказал ей старшина и пошел в канцелярию.
Грыцько двинулся за ним. Приська потянула его за рукав.
– Когда же ты отдашь деньги, Грыцько? – тихо спросила она.
– Тьфу! Как собака пристала! – огрызнулся Грыцько. – Когда будут – отдам. Я про них забыл и отдал вместе с подушной.
– Как же это, Грыцько? С меня следовало три рубля, а ты пять взял.
– Знаю, что три. Я три и посчитал, а пять отдал.
– А мне кто отдаст?
– Кто? Известно, свои придется выложить.
– Так дай сейчас, мне очень нужно.
– Где же я тебе сейчас возьму? С собой денег не ношу. Приди домой, отдам.
– Когда ж прийти?
– Да после праздников приходи.
У Приськи в глазах помутилось.
– Как после праздников? Мне до праздников нужно.
– Что с тобой говорить! Где же я тебе сейчас возьму? – крикнул Грыцько, махнул рукой и скрылся за дверью.
– С него получишь, если лишнее взял! Он отдаст! – послышались возгласы.
– Он у меня полтинник заел…
– А у меня рубль; да еще в холодной поморозил…
– О, на это он мастер! Еще с панщины научился с людей шкуру драть!
Приська вернулась домой задумчивой и нерадостной. Грыцько уже начинает измываться над нею, а это только начало. Сегодня при всех собакой назвал ее. Подумайте! За что? За то, что свое потребовала? Верно говорят – кровопийца! И так глубоко запала в ее душу обида, так берет за сердце, что Приська места себе не находит. Как гвоздь, вошла она в голову. И она не может ее забыть. Нет, я этого так не оставлю. Зачем мне тебя спрашивать, когда прийти за своим? Взял – так отдай! Говорит: нет у него. У кого? – У него нет… Нет, нет… сегодня же пойду. Пообедаю и сразу же пойду. И не уйду из твоего двора, срамить буду перед всем селом, пока не отдашь.
И Приська, пообедав, пошла. Грыцька она застала за обедом. Его глаза встревоженно перебегали с одного предмета на другой, лицо хмурое, чуб торчмя – признак, что Грыцько уже выпил.
– Скоро пришла! – глухо произнес он, увидав Приську.
– За своим, – ответила она резко.
– Подожди же, пока пообедаю, – не то издевательски, не то угрожающе сказал Грыцько.
Приська села на край нар, ждет. В хате тихо; только слышно, как стучит ложка, как шлепает Хивря от печи к столу, как сопит Грыцько. Никто и словом не обмолвится, будто онемели. Но молчание это гнетущее, грозное… Кажется, достаточно произнести первое слово, и оно, как ветер, раздует пламя пожара, и разгорится жаркий, буйный спор.
Приська, понурившись, сидит, прислушивается к этой враждебно-настороженной тишине; глядит, как сверкают злые зеленые глаза Хиври и как по-разбойничьи, исподлобья пялит глаза Грыцько.
Вот обед и кончился. Грыцько встал, перекрестился, принялся набивать трубку.
– Подожди, пока выкурю, – с глумливой усмешкой говорит Грыцько, выходя из хаты.
Приська вся затряслась. Сидит, молчит, дожидается. Не скоро вернулся Грыцько.
– А ты все ждешь? Подожди же еще, пока высплюсь, – говорит Грыцько, ехидно улыбаясь.
Приська не выдержала. Словно кто-то хлестнул ее кнутом изо всех сил – она рванулась, и слезы градом посыпались из ее глаз.
– Грыцько! Бога побойся! – сквозь слезы произнесла она. – Мало ты издевался над нами при жизни Филиппа? Мало крови с нас выпил, когда жили у тебя? Так еще над несчастной вдовой и сиротой потешаешься!.. Бог все видит, Грыцько. Не тебя накажет, так детей твоих.
Туча-тучей посмотрел на нее Грыцько; глаза загорелись от злобы.
– Ты еще грозиться пришла? – крикнул он.
– Бог с тобой, Грыцько! Не грозиться, а за своим пришла. Бога вспомни… Праздник святой идет… Ты будешь есть и пить, а тут гроша нет за душой…
– Денег, говоришь, нет, – откликнулась Хивря, гремя горшками, – а Святки справлять хочешь.
– Разве если мы бедные, так нам уж и есть не надо? – сказала Приська.
– А я тебе вот что скажу, Приська. Коли беда, так еще с перцем!.. Если бы все не проедали и не пропивали, то деньги были бы у вас.
– Хорошо так говорить тому, у кого они есть. А когда и то нужно, и другого не хватает… и подушную заплати, и выкупные отдай… А заработки наши какие? Покойный же один был работник.
– А дочка? Здоровая кобыла такая! Зачем ты ее дома держишь? Пусть пошла бы к людям послужить. Заработала бы, как другие. А то сидит дома и зря хлеб ест.
– Легко тебе, Хивря, говорить, на других глядя. А если бы тебе самой пришлось так бедствовать, не то бы запела.
– С дурной головы и ногам нет покоя! – ответила Хивря.
Приська умолкла. Она увидела, что все ее слова здесь ни к чему. А Хивря каждым своим словом норовит уколоть; лучше уж молчать.
Все молчали насупившись.
– Так как же, Грыцько? – снова начала Приська.
– Я тебе сказал – в волости. Не слыхала? – крикнул он.
– Почему не слыхала? Небось не глухая. Дай же хоть рубль сейчас, а другой уж пусть после праздника.
– Да отдам ли еще после праздника? – зевая, сказал Грыцько.
– Ну, это уж глупости, Грыцько! В суд подам! – пригрозила Приська.
– Подавай… Зачем же ты пришла? Иди подавай! – сердито сверкая глазами, сказал Грыцько.
Хивря покачала головой и тяжело вздохнула.
– Господи! Как это люди забываются! – напустилась она на Приську. – Когда ты такой умной стала? После того, как овдовела? Как у нас жила, хлеб-соль ела, на суд небось не подавала… Старое добро, видно, скоро забывается.
– Что я у вас, даром хлеб ела? Не работала на вас? И когда замуж вышла – панщину на вас отрабатывала. Уж кому, а тебе, Хивря, грешно так говорить!
– Грешно!.. А когда лежала у нас, как та колода, три недели валялась… кто за тобой ходил? Чьи руки не знали отдыха, возясь с тобой? И опять же забыла ты, за кого замуж выходила?
Приська смолчала. Хивря все помнит, забыла только, что, как только Приська выздоровела, она вся измоталась, день и ночь работая на нее. Молчит Приська, а Хивря ее отчитывает:
– Или когда волю объявили. Кто, как не Грыцько, помог вам хату поставить? Он вам и лесу дал на стропила и подпорки. Хоть он и панский, а все же другой приказчик не дал бы. А на кровлю дранку дал… Забыла?
– Что же мне делать, Хивря? – всхлипывая, сказала Приська. – Я помню, спасибо вам. Но подумайте сами: такой праздник идет. У меня же нет ничего. Эти два рубля – последнее, на них только и надежда.
– Где же ты их возьмешь, коли нету? Займи у кого-нибудь, – советует Хивря.
– Кто же мне даст? – плача, говорит Приська.
– Ну, чего вы тут развели турусы на колесах? – сердито крикнул Грыцько. – Болтают вздор обе! Она грозится в суд подать… ну, иди подавай… Страшен мне суд, куда как!.. И нечего тут слюни распускать. Иди – подавай!
Приська поняла, что ее выгоняют. Еще пока полегоньку, а когда Грыцько разойдется, то и кулаки пустит в ход. Разве долго ему рассердиться?
– Господь с вами! – вытирая слезы, произнесла Приська. – Не даете – сами пользуйтесь! Вам больше нужно… Куда мне уж подавать на вас в суд?
И, наклонив голову, вышла из хаты.
– Я так и знал, что придет эта чертова баба! – вслед ей сказал Грыцько.
– Походит, походит, да и отстанет, – сказала Хивря. – А мне новый платок на праздник будет.
Тяжелые мысли и горькая обида гнали Приську домой; болело сердце, слезы заливали глаза. Что ей теперь делать? Жаловаться старшине? Она уже однажды жаловалась ему, а что толку?… Все они друг за дружку держатся, как черт болота, все одним миром мазаны.
Грустная пришла Приська домой. Христя ее радостно встретила:
– Куда же вы, мамуся, ходили, что так замешкались? Жду, жду, не дождусь никак!
Приська, тяжело дыша, безмолвно опустилась на нары.
– А вы и не замечаете, что я в новых сапожках? – щебечет Христя. – Посмотрите, как раз пришлись по ноге, будто на заказ шиты. Таких во всем селе ни у кого не найдешь: из юфти… Глядите же!
Приська с досадой посмотрела на дочь.
– Уже надела! И трепать их начнешь! Больно спешишь. Скинь их и положи на место… За новые больше дадут.
– Как? Разве вы хотите их продать? – с тревогой в голосе спросила Христя.
Приська молчала.
– Это же отец мне купил… Старые уже стоптаны… скоро продырявятся, – бормотала Христя, снимая сапоги.
Как недавно еще радовалась она, примеряя их, и они, как влитые, охватили ее ноги; маленькие, а хоть бы где-нибудь жали!.. Пусть теперь Горпына спрячется со своими, хоть они и на заказ сшиты. Так думала Христя, представляя себе, как все будут удивлены, когда она на праздник наденет новые сапожки, как будут ей завидовать. А вот пришла мать и рассеяла все ее мечты – продавать их вздумала.
Печаль острыми когтями скребла девичье сердце, омрачились еще недавно веселые думы, на глаза навернулись слезы.
– С какой стати продавать их? Это мои… Ну, старые продайте. Зачем было и покупать? – жаловалась Христя.
– Молчи! – крикнула Приська. – Хоть ты мне не растравляй душу, и без тебя растравили.
Христя, чуть не плача, сняла новые сапоги, поставила их на шесток и принялась за работу. Приська, немного отдохнув, уселась за прялку. Она медленно сучит и вытягивает нитку за ниткой; Христя склонилась над вышивкой. Слышно, как жужжит веретено и шуршит ткань в руках Христи. Приська слегка покачивается над прялкой; Христя ниже склонилась над сорочкой. Невеселые думы омрачили их головы и согнули спины. В хате тоскливо, тихо, сумрачно. И некому нарушить эту тишину, некому рассеять тоску… Вот скрипнула дверь в сенях. Ни Приська, ни Христя не поднимают головы, не оглядываются. Кто к ним придет и зачем?
– Здоровеньки были! – раздался с порога молодой женский голос.
– Тетя Одарка!.. Здравствуйте! – первой откликнулась Христя.
– Здорово, Одарка! – глухо произнесла Приська.
– А я вхожу в сени, слушаю – тихо. Думаю, нет никого, и так несмело иду. А они, глядь, сидят и горюют.
– Вот, как видишь, – говорит Приська.
– Мы недавно пообедали. Малыш мой уснул; Карпо ушел. Скучно одной. Пойду, думаю, проведаю тетку Приську, как она там.
– Спасибо тебе, Одарка, – вздохнув, говорит Приська. – Только ты еще добра к нам, а то, кажется, весь мир отвернулся от нас. Садись, пожалуйста, поговорим. Сегодня я впервые после несчастья выходила со двора.
– Где же вы были?
– Куда только я не ходила!
И Приська рассказала Одарке, куда и зачем ходила и чего добилась.
Глухо звучала ее тоскливая речь; молча слушали Одарка и Христя; безрадостен был рассказ.
– Такая тоска взяла меня, Одарка, такая досада!.. Христя плачет, а у меня так сердце запеклось, что и слезы не идут… Кабы земля расступилась, так провалилась бы.
– Бог с вами! – утешает ее Одарка. – У вас вон дочка есть; надо ее в люди вывести, устроить. Кто о ней позаботится без вас?
– Добрые люди, Одарка, если они еще не перевелись на свете; хуже ей не будет. Я прожила свой век сиротой среди чужих и, видите, не пропала; будет беречься – и она проживет; а не будет – это ее дело… А мне уж хватит мучится на этом свете, глядеть на него не хочется.
Одарка, обычно веселая и разговорчивая, слушая эти печальные речи, и сама загрустила. Ей казалось, будто выходец с того света жалуется на свою горькую долю. Вот-вот замрет последняя жалоба на ее устах, и она умолкнет навсегда. «Такая наша жизнь, такая нам выпала доля!» – думает она, глубоко вздыхая. А Христя еще ниже наклонилась к шитью и молчит. Одна Приська не унимается.
– Такая ли у нас жизнь, Одарка, чтобы жалеть о ней? Одни горькие слезы, людские укоры, нужда и горе. Вот праздник идет; другие радуются: для них праздник – отдых, гулянка; а нам чему радоваться? Чем его встречать и провожать? Ни взвару, ни рыбы, ни колбасы, чтобы разговеться, и купить не на что. Думала я, что Грыцько отдаст хоть рубль; говорит, что нет у него, а я знаю, что есть… Что ж делать? Новые сапоги купил Филипп Христе; она рада обновке, а теперь придется эти сапоги продать или заложить. Вот тебе и радость!
И Приська заплакала. Начала всхлипывать и Христя.
– Не плачьте, вот послушайте, что я вам скажу, – начала Одарка. – Какая вам рыба нужна? Соленая? Завтра или послезавтра Карпо поедет в город; я ему дам свои деньги, скажу – вы дали. Пусть купит. А вы отдадите.
– Одарка, голубка моя, – сквозь слезы сказала Приська, – сам Бог тебе заплатит за то добро, что ты для нас делаешь.
– Да стойте, не перебивайте, – снова начала Одарка. – На двугривенный или на пятиалтынный?
– И на пятиалтынный хватит.
– Ну ладно. А взвар у меня есть. Фасоли или гороху вам надо будет – берите сколько угодно; у нас его никто не ест, а вам, может, для пирогов пригодится. Пусть Христя идет со мной, мне уже пора – дитя, верно, проснулось, – да и возьмет сколько вам нужно.
Христя, идя вслед за Одаркой, говорила ей:
– Спасибо вам, тетечка, большое спасибо! Вы так нам помогли: теперь, может, и сапожки не продадут… А то подумайте сами, праздник идет, старые сапоги совсем износились, а новые задумали продать. Такая меня досада взяла, когда мама сказала: положи их, за новые больше дадут… Так и заколотилось сердце. Другие к празднику обновки себе справляют, а мне сапожки купили, так и те отбирают!
Слушая быстро льющуюся речь Христи, Одарка вспомнила свои девичьи годы. Так и она когда-то радовалась каждой обновке. А теперь?… «Все это исчезнет, как призрак, – думала она. – Все минет, забудется, когда взглянешь в суровое лицо жизни… Куда девичья радость денется, куда веселые думы улетят? А вспомнишь эти счастливые годы! И беда не страшна, и слезы быстро высыхают…» И Одарка с удовольствием слушала щебетание Христи.
Впервые за это время легче вздохнула Приська. Словно кто-то камень снял с сердца, остановил слезы. Неясные мысли плывут в голове. «Хорошо, когда добрый человек найдется… хорошо…» – шепчет она.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Наступил и канун праздника – сочельник. Благодаря Одарке Здорихе Приська встречает его не как-нибудь; и еды вволю, и пирогов, еще и водки осьмушку купили. Всего понемногу, да некому есть, некому пить, некого поздравлять. Надкусив пирог, Приська вспоминает Филиппа и плачет. Какая уж там еда, когда слезы заливают глаза. Глядя на Приську, плачет и Христя. Больше слезами, чем яствами, расставленными на столе, насытились они и невеселые легли спать.
Наступили Святки. Пока собирались и наряжались в церковь, пока там молились – все было похоже на праздник. День выдался погожий, солнечный; потоки света льются с неба, ярко сверкает земля в белоснежном уборе; даже глаза слепит от сияния. И не очень холодно; морозец небольшой. Во дворах, на улице, около церкви толпятся люди, да все в праздничной одежде, чисто вымытые, румяные. Праздник чувствуется во всем – и в выражениях лиц, и в праздничном, согретом солнцем, воздухе; и дышится как-то легче, и горе забывается; на душе радость, покой. Вместе с другими повеселели Приська и Христя. Приська молилась в церкви, а Христя болтает с подружками на кладбище. Она так давно с ними не встречалась: после Николина дня ни разу не выходила ни на посиделки, ни на попряхи [Попряхи – дневные сборища девушек в чьей-нибудь хате для совместного прядения.]. Как привязанная просидела почти три недели около матери. Девушки оглядывают ее, хвалят ленты, монисто, сережки, любуются сапожками, рассказывают, что без нее происходило на посиделках: как чернявая Ивга поссорилась с Тимофеем и ходила к ворожее, чтобы та их помирила; как Федор ежедневно спрашивал, не видел ли кто-нибудь ее, Христю.
– Он тебя крепко любит, хоть отец и ругает его, – сказала Горпына Педькивна, подруга Христи, высокая белокурая девушка, первая хохотунья на селе.
– А мне все равно, – сказала Христя.
– Вот вспомни черта, а он и рога выставит! – крикнула, смеясь, Горпына.
Христя оглянулась. Прямо к ним шел парень, высокий, белокурый, в синем суконном кафтане, подпоясанном коломянковым кушаком, в серой барашковой шапке. Это был Федор Супруненко.
– Здорово! С праздником! – приветствовал он девушек, подойдя к ним.
– Здорово! – ответили девушки, а Христя промолчала. Пока Федор здоровался с другими, она отошла немного в сторону, а потом скрылась в церкви. Федор послушал девичье смешливое перешептывание и, ничего не сказав, удалился в церковь. Дружный девичий хохот проводил его, но он и не оглянулся.
– Вот так привяжи хлопца и води его за собой! – сказала низенькая рябая Педора.
– Вольно ж ему, как сумасшедшему, самому на глаза лезть, – сказала Горпына. – Христя от него убегает, а он, как репей, прицепился.
– Что вы тут обо мне мелете? – отозвалась Христя, незаметно подойдя к девушкам.
– Да вот Педора завидует тебе, что Федор, видишь, не за ней увязался, – смеясь, сказала Горпына.
– Он, кажется, скоро за всеми будет бегать, как щенок, – мрачно ответила Христя.
– Муха такая укусит!.. – шутит Горпына. – Вот если бы со всеми хлопцами то же было!
– То что б тогда случилось? – спросила какая-то девушка.
– Может, наша чернявая Ивга вышла бы замуж, – говорит Горпына. – А то пришла в церковь Богу молиться, но увидела Тимофея… Он от нее удирает, по пояс в снегу увяз, а она за ним – бежит наперерез. Застукала его в проходе между оградой и деревьями и до сих пор там торчит.
– Богу молятся? – сказал кто-то, и неудержимый хохот раздался в ответ.
– Да тише вы, не гогочите… еще батюшка в церкви услышит, – предостерегает кто-то из толпы.
– Если батюшка – то не беда. А если старый дьяк услышит, – говорит Горпына, – то заставит ему подпевать. Вот горе будет!
Девушки снова дружно хохочут, а Горпына не унимается, все болтает и шутит без умолку. Христя тоже смеется. Да и как удержишься – эта Горпына, кажется, и камень рассмешит.
Время идет быстро. Не заметила Христя, как из церкви вышли, а тут подошла мать, дернула ее за рукав и сказал:
– Пора домой.
– Гляди ж, Христя, я за тобой забегу, пойдем колядовать.
Вернулась Приська с дочерью домой, да лучше бы не возвращалась!.. Христе еще мерещится девичий смех, их веселые прибаутки, поговорки, а здесь, в хате, тихо и тоскливо. Мать такая невеселая. Сели разговляться, а Приська в слезы.
Хорошо праздновать счастливым да богатым, а если горе на душе, тоска грызет сердце, тогда и праздник не в праздник! Время ползет, словно калека, тоска гадюкой обвилась вокруг сердца, безотрадные мысли полонили голову. В будни хоть забавы и хлопоты отвлекают от тяжелых дум, а в праздник им раздолье, ничто их не рассеет. И даже веселье других вызывает грустные воспоминания: раньше было не то, оно радовало, а теперь?… Никогда уже не вернется это время. Плачут горькими слезами люди о безвозвратной потере. Плакала и Приська.
После обеда на минутку забегала Одарка Здориха. Молодая, пышущая здоровьем, она, как птичка, наполнила хату своим веселым щебетаньем и, как птичка, упорхнула.
«Счастливая, здоровая, – подумала Приська. – А у меня ни счастья, ни здоровья…»
Она легла отдохнуть, но ей не спалось.
Христя тоже скучает, не знает, куда деться. Посмотрит на мать, молчаливую и тоскующую, и побежит на улицу поглядеть на людей, снующих парами и в одиночку. Издалека доносится девичья песня, громкий говор хлопцев. Она побежала бы туда, там и время пройдет незаметно, но мать не разрешает. Еще хорошо, что обещала пустить на колядки, а то давеча она говорила: зачем ты пойдешь? Надо ли тебе туда ходить? Давно ли отца схоронили, а у тебя песни и забавы в голове… Словно тупым ножом резали эти речи сердце Христи, напоминали о случившемся несчастье, о сиротской доле. Ей слышались людские укоры: не успела отца похоронить, а уже идет на гулянку!.. Печальной и назойливой кажется ей веселая песня. Но, как назло, звонкие девичьи голоса доносятся до ее слуха… льется знакомая и любимая песня… она звенит в ее сердце, так и хочется подхватить ее, запеть во весь голос. Христя отворачивается, чтобы не слушать ее, а вокруг гомонят захмелевшие люди, возвращаются домой и вслух высказывают свои затаенные думы. А пройдут дальше, тихо станет – и снова тоскливо делается. «Господи! Хоть бы день скорее прошел!» – думает она.
В сумерки забежала Горпына.
– Скорее, Христя, одевайся, уже все наши в сборе.
– Куда это? – спрашивает Приська.
– Колядовать, мама.
– Лучше бы ты не шла, дочка.
Христя посмотрела на Горпыну.
– Тетечка, голубушка, – затарахтела Горпына. – Пустите ее. Пусть хоть немного проветрится. Вы ж поглядите, как она извелась.
Приська только рукой махнула.
– Да иди уж… Что с вами поделаешь? Не балуй только там.
Подружки рады-радешеньки, взялись за руки и побежали со двора.
Приська осталась одна. Нудно ей и тяжело в хате, одолевают невеселые мысли. Она вышла на улицу.
Смеркалось. Голоса колядующих уже доносились со всех концов села; возвращались домой гости; слышался воркующий женский говор и грубоватая мужская речь. Село было полно веселого гомона, словно спешило шумно повеселиться перед наступлением ночи; там скликали свиней; там ревела скотина в стойлах; во дворах сновали женщины с подойниками в руках.
«Хлопочут люди, а мне заботиться не о чем», – думала Приська, выходя из калитки на улицу. Около соседнего двора стояла Одарка и смотрела на прохожих.
– Здравствуйте, тетка, – крикнула она Приське. – Проветриться вышли?
– Как видишь… Христя пошла колядовать, а меня тоска выгнала из хаты. Пойду, думаю, хоть погляжу на людей.
– Вы бы, тетечка, к нам пошли посидеть. Карпо, как ушел после обеда, так еще не возвращался. Дети беспокоятся: где отец? Вот вышла поглядеть. Где-то, видно, задержался… Идите к нам, тетечка! Уже Миколка по вас соскучился. Почему, мама, бабуся к нам не ходит? – все допытывается.
– Спасибо тебе, Одарка. Я б и пошла, так не на кого хату оставить.
– А вы заприте хату. Кто там придет? Идите, тетечка, посидим, погутарим.
Приська не заставила себя долго просить. Запереть хату было нечем; хорошо, что на сундуке замок есть, а то еще и хату запирать. Да и от кого? В селе свои люди, всем известные, наперечет, на виду. А какой чужак забредет теперь в село? Закрыла Приська дверь, сквозь щеколду палку просунула – и все.
Детвора несказанно обрадовалась Приське.
– Бабуся, бабуся пришла! – закричал Миколка и забрался на руки к Приське.
– Ба-ба, ба-ба, – лепетала маленькая Оленка, простирая к Приське ручонки.
Дети очень любили Приську. Она умела их забавлять. То, гляди, хлебушка принесет и говорит: это я у зайца отняла. А детям этот черствый кусочек хлеба кажется вкуснее медового пряника. И на этот раз Приська захватила с собой два пирожка с фасолью, и малыши принялись их с аппетитом уминать. Одарка тоже была рада гостье – с ее приходом угомонились дети, да и самой приятно с добрым человеком словом перемолвиться.
Завязалась беседа. Одарка вспоминает свою жизнь, Приська – тоже. Хотя речи были не особенно веселые, но за разговором они не заметили, как стемнело. Дети, наигравшись вдосталь, захотели спать. Приська уже собралась домой, но Одарка воспротивилась:
– Посидите, тетечка. Поговорим еще. Я колбасу поджарю, закусим; а тем временем, может, и Карпо подойдет.
У Приськи почему-то сердце заболело, когда Одарка упомянула Карпа. Почему же? Вспомнился ей Филипп, которого ей также приходилось ждать… Теперь она уже его никогда не дождется! Сердце ее словно клещи сдавили.
Одарка, не мешкая, разогрела колбасу, зажарила яичницу и просила Приську закусить. Только Приська взяла кусок колбасы и поднесла его к губам, как за дверью кто-то завозился.
– Это, должно быть, Карпо, – сказала Одарка. И не ошиблась.
Карпо – еще молодой человек, осанистый, широкоплечий, крупный в кости; голова большая, круглая, как тыква; глаза серые и всегда спокойные, ясные, казалось, никогда не видели горя. И голос у него ровный, приятный и вид добродушный, довольный.
– Здравствуйте, тетка! – поздоровался он с Приськой. – Сколько лет, сколько зим! Давно, давно вы в мою хату не заглядывали. Я уже Одарку бранил: может, говорю, рассердила чем?
– Бог с тобой, Карпо! Разве твоя Одарка такая, как другие? Только с нею и отведешь душу. А что не ходила к вам, так ты и сам хорошо знаешь почему. С таким горем и людям на глаза показаться неохота: сидела бы все дома, как истукан… Оно и лучше было бы – сразу окаменеть!
– Пусть Бог милует! Я вот все вас отстаивал, – сказал Карпо.
У Приськи от удивления глаза расширились.
– Что еще там такое? – спросила Одарка.
– Да пока ничего. Дурной этот Грыцько. Что он за вас взялся?
– Супруненко? – спросила Приська. – И сама не знаю. Ни в чем я перед ним не виновата. А он все пристает. Ненавидит меня. Цепляется, как репей к тулупу. Одно – точит, как червь дерево или ржавчина – железо.
– Еще со времени барщины привык людьми помыкать, так и сейчас не отучился, – сказала Одарка.
– Ну и человек! Бога не боится и людей не стыдится. Теперь к тому гнет, чтобы землю у вас отнять. Захожу в шинок, а он сидит с нашими богатеями: Горобцом, Вербой и Маленьким. Сидят, пьют. Грыцько, увидя меня, говорит: «Вот, Карпо, мы о твоей соседке речь ведем». «О какой соседке?» – спрашиваю. «Да о какой же, как не о Приське». – «А в чем дело?» – «Ты бы, – говорит, – не согласился взять на себя ее землю?» – «На что?» – говорю. «Как на что?» – И начал доказывать, что если землю вашу не забрать, то земля у вас будет, а подати другим платить придется. «А чем же она жить будет, – спрашиваю, – если у нее землю отберут?» – «Проживет, еще как! И сама здоровая. И дочка у ней как кобыла, хоть сейчас запрягай! С хлопцами небось ржать умеет, а к делу не приставлена». – «Никто, – говорю, – не ведает, как кто обедает! А я хорошо знаю, что как не стало Филиппа, то Приське не сладко жить придется. А если у нее еще землю отобрать, то ей только останется по миру пойти…» Как вскочит тут Грыцько, как заорет: «Так и ты с ней заодно? Ну, ладно! Мы решили эту землю тебе отдать, а не хочешь – я и сам ее возьму. Платить буду, но хоть не даром». – «А это, – говорю, – как мир скажет». – «Мир? Ты знаешь, что твой мир у нас в руках? Вот здесь, в кулаке, у меня сидит! Захотим – дадим жить, захотим – задавим. Что твой мир? Да вот Панасу, – он указал на Горобца, – надо в ноги кланяться и благодарить, что подушную за все село до копеечки заплатил. Пять сотен сразу выложил. А когда вы, чертовы лодыри, отдадите? Свои деньги сразу выкладывай, а с вас по копеечке собирай… Уж коли на то пошло, то мы твой мир в холодную запрем, пусть там полязгает зубами!..» Как напустился на меня – так куда тебе!.. Будь ты, думаю, неладен!.. Взял шапку – и прочь оттуда, да прямо домой и пошел.
Приська слушала, все ниже склоняя голову. Как это отобрать у нее землю? Кто ж осмелится? Да и как это можно? А она с чем останется? С голоду ей пропадать?
Безрадостные мысли щипали сердце, черной тучей омрачили душу. Она сидела неподвижно за столом, держала в руке пирог, но даже маленького кусочка не могла проглотить, а слова не шли с языка.
– Не печалься, тетка! – утешает ее Карпо. – Пусть они только сунутся. Я первый крик подниму. Не их, богатеев, мир послушает. Им хорошо – денег награбастали с нашего брата, богатеют; а мы знаем, как прожить без гроша за душой… Не послушает их мир. Никогда! Как это они думают с пьяных глаз с миром справиться? Как можно так с людьми обходиться? Еще поглядим, чья возьмет! Их – трое, а нас сотня. Пусть не задирают нос, коли хотят в миру жить… Не печальтесь!
Не утешают Приську эти речи. Перед глазами грозное лицо Грыцька. Он – всесильный человек. Как захочет, так и повернет дело; если уж задумал кого доконать, так добьется своего.
Смертельно бледная и мрачная встала Приська из-за стола, попрощалась и пошла домой.
Еще более тяжелые и черные мысли навалились на нее дома, гнетут и без того наболевшее сердце. Христя еще не вернулась. В плошке, стоящей на шестке, еле мигает фитилек в мутном масле, легкие тени снуют по серым сырым стенам, по закопченному потолку. Склоняется на грудь поседевшая голова Приськи, и встает перед глазами ее горькая вдовья доля: убожество, нужда, людская несправедливость… Не в отчаянных воплях, не в жгучих слезах выливается ее лютая тоска; она безмолвно пронизывает все существо несчастной, покрывает зеленоватой желтизной ее дряблые щеки, полынной горечью поит душу и сердце. «Вот тебе и праздник! В этот день, говорят, Христос родился… новая жизнь началась… а для меня – новое горюшко», – думала Приська.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Где же замешкалась Христя? Почему она не приходит утешить старую мать, делить с ней тоскливое одиночество?
Христя рада, что вырвалась из дому. Бегает с девчатами по селу от двора ко двору, от хаты к хате. Холод рождественской ночи не останавливает молодежь, только заставляет еще проворней бежать. Скрипят сапоги на примерзшем снегу; молодая кровь, разгораясь, ударяет в лицо, греет; звонкий говор оживляет опустевшие улицы; со всех концов доносятся колядки. Развеселилась Христя, глаза сверкают, как звезды на холодном небе. Горе, затуманившее их, тяжелым камнем давившее на сердце, скатилось в ту минуту, когда Христя покинула свой двор.
– Уж нагуляюсь сегодня вволю! – сказала она Горпыне. – Долго я сдерживалась, да наконец вырвалась… А нехорошие вы, девчата! Хоть бы одна пришла проведать, рассказать, что делается в селе, что слышно нового, – щебетала Христя, спеша с подругой на сборище.
Хозяйка хаты, где собирались на посиделки, старая Вовчиха, радостно встретила Христю.
– Здравствуй, дочка! Давно ты у нас не была! И Филипповки прошли, а ты все не приходила. Стыдно, девки… Там у вас несчастье случилось… Но кого оно минует? Никто не знает, что принесет завтрашний день: сегодня жив-здоров, а назавтра, гляди, уж и не стало тебя. Все под Богом ходим. Его святая воля!.. Дай-ка, я хоть погляжу на тебя. Иди ближе к свету.
И старая курносая, как сова, Вовчиха начала вертеть Христю на все стороны, заглядывала ей в лицо, в глаза.
– Похудела, девка, подурнела… От горя? Ничего, молодая – пройдет… А тут у меня отбоя нет от хлопцев: все пристают, почему да отчего, тетка, Христя к тебе не приходит? А я почем знаю? Идите, говорю, доведайтесь. И сегодня уже забегал один – будет ли Христя?
– Я знаю, кто это был, – сказала Горпына.
– Нет, не знаешь.
– Так скажи кто? – спросила Христя.
– Ага, хочется узнать? Не скажу, за то, что не приходила.
– Как же мне ходить? – оправдывалась Христя. – И грех, и мать не пускает.
– Невелик грех… А мать поймет: разве она не была молодой?
Запыхавшись, в хату вбежали несколько девчат. Разговор прервался.
– Гляди! Они уже тут, а мы сдуру за ними бегали. Прибегаем к Горпыне, говорят – пошла к Христе, а у нее и хата на запоре. Поцеловала Химка засов, да и назад вернулась.
– Врешь! Сама целовала, а на других кивает, – отрезала Химка.
– Да то Маруся целовала, – вставила третья – еще подросток, указывая на свою старшую сестру.
Маруся только оттопырила губы. Девичья болтовня на мгновение умолкла.
– Еще много наших нет? – спросила Горпына, оглядывая собравшихся. – Нет Ониськи да Ивги. Знаете что? Пока они придут, поколядуем здесь!
– Давайте! Давайте! – подхватили другие. Горпына подбежала к хозяйке.
– Благословите колядовать! – крикнула она.
– Колядуйте! – сказала Вовчиха.
Девчата стали в круг, откашливались. Горпына начала…
Зычный ее голос разнесся по хате, как звон колокола. Будто монахиня сзывала на молитву своих подруг. Все притихли, слушая этот призыв.
И сразу подхватили:
Славен еси! Ой, славен еси, Наш милый Боже, На небеси!Снова призыв, и снова повторяют «Славен…». Колядка была длинной-предлинной. Наконец пришли и опоздавшие: Ониська мышастая и Ивга-толстуха.
– Насилу вырвались! – оправдывалась Ивга. – Забегаем к одной – пошла, говорят, туда; ко второй – пошла в другой конец. Как пошли искать, насилу разыскали. А тут идем к вам – встречают хлопцы. «Куда, девчата, чешете?» Мы от них, а они за нами… Еле убежали!
– А Тимофея так и не видела? – усмехаясь, спросила Горпына.
Широкое черное лицо Ивги еще сильнее почернело; глаза загорелись.
– Пусть он к тебе на шею вешается! – сердито ответила Ивга.
– Тю-тю, дурная! Я шучу, а она принимает всерьез, – говорит Горпына.
– Гляди, поссорятся… А грех! – вмешалась Вовчиха. – Свои, а поладить не могут… вишь ты! – И старуха покачала седой головой.
– Чего же она мне в глаза тычет Тимофеем? – не унимается Ивга.
– Ивга! Хватит! – прикрикнули на нее девчата.
– Хватит вам спорить, пора собираться! – напомнили другие.
– Пора, пора… Прощайте, мама.
– С Богом, дети, счастливо! А колядки пропивать ко мне.
– К вам! К вам! – И гурьбой повалили из хаты.
Ночь ясная, морозная. Лунный серп высоко плывет в чистом небе, сверкает; вокруг него столпились звезды, как рой около матки, как маленькие пряники вокруг доброго каравая хлеба, – так они блестят и маячат на небе; а он так радостно светит на весь мир, выстилает светлой пеленой заснеженную землю, сверкает в снежинках сизыми, зелеными, красными и золотистыми огнями, словно кто-то раскинул по земле огромное монисто из самоцветов. В прозрачном воздухе морозно, безветренно, но от холода захватывает дыхание. Отовсюду доносятся скрип, треск, шум… Там скрипят десятки ног, перебегая через улицу; около хаты слышится «благословите колядовать!», а там, с дальнего конца, доносится пение коляды… Веселый гомон поднимается над селом, будит застывший воздух, кривые улицы, уснувших собак во дворах… Живет, гуляет Марьяновка! Свет горит в каждой хате; у всех гости, а не гости, так пир в домашнем кругу.
Девчата выбежали со двора Вовчихи, разделились на несколько групп. Горпына и Христя идут рядом.
– На кого это мать намекала? – спросила Христя.
– На кого? Известно, на Федора, – ответила Горпына и побежала вперед.
Христя немного отстала. «Неужели Федор так привязался ко мне? – думает она. – Спрашивал, буду ли я? Подожди, встречу я тебя где-нибудь, так уж добьюсь правды, да и за нос повожу!.. Если отец твой говорит, что я свела тебя с ума, так пусть уж не на ветер слова бросает».
Христе так хорошо, легко на сердце, радостно… Есть такой, что и по ней тоскует, любит ее. Она не последует примеру чернявой Ивги, да та еще сердится, когда ее дразнят Тимофеем. Нет, она не станет за ним бегать; а сама приберет его к рукам. Христя, хитро улыбаясь, придумывала, как ей лучше поддеть Федора при встрече. Ею овладело то девичье лукавство, которого она уже давно не испытывала.
– Пойдем, девчата, к Супруненко колядовать или минуем их? – спросила она, догнав подруг.
– Пойдем, зачем миновать? Этот конец обойдем, а потом на другой.
– Вы идите, а я не пойду, – сказала Христя.
– Почему?
– Боишься, чтобы Грыцько палкой не огрел? – пропищала Ивга.
– А ты иди, иди. Как бы сама палки не отведала!
– А мне за что?
– За то же, что и мне.
– Ты же, говорят, его Федора околдовала.
– Мало ли что говорят. И о тебе разное плетут.
– А про меня что?
– Сплетен не оберешься, – уклончиво сказала Христя, чтобы не заводить ссору.
А тут и хата Супруненко показалась.
Девчата подошли к воротам.
– Ну, идем! – крикнула Горпына.
– А если и вправду палкой стукнет, да еще собаку науськает? От него всего можно ждать. Да и спать уже, видно, легли, темно в хате, – сказала какая-то девушка.
– Ты что, слепая? – крикнула Горпына. – Вот же окошко светится.
Девчата остановились у плетня.
– Светится, в самом деле светится!
– Заходите! – скомандовала Горпына и побежала во двор.
Рябая здоровенная собака на привязи около сарая громко залаяла.
– Вот расходилась! Хозяин не лучше тебя, да не лает, – сказала Маруся, побежав следом за Горпыной.
Другие, громко смеясь, тоже пошли во двор. Передние уже были под окном, тогда как задние топтались около калитки, выламывая хворостину из плетня.
– Благословите колядовать! – крикнула Горпына, заглядывая в окно. Стекла замерзли, и, кроме желтого пятна света, ничего не было видно.
– Благословите колядовать! – еще раз крикнула Горпына, не дождавшись ответа.
– Кто там? – донеслось из хаты.
– Колядники. Благословите колядовать.
– Вот я вам поколядую! Чертовы дети! Вместо того, чтобы спать, они ходят под чужими окнами, собак дразнят.
Несколько девчат засмеялось, другие пустились наутек; осталась Горпына и с нею еще три подружки.
– Да тише вы! – крикнула Горпына, прислушиваясь к тому, что происходит за окнами.
– Вот я сейчас! Подождите немножко! – послышался голос Грыцька.
– О-о, видите – «подождите!» Он таки впустит нас, – подбадривала Горпына девчат, которые уже собирались убежать.
Дверь скрипнула, из сеней донесся какой-то шорох. Собака на привязи чуть не разрывается! То бросится в одну сторону, то прыгнет в другую, даже веревка трещит.
Наконец дверь из сеней приотворилась, и наружу высунулась кочерга. Девчата, увидя кочергу, – только дай Бог ноги! – мигом выскочили со двора, а кто потрусоватей – побежали вниз по улице. Одна Христя стояла на дороге и заливисто смеялась.
– Ну что, досталось?
– Я вас! Я вас, бесово отродье! – орал Грыцько. – Бог праздник дал, весь день гуляем, а теперь отдохнуть негде – ходят, глотки дерут и добрым людям не дают покоя. Рябко! Куси их!
– Куси, Рябко, лысого! – откликнулись девчата.
– А что заработали? – кричала одна.
– Всего набрали – аж сума продралась! – добавляет другая.
– Заработали – насилу ноги унесли! – вставляет третья.
– У такого богача заработаешь! – сердито бросает Горпына.
А чернявая Ивга передразнивает Горпыну: «Благословите колядовать!..» И ее смех разносится по улице.
В это время Грыцько спустил Рябка с цепи. Лютая собака с злобным воем, как ветер, помчалась вдоль огорода, прыгая на тын.
– Тю! Тю! – выкрикивали девчата, быстро убегая.
– Благословите колядовать! – повторяет Ивга.
– Убирайтесь к бесу! Мне и Рябко наколядует, – передразнивая Грыцька, грубым голосом крикнула Христя.
Безудержный хохот девчат бурей промчался по селу.
– Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Уже далеко отбежали от двора Супруненко, уж и на другую улицу свернули, а хохот все не умолкал. Долго он еще оглашал морозный воздух и вызывал сердитый лай дворовых собак.
От Супруненко направились к богатому казаку Очкуру. Старая Очкуриха с почетом приняла дорогих гостей, угостила на славу, да еще и двугривенный дала. Повеселевшие вышли девчата из очкуровского двора и направились к попу. Там пришлось раз шесть колядовать: батюшке, матушке, их детям. Хотя батюшка денег им не дал, зато матушка хорошо накормила и напоила, а как пошли – у некоторых зашумело в голове. Ивга едва не уронила пирог, которым наделила их матушка; как наиболее здоровая, она была носильщицей. Но ее пришлось сменить, а лицо чернявой Ивги натирали снегом, чтобы она очухалась. Смех, хохот, шутки… и снова смех.
Веселая пора колядки. Недаром девчата их ждут не дождутся; и нагуляешься, и нахохочешься вволю.
На Христю точно нашло: не было того двора, из которого она, выходя, не передразнивала бы хозяев, не посмеивалась бы над подругами, не дразнила бы палкой собак.
– Это, Христя, не к добру. Что-то с тобой случится, – говорили девчата.
– Гляди, раков ночью не налови, больно много хохочешь, – зло ввернула Ивга.
– Это твоя привычка, – смеясь, ответила Христя.
– Или когда домой вернешься, мать побранит, – сказала маленькая Приська.
– Пусть бранит, зато повеселюсь! – ответила ей Христя.
С соседней улицы донеслись мужские голоса.
– Девчата! Хлопцы!.. – сказала одна.
– Хлопцы-поганцы! Ведьма родила того, что в шапке! – крикнула Христя.
– Тю! – откликнулись хлопцы.
– Тю-ю-ю! – снова крикнула Христя.
– Христя, не трогай их, может, это чужие! – сказала Горпына.
– А если чужие, так что?… – И еще громче крикнула: – Тю-ю-ю!
– Тпррр!.. – дружно раздалось невдалеке. Христя хотела уже передразнить, но слова застряли в горле.
Вскоре эти звуки повторились настойчивей. Большая ватага хлопцев в белых тулупах, серых шапках показалась на улице; они двигались лавой, поскрипывая сапогами по снегу. Девчата пустились врассыпную.
– Лови! Лови! – закричали хлопцы.
Поднялся крик и беготня. Хлопцы ловили девчат, здоровались, шутили… Это были все знакомые – свои: Тимофей, Иван, Грыцько, Онисько, Федор. Последний так и бросился к Христе.
– Ты куда разогнался, разиня? – вскрикнула та.
– За тобой. А ты куда убегаешь?
– Зачем мне убегать? Разве ты такой же, как твой отец? Пришли к нему колядовать, а он собак науськивает… Богатей, мироед!
– Христя! Не вспоминай о нем. Разве ты его не знаешь? – умоляюще сказал Федор.
– А что он обо мне говорит? И не грех такое плести?
– Ну и пусть говорит! За язык не удержишь!
– А совесть есть? Фу, постылый! – крикнула Христя и побежала к подругам. Федор, насупившись, пошел за ней.
Девчата мирно беседовали с хлопцами, шутили, смеялись.
– Так пойдем вместе колядовать? – спрашивали хлопцы.
– Не надо, не нужны вы нам. Вы кричите больно, – отнекивались девчата.
– А вы не кричите?
– Все же не так, как вы.
– Да ну! Смотрите, только не перекричите нас!
– Все равно, мы не хотим идти с вами.
– А мы хотим! Куда вы – туда и мы.
– Мы убежим.
– А мы догоним!
– Не удастся. Запутаетесь в полах тулупов и упадете.
– Посмотрим!
Немного еще поспорили, потом поладили. Споры эти были больше для виду; девчата были рады, что хлопцы с ними, – и веселей, и сподручней: пьяный ли пристанет, собака ли набросится – есть кому защитить.
Все вместе двинулись дальше, но отделились и парочки. Ивга словно прилипла к Тимофею, хотя тот больше говорил с другими девчатами. Федор мрачно шагал за Христей. Так и ходили по всему селу, не пропуская почти ни одного двора.
Уже повсюду затихли колядки, уже и в редкой хате виден свет, а наши колядники все еще бегали да выискивали, кому бы поколядовать.
– А вы были, девчата, у матери?
– Были.
– А мы не были.
– Хороши!
– Верно, она еще не спит. Пойдем!
– А пойдем, в самом деле, – сказала Горпына.
– Поздно будет. Вот уж луна заходит, – сказала Христя.
– Пусть заходит. И без нее дорогу видать. А если боишься, проводим домой, – поддержали хлопцы.
Христя отказывалась, отступая.
– Если Христя не пойдет, то и мы не хотим, – уперлись девчата.
Два хлопца подбежали к Христе и, взяв ее за руки, повели вперед.
Месяц совсем спустился к горизонту и лежал над землею, точно каравай; из ярко-серебристого он стал мутно-багровым, на небе мигали потускневшие звезды, да земля светилась своим белоснежным покровом. Не слышно людских голосов, угомонились собаки, только на улицах, где проходили колядники, стоял еще собачий лай и нарушал тишину.
Пока подошли к хате Вовчихи, месяц совсем скрылся, и в хате было темно и тихо.
– Видите, я сказала – не надо идти, мать уже спит, – сказала Христя.
– Разве ее нельзя разбудить? – спросил Тимофей, направляясь во двор.
– Тимофей, Тимофей! – вскричали девчата. – Не буди! Вернись!
Тимофей остановился. Хлопцы настаивали – разбудить мать, девчата говорили – не надо.
– Пусть старуха хоть в праздник выспится. Мы ей и так не даем спать, – доказывали девчата.
Хлопцы согласились, но неохотно.
– Хватит, пора домой, – сказала Ивга. – Идешь, Тимофей?
Тимофей молчал.
– Разве Тимофею с тобой по дороге? – спросила Приська, дальняя родственница Тимофея.
– А тебе какой дело? – заметила Ивга.
– Я Христю провожу, – сказал Тимофей.
– Я не хочу с тобой. Иди с Ивгой, – сказала Христя.
– С Ивгой! – поддержали ее девчата.
– Да, да! – загомонили хлопцы. – Тимофей проводит Ивгу, Грыцько – Марусю, Онисько – Горпыну, Федор – Христю.
– Становись, братцы!
И хлопцы, подойдя к своим девушкам, разошлись в разные стороны, кто – влево, кто – вправо, кто – прямо. Горпына и Христя до церкви шли вместе, а оттуда Христе оставалось еще немалое расстояние до дому. Компания разбилась, пары разошлись в разные стороны.
Горпына и Христя идут рядом, а справа и слева – хлопцы. Онисько, небольшой, в своем длинном тулупе, чуть не волочившемся по земле, смешил девчат: то шутку ввернет, то коленце выкинет. Хохот и шутливый говор не умолкают. А Федор, понурившись, молча шагает рядом с Христей. Ему и приятно идти с ней, и вместе с тем боязно; он тоже хочет поговорить, посмешить девчат, но пока собирается, гляди, Онисько уж рассмешил их. И Федору досадно, что он такой робкий и нерешительный. Недаром отец его считает глупым. «Глупый и есть», – думает он, молча плетясь.
Вот и церковь показалась; она чернеет в ночном сумраке. Вокруг тихо, безлюдно.
– Страшно мне, – вздрогнув, сказала Христя. – Ты вот уже дома, Горпына, а мне еще по пустырю сколько идти. Может, ты меня проводишь?
– Э, нет, сестричка, мне уже спать хочется. Да тебя же Федор и Онисько отведут домой.
– Чего там Онисько, я и один! – сказал Федор.
Девчата простились. За церковью Онисько остановился.
– Так что, Федор, один пойдешь?
– А что ж!
– Так прощайте! Доброй ночи!
– Прощайте. Спокойной ночи!
Христя и Федор остались вдвоем. Некоторое время шли молча. Федор придумывал, что бы такое сказать Христе. Она шла молча, время от времени вздрагивая.
– Ты прозябла, Христя? – спросил Федор.
– И сама не знаю, что со мной, словно лихорадка трясет.
– Если хочешь… – несмело начал Федор, – у меня кожух добрый…
– Так ты его снимешь? А сам в рубахе останешься?
– Я в свитке. А хочешь, полой прикрою – они у меня широкие.
И торопливо расстегнул тулуп.
Христя усмехнулась. Федор увидел, как у нее блеснули глаза. Его сердце екнуло. Он и не помнит, как Христя прикрылась полой и прижалась к нему. Ему так хорошо, тепло, радостно. Оба шагают молча.
– Что, если бы твой отец нас сейчас увидел? – смеясь, спросила Христя.
– Христя! – и Федор притянул ее к себе.
– Не души меня, – ласково сказала Христя.
Федор вздрогнул.
– Пока солнце светит, – сказал он, – пока земля стоит… пока не умру, не забуду я этого, Христя.
Христя звонко расхохоталась.
– Почему же? – спросила она.
У Федора дух захватило, опалило жаром.
– Ты смеешься, Христя… Тебе все равно, – снова заговорил он, – а я?… Отец меня ругает, глупым называет. Я сам чувствую, что сдурел. А тебе все равно, ты смеешься… Голубка моя! – тихо прошептал Федор и крепко прижал Христю к груди.
Она чувствовала, как отчаянно билось его сердце, как жгло ей щеку его горячее дыхание.
– Не балуй, Федор, – строго сказала она.
– Без тебя мне свет не мил и все ни к чему! – сказал он горячо. – Я не знаю, почему ты моему отцу не нравишься. Но кто ему по душе? Все или дурные, или враги… И родятся же такие на свете!
Христя тяжело вздохнула… Видно, Федор в самом деле любит ее, искренне любит. Грешно было бы сказать, что он непутевый. Кроме того, он красивый и добрый, думала Христя. В эту минуту откликнулось и сердце Христи. Горячие и страстные слова Федора дошли до нее. Молча они шли еще некоторое время. Она чувствовала, как рука Федора все сильнее обвивается вокруг ее стана. И не противилась. Ее плечо прикасалось к его плечу, она чувствовала биение его сердца.
– Так бы всегда быть с тобой, – шептал он. – И умереть так…
Они остановились. Христя молчала.
– Вот уж и двор твой! – грустно произнес Федор. – Господи, как быстро!
Вздохнув, она откинула полу тулупа. Федор увидел ее побледневшее опечаленное лицо.
– Спасибо тебе, Федор, – тихо сказала она. – Прощай! – И пошла к калитке.
– Христя! – окликнул ее Федор.
Она оглянулась. Федор бросился к ней:
– Скажи хоть одно слово… Люба моя, милая моя!
Он обнял ее и хотел поцеловать. Христя стремглав метнулась прочь и в одно мгновение очутилась за калиткой. Она сама не знала, отчего ей стало смешно.
Раздался тихий смех.
– Ты смеешься, Христя? Смеешься? – спрашивал Федор, весь дрожа.
– Иди уж, – сказала Христя.
– Господь с тобой, – промолвил Федор и, словно пьяный, побрел обратно по безлюдному пустырю.
Жалость так переполнила сердце Христи, что даже слезы выступили на ее глазах. Она уже хотела крикнуть Федору, чтобы он вернулся, но удержалась. Опершись на калитку, она глядела, как он удаляется нетвердой поступью, все больше скрываясь в сумраке ночи. Его белый тулуп то блеснет, то растает в темноте. Вот его уже и не видно, только еле доносится скрип удаляющихся шагов по снегу.
Потом и шаги затихли.
Христя еще постояла, огляделась кругом, посмотрела в небо на далекие звезды… Тихо и ясно горят они. Она глубоко вздохнула и, съежившись, вошла в сени.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Грустно проходили праздничные дни, бесконечно тянулись длинные рождественские ночи, принося и унося безрадостные думы. Одна только мысль не выходила из затуманенной Приськиной головы, шипом терзала сердце. Что, если и в самом деле отнимут у нее землю? Она и представить себе не может, что с ней будет тогда. С этой землей связаны все ее надежды, все помыслы, вся жизнь ее; без земли – голодная смерть. А Грыцько такой: уж если он что задумал, то сделает. Карпо говорит: не печальтесь, за нас мир. Да что этот мир! Сотня-другая бедноты? Что они сделают, если богатеи будут настаивать? Им что? Берите, скажут, землю, только не ждите от нас никакой помощи. До сих пор мы и тем, и другим помогали обществу, а с этого времени – моя хата с краю, ничего не знаю!.. Каждый пусть управляется, как знает. И пойдет у людей разлад, вражда. Стоит ли из-за нее, какой-то безвестной Приськи, затевать такую канитель? И общество скажет, – что нам до этой Приськи, во что нам станет помощь ей, если мы будем так за нее заступаться? Немало нас хиреет и так… Господи! Как же без земли быть? Хорошо панам: у них земли видимо-невидимо, а у нас маленький клочок, и сколько глаз на него зарится! Сколько рук тянется за ним! Каждому хочется захватить его, ибо в земле хлеборобская сила!
Кружилась голова у Приськи от этих мыслей, и все они сводились к одной: что будет, если у нее отберут землю? Не зная, как разрешить эту мучительную загадку, она роптала на людей, роптала на Карпа: зачем он рассказал ей об этом? Еще, может, и не отнимут? Да уж лучше бы сразу отобрали: она бы тогда знала, что у нее больше нет земли… Уж тогда бы и придумала, что ей делать, как быть. А теперь – только одна мука, нежданное горе… «Ну и жизнь! Лучше в могилу лечь, чем так жить!» – говорила она не раз, ожидая со дня на день сельского схода и поглядывая в окно, не идут ли ее звать.
Прошла неделя. Наступил новый год. Что он принесет ей? Сердце ее тревожно билось.
На третий день с утра забежал Карпо и сказал ей, что после водосвятия будет сход.
– Может, и о вашем деле разговор будет. Выходите после обеда, – добавил он.
Идти или не идти? – думала Приська. Если не будут о ней говорить – скажут, зачем пришла. А не пойти – могут решить без нее. Если она там будет – все же хоть слово за себя замолвит.
Не находя себе места от тревоги, металась Приська по хате, не зная, как ей поступить. Она припоминала все сны, которые видела после того, как услышала это проклятое известие. К добру они или к беде?… Да и сны ее были как жизнь – страшные и безотрадные: все покойники снились, новые беды мерещились… Что они предвещают? Не разгадает она, не почувствует наболевшим сердцем.
Наступил день схода. Христя и обед раньше сварила, чтобы мать не запоздала. Глядя на нее, Христя и сама взгрустнула, но не знала, чем ее утешить. Приська ничего не ела. До еды ли, когда, может, с завтрашнего дня останешься без куска хлеба? Проглотила она одну ложку каши, да и та застряла… С тем и встала из-за стола.
Шумно было на площади перед волостью, где собрались крестьяне. Старшина, заседатели, писарь, староста стояли на крыльце и молча глядели на море шапок, колыхавшееся вокруг. Люди сходились кучками, шумно спорили и снова расходились. Одни кричали: «Не хотим так! Отчего такая несправедливость на свете?» Другие размахивали руками и громко кричали: «Не будет по-вашему!» Каждый выкрикивал свое, и на площади стоял такой шум, что трудно было разобрать, кто чего хочет, кто чью сторону держит. Увидя группу женщин, стоявших в стороне, Приська направилась к ним. Это были Хвеська Лазорчищина, Крылына Чопивна, Горпына Ткалева, Марья Бубырка – все свои, старые знакомые.
Приська поздоровалась с ними.
– Здорово! И ты пришла посмотреть? – спросила Марья Бубырка, дородная румяная молодица.
– Нашла диво, – сказала Приська. – Не мне, старухе, зря ходить на диво глядеть – дело привело.
– Какое же у тебя дело?
Приська рассказала. Молодицы переглянулись.
– А мы вот поглядеть пришли, – в шутливом тоне начала Марья. – Ткалиха – как ее мужа будут старшиной выбирать; Хвеська – с жалобой на своего, – пускай его на целую неделю в холодную посадят, чтобы знал, как жене бока трепать; Чопивна – жаловаться на хлопцев за то, что ее пятилетнюю дочку до сих пор никто не сватает.
Женщины дружно рассмеялись. Приська только подумала: «Молодые, здоровые, живут в довольстве… Отчего им не смеяться?» И, тяжело вздохнув, отошла от них.
Она заметила Здора, который что-то горячо говорил собравшейся вокруг него большой группе людей, видела, как Грыцько Супруненко, сдвинув шапку на затылок, шмыгает в толпе; встретившись с Перепелицей, крикнул: «Гляди же!», потом с Васютой: «А вы поддержите!», затем с Кибцем, с Маленьким… Он носился, как муха, и каждому встречному бросал короткую фразу. Люди молчали, кивали в ответ головами, – ладно, мол! – и шли дальше.
«Это, видно, обо мне речь идет; знать, про мою землю Грыцько замышляет. Господи! Ну и дурной человек этот Грыцько. Что ему моя земля? У самого столько – еще людям сдает в аренду, так нет – и на мою зарится. И откуда такое лихо берется, и уродится же такой лютый!» – Приська готова зарыдать.
– Ну что, наговорились? – крикнул с крыльца старшина. – Кончайте разговоры; еще дела много впереди, а уже поздно.
Толпившиеся ближе к крыльцу что-то хором прокричали, Приська не разобрала слов.
– Так как же, за Омельком оставить? – спросил старшина.
– За Омельком! За Омельком!
– Пусть только за это ведро водки поставит! – послышались выкрики.
– С какой стати? – возразил Омелько Тхир, державший конную станцию при волости.
– А как же? Разве ты мало денег с людей дерешь?
– А разгон какой? Это тебе не Свинарская волость, куда становой раза три в год заглянет; а у нас, куда ни едет, все через Марьяновку. Вот и готовь ему тройку лошадей. В прошлом году пару загнали – вот тебе и заработок! – жаловался Омелько.
Приська только сейчас поняла, что речь идет о конной станции. Чтобы лучше расслышать, она приблизилась к крыльцу волостного правления.
– Так все согласны? За Омельком? – в третий раз спрашивает старшина.
– Все! Все… За ним!
– Ну, а теперь поговорим о наделах. Кое-кто из хозяев помер, у других большие недоимки… Что станешь делать, как общество рассудит?
– О ком же? Про кого речь идет?
– А вот… Прочитайте, Денис Петрович, – обратился старшина к писарю. Тот начал читать, а старшина вслед за ним громко выкрикивал фамилии.
– Кобыла Назар! Иван Швец! Данило Вернигора! Василь Воля! Филипп Притыка…
Приська вся затряслась, услышав имя мужа. Дрожь пробежала по всему телу, и она, сама не зная отчего и кому, низко поклонилась.
Люди, услышав выкрики старшины, начали подходить к крыльцу. Кто-то больно толкнул Приську.
– И чего тут эта баба затесалась? – спросил рыжеусый молодой человек, торопливо пробираясь вперед.
Приська отошла в сторону и настороженно прислушалась. Толпа шумела, клокотала, слышались шутки, смех. «Чего это они хохочут? – думала Приська. – Думают ли они о том, что сейчас решается судьба многих людей? Что у них жизнь отнимают? Должно быть, нет. Не смеялись бы так, если бы подумали об этом».
Потом Приська слышала возгласы старшины и крики людей: «Отобрать! Не надо! Дать ему на год отсрочку, а не справится – тогда и отобрать». Или: «Дети у него малые, принять его недоимку на счет общества».
Но вот старшина крикнул:
– Ну, а за Филиппа Притыку?
– За Филиппа? – спросило несколько голосов.
Приська словно приросла к земле.
– Отобрать! – первым крикнул Грыцько Супруненко; за ним другой, третий.
У Приськи потемнело в глазах.
– Подожди отбирать! – слышит Приська голос Карпа. – Это дело надо разобрать.
Поднялся шум, крик. Слов не разобрать, только сквозь гул изредка до слуха Приськи долетают отдельные возгласы: «А дочка? А сама?» И вдруг слышит: «Врешь! Богатеи только о себе думают, а другие пусть с голоду пухнут и подыхают!»
Еще пуще зашумели, такой гам поднялся, что уж ничего нельзя было разобрать. Люди снова разбрелись. И каждая группа шумела, словно старалась перекричать соседей. Карпо метался от одних к другим и неустанно кричал:
– Поддержите, братцы! Что это такое? Из-за этих чертовых мироедов скоро бедному человеку и дыхнуть нельзя будет. Как так можно? Где такое видано? Вы бы поглядели на нее… да вот и она! – И Карпо, схватив Приську за рукав, потащил ее к Супруненко. – Вот она какая гладкая! Вот какая здоровая! – напустился Карпо на Грыцько. – Гляди! Глядите, люди добрые: вот она! Сможет она сама работать?
– У нее дочка молодая! – в свою очередь кричит Грыцько. – Пусть дочку внаймы отдаст. Другие нанимаются, а она не может.
– У ней одна дочка. Если она уйдет, некому будет и в хате хозяйничать! – настаивает Карпо.
– Да тише! Такое завели – разобрать ничего нельзя! – сердито крикнул старшина.
Толпа постепенно угомонилась.
– Ну, как же с землей: за вдовой останется?
– За ней! За ней! – закричало большинство.
Грыцько, багровый, как рак, махнул рукой и отошел в сторону. Но сразу же вернулся.
– Ну, хорошо. Земля, говорите, за нею останется. А подати кто будет платить? А выкупные кто отдаст?
– Подати, известно, на счет общества, а выкупные сама платить будет, – сказал Карпо.
– Вишь, лихоманка его матери! – заорал Грыцько. – И землю отдай, да еще подати за нее плати.
– Не грозись, лихоманка не разбирает, на кого напасть. Как бы тебя не тряхнула, – говорит Карпо.
– Да где же это видано? Как можно? И землю отдай, и подати плати.
– Правду говорит Грыцько, – сказал кто-то. – Если землю берет, пускай и подати платит.
– Люди добрые! – крикнул Карпо. – Постойте! Подождите!.. Как же это так? Притыка платил только за одну душу: он один значился в ревизском списке. Кабы у него был сын – другое дело, а то он один. Теперь он умер – кто же, как не общество, должно за него платить?
– Врешь! Не умер, а околел! – крикнул Грыцько.
– Не умер Данила, болячка его задушила! – сказал кто-то из толпы.
Послышался хохот. Грыцько не унимался:
– Все на общество и на общество. А это же мы и есть. Кому придется платить, как не нам? – лез он из кожи вон, стараясь донять Приську не мытьем, так катаньем.
Толпа начала склоняться в сторону Грыцько.
– Да погодите! – снова кричит Карпо. – Она же по закону не должна платить податей. Где это видано, чтобы вдова платила подати за умершего мужа? Откуда ей взять?
– А земля? А земля? – орет Грыцько.
– Что ж земля? За землю выкупные надо вносить. Ну, она и будет их платить, а подати с какой стати?
– Правильно! – заревела толпа. – Подати – на общество, а выкупные – кто землей владеет.
– Писать? – спрашивает старшина.
– Пишите! – шумит толпа.
Грыцько в сердцах плюнул, поскреб затылок и отошел прочь. Лицо у него было злое, багровое; огонь в колючих глазах погас, они глядели мрачно, словно говорили: ну, теперь все прахом пойдет, если голодранцы начнут верховодить в общественных делах. Побежденный и раздосадованный, покинул он сход. Ни одна его надежда не сбылась, ни одна мысль не веселила. Мрачный как туча возвращался он домой.
Зато Карпо был несказанно рад. Он весело говорил то одному, то другому:
– А что, взял? Вертел, вертел хвостом, чертов Загнибида, да и довертелся! Так им и надо, аспидам-мироедам! Спасибо вам, люди добрые, что поддержали.
– Теперь с тебя магарыч, Карпо! – шутя сказал ему высокий усач.
– С тебя! С тебя! – послышались выкрики.
– Вот это дело! Один кислицы ел, а сосед оскомину набил. Кто землей будет владеть, а другому за него магарыч ставить, – вставил Гудзенко, всем известный трезвенник.
– Что? – крикнул Карпо. – Можно за это и магарыч поставить. Двугривенный есть в кармане… пойдем!
– Ну и добряк же этот Карпо! Последним поделится… Идем, идем, – сказал усач, очевидно, склонный к зеленому змию.
Человек пять отделились от толпы и направились в шинок, стоявший тут же на площади.
Карпо снова повстречал Приську, которая от волнения растерялась и не знала, куда ей идти.
– Вы еще и сейчас тут топчетесь? – сказал он. – Идите, тетка, домой. Ваше дело пошло на лад. Благодаря обществу земля осталась за вами. Идите домой.
– Спасибо вам, люди добрые! – тихо промолвила Приська, низко поклонившись людям. – А тебе, Карпо, наибольшее спасибо.
– Не за что. Бога благодарите. Идите домой и, если увидите Одарку, скажите ей, что я, может, задержусь.
Приська, еще раз поблагодарив людей, побрела домой.
Вечерело. Солнце, весь день закрытое тучами, к вечеру выбилось из неволи и, опускаясь к горизонту, обливало все село багряным светом. Казалось, все вокруг пламенело. По небу плыли разорванные тучи, черные и темно-зеленые, предвечерний воздух был прозрачен и свеж. Мороз крепчал. Из села доносились женские голоса, а на площади все еще стоял неугомонный гул. Было грустно Приське в этот зимний вечер. Она не замечала окружающей красоты; ее склоненную голову осаждали думы. Они не были горькими на этот раз; если бы Приська не разучилась радоваться, они, может, и были бы радостными, но теперь только окрашены легкой грустью. Она думала о земле, из-за которой пережила столько тревог, которую хотели отнять у нее злые люди… И вот земля эта – снова ее. Боже, вознагради Карпа! Это он отстоял ее. Свет, видно, не без добрых людей… не без добрых людей, – шептала она. На глазах выступили слезы.
Уже около самого двора она остановилась перевести дух. Солнце садилось; его огненный, багровый глаз ярко искрился. «И оно радуется доброму делу», – подумала Приська.
– Ох, и уморилась я, – сказала она, войдя в хату, и тяжело опустилась на лавку. Она с трудом дышала от усталости.
Христя тревожно взглянула на мать; по лицу старалась угадать, хорошую ли она весть принесла, или дурную. Сердце у нее болело от мучительных сомнений.
– Дайте, я хоть помогу вам тулуп снять, – сказала Христя, заметив, что мать собирается раздеться.
– Помоги, доченька… Ох, и уморилась я… Нет сил! Кто же с землей управится, если к лету не поправлюсь.
– А земля за нами осталась? – робко спросила Христя.
– О-ох! Благодаря хорошим людям – за нами, доченька, – сказала Приська, прислонившись к печи.
Христя перекрестилась.
– Слава Богу! Слава Богу! – шептала она.
– Как ни кричал Грыцько, как ни ярился, как ни угрожал обществу, а не вышло по его… Спасибо Карпу… Чуть не забыла. Сбегай, дочка, к Одарке, скажи ей: Карпо просил передать, чтобы она не ждала его – может, задержится. Вот голова дурная, пока шла – забыла. Ох, какой же он человек хороший, спасибо ему! – говорила Приська, не замечая, что дочери уже нет в хате. Христя быстро вернулась.
– Одарка спрашивала, где же Карпо? А я говорю – не знаю, – сказала Христя.
– На радости в шинок пошли. Спасибо им!
– Еще спрашивала Одарка про землю. А как узнала, аж запрыгала от радости.
– Господи! И за что это люди так добры к нам? – говорила Приська. – Учись у них, дочка… они лучше, чем родные. Пошли им, Господи, всего, чего они только хотят! И не приведи Боже, чтобы люди были такие, как этот Грыцько: кажется, съели бы друг друга. И уродится же такой злой и бездушный! Хоть бы сам нужду терпел, а то добра у него – на десятерых хватит. Так нет, всего ему мало, на сухую корку чужого хлеба позарился. Зато же и проучили его!.. Он – слово, а Карпо ему – десять… И общество не его послушалось, а Карпа. Как туча, домой ушел Грыцько, – рассказывала Приська, грея на печи свои посиневшие руки.
Слушая рассказ матери, Христя думала: вот и попадись такому в невестки – все кишки тебе вымотает… будет грызть, пока со свету не сживет. А ну его вместе с богатством! Чего ж этот Федор к ней ластится? Что ему нужно? Господь с ним! Он хоть и хороший хлопец, да что поделаешь с таким отцом?
Вдруг Христя услышала шорох в сенях. Она бросилась к двери и на пороге столкнулась с… Федором.
– Здравствуйте! – сказал он, входя в хату.
– Кто там? – спросила с печи Приська. – Зажги огонь, Христя, ничего не видно.
– Да это я… Федор.
«Федор! С чего бы это?» – подумала Приська.
– Зажги огонь! – повторила она.
– Сейчас.
Маленькая плошка тускло осветила хату и Федора, все еще топтавшегося у порога.
– Что же ты стоишь, Федор? – спросила Приська. – Садись! Что скажешь хорошего?
Федор растерянно оглянулся.
– Да я к вам… – отрывисто и робко начал он. Голос его дрожал, как порванная струна: видно, ему трудно было говорить.
«Не сватать ли пришел?» – подумала Христя, глядя на оробевшего Федора. Тот, бледный и дрожащий, стоял у порога и мял шапку в руках. Это заметила и Приська. Наступило тягостное молчание.
– Батька меня послал, – снова начал Федор. – Пришли домой сердитые. Напали на меня… хотели бить… Потом говорят, иди туда и скажи: я ей этого не забуду! – с трудом выговорил Федор, и слезы поползли по его щекам.
Дочь и мать переглянулись. Снова воцарилось молчание, все замерли. Резкий стук заставил их очнуться. Федора уже не было в хате.
Во сне это было или наяву? Приська и Христя в недоумении переглядывались, пожимали плечами, и вдруг Христя расхохоталась. Она сама не знала, отчего ей стало так смешно. Ее звонкий смех раскатился по хате.
– Что ты? – сердито спросила мать.
– Ну, не глупый он, не сумасшедший! – крикнула Христя и снова залилась смехом.
Это был какой-то странный смех: так смеются перед горем, предчувствуя его. У Приськи мороз пошел по коже от этого смеха, и она тревожно глядела на дочку. Ей стало так тяжело и горько, так тоскливо, словно и не было недавней радости. «Я ей этого не забуду!» – слышала она слова Федора… Сына прислал сказать, чтобы не забывали о нем… Боже! Что за придира Грыцько этот, что за злой человек!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Грыцько пришел домой голодный и злой. Земля Притыки ему уже давно не давала покоя, как заноза в сердце, как бельмо в глазу… «Пусть она не мне достанется, только бы отобрать ее! Что тогда Приське в селе делать? Жить не на что будет… С голоду распухнет… Иди, голубушка, внаймы… на старости лет; и дочку свою, пышную панночку, уводи с собой; пусть у чужих людей загрубеют ее белые рученьки, а то изнежились. А то она только и знает, что хлопцев сводить с ума… Сама скорее сойдешь!.. Только бы вас выжить отсюда, а там мне все равно, хоть околевайте. А выгнать надо, иначе Федор совсем пропадет. Думал, когда поругаю, она спохватится… Какого черта! Ходит как полоумный. Всю ночь, говорят, шатался с колядниками. Если б не был дураком, поступил бы с ней так, чтоб мать знала, как отпускать дочку на всю ночь. Так дурень же, дурень! Ничего не поделаешь… надо выгнать… и выгоню!» – думал он чуть ли не всю ночь накануне схода. Припоминал, кого он просил, кого еще надо просить поддержать его, какие привести доводы. Он и не допускал мысли, что общество не согласится с ним. Слыханное ли дело, чтобы общество и подати на себя взяло, и земли не отобрать. Этого никогда не было и быть не может!
И вот теперь… на тебе! Он обвинял всех богатеев, что не постояли за него как следует, и общество, которое с ума спятило и такое выкинуло. А хуже всего, что эта ненавистная Приська со своим отродьем остается в селе!.. И теперь они начнут звонить повсюду: а что – съел? А что – взял?
– Кушать! – крикнул он, не снимая шапки и грозно водя глазами по хате.
Он искал повода, чтобы к чему-нибудь придраться, выругаться, сорвать на ком-нибудь зло. Но в хате не было ничего, чтобы не так стояло или лежало, как ему нравится. В сердцах он сорвал шапку, швырнул ее на стол и сел. Хивря, заметив, что Грыцько вернулся не в духе, торопливо вынула борщ из печи и поставила его перед ним на стол. Грыцько сгоряча хлебнул и обжегся.
– Огонь подставила! – крикнул он, бросив ложку.
– А что было бы, если б холодного дала? – тихо огрызнулась Хивря.
– И без того мне допекают все, а тут еще и ты со своим борщом!
– Гляди, я виновата! – усмехнувшись, сказала Хивря.
Грыцько молчал, сопел и ждал, пока борщ хоть немного остынет.
– У нас где-то водка была, – сказал он немного погодя.
Хивря достала бутылку и поставила ее перед ним. Грыцько выпил чарку водки и снова принялся за борщ. Хивря глядела, как он жадно хлебал борщ.
– Чего тебя так разгневало? – спросила она, видя, что Грыцько по-прежнему мрачен. То, бывало, придет сердитым, но поест и отойдет, а сегодня – нисколько.
– Еще что-нибудь найдется поесть? – спросил он.
Хивря подала ему жареного поросенка. Грыцько, сопя, молча принялся за поросенка. Хивря больше не допытывалась. Грыцько молчал. Поев, он встал из-за стола, перекрестился и лег на нары, отвернувшись лицом к стене. Хивря мыла посуду, и только глухое позвякивание нарушало тишину в хате.
Из головы Грыцько никак не выходили мысли о сегодняшнем сходе, о постигшей его неудаче. Ему было тяжело, сердце болело, словно змея его ужалила. Своими мыслями он дома ни с кем не делился; у него была надежда, успешно закончив дело, смеяться над побежденными, а вышло наоборот… над ним посмеялись! Он мучится, а Приська, верно, рада… А когда узнают домашние, Федор… Он – его сын… его кровь… Неужели он будет радоваться вместе с Приськой? Нет, погоди!
Он скользнул взглядом по хате.
– Где Федор? – спросил он.
– Не знаю. Мы тебя долго ждали, но, не дождавшись, пообедали одни. А после обеда Федор сразу ушел.
– Не к своей ли чертовой теще? – крикнул Грыцько. – Никогда его нет дома. Все где-то шляется, бродяга!
– Так он ведь недавно ушел, – сказала Хивря.
– Недавно… А зачем шататься без дела? Вечер на дворе. Скотина, верно, не напоена.
– А может, он ее и погнал на водопой.
Грыцько снова лег. Хивря вышла из хаты, но вскоре вернулась.
– Федор скотину поит. Сейчас придет, – сказала она.
Немного спустя вошел и Федор.
– Вы меня звали, батя?
Грыцько поднялся, лицо его побледнело.
– Пойди сейчас же… – весь дрожа, начал он, – пойди к своей теще… знаешь? И передай ей от меня… скажи, что я ей этого не забуду. Пусть на лбу себе запишет! Слыхал?
Федор, возвращаясь с водопоя, слышал от хлопцев, что общество вопреки уговорам отца оставило землю за Приськой.
– Это насчет земли? – тихо спросил он.
Грыцько встрепенулся, точно от укола: в тихом вопросе сына он услышал укор и насмешку. Он весь начал дергаться.
– А тебе какое дело? – крикнул он так, что Хивря задрожала от испуга. – Тебе какое дело, спрашиваю? Сказано тебе идти – так иди… Еще допытывается. Тебя небось радует отцовская неудача? Радует, да?
Федор переминался с ноги на ногу.
– Думаешь сесть со своей любезной отцу на шею?… – И снова пошел Грыцько кричать на всю хату, перебирая по косточкам не только Приську и Христю, а и весь род их, всех защитников. Он бранил их, грозился, что всех со света сживет, со всеми сочтется. – Расстроили меня, так пусть на себя пеняют! А ты иди к ней и скажи, что я ей этого не забуду… И сейчас же домой возвращайся. Слыхал?
Грыцько отвернулся и снова лег.
Федор в нерешительности стоял у порога, мял шапку в руках. Сердце разрывалось на части, слезы душили его. Как ему пойти туда и сказать такое? Кабы там еще Христи не было. А то… давно ли они шли обнявшись? Христя тогда, правда, обидела его и теперь подумает, что он ей мстит за обиду… Он мстит? Христе?… – от этой мысли у него в глазах помутилось.
– Слыхал? – снова крикнул Грыцько. – Кому я говорю?
Федор вздрогнул и, качаясь, как пьяный, вышел из хаты.
Он вышел на улицу и остановился… «Идти или нет?» – подумал. Сердце его, как молот, стучало в груди, голова горела, и даже мороз не охладил ее, только еще сильнее спирало дыхание в груди.
– Идти или нет? – произнес он вслух и, махнув рукой, поплелся по улице. Потом свернул на другую. Вот и церковь чернеет. Подойдя к кладбищу, он снова остановился. Лучше повеситься на колокольне, чем идти туда! Разве вернуться?… – Господи! Лучше возьми меня к себе, чем такую муку терпеть, такое надругательство над моей душой! – прошептал он и, закрыв лицо руками, прислонился к забору. Слезы, падавшие на руки, замерзая, кололи пальцы. Он не мог их сдержать. Казалось, им конца не будет.
– Кто там? – окликнул его сторож, ударив в трещотку.
Федор, точно вор, бросился бежать прочь от кладбища куда глаза глядят.
Он остановился, вдруг увидев перед собой хату Приськи. Окна не светились. Он с облегчением вздохнул. «Может, их дома нет?» – подумал он и торопливо вошел во двор.
Он не помнил, что говорил там и как снова очутился на улице. Только у церкви он снова пришел в себя. Начал припоминать, что с ним произошло. Он смутно вспомнил, как вошел в хату… свет плошки… лицо Приськи – страшное, измученное… глаза Христи, сверкавшие как звезды… Потом… словно земля под ним зашаталась, свет в глазах закружился… он что-то сказал… Что он сказал?… Огонь жег его голову, сердце точно цепом молотило. Он слышал чей-то смех… И вот сейчас он снова очутился у церкви. Не снилось ли ему все это? Был ли он действительно в хате Приськи, видел Христю, сказал то, что велел отец?… Да, да… сказал. Он даже услышал, как произносит эти слова: «Я ей этого не забуду!»
Это воспоминание словно ножом пронзило сердце Федора.
– Что я натворил, каторжный? Что я наделал, проклятый? – крикнул он, схватившись за голову. Слезы ручьем потекли из его глаз. Прислонившись к забору, он начал горько рыдать. Теперь все пропало, все! Теперь ему лучше броситься в прорубь, чем показаться на глаза Христе… Ну, не глупец ли он? Побыл бы где-нибудь час-другой, потом вернулся и сказал отцу: не застал никого дома. Так нет же!.. «Пошел… понесла меня нелегкая, толкнула нечистая сила! И теперь сам растоптал то, что мне было дороже всего на свете… О, проклятый я, проклятый!» Он, схватив себя за голову, неутешно плакал.
В это время Грыцько, лежа на нарах, думал: «Хорошо, что я это придумал. Теперь дурень отучится бегать за этой потаскухой; а если пойдет к ним еще раз – сами прогонят. Хорошо!..» – И Грыцько злорадно усмехнулся.
Федор вернулся домой растрепанный, без шапки.
– Был? – спросил его отец.
Федор понес такое, что Хивря даже перекрестилась. Грыцько вскочил и грозно посмотрел на сына.
– Был, спрашиваю? – крикнул он.
Федор стоял молча, весь дрожа.
– Ты сошел с ума? – сказал Грыцько.
– Оставь его! – сказала Хивря. – Разве ты не видишь, что он на себя непохож?
Грыцько сокрушенно посмотрел на сына. Тот стоял бледный, трясущийся, с помутневшими глазами.
– А шапка твоя где?
– Там… там… – махнув рукой, глухо произнес Федор и побрел к печи. Хивря бросилась к нему.
– Федор, сынок! Что с тобой? Опомнись!
– Он пьян! – сердито рявкнул Грыцько. – Прочь, не трогай его! – сказал он Хивре. – Иди сюда!
– Да он не пьян. Чего ты пристал к нему? Смотри, хлопец сам не свой, а ты одно долбишь! – теперь уже крикнула Хивря.
– Что же с ним? Может, его опоили эти ведьмы? – тревожно сказал Грыцько. Он тупо глядел, как Хивря помогала сыну раздеться, как, постелив на печи, она помогла ему лечь. Федор, улегшись, стонал, метался; бредил, пел, так что Грыцька продирал мороз по коже. Хивря испуганно крестилась.
– Что с ним стало, Господи? – шептала она в ужасе.
– Что? Кровь, видно, напала. Надо завтра коновала позвать, пусть кровь пустит. Хмм… Куда же он шапку дел? – беспокойно говорил Грыцько. – А шапка еще новая, только вторую зиму носит.
Всю ночь Федор метался, кричал, бредил. Грыцько, сначала подумавший, что сын притворяется, наконец поверил. «Что же с ним? – думал Грыцько. – Неизвестно, ходил ли он к Приське. Если ходил, то, может, в самом деле напоили чем-нибудь, чертовы ведьмы; а если не ходил, то, верно, кровь. Хлопец здоровый, разгорячившись, хлебнул где-нибудь холодной воды, ну и простудился, кровь напала».
На рассвете он пошел за коновалом. Тот ощупал, осмотрел больного.
– Кровь, кровь, – сказал он. Пустил кровь, потом выпил четвертинку водки, получил от хозяина двугривенный и пошел домой.
Федор на некоторое время затих, а в полдень начал такое плести, что и вообразить нельзя. Грыцько задумался: кровь ли это, а может, другое? Не обманул ли его коновал, взяв даром деньги?
Хивря уверяла, что это все от дурного глаза, и побежала за знахаркой.
Пришла и знахарка.
– Или с перепугу, или от сглаза, или напоили его чем-нибудь, – сказала она и начала готовиться заговорить перепуг.
Плавили воск. Долго нашептывала знахарка и над Федором, и над воском, и над водой. Растопили воск, воды налили. По той восковой лепешке, которая плавала на воде, знахарка угадывала, отчего приключилась беда.
– Вот поглядите, матушка! Видите – церковь выходит… а это человек с дрючком, тут дивчина какая-то… а это – собака. Нет, волк: видите, какие уши острые. Значит, испугался волка, – решила знахарка.
И Хивря поверила. К тому же на другой день церковный сторож принес в волость чью-то шапку, которую он нашел у ворот. Это была шапка Федора.
– Так, так… где ж его ночью носила нелегкая? Послал среди ночи хлопца. Пошел и наткнулся на волка, – жаловалась Хивря.
Грыцько ходил мрачный, как туча, немой, как скала. Ему хотелось узнать, был ли Федор у Приськи, что говорил и как его приняли.
На другое утро Приська пришла к Карпу рассказать ему о случившемся.
– Привязался ко мне Грыцько и не отвяжется… – жаловалась она. – Вчера сына прислал напомнить, чтобы я не забывала… И что я ему сделала? В чем провинилась перед ним? Я на его землю не зарилась, о своей хлопотала.
– Знаете, что я вам посоветую? – говорил Карпо. – Плюньте на его угрозы и на все… Общество вам присудило – значит, оно знает, что делает. А Грыцько чем вас страшит? Своими глазами ненасытными? Плюньте на него – и все!
Карпо пустил по селу слух о том, как Грыцько пытался застращать Приську. Этот слух дошел и до Грыцька.
– Так, так! Они его извели! Они! – кричал Грыцько. – Ну, если сын умрет или с ним что-нибудь станется, я их под суд упеку, в тюрьму, в Сибирь! Я им покажу, как заманивать хлопца и опаивать зельем. Ведьмы!
Люди, не разобрав, в чем дело, подхватили этот слух и наплели, что Приська напоила Федора кошачьим мозгом. Кто-то даже видел, как они вдвоем с дочкой потрошили кота. Пошли разговоры по всему селу. Все обвиняют Приську: это она, мол, мстит Федору за дочку – Христя очень падкая на хлопцев. Молодой парень не вытерпел… И вот теперь за то, что Федор отказывается, Приська и мстит…
Один Карпо заступается за нее.
– В суд его, мироеда, брехуна! – советует ей Карпо. – За что он вас ославил на все село? В суд его тащите!
Приська послушалась и подала жалобу на Грыцько. Хотя на суде и выяснилось, что Грыцько плел эту чепуху, однако его не признали виновным. Ходили слухи, что Грыцько с судьей ужинали в шинке.
– Ну, что с тобой случилось оттого, что человек, может, в сердцах и сказал нехорошее слово? – спросил судья.
– В сердцах чего не скажешь! – поддержал другой.
– А что ославили, так это ничего? – настаивает Приська.
– Ну что ж, бабка, и про нас сплетничают. Поговорят – и перестанут.
Так и Приська вернулась ни с чем. А Грыцько кричал: «Ну что, взяла? Взяла? Еще судиться со мной вздумала. Погань!»
Люди не слышали того, что происходило в суде. Они знали только результат и по нему судили. «Уж лучше бы сидела и молчала, раз виновата, – говорили злые языки, – а то еще в суд. Больно разумной стала: чуть кто слово скажет – сразу на суд!»
Приська плакала, Грыцько смеялся. Только это был смех человека злого, оскорбленного. Он смеялся, а на душе у него кошки скребли: как она смела подавать на него в суд?
Он только тем и жил, что искал случая, как бы отомстить Приське, как бы так ее прижать, чтобы она уже не вырвалась из его рук.
Время шло. Приська жила на другом конце села и не знала, что Грыцько замышляет. Людские толки понемногу затихают: видно, всем надоело день-деньской об одном и том же судачить и рядить. А тем временем Федор уже выздоравливал: у него оказалась лихорадка.
Миновал мясоед и Масленица, наступил Великий пост. На четвертой неделе поста в городе ярмарка. Чуть не все село кинулось туда. Поехал и Грыцько, хотя у него дела не было, а пробыл дольше всех. Он вернулся во вторник на пятой неделе оживленный, веселый. Оставшись наедине с Хиврей, он вытащил из кошелька какую-то бумажку и, размахивая ею, весело сказал: «Вот это их доймет! Задели меня – так пусть знают!»
Хивря допытывалась, в чем дело, но Грыцько только махнул рукой и тотчас ушел в волостное правление.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Приближалась весна. Хотя ночью еще были заморозки, зато днем так ярко светило, так грело ясное солнышко! Шумные ручьи спускались с гор, зачернели проталины в снежном покрове; в поле обнажились курганы, с утра щебетали жаворонки; девчата по вечерам хором пели веснянки. Обрадовались люди. Уже заботились о пахоте и севе; подкармливали рабочий скот, налаживали плуги и бороны. Приська не знала, как и чем она вспашет свою землю и посеет. Она возлагала все свои надежды на Карпа. Тот обещал ей помочь: «Не горюйте, все будет хорошо!» Но Приська, видно, уже сдружилась с горем, все больше печалилась. К тому же и сны ее еженощно донимают, да страшные такие! Особенно запомнился ей один.
Это было как раз накануне Благовещения. До этого дня она всегда говеет. Исповедавшись, она пришла из церкви домой и, чтобы не грешить, сразу легла спать. Ей долго не спалось, тревожные мысли заставили долго ворочаться с боку на бок, потом ей очень захотелось есть. Она даже удивилась… Никогда этого с ней не случалось, а тут – как на грех! Она гнала прочь от себя этот греховный соблазн и незаметно уснула.
И снится ей: идет она неведомо куда по глубокой зеленой долине; по обе стороны – пастбище. Горы покрыты темным лесом, и долина словно писаная. Солнце сияет, золотит горы, леса и долину. Справа на самой вершине горы красуется белая церковка, сверкая куполами и золотым крестом. «Что это? Не Киев ли?» И вот она направляется к церкви. Гора высокая, крутая тропа вьется вокруг нее змейкой к вершине. Неужели она не взберется? Поднимется немного, отдохнет и снова идет вверх. Она уже высоко поднялась, как вдруг видит – среди деревьев лежит какой-то зверь и так неприязненно глядит на нее. Глаза его огнем горят, а сам он такой страшный да лютый. Она так и приросла к месту, а зверь и глазом не поведет!.. «Господи, – думает Приська, – куда же мне деться? Куда спрятаться?» Только она подняла ногу, как зверь бросился на нее!.. «Так это же волк!» – как молния блеснула мысль в ее голове. И что-то ее кольнуло в сердце, в голову, в ноги. Она в ужасе проснулась.
Сердце ее отчаянно билось. Господи, что это за сон! Что он предвещает? Она знала, что, если приснится собака, это к напасти. А волк? Это уже, видно, к большому горю.
Она рассказала сон Христе и Одарке.
– Да вам от забот такие сны снятся, – успокаивала ее Одарка.
Но Приська не успокоилась. Она никак не могла забыть этот сон.
Прошла неделя. Было Вербное воскресенье. День обещал быть погожим: на небе ни облачка – синь, прозрачность, простор. Солнце ласково согревает землю. Лужицы, замерзшие ночью, снова оттаяли, в проталинах журчит вода.
– Ну, мама, сегодня управлюсь пораньше, пообедаем, и пойду гулять. Я еще этой весной не гуляла, – говорит Христя.
Приська не прекословила: пусть идет! Только из церкви вышли, когда они сели обедать. Еще и не пообедали, как слышат, кто-то вошел в сени.
– Кого же это Бог несет? – спросила Приська, кладя ложку на стол.
В хату вошел сотский Карпенко. Поздоровался, с праздником поздравил.
– Спасибо, – отвечает Приська, а у самой сердце так и забилось. «С чего это он явился… Должно быть, неспроста…»
– А что хорошего скажете? – спрашивает она.
– За вами пришел, – отвечает Карпенко.
– Зачем?
– Не знаю. Старшина велел: «Поди, – говорит, – скажи, чтобы пришла в волость».
– Что ж там в волости?
– Суд какой-то. Не знаю. Меня это не касается, так я и не допытывался.
Чудно Приське и страшно. Она ни на кого в суд не подавала, а ее тянут. Разве Грыцько что-нибудь подстроил?
И, не кончив обедать, пошла. На душе тяжело, горько… Словно на пытку идет, не зная зачем… А сердце тревожно стучит, словно чует беду…
Насилу дошла.
Начальство все в сборе: старшина, писарь, староста, судьи, сотские.
– Привел, – доложил Карпенко.
– Где она?
Приська подошла ближе.
– Вот на тебя жалуется Загнибида.
– Какой Загнибида?
– Не знаешь? Тот, что у нас раньше писарем был. Он теперь в городе живет.
– Помню.
– Помнишь? Так вот, он и жалуется, что ты ему до сих пор свою дочку не доставила.
– Какую дочку? С какой стати?
– Ты ее внаймы ему отдала, что ли?
– Когда? Да я его лет десять и в глаза не видела.
– Этого я не знаю. Что он там пишет? Прочитайте, – сказал старшина.
Писарь начал читать. Складно, умело была написана жалоба, что Загнибида еще в Николин день договорился с Филиппом Притыкой нанять его, Притыки, дочку в услужение за десять рублей в год с его, Загнибиды, одеждой; что Притыка, очень нуждаясь в деньгах, получил с него, Загнибиды, пять рублей за полгода вперед, выдав долговую расписку; что, узнав о смерти Филиппа Притыки, он, Загнибида, просит теперь волостное управление заставить Христю Притыку либо отслужить полгода, либо вернуть семь рублей, ибо прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как он отдал эти деньги, и он, Загнибида, как торговый человек, мог бы получить за это время не меньше двух рублей прибыли.
Приська слушала, но ничего не понимала. В ее голове словно молотки стучат слова: «Загнибида… пять рублей… Филипп… дочка…» В глазах у нее потемнело, перед глазами вертятся огненные круги.
– Поняла? – спрашивает старшина.
Приська тупо глядит на него.
– Муж тебе ничего об этом не говорил?
– Какой муж? – спросила Приська. Словно ветер в засохшей траве прозвучали ее слова.
– Твой! – крикнул старшина.
– Когда?
– Тьфу! – сердито плюнул старшина. – Когда? Ты сдурела или что?… Когда приходил домой!..
Приська не выдержала, слезы градом покатились из ее глаз, и сквозь рыдания она с трудом произнесла:
– Я его не видела… Как поехал… туда… в этот треклятый город… Там и смерть его настигла… Я ничего не знаю.
Судьи молчали. Рыданья Приськи вызвали у них жалость. Молчали также сотские и старшина. Только причитания Приськины нарушали тишину.
– Что же делать? – наклонившись к судьям, спросил старшина.
Те молчали.
– У тебя деньги есть? – спросил один из судей Приську.
– Откуда же они у меня возьмутся? – и Приська зарыдала еще сильнее.
– Если деньги есть, лучше отдай их Загнибиде. Ведь он расписку представил – надо вернуть.
– У меня нет ни полушки… – говорит Приська.
– Тогда пусть дочка отслужит.
– Она у меня одна… Я старая, немощная. Кто мне поможет?
Снова воцарилась глухая тишина. И только слышалось прерывистое всхлипывание Приськи.
– Ты не плачь, – говорит старшина. – Сама рассуди. Может, ты у кого займешь и отдашь долг. Надо же отдать.
Приська плакала.
– Ну, решай, – сказал судья, – вернешь долг или дочка отслужит?
– Нет у меня денег… одна дочь… – твердит Приська.
– Да это у нее повадка такая – донимать слезами, – послышался позади чей-то грубый голос.
Приська оглянулась – это говорил Грыцько. В его глазах играла злорадная усмешка.
– И отдаст – не сдохнет! – добавил Грыцько. – У ней хата своя, надел за ней остался… Какого же рожна ей еще надо? И дочка у нее кобыла; да и сама только прибедняется.
С горьким упреком посмотрела Приська на Грыцько. Не только слова, и слезы застряли у нее в горле. Глаза горят, а сама бледная как смерть, трясется, словно зверь, застигнутый в берлоге.
– Ты разве знаешь ее?
– Еще бы не знать. Вместе жили под одной крышей. И мужа ее знал… Лодырь был и пьянчужка, – пренебрежительно сказал Грыцько.
– Грыцько! Побойся Бога! Он уж на том свете, а тебе еще туда собираться надо… – прерывистым голосом произнесла Приська.
– И дочку знаю, – не слушая ее, продолжал Грыцько. – Здоровая девка. Таким бы только служить, а она у матери даром хлеб ест.
– Пропади ты! – не выдержав, крикнула Приська.
– Бабка, тут ругаться нельзя! – сказал старшина.
– Видите, видите! – обрадовался Грыцько. – Вот какая она немощная! Прибеднялась – куда там! Тихая и смирная.
– Ты ж меня без ножа режешь! – сказала Приська.
– Хватит вам ссориться! Замолчи, Грыцько, – приказал старшина.
– Ну, как же ты решишь? – спросил он немного погодя Приську.
Грыцько злорадно усмехнулся. Судья сидел безмолвно.
– Как хотите, – в отчаянии сказала Приська. – Хоть разорвите меня и собакам бросьте!
– А ты не разоряйся здесь! – крикнул старшина. – Ее спрашивают, как ей хочется, а она еще брыкается. Ты знаешь, что суд, как захочет, так и постановит.
– Мне все равно! – огрызнулась Приська. – Что же мне сказать? Вы все против меня… Решите съесть живьем, ну и ешьте! Откуда мне знать, что там, в городе, было? Сговаривался ли Филипп с Загнибидой или нет? Я его не видела, не говорила с ним. Я ничего не знаю.
– Значит, долга не вернешь?
– У меня нет денег.
– Тогда пусть дочка отслужит, – сказал судья.
– Запишите, – обратился к писарю старшина.
Писарь начал писать. У Приськи мурашки бежали по телу, скрипевшее перо писаря словно раздирало ей сердце. Приська окинула быстрым взглядом комнату – Грыцька уже не было.
– Все, – сказал писарь.
– Так вот тебе решение: за те деньги, что твой муж взял у Загнибиды, пусть твоя дочка отслужит. Слышишь?
Приська стояла молча, безучастно, словно говорили о чем-то, ее не касающемся.
– Иди, – сказал старшина.
Приська не трогалась с места.
– Чего же ты стоишь? Иди домой! – снова сказал старшина и мигнул сотскому. Тот подошел к Приське и взял ее за руку.
Словно пьяная, пошатываясь, пошла Приська за сотским. На крыльце у нее закружилась голова, потемнело в глазах, и она, как сноп, повалилась на землю. Она опомнилась уже дома. Над ней стояла Христя и тужила, ломая руки.
Одарка утешала Христю, смачивая водой запекшиеся губы Приськи.
Где она? Что с ней творится? Померкшим взором она обвела хату. Это ее хата… вот плачет Христя… что-то говорит Одарка.
– Где я? – было ее первое слово.
– Дома, тетечка, дома, – сказала Одарка.
– Это ты, Одарка… Ты, Христя, – около меня… Слава Богу… – прошептала она, то открывая, то снова закрывая глаза. – О, как мне трудно! Как мне трудно! И почему я не умерла? Зачем я очнулась? – с плачем начала Приська. – Вот тебе и сон! Вот это напасть, это беда! Дочка, голубка моя! На то ли я тебя родила и кормила?
– Мамочка, я тут!.. Мамунечка, я около вас! – приникнув к матери, утешала ее Христя.
– Ты тут, тут… – шепчет Приська. – Нет, тебя уже тут нет. Ты уже не моя… Отняли тебя у меня.
Христя горестно глядела на мать, думая, не помутился ли у нее рассудок.
– Я ж тут, мама. Кто меня отнимает у вас?
– Добрые люди, дочка… Им завидно, что ты у меня растешь… По суду тебя отняли. Ты теперь не хозяйская дочка, а прислуга… Загнибида тебя заберет за каких-то пять рублей, которые на подати пошли, да часть Грыцько украл… За них пойдешь служить… Вот этот сон… этот проклятый сон!.. – сквозь слезы говорит Приська.
Христя всхлипывает, а Одарка поникла головой. Слушает прерывистую речь Приськи; ее лицо стало суровым и бледным. Материнским сердцем она глубоко почувствовала горе Приськи, поняла, отчего ту принесли домой полумертвой. Страшной показалась ей жизнь; думы, горькие как полынь, овладели ею. Вот и у нее растут дети, и у них ее отнимут… И никому нет дела до того, как будет болеть материнское сердце. Она подняла голову, чтобы еще раз посмотреть на Приську и навеки запомнить ее измученное лицо.
Солнце садилось; багровый свет залил хату. Приськино лицо было еще страшнее: бледно-желтое, оно казалось окровавленным.
Одарка ужаснулась: само солнце показывало, как обливается кровью сердце матери. «А людям все безразлично, – подумала она. – Стоит ли так жить, так мучиться?»
В это самое время Грыцько вернулся домой.
– Слава Богу! – войдя в хату, радостно промолвил он. – Избавился от ведьмы!
– Какой?
– Христю Притыку суд выпер в город служить.
– Тссс… – зашипела Хивря, показывая глазами на Федора, сидевшего в углу на лавке.
Грыцько взглянул на сына. Белый как мел, он держался руками за лавку и горящими глазами смотрел на отца, тяжело дыша.
Замявшись, Грыцько прошелся по хате, набил трубку, закурил и молча вышел из хаты.
Федор проводил глазами отца, потом взглянул на мать. Хивря, низко склонившись, сидела на лавке. Видно, им обоим стало стыдно перед сыном. Федор горько и глубоко вздохнул, встал и молча забрался на печь.
– И зачем ты сразу как вошел, так и брякнул? – выговаривала Хивря мужу, ложась спать.
– Да черт его знает! – оправдывался тот. – Вечерело, и я ничего не видел.
– Расскажи, как это получилось?
– А Федор спит?
– Спит. Не бойся.
Грыцько начал рассказывать, как он в городе встретил Загнибиду, как они с ним выпили и начали выкладывать друг другу свои успехи и неудачи. Загнибида говорил о своих торговых делах, кого и когда накрыл, как его надували. Грыцько в свою очередь рассказал о Федоре и просил посоветовать, как помочь этому горю.
– Это дочка того Притыки, что замерз? – спросил Загнибида.
– Того самого.
– Деньги он оставил какие-нибудь?
– Осталось пять рублей.
– Хорошо. Все будет хорошо. Я напишу расписку за его подписью, будто он эти деньги одолжил у меня. Расписку подадим в суд. Если заплатить нечем будет – суд решит: отслужить дочке. Вот ты и избавишься от нее, а тем временем сын выкинет ее из головы.
Тяжелый вздох и горький плач раздались в хате. Это, слушая страшный рассказ отца, заплакал Федор. Грыцько ткнул Хиврю в бок – подвела, мол! – и начал что-то бубнить словно спросонья.
Часть вторая В ГОРОДЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ярко светит весеннее солнце на чистом небе; весело играют его лучи в прозрачном воздухе; теплый южный ветер обвевает землю. Снег почернел, бегут талые воды. Они стекают с крутых гор в глубокие долины, размывают слежавшийся снег и мчатся по оврагам в реки. А там уже из-за половодья льда не видно. Еще один такой день – и вода поднимет лед на поверхность, раздробит его и понесет вниз по течению. Забурлят, заклокочут потоки, ломая мостки и все преграды на пути, наносят людям ущерб.
Все равно! Вода прибудет и снег спадет; только бы скорее снег растаял, а солнце и теплые дожди согрели землю. Тогда возрадуется сердце хлебороба, оживут его надежды! Тогда задумается он, как ему быть, чтобы не прожить зиму впроголодь, да еще кое-что и на продажу добыть.
Горька ты и трудна, крестьянская доля! Утренними туманами обвита, дождями полита, потом и кровью омыта! Тяжелая ноша согнула тебя, хлебопашца: податями ты опутан, тяжелым трудом измучен, землей-матушкой обделен!.. А все же каждую весну сердце радуется, оживляет его обманщица-надежда…
Только сердце Приськи не обрадовалось весне – скоро Христя уйдет в город, внаймы. Зачем ей теперь эта весна, если не с кем встречать ее? Зачем это тепло, ясное солнышко, когда оно уже не согревает охладевшее сердце? Зачем эти зеленые поля, густо заросшие грядки, если по ним не ходить, урожая с них не собирать? Одно у нее было сокровище, для которого она день-деньской хлопотала, рук не покладала… Теперь и его отняли у нее! Пришли, силой взяли… и поведут ее, и отдадут чужим людям на тяжкий подневольный труд, на понукание горькое и обидное, на брань, на вечные укоры… За что? За какую провинность? За что такая напасть?
Не радовалась и Христя, когда она на рассвете, попрощавшись с матерью, с селом, неторопливо шла по широкому шляху в город. Позади – плач и горе матери, впереди – неведомая доля прислужницы. Что она сулит? Где уж там радостного ждать? Не от хорошей жизни уходят люди к чужим работать на них. Клонится все ниже и ниже голова Христи, все чаще катятся слезы из ее глаз. Христя, не замечая их, нехотя плетется дальше.
Не одна шла она. Сотского Кирила прислали за ней из волости, чтобы доставил ее на место. Это Грыцько Супруненко постарался.
Кирило – уже немолодой человек, невысокого роста, плотный, круглолицый, с рыжими усами и густыми бровями, из-под которых добродушно глядели карие глаза. Христя его знает давно. Он был бессменно сотским, сколько она его помнит. Другие год отслужат и уже отпрашиваются, а он – нет. Выйдя на волю из дворовых крестьян, без надела, он кое-как обзавелся хатой, приписался к Марьяновскому обществу и стал сотским, так и до сего дня был им. От общества на его долю перепадало столько-то ржи, пшеницы, ячменя, гречихи. Хоть и невелики были эти подачки, но он никогда не жаловался. Зато жена его Оришка, старая ворчливая баба, не раз сетовала на общество.
Все знали Оришку как ведьму и поэтому понемногу увеличивали жалованье сотскому Кириле, опасаясь, как бы она не причинила беды. Кирило жил больше в волостном правлении, чем дома. Домой он забегал только в случае крайней необходимости. Не выносил он ссор, а Оришка любила повздорить. Он убегал от нее в канцелярию или к кому-нибудь из соседей. Христя часто видела его в своей хате. Когда у ее отца случались какие-нибудь неприятности, он прежде всего искал Кирилу, чтобы поделиться с ним. Жалуется, бывало, на злую долю, на дурных людей, а Кирило его утешает. «Все это глупости, помяни о правде святой, – говорит Кирило. – Хоть и горя у нас немало, донимают беды и лиходеи, но правда на нашей стороне. Не горюй, брат! Помрут наши обидчики, как и мы, грешные… Помрут и ничего из награбленного добра с собой не возьмут. Всех нас сыра-земля сравняет».
Тихие речи сотского, его искренность, разумные доводы умеряли скорбь Филиппа, не раз приносили успокоение его встревоженному сердцу.
Отчего же теперь Кирило молчит? Почему не утешает дочку своего несчастного друга?
Он еле поспевает за ней – так она вдруг заторопилась.
– Легче, дочка, – сказал он. – Не спеши так. День большой, да и путь немалый, уморимся. Лишь бы к вечеру добраться. Пожалей мои старые ноги, да и свои побереги – им еще долго придется топтать землю.
Христя уменьшила шаг. Поравнявшись с ней, Кирило вытащил трубку и начал ее набивать. Шли молча. Снег сильно таял, дорогу заливала вода, и местами ноги вязли в жидком месиве. Чем выше поднималось солнце, тем сильнее грело оно, веселые блики играли на обнажившихся курганах и талой воде. Становилось жарко. Пот выступил на лбу сотского. Сдвинув шапку на затылок и распустив полы сермяги, он плелся вслед за Христей, размахивая длинной палкой, стараясь ступать по сухим островкам среди луж. Трубка его дымилась, оставляя позади сизый след в чистом, прозрачном воздухе. Христя шагала прямо по дороге.
– Ну, сегодня снегу убудет, – сказал Кирило, чтобы завязать разговор. – Гляди, какая каша стала от воды! Хоть бы до города добраться! Верно, там, на гнилом переходе, вода теперь по колено. Чего доброго, и не пройдем. И утонуть можно, – закончил Кирило, потеряв надежду услышать от Христи хоть слово.
– Кабы! – откликнулась она.
– Что кабы? – спросил Кирило. – Утонуть?
– Ну да! – сказала Христя, вытирая слезы рукавом.
– Пусть Бог милует! Зачем торопиться? Как ни бывает горько иногда, а все же лучше жить… Тебе, молодой, не к лицу такое говорить. Матери плохо – одна она осталась, помочь ей некому, – а тебе что? Молодая, здоровая… Разве тебя работа страшит? Да в селе работа в десять раз тяжелее, чем в городе. Какая там работа? В поле тебе там не ходить, не жать, снопов не вязать. Домашняя работа. Как говорят там: помыть, подать – и ложись спать… Не горюй, лишь бы здоровье, а работа – что? Я сам, слоняясь по свету, служил в городе и хорошо знаю. Кабы не своя хата и служба обществу, я бы и сейчас в город ушел. Ей-Богу, правду говорю. Там уже то хорошо, что людей много. Хоть и чужие, так ты на это не смотри. Среди чужих иногда лучше, чем у своих: ты их не знаешь, они тебя не знают, допекать не станут. Не то что у нас в селе!
Христя уже не в первый раз слышит рассказы о городской жизни. Марина Кучерявенко, ее подруга, третий год служит в городе. Приходила она как-то на праздник в село и говорила, что лучшей службы нет, как в городе: и работы не много, и не тяжелая она, и люди там обходительные, и платят хорошо. За два года Марина скопила целый сундук всякого добра: и платков, и рушников, и юбок, и плахт, еще и тулупчик хороший. В селе за десять лет столько не наживешь. Отчего же мать так плачет? Отчего так убивается? Целая неделя прошла после суда, и всю эту неделю день и ночь мать не переставала плакать, рассказывая ей про горькую подневольную службу у чужих людей. Никто тебе и слова доброго не скажет, если обидят – никто не заступится; больна ли ты – не спросят; а работать заставляют без отдыха. Нанялся – продался!.. И с такой безнадежностью и отчаянием рассказывала все это мать, так горько поливала каждое слово горючими слезами! А Кирило вот совсем другое поет… и Марина тоже другое говорила… Где же правда?… И мать смолоду служила и должна все это знать… Разве тогда хуже было, жилось тяжелее?… Как в тумане Христя, словно бродит в пустыне темной осенней ночью… А может – как у кого: у одного хорошо, а у другого плохо. Ну, а у Загнибиды?
– Дядька! – окликнула она сотского. – Вы знаете Загнибиду? Что это за человек? Какая у него работа?
– Загнибиду? Ххе!.. – вынув изо рта трубку и сплюнув, сказал Кирило. – Загнибиду? Как же мне его не знать, если он в нашей волости писарем был?! Хорошо знаю. Еще отца его немного знавал. Пузатый такой – головой служил… И лютый, спаси Боже! За недоимки людей, бывало, раздевал догола и на мороз выводил, да еще водой обливал. Ну да и сын его – цаца. Этот, правда, голых на мороз не выводил, зато драл с живого и с мертвого. Пьявка – не человек был! Ну, а теперь – не знаю, может, и переменился. Люди рассказывали, что он очень рад, когда встречает кого-нибудь из нашего села – и напоит, и накормит… Понятно, не нас, голытьбу, а богачей… – добавил Кирило, делая ударение то на одном слове, то на другом.
– Ну, и служба, – начал снова Кирило, – какая же у него служба? Оставив должность писаря, он стал лавочником или прасолом… бес его знает… Вот посмотришь, какая у него работа. Жена у него, говорят, неусыпная хозяйка и добрый человек, а впрочем, я с ней дела не имел. Детей нет и не было. Кому только все добро достанется?… А добра много… Разве промотает его – говорят, выпивает сильно. Да не верь этому: мало ли что говорят. Верь только своим глазам. Вот поработаешь у него, так узнаешь, какой это Загнибида. Крутой был, пока в писарях служил, – без рубля к нему за паспортом и не ходи. Вы, говорит, на заработки уходите деньги загребать, а тут с голоду подыхай… клади рубль! Ну и давали, да еще и в шинок угощать водили. Такой он был, а теперь не знаю.
Христя глубоко вздохнула.
– А ты не вздыхай! Чего тебе? Нехорошо будет – не только света, что в окне, за окном больше. Лишь бы ты была старательной, а хорошей слугой все дорожат. Это тебе не село. А вот и Гнилой переход! – И Кирило стал спускаться с горы в балку, на дне которой протекал маленький ручеек. – Ну, это еще не беда. Воды немного, можно перескочить через этот ручеек! – крикнул он, разбегаясь для прыжка. Но только Кирило опустился на противоположный берег, как сразу и увяз по пояс. – Вот ловушка! – кряхтел он, выкарабкиваясь. – Черт бы его побрал, полны сапоги воды.
Христя еще стояла по ту сторону ручья, когда Кирило провалился в снег, и вся затряслась. Ей казалось, что он тонет. Когда же он выбрался, весь мокрый, ее разобрал смех.
– Хотели, дядька, по-молодецки? – улыбнувшись, спросила Христя.
– А вышло чертовски! – ответил Кирило, идя к мостику, чтобы переобуться. Вода чавкала в его сапогах.
Христя тоже взошла на мостик и, опершись на перила, ждала, пока Кирило переобуется.
– Вот тебе перешел и не замочился! – сердился Кирило. – И понесла же меня нелегкая! Думал – бугорок, откуда там вода возьмется? А она вверху присыпана снегом, а внизу воды – дна не достанешь…
– Вы бы, дядька, немного посидели, портянки просохли бы, – сказала Христя, – а то не годится мокрыми ноги обвертывать.
– Как это? – крикнул Кирило.
– Как бы чего не случилось.
– А случится – что же поделаешь? Все равно умирать придется.
Христя умолкла. Молчал и Кирило. Переобувшись, он встал, поглядел на ноги, надел сермягу и, взяв палку, вновь побрел к шляху.
Шли молча. Христя не решалась первая начать разговор. Кирило часто поглядывал на свои сапоги, словно хотел удостовериться, что они еще целы, сопел, сплевывал.
– Тут стой! – сказал он, когда показались Осипенковы хутора. – Отдохнем, подкрепимся. Половину дороги прошли – хватит!
Кирило повернул к хуторам. Христя остановилась, не зная, следовать ли ей за сотским, или подождать его у дороги.
– А ты чего стала? Иди. Люди добрые, не выгонят из хаты.
Две огромные собаки бросились на них из-за сарая. Тотчас же из хаты выбежала высокая, стройная молодица.
– Вон, проклятые! – крикнула она, запустив в собак снежным комом. Красивое лицо молодицы слегка зарумянилось, ее бархатистые глаза на миг сверкнули.
– Здорово, Марья! Ты ли это? – спросил Кирило. Молодица улыбнулась.
– Да я же! – вздохнув, ответила она.
– А Сидор дома? – спросил Кирило.
– Нет его. В город уехал. Одна мать… пошла браниться да никак не уймется… Идите в хату.
В хате они застали дородную старуху. Широкое лицо ее испещрено глубокими морщинами; губы толстые, отвисшие; нос сизый, с черной бородавкой на конце; злые зеленые глаза метали искры из-под насупленных бровей.
Христе она показалась ведьмой.
– Здорово, Явдоха! – сказал Кирило.
Явдоха, сидевшая на лавке, только повела глазами в ответ.
– Как живется-можется?
– Эх, живется… – заворчала старуха. Голос ее звучал, как надтреснутый колокол, и Христя даже вздрогнула. – Никак не живется! Поехал Сидор из дому, а мы и сложили ручки, – ворчала она, бросая злые взгляды на Марью.
Лицо Марьи сильно побледнело, а глаза блестели. Она неприязненно посмотрела на Явдоху, тряхнула головой и молча вышла из хаты.
– Так всегда, – не унималась старуха. – Хоть бы тебе слово сказала: будто сроду немая или у нее, прости Господи, язык отнялся… А зайдут чужие в хату, она хи-хи и ха-ха; целый день смеялась бы с ними. А для матери слова не найдет. Ну и взял Сидор жену! Выбрал себе пару! Говорила ему: не бери городских, это проклятущий народ!.. Там у них в городе роскошь, воля, не боятся никого… Вот так и привыкли без дела сидеть, по семь воскресений на одной неделе справлять! А приедет на хозяйство – лишь бы было есть да пить, а сама, черт ее батька, не позаботится… Где уж от прислуги добра ждать? Привыкнет о чужом не беспокоиться, да так и со своим. Говорила сыну: не бери ее, Сидор! Возьми лучше Приську Гаманенко, она тебе будет женой, а мне – невесткой… Придурковатый какой-то, прости Господи!.. Говорит, если не ее, так мне никого не надо… объегорила, видно, дурня; опоила колдовским зельем, городская шлюха!.. Не послушался. А теперь бейся с нею, тяни лямку. Он же никогда дома не сидит: то сюда, то туда слоняется, не видит, что матери достается!.. Вот беда на меня свалилась! Надеялась отдохнуть на старости лет – вот и отдохнула, – закончила она, тяжело сопя.
Наступила тишина. Кирило сидел за столом, оглядывая хату. Христя стояла у порога.
«Вот что про нашего брата говорят: лентяйка и недотрога, такая и сякая… Господи!..» – Сердце ее словно кто-то сжал в кулак, навертывались слезы.
– А если б ты знала, Явдоха, что с нами случилось, – наконец нарушил Кирило тягостное молчание. И начал рассказывать, как он чуть не утонул в Гнилом переходе.
Марья вошла в хату с вязанкой дров в руках. Видно, ей было не под силу таскать их, она вся согнулась, а лицо побагровело от натуги.
– Ну и тяжелые! – сказала Марья, бросив дрова в угол. Они с грохотом упали на пол. Старуха набросилась на нее:
– Покоя от тебя нету. Набрала дров, чертова дура, да донести не может, швыряется… Печь до вечера не затопит.
– Так надо же принести дрова… – тихо сказала Марья. Старуха потемнела от прилива злобы.
– А с полом ты что сделала? Давно мазала? Десять раз на неделе мажешь…
– Да будет уж вам. Оставьте немного на завтра, – с укоризной сказала Марья.
Старуха покачала головой и сердито плюнула.
– Чего ты стоишь? – обратилась Марья к Христе. – Садись отдохни. Куда вас Бог несет?
– В город, – ответил Кирило.
Христя робко опустилась на лавку.
– На базар?
– На базар. Ее продавать веду, – шутливо сказал Кирило, кивнув головой на Христю.
Марья с грустью посмотрела на девушку.
– Ее? – спросила Марья.
– А кого же? – ответил Кирило.
– Вы же смотрите, дядька, не продешевите. За такую молодую и красивую дивчину возьмите и цену хорошую.
Старуха заерзала на лавке, словно ее что-то укусило, потом встала и направилась к двери.
– Куда же ты, Явдоха? – спросил Кирило.
Явдоха даже не оглянулась, только, проходя мимо Марьи, засопела.
– Отчего она так сердится? – спросил Кирило, когда Явдоха скрылась в сенях.
Марья пожала плечами.
– Она всегда такая. Разве у нее когда-нибудь бывает, как у людей? Как в пекле – так всегда и бурлит!
– Куда же это она?
– Пошла другую невестку пилить, с меня только начала, а то ей одной мало.
Снова замолчали. Марья подбросила дров в печь.
– Вот что, Марья, – сказал, помолчав, Кирило, – нет ли у вас чарки водки? Провалился я по дороге, вымок, а теперь что-то знобь берет.
– Я сейчас.
И Марья, подбросив несколько поленьев в печь, выбежала из хаты и быстро вернулась с бутылкой в руке.
– Вот это хорошо! Аж по жилочкам пошла! – сказал Кирилл, выпив чарку.
– А все-таки зачем вы в город идете? – снова спросила Марья.
Кирило начал рассказывать всю историю сначала. На Христю этот рассказ произвел такое впечатление, что она, не выдержав, заплакала.
– Чего ты, девка, плачешь? Не горюй, в городе жить хорошо. Я сама там служила и проклинаю свою дурную голову, что пошла замуж. Что тут хорошего? Неволя, да и только. А брани сколько наслушаешься? Вы на минуту зашли и то ее не миновали. А мне каково день и ночь это переносить? Будь оно проклято… Подожду еще немного, потерплю, а если не уймется, брошу все и уйду, – махнув рукой, сказала Марья.
– Ну, и надумала такую глупость! – сказал Кирило. – А Сидор как? А хозяйство?
– Ну их… с ихним хозяйством! А Сидор и другую себе найдет, если захочет.
– Вот так дело! – возмутился Кирило. – За тем ли он тебя брал, чтобы другую искать?
– Нет моей мочи больше терпеть! – горько промолвила Марья. – Нет мочи, и все! Я уж на своем веку немало настрадалась: знаю, что это не сахар…
– Да, видно, забыла!
– Нет, – глубоко вздохнув, сказала Марья. – Такое не забывается.
Помолчав немного, она снова заговорила:
– В городе? Да только в городе и жить! Там вольно, людно… Никто тебя не замечает, никто не пилит и не понукает, как тут. От зари до зари только и слышишь одно ворчанье!.. А в городе, когда я вот на последнем месте служила, как сыр в масле каталась. Работа была нетяжелая – вытоплю печь, приготовлю поесть, подам и потом свободна весь день и всю ночь… Никто тебя не спрашивает, где была, куда ходила. А тут? Да пропади оно пропадом! – крикнула Марья, и в ее черных глазах заблестели слезы.
– Уж так ты, Марья, к городу привязалась, – вздохнув, сказал Кирило.
– И до гроба такой останусь! – резко произнесла Марья, после чего все замолчали.
– А что, девка, сидят, сидят, да и уходят? – сказал наконец Кирило, поднимаясь. Христя тоже встала.
– Прощай, Марья. И выкинь дурь из головы! – сказал Кирило.
– Прощайте! Пошли вам Господь счастья! Может, еще встретимся в городе, – обратилась она к Христе.
Христя и Марья сразу понравились друг другу; что-то общее, родственное сближало их.
– Что это за люди? – спросила Христя у сотского, когда они отошли немного от хутора.
– Какие?
– Те… у которых мы сейчас были.
– Люди? Осипенко… Они мне дальними родственниками доводятся. Ничего, добрые люди. Если бы не эта старая ворчунья… она их точит, как ржавчина железо. Больше всего достается Марье. Да и Марья эта, Бог ее знает, какая-то чудная.
Христя не стала расспрашивать, почему он считает Марью чудной. Понурившись, они молча продолжали путь. Что думал Кирило, Господь его знает, а Христя… она вспомнила Марью, мать, покинутое село… Мысли, словно голуби, кружились; а печаль все больше овладевала ею.
Солнце спускалось к горизонту. Дорога почернела от воды. Все чаще попадались на ней прохожие и проезжие; Кирило и Христя с ними не заговаривали. Но вот на горе засинела роща, дым и пыль подымались из-за нее; какой-то глухой гул доносился оттуда. Тоска все больше и больше теснила грудь Христи.
Около рощи они повернули вправо. Дорога, покрытая талым снегом, петляла вверх.
Так же молча поднимались они все выше и выше.
– Вот тебе и город, – сказал Кирило, когда они взобрались на гору.
Перед их глазами в долине раскинулся город. Широкие улицы, как русла рек, пересекали его вдоль и поперек. Словно каменные стражи, поднимались высокие дома, красные – кирпичные и выбеленные известкой. Церкви на небольших площадях тянулись ввысь своими острыми шпилями; их окружали торговые ряды. Словно мошкара, сновали люди. Повсюду громкий говор, шум, гам.
Заходящее солнце заливает город своим багровым светом, словно кровью.
Христе стало страшно. Город показался ей притаившимся хищным зверем с окровавленной пастью и белыми клыками, который вот-вот бросится на нее.
– Ну, девка, постояли – и хватит, пошли! – громко сказал Кирило; и слова его оглушили Христю точно набатный звон.
Она вздрогнула и покачнулась, как подстреленная… Слезы градом покатились из ее глаз.
ГЛАВА ВТОРАЯ
– Если бы сам черт вмешался, то не натворил бы такого!.. Пост на исходе, а у меня одной щуки целый воз не распродан, чехони две бочки… и ни с места. Да тут еще оттепель… Тьфу! В лавку хоть не заходи… – крикнул Загнибида, вернувшись домой.
Христя похолодела, увидев хозяина. Долговязый, с большущими рыжими усами, острым крючковатым носом и нахмуренными бровями, из-под которых, словно раскаленные угли, блестели красные, как у кролика, глаза. Одет он был на городской манер: в длинном суконном кафтане, широкой барашковой шапке пирожком, которая, словно сковорода, прикрывала его бычью голову. Его лицо, фигура, походка говорили, что это человек сильный, решительный: ничто его не испугает, ни перед чем не отступит в достижении своих целей. А красные кроличьи глаза выдавали лукавую и ехидную душу: писарская каверзность сочеталась в нем с торгашеским плутовством.
– А это кто, Олена? – сверкнув глазами на Христю, спросил Загнибида свою жену, худощавую молодицу с бледным лицом и голубыми глазами. Казалось, само небо отразилось в ее светлых зрачках.
– Это же новая прислуга, – ответила она тихим, приветливым голосом, словно струны прозвенели.
Загнибида, стоя среди комнаты, бросал быстрые взгляды то на Христю, притаившуюся у порога, то на жену. Так орел с вышины вглядывается в свою добычу, выбирает, какая аппетитней.
Христя, невысокая, с полным румяным лицом, сверкающими глазами, чернобровая, резко отличалась от Олены. Бледная и худая, та походила на увядший цветок, а Христя – на только что распустившийся. У Загнибиды глаза разгорелись, когда он посмотрел на ее стройный стан.
– Насилу дождались вашей милости! – неласково сказал Загнибида. – Ты что так долго собиралась? – еще более неприветливо спросил он.
У Христи от страха зарябило в глазах.
– Петро! – сказала Олена, покачав головой.
Загнибида насмешливо взглянул на Христю, потом на жену и молча пошел в другую комнату.
– Давай, девка, самовар, – сказала Олена и сама начала рыться в шкафу.
Христя не помнит, как выскочила в сени, схватила кипящий самовар и внесла его.
– Туда, туда… В комнату неси, Христя, и поставь его на стол, – распорядилась Олена, вынимая из шкафа чайную посуду.
Христя застала Загнибиду за столом. Откинувшись, он быстро скользил глазами по комнате. Когда Христя вошла, он так и впился в нее своими кроличьими глазами. Ей казалось, что его пронизывающий взгляд проникает до самого ее сердца, мутит душу. Она вся дрожала, самовар дергался в ее руках, и если б не поставила его быстро на стол, то, верно, выпустила бы из рук. Но не могла сдержаться и всхлипнула. Кипяток обжег ее руку, стекая на стол… Она почувствовала невыносимую боль в пальцах, но даже не охнула и виду не показала, только всю ее словно жаром обдало.
Загнибида смотрел на лужицу, образовавшуюся на столе, а Христя стояла ни живая ни мертвая… «Что я наделала? Что мне за это будет?» – думала она. Загнибида молчал. Христя точно окаменела.
– На стол пролила! – тихо сказала хозяйка, входя в комнату. – Возьми тряпку и вытри.
Христя мигом исполнила приказание.
– Проворная! – буркнул ей вслед Загнибида, когда она, управившись, выходила из комнаты.
– Ничего, девка, – сказала Олена.
Больше Христя ничего не слышала. Ожог в пальцах не давал ей покоя. Хотелось кричать от боли, но она боялась даже вздохнуть. Горячие слезы текли из ее глаз. Она то прижимала ошпаренную руку к груди, то прикладывала к губам – боль не унималась. Из комнаты к ней доносился звон посуды и прихлебывание хозяев.
– Налей еще, – уже в четвертый раз сказал Загнибида. – Будто и соленого не ел, а пить хочется.
«Хорошо им, пьют, закусывают, а я от боли места себе не найду!» – думала Христя, тихо всхлипывая.
– Тише… – сказала Олена, прислушиваясь. – Мыши скребутся?
Загнибида не ответил, а Христя больше не могла сдерживаться: когда стало тихо, горькие рыданья вырвались из ее груди.
– Плачет? – спросил Загнибида.
Христя затаила дыхание.
Олена ее окликнула.
– А ее зовут Христя? Христя в монисте! – пошутил Загнибида.
– Христя! – еще раз окликнула ее Олена, не дождавшись ответа.
– Че-е-го? – сквозь слезы отозвалась Христя.
– Это ты плачешь? Иди сюда.
Христя вошла в комнату, заплаканная, придерживая ошпаренную руку.
– Что с тобой? – допытывалась Олена.
– Да ничего! – нетерпеливо ответила Христя и направилась к двери.
– Как ничего? Скажи, почему ты плачешь?
– Пальцы обожгла.
– Чем?
Только Христя собралась ответить, как что-то булькнуло, прыснуло… и раздался оглушительный хохот.
Это Загнибида, хлебнув чай, громко расхохотался.
– Ну, с чего ты? – спросила Олена.
Загнибида смеялся. Его грузное тело колыхалось, а лицо посинело от натуги. Этот хохот острым ножом пронзил сердце Христи. Наконец Загнибида захлебнулся и начал кашлять.
– Да уж знаю! – крикнул он, откашлявшись, и начал рассказывать, как Христя ошпарила руку.
– И терпеливая, да все ж не выдержала! – добавил он, улыбаясь.
Христе еще обидней стало: это над ней он издевается. «Чтоб ты подавился своим смехом, проклятый!» – подумала она, заливаясь слезами.
– Ты бы что-нибудь сделала, глупая. Хоть бы тертой репы приложила, – посоветовала Олена. Выйдя на кухню, она натерла репу и обложила ею покрасневшие пальцы Христи.
Боль немного уменьшилась; хоть и дергает, но уже не так невыносимо. А Загнибида никак не успокоится; на мгновение умолкнет и снова заливается смехом.
– Ну, чего ты хохочешь? – прикрикнула на него Олена. – Спятил, что ли? Девка места себе не находит, а он хохочет…
– Да, если б ты видела… это ж при мне случилось… на моих глазах… Как плеснула кипятком на руку… Сразу как огонь стала, но и словом не обмолвилась… Вот дура! Сказано: эти, из села, – что бревна неотесанные!
Христе стало еще досадней, когда она услышала обидные слова Загнибиды. В самом деле, почему она сразу не сказала, что обожглась? Положили б тертой репы, и она так долго не терпела бы боли. Так нет же, побоялась… Кого? Чего?… Всего!.. И того, что налила на стол, и того, что хозяин смотрел на нее. А все потому, что она из села, – бревно неотесанное.
Тут она снова услышала смех Загнибиды. «Ну и бездушный человек! И въедливый какой! Кому слезы, а кому смех…» Ей вспомнились слова сотского: пьявка, а не человек! «Пьявка – пьявка и есть», – думалось ей. Таким и сдохнет. А ей же здесь придется пробыть целых полгода, полгода слушать ехидные речи, издевательства. Господи! Один сегодняшний вечер ей показался вечностью. «Он же из меня всю кровь выпьет. Недаром его жена такая худющая, вялая… Хлебнула, видимо, немало горя на своем веку, бедняжка!»
Такие мысли кружились в голове Христи. Потом они незаметно перенеслись отсюда в село, к матери. Что-то там теперь? Мать, верно, плачет. Несчастная! Впервые она почувствовала такую острую жалость к матери. Ее неудержимо тянуло к этой горемычной, но единственной близкой доброй душе. Все бы отдала, только бы быть со своей несчастной старушкой. Что же с ней будет?
Жизнь впервые показала ей свое суровое обличье, она почувствовала ее тяжелое ярмо. «Нет счастья и доли беднякам на этом свете – и не будет», – решила она.
– Христя, ты бы свет погасила, зачем зря горит? – из другой комнаты сказала хозяйка. – Сегодня мы уже ничего делать не будем.
Христя погасила свет. Что ж, и ей теперь ложиться? Она бы не прочь отдохнуть. Но где? Тут ничего не разберешь.
Она примостилась у стола, положив голову на кулак. Слава Богу, боль в руке утихла; только что-то горит внутри, сосет под ложечкой. Да ведь она сегодня не обедала! Вышла из дома рано, пришла поздно. Ее никто и не спросил, ела ли она. Да ей и теперь не хочется есть, только что-то не по себе.
В соседней комнате опять заговорили.
– Когда же ты думаешь куличи печь? – спросил Загнибида.
– Завтра начну, – ответила Олена. – Не знаю, много ли печь?
– Чтобы хватило.
– Ты всегда так говоришь. А сколько надо, чтобы хватило? И в прошлом году, и в позапрошлом пекли одинаково. В позапрошлом году еще осталось, а в прошлом, как назвал гостей, так все враз и поели.
– Ну, вот так и рассчитывай… Чтобы хватило, и все!
Голоса затихли. Немного спустя снова заговорили.
– Тебя куличи беспокоят, – начал Загнибида, – а я другим озабочен. Вот на одной чехони убытку рублей двести будет. Подвел меня этот Колесник! Купи, говорит, пополам возьмем. Я и купил, а он – черт его батьке – от своей половины отказался. А теперь изворачивайся. Придется в канаву выбросить, да как бы еще полиция не накрыла. Сегодня базарный надзиратель приходил. «Петро Лукич! Петро Лукич! – кричит. – Что это из вашей лавки такой тяжелый дух идет?» – «Да, – говорю ему, усмехаючись, – оттого, что вы к нам никогда не зайдете». – «Ну, ну, – говорит, – шутки в сторону! Отберите, – говорит, – с десяток хороших щук, я десятника за ними пришлю».
– Что ж, ты и отобрал?
– А как же. Это еще хорошо. Если б он зашел в лавку и разворочал гниль! Я и не знаю, как это мужичье ест. Ну, падаль падалью! Сегодня заходит один: «Что-то она, – говорит, – попахивает». – «Да, – говорю, – оттепель почуяла, а рыба – золото». Вынимаю из-под стойки, чтоб показать ему, а она так и разлезается. Ничего – берет… Вот кабы Лошаков на завод взял! На днях забегал. «Бочку, – говорит, – надо». – «Не совсем, – говорю, – хороша». – «Да черт с ней! У меня рабочие поедят». Так вот уж третий день идет, а он все не посылает. Если б взял бочку – сам бы привез ему! В эти дни надеюсь бочку продать, а там, если полбочки и пропадет, – небольшая потеря. Где наше не пропадало!
– А ты знаешь, что надо Христе шить одежду? – ввернула Олена.
– Подождет! – отрезал Загнибида. – Мы ее больше ждали. Кто теперь станет шить? Самой же некогда будет. После праздника уж сошьешь. Посмотрим еще, какая из нее работница выйдет.
– Да тише! – шепнула Олена.
– Что – тише?
Христя затаила дыхание, чтобы не пропустить ни слова из того, что еще будут о ней говорить. Но напрасно!.. Разговор на этом оборвался. А когда он возобновился, то говорили о незнакомых ей людях, о наживе, о торговых проделках: кто кого обдурил, подвел, перехитрил.
Грустно стало Христе, тяжело ей слушать все это. Где уж тут ждать милости, если только об одном и говорят, как бы из другого жилы вымотать.
– Христя, возьми самовар, – наконец крикнула Олена.
Христя прибрала на столе. А потом еще Загнибиде захотелось поужинать, и она подала ему ужин. Затем вымыла посуду, сама поужинала. Близилась полночь, а хозяйка еще велела, чтобы перед рассветом поставить самовар:
– Завтра день базарный, Петру Лукичу надо в лавке рано быть.
«Людей травить гнилой чехонью», – подумала Христя, тяжело вздохнув. Примостилась на лавке, погасила свет и легла.
Черная, непроглядная темнота обняла ее сразу, хоть глаз выколи – ничего не видно. Из соседней комнаты доносится глухой шепот. Это хозяева Богу молятся или шепчутся о будущих барышах? Ей-то что?
Утомленная ходьбой и вечерней работой, она сразу закрыла глаза. Сонное забытье овладело ею.
Христя быстро уснула. Прижав обожженную руку к груди, она крепко спала. На то и ночь, чтобы все могли отдохнуть. Но все ли? Что это – свет показался в маленькой комнатке? Вот он уже в большой комнате рядом, там же чернеет высокая фигура… Кто это?
Загнибида, раздетый, босой, вошел в кухню и, озираясь, прокрался в сени. Он слегка надавил щеколду, чтобы она не стукнула, открыл дверь, высоко над головой он держал лампу.
В углу на лавке спит Христя. Черная тень ее колышется на стене. У Загнибиды загорелись глаза, когда он ее увидел. Тихо, на цыпочках, подошел он к ней, поднял свечу вверх так, чтобы свет падал на голову Христи. Из темноты показалось ее спокойное круглое лицо, черные брови, слегка раскрытый рот. Еле заметно поднимается высокая грудь.
Загнибида слегка вздрогнул. Долго он стоял над спящей девушкой, любовался ее красотой. Потом протянул вперед руку, подержал над нею, словно над пламенем костра, и тихо опустил. Христя встрепенулась. Свет погас. Снова наступила непроницаемая темень. Спросонья Христя не разобрала, видела ли она свет, или это только приснилось ей. Утомленная, она повернулась на другой бок и снова уснула. Она не слышала, как некоторое время спустя что-то зашуршало в темноте, потом скрипнули двери, и проснувшаяся Олена спросила:
– Кто это?
– Это я, – тяжело дыша, сказал Загнибида.
– Что ты?
– Ходил смотреть, заперта ли дверь.
Он грузно опустился на кровать, так что она заскрипела, долго ворочался, пока не уснул. Зато Олена всю ночь не спала.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
«Христос воскрес! Христос воскрес!» – только и слышалось беспрестанно в комнатах Загнибиды на второй день Пасхи.
В этот день у Загнибиды всегда пир горой. Круглый год заботы и хлопоты, покупки и продажи, ссоры и примирения. Праздники только на Пасху и Рождество. И то потому, что в эти дни никто не торгует. Вместо отдыха справляют пиры то у одного, то у другого. Собираются целыми толпами; нагрянут к одному, и столько народу набьется – иголке упасть негде; шум, гам такой стоит, точно вода в шлюзах клокочет: спорят, смеются, выпивают и закусывают. Так уж издавна повелось.
На второй день Пасхи собрались у Загнибиды. Об этом знали все близкие, родные и знакомые. Готовились загодя. Покупали, пекли, варили. Целую неделю Христя под присмотром хозяйки, как каторжная, хлопотала около печи, урывая в послеобеденное время часок на уборку, стирку, побелку. В субботу все комнаты словно в белые сорочки нарядились; в углах из-за гирлянд искусственных цветов выглядывают образа в сверкающем окладе; лица святых словно улыбаются; маленькие лампадки подвешены на тонких цепочках; на окнах – узорчатые занавеси. Столы, покрытые белоснежными скатертями, ломятся от яств и напитков.
Во всем виден достаток, роскошь.
Христю поразило это изобилие. «Господи! – думала она. – Одному даешь вон сколько, а другому… Если бы моей матери хоть десятая часть того, что тут есть, какая б она была счастливая!.. А то…»
Она взглянула на свое платье. Уходя из села и надеясь на хозяйскую одежду, она свою праздничную оставила дома. И вот теперь в чем пришла, в том и праздник справляет. Старенькая короткая юбка из грубой ткани да засаленная безрукавка, которая уже разлезается на плечах. Обожженная рука еще не зажила. Христя завязала ее грязной кухонной тряпкой. И вот она, оборванная, в грязных лохмотьях среди всей этой роскоши. Но хозяев это не трогает.
Олена как-то спросила:
– Ты не взяла новой одежды из дома?
– Ей и в этой хорошо, – ответил хозяин.
«Прислуга! Прислуга!» – звучало в голове Христи, и сердце словно огнем жгло.
Наступила Пасха. Если б это было в селе – знала бы Христя, что ей делать, куда пойти, где погулять. А тут! Слоняется по двору, прислушивается к шуму, доносящемуся с улицы, порой выйдет на людей посмотреть. Разодетые, они равнодушно проходят мимо. А если кто и заметит ее, то лишь для того, чтобы посмеяться.
– Это откуда такая трясогузка взялась? – спрашивает парень в городской одежде своего спутника, вытаращив глаза на Христю.
– Из села! Не видишь? – отвечает его товарищ.
Христя убегает во двор, а за нею следом несутся крики и улюлюканье.
«Чужие, чужие! – думает Христя, убегая в хату. Там – тишина, хозяева легли спать. Тоскливо, как в могиле. – А в селе теперь девчата гуляют, поют, хлопцы норовят с ними похристосоваться… Разговоры, шутки, смех…» Она с трудом дождалась вечера.
– Ложись раньше, высыпайся, – говорит ей хозяйка, – завтра и ночью вряд ли спать придется.
«Какие добрые! – думает Христя. – И о ней вспомнили».
На следующий день с самого утра начались сборы. Первыми пришли близкие соседи поторопить хозяев, чтобы те скорее шли в церковь.
– Пора в Божий дом! – говорили они, заглядывая в дверь.
– Еще успеем. Заходите! Заходите! – приглашала Олена.
Пока собирались да наряжались, завели беседу. Рассказывали, как кто встречал праздник, как провел первый праздничный день, что нового в городе. Женщины тем временем оглядывали угощение, восхищались куличами, которые у Олены Ивановны всегда пухлые и высокие; расспрашивали, у кого она покупала муку, как готовила тесто, какие клала приправы… Обычные праздничные разговоры.
Но вот и хозяева готовы. Загнибида надел новый суконный костюм, сорочку с накрахмаленными манжетами, повязал шею шелковым платком; сапоги, начищенные до блеска, поскрипывают – одним словом, пан паном.
Олена Ивановна нарядилась в голубое шерстяное платье, накинула на плечи тонкую кашемировую шаль, а голову завязала шелковым платком; в ушах у нее сверкают сережки, на руках – золотые перстни.
– Готовы?
– Готовы.
И хозяева вместе с гостями отправились в церковь.
Недавно ушли, а, гляди, уж возвращаются: в такие дни служба недолгая. Гости пришли вслед за хозяевами. Мужчины, женщины, молодые и старые; толстые, как бочки, и тонкие, как шила; низенькие – приземистые и высокие, как дубы. А наряды? Красные платья, зеленые пелерины, разноцветные юбки, желтые безрукавки, блестящие ластиковые сюртуки, черные суконные кафтаны – в глазах рябит! Все гурьбой валят в дом, здороваются, шумят. Говорят: десять душ – десять слов… а тут сколько народу? Шум и гам заливают все комнаты клокочущим потоком, словно открыли шлюзы.
А еще не все пришли: то один, глядишь, подойдет, то другой. В комнатах такая давка, что не пройти; одни разместились на стульях и диванах, другие толпятся, разыскивая место. Гости поглядывают на столы, где рядами наставленные бутылки с настойками переливают всеми цветами радуги; на большом подносе возвышается жареный гусь, рядом поросенок с пучком хрена в зубах; барашек, свернувшись клубочком, выставил свое остренькое рыльце с редкими зубами; там лежит утка, задрав вверх ноги, тут белеют ломти молодого сала, желтеет сливочное масло, румянятся крашеные яйца; а над всем этим в конце стола, словно сторожа, возвышаются куличи с белыми головками, присыпанными цветным сахарным горошком. Все так и привлекает к себе взгляд, возбуждает аппетит! И многие гости при виде этого изобилия чмокают губами.
– Кого мы еще ждем? – спросил высокий, осанистый человек с веселыми карими глазами, багровым лицом и черными усами, подходя к толстому торговцу, который сидел в углу, обливаясь потом. – Или мы так походим, поглядим на эти запасы и разойдемся по домам? – молвил он потом, покручивая черный ус.
– Петро Лукич! Петро Лукич! – крикнул толстый торговец.
– А что? – откликнулся Загнибида.
– Пора, братец! Животы подвело, – сказал он, сделав такую гримасу, точно у него в самом деле заболел живот.
– Да… Рубец и Кныш обещали зайти, – сказал Загнибида, почесывая затылок.
– А по-моему, семеро одного не ждут! – сказал высокий.
– И батюшки еще нет, – добавил Загнибида.
– Ох, эти бородатые! – процедил толстый торговец.
– И зачем их ждать? – спрашивает высокий. – Мы и сами можем бороду прилепить. У Олены Ивановны, верно, где-нибудь завалялась связка пеньки. Вот и борода готова.
Поднялся хохот.
– Колесник уж пустился на выдумки! – сказал кто-то.
– Какие там выдумки? – возразил Колесник. – Тут еле голос подаешь, а они выдумки!.. Я предлагаю: пока батюшка, да те, да другие, оно бы следовало по одной пропустить. Пантикулярно, как говорят паны.
– Следует, следует! – сказал кто-то.
– Да что-то Петро Лукич не тае… – глядя на хозяина, сказал Колесник.
Загнибида махнул головой.
– Там, – тихо сказал он, указывая на дверь в соседнюю комнату.
Колесник, толстый торговец и еще кто-то поднялись и один за другим направились к дверям.
– Батюшка идет! – крикнул кто-то.
– Батюшка, батюшка! – пронеслось по комнатам.
– Постойте, сейчас батюшка придет, – крикнул Загнибида, проталкиваясь вперед, чтобы встретить гостя.
Колесник сердито махал рукой.
– Утритесь, Константин Петрович, чтобы бородатый не заметил! – сказал кто-то Колеснику.
– Утритесь!.. Чарка возле самого рта была – и тут отняли! – недовольно сказал он.
– Значит, пришлось только посмотреть?
– То-то и оно-то!
Послышался хохот.
– По усам текло, а в рот не попало.
– Да не разводи хоть нюни, – просил Колесник, почесывая затылок.
Поднялся еще больший хохот.
– Тссс!.. – загудели кругом.
Гулко разнеслось по дому молитвенное песнопение. Славили воскресшего из гроба и его Пречистую Матерь. Молодой, белолицый и черноволосый священник с крестом в руках выступил вперед, запевая сильным тенором. За ним дьякон, осанистый, дородный, с рыжей бородой по пояс и выпученными глазами, гремел густым басом. Псаломщик с изжелта-седыми косицами дребезжал надтреснутым голосом, похожим на блеяние ягненка, за ним высокий кряжистый пономарь, насупившись, дул в камышовую дудку. Хозяева, устремив глаза к иконам, набожно крестились; гости со всех сторон обступили причт, нельзя было пошевелить рукой.
Едва только батюшка кончил петь и поднес хозяевам крест для целования, в комнату вошли два пана. Один среднего роста, упитанный, с круглым красным лицом, так гладко выбритым, что оно даже лоснилось, с небольшими блестящими глазками, которые, как мышата, бегали то туда, то сюда.
Другой, высокий, сухой, с взлохмаченными бровями, нахмуренным взглядом и рыжими баками, спускавшимися, точно колтуны, с выдающихся скул.
Оба на цыпочках пробрались вперед, слегка отталкивая дородных горожан. Те, озираясь и кланяясь, расступались, давая дорогу. Паны направились к столу.
– Кто это? – послышалось в задних рядах.
– Не знаешь разве?
– Конечно, не знаю.
– Этот сухощавый, высокий – Рубец, секретарь городской думы; а этот краснорожий – Кныш, из полиции
– Видал? Пошел Загнибида в гору, с панами водится!
– А-а! Антон Петрович! Федор Гаврилович! – крикнул Загнибида, увидя новых гостей. – Христос воскрес!
Рубец, строго похристосовавшись с хозяином, подошел к батюшке, поцеловал крест и что-то тихонько сказал. Батюшка засуетился, пожал Рубцу руку.
– Несказанно рад! Несказанно! – глухо бубнил Рубец. – На место отца Григория? Царство небесное покойному. Приятели с ним были.
Батюшка, не зная, что сказать, молча потирал руки. Колесник подбежал к Рубцу и с угодливой улыбкой низко поклонился. Рубец протянул ему два пальца. Колесник слегка пожал их, сделал шаг назад и наступил дьякону на ногу. Тот изо всей силы ткнул его кулаком в бок. Колесник зашатался, как подстреленный.
– На ногу! – загудел дьякон басом и, усмехаясь, подал руку. Колесник криво улыбнулся и отошел в сторону.
Пока все это происходило около одного конца стола, на другом Кныш, игриво улыбаясь, говорил хозяйке:
– Для первого знакомства позвольте похристосоваться.
Олена Ивановна, обычно бледная, слегка покраснела, когда Кныш начал целоваться с ней.
Наклоняя свою бычью голову то в одну сторону, то в другую, он с причмокиванием целовал тонкие губы Олены Ивановны своими мясистыми влажными губами.
– Федор Гаврилович! Полегче с чужими женами целуйтесь, – сказал подошедший сзади Колесник.
– А-а, – рявкнул Кныш, повернувшись к нему. – Это вы, Константин Петрович? Так это же раз в год. Христос воскрес! – и затем похристосовался с Колесником.
– Вот такого бы нам секретаря! Вежливый, обходительный! – обратился Колесник к окружающим. – А то сидит гнида-гнидой, а небось хорошо изучил взятковедение!
Кругом захохотали, и Колесник торопливо отошел к другим.
– Что он сказал?
– Кто его знает! Что-то, видно, о взятках.
– Вот черт!
А этот черт так и сновал в толпе. Теперь он, потирая руки, говорил батюшке:
– Да и заморили вы нас, отец Николай.
– Как это?
– Не поверите, во рту пересохло, аж горло тарахтит, как гусиная шейка, на которую бабы нитки наматывают в клубок, – шутил он, смеясь и подмигивая.
– Что ты тут лясы точишь? – перебил его Загнибида. – Святой отец! Благословите наш хлеб-соль!
Отец Николай прочел молитву.
– Начинается!.. Слышите? Начинается! – вбежав в соседнюю комнату, крикнул Колесник.
– Что начинается?
– Вот, – указал он на открытую дверь.
Около стола гости чокались с хозяином: батюшка, дьякон, Рубец, Кныш. Приятно звенели чарки; глаза у всех заблестели. Поспешил туда и Колесник.
– Просим, люди добрые, наш хлеб-соль отведать, – приглашал гостей Загнибида. – Спасибо вам, что не чураетесь, не забываете нас.
– А вы наготовили изрядно! – обратился к нему батюшка.
– Только это и осталось нам, отец Николай! Только и всего. Что нам делать с женой? Детьми Господь не благословил. Хорошо, что хоть приходят добрые люди поговорить… Хотя нынче все втридорога стало. Да подумаешь: на что нам это богатство! Для кого беречь? В могилу с собой не унесем. Просим покорнейше… Отец Николай! Антон Петрович! Федор Гаврилович! Кто же после первой закусывает? А вы что стоите? – обращается он к дьякону. – Пожалуйте!
Снова все засуетились у стола; среди других и старый псаломщик топчется.
– А ты смотри мне, чтоб не нализался, как вчера! – гаркнула стоявшая рядом с ним высокая костлявая баба с белесыми, точно оловянными, глазами, дернув его так сильно за рукав, что псаломщик покачнулся.
– Ефросинья Андреевна! Ефросинья Андреевна! – тихо промолвил тот. – Тут же чужие… люди.
– А вчера ты видел людей? А молодиц небось приметил?
– Так его, так! – вмешался Колесник в супружескую ссору. – Проберите его, Ефросинья Андреевна! Пусть не будет таким бабником! А то апостола в церкви читает, а сам шепчет молодицам – «шердечко мое».
– И вы на меня?! – сказал псаломщик, опрокинув чарку. – У меня вот зубов нет уже во рту!.. – И он показал свои почерневшие десны.
– А на что зубы? Чтобы поцеловать да еще укусить, – продолжал шутить Колесник.
Гости чуть не лопались со смеху.
А старая псаломщица только менялась в лице и, как ведьма, хлопала своими оловянными глазами. Псаломщик незаметно ускользнул на кухню.
– Вы его стерегите, Ефросинья Андреевна, – поддразнивал старуху Колесник. – Не глядите на то, что у него зубов нет. Он и без зубов никому спуску не дает. А что, если б у него еще зубы были!
– Разве я не знаю? – гаркнула псаломщица. – Знаю! Сорок лет прожила с ним! Прямо – жеребец!
Раскатистый хохот огласил комнату. Люди за животы хватаются, а Колесник хоть бы что, только игриво улыбается.
– Правду, святую правду молвите, Ефросинья Андреевна, – говорит он, подмигивая окружающим, – настоящий жеребец! Вот и сейчас, глядите… зачем он в кухню убежал! Знаем… Стар, а хитер… Там у Петра Лукича новая служанка, да, черт ее побери, ядреная такая… Вот куда его тянет! Вот он зачем подался.
Псаломщица тут же повернулась и, расталкивая гостей, помчалась на кухню. Все дружно хохотали; нашлись и любопытные поглядеть, что будет с псаломщиком.
– Пойдем! – звали они Колесника.
– Ну их! – ответил он. – Почудили, и хватит, лучше выпьем!
Одни поплелись на кухню, а другие вместе с Колесником направились к столу, где с важным видом сидели батюшка, дьякон, Рубец, Кныш.
– Что теперь наша служба? Какие у нас доходы? – жаловался батюшка Рубцу. – Когда у панов крестины были – другое дело! Тогда были и доходы! Бог праздник даст – сейчас тебе и везут из имения всякой всячины… да целыми возами… А теперь что? С такими грошами проживешь? Да еще это как начнут делить между всем причтом!..
– Господь не оскудевает в своей милости! – поднимаясь, гаркнул дьякон и потянулся к бутылке.
Молодой батюшка только пожал плечами.
– Любимец протоиерея, так ему ничего, – сказал он, вздохнув.
– И протоиерей же у нас! – добавил Рубец.
– Христос воскрес! – рявкнул дьякон, точно в большой колокол ударил.
– Воистину! – ответил Колесник, подходя к нему.
– Вот! – обрадовался дьякон. – Это по-моему! А то все жалуется! Доходов нет, молодой попадье шиньоны не на что справлять, – бубнил он Колеснику будто бы вполголоса, но так, что все слышали. – Пусть поменьше пускает попадью с панычами разгуливать, тогда и доходов больше будет, – закончил он.
За столом начали осуждать протоиерея. Рубец перечислял все его несправедливости по отношению к покойному отцу Григорию: до чего он довел покойника! Он в могилу его согнал. Кныш удивлял всех рассказами о любопытных документах, попадавшихся ему в полицейском управлении… Отец Николай только глубоко вздыхал.
А тем временем в кухне стоял оглушительный хохот. Смеялись над пономарем. Рябой и неказистый, он, как только выпьет чарку-другую, сейчас к кому-нибудь привяжется. Будь то старая баба или молодица, он одно твердит: выходи да выходи за него замуж! У него и хата есть, и в сундуке кое-чего припасено: одного полотна десять кусков. Из церковной земли на его долю приходится десятин пять; из кружки, в которую опускают свои пожертвования прихожане, ему перепадает рублей пять-десять; да еще не без того, что и за погребальный звон кое-кто даст. Он один знает, по ком и как звонить. Кто сколько даст – на столько и стараешься! Даешь гривенник – на гривенник и звоню, двугривенный – на двугривенный; а за рубль так отзвоню, что слеза прошибет! Говорят: легко звонить – потянул за веревку, и все! Но нет, и в этом деле надо толк знать.
Всем известно было, что пономарь женат; один он этого не признавал, потому что во время венчания был так пьян, что ничего не соображал. К тому же его жена с ним не жила, а шаталась с солдатами по кабакам. Трезвый он был тише воды, ниже травы; зато как только выпьет – откуда только прыть берется? Пыжится, хвастается, словами, как горохом, сыплет.
Так и сейчас. Давно ли он сидел здесь в одиночестве на лавке, понуро свесив голову на грудь? Никто его не приглашал выпить, закусить, никто с ним не заговаривал. Христя, хлопотавшая по хозяйству, глядя на него, думала: почему этот человек сидит здесь, не ест, не пьет и никто его не зовет к столу?
Так продолжалось, пока в кухню не зашел толстый торговец.
– Тимофей! А ты чего здесь сидишь, не выпиваешь, не закусываешь? – И, не долго думая, схватил пономаря за руку и потащил его к столу.
Пробыли они там не долго, но вернулся Тимофей совсем другим человеком: выпрямился, глаза сверкают, брови так и ходят, усы воинственно топорщатся. Христя, увидя его, никак не удержалась, чтобы не засмеяться.
– Ты чего хохочешь? Ты кто такая? – пристал он к Христе, да так забавно поводил бровями, что девушка, как ни старается, не в силах сдержать смех.
– Да это… – с трудом произнес толстый лавочник, еле ворочавший языком, – дивчина…
– А если дивчина, так почему замуж не выходишь? – спрашивает Тимофей.
– Да оно бы, может, и тае… да, видишь, жениха нет.
– Фу! – крикнул Тимофей. – Какого тебе жениха надо?
– Сватай, Тимофей, – сказал кто-то из собравшихся вокруг них.
– А что? Не пойдешь за меня? Не гляди, куда забрел, лишь сапог бы не извел! – крикнул он, молодцевато притопнув ногой, и так лихо повел усами, что все за животы схватились.
Громовой смех покрыл его слова, но Тимофея это не смутило. Он подошел вплотную к Христе и начал ласково заглядывать ей в глаза. Христе сперва было смешно, но, когда набралось много людей, ей стало стыдно и страшно. Потупив глаза, она отступила к печи. Тимофей пошел за ней.
– Сердечко! – крикнул он тонким голосом.
– Чего вы пристали ко мне? Убирайтесь! – с возмущением сказала Христя.
– Паникадило души моей! – крикнул он снова, ударив себя кулаком в грудь.
Люди так и покатились со смеху, а Тимофей стоит перед Христей, бьет себя в грудь и выкрикивает:
– Ты та, кого жаждала душа моя! Приди же, ближняя моя, добрая моя, голубица моя! Приди в мои объятия! – Он распростер руки, намереваясь обнять Христю.
– Тимофей! Ты что? – раздался вдруг позади него чей-то голос.
Пономарь оглянулся, и руки его опустились: перед ним стоял батюшка.
– Совсем осрамил девушку, – сказал отец Николай, взглянув на Христю, у которой щеки горели, как маков цвет.
Тимофей отошел, давая дорогу батюшке, который прощался с хозяевами и гостями, порываясь уйти.
– Отец Николай, а на дорогу разве не надо выпить? – и Загнибида заискивающе заглядывал батюшке в глаза.
Отец Николай засмеялся.
– На дорогу? Ах, чтоб вас! Давайте уж!
– Я вам наливочки, – суетился Загнибида. – Такой наливочки – губы слипаются! Олена Ивановна! Наливочки сюда! Позапрошлогодней! – крикнул он жене.
Олена Ивановна принесла бутылку с наливкой.
– Сама и попотчуй.
Олена Ивановна налила.
– Хороша, хороша! – похваливал отец Николай, понемногу отпивая из чарки.
– А вам, отец дьякон? Наливочки? – предлагает Загнибида.
– Свинячьего пойла? – крикнул дьякон. – Нет! Водочки мне дайте!
– А может, рому – для бодрости? У меня хороший ром, у немца брал.
– Не терплю я эти заграничные штучки. От них только в животе булькает и голова болит. Нет лучшего напитка, чем наша родная водочка! Чем больше ее пьешь, тем вкуснее она делается. Правда? – крикнул он, хлопнув Колесника по плечу.
– Правда, ром к чаю – дивная вещь.
– То-то же. А для начала – водки! Дернул – и все! Дерзай, чадо! – крикнул он, запрокидывая чарку, и торопливо вышел на крыльцо, где ждал его батюшка.
– Пошли вам Бог счастья! – напутствовал его Колесник.
Вслед за дьяконом вышли хозяин, хозяйка и кое-кто из гостей.
– Пропустите! Пропустите! – шамкал беззубым ртом псаломщик, протискиваясь вперед.
– Ты же слышал, что я тебе наказывала, старый черт! – крикнула псаломщица, схватив его сзади за волосы.
– Слыхал, слыхал! – сказал псаломщик и, вырвавшись, скрылся в сенях.
– Ох ты, моя красавица неписаная! – крикнул Тимофей, уходя, и ущипнул Христю.
Она размахнулась и ударила его кулаком по спине.
– Вот так посватала! Молодчина! – сказал кто-то.
– Кто кого? – спросил Колесник.
– Вон эта девка – Тимофея.
Колесник взглянул на Христю. Красная и разгневанная, стояла она около печи.
– Где ты, душечка, была? – спросил Колесник, подходя к ней. – Я же с тобой и не христосовался. Христос воскрес!
Не успела Христя рта раскрыть, как Колесник ее уже обнял.
– Не очень, Костя, не очень! Гляди, как бы ты губы не обжег! – сказал ему толстый торговец.
– И я не христосовался, – сказал какой-то невзрачный гнилозубый мужчина и чмокнул Христю в щеку.
Толстый лавочник тоже приложился к ней жирными слюнявыми губами. Христя не знала, куда ей деться от стыда и что делать – плевать ли в глаза этим пьянчугам, ругаться или плакать.
– Стой! – крикнул вернувшийся с крыльца Загнибида, увидя, как Христя вырывается из крепких рук Колесника.
– Константин! Что ты делаешь? Подожди же, я жене расскажу, – сказал он.
– Ее дома нет, – сказал Колесник, выпуская Христю. Та бросилась вон из кухни и в сенях чуть не сбила с ног хозяйку.
– Куда ты несешься как сумасшедшая? – спросила Олена Ивановна.
– Да он… они… ну их совсем! – жаловалась плачущая Христя: – Раз так, я все брошу!
– Что там такое? – спросила Олена Ивановна.
– Тссс… – послышалось из кухни.
– Не трогай хозяйского добра! – направляясь к сеням, крикнул Загнибида: – Не трогай!
– Что ты мелешь? – спросила его Олена Ивановна. – И это называется благородные люди. – Она с разгневанным видом прошла в комнату.
– Вот так дело! Кто кислицу поел, а кто оскомину набил, – сказал Загнибида, почесывая затылок.
– Так и у меня, – покачивая головой, сочувственно произнес Колесник.
– Горе, брат, эти жены! – сокрушался Загнибида.
– Горе, – как эхо, откликнулся Колесник.
– А горе залить надо, – вмешался в разговор толстый лавочник.
– А в самом деле! – согласился Колесник.
– Пойдем, – пригласил их Загнибида.
– Погоди. Эти паны там! И зачем ты их пригласил? – говорит лавочник.
– Разве я их просил? Сами набились. Не выгнать же мне их!
Только Загнибида сказал это, как из комнаты выходят Рубец и Кныш.
– Попили, поели у вас, Петро Лукич, – сказал Рубец. – Пора и домой.
– Куда? Так рано? Я и не видел, попробовали вы хоть что-нибудь.
– Всего попробовали вволю! – сказал Кныш.
– Боже мой! Может, еще немножко посидите?
– Нет, нет. Жены дома ждут. Мы, знаете, перелетные птицы.
– Скажи ему, пусть не задерживает, – шепнул толстый лавочник на ухо Колеснику.
– Да хоть на дорогу! – упрашивает Загнибида. – Антон Петрович! Федор Гаврилович! По одной! Наливочки. Жена, голубка! Дорогим гостям на дорогу наливочки!
– От тебя не отвяжешься! – сказал Рубец.
– Извините, простите, Бога ради! Может, что и не так. У меня, знаете, все по-простому. Как ни тянись, а до панов далеко. Извините.
– Дай, Боже, и нам то, что у вас! – сказал Кныш, беря чарку наливки.
– Будьте здоровы! – сказал Рубец. Выпил, отдал чарку и, попрощавшись за руку только с хозяином, вышел. Кныш попрощался со всеми без разбора и последовал за Рубцом. Загнибида пошел их проводить.
– Слава Богу! – с облегчением воскликнул толстый лавочник.
– Этот Кныш еще ничего, обходительный человек, – сказал Колесник, – а уж наш секретарь – о-о! Это цаца!
– Оба они одним миром мазаны! Оба на руку охулки не кладут! Один только берет и кланяется, а другой берет, да еще нос задирает. Выпроводил, слава тебе Господи! – сказал Загнибида, вернувшись. – Ну, а теперь – к столу. Сейчас наша очередь. Ох, уж эти мне паны!
И все гурьбой повалили в комнату. Там за столом собралась вся женская компания.
– Идите же к нам, – сказала дородная молодица, жена гнилозубого, красная, как наливка в ее чарке. – Хватит вам все с панами да с панами! Совсем панским духом пропахли! – прибавила она, стрельнув на Колесника своими масляными глазами.
– Выпить с вами, кума? Ну и хороша кума! – сказал Колесник, опускаясь на лавку рядом с молодицей.
– Так-то оно: кума что маков цвет, а похристосоваться с ней – так нет! – укоризненно произнесла долговязая жена толстого лавочника.
– Почему? И теперь еще не поздно! – сказал Колесник.
– Огляделись, как наелись! – горделиво сказала молодица.
– Не опоздали! Теперь в самый раз! – оправдывался Колесник.
– Да не про вас! – говорит лавочница.
– Со служанками идите сначала христосоваться! – сердито сказала псаломщица, сверкнув злыми глазами.
– С иной служанкой бывает лучше, чем с барышней, – сказал гнилозубый.
– И ты туда же! Хоть бы ты уже Бога не гневил! – презрительно произнесла его жена.
Гнилозубый сморщился и стал еще более неказистым.
– А что я? Ничего. Не лыком шит, – хорохорился он.
– Если не лыком, то валом [Вал – толстые нитки из пакли. ], – смеясь, крикнула лавочница. Женщины дружно захохотали.
– Если так, – сказал Загнибида, – если они нас не принимают, то и мы не хотим с ними быть! Пусть они пируют отдельно, а мы – отдельно. Пойдем! – И, взяв за талию гнилозубого, Загнибида вместе с ним направился в кухню.
– Куда же вы? – тревожно взглянув на них, спросила Олена Ивановна.
– На простор… ну вас! – сказал Загнибида.
Олена Ивановна побледнела, глаза ее потемнели.
– Кум! Кум! – крикнула им вдогонку лавочница и запела:
Ой, куме, куме! Добра горилка…– Выпьем, кума, – подхватил песню Загнибида, вернулся и сел рядом с лавочницей.
– Вот так будет лучше! Сядем рядком и потолкуем ладком, сядем по парочке и выпьем по чарочке! – сказала жена гнилозубого.
– Сам Бог глаголет вашими устами! – крикнул сидевший рядом с ней Колесник. Толстый лавочник и гнилозубый тоже присоединились к компании.
– Женушка, голубка! – сказал Загнибида. – Ты ж у меня первая, ты у меня и последняя! Попотчуй добрых людей. Страх как люблю посидеть с хорошими людьми, поговорить, попеть.
– Уж коли петь, так божественное, – сказала псаломщица.
– Божественное! Божественное! – закричали женщины.
Лавочница затянула «Христос воскресе». Другие подхватили. Женщины запевали звонкими голосами, мужчины гудели, как жуки. Только Колесник пел грубым басом, так что стены дрожали, за что соседка время от времени потчевала его кулаком в бок. Колесник, словно не ощущая этих пинков, продолжал петь, а закончил он так оглушительно, что кума изо всех сил ударила его кулаком в спину; тот хмыкнул. Все захохотали, а Колесник ущипнул куму. Та крикнула и навалилась на стол. Бутылки и рюмки зашатались, попадали. Послышался звон разбитого стекла.
– Тише! Не бейте посуду! – крикнул кто-то.
– Ничего, ничего. Где пьют, там и бьют! – сказал Загнибида. – Жена! Угощай!
После этого все начали петь вразброд. Псаломщица затянула «Вдовушку», лавочница – «Куму», краснолицая кума Колесника – «Не приставайте, хлопцы, за телятами иду». Толстый лавочник, уткнувшись в плечо псаломщицы, плакал. Загнибида молча слушал пение лавочницы, притопывая ногами; гнилозубый громко храпел на всю комнату; Колесник подпевал лавочнице. Олена Ивановна, белая как мел, глядела на окружающих воспаленными глазами и криво усмехалась.
Христя, услышав дикий гул, доносившийся из комнаты, подошла к дверям посмотреть, что там творится. Она еще никогда не видела ничего подобного. «Сдурели люди, взбесились! Вот как пируют богачи! С жиру бесятся», – подумала Христя. Она подошла к столу, но никто не обратил на нее внимания; потом взяла кусочек кулича и вышла. Она еще сегодня ничего не ела, во рту пересохло, она с трудом проглотила зачерствевший кулич.
Заходило солнце, красное зарево стояло над землей. Христя в глубоком раздумье глядела на кровавое пламя заката.
Отчаянный крик вывел ее из оцепенения. Она бросилась в комнату. На полу лежал толстый лавочник. Он хотел встать, но, поднявшись со стула, не удержался на ногах и рухнул на пол. Хозяйка вскрикнула от испуга.
– Не бойтесь, Олена Ивановна, черт его не возьмет! – сказал Колесник и, схватив лавочника, потащил его в соседнюю комнату.
– А этот чего тут носом клюет? – сказал Колесник, кивнув головой на гнилозубого, и потащил его к лавочнику.
– Очищайте, очищайте место! – кричит ему вслед жена гнилозубого и, когда Колесник возвращается, наделяет его поцелуем.
– Такого бы мне мужа! А не гнилозубого и сопливого, – шепчет она так, что все слышат.
– Эх, матери его шиш! Они целуются, а мне нельзя? – крикнула лавочница и с другого бока прижалась к Колеснику.
Заарканили его: одна целует в правую щеку, другая в левую. Колесник взял их под мышки и понес. Женщины барахтаются, толкают друг друга.
Загнибида сумрачно глядел на Колесника.
– Константин! – крикнул он с досадой. – Брось!
Колесник приподнял женщин и сразу опустил их на пол. На этом, может, все бы и кончилось, если б жена гнилозубого не сбила случайно чепца с головы лавочницы.
– За что ты, сука, сорвала с меня чепец? – крикнула лавочница, вцепившись руками в волосы своей соперницы. Второй чепец полетел на пол. Жена гнилозубого, не долго думая, дала лавочнице звонкую оплеуху.
– Так ты еще и драться! – крикнула лавочница, бросившись на свою недавнюю подругу.
– Что вы? Господь с вами! – крикнул Колесник, становясь между ними.
– Матери твоей черт! Если сама распутница, ты думаешь – и все такие! – кричала одна.
– Ты сама распутница! Тьфу на тебя! – орала другая, плюя на свою соперницу.
– Вот что ты наделал, Константин! – крикнул Загнибида, ударив кулаком по столу так, что задребезжала посуда. Колесника поразил не столько крик, сколько стук.
– А по какой такой причине я? – уткнув руки в бока, спросил Колесник.
– Ты!.. Ты!.. Ты всему виной! – кричал Загнибида, мотая пьяной головой.
– Да будет вам, Петро! – взмолилась Олена Ивановна.
– Он! – снова крикнул Загнибида. – Он всему виной! Куда он ни вмешается – добра не будет!
– Что же я, по-твоему, черт, выродок?
– Выродок! Выродок! – говорит Загнибида, еле ворочая языком.
Пошатываясь, он поднялся. Глаза его горели.
– Так ты ко мне пришел… бучу поднимать?… Вон из моего дома, чтоб духу твоего поганого не было! – крикнул вне себя Загнибида.
Колесник презрительно посмотрел на него.
– И… и, хозяин паршивый! – сказал он и, плюнув, пошел искать свою шапку.
– Врешь! – крикнул Загнибида. – У меня честные люди бывают, благородные, один ты – ехидна.
– Почему же я – ехидна? А ну, скажи… – подойдя ближе, угрожающе сказал Колесник.
– Почему? А помнишь наш уговор насчет рыбы, перед Рождеством?
– Ну, помню… Так что?
– Взял ты ее у меня? Взял? Ох, ехидна! Лишь бы подвести человека, убыток другому причинить!.. Да еще смеется…
– Так ты вот о чем?… Ну и дурной же ты, хоть и писарем был. Это, брат, называется коммерцией, чтобы ты знал: не ты накроешь – тебя подведут.
– Ты во всем такой! – кричит Загнибида.
– А ты лучше?
– Что ж я?
– Что? А расписки какие писал?
– Какие расписки?
– Не знаешь? Забыл? А хозяином считаешься. Ворочаешь тысячами, а на пять рублей бедной сироты польстился!
– На что ты намекаешь?
– Вот кого спроси, на что. Вот! – указывая на Христю, сказал Колесник. – Вас за это в тюрьму посадить надо. Заставить полгода даром служить девушку вам приспичило? Знаем, зачем это нужно, догадываемся… У-у, хозяин! Ноги моей не будет после этого в твоем доме, – крикнул Колесник, плюнул и выбежал из комнаты.
– Постой… постой! – окликнул его Загнибида, покачиваясь, и в изнеможении опустился на лавку. Голова его не держалась на плечах. Он с трудом поднял ее, мутными глазами оглядел комнату. Кругом – ни души. Гости, думая, что ссора перейдет в драку, все разбежались. Загнибиду грызла досада.
– Жена! – крикнул он.
Бледное лицо Олены Ивановны выглянуло из соседней комнаты.
– Чего тебе?
– Ты слышала?
– Что? Перепились – поругались; завтра встретитесь – помиритесь…
– Кто? Я? С ним? Скорее вода с огнем побратается, чем я с ним помирюсь! На людях так меня срамить!
Загнибида долго сидел понурившись, молча. Что на него подействовало? Хмель, обида или, может, совесть проснулась? Долго сидел он так, опечаленный, с опущенной головой. Потом диким взглядом обвел комнату.
– Ложись лучше спать, – сказала Олена Ивановна.
– Кто? Я?… Ложитесь все… один я не буду… После этого мне ложиться спать? – Он отрицательно покачал головой.
– Какое ему дело до того, как я прислугу нанимаю? – заговорил он снова после непродолжительного молчания. – Какое ему дело? Я не хожу к нему справляться, за деньги ли он нанимает людей. Может, я возьму и сразу заплачу. Христя! – крикнул он.
Когда Загнибида затеял ссору с Колесником, Христя была на кухне. Сначала она не разобрала, о ком идет речь, теперь все ей стало ясно как день. Вот как ее с матерью опутали и обошли богатеи!.. Сердце у нее так болело, точно его сдавила невидимая рука. Тоску сменила ненависть. Когда ее позвал хозяин, она умышленно не откликнулась и не пошла на его зов.
«Нет, не стоит, – мысленно решил Загнибида. – Пять рублей – это деньги! Да еще и до срока далеко. Я ей тогда и отдам… Отдам, да еще пошлю к этому ироду, пусть знает… Вот, мол, как честные хозяева поступают!» – И Загнибида удовлетворенно улыбнулся.
Солнце село. Надвинулись сумерки. В комнате совсем стемнело, только сквозь стекла льется желтоватый сумеречный свет.
– О-ох! Выпить бы, – послышался голос Загнибиды, затем возня на столе и звон разбитого стекла.
– Черт бы вас побрал! – крикнул Загнибида. – Свет дайте! Почему до сих пор света нет?
Хозяйка бросилась зажечь свет. Пока она искала спички и возилась с лампой, Загнибида все время бранился. При свете комната имела ужасный вид: скатерть залита вином, всюду осколки разбитых бутылок.
– Господи! Разве нельзя было раньше зажечь свет, а уж тогда выпить, если так приспичило? – сказала Олена Ивановна.
– Молчи! – рявкнул Загнибида, угрожающе сверкнув глазами. – Еще не залили мне за шкуру сала? И ты туда же?
Олена Ивановна укоризненно взглянула на него, пожала плечами и вышла в кухню.
– Христя, голубка, посмотри за ним, чтобы он пожара не наделал, а я пойду отдохну немного; это уж на всю ночь… Ох, горе мне, горе!.. – сказала она, тяжело вздохнув, и пошла в комнату.
Горькие думы роем кружились в голове Христи. «Обошли, окрутили, как только хотели, да еще голубкой величают. Ой, добрые какие!..» – думала она, но в то же время она почувствовала жалость к хозяйке. Ей почему-то казалось, что эта женщина не виновата в ее беде, что она сама хлебнула немало горя на своем веку и еще хлебнет. Вздохнув, она села на лавку наблюдать за тем, что делает Загнибида. Тот сидел за столом, уставившись безумным взглядом в горящий фитиль. Потом посмотрел на залитую вином скатерть, обмакнул пальцы и начал мазать голову. Христя тихонько засмеялась, так забавно было ей глядеть на пьяного хозяина. Горящий взгляд Загнибиды, устремленный в сторону кухни, заставил Христю умолкнуть. Загнибида, насторожив ухо, прислушивался. Стало тихо, тихо. Христе казалось, что она слышит, как у нее бьется сердце. Потом Загнибида встал, налил чарку, выпил и на цыпочках прокрался в кухню. Христя замерла в глубоком раздумье. Она не заметила, как Загнибида очутился рядом с ней, привлек к себе и поцеловал в щеку. Ее точно обожгло.
– Христя, голубка! – шепнул он, прижимаясь к ней. Она метнулась как ужаленная.
– Не лезьте ко мне! Уходите вон! – крикнула она во весь голос, отталкивая его.
– Тссс… – зашипел Загнибида и снова начал прислушиваться. Тихо кругом, только из комнаты доносится тяжелое сопение.
– Знаешь что, Христя, – начал он, – я тебе заплачу те деньги, что твой отец занял у меня.
– Слышала я, как он занимал у вас! Спасибо вам с Супруном! – сказала Христя.
– Что ты слышала? Это ложь! Ей-Богу, ложь… А вот что я тебе скажу… Хочешь быть богачкой, хочешь ходить в шелках, в золоте?
Христя молчала.
– Что твоя душа пожелает – все тебе будет! Есть, пить, все… Видела ты эту дохлятину? – ткнув пальцем в сторону комнаты, сказал Загнибида. – Век ее уже на исходе, да и тот я укорочу… Осточертела… А ты мне как раз по нраву пришлась.
Христя молчала, только сердце ее тревожно билось.
– Христя, – умоляющим голосом прошептал Загнибида и бросился к ней. Глаза у него горели, как у кота, руки дрожали; он весь трясся, как в лихорадке; словно холодный, скользкий уж, он увивался около нее, целовал лицо, глаза, шею. Христя молча сопротивлялась, пока у нее хватило сил, когда же Загнибида стал ее одолевать, она громко закричала. Не успел он опомниться, как на пороге появилась Олена Ивановна, бледная, растрепанная.
– Вон, подлая! – крикнул ей Загнибида и снова бросился к Христе.
– Беги, Христя! – крикнула Олена Ивановна.
Христя стрелой умчалась во двор. Загнибида – за ней, но на пороге споткнулся и упал. Христя, не помня себя, спряталась за сарай. Вскоре до нее донесся крик Загнибиды: «Вот тебе, паскуда!», потом послышались глухие удары кулаков, стоны и плач хозяйки.
– Он убьет ее, убьет! – шептала Христя, ломая руки. Ей хотелось стать на защиту несчастной, но она страшилась Загнибиды, в ушах еще звучал крик хозяйки: «Беги, Христя!» С перепугу она забилась куда-то за сараи. Сырая земля, холодный воздух – ничто ее не охлаждало; все ее тело пылало, и она тряслась, как в лихорадке. Ее мучил страх за хозяйку и за себя – что будет с ней дальше?
Но вот плач и крики затихли. Издали доносились только слабые вздохи. Потом скрипнула дверь, и кто-то, спотыкаясь, вышел наружу. Послышался крик и свист, напоминавший дикий вой сумасшедшего. Христя приникла головой к земле и заткнула уши, чтобы не слышать этот дикий свист.
– Христя, – послышался охрипший голос Загнибиды. – Где ты? Отзовись! Все тебе отдам… Что у меня есть – все твое… В шелка наряжу, серебром-золотом засыплю… Слышишь? Отзовись же… а то найду – хуже будет.
– Петро, побойся Бога, – еле доносился голос хозяйки.
– Ты снова встала? – крикнул Загнибида. – И не добьешь, проклятую! Черт тебя не заберет от меня! Паскуда противная!
– Легче, легче! – крикнул кто-то с улицы.
– Не связывайся, ну его! – произнес другой.
– Почему? – спросил первый.
– Это Загнибида разошелся. Пристанет – не отвяжешься!
Загнибида, словно не слыша разговора прохожих, продолжал костить жену на чем свет стоит, а та умоляла его пойти спать.
Далеко за полночь, видно утомившись, он уселся на крыльце. Когда бледная заря занялась над сонной землей и Христя наконец вылезла из своего укрытия, чтобы прийти домой, ей прежде всего бросился в глаза Загнибида. Прислонившись к столбу головой, он сидя спал на крыльце. И спящий, он все же казался ей страшным. Чтобы не разбудить его, она на цыпочках прокралась за калитку и, очумевшая, стояла за воротами до тех пор, пока во дворе не послышались голоса. Это лавочник и гнилозубый уговаривали Загнибиду пройти в дом. Им не под силу было потащить это грузное тело, и хозяйка крикнула Христю помочь.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
– Ты не обращай на это внимания, Христя… Что только пьяному не взбредет в голову? Пьяный свечку не поставит, а свалит, – уговаривала Христю хозяйка, когда лавочник и гнилозубый ушли.
Христя молчала, хотя зло ее брало за вчерашнее: за целый день она съела только маленький кусочек кулича; всю ночь просидела во дворе, перемерзла – ну, что тут говорить? И кому? Ей, хозяйке, его жене? Разве она сама не видела, не слышала? Разве ей самой не досталось?
– Об одном я тебя буду просить, – немного спустя сказала Олена Ивановна. – Что он тебе ни скажет, не уходи от меня, – и заплакала.
Христя жалела хозяйку, она рада была ее утешить, да чем же?
Наплакавшись, Олена Ивановна снова начала жаловаться:
– Ну и жизнь! Врагу своему такой не пожелаю! Хоть бы дети были… Отреклась бы от тебя, проклятого, постылого… Пей, гуляй, распутничай – мне бы и нужды не было. Так нет же! Господь не благословил… Или согрешила перед Богом, что на меня все беды навалились!.. Трое нас было. Старшая сестра умерла молодой, брат женился, ушел, я одна осталась… Зачем? Вон вчера всю ночь, как сова, простонала, а Бог знает, что еще сегодня будет… Такое мне счастье выпало. Заклинаю тебя всем святым: будешь выходить замуж – не выходи за купца или мещанина: нет у них ни жалости, ни совести! Лучше иди за хлебороба… Как вспомню жизнь в селе у отца, все бы отдала, чтобы вернуть ее! Весной или летом встанешь рано, выйдешь в поле – просторно тебе и любо. Солнышко пригревает, легкий ветерок колышет, пахнет чебрецом и горицветом, жаворонок над головой вьется, поет, а перед тобой просторные поля так и волнуются, колосятся… Вот разве на жнива солнце берет свое; но когда жнешь высокую колосистую рожь или яровую пшеницу, да сообща и с песнями, то и жара тебе нипочем. Не заметишь, как день прошел, а уже пора домой идти. А там снова песни и пляски, песни и пляски… Или зимой: соберется пять-шесть девчат, да все закадычные подруги… За песнями и шутками работа спорится… До гроба хотела б я так жить! И принесло ж на мою голову этого Загнибиду!.. Бог его знает, отчего так все изменчиво. Кажется, он тогда вовсе не такой был. Как посватался, подруги мне завидовали, говорят, бывало: «Счастливая ты, Олена, жених у тебя красивый и еще грамотный». Я и сама так думала. А вышло… Подруги мои, вышедшие за последних мозгляков, счастливее меня! У них, может, достатков мало, зато мир и лад. А у меня и лишнего много, да к чему оно, когда душа не на месте, глядеть ни на что не хочется, не радует оно глаз моих, сердца…
Олена Ивановна умолкла. Опершись головой на согнутую руку, она загляделась в окно. День был ясный, солнце только что поднялось; косые пучки лучей пересекают комнату и словно посыпают порог золотым песком; снаружи свет такой яркий, что смотреть больно. А Олена Ивановна и не моргнет; глаза ее устремлены в одну точку. Что она там видела? Свою ушедшую молодость, незадачливую долю?… Христя глядит на ее бледное опечаленное лицо, задумчивые голубые глаза. Солнце ярко освещает ее, и кажется Христе, что это светится лицо Олены Ивановны.
– Эй, – доносится из комнаты охрипший голос хозяина.
Олена Ивановна вздрогнула, вскочила и побежала в комнату. Христе казалось, что надвинулась черная туча: и солнце светит не так, как светило только сейчас, и дом уже не тот, и будто снова начинается вчерашний пьяный гам. У нее тяжело забилось сердце. От волнения она бесцельно то отодвигала, то снова придвигала печную заслонку, заглядывала в черную пасть печи. Потом схватила веник и стала выметать золу.
Вернулась хозяйка.
Загнибида, пошатываясь, вошел в кухню. Одутловатый, взъерошенный, он сердито озирался. Олена Ивановна стояла около печи, заслонив Христю.
– А та где? – спросил Загнибида.
– Послала на базар за бубликами, – сказала Олена Ивановна, толкнув Христю. Та присела на корточки.
– Зачем? – гаркнул Загнибида, сердито взглянув на жену, и, шатаясь, пошел в комнату.
У Христи замерло сердце, когда Загнибида спросил, где она. Когда же он ушел, а за ним и Олена Ивановна, она скорей подкралась к дверям послушать, что будет дальше… «Если снова поднимется буча – брошу все и убегу домой», – решила она.
Некоторое время царила невозмутимая тишина. И вдруг точно в колокол ударили.
– Жена! – крикнул Загнибида.
– Я тут, – послышался ее тихий голос.
– А-а, ты тут, а я думал, что ты ушла. Может, нашла кого получше? Садись тут и смотри мне в глаза… Только и добра у тебя, что глаза… а остальное – черт знает что!.. Гляди на меня!..
– Так я же смотрю.
– Смотришь?… Ну, смотри, пока я не усну… Если ты верная жена, Богом данная, так береги своего мужа… Видишь, я пьян, так стереги меня. И засну – стереги… Я и сонный могу встать и пойти к другой.
– Что же мне сказать? Твоя воля, твоя сила! Уж я тебя не удержу.
– Не удержишь? А держишь… Все вы хорошие и тихие. А сто чертей по сто гнезд свили в вашей проклятой утробе!.. Вы сами не живете и другим не даете жить… Мало вас били, мало учили… вот что!
Потом он затих. Христя долго прислушивалась, но больше ничего не услышала; порой только доносились приглушенный плач и тяжелое дыхание. Христя на цыпочках прошла в столовую. Дверь из спальни была приоткрыта, и Христя заглянула в щель. Загнибида лежал на кровати с раскрытым ртом, он тяжело дышал. Олена Ивановна сидела против него. На ее лице еще не высохли слезы, в покрасневших глазах была невыразимая скорбь.
Вдруг раздался колокольный звон. Гулкие удары огласили окрестность. Христя очнулась. Загнибида раскрыл глаза, рассеянно взглянул на жену и отвернулся к стене. Христя торопливо вернулась в кухню.
Тяжелые думы овладели ею. Картина вчерашней попойки еще стояла перед ее глазами, и сегодняшний день не принес облегчения. «Лучше бы нам на свет не родиться, если над нами так глумятся. Вот он развалился, кабан, и издевается. А ты сиди над ним, гляди на его раздувшуюся харю, слушай его хрюканье и жди, пока он, проклятый, заснет. Если бы не грех, задушила бы тебя!»
Все дурное, что таится на самом дне человеческой души, всплыло наверх: и презрение, и еще что-то, чего Христя сама испугалась. Она увидела большой кухонный нож на столе… «Вот им бы тебя и прикончить! – ударило ей в голову. Придя в себя, она перекрестилась: – Взбредет же на ум такое… тьфу! – И она начала думать о будничных хлопотах: – Что ж это такое? Разве мы сегодня не будем топить и готовить?» Она оглянулась – рядом стояла хозяйка. Ее глаза еще не просохли от слез, лицо позеленело – казалось, она только что поднялась после тяжелой болезни.
– Варить сегодня будем? – спрашивает Христя. А Олена Ивановна только посмотрела на нее блуждающим взглядом, да как зарыдает!.. Христя заметалась около нее.
– И почему я маленькой не померла! – крикнула Олена Ивановна и забилась в судорогах.
С той поры между хозяйкой и Христей установилась тесная связь, можно было сказать – дружба, если б они были равными, а то Христя всегда держалась особняком – как младшая, чужая и служанка. Зато Олена Ивановна относилась к Христе, как к младшей сестре. Если Христя забудет что-нибудь сделать, хозяйка сделает сама. После праздника она не только упросила мужа дать денег на одежду для Христи, но сама пошла в магазин и купила материал на будничное и праздничное платье. У Христи все еще болела обожженная рука, и Олена Ивановна сама сшила ей платье, а Христе смазывала руку, чтобы она скорее зажила.
В будни Загнибида приходил домой только пообедать и на ночь, а то все был на базаре или в лавке. Христя с хозяйкой – вдвоем дома. Управившись, они садятся рядом, принимаются за рукоделие и ведут длинные задушевные разговоры. Олена Ивановна вспоминает о своем житье-бытье, Христя – о своем.
– Неужели ты никогда не пела? – спросила ее однажды Олена Ивановна. – Вот уж сколько ты у нас, а я ни разу не слышала, чтобы ты запела.
– Дома я пела. Но тут как-то боязно.
– Почему? Спой, напомни мне мое девичество.
Христя запела, а хозяйка ей подпевала своим слабым голосом.
В другой раз Олена Ивановна попросила Христю рассказать о своей семье. Христя рассказала ей о родных, о кознях Супруненко. Она ничего не скрывала от хозяйки. Та слушала и только глубоко вздыхала.
– Знаешь что, – сказала она, когда Христя умолкла. – Ты бы пошла в село мать проведать.
– Когда же мне пойти? – спрашивает Христя.
– Когда? В среду его унесет нелегкая до самого понедельника. Вот и выбери день – сходи.
– А вы же одна останетесь!
– Обо мне не беспокойся. Не впервые мне одной оставаться. А ты пойди да мать сюда приведи. Теперь погода хорошая и тепло, я хоть посмотрю на нее.
– Нет, мать такая, что не дойдет сюда.
Олена Ивановна вздохнула.
– Ну, хоть проведаешь.
Христя задумалась: «Когда ж идти? В среду хозяин выедет; в четверг надо убрать. Разве в пятницу? Выйду пораньше – к обеду поспею. Субботу дома пробуду, а в воскресенье обратно…»
Она увидится с матерью, с подругами наговорится, возьмет с собой новое платье. Как нарядится и покажется в селе, вот все удивятся! А Супруненко как увидит, так его колики схватят! Она нарочно пройдет мимо его окон, а когда увидит Федора, начнет с ним заигрывать.
– Ты ж, Христя, сегодня пораньше управляйся и ложись спать, чтобы выспаться, а то тебе рано вставать, дорога не близка, – говорит ей хозяйка в четверг после обеда.
Христя так усердно взялась за работу – все у нее горит под руками! Кажется, все сделала. Нет, не все! К празднику сарай остался немазанным; теперь вёдро – в самый раз мазать.
– Это дело долгое, не начинай, – говорит ей хозяйка. – Вот уж как вернешься – тогда.
Хоть и не говори Христе. Как? Сарай побит зимними метелями, исполосован весенними дождями, облупился, а она его так оставит? Ни за что! Он уже давно у ней как бельмо в глазу.
Сейчас же после обеда она надела старое платье, замесила глину и начала заделывать щели. Еще до сумерек замазка высохла, осталось только побелить. О, за этим дело не станет! Пока солнце зайдет, она и с побелкой управится…
Не мешкая, Христя начала белить. Теплое солнышко ей помогает: только проведет щеткой, а оно уже и сушит. Вот осталось только желтой глиной низ обвести. Скорее, Христя, скорее! Уже вечереет – подгоняет она себя.
Вдруг что-то затарахтело около двора. Тпру! Конь сворачивает к воротам. «Кого это несет! – думает Христя. – Чего доброго, хозяин вернулся. Вот и пойду домой!» Раскрывается калитка. Христя видит: идет Карпо Здор. У Христи тревожно забилось сердце.
– Дядько Карпо… Здравствуйте!
– Здорово, Христя, – говорит Карпо, входя во двор. – А я подъехал, да боюсь идти, думаю, может собаки… лучше подожду.
– Да у нас их нет, – щебечет Христя. – Как же там наши? Все ли здоровы?
– Да ничего, еще прыгают, слава Богу! Мать кланяется, Одарка…
– А вы, дядька, на базар?
– На базар. Да и не так на базар, как на тебя поглядеть. Мать плачет, убивается… нет от тебя весточки. Одарка утешает ее, но ничего не помогает, одно – плачет! Вот я и думаю: поеду на базар, проветрюсь и о тебе весточку привезу матери.
– Спасибо вам, – благодарит Христя. – А я и сама собираюсь в село.
– Как? Чего?
– В гости. Спасибо хозяйке – отпускает.
– Вот и хорошо, а я тебя подвезу.
Тут и Олена Ивановна, услышав во дворе шум, выглянула наружу.
– Кто там? – спрашивает она Христю.
– Это наш сосед из села.
– Вот и хорошо, поедешь с ним вместе.
– Мы об этом и толкуем, – говорит Карпо.
– Что же ты человека в хату не позовешь? Хорошо гостей принимаем! – шутя упрекает она Христю.
– Спасибо вам, – кланяясь, говорит Карпо. – Только я не один: за воротами лошадь.
– Ну так что? Разве нельзя во двор заехать? Переночуешь тут, а завтра и поедете. Заезжай, – говорит Олена Ивановна.
Христя рада, а Карпо еще больше. На базаре и глаз не сомкнешь всю ночь – стереги лошадь и добро, что на возу, а тут он заночует в хозяйском дворе.
Пока Карпо распрягал лошадь, Христя кончила работу и позвала гостя в кухню. Вышла к ним и хозяйка. Такая она обходительная, вежливая, расспрашивает про село, сходы, Христину мать; хвалит – не нахвалится Христей.
– Ты бы засветила и поужинать гостю дала, – сказала она, когда начало смеркаться, и ушла в комнату.
Пока Христя зажгла свет, вынула горшки из печи, Олена Ивановна вернулась, да не с пустыми руками: принесла чарку водки. Она подала ее гостю. Карпо, учтиво поблагодарив, выпил и принялся за ужин.
– Хороша у тебя хозяйка, Христя, – сказал он, когда Олена Ивановна вышла из кухни.
– Как мать родная, – тихо сказала Христя.
– Значит, тебе хорошо! Не скучаешь по дому?
– Всяко бывает. Часом – с квасом, порой с водой… А как в селе? – И Христя начала расспрашивать о знакомых и подругах.
Карпо рассказал, что девчата по ней скучают.
– Горпына уже не раз забегала проведать мать и расспросить о тебе; говорит, что без тебя и гулянки – не гулянки. Она тоже в город собирается служить. Уж собралась бы, так мать все удерживает.
– А Ивга?
– Ивга замуж собирается.
– За кого?
Карпо усмехнулся.
– За кого же – за Тимофея! Там у них чудеса, да и только! Она готова хоть сейчас, так он, вишь, не хочет. Дело дошло до суда. А потом сказали, что помирились. Скоро и свадьба.
– Ну, а Супруненко успокоился?
– Как же, успокоился!.. Все пристает к матери с подушными. Если бы я ее не отстаивал, то кто его знает, что тут было бы. Как оса, не отвяжется! Да, видно, Бог ему этого не простил.
– Как же?
– С сыном неладно. То хворал, а теперь выздоровел, да кто его знает, что с ним стало: ходит, как придурковатый. А после праздника надумал бросить отцовский дом – пойду, говорит, на заработки… Отец не пускает; а он одно – в город пойду, наймусь, дома не хочу жить. Отец его уговаривает. Известное дело: стыдно такому богачу отдать единственного сына внаймы, а тот рвется. Доходит до ссор и драки. Грыцько, пьяный, говорил: кабы знал, что такая беда будет, не запрещал бы ему эту Христю взять.
– Пусть он трижды умоется со своим Федором, – презрительно сказала Христя.
На этом разговор прервался. Карпо, поужинав, пошел проведать коня. Христе почему-то стало тяжело на душе. Ей будто и жаль Федора, а как вспомнит слова Грыцька, досада змеей впивается в сердце. «И как носится со своим Федором! Думает, если он богач, то каждая побежит за ним…»
Расстроенная, легла Христя и долго не могла уснуть. Она ворочалась и тяжело вздыхала, думая свою невеселую думу. У нее даже отпала охота домой ехать. Зачем она поедет? О матери Карпо ей уже привез весточку – здорова, только о ней и кручиниться… А кто ей еще нужен? Еще встретится с этим незадачливым Федором – опять пойдут о ней толки и пересуды. Незаметно подкрался сон…
Проснулась она, когда уже совсем рассвело, Карпа уже не было в хате. Христя вышла во двор, но и там его не было.
Карпо чуть свет поспешил на базар, чтобы скорей управиться и, не теряя времени, вернуться домой. Когда он пришел, Христя не только успела собраться в дорогу, но и по хозяйству много сделала: наносила дров, почистила и накрошила овощи для борща.
– Ну что, готова? – спрашивает Карпо.
– Готова.
– Так едем.
– Сейчас хозяйка вернется с базара.
Олена Ивановна не замешкалась. Христе показалось, что хозяйка очень оживлена – у нее даже появился легкий румянец на щеках и глаза сияли.
– Задержала я вас? – спросила она.
– Нет, я сам только что вернулся, – сказал Карпо.
– Ну и хорошо. А я так спешила. Вот, Христя, повези матери гостинец от меня, – и она подала Христе высокую большую булку.
– Зачем это?
– Не твое дело. Бери! – строго сказала Олена Ивановна.
Христя, поблагодарив, взяла булку и завернула ее в новый платок.
– А это вам на дорогу, – сказала Олена Ивановна и протянула Карпу паляницу и две рыбины.
– О, Господи! – сказал Карпо. – Спасибо вам, спасибо! Не знаю, как вас и благодарить… И ночевать пустили, а тут еще и гостинцы… Спасибо.
– Одевайся потеплей, – сказала хозяйка Христе, – бери свитку, кто его знает, может, похолодает до вечера.
Христя надела свитку, подпоясалась.
– Прощайте. Спасибо вам! – еще раз поблагодарили хозяйку Карпо и Христя, выходя из хаты…
– Счастливо… Поезжайте с Богом! Гляди только, дядька, – усмехаясь, говорит Олена Ивановна, – не завезите совсем девку, а то я без нее пропаду.
– Как же это можно! – сказал Карпо.
Они уже сели на воз. Карпо взял вожжи.
– Христя, – крикнула Олена Ивановна. – Иди на минутку, я тебе кое-что скажу.
Хозяйка отвела Христю в сторону и сказала ей встревоженно:
– Кланяйся от меня матери, хоть я ее и не знаю. Скажи, что деньги за службу не пропадут… Слышишь? Так и скажи. Не отдаст хозяин, сама заплачу. Слышишь?
– Слышу, слышу. Спасибо вам! – благодарит Христя.
Олена Ивановна проводила их за ворота, еще раз попрощалась и сказала Карпу, чтобы не слезал с воза закрывать ворота.
– Я сама закрою. Езжайте с Богом!
Карпо дернул вожжи, и лошадка покорно поплелась. Олена Ивановна провожала их глазами, пока они не скрылись за поворотом улицы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Когда ехали по городу, петляя по его кривым улицам мимо высоких каменных домов, Христю осаждали грустные мысли. Как странно, что она уезжает… Куда? Зачем? В село, к матери… То-то мать обрадуется нечаянной встрече… А что, если по дороге их встретит хозяин и заставит вернуться?… Не приведи Господь!
Христя отворачивалась от всех встречных: в каждом ей видится хозяин. «Хоть бы скорее миновать город. Едем, едем, а ему конца-краю нет!»
Но вот остались позади высокие дома и лавки. Мимо побежали убогие домишки бедноты. Сначала густо – они словно прижались друг к другу, чтобы было теплее и уютнее, – но чем дальше, все реже и реже. Вот двор без плетня, в другой хате труба развалилась, третья накренилась набок, в окнах вместо стекол торчат тряпки, по захламленному двору бегают полуголые дети… Боже! Какая нищета!
Поднялись на гору. Перед ними распростерлись поля, пестрея то изумрудными поясами ржи, то светло-зелеными всходами пшеницы, то черным бархатом паров. У Христи словно камень свалился с души, сразу стало и вольно, и легко… Солнце, поднимаясь ввысь, ласково пригревает; весенний ветерок освежает воздух; жаворонки, кувыркаясь в воздухе, заливисто поют; в темном лесочку закуковала кукушка… Так всюду красиво, просторно, так вольно дышится!.. Сердце Христи бьется спокойно; она глядит не наглядится на поля, синеющие луга, темные овраги, зеленые холмы… Ее убаюкивает какая-то сладостная истома. Ох, как же здесь хорошо! Боже, как чудесно!
Лошадка бежит, колеса только шуршат, катясь по сухой земле. Карпо, покачиваясь, молча посасывает трубку и порой только обмолвится словом о том, что хорошее здесь жито… или о том, что недавно эту пшеницу сеяли, а как взошла! И снова надолго умолкнет. Христя довольна: ничто ее не отвлекает от сокровенных мыслей, не нарушает сладостного покоя. Она любовно разглядывает каждый бугорок, каждое придорожное дерево. Вот какая славная долина – зеленая-зеленая и вся заросла травой-муравой. Хорошо бы полежать на этом зеленом ковре, подышать вольным полевым воздухом.
А что это за хатки стоят при дороге? Синий дымок вьется над закопченной трубой, кудрявыми облачками рассеиваясь в прозрачном воздухе… А что это за хутора? Неужели Осипенковы? Да, они… И перед нею, как живые, встали черноглазая Марья и старая сварливая Явдоха. Как-то они поживают? Явдоха все так же грызет свою невестку, а та молчит? Или, чего доброго, в город от них убежала. «Такой уж я уродилась, – сказала она, – такой и умру…» Городская!.. И что там хорошего, в городе? Живут лучше? Кто живет в достатке, тому хорошо, а беднякам всюду плохо. Да порой и достаток не помогает, если нет счастья. Вот хозяйка живет в богатстве, а что толку?… Как кому повезет.
Проехали еще немного. Вдруг Христя громко засмеялась. Карпо недоумевающе посмотрел на нее:
– Чего ты?
А Христя все хохочет. Доехали как раз до Гнилой балки, где провалился сотский Кирило. Вся эта картина, точно живая, стояла перед глазами Христи: как Кирило осторожно пробирался по снегу, как попал в яму, как ругался, когда вылез… Христя, смеясь, рассказала все это Карпу. Тот молча слушал. «Дивчина, – думал он, – все у вас смех да забавы на уме».
Вдруг лошадка дернула воз и пустилась вскачь. Карпо потянул вожжи.
– Тпру!.. Ишь, почуяла свою землю и пошла скакать, – сказал он, сдерживая расходившуюся конягу. – А небось когда ехали в город, еле ноги волокла. Тут уже наша земля. – И Карпо вскоре стал ей показывать, где чей участок. Это были маленькие клочки, одни только заборонованные, на других уже зеленели свежие всходы.
Христе казалось, что тут и полоски были уже, и колосья ниже, чем около города. Там – поля широкие и длинные, густые как щетка всходы, а тут лишь кое-где пробивается бледная зелень. Христя поделилась своими мыслями с Карпом.
– Хозяева там зажиточней, – начал тот, – землю лучше обрабатывают, да и земля жирней. Тут она глинистая, рыжая, а там как уголь черная. Небось городские хитры – лучшие земли захватили. Оно бы и здесь ничего, если бы земли было больше. А то всего ее горсть, и добывай оттуда и на подати, и на пропитание. – Карпо тяжело вздохнул; вздохнула и Христя… Вскоре блеснул крест марьяновской церкви, засверкал купол, показалась зеленая крыша, потом сады, хаты… Село! Село!.. И сердце Христи тревожно забилось.
В этот день Приська, управившись по хозяйству, села отдохнуть. Есть ей нисколько не хотелось. Бесконечной вереницей бежали невеселые думы… Что там, в городе? Как живет Христя? Не вернулся ли Карпо? Приську неудержимо тянуло пойти к соседу разузнать.
«Хоть бы там все было хорошо. Хоть бы Христя была здорова. Прислуга только тогда хороша для господ, когда здорова… Здоровье – всему голова…» – думала Приська, собираясь пойти к Здору.
Она застала Одарку за работой: та купала детей. Черноглазая Оленка, уже вымытая, лежала на подушке и весело лепетала. Белоголовый Миколка плескался в теплой воде. Ему хотелось нырнуть, и он то наклонялся, то ложился, спрашивая мать, видна ли его голова. Одарка и не думала купать Миколку, но тот, увидя, что купают сестру, тоже напросился.
– Воды нет, – пробовала его уговорить Одарка.
– А я в той, что Оленку купали.
Пока Одарка вытирала и одевала Оленку, Миколка разделся и прыгнул в корыто.
– Я не то что Оленка, я плавать и нырять умею!.. – И так расходился, что вода выплескивалась из корыта.
– Что это ты, Одарка, детей купаешь? – спросила Приська, торопливо закрывая дверь.
Одарка не успела ответить, как закричали дети:
– Бабуся, бабуся!
Оленка с сияющими черными глазками, простирая к ней свои пухлые белые ручки, нетвердо говорила: «Видишь… видишь… купалась…» Приська подошла к Оленке и поцеловала ее тонкие пальчики. А Миколка кричал:
– Бабуся! Бабуся! Глядите, как я нырну… с головой…
– Хорошо, хорошо, – похвалила его Приська, лаская Оленку.
– Вы же не смотрите, – кричал Миколка. – Посмотрите!
Приська повернулась к нему. Миколка, зажмурив глаза и зажав нос, опускал голову в воду.
– А что, глубоко? – спрашивал он.
– Ух, глубоко! Гляди не утони!
– Нет, я не утону. Я умею плавать, – храбрился Миколка, размахивая руками.
Потом Приська спросила Одарку:
– Что, не было? Не возвращался?
– Нет. Бог его знает, что это означает. Время бы уже ему вернуться, а его все нет… Садитесь. Подождем его немного, а если не приедет, пообедаем вместе.
– Спасибо тебе. Я только узнать зашла… – сказала Приська и собралась идти. Одарка ее не пускает.
– Если уйдете, рассержусь и никогда к вам не приду! – сказала она.
Приська осталась. Миколка наконец вылез из корыта, и Одарка принялась его одевать. В это время снаружи донеслось: «Тпру!»
– Карпо! – крикнула Приська и скорее во двор.
Поздоровавшись с Карпом, она спросила:
– Ну, как там Христя? Жива-здорова?
– Да Христя же тут!
– Как тут? – вскрикнула испуганно Приська.
– Приехала.
– Когда? Где? – бормочет она, совершенно растерявшись, дрожа от волнения.
– Домой Христя пошла, – весело отвечает Карпо.
Приська бросилась во двор и встретилась с дочкой у ворот.
– Здравствуйте, мама! – веселым звонким голосом кричит Христя, подбегая к матери. – Не ждали меня?
Приська так ошеломлена, что не может вымолвить ни слова и только глядит на Христю потухшими глазами.
– Маменька! Не узнаете меня? – спросила Христя.
– Христя! Дитя мое! – и Приська, обняв дочь, заплакала.
В это время к ним подбежала Одарка. Она тоже обняла и расцеловала Христю.
– Вот молодчина, что приехала! Мы тут о тебе каждый слух ловим, а свидеться и не гадали.
– Я и сама не ждала, – весело говорит Христя.
– Молодчина, молодчина, – хвалит ее Одарка.
– Чего же мы тут стоим? Пойдем в хату, – вымолвила Приська.
– Идите побеседуйте, потом к нам приходите. Слышишь, Христя? Грех тебе будет, если к нам не зайдешь, – добавила Одарка.
– Приду, не забуду!
Соседи разошлись по своим хатам.
– Как же вы тут живете? – весело спросила Христя, войдя в хату. После городских покоев родная хата показалась такой маленькой и тесной. Она столько лет тут прожила, но раньше этого не замечала.
– Как живем? Известна наша жизнь, – бубнила Приська. – Смерти дожидаемся, а она не приходит!.. Уж такое наше житье: то с одного бока рвут, то с другого скребут. Если б не Здоры… Да хватит! Разве ты сама не знаешь, как жили? Лучше не стало… Как ты?
– Я? Обо мне не беспокойтесь, маменька. Мне там хорошо. Хозяин немного крутенек, зато хозяйка – дай ей Господи здоровья и счастья! – хороший человек. Она вам кланялась. Поклонись, говорит, матери, скажи ей – пусть не убивается, успокой, что твоя служба даром не пропадет; я, говорит, сама тебе деньги отдам… Просили вас к себе в гости. Скажи, говорит, пусть приходит, приму как родную. Такая добрая душа! Такая добрая! Зато ж и достается ей порой… Должно быть, всем добрым людям достается!
Приська тяжело вздохнула. Она задумалась над последними словами дочери. Откуда у нее такие мысли? До сих пор она никогда таких слов не говорила, и в мыслях у нее такого не было, а вот послужила немного – и своим умом дошла…
Ох, не так оно, видно, хорошо, как она рассказывает… Скрывает от матери свою беду, чтобы не огорчить ее… И рыдания подступали к горлу Приськи.
– Вы плачете, мама?
– Ох, только погляжу на тебя, так и заливаюсь слезами.
– Вы мне не верите? – спросила Христя. – Так вот пусть меня Бог накажет, если я лгу. И с чего я бы стала вас обманывать?
– Бог с тобой, Христя!.. Видно, видно… – утирая слезы, сказала Приська. – Я не от того плачу – сама не знаю, почему слезы льются. Хорошо тебе там – и ладно, а если плохо – я все равно ничем тебе не могу помочь… Да что это я? Ты с дороги, верно, есть хочешь, а я и забыла. Будем обедать, я еще тоже ничего не ела.
Приська бросилась к печи.
– Не надеялась я, что ты приедешь, а то хоть бы курочку зарезала да борщ с ней сварила, а то только салом заправила, – говорила Приська, наливая борщ в миску.
Сели обедать. Христя взялась за ложку. «Вот и сели обедать, – горек наш обед!» – вспомнила Христя старинную песню. И было от чего. Она попробовала борщ: и соли мало, и навара нет, одни кружочки бурака плавают поверху. Христя сразу положила ложку.
– Невкусный, дочка? – спросила Приська. – Сама знаю, что плохой… С чего ему вкусным быть? Погреб у нас неглубокий – картошка замерзла зимой, а весной совсем погнила, еле набрала полмешка, чтобы посадить. Мяса и в заводе не было. Бурак и квас надоели, да и того уж немного. Соли тоже осталась одна горсть – кладу понемножку, берегу, чтобы хватило подольше. Вот так-то! А ты там, должно быть, все с мясом борщ ешь? Городские что-что, а полакомиться любят.
– Да, еда у них хорошая, – сказала Христя.
– Ты бы хоть с кашей борща поела, если так не хочешь.
Христя взялась за кашу, а она дымом пахнет.
«Постарела мать, – подумала она. – Когда-то такую хорошую кашу варила, а теперь и не доглядела». И словно клещами сжало ей сердце. Приська тоже замерла в грустном раздумье. На выручку явилась Одарка.
– А вы обедаете! Пойду, думаю, еще погляжу на Христю, какая она там.
– Да что мне сделается, и черт со мной не справится! – задорно ответила Христя.
– Вот гляди на нее!.. На что ты ему сдалась? Дай Боже, чтоб он тебя не трогал. Чтобы ты скорее свой срок отслужила и снова к нам вернулась. Без тебя и мать плачет, и мне скучно: приду к вам – пусто, пойдем к нам – чего-то не хватает. Вот так сойдемся, посидим, тебя вспомним, – как там она крутится, на белом свете? А ты нас хоть раз вспомнила, Христя? Или в городе за хлопотами уже некогда своих вспоминать?
– Хлопот хватает, – вздохнув, ответила Христя.
– Правда, дочка, правда, всего хватает. На то и плохое, что с ним бороться! – соглашается Приська.
Разговор вела Одарка с Приськой, Христя больше молчала и слушала. Ей тяжело было слушать жалобы и нарекания. Разве этим поможешь горю? Разве она за этим приехала домой? Она хочет здесь отдохнуть и забыться. Когда вернется в город, опять все пойдет своим чередом. А к чему здесь душу тянуть?
– Горпына дома? Хотелось бы мне ее увидеть, – спросила Христя, чтобы прекратить нудный разговор.
– Дома, дочка. Если захочешь, сходи к ней после обеда.
– Я уже наелась, – сказала Христя, встала и перекрестилась.
– Иди, ладно, – грустно сказала Приська и, поднявшись, начала убирать со стола.
– Я на минутку, мама, только увижусь с Горпыной и вернусь. А вы, Одарка, не уходите, – весело тараторила Христя, собираясь идти.
Приська только вздохнула. Их обеих поразило то, что Христя так быстро ушла из дому. «Приехала к матери к гости и сразу же убежала к чужим», – подумала Одарка.
– Ну, что рассказывает Христя? Хорошо ей там или нет? – помолчав, спросила Одарка.
– Говорит, – ответила грустно Приська, – что хозяйка добра к ней, а там… Бог его знает! А может, только прикидывается: все они сначала добрые, пока не оседлают, а насели – вези до упаду.
– Карпо тоже говорит… Такая добрая, и ночевать пустила во двор, и накормила-напоила.
– Эй! Девка! – донесся со двора голос Карпо. – Куды ты?
– Прощайте! Ухожу, – откликнулась Христя.
– Вишь шустрая какая! Мать бросила, а сама бежать.
– Кто это? – спросила Приська, прислушиваясь.
– Карпо идет. Видно, встретил Христю.
Вскоре вошел и Карпо, неся в руке узелок.
– Здравствуйте! – сказал он.
– Здорово, Карпо!
– Встретил вашу, побежала куда-то. Рада, что вырвалась на волю.
– К Горпыне пошла. Молода… хочется ей подружек повидать, – сказала Приська.
– А это вам гостинцы. Хозяйка кланялась и велела передать.
Глаза у Приськи оживились, когда она увидела булку и паляницу. Взяв хлеб, Приська поцеловала его и положила на стол.
– Видишь, как в городе пекут; у нас так и не умеют, – говорила Одарка, разглядывая булку.
– Ихнее дело такое. Нам такой хлеб есть не приходится, оттого и печь не научились, – сказала Приська.
– Отчего же это так: городским – белые булки, а нам черный хлеб с мякиной? – спросила Одарка.
– Так уж оно повелось, город все лучшее забирает.
Одарка глубоко вздохнула.
– Паны да богачи! – сказала она погодя.
Никто ее не поддержал. Карпо начал рассказывать о поездке в город, о посевах, о Христиной хозяйке.
– Еще слава Богу, что Христе так повезло, – у ней добрая хозяйка, словно не чужая, а мать родная.
Они долго так говорили между собой.
Улеглись тяжелые мысли Приськи, успокоилось ее сердце. Тревога сменилась надеждами, планами, предположениями. Слава Богу, что Христе неплохо. Хозяйка обещает отдать деньги. Отдаст – спасибо ей! Христе новое платье будет. У нее хоть и есть одежда, но лишняя не помешает. А если не отдаст – тоже не беда; пропадет полгода службы, – так еще и не то пропадет…
«Полгода, – думает Приська, ложась отдохнуть после ухода Карпо и Одарки. – Уж как-нибудь перебьюсь это время… А там снова заживем вместе… снова… Может, и суженый найдется… неужели она такая несчастливая?… И красотой, и здоровьем Бог не обидел – разве только счастьем…»
Не спалось Приське. Мысли о судьбе дочери, обиды людей, горе и нужда отгоняли сон и покой от нее.
Что же делает дочка в те часы, когда мать изнемогает от тяжелых мыслей и бессонницы?
Христя сидит у своей подруги Горпыны, которая ни на минуту не умолкает. Она рассказывает Христе новости о знакомых, что где случилось, какие слухи идут – всем делятся подружки, каждой незначительной мелочью. Рассказала о том, как Ивга подавала в суд на Тимофея, про то, как Тимофей, встретив ее, Горпыну, говорил: если б не толстая Ивга, он бы прислал к ней сватов… Про Федора, что до сих пор не может прийти в себя. «Все о тебе вспоминает и плачет. Он тебя взаправду полюбил…»
Христя слушает рассказ подруги, и сердце ее тревожно бьется. Недавнее прошлое, от которого ее оторвали, снова волной захлестнуло. Она окунулась в былые переживания, и они овладели ее мыслями и чувствами.
– А знаешь, мне жалко его, – вздохнув, сказала Христя.
– Кого?
– Федора. Он хороший. Лучше Тимофея и всех. Те только острые на язык, а этот тихий, молчаливый. Вот за кого выходи замуж, Горпына, не раскаешься.
– Сказала! На тебе, Боже, что мне негоже! – сказала Горпына. – А ты почему за него не выходишь?
– Я – другое дело. Его родители не хотят, чтобы я стала их невесткой.
– А меня они захотят? Грыцько богатую ищет. Думает, найдет где-нибудь дуру… Да ну его к дьяволу! Ты мне лучше про город расскажи. Как там у вас? – без умолку болтает Горпына. – Видела Марину? Как она там? Совсем городской стала. В село и не заглянет никогда.
– Не видела. Некогда было ее разыскивать.
Потом Христя начала рассказывать о жизни в городе, нравах и обычаях, о своих хозяевах. Она не скрыла от подруги ничего, что произошло у нее с хозяином.
Сейчас Христя вместе с Горпыной от души посмеялись над тем, что еще недавно доводило ее до слез.
– Тебе везет в любви! – смеялась Горпына, завистливо поглядывая на свою подругу.
– Желаю и тебе того же! – весело отвечала ей Христя.
– Не хочу, не надо! – Горпына замахала руками. – Старый, женатый! А ну его в пекло! Осиновый кол ему!
Побагровев, как сафьян, Горпына залилась смехом. А Христя начала передразнивать пьяного Загнибиду.
Так они еще долго смеялись и шутили.
Христя собиралась на часок к подруге, а вернулась только вечером. Солнце село, пурпурным заревом пылал закат, потемнел небосклон; над селом опускались сумерки. По улицам, тяжело ступая, возвращалось домой стадо: бежали свиньи, овцы. Хозяйки зазывали свою скотину во дворы. Перед наступлением ночи в селе было шумно, суетливо. И каким радостным кажется это все Христе! Как в летний зной путник жадно припадает к струе родника на дне глухого овражка, чтобы утолить мучительную жажду, так Христя жадно ловила знакомые с детства звуки сельских буден.
Около кладбища Христя заметила фигуру хлопца. Он шел неторопливо, понурившись, словно что-то разыскивал на земле. Христя присмотрелась внимательней: походка знакомая, одежду тоже будто видела, а парень ровно незнакомый. Кто бы это мог быть? Его заострившееся, похудевшее лицо напоминало чем-то Федора. Неужели это он?
– Федор! – окликнула его Христя.
Парень словно испугался: он вздрогнул, поднял голову, оглянулся и, сгорбившись, снова медленно побрел дальше.
«Не узнал», – думала Христя, возвращаясь домой. Незаметно подкравшееся чувство досады овладело ею. «Неужели я обозналась? Нет, нет, это был Федор. Только что же с ним стало? Никогда я его таким не видела… Исхудал, опустился!»… До самого дома не оставляли ее мысли о Федоре.
Около своего двора она встретила мать.
– Вот это так! Пошла на часок, а проходила до вечера, – укорила ее Приська.
Христю охватила тоска. «Спятила я, что ли? – подумала она. – Приехала к матери и сразу же пошла шататься, незнакомых парней высматривать…»
– А Одарка ждала, ждала тебя… И Карпо приходил. Долго сидели, тебя поджидали. Перед вечером Одарка опять забегала… «Нету?» – спрашивает. «Нет», – говорю. «Видишь, – говорит, – какая она: как по чужим, так на весь день готова, а ко мне и в хату не заглянула».
– Да я и сама не рада, что пошла, – сказала Христя.
В хате ей стало еще тоскливей. Мать несколько раз начинала разговор, но он как-то не клеился: то Христя промолчит на вопрос, то ответит не то… Когда совсем стемнело, она легла спать. Но сон убегал от ее изголовья. Сквозь маленькие оконца в хату струится ночной сумрак; звезды, словно искры, мелькают в темноте. Тихо-тихо…
Христя лежит и думает. Думы нескончаемой чередой плывут в ее голове. Ей кажется странным, что она дома. Только что была в городе, и вот сейчас – дома. Она вспомнила свой разговор с Горпыной. Много лишнего она наговорила. И зачем это нужно было? Что, если Горпына не удержится и разнесет по всему селу? Нет, Горпына не такая: она никому не скажет. А если?… Христя может тогда выдать и ее тайны. Но кому? Кто ее знает в городе? Разве хозяйка? А что теперь делает хозяйка? Отдыхает, верно. Хотелось бы увидеть ее. Всего только день не видела, а уж так соскучилась. А что, если вернулся хозяин и ругает ее за то, что она отпустила Христю? И ей даже померещились голос хозяина, сердитый взгляд, бранные слова. Господи! Уж лучше бы вернуться!
Сердце Христи тревожно забилось. И тут снова вспомнился Федор – весь его измученный вид, опечаленный взгляд. До поздней ночи ворочалась Христя, пока благодатный сон не успокоил ее.
С грустными мыслями уснула Христя и проснулась с безрадостными. Она видела дурные сны, но не могла их вспомнить. Тяжелое предчувствие заставило усиленно биться сердце, неясная тревога овладела ею. Она умылась, принарядилась, а чувство это росло и ширилось. Тесной и неприглядной кажется ей хата, да и все село стало будто меньше, вид у него унылый, заброшенный, словно пожар опустошил его. Она с радостью сейчас бы уехала отсюда. А сегодня суббота, и только завтра после обеда она уедет… Такая тоска ее охватила, так тяжело на душе!
– Что ты грустишь, дочка? – спрашивает Приська. – Ты бы пошла к Одарке.
Христя собралась, пошла. Только и у Одарки ей не лучше. Детвора шумит. Одарка ее расспрашивает, а ей слово трудно вымолвить; мысль о городе не дает ей покоя. Вскоре пришла мать. Она беседует с Одаркой, а в сердце словно змея впилась и жалит, жалит…
– Уж я, мама, сегодня, должно быть, уйду, – сказала Христя, когда они вернулись домой.
– Отчего ты так спешишь, дочка? Отпросилась до понедельника, а уж сегодня хочешь идти. Неужели так быстро надоело у родной матери?
– Я и сама не знаю, что со мной… Так мне тяжело, так тяжело… Сердце щемит чего-то… Все кажется, что хозяин вернулся.
– Так что? Разве ты по своей воле пошла? Тебя же отпустили. И не насиделась я с тобой, не наговорилась, не нагляделась на тебя, – жалобно произнесла мать.
Христя вытерла слезы. Она ничего не сказала матери, но решила завтра ранним утром двинуться в путь.
И свое решение Христя выполнила. На следующий день она встала еще перед рассветом, собралась, попрощалась с матерью и ушла. Приходила Одарка, забегала Горпына звать ее на гулянку, заходили еще несколько девчат, но застали только заплаканную мать, а Христя была уже далеко.
– Чего ж она так быстро собралась? – удивилась Горпына. – Говорила, что останется до понедельника, а сегодня убежала.
– Убежала… убежала!..
«Примчалась – словно огонь и как дым растаяла…» – думала Приська, обливаясь горькими слезами.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Когда поднялось из-за горы солнце и осветило бескрайние просторы полей, покрытые, словно слезами, утренней росою, Христя уже была далеко от села. Перед ней распростерлись зеленеющие нивы, позади в сизом тумане затерялось село. Христя ни разу не оглянулась на него. Смутные и тревожные предчувствия гнали ее вперед. Там, вдалеке, за этим морем света, за полями и лесами, стоит дом ее хозяев. «Все ли там хорошо? Вернулся ли хозяин с ярмарки? А что делает хозяйка?» Сердце так ноет, так томится… Ох, скорее бы добраться!
Христя все ускоряет шаг. Не заметила, как кончились марьяновские поля и перед ней очутился мостик на Гнилом переходе – он как раз на половине дороги. Был полдень, солнце стояло в зените. «Еще рано, – думает Христя. – Дойду до Осипенковского хутора, отдохну, напьюсь воды и проведаю Марью. Как-то она там?»
Воспоминания о Марье на некоторое время отвлекли ее от мыслей о городе. Но ненадолго… Может, Марьи нет… а может, она ушла в город… «Опять город! – подумала Христя, и что-то горькое и гнетущее заполнило ее сердце. – Ну, чего это я?» – подумала она, вытирая внезапно набежавшую слезу. И снова заторопилась.
Вот и Осипенковы хутора. Что-то торчит среди Марьиного двора; оттуда доносится громкий крик. «Видно, свекровь расходилась. Неловко и заходить», – думает Христя, замедляя ход. Она не ошиблась: это действительно кричала Явдоха на маленького человека, сидевшего на завалинке.
– Говорила: учи шкуру! Бери палку и бей! Так жалко тебе? Вот и дождался… Она тебе и поднесла. – И, сделав обеими руками шиш, Явдоха ткнула ими в глаза маленькому человеку.
Тот сидел понурившись и не проронил ни слова в ответ.
– Молчишь? Молчишь? – снова затараторила Явдоха. – И что ты за человек? Если б ты ей раз-другой намылил шею, она б тебя уважала, почитала! А ты – как воск мягкий! Точь-в-точь покойный отец… Того хоть я в руках держала… А ты что? Тьфу!.. Теперь вот и сиди, как сыч, и жди, когда она вернется… Дожидайся!
– Ну, чего вы привязались ко мне? – грустно сказал ей сын. – Кто же, как не вы, выжили ее своей грызней?
– Так я виновата? Родная мать? Это благодарность матери, что научила тебя уму-разуму? Я ее выгнала? Что ж я – собака, по-твоему?
– Я не говорю, что вы собака, а зачем вы ругаетесь? День не пройдет без того, чтобы вы ее не грызли, ни на минуту не оставляете человека в покое!.. Только и ждешь: вот-вот опять поднимете бучу! Разве в таком пекле, прости Господи, проживешь? Камень – и тот не выдержит…
– А что ж, по-твоему, смолчать ей? Какой-то поганке? Кто она такая? Что она нажила, в дом принесла? В чужом хозяйстве да еще заправлять будет? Нет, не дождется этого! Велика беда, что она ушла бродить… Подумаешь – горе! Ей не впервые в бега подаваться… Такую и взял…
– Да вам-то что?
– Что? Что? – надрывалась старуха. – Эх ты, дурная голова! Да как же стерпеть, что она насмеялась над нами, над тобой, дурнем! Где это видано, чтобы жена жила с мужем врозь? Я бы ее, поганую такую, через полицию заставила домой вернуться… Я б ее, как собаку, на целый месяц к столбу привязала… каждый день бы ремнем потчевала! Я бы из нее выбила городские замашки! А он еще спрашивает – мне что? Тьфу на твою дурную голову! – И, сердито плюнув, старуха ушла в хату. Сидор только развел руками и снова поник головой.
«Нет, не зайду, – подумала Христя, стоявшая за сараем. – И к чему? Марьи дома нет, уж пойду дальше», – решила она и снова свернула на шлях.
«Значит, Марья настояла на своем, – думала Христя, – ушла… Так вот какой ее муж! Жалко его: жена бросила, а тут еще мать бранит. Несчастный! Я бы, кажется, стерпела. Не два века старухе жить. Впрочем, кто его знает – от добра не убегают. Видно, допекает, старая, что дальше некуда…» Христя сравнивает свою и Марьину долю. И ее выжили из села, разлучили с родной матерью, толкнули к чужим людям, а беспомощную мать оставили в одиночестве тужить и плакать. Кто только на свете не плачет, не проливает кровавых слез? На что уж хозяйка в довольстве живет, а и та жалуется на свою судьбу. Жизнь точно колесо катится: одного бросает вниз, другого подымает вверх, чтобы снова в землю втоптать. Где же эта счастливая доля, которую ждешь не дождешься? Или поймаешь на миг, а там… только тешить себя напрасными надеждами?
Тяжко Христе от этих мыслей, и не утешает больше простор весенних полей… щемит сердце… «Хоть бы уж скорей добраться!» – думает она, снова ускоряя шаг.
Вот из-за горы блеснул крест городской церкви, вот уж синеют рощи, опоясавшие город. Осталось еще три версты пройти. Христя свернула с дороги и уселась под ветвистой липой немного отдохнуть. Отсюда все хорошо видно. Змеей вьется дорога с горы в долину, круто поворачивая то в одну сторону, то в другую. Черные, желтые и зеленые поля упираются в обочины дороги. Светлые паруса теней колышутся над ними, разноцветные блики ведут затейливую игру, а на горизонте они тонут в сизой туманной пелене; эти тени, словно легкие прозрачные облака на ясном голубом небе, распростерлись на многоцветном ковре земли и неторопливо передвигаются вместе с солнцем. Чудесна эта предвечерняя игра света и теней. Воздух, теплый и свежий, так и клонит к дремоте, а звонкая песня жаворонка убаюкивает, гонит мрачные мысли. Утихает боль, забывается обида, горести, тяжкие заботы, и невольно становится легко на сердце… «Вот бы где побыть хозяйке! Тут она забыла бы обо всем… Приду, расскажу ей, как здесь хорошо», – подумала Христя и, вздохнув с облегчением, встала и побрела дальше.
Солнце уже село, когда она вступила на широкую и многолюдную улицу города. Повсюду сновали и суетились прохожие; крестьяне спешили на рынок – был канун базарного дня; кругом стоял шум и гам.
«Неужто хозяин вернулся?» – подумала Христя, взглянув на лавку Загнибиды, и чуть не упала: лавка была открыта. Мурашки побежали по всему телу Христи, сердце тяжело забилось. Что ж он теперь ей запоет?… Она стремглав понеслась домой.
Вот и двор Загнибиды. Тихо здесь, глухо, никого не видно. Христя спешит в дом. Странно, что дверь в сени закрыта. Не заболела ли хозяйка, или ее нет дома? С тревожно бьющимся сердцем она вбежала в сени.
Минуту спустя Христя снова выскочила во двор, бледная, трясущаяся, и пустилась бежать без оглядки.
– О, Боже, Боже! – шептала она, пробегая по улице.
Прохожие с удивлением оглядывались на нее, иные останавливались. «Чего так испугалась эта девушка? Куда она мчится?» – спрашивали они друг друга и, не получив ответа, шли дальше.
Она побежала на базар к лавке и, только очутившись около нее, увидела, что лавка заперта.
– А хозяина не видели? – расспрашивала она окружающих.
– Какого хозяина? Поди ищи!
Обежав весь базар, Христя снова вернулась домой. Угасла вечерняя заря, над городом спускалась ночь, в окнах показался свет. Христя неслась стрелой. У ворот немного постояла, тяжело вздохнула и снова побежала. Наконец она решила пойти к псаломщику.
В хате псаломщика Христя застала семейную ссору. Псаломщица, посиневшая от злости и натуги, во весь голос ругала старого мужа, забившегося в угол.
Христя поздоровалась.
Ей никто не ответил, но она на это не обратила внимания и, как безумная, бросилась к псаломщице.
– Матушка! Идите к нам! Что-то с хозяйкой сталось.
– С какой хозяйкой? – сердито спросила псаломщица.
Христя только ломала руки и тряслась.
– Идите, Христа ради.
– Куда идти? – гаркнула псаломщица. – Вас до черта тут. Куда я пойду, на ночь глядя?
– Тут недалеко… к Загнибиде.
– А что там у вас?
– Не знаю, матушка. Я дома была, в селе… Вхожу в хату, а хозяйка лежит… такая страшная… Боже мой, Боже…
Христя залилась слезами.
– А ведь он вчера вернулся… Подожди, я сейчас, – сказала псаломщица.
Пока она собиралась, Христя выбежала в сени. Слезы душили ее.
В доме Загнибиды уже было светло, когда они вошли во двор.
– Мне страшно. Я не пойду туда… Идите вы сами… – дрожа, говорит Христя.
– Чего боишься? Маленькая, что ли? – крикнула псаломщица и, словно коршун, бросилась в дом. Христя – за ней.
В кухне они застали Загнибиду. Мрачный, заложив руки за спину, он шагал взад и вперед по комнате. На столе тускло горела свеча.
– И ты вернулась? – крикнул Загнибида, бросив на Христю сердитый взгляд. Та, как пригвожденная, замерла на пороге.
– А где Олена Ивановна? – спросила псаломщица.
– На что она вам?
– Нужна! – резко ответила псаломщица и прошла в комнату.
Загнибида взял свечу, чтобы посветить. Но потом поставил ее обратно и, повернувшись к Христе, погрозил ей кулаком; после этого снова взял свечу и ушел в комнату.
Олена Ивановна лежала на спине со скрещенными, как у мертвеца, руками на груди. Глаза у нее были закрыты, под ними – синие мешки, рот перекошен, дыхание тяжелое, хриплое. Все говорило о том, что она доживает последние минуты.
– Олена Ивановна! Олена Ивановна! – тихо окликнула ее псаломщица.
Больная, не раскрывая глаз, слегка покачала головой.
– Я сам не знаю, что с ней, – сказал Загнибида, поднимая свечу, чтобы осветить лицо умирающей. – Оставил ее здоровой, а вернулся – и вот, как видите. – Он коснулся ее руки. – Холодные…
Больная раскрыла глаза, увидала мужа и заметалась на постели.
– Не буду! Не буду! – забормотал Загнибида и отошел в сторону.
– Вы бы за батюшкой послали, – сказала псаломщица.
Загнибида махнул рукой и, опустившись на лавку, поник головой.
– О, несчастье, несчастье! – проговорил он.
В комнате стало тихо, как в гробу. Больная раскрывала глаза, водила руками, тянулась…
– Черный платок дайте! – крикнула псаломщица. – Закрыть глаза.
Христя бросилась в комнату. Хозяйка металась на постели, не находя себе места. На ее шее и руках расплылись черные пятна; видно было, как пульсируют набрякшие вены; руки и ноги корчились в судорогах. Псаломщица поспешно сорвала с себя платок и бросила его на больную. Еще минуту она билась, потом послышался невнятный шепот, скрип зубов… и все затихло.
Немного спустя псаломщица сняла платок. Под ним лежала уж не Олена Ивановна, а бездыханный труп со страшными, выпученными глазами.
Загнибида подошел к ней и, задрожав, прохрипел: «Ты меня покинула… покинула… Как же мне теперь быть без тебя?»
Псаломщица взяла его за руку и вывела из комнаты в кухню.
– А ты беги к соседям. Зови покойницу обмывать. И забеги к моему старику, пусть идет сюда псалтырь читать, – приказала псаломщица Христе.
Та стояла как вкопанная.
– Чего стоишь? Беги! – крикнула псаломщица.
Христя побежала.
Немного спустя в доме Загнибиды было полно женщин. Затопили печь, кипятили воду в чугунах. Христя беспрекословно выполняла все, что ей говорили: носила воду, дрова, но делала все это бессознательно. Она только запомнила, что, когда обмывала умершую, псаломщица указывала на синие пятна на шее и тихо говорила: «Вот это смерть, да! Так она и не ушла от его рук!» Женщины молча кивали головами.
Только к полуночи одели покойницу и положили на стол. Старый псаломщик стал у изголовья около подсвечника и охрипшим голосом начал читать псалмы.
Люди, крестясь, входили, глядели на покойницу и на цыпочках выходили, словно боялись разбудить ее. Не верилось, что она умерла.
– Молодая такая – ей бы жить да Бога хвалить, так нет же, – шептали люди.
Христя в беспамятстве металась в толпе, пока псаломщица на нее не прикрикнула:
– Ты чего тут топчешься? Шла бы куда-нибудь…
Как пьяная, Христя вышла во двор и села на ступеньку крыльца. Мимо все время проходили люди, часто задевали ее, но она ничего не чувствовала, точно окаменевшая.
Склонив голову, она долго так сидела и слышала только замирающее биение своего сердца.
– Это ты? – раздался вдруг позади нее знакомый голос.
Перед ней стоял Загнибида.
– Слушай: если кому-нибудь хоть слово скажешь, не жить тебе на свете, – прошептал он и ушел со двора.
Христя снова забилась около сарая.
Ночь была звездная, но темная, как бывает весной. В густом сумраке снуют по двору тени, доносятся людские голоса, но кто говорит – не видно. В окне спальни свет режет ей глаза, но отвести их Христя не может. Это горит восковая свеча у изголовья покойной. Там лежит она, скрестив на груди руки, не чувствует, не видит… А давно ли она провожала ее, Христю, в село? Давно ли они сидели вдвоем и говорили о том, как хорошо жить в селе, среди лугов, на широком просторе…
Христя еще вспомнила, что хотела рассказать хозяйке о том месте под липой, откуда все так хорошо видно. А пришла и что застала?
Страх охватил ее, словно лед сковал сердце. Вспомнила она свое возвращение из села. Вот она входит во двор. Пусто, двери в сени открыты, она идет в кухню. Тихо, ни души. Сумерки окутывают дом. Где же люди? Зашла в столовую – никого, заглянула в спальню. Там что-то чернеет на кровати. Христя подходит. Это же хозяйка. Бледная как смерть, только глаза горят. «Что с вами? Захворали?» – Олена Ивановна только качает головой и что-то шепчет. Так шелестит засохшая трава осенью. «Не было… не было… ох, смерть моя!» – только и разобрала Христя. Потом она подняла руки, покрытые темными пятнами, и сразу опустила, повернулась, вздохнула и закрыла глаза.
Больше Христя ничего не помнит. Слышит людской говор, шум, как на базаре, снова слышит брань. Вот псаломщица укрывает платком умирающую. Земля поплыла под ногами Христи.
Серый рассвет стоял над землей, когда Христя очнулась. Вокруг – никого, только сизый туман. Сквозь сумрак она видит желтое пятно на стекле окна от колеблющегося пламени свечи. Что же теперь делать? Где переждать лихое время? Да и что это ожидание ей даст? Куда деваться? Идти в село, к матери? А тут как будет? Загнибида ведь ее из-под земли достанет!.. Она теперь как человек, заблудившийся в степи: и туда ткнись – пусто, и сюда – голо; сколько ни кричи, никто тебя не услышит в безмолвной пустыне.
Христя задумалась. По коже мороз продирает, а голова в жару, в глаза точно песок насыпали. Она попыталась встать, но не смогла. Так она долго сидела неподвижно; в ушах у нее стоял гул и звон, а сердце словно хотело вырваться.
– Ты тут спала? – услышала она внезапно охрипший голос.
Это был Загнибида.
– Знаешь что? – продолжал он, не дождавшись ответа. – За то, что ты служила верой и правдой и хорошо работала, вот тебе, и уходи с Богом, – и сунул ей в руку какую-то бумажку.
Христя посмотрела на бумажку – серая, новая, хрустящая; она еще такой никогда не видела. «Что это – деньги или клочок бумаги?» Долго она глядела на нее и перебирала в руках. «Надо спросить…» Но вокруг ни души. Она все так же неподвижно сидела, не имея сил двинуться.
Всходило солнце, туман рассеивался, и на траве заискрились капельки росы. С улицы уже доносился шум и говор. Люди спешили на базар.
«Что ж я здесь сидеть буду? – очнувшись, подумала Христя. – Расчет я получила. Пойду на базар, может, кого из села увижу, попрошу, чтобы подвезли».
И, поднявшись, она ушла со двора. На улице ей снова стало страшно. А что, если Загнибида догонит ее и заставит вернуться?… Скорей, Христя, скорей беги домой!
Глухими улицами, минуя базар, она выбралась из города.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Уж целую неделю живет Христя в селе, но никак не может вернуть утраченный покой. Все мерещится ей покойная хозяйка… синяки на шее, измученное лицо, страшные глаза. Христя боялась одна оставаться в хате. Если мать уходила, Христя шла с ней, а вечером страх не покидал ее и в присутствии матери. На улицу или погулять в девчатами – и не говори. Уж сколько раз забегала Горпына и другие подруги, но Христя упорно отказывалась. По селу пошел слух, что это не зря. К тому же Приська однажды попросила Карпа разменять бумажку, которую принесла Христя.
– Так это ж полсотни рублей! – крикнул Карпо.
– Полсотни? – испуганно спросила Приська. – Это же большие деньги. Где их Христя могла взять? – Тяжелое сомнение закралось в ее сердце.
– Где ты взяла такие деньги? – спросила она дочь.
– Хозяин дал, – и Христя рассказала, как было дело.
Приська вертела деньги в руках, пристально глядя на Христю.
– Ты врешь! – крикнула Приська, еще строже глядя на дочь.
Христя изменилась в лице. Что это – и мать ей не верит?
– Знаешь, сколько это? – спрашивает Приська.
– А откуда мне знать?
– Пятьдесят рублей. Где ты взяла?
Христя заплакала.
– Боже! И вы мне не верите! – крикнула она. – Недаром эти деньги жгли меня, как огонь, я их и брать не хотела… И сама не знаю, как они очутились в моих руках.
– Да я верю… верю… только… дитя мое, – сквозь слезы сказала Приська. – Такие деньги даром не дают… Опять же эта смерть… Как бы ты не накликала беду на наши головы!
Христя не поняла, на что намекает мать.
– Пусть меня Бог покарает, если я украла! – только и сказала она.
«Нет, она не такая… – думала Приська, с жалостью глядя на плачущую Христю. – И взбредет же такое в голову. Она ж еще совсем дитя… Скорее всего хозяин ошибся. Захлопотался и не заметил… Я не буду менять этих денег, спрячу. Может быть, он вспомнит, когда придет в себя, так отдам ему. Зачем нам такие деньги? Человек ошибся, а мы скрыли… Господь с ним и с его деньгами… Хорошо, что хоть отпустил Христю раньше срока…»
И Приська, несмотря на то, что нужда у нее была большая, спрятала эти деньги в сундук.
Но этим дело не кончилось.
Карпо не удержался и в шинке рассказал, какие бывают хорошие заработки в городе. Люди сразу подхватили этот слух, и он полетел из хаты в хату, с одного конца села на другой.
– Вот поди ж с этой Притыкой! За такое короткое время и такие деньги принесла! И то она только одну бумажку показывала, а Бог его знает – может, их у нее десять или и того больше! Странно только, как она легко их раздобыла. Не было ни гроша, а то сразу такое богатство! Тут что-то не так, тут что-то есть, – толковали люди.
– Что есть? Я знаю что, или украла, или… в городе на таких гладких, как она, найдутся охотники, – сказал Грыцько Супруненко.
– Гляди, если дядька Грыцько не окажется прав, – говорили мужчины.
– Это, значит, на легкие хлеба польстилась? – спросил один.
– В этом роде, – поддакивали женщины, – видно, недаром Христя нигде не показывается. Девчата звали ее на улицу – не идет. Все горюет о покойной хозяйке.
– Не помогла ли ей умереть? – с язвительной усмешкой вставил Грыцько.
Его слова вызвали новые толки и пересуды. По селу поползли слухи один страшнее другого. Одни говорили, что Христя продалась какому-то лавочнику; другие – что она обокрала хозяев и убежала; третьи, что она в сговоре с самим хозяином укокошила хозяйку и пришла только на время в село, а скоро снова вернется в город, но уже не служить, а хозяйничать в доме покойной. Где правда, где ложь – никто толком не знал. Знали только, что есть пятьдесят рублей, и строили догадки о том, откуда эти деньги взялись.
– Да, этого не скроешь! Оно когда-нибудь выплывет, – говорили люди, избегая встречаться с Приськой. Уж на что Одарка, и та, спросив у Приськи, где Христя взяла деньги, и не добившись толкового ответа, начала их сторониться. А Бог его знает, может, тут в самом деле нечисто – лучше держаться в стороне, а то и сам в беду попадешь.
Приська и Христя ничего не знали об этих толках. Христя только заметила, что девчата ее избегают, больше к ней не заходят, а встретив, скажут слово-другое и скорей бежать… А Приська? Она уже привыкла к одиночеству и ни о чем не догадывается. Одно только ее удивляет: почему Одарка никогда к ней не заходит в хату? То, бывало, она если не у нее сидит, так к себе зовет; а теперь и сама не идет, и Приське неловко набиваться.
Прошла еще неделя. Кто-то вернулся из города и привез новость. Загнибиду посадили с тюрьму за то, что он задушил жену. Ее откопали и нашли синяки на теле.
Эту новость Одарка рассказала Приське, увидя ее на огороде.
– Слышала? – спросила Приська дочку, передав ей рассказ Одарки.
Христя побелела как мел… «Так, так, оттого он и дал мне такие деньги… чтоб молчала», – подумала она. Но матери ничего не сказала.
Грустные, легли они спать. Христя не могла уснуть – мысль о хозяевах не оставляла ее. Приська лежала молча, может быть, спала.
Вдруг послышался издалека неясный шум, топот. Он приближался, становился все отчетливей. Вот уж и собака во дворе залаяла, слышен шум около хаты.
– Эй! Отворяйте!
Христя узнала голос Грыцька. Сердце у нее упало.
– Кто там?
– Вставайте! Зажгите свет! – кричит Грыцько.
– Не пускайте, мама! Не пускайте!.. – испуганно говорит Христя.
– Кто там? – снова спрашивает Приська.
– Открой – увидишь.
– Не открою, пока не скажете кто.
– Ат-ва-ряй! А то хуже будет, если сами отворим! – кричит чей-то незнакомый голос.
«Господи! Разбойники!» – подумала Приська.
– Да открывай, – говорит Грыцько. – Становой тут. Пришли твою дочку поздравить.
У Приськи отнялись руки и ноги. С трудом она зажгла плошку и отворила дверь.
В хату ввалились пятеро: становой, писарь, Грыцько, сотские Кирило и Панько.
– Где она? – спросил становой, обращаясь к Грыцько.
– Вот молодая, – указал Грыцько на Христю.
– Ты Христина Притыка?
Христя молчит – ни жива ни мертва стоит она перед становым.
– Она, она, – говорит Грыцько.
– Ты служила в городе?
– Служила, ваше благородие, – кланяясь становому в ноги, отвечает Приська.
– Не тебя спрашивают!
– Служила, – говорит Христя.
– У кого?
– У кого же я служила? У Загнибиды.
– Ты не видела или не рассказывал кто тебе, как его жена умерла?
– Я тут была, – робко начала Христя. – Хозяйка меня домой отпустила. Возвращаюсь в воскресенье вечером – в хате никого не слышно. Я в комнату, а там хозяйка лежит и уж говорить не может.
– Что же, она больна была?
– Видно, больны, не разговаривали.
– Хм… – произнес становой, оглянувшись. – Так она больна была, как ты уходила домой?
– Нет, здорова, а когда вернулась, застала больной.
– Она тебе ничего не говорила?
– Ничего. Она ж не могла говорить.
– А денег тебе не давали никаких?
– Нет, не давали.
– А у тебя деньги есть?
– У матери.
Приська открыла сундук, вынула деньги и подала их становому.
– Так… так… – глядя на ассигнацию, сказал становой. – Где ты ее взяла?
– Хозяин дал.
– О, да ты мастерица врать… А больше у тебя денег нет?
– Нет.
– Врешь, сволочь! – крикнул становой.
– Ей-Богу, нет!
Приська, дрожа как осиновый лист, глядела на дочь горящими глазами.
– Дочка, дочка! Что ты наделала? – крикнула она. – Признайся, если знаешь что-нибудь.
Христя точно окаменела.
– Что ж ты молчишь? Боже мой, Боже! – ломая руки, простонала Приська.
– Что ж мне говорить, мама?
– Как – что? Скажи, где деньги взяла, – крикнул становой.
– Хозяин дал.
– За что он тебе дал их?
– Я и сама не знаю. Сунул в руку, и все.
Грыцько захохотал.
– Такие деньги, – сказал он, смеясь.
– Теперь уже поздно, – шагая по хате, сказал становой. – Взять молодую в волость, а возле старой поставить сотских. Никого сюда не пускать! Слышишь? – обратился он к Грыцько.
– Слышу, ваше высокоблагородие.
Становой с писарем вышли из хаты.
– Ты тут оставайся, Кирило, – распорядился Грыцько, – а мы с Паньком отведем городскую красавицу туда, где ей давно следует быть… Только – слышал? – никого не пускать сюда… Я знаю, что вы были с покойным приятелями… Гляди! Пустишь кого – сам сядешь… Запрешь за нами дверь… и смотри мне – не спать! Другого на подмогу пришлю из волости.
– Ладно, – ответил Кирило.
– Чего ж ты стоишь? Собирайся! – крикнул Грыцько Христе, которая замерла на месте, белая, как стена, и, кажется, не сознавая, что с ней происходит.
– Слышишь? Кому говорю? – снова крикнул Грыцько. – Видишь, какая робкая, а людей душить не робеет.
Приська, стоявшая около печи, словно пришибленная, при этих словах вся затряслась.
– Врешь! – крикнула она не своим голосом. Лицо ее побледнело, и глаза горели.
– Хе-е! – сказал Грыцько. – Погоди, не заговаривай зубы… Мы все раскопаем, все разведаем… Как вы людей с ума сводите и как на тот свет отправляете… Все разнюхаем!
– Врешь, проклятый! – зашипела Приська, бросившись на Грыцько. Лицо ее посинело, глаза готовы были выскочить из орбит. Она похожа была на разъяренного зверя.
– Ну-ну! Завтра увидим! Завтра все покажет, – отступая, сказал Грыцько, понизив голов. – Бери, Панько, эту барышню, и пойдем.
Панько, высокий, светловолосый, подошел к Христе, тронул ее руку и тихо сказал:
– Пойдем, девка!
– Да ты ее свяжи, а то – ночь на дворе, еще убежит, – приказал Грыцько.
Панько снял с себя пояс и начал скручивать Христе руки.
В хате как в гробу… Минута, другая… И вдруг что-то с шумом упало… Оглянулся Кирило – среди хаты лежит Приська. Глаза у нее закрыты, лицо помертвело.
– Вот это так! – крикнул он, всплеснув руками.
– Не выдержала! Спрысни ее водой, – оглянувшись, сказал Панько, затягивая узел на руках Христи. Кирило бросился в сени.
– Не сдохнет! Оживет… Бабы, как кошки, живучи, – бросил Грыцько, выходя из хаты.
– Что же вы стали? Веди ее, – крикнул Грыцько.
– Пойдем, – сказал Панько.
Христя зашаталась, как пьяная, ступила раз-другой и скрылась в темных сенях. За ней вышел и Панько, держа в одной руке конец пояса, а другой торопливо надевая шапку.
Хата опустела. Желтые пятна света от плошки падают на пол, освещая страшное лицо Приськи. Из раскрытых дверей, из сеней, печи, углов подкрадывается темнота, точно хочет погасить тусклый огонек. В сенях слышится шорох: это Кирило в темноте ищет кадку с водой. А со двора доносится собачий лай. Страшно, страшно!
У Кирила волосы встали дыбом. Наконец он нашел кадку, набрал полную кружку воды и, войдя в хату, вылил ее на Приську. Та хоть бы пошевельнулась!.. Только заблестели при свете плошки капли воды на лице лежавшей. Словно искры усеяли ее помертвевшее лицо.
– Вот такая наша жизнь! – сказал Кирило, склонившись над Приськой.
Прошло несколько мгновений. Из уст Приськи вырвался вздох. Кирило снова бросился в сени, набрал воду в кружку и вылил на голову Приськи. Она раскрыла глаза.
– Матушка, матушка! – жалостливо сказал Кирило, наклонившись к ней.
– О-ох! – простонала Приська. Лицо ее чуть-чуть оживилось.
– Нет ее? – глухо произнесла она, поднимаясь. – Где же смерть моя? Где она ходит? – и, вцепившись в волосы руками, заголосила.
Кирило попытался ее утешить.
– Не плачьте, матушка, не убивайтесь. Это дурные люди наговорили. Чего только не наплетут злые языки?
Приська не слушала его и продолжала голосить. Ее рыдания наполняли хату безысходной тоской и безнадежностью.
«Ну, что тут скажешь? Чем утешишь?» – подумал Кирило и, махнув рукой, опустился на лавку.
Приська голосила. Собака, подойдя к окну, начала подвывать. Страшный собачий вой сливался с жутким рыданием охрипшей Приськи. У Кирила разрывалось сердце.
– Эх, проклятая служба! – крикнул он и выбежал из хаты.
– Вон! Вон! – кричал он на собаку во дворе. – Хоть бы у тебя, проклятой, язык отнялся! – Что-то тяжело шлепнулось в темноте… Это Кирило запустил камнем в собаку. Та, бросившись от окна, еще отчаянней залаяла. – Лучше уж лай, чем вой, проклятая! – крикнул Кирило и вернулся в хату. Приська, уткнувшись головой в пол, не переставая, голосила.
Сотскому тоскливо и страшно. Он то ложится на лавку, закрывает голову свиткой, чтобы не слышать этого страшного плача, то срывается и бежит во двор к воротам поглядеть – не идет ли кто, и, не дождавшись, снова возвращается в хату.
Но вот он заметил, что какая-то фигура направляется ко двору Приськи.
– Кто это? – окликнул Кирило.
– Я.
– Ты, Пронько?
– Я. Как тут – спокойно?
– Спокойно: и в хате не усидишь.
– То же самое и там. Думал – сдурею. На минутку затихнет, а потом как начнет снова, аж в ушах гудит!
– А тут ни на минуту не смолкнет, все воет. Вот послушай.
Из хаты донеслось приглушенное рыдание.
– Вот тебе и всенощная! – прислушиваясь, сказал Панько.
– И поп так не сумеет… А зачем тебя прислали сюда, разве больше никого не было?
– Я сам вызвался. Думаю, хоть проветрюсь.
– А я думал, другого пришлют. Пусть бы посидел в хате, а я б хоть у ворот прикорнул.
– Нет, спать не надо. Вдвоем все-таки сподручней.
– Так клонит ко сну, сил нет, – зевая, сказал Кирило.
– В солому бы!
– А-а, хорошо в соломе!
– А полночь уж есть? – немного помолчав, спросил Панько.
– Должно быть. Большая Медведица была посредине неба, а теперь вон как низко опустилась, – взглянув ввысь, сказал Кирило.
Наступило молчание. И отчетливей слышно стало причитание Приськи.
– Чего ж мы тут стоим? Пойдем в хату, а то как бы там чего-нибудь не случилось, – сказал Панько.
– Идем. Послушай и ты, – нехотя откликнулся Кирило.
– Добрый вечер! – сказал Панько, входя в хату.
Приська, услышав чужой голос, умолкла.
– Здорово, тетка! Что ж ты валяешься на полу? Разве на нарах нет места?
– О-ох! – тяжело вздохнула Приська и снова заплакала.
– Вот ты плачешь, а дочка тебе кланялась. «Скажите, – говорит, – матери, пусть не убивается. Это все людские наговоры».
– Ты видал ее? – спросила Приська, поднимаясь с пола.
– Только что.
– Где ж она?
– В волости.
– Не плачет? Господи! Хоть бы мне ее еще раз увидать и спросить, откуда такая напасть.
– Напасть – она не разбирает.
– Правда твоя… Сам Бог милосердный, видно, послал тебя, а то я уж думала, и не услышу о ней ничего.
– Кланяется, кланяется и говорит, чтобы не тужила.
– Что ж это такое? Не слышал ли ты хоть стороной, добрый человек, за что нас Господь карает?
– Стороной?… Разное говорят. Чего люди не придумают?
– Ох, и придумают? Да разве от этого нам легче?
– Я слышал, – начал Панько, – писарь становому рассказывал, что кто-то видел, как Загнибида жену душил. Его уже, вероятно, в тюрьму посадили. Так он начал каверзы строить – недаром писарем был. «Я, – говорит, – ее не душил, может, кто другой, может, служанка, потому что денег, что я дал жене спрятать за день до ее смерти, не оказалось». Ну, известное дело, бросились деньги искать.
– Христя ж божилась, что он сам дал ей эти деньги.
– Может, и сам, а теперь видишь, куда он гнет.
– Боже, Боже! – молитвенно сложив руки, произнесла Приська. – Ты все видишь… все знаешь. Отчего ж ты не откликнешься, не оглянешься на нас, несчастных? – и снова заголосила.
– Перестань, тетка, и послушай, что я тебе скажу. Хватит тебе плакать и убиваться, слезами не поможешь. А лучше полезай на печь и усни. Может, Бог тебя во сне надоумит, что делать.
И странное дело – Приська поднялась, вытерла слезы и поплелась к нарам.
– Вот так оно лучше будет, – сказал Кирило одобрительно, примащиваясь на лавке.
– А мне где? Разве головой на порог? И то ладно будет, – говорит Панько, располагаясь на полу.
Все лежали молча. Тяжелые вздохи Приськи, раздававшиеся от времени до времени, свидетельствовали о том, что она не спит. Но вот и она затихла.
– Уснула? – спросил Кирило, подняв голову.
– Должно быть…
– Утешил ты ее…
– Как видишь.
– А взаправду ты не слышал, что там за оказия? Я не верю, чтобы Христя могла такое сделать.
– Да и я не верю. Только… откуда у нее эти чертовы деньги взялись? Немало ведь – пятьдесят рублей, – сказал Панько.
– Так он, верно, сам ей дал…
– Да кто его знает? Мы же там не были. Может, и сам дал… Только за что такие деньги дать?
Кирило собирался что-то ответить, но страшный плач снова раздался в хате. Он переглянулся с Паньком, и оба молча почесали затылки. А Приська как завела – так уж до самого утра…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
«Где смерть моя ходит? Куда она девалась?» – одно голосила Приська. Она уже во всем изверилась. Одна была надежда, одна утеха, которая красила ее постылое существование, но и та обманула… Ее родная дочь – ее кровь… на такое пустилась, загубила чужую душу. Так говорят люди, об этом допытывался и становой, поэтому он все перерыл в хате. Хотя у нее больше ничего не нашли, кроме этих проклятых денег, которые она сама отдала… Но откуда они? Тут что-то есть… Христя говорит, что хозяин ей дал. Если б ей разрешили видеться с дочкой, она бы заглянула ей в самую душу. А теперь?…
Христю на другой день угнали в город, а с Приськи только сняли допрос, так как не нашли ничего, что говорило бы о ее причастности к этому делу, хотя Грыцько и убеждал, что старуха не без греха. Верно, сама и подсунула дочке отраву, да и молчит, проклятая!
Приська молчала. Да и что ей говорить? Она изверилась в силе слов, и они, как люди, приносили ей только беды и никакого утешения. Одно у ней желание – поскорее умереть… «Боже! Где смерть моя ходит? Пошли ее скорее!» – подняв руки, молила она.
Минуло три дня. Три дня слез и рыданий, скорби и отчаяния. Приська не пила, не ела и света Божьего не видела. Ни сна, ни отдыха – одни только слезы. И так каждый день. Солнце всходит и заходит, и снова всходит, а Приська и не замечает этого. Лежит все время, скорчившись на нарах. От слез свет померк в ее очах, от рыданий голос надорвался. Она ничего не сознает, не видит, не слышит. Только сердце бьется. О, если б оно не билось больше! Вонзить бы в него острый нож или задохнуться в чаду! Но нет, как трухлявое дерево, она все еще стоит на ногах, не падает…
За эти три дня Приська изменилась до неузнаваемости: глубоко запали глаза, ввалились щеки, потрескались губы; нечесаные волосы сбились в космы и желтели, как увядшие листья кукурузы; вся она скорчилась в три погибели и выглядела не живым человеком, а выходцем с того света!
Так показалось и Одарке, пришедшей через три дня проведать Приську. Она бы, может быть, и не пришла, если бы не заметила, что уже третий день ни одна живая душа не появляется на дворе Приськи, а наружная дверь все время раскрыта. «Может, старая, умерла», – подумала Одарка и, дрожа от страха, вошла в хату соседки.
– Тетечка! Живы ли вы еще? – тихо спросила Одарка.
От того ли, что Приська уже три дня не слышала человеческого голоса, или от участия, которое чувствовалось в словах Одарки, но Приська пришла в себя, вздрогнула и раскрыла глаза. Она порывалась что-то сказать, но губы невнятно шептали, и она безнадежно махнула рукой.
– А я насилу к вам собралась. Так некогда, так некогда! Карпо весь день в поле, пока управишься с хозяйством, а тут надо ему обед нести… – оправдывалась Одарка.
Приська молчала.
– Как же вас тут Бог милует? – спросила Одарка. – Что это за напасть такая?
– Напасть? – глухо произнесла Приська. – Что ты говоришь? Какая напасть? – и безумными глазами взглянула на Одарку.
У Одарки мороз пошел по коже. Немного погодя она спросила:
– Тетечка, а вы меня узнали?
– Тебя? Как же тебя не узнать? – с кривой пугающей усмешкой проговорила Приська.
– Кто ж я такая?
Приська снова усмехнулась.
– Кто ты такая? – тихо спросила. – Человек!
Одарка перекрестилась и, вздохнув, сказала:
– Не узнает…
– А ты зачем пришла? – немного погодя спросила Приська.
– Проведать вас: как живете? Может, вам сварить что-нибудь поесть?
– Есть?… Как живем?… В том-то и беда, что живем, – сказала она, и лицо ее задрожало. Послышалось какое-то хрипенье, потом слезы полились из ее глаз.
У Одарки сжалось сердце от невыносимой жалости.
– Тетечка… я ж соседка ваша – Одарка, – сказала она.
Приська перестала плакать и вскинула на Одарку красные, воспаленные глаза.
– Я знаю, что ты Одарка, – сказала она спокойно. – По голосу узнала тебя… спасибо, что не забыла.
– Может, вам что-нибудь нужно, тетечка?
– Что ж мне теперь нужно? Смерть – так ты ее не принесла и не принесешь.
– Бог с вами, тетечка, одно зарядили – смерть да смерть…
– Ну, а что мне нужно, по-твоему? Скажи – что?…
– Вы хоть ели что-нибудь?
– Ела… видишь, жива еще, стало быть, ела… Вот только в горле пересохло, от жажды все горит.
– Подать вам воды?
– Подай, пожалуйста.
Одарка бросилась к кадке, а из нее уже затхлым несет. Она вылила воду из кружки и побежала к себе во двор. Не мешкая, она вернулась с полным ведром свежей воды и поднесла кружку Приське. Та жадно припала к ней и не отняла губ, пока не выпила все до последней капли.
– Ох! Будто снова родилась, – сказала она и опять легла.
– Подождите, я вам постелю, – Одарка проворно взбила подушку, положив ее у стены, и застлала нары рядном.
Старуха примостилась на постели.
– Спасибо тебе, Одарка. Ты меня оживила этой водой… Боли улеглись… Тут только, – она указала на то место, где находится сердце, – не прошли.
– Может, вы бы съели что-нибудь? Скажите – я сварю или своего принесу. Борща или каши?
– Нет, не хочу…
Сон ее одолевал или от слабости она закрыла глаза?
Видя, что Приська впадает в забытье, Одарка попрощалась и ушла.
«Пусть уснет… может, ей легче станет. Совсем слабой стала! Не долго ей, видно, осталось мучиться!» – думала Одарка, возвращаясь домой.
– Ну что? Как она? – спросил ее Карпо.
– Хорошо, если еще три дня протянет.
– Да… и попа некому позвать.
– Напилась воды, – немного погодя продолжала Одарка, – повернулась на другой бок… я ей постелила… да и начала засыпать. Пусть отдохнет, а вечером я еще наведаюсь.
Заходило солнце, багровое зарево стояло над горизонтом. Оно не заглянуло в окна Приськиной хаты, выходившей на восток. Одарка, придя, застала там сгустившийся сумрак, только на окнах мелькали неясные желтые блики, словно подслеповатый человек мигал своими мутными глазами. Приська лежала на нарах желтая, как воск, и неподвижная. Одарка подошла к ней ближе – взглянуть, жива ли она еще. Приська встрепенулась, раскрыла глаза.
– Спали? – спросила Одарка. – А я иду и боюсь, как бы вас не разбудить.
– Это ты, Одарка? Сядь, – тихо сказала она, указывая на место рядом с собой.
Одарка села.
– О-ох! – простонав, еще тише заговорила Приська. – Вот я лежала с закрытыми глазами… и так мне хорошо, тихо, спокойно… Чувствую, как все внутри застывает во мне… а хорошо… Не поверишь, Одарка, как мне жить опротивело… Будет, всему конец должен быть!.. Я скоро умру… Ты одна еще меня не забыла. Такой целебной воды мне дала, что от нее вся боль утихла… Спасибо тебе… О-х! Все против меня, все… только ты одна… Господь отблагодарит тебя.
Одарка порывалась что-то сказать.
– Постой, – перебила ее Приська. – Я хочу тебе все сказать… все… в другой раз, может, не придется. Слушай… я скоро умру… Если увидишь дочку… Христю… скажи ей: я прощаю… не верю, чтобы она такое сделала… А это что выглядывает из-за твоей спины? – вдруг испуганно вскрикнула она и вся затряслась. Лицо ее задергалось, рот искривился, глаза затуманились.
Одарка видела, что в них угасает последняя искорка жизни. Желтый луч заката, на миг ворвавшийся в комнату, осветил почерневшее лицо Приськи, ее померкшие глаза и угас. Хата утонула в густом сумраке. Или потемнело в глазах у Одарки?
Когда она стряхнула с себя внезапное оцепенение, перед ней лежала бездыханная Приська с помутневшими глазами.
Одарка сорвала с себя платок и закрыла им голову умершей.
– Ну что? – снова спросил ее Карпо, когда она вернулась домой.
– Умерла…
Карпо испуганно вскрикнул:
– Что ты говоришь?
– Говорю, что умерла.
Карпо развел руками.
– Умерла, – прошептал он. – Дождалась своего… Что же теперь делать?
– Людей надо позвать и хоронить ее.
– Кто ж пойдет?
– Кто хватится, тот и пойдет, а если нет… – Одарка вдруг умолкла, не закончив фразы.
– Ну, а если никто не пойдет, что тогда? – спросил Карпо.
– Как – что? Не оставаться же ей там…
– Я знаю. Но кто будет хоронить?
Они оба умолкли.
– Надо в волость заявить, – немного спустя ответил Карпо. – Пусть делают, что хотят… Да, да… надо идти…
– Так иди скорее, уж смеркается, – торопила Одарка; она уселась на нарах, подперев склоненную голову рукой.
Карпо ушел. Одарка сидела неподвижно, устремив глаза в одну точку. Дети, испуганные разговором родителей, затихли.
– Умерла, – тихо сказала Аленка брату. – Кто умерла?
– Тише… видишь, мамуся печалится.
Надвигалась ночь. Над горизонтом еще желтела узкая полоска заката, а в хате было уже совсем темно. Одарка сидела по-прежнему, охваченная тяжелыми мыслями.
«Вот такое творится… И похоронить некому, да и не на что. Хоть бы Христе рассказать. Да как же ей передать? Где она теперь? Может, за такими запорами, что и слух до нее не дойдет. Господи! Вот это смерть – даже врагу такой не пожелаешь! Уж лучше погибнуть от руки злодея… тогда скорей найдутся люди, что пожалеют – похоронят. А тут? Все отстранились, как от напасти. В чем она виновата?… Да и нет у нее ничего за душой, нищета такая. Люди не захотят яму копать… поп даром отпеть не согласится…» – Одарка вздрогнула.
– Вот оказия! – входя в хату, сказал Карпо. – Из волости сейчас наряд прибудет. Нельзя хоронить.
– Почему?
– Да видишь – все это проклятое дело… Старшина говорит: может, она сама на себя руки наложила. Надо известить станового. Пока становой не прикатит, делать ничего нельзя.
– Так до него ж не близко – тридцать верст. Пока туда да обратно будут ехать, дня три пройдет.
– Хоть бы и неделя – все равно!
Одарка только пожала плечами, встала и зажгла свет.
Как ни тяжела чужая беда, а свои заботы ближе к сердцу. И у Одарки полно хлопот. Ночь на дворе, дети уже сонные, а она еще ужина не готовила. Заметалась Одарка по хате печь топить, муку достать.
– Подождите немного, деточки, я сейчас галушки сварю.
– Мама, – окликнула ее Оленка.
– Что, доченька?
– А кто умер?
– Бабуся.
– И не будет ее больше… В яму – бух, – говорит Оленка, показывая ручонкой, как упадет бабуся в яму.
«И этого еще долго ждать», – с горечью подумала Одарка, замешивая тесто в большом и широком глиняном горшке.
– Поскорее состряпай ужин, – сказал Карпо, – а я пойду погляжу, что там делается. – И он вышел из хаты.
Одарка окликнула его.
– Карпо!
– Чего тебе? – отозвался он из сеней.
– Не забудь там платок взять.
– Какой?
– Да мой. Надо же было ей глаза прикрыть.
– Ладно…
Одарка хлопотала у печи. Дети забились в угол нар и оттуда молча следили за работой матери. А у той все не ладилось. Сырые кизяки больше трещали, чем горели, и, чтобы поддержать огонь в печи, Одарке пришлось несколько раз подбрасывать сухую солому. Вспыхнувший сноп ярко освещал хату, огненные блики скользили по черным стеклам окон, по стене метались длинные тени, видно, как Одарка бросает галушки в горшок с кипящей водой. Но сгорит солома, погаснет свет – и тень Одарки куда-то исчезает, и сама она погружается в сумрак… потом подбрасывает еще пучок соломы… и снова колышутся тени в хате.
– Смотри, смотри… Вот мамина рука… Вот голова… нос, – говорит Миколка, указывая пальцем на стену.
Оленка посмотрела, и они дружно засмеялись. Одарка рада, что дети играют, и продолжает усердно работать.
Вот и ужин готов. А Карпо еще не вернулся. Что его там задержало?
– Посидите, деточки… Я побегу отца позову. – И Одарка вышла из хаты.
В Приськиной хате еле тлеет огонек в плошке, тускло освещая верхнюю часть комнаты, а внизу царит густой сумрак. На нарах, прикрытое платком, чернеет тело Приськи. Порой на него падает отблеск из колеблющегося пламени плошки, – кажется, будто платок шевелится, – и быстро ускользает. На лавке у стены безмолвно сидят Кирило и Панько.
– А что тут у вас – благополучно? – войдя в хату, с трубкой в зубах, спросил Грыцько.
– Что ж тут может быть? Мертвая лежит… – ответил Панько, указав на нары.
Грыцько, выпустив изо рта дым, повернулся и посмотрел на умершую.
– Вот Карпо пришел за платком, – сказал Кирило. – Жена его закрыла глаза покойной… так он хочет его взять… Отдать?
– А кто видел, как она закрыла глаза?
– Мы не видели… Он говорит.
– Нельзя. Пока становой не приедет.
– Своего взять нельзя?
– Своего? – буркнул Грыцько, сплюнув. – А откуда мы знаем, что это твое? Может, кто задушил старуху и прикрыл сверху платком.
Карпо вздрогнул. «Вот это так! Еще из-за платка напасть будет», – словно молотком застучало в голове. Грустные предчувствия закрались в его душу.
– Карпо! Карпо!
На пороге хаты стояла Одарка.
– Иди ужинать.
– Нельзя, говорят, платка брать, – сказал Карпо жене.
– Почему? Это ж мой платок, – удивилась Одарка.
– Нельзя – и все! – сердито буркнул Грыцько. – Откуда мы знаем, что он твой?
– Так я ж им закрыла глаза покойной.
– А мы были при этом?
– А почему вас не было? Где вас носило? – начала кипятиться Одарка. – Напасть на человека навести, век ему укоротить – вы мастера, а глаза закрыть умирающему вам трудно!
– Да ты не заносись! – рявкнул Грыцько. – Ты кто тут такая?
– А ты кто? Вот умершая лежит, душа ее по хате носится, а ты над ней стоишь и трубкой кадишь!.. Человек, нечего сказать… – выпалила Одарка.
Грыцько от этого неожиданного отпора растерялся и не знал, что ему ответить.
– Идем, Карпо. Пусть платок здесь останется. Может, он достанется тому, кому и два рубля покойной достались.
Карпо поплелся вслед за женой. Панько и Кирило по-прежнему безмолвно сидели на лавке. Один Грыцько стоял посреди хаты, как остолбеневший.
– Черт бы их взял! – сказал он немного спустя. – Голая, как бубен, а острая, как бритва! Вы же глядите мне, чтобы умершая не сбежала, – пригрозил он сотским и вышел из хаты.
– Ничего, ловко отбрила! – заметил Панько. – Так ему и надо! Разошелся – куда тебе! Староста как-то болел, так Грыцько вместо него был, ну – и не подступись! Видишь, как выкомаривает: гляди только и гляди!
– Сам погляди!.. – угрюмо пробурчал Кирило.
А что Одарка говорит?
Ничего. Еще более опечаленная вернулась она домой, накормила детей, а сама и не притронулась к еде. Карпо тоже не стал ужинать, лег, но ему не спалось… «А что, если Грыцько и на них беду накличет? Разве ему долго? Ни Бога в душе, ни жалости в сердце, и греха не боится. Да еще землю Приськи припомнит», – думал он.
– И надо тебе было ее этим платком закрывать… – сказал Карпо, услышав тяжелый вздох Одарки.
– А что?
– Да так… Пропадет этот платок.
– Пусть пропадет. Я думаю, как позволят хоронить, то нам придется… Скажем Христе, когда она вернется, что их землей мы воспользуемся.
– Когда еще это будет? – грустно сказал Карпо.
Утром они оба поднялись разбитые, и Карпо сразу же ушел в поле. Так они до вечера и не говорили ни о чем…
Прошло три дня, а на четвертый прибегает к ним Кирило.
– Становой разрешил хоронить. Уж и охраны сняли.
– Кто же будет хоронить? – спрашивает Одарка. – Не тот ли, кто поставил охраны?
– Грыцько? – удивился Кирило. – Этот похоронит, – добавил он, покачивая головой.
– А чтоб черти его взяли!
– Да брось! – перебил ее Карпо, вздохнув с облегчением. – Должно быть, нам придется. Старушка, царство ей небесное, к нам была добра… Грех будет, если мы не проводим ее на тот свет. Побеги, Одарка, за женщинами, а я… Вот, может, Кирило и Панько помогут могилу копать.
– Что ж? Можно, – согласился Кирило.
– Вот и хорошо. Пообедаем вместе, – сказал Карпо.
Одарка побежала собирать женщин, а Карпо и Панько с заступами отправились на кладбище. Кирило принялся сколачивать дощатый гроб.
Как ни старались Карпо с Одаркой, чтобы все поскорее наладить, но за один день не смогли управиться – слишком много хлопот было.
Покойную обмыли, нарядили и положили на стол. Одарка сама вылепила крест из воска и зажгла свечу у изголовья покойной. Пламя свечи отбрасывает желтые отсветы на лицо Приськи. В хате тишина, никто не читает псалтыря, только глубокие старухи окружили стол, и порой одна из них кашляет, шепча заупокойные молитвы. А на улице – рай. Солнечные лучи, как золотые стрелы, пронизывают весеннюю лазурь, мириадами искр осыпают пышный убор земли, цветущие сады. Птицы чирикают, кричат, поют на все лады; трель соловья заглушает щебетанье крапивницы, кукушку перебивает крикливая иволга; гудит удод, и жалобно воркует горлинка, а к ним из недосягаемой высоты доносится заливчатая песня жаворонка. Рай – да и только! Все живет, радуется… Вестники из этого рая порой заглядывают и в хату Приськи: то солнечный луч позолотит ее, то птичка залетит в открытую дверь. Но жаль – на это никто не обращает внимания. Хозяйка уснула навеки, а ее подругам не до того.
Не замечали этой радости и Карпо с Паньком, рывшие могилу. Как они ни торопились, но управились только к заходу солнца. К этому же времени был готов и гроб – хоть и сосновый, но гладко обструганный и так мастерски сделанный, что казался отлитым из воска, – так старательно потрудился Кирило.
Вечером Карпо сбегал к батюшке и за полтинник выторговал у него носилки и крест. А отслужить заупокойную батюшка обещал зайти на кладбище, благо он живет поблизости.
На другой день собирались хоронить. Как рано ни собирайся, а день все равно пропащий. Была как раз суббота. Карпо и Одарка решили начать в полдень – к этому времени можно будет управиться со стряпней. День, как и накануне, выдался погожий, солнце уже припекает, не умолкают птичьи хоры. После завтрака начали собираться люди. Их собралось немало: шесть человек должны нести гроб, один – крест. Несколько древних старух пришли проводить покойную, всплакнуть над могилой. Невесть откуда взялись два слепца с мальчиком-поводырем – и ему нашлась работа: нести кутью. Тихо-тихо потянулась процессия из Приськиного двора через пустырь, мимо церкви, на кладбище. Впереди мальчик с кутьей, за ним Карпо с крестом, дальше – шесть человек с гробом, наполовину закрытым покрывалом. За гробом идет Одарка, за нею плетутся старухи, а замыкают шествие два слепца; взявшись за руки и подняв головы к небу, они осторожно шагают, ощупывая длинными палками впереди себя дорогу. Солнечные лучи скользят по восковому лицу покойной, словно хотят разбудить ее, и говорят: раскрой глаза, взгляни, как всюду хорошо, тепло, весело. Напрасно! Гроб ритмично покачивается, а вместе с ним и тело Приськи, совершающей свой последний путь.
– Стой! – сказал один из несших гроб, когда приблизились к церкви.
Все стали.
Мужчины осторожно опустили носилки с гробом на землю, чтобы передохнуть.
– Пока мы отдохнем, может, кто бы позвонил немного, – предложил Кирило.
– Я пойду, – откликнулся черноусый молодой человек и побежал к колокольне.
Гулкий звон большого колокола огласил окрестность, потом забренчали маленькие колокола, словно дети вслед за старым отцом оплакивали умершую мать. Стало еще тоскливей. Услышав звон, люди начали креститься и шептать молитвы.
А кто это чуть не бегом спешит к похоронной процессии? Молодая девушка с лицом, залитым слезами, запыленным и скорбным… Вот она уже совсем близко… бросается к гробу… Взглянула.
– О, моя маменька! Моя голубушка! – крикнула она в отчаянии.
– Христя!.. Она!.. – послышались голоса.
Христя припала к гробу и плакала навзрыд, заглушая колокольный звон. Но вот он затих, и плач ее казался еще громче и отчаянней.
– Хватит! Хватит! Отведите ее от гроба, – говорят женщинам те, что несут гроб, намереваясь двинуться дальше.
Христю пришлось долго оттаскивать – она вцепилась в гроб руками и не хотела уходить. Одарка и еще одна старушка взяли ее под руки и повели. Христя, казалось, ничего не замечала и неустанно голосила, заливаясь слезами. Страшно было слушать ее горький плач. Одарка тоже не смогла удержаться от слез. Тяжело вздыхали старухи. Несшие гроб сразу ускорили шаг, словно их кто-то подгонял; некоторые вытирали свободной рукой непрошеную слезу.
Свернули на улицу. Как раз проходили мимо двора Грыцька.
– Стой! – послышалось впереди. Христя вырвалась и снова припала к гробу.
Люди выбегали из дворов взглянуть на процессию. Выбежала и Хивря. Стоя у ворот, она набожно перекрестилась. На минуту показался Федор и скрылся за огородами. Появился и Грыцько.
– Какой черт ее принес! – были его первые слова, когда он увидел Христю. Потом он подошел к гробу, положил руку на плечо Христи и спросил:
– А ты откуда взялась?
Христя продолжала рыдать.
– Откуда, спрашиваю? – грозно крикнул Грыцько.
– Да здесь ее хоть не трогай! – крикнула Одарка. – Господи! Где же это видано… Не пришла бы, если б не пустили.
– Дай ей хоть мать похоронить, – вмешались мужчины. – Уж если убежала, то никуда не денется…
Грыцько молча отошел от гроба. Снова двинулись вперед. Христя, не умолкая, причитала. Ее охрипший голос то гудел, как порванная струна, то переходил в тонкий визг.
Грыцько успокоился только в тот день, когда из волости пришла бумага о том, что Христю совсем освободили.
– Выкрутилась! – сказал он, недовольно почесывая затылок.
– Что же ты думаешь делать, Христя? – спросила Одарка на другой день после похорон. – В своей хате жить будешь или, может, у нас поселишься? Вместе бы работали…
– Спасибо вам, Одарка. Не останусь тут ни за что. Солоно мне пришлось в этом селе – провались оно сквозь землю, кроме Божьего дома и добрых людей! Пойду искать лучшее место…
– Хоть лучшее, хоть худшее, только бы другое… – задумчиво произнесла Одарка.
Христя сгорбилась и, тяжело вздохнув, заплакала.
Часть третья ВНИЗ ГОЛОВОЙ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Солнце село. Ночная тень упала на землю. Загорелись звезды на безоблачном небе, показался и месяц – полный, багрово-красный, словно в бане парился. Печально взглянул он на запыленный, шумный, суетливый город, который еще не собирается отдыхать. По булыжным мостовым тарахтят извозчичьи пролетки, снуют люди, все окна освещены. А большие дома словно в огне; из раскрытых окон доносится пенье, говор… Начинается особая ночная жизнь. Село не знает ее, как не знает и удушливого дневного зноя, раскаленного камня мостовых и домов, тесных зловонных дворов. Оно раскинулось среди просторов полей, окружено густыми садами, лугами, рекой, поэтому и днем дышит прохладой. А ночью? Да ведь еле хватает короткой летней ночи для отдыха после долгого трудового дня – не успеет заняться заря, как уже раскрываются глаза крестьянина, и вновь принимаются за работу уставшие руки.
Не то в городе: нет там ни тенистых садов, ни цветистых левад; каждый клочок земли нужен для застройки, чтобы извлечь из него больше дохода. И живут в городе не хлебопашцы, а ремесленники, купцы, паны, офицеры, евреи в ермолках и без ермолок, в дорогих суконных костюмах и в драных балахонах… Эти люди покупают за деньги все, что им нужно, а не своими руками добывают хлеб. Жизнь в городе никогда не утихает: один спит до полудня, другой ложится в полдень. А ночью, когда уляжется дневная жара, только и насладишься прохладой, поговоришь с другом или погуляешь.
Вот и у Антона Петровича Рубца собралась небольшая компания. Пришел член земской управы, капитан Селезнев, высоченный, с длинными русыми усами – такой заядлый картежник, что ему и есть не надо, только бы сражаться на «зеленом поле». Федор Гаврилович Кныш – его неизменный партнер. Они застали тут и Колесника, который пришел к хозяину поговорить о слишком низких ценах на мясо. Колесник знает, что, не промочив горло, и говорить не хочется, и по дороге захватил бутылку рома. В сумерки они уселись на крыльце, выходившем в тенистый садик, и попивали чай.
– Совсем обидно, Антон Петрович! Ей-Богу, обидно, – жаловался Колесник. – Вы только подумайте: вол стоит шестьдесят рублей, а мясо по восемь копеек фунт. Сколько его с вола возьмешь? Без ног, головы и разной требушины – хорошо, если наберется пудов пятнадцать, а скорее всего тринадцать. Вот и посчитайте: по три двадцать за пуд, за пятнадцать пудов – сорок восемь рублей, еще двенадцать не хватит. С чего их взять? Шкура стоит семь-восемь рублей, ну пусть десять; а два рубля за голову и ноги не дадут… Вот и получается – себе в убыток продаешь!
– А все-таки торгуете, – усмехнулся хозяин, глотнув крепкий чай.
– Торгуем, да лучше б уж и вовсе не торговать. Завязли с головой… как говорят: пристанет собака к возу…
– Неужели по шестьдесят рублей за вола платили? – спросил хозяин.
– Еще хорошо, что по шестьдесят. А теперь так уж купить не придется… Хе! Пропали мы совсем, – не унимался Колесник.
– А там, может, и таксу увеличат.
– Пока прибавят, мы без штанов останемся. Нет уж, Антон Петрович, вы наш заступник и благодетель, похлопочите за нас.
– Разве это от меня зависит? Городской голова сам назначает цену. А я? Мне что? Мое дело такое: я делаю то, что приказывают.
– Голова – головою, а вы сами там всему голова! Ей-Богу, правду говорю, Антон Петрович! Уважьте… вникните… А мясо, какое хотите, берите… даром… сколько вам надо.
– Вишь, куда забрались прохлаждаться, – крикнул Кныш, поднявшись на крыльцо. – А мы с капитаном вас по всем комнатам разыскиваем… Уж Пистина Ивановна нам сказала, где вы.
Антон Петрович подал гостю руку и усадил его рядом с собой.
– А где же капитан?
– В комнате, – сказал Кныш. – А вы все чаек попиваете?
– Да, прохлаждаемся на свежем воздухе.
– А тут у вас красиво: садик, цветы… Это уж, видно, Пистина Ивановна заботится? – говорит Кныш.
– Все вместе, и она тоже. А что же там капитан делает? Капитан!
– Иду, – послышался грубый охрипший голос, и в дверях показался Селезнев, черный, высокий; он шел, как индюк, и чуть не ударился головой о притолоку, но успел наклониться.
– Как? – крикнул он, подавая руку хозяину. – Еще не готово?
– Что не готово? – спросил хозяин.
– Как что? Зеленого поля нет! – И Селезнев так махнул рукой, что чуть не угодил в голову Колесника. Тот усмехнулся и поспешно отодвинулся.
– Извините, – сказал Селезнев, кивнув Колеснику.
– А чаю, Константин Петрович? – раздался позади певучий женский голос, и тут же показалась хозяйка, белокурая, голубоглазая, с прямым тонким носиком на свежем румяном лице.
– Можно и чаю. Только какой же это порядок, Пистина Ивановна! – лебезил перед ней, увиваясь, капитан. – Уж не знаю, когда и карты держал в руках. Пойду, думаю, к нему. А вот и у него ничего нет.
– Будет, все будет, – утешала его Пистина Ивановна. – Только сначала выпейте чаю. Я сейчас… – И она вернулась в комнату.
Селезнев, недовольно посапывая, сел рядом с Кнышем.
Колесник стоял около ступенек, вытирая свое широкое лицо красным платком, и мялся, не зная, что делать.
– А вы чего стоите? – повернулся к нему Антон Петрович. – Садитесь, садитесь, чай будем пить.
Колесник примостился на самом краю лавки. Селезнев исподлобья поглядывал на него.
– Партнер? – выпалил он наконец, не сводя глаз с Колесника.
– Чего изволите? – спросил тот, покраснев до корней волос.
– Нет, нет, не играет, – вставил хозяин.
– Черт с ним! – прогудел басом Селезнев.
– А… карты, – наконец догадался Колесник. – Не умею и в руках держать. Это игра не для нас, Господь с нею!
В это время девушка принесла на подносе два стакана чаю и подала их Кнышу и Селезневу.
Невысокого роста, круглолицая, черноволосая, она была одета по-городскому: в темной безрукавке с бордовой каймой, широкой юбке с белоснежным фартуком, на ногах – башмаки с зелеными пуговичками. Все на ней блестело, так же как ее черные глаза и длинная коса с розовыми лентами. Все в ней было привлекательно.
– Это откуда у тебя такая взялась? – спросил Селезнев хозяина, когда девушка, подавшая чай, скрылась в доме.
– А что? Приглянулась?
– Ну да! Девка, как есть девка – настоящая! Не из наших городских шлюх, – бубнил Селезнев.
– Да она мне что-то знакома; где-то я ее видел, – заметил Кныш.
– Видели? Нет, такой вы отродясь не встречали, – смеясь, вмешался Рубец.
– Да ну, не дури! Говори, где взял? – настаивает Селезнев.
– Нанял, – отвечает хозяин. – Прихожу недавно на базар, стоит девушка-крестьянка. «Ты чего, – спрашиваю, – стоишь здесь? Принесла что-нибудь продавать?» – «Нет, – говорит, – наниматься пришла». – «На ловца, – думаю, – и зверь бежит». Я как раз свою горничную рассчитал… Лодырь была большой руки!.. Я ее спрашиваю, служила ли она у кого-нибудь. «Служила», – говорит. «У кого?…» Ну, у кого бы вы думали? – спросил хозяин.
Все с любопытством ждали продолжения.
– У Загнибиды! – выпалил Рубец.
– Та-та-та… – забормотал Колесник. – Знаю, видел… Христей звать ее?
– Христей, – ответил хозяин. – Как сказала она мне, что у Загнибиды служила, я и задумался.
– То-то я вижу, что лицо ее мне знакомо, – сказал Кныш, – я ж ее в полиции видел, ее привлекали по этому делу.
– Вот и я побоялся, – сказал Рубец. – Был слух, что горничная задушила жену Загнибиды. А гляжу на нее, что-то не верится, чтоб она такое сделала. «Ты, – спрашиваю, – когда служила?» Думаю: может, давно это было, может, не та. А она говорит: «После смерти хозяйки ушла». – «Так ты та самая, о которой говорили, что она задушила хозяйку?» А она в слезы. «Чего же ты плачешь?» – «Да как же, – говорит, – из-за этой брехни просвета не вижу. Вот другой день здесь стою, а как узнают, где служила, так сразу и уходят». А я подумал: если б она в самом деле была виновна…
– Да это ее Загнибида впутал, чтобы затянуть дело. Потом он сам во всем признался, – перебил Кныш.
– Погодите же, – продолжал хозяин. – Значит, подумал я, если б она была виновата, ее бы не отпустили. И говорю ей: «Пожалуй, я тебя найму, только прежде справлюсь как следует». – «Да наймите, сделайте милость», – просит она. Привел ее домой, а сам к следователю. И вот следователь мне сказал то же, что и вы, – ее Загнибида впутал… Вчера только дело было.
– А дорого? – спросил Кныш.
– Десять рублей и моя одежда.
– Везет! – крикнул Колесник.
– Спрашиваю ее: «Сколько за год?» А она: «Сколько положите, только одежда ваша». А я говорю: «Десять рублей хватит?» – «Хватит», – отвечает. На том и порешили.
– Глупая мужичка, – засмеялся Колесник.
– Если она останется у меня, – продолжал Рубец, – я ей и двадцать дам. Господь с нею! Вот я кухарке плачу три рубля в месяц, а что в ней особенного? Только что обед приготовит. А после обеда – поминай как звали! Эта, может, хоть дома будет сидеть.
– Пока не освоилась. А вот, подождите, солдата заведет, так начнет бегать, как другие, – сказал Кныш.
– Правда ваша, – заметил Колесник. – У меня тоже была прислуга из села. С полгода – все любо-мило, воды не замутит, а как познакомилась с солдатами, так шлюхой стала. И что только эти солдаты делают с прислугой!
– Солдаты – одно дело, – вставил хозяин, – а то еще водятся такие наставники, как моя кухарка. Та сейчас же начнет нашептывать: и того не делай, и это не твоя обязанность, и воды не носи, и грядок не поли. Думаю рассчитать ее, проклятую. За одно только и держу: никто лучше борща не сварит, чем она, прямо – объедение. Зато ж и терпи от нее: около печи не стой, ни слова не говори, ни во что не вмешивайся – так сразу и загорится!
– Городская. Эти городские, когда нос задерут, пиши пропало! – начал было говорить Колесник. Тут как раз вошла Христя забрать порожние стаканы, и разговор прекратился.
– Ну, а за что же Загнибида убил свою жену? – спросил Колесник, когда Христя ушла.
– Кто его знает, – ответил Кныш. – По-всякому говорят. Одни его обвиняют, другие – ее. Она, говорят, была очень ревнива… Он куда-то уезжал и лишний день задержался, вот она на него и напустилась. Ну, он ее и помял…
– Нечего сказать – помял, когда она на тот свет отправилась. Нет, он был скверный человек, а она очень добрая. Я знаю ее – она моя кума, и его знаю – окаянный, – продолжал Колесник.
– Да о чем мы толкуем? – крикнул Селезнев. – Играть-то будем или нет? – и он сердито взглянул на хозяина.
– Сейчас! Сейчас! – засуетился Рубец. – Христя! Как бы столик сюда принести!.. Или, может, в беседку пойдем? Тихо теперь, зажжем свечку – и катай-валяй!
– Да мне все равно. Кого ж четвертым?
– Нет четвертого, – ответил хозяин.
– А ваш квартирант? – спросил Кныш.
Рубец только махнул рукой.
– Не играет?
– Другим Бог и квартиранта пошлет такого, как надо, – сказал Рубец. – А мне какой-то нелюдим попался: все сидит в своей комнате.
– Что же он делает? – спросил Кныш.
– Пишет, читает.
– Дурак, видно! – решил Селезнев.
Колесник засмеялся, а за ним и Кныш.
– Само собой – дурак! – доказывает Селезнев. – Молодому человеку погулять, поиграть, а он сиднем сидит в комнате. Молодому человеку все нужно знать, все видеть – да! За барышнями ухаживает?
– И не думает, – ответил Рубец. – Говорю ведь вам: сидит в своей комнате да только и выходит, что на службу.
– Ну, дурак и есть!
– А наши жильцы хвалят: нет, говорят, человека более подходящего, – заметил Колесник.
– Да он-то не глуп. Начитанный, по-книжному так и гвоздит! – вмешался снова Рубец.
– Из новых, значит! Уж эти мне новые! Ничего никогда не видел, никакого дела не знает, а критиковать – давай! Слышали: корреспондент появился… описал всю нашу управу.
– Ну? – воскликнули сразу Рубец и Кныш.
– Да-а… Такого там наплел – страсть! О всех накатал… Я-то ничего: я старый капитан, обстрелянный… меня этим не проймешь, а вот другие возмущаются. Председатель говорит: непременно нужно в редакцию писать – кто такой, и в суд жаловаться. На свежую воду вывести!
– Может, и наш жилец. А вы что думаете? Вполне возможно, – сказал Андрей Петрович.
– Нет, – успокоил его Селезнев. – Учителишка есть такой. Новый учителишка прибыл: низенький, черненький, плюгавенький. Вот на него говорят. По крайней мере, почтмейстер говорит, что он какую-то рукопись отсылал в редакцию. Да черт с ним совсем! Когда же карты? – закончил он.
– Сейчас! Сейчас! Пистина Ивановна! Христя! Где же столик?
Христя вынесла из комнаты столик, за нею вышла и Пистина Ивановна.
– Столик – в беседку, – приказал Антон Петрович, – и распорядись, Писточка, чтобы свечи туда принесли; оно бы неплохо было на другой столик поставить водочку и закуску.
– Прощайте, Антон Петрович, – сказал Колесник, вставая.
– Прощайте.
– Так что вы скажете: можно надеяться?
Антон Петрович сделал недовольную мину.
– Не знаю, как голова посмотрит, – ответил он уклончиво.
– Уж вы постарайтесь, – просил Колесник и шепнул что-то на ухо хозяину.
– Ладно, ладно! Приходите завтра в думу, – ответил ему Антон Петрович.
Колесник всем поклонился и, грузно ступая, ушел.
– Принесла его нелегкая! Мужик мужиком, а сиди с ним и теряй время, – жаловался Антон Петрович.
– А в шею! – крикнул Селезнев.
– Насчет таксы, верно? – спросил Кныш.
– Да обо всем понемногу, – промямлил Рубец.
– Ну, идем, идем! – торопил Селезнев, спускаясь с крыльца в садик.
За ним последовали Кныш и хозяин. Вскоре они скрылись за темнеющими деревьями. В небольшой беседке на раскрытом ломберном столике уже стояли зажженные свечи, освещая две колоды карт. Селезнев первый вошел в беседку, схватил колоду карт и начал ее быстро тасовать.
– Живей! Живей! – кричал он, торопя Кныша и Рубца, не спеша шедших по аллее и о чем-то оживленно беседовавших.
Кныш удивлялся, что овощи и фрукты так хорошо уродились, когда все жалуются на недород. Рубец относил эти жалобы к людской ненасытности, рассказывал, когда какой дичок посадил, каким прививки делал, какие колировал.
– Готово! – крикнул Селезнев, когда они приблизились к беседке.
– Ну и заядлый этот капитан! Не даст людям поговорить.
– О чем там еще калякать, когда дело ожидает? Прошу брать карты. Чья сдача?
– Дайте ж хоть сесть! Ну и горячку порет! Вы на войне тоже так горячились? – спросил Кныш.
– А-а, пардону уже просите? Ну, Бог с вами! Вот моя дама, – открыв карту, сказал Селезнев.
Кныш и Рубец тоже взяли по карте. Выпало сдавать Кнышу. Он взял одну колоду, перетасовал, снял, посмотрел на нижнюю карту и сразу положил ее. Потом взял другую колоду и проделал то же самое.
– Вот уже колдует, ворожея! – сердился Селезнев. – Все черная масть, и баста! Я вас всех сегодня попарю! Ух, знатно попарю! Снимите, что ли…
– Да снимайте уж вы, – Кныш пододвинул к нему колоду и начал сдавать.
В беседке стало тихо. Слышно только, как шелестят карты на зеленом сукне.
– Раз! – сказал Кныш, разглядывая свои карты.
– Два, – тихо откликнулся Рубец.
– Три! – рявкнул Селезнев.
– Бог с вами! Берите, берите! – заговорили Кныш и Рубец.
И снова стало тихо.
– Семь червей! – крикнул Селезнев.
– Вист, – сказал Кныш.
– Пас! – отозвался Рубец.
– Открывайте!
Рубец выложил свои карты на стол.
– Без одной! – крикнул Селезнев, выкладывая свои.
Кныш побагровел от злости и сердито бросил карты, а Селезнев, улыбаясь, стал сдавать.
В комнате зажгли свет. Весело засверкали огни в раскрытых окнах, по стенам забегали тени, засуетились люди в доме.
– Марья! Ты уж, пожалуйста, сегодня не ходи никуда, – сказала Пистина Ивановна, стоявшая на пороге кухни, белолицей и черноглазой молодице, которая перед зеркалом завязывала шелковый платок на голове. – Видишь, гости… надо им хоть жарко́е приготовить.
Марья молча выслушала хозяйку. Потом сразу сорвала платок с головы и швырнула его на лавку; черные волосы рассыпались по ее плечам и лицу. Пистина Ивановна торопливо вернулась в комнату.
– Черт его батьку знает! – крикнула Марья, поправляя волосы на голове. – Каторжная работа! Отдыха никогда не имеешь! И до обеда работай, да еще на ночь снова становись к печи! Пусть их лихая година заберет всех! Разве я на такую каторгу нанималась? Они гуляют, пируют, а ты работай! Не бывать этому, не хочу!
Марья сердито опустилась на лавку. Такой растрепанной и печальной застала ее Христя.
– Что же вы, тетка, не собираетесь? – спросила она Марью.
– Собирайся!.. Разве с этим чертями куда-нибудь соберешься? – крикнула Марья, сердито сверкнув глазами. – Хоть бы день был вдвое длинней, и то б им мало было… И ночью не спи, работай! Это мука мученическая! Каторга горькая! И понесло меня, дуру, к ним служить. Посоветовали злые люди, – чтоб им добра не было! – наняться сюда. А я, дурная, их послушала!
Христя испуганно глядела на Марью. Еще недавно она была такая веселая и ласковая, собиралась куда-то идти, умылась, да не просто, а душистым мылом, расчесывала свои курчавые волосы, а теперь, гляди, что с ней стало.
– Что же случилось? – тихо спросила Христя.
– Что? – крикнула Марья. – Заявилась эта чертова хозяйка… да еще и упрашивает своим кошачьим голосом… О, лукавая змея!
– А если вам так нужно идти, разве я одна не управлюсь? – робко спросила Христя.
Марья ответила не сразу: «А в самом деле, – подумала она. – Христе сейчас делать нечего, она вполне справится под присмотром хозяйки». Радостная и теплая улыбка засветилась в ее черных глазах.
– Христя, голубка! – сказала она ласково. – Уж будь добра, замени меня сегодня, так нужно мне идти, так нужно! А барыне скажешь, что ты все сама сделаешь.
Марья снова взяла платок.
– Да если хотите, так я сразу пойду и скажу, – говорит Христя.
– Как хочешь, – ответила Марья.
«А что, если разобидится наша цаца!» – мелькнуло в ее голове. Она хотела остановить Христю, но та уже скрылась в комнате. Ей опять досадно стало. Но все равно она пойдет. Хозяева – как хотят, пусть обижаются или хоть бучу поднимают. Что будет – то будет, а она пойдет!..
На пороге снова появилась Пистина Ивановна.
– Иди, Марья, если хочешь. Христя приготовит ужин, – сказала она и затворила дверь.
У Марьи на душе словно солнце вновь взошло. «Эта Христя хорошая девушка, – подумала она, – и подруга… Как все уладила любо да мило, без шума и крика».
– Я уже тебя, Христя, когда надо будет, десять раз заменю, – обещает Марья, когда Христя вернулась в кухню.
– А что тут такого? Если вам нужно идти… и вас ждут, – ответила Христя.
– Ох, ждет, – вздохнув, сказала Марья. – Да так ли ждет, как я, дурная, жду? – И, улыбнувшись своими черными лукавыми глазами, ушла.
Христя осталась одна. «Чудна́я эта Марья, – думала она. – Куда спешит? Бросила мужа, хозяйство, чтобы в прислугах век свой коротать… Чудна́я… Настоящая городская… Когда она, Христя, еще впервые встретила ее на Осипенковом хуторе, та сказала, что городской была – городской и умрет… Так и загубит свою молодость… Ну, а потом? Когда старость и немощи возьмут свое? Когда у нее не будет сил работать? Что тогда? Снова к мужу вернется? А если муж ее не примет? Опять наниматься воду таскать, в мусоре копаться». Христя не раз видела таких – ободранных, безносых, кривоногих. Страшно взглянуть на них. А они, словно у них и горя никакого нет, перекликаются хриплыми голосами, шутят, смеются. Неужели и Марья до этого дойдет?… Христя вздрогнула… Не приведи, Господи! Она и сама не знает, почему ей так полюбилась эта Марья. Что-то родное и близкое она чувствует в ней. С первой встречи Христя привязалась к Марье. Когда шла наниматься, мечтала встретить ее. И так случилось, что не только встретила, но и служить пришлось вместе. Как обрадовалась Христя, когда в чужом доме столкнулась с Марьей! Так бы и бросилась ей на шею, если б та узнала ее. Но только когда они разговорились, Марья ее вспомнила.
– И вам не жалко было бросать свое добро? – спросила Христя.
– Ни капельки, – спокойно ответила Марья. – Разве это мое?
«Чудна́ твоя воля, Господи!» – подумала Христя и принялась растапливать печь.
Не долго пришлось Христе простоять около печи. Сама она проворна, да и дрова – не солома: ужин был скоро готов. Можно бы и подавать, но из сада одно только доносится: раз, два, три! – значит, игра еще продолжается.
– Накрывай на стол, Христя, они уж скоро кончают, – сказала Пистина Ивановна.
Христя, однако, еще долго ждала в кухне, пока ей скажут – неси! Ничего не слышно. Хозяйка ушла в сад и не возвращается. Христя погасила свет и вышла на крыльцо. Луна высоко поднялась, заливая серебряным светом землю. Только у домов и заборов сгустились ночные тени. Серебристо-синий воздух был свеж и прозрачен, звезды еле заметно мигали в голубом сумраке. Все замерло в безмятежном покое. Затихает город, гаснут огни, наступает сонная тишина.
Христя села на пороге, прислонившись к косяку. Тишина ночи убаюкивает мысли в голове, скорбь и радости в сердце… Лечь бы тут, на свежем воздухе, и уснуть. Христя сладко зевает. Ее клонит ко сну, но из сада доносится смех, выкрики. Нет, не спи, Христя, жди, пока тебя позовут!
От скуки Христя начала оглядывать все кругом. Окно напротив было открыто, в комнате горел свет. Там живет паныч. «Почему там так тихо? Не уснул ли он?» – подумала Христя и, подойдя к окну, заглянула внутрь.
Склонившись над листом бумаги, он что-то быстро писал. Рука торопливо выводит одну строку за другой. Его молодое лицо, обрамленное пушком, то хмурится, то проясняется; черные брови то сходятся, то расходятся; под высоким белым лбом видны его задумчивые глаза.
Он на минуту прекратил писать, что-то прошептал и снова принялся за работу; слышно было, как поскрипывает перо.
Христя залюбовалась его молодым вдохновенным лицом, белыми нежными руками, карими глазами и черными густыми бровями. «Вольно ж ему губить свои молодые годы за работой без отдыха», – подумала она.
– Христя! Христя! – донесся окрик хозяйки.
Она вскочила как ужаленная и побежала.
– Вынимай жаркое из печи и неси. Они и до утра не кончат. Пусть стоит перед ними, и холодное поедят, когда проголодаются, – сердито сказала Пистина Ивановна. – А я спать пойду.
Христя понесла жаркое в садик.
– Эй ты, красавица! – крикнул Селезнев. – Принеси-ка сюда воды.
Христя принесла воду и, ставя стакан на стол, почувствовала, что ее кто-то тронул за талию. Она оглянулась и увидела, что Селезнев протянул к ней свою длинную руку.
Христя покраснела и вмиг убежала.
– Эх, скорая, черт возьми! – сказал Селезнев.
– А вы, капитан, по заповеди поступаете: пусть правая рука не знает, что творит левая, – хохоча, сказал Кныш.
– Да просто хотел ущипнуть.
– Не развращайте моих слуг, – нахмурившись, буркнул Антон Петрович.
– Нет, нет… Бог с ней! Я вист, а вы что? – обратился Селезнев к Кнышу.
– И я повистую, – ответил Кныш.
– Без двух, – говорит Антон Петрович, раскрывая карты.
– Эх, капитан! – сказал Кныш.
– А черт тебя дери с твоей девкой! – крикнул капитан.
Раздался дружный хохот.
Христя, стоя за беседкой, ничего не разобрала и только обиженно прошептала:
– Чертова верста! И стыда у него нет!
– Закрывай окна и ложись спать! – сказала ей Пистина Ивановна, когда она вернулась в комнату.
Христя побежала. Вокруг дома послышался стук закрываемых окон и ставней.
– А это зачем? – донесся голос квартиранта из комнаты, когда она намеревалась закрыть окно, и тут же показалось его белое лицо.
– Разве не надо? – спросила Христя.
– Не надо.
– Спать пора, – неожиданно для себя сказала Христя.
Его улыбающееся лицо снова показалось в окне. Христя убежала в сени.
Когда она уже легла, перед ее глазами в темноте сеней еще долго вырисовывалось белое улыбающееся лицо. Уснула она не скоро и несколько раз просыпалась от выкриков капитана.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Солнце уже высоко поднялось, когда Христя проснулась. Марья еще не возвращалась, хозяйка спала. В доме было тихо – нигде ни шороха. С улицы доносился шум, топот. Люди толпами спешили на базар. Христя вспомнила, что в кадке воды мало, схватила ведра и побежала к соседнему колодцу. Принесла воды, поставила самовар, а еще никто в доме не вставал. «Видно, до утра просидели за картами», – думала она, не зная, за что бы взяться.
– Христя! – послышался из спальни голос хозяина. – Пора окна открывать! – И он громко зевнул.
Христя побежала. Вернувшись, она встретила Марью. Лицо у нее бледное, глаза воспалены, платье измято, волосы выбились из-под платка, да и платок сдвинут набок: или она всю ночь не спала, или, немного вздремнув, спохватилась и скорее побежала домой.
– Здорово, тетка! – приветливо сказала Христя.
– Здорово, – охрипшим голосом ответила Марья.
– А башмаки еще не почистили? – крикнул хозяин из спальни.
– Ой, дурная голова! – сказала Христя и побежала за башмаками.
Пока она их чистила, Марья молча приводила себя в порядок, поправила растрепанные волосы, разгладила помятую юбку. Взглянет Христя на молчаливую и сердитую Марью и снова примется за башмаки. Вот они заблестели, словно покрытые лаком. Христя понесла их в спальню.
– Марья дома? – спросил пан.
– Дома.
– Скажи ей, чтоб собиралась на базар.
Марью точно кипятком ошпарили.
– Черт бы его побрал! – заворчала она, как только Христя показалась на пороге. – У нас все не так, как у людей: пойдут на базар, купят дня на два, и готово. А у нас – что ни день, топай. На грош луку купить – иди! И сегодня иди, и завтра бреди. У других кухарки сами на базар ходят, а у нас иди за ними, как дурочка, и тащи, что они вздумают купить. Боятся, чтоб не украла! – тарахтела Марья, повязывая голову старым платком.
Вскоре показался хозяин, уже одетый, и, не сказав ни слова, вышел из дома. Марья, схватив корзину, побежала за ним.
«Отчего это Марья так сердита? Что с ней?» – думала Христя, оставшись в одиночестве. Самовар что-то печально напевал, и Христе стало грустно.
Немного спустя встала и хозяйка, а за ней – детвора. Надо всем подать умыться, одеть детей, застлать кровати, прибрать в комнатах. Христя вертелась как белка в колесе.
– Подай самовар, скоро пан с базара вернется, – приказала Пистина Ивановна.
Христя бросилась в кухню, а за это время уж вернулась Марья. Бледная и вспотевшая, она опустила на пол тяжелую корзину, в которой были куры, говядина и разные овощи.
– Руки пообрываешь! Нет того, чтобы извозчика нанять; как на коня навалят, и тяни! Аж руки затекли! – крикнула она и начала размахивать руками.
Христя схватила самовар и понесла его в столовую.
– Вымой стаканы, – говорит ей хозяйка.
Пока Христя возилась с чайной посудой, вернулся хозяин и начал рассказывать про базар.
– Ты сегодня присмотри за Марьей. Она ходит по базару и, как пьяная, на людей натыкается.
Хозяйка только вздохнула.
Христя вернулась в кухню. Марья сидела за столом и, глядя рассеянно в окно, лениво жевала хлебную корку. Видно было, что она о чем-то глубоко задумалась и думы ее были невеселые. Христя боялась заговорить с ней.
Было тихо и грустно, хотя солнце ярко сияло, и его золотые блики скользили по комнате.
– Что это, Марья Ивановна, такая печальная? – раздался тихий голос позади.
Христя испуганно оглянулась. У дверей стоял паныч. Волосы на голове растрепаны, глаза заспаны, белая вышитая сорочка расстегнута, и из-под нее выглядывает розовая грудь.
– Опечалишься, когда рук не чувствуешь, – сурово ответила Марья.
– С чего ж это?
– Вот какой воз на себе тащила, – и она указала на корзину с провизией.
– Бедняжка! И никто не помог? Никого не нашлось? – ласково глядя на нее, спросил паныч.
Марья исподлобья взглянула на него.
– Ну вас! Без насмешек никак не можете.
– А вы уж рассердились, Марья Ивановна. Я хотел вас просить, чтобы вы дали мне умыться.
– Вот кого просите! – кивнула она головой на Христю.
– А это что за вечерняя пташка? – спросил он, смотря на Христю.
Кровь прилила к ее лицу… «Это он намекает на вчерашнее», – подумала Христя и еще больше покраснела.
– Дивчина! Не видали еще? – сказала Марья.
– В первый раз… Откуда такая горлинка пугливая?
Христя вся пылает.
– А красива? – с ехидной улыбкой спрашивает Марья.
Паныч не сводил глаз с Христи.
– Уже и влюбились? – засмеялась Марья.
– Влюбился, право слово.
Христя несказанно обрадовалась, когда ее позвали. Она помчалась стрелой. Но, слушая наказы пани, слышит его голос, глядит на пол – и видит его светлые глаза.
– Григорий Петрович встал? – спрашивает хозяйка.
– Не знаю… Там паныч какой-то в кухне, – ответила Христя, догадываясь, что речь идет о квартиранте.
– Это он и есть. Зови его чай пить.
Христя вернулась в кухню, а он стоит, шутит с Марьей, а та смеется, щебечет.
– Пани просит вас чай пить, – робко сказала Христя.
– Хорошо, голубка. Дай же мне умыться, Марья.
– С какой стати? – возразила Марья. – Если она вам нравится, пусть и дает.
– Тю-тю! Ты ж моя старая слуга.
– Мало ли чего! Старые теперь забываются, а на молоденьких заглядываются!
Паныч покачал головой.
– Ну, что с тебя, старушка! Красавица, как твое святое имя? – спросил он Христю.
Марья засмеялась, а Христя молчала.
– Как же тебя зовут? – допытывался он.
– Не говори! – крикнула Марья, но Христя уже сказала.
– А по отцу?
Христя молчала.
Он повторил вопрос.
Христя улыбнулась и сказала:
– Батька.
– Христя Батьковна?
Марья еще громче рассмеялась, а за ней и Христя.
– Так слушай же, Христина Батьковна, – говорит паныч. – Будь отныне моей слугой и дай мне, пожалуйста, умыться. Шабаш теперь, Марья Ивановна. Вам теперь свиней пасти.
– Не очень, не очень! – ответила та. – Как бы не пришлось к старым возвращаться!
– Нет, не бывать этому.
– А что будет, увидим на блюде, – затараторила Марья.
– Как? Что ты сказала?
– То, что вы слышали.
Тем временем Христя принесла воду.
– Неси сюда, Христя, – махнув на Марью рукой, сказал квартирант, указывая на двери в свою комнату. – Ты еще не была в моих покоях!
Христя пошла за ним.
Большая комната в четыре окна. Слева у глухой стены стояла неубранная постель, у окна стол, а на нем всякие безделушки из дерева, глины, камня. Тут были группы обнаженных людей, собаки с оскаленными зубами, коты со светящимися глазами; по обе стороны стола на круглых подставках стояли две темные человеческие фигуры: одна – в шапке и кожухе – настоящий мужик, другая – без шапки, носатая, длинные волосы кучерявились на ушах и затылке. Стены увешаны картинами – прямо глаза разбегаются! На черном, покрытом лаком шкафу стояла фигура большеголового человека, опершегося о саблю, из-за которого выглядывал орел, распростерший крылья. Христе впервые пришлось видеть такое диво.
– Возьми эту скамеечку, Христина, – говорит паныч, – и поставь посреди комнаты, а под кроватью найдешь таз; поставь его на скамеечку и поливай мне на руки.
Христя начала лить холодную воду в его ладони. «И что там мыть?» – думала она, глядя, как он мылит свои холеные белые руки душистым мылом.
Марья, приотворив дверь, просунула в нее голову.
– Ишь – закрылись… Смотрите, как бы греха не вышло, – говорит она, смеясь.
– А ты подсматриваешь, старая карга? Не такие мы люди. Правда? – и он ласково глядит на Христю своими карими глазами.
– Какие же это?
– Мы – праведники. Не так ли, Христя?
– Умывайтесь, а то уйду, – говорит она стыдливо.
– Вот какая ты! – и он покорно подставил руки.
– Да еще не освоилась. А как хорошенько обтесать этот колышек, тогда… – и Марья заливается смехом.
Христя то краснеет, то бледнеет, даже слезы на глазах выступили. «Ну и бесстыдница эта Марья, такое болтает…»
– Не смущай дивчину, не смущай! – сказал паныч, умывшись.
Христя схватила таз с водой и побежала в кухню. Марья вошла в комнату паныча. И слышит Христя, как недавно еще сердитая и печальная Марья беззаботно щебечет и смеется.
– О-о! Там есть, – говорит она, смеясь.
– Нашли отца с матерью, – шутит паныч.
Марья неудержимо хохочет. Христя не разберет, о чем они говорят, но догадывается, что речь идет о ней. Ей стало досадно. «Рада, что напала на глупенькую!» – думала она.
Христя давно уже вытерла таз, но не хотела входить в комнату, откуда все еще доносился смех. Только когда паныч пошел в столовую чай пить, она отнесла таз.
– Вот паныч – хороший человек! Только и поболтаешь, когда он дома, – сказала Марья. Христя кивнула головой. Она уже не знала, что думать про Марью. Не сказав ни слова, она пошла убирать комнату квартиранта.
Когда хозяин и паныч ушли из дому, начались обычные хозяйственные хлопоты. На Марью опять нашло. Злая, сердитая, она по нескольку раз принималась за одну работу и, не окончив ее, бросала. Все ей казалось не так, все мешало.
– Долго будет у тебя борщ кипеть? – крикнула наконец Пистина Ивановна и принялась сама крошить овощи и резать мясо.
Марья ходила мрачная, насупившись, как сова, и гремела кочергой, ухватом, мисками, горшками. Хозяйка тоже сердилась, и Христя не знала, как ей быть, чтобы гнев не обратился на нее. Вчерашний день был такой радостный, а сегодня такой неприветливый. К тому же еще и дети подняли крик и рев из-за игрушек, которых не могли поделить.
– Маринка! Ты чего плачешь? – крикнула пани из кухни. – Поди позабавь их, – сказала она Христе.
Маленькую Маринку, кричавшую на весь дом, Христя взяла на руки, носила, баюкала – ничего не помогало. Маринка рвалась к матери.
– Не пускай ее сюда! – крикнула хозяйка.
Христя насилу успокоила девочку, усадила на коврик, и та стала играть. А тут расходился Ивась – веди его купаться.
– Нельзя. Мама не велит, – уговаривает его Христя.
– Купаться! – орет Ивась, пока в комнату не вбежала раскрасневшаяся Пистина Ивановна и не надавала ему пощечин. Ивась поднял рев.
– Стыдно такому большому реветь, – уговаривает его Христя. – Смотрите, как Маринка славно играет. Цаца барышня.
– Ца-ца, – повторила Маринка и начала баюкать большую куклу.
Ивась бросился к Маринке на коврик и расшвырял все ее куклы. Маринка снова заплакала, а Ивась ее передразнивал.
– Долго вы будете тут кричать? – крикнула на них хозяйка.
– Она… ругается, – сказал Ивась, указывая на Христю.
Та обмерла: что, если хозяйка ему поверит? Какой скверный ребенок!
Христя с трудом утихомирила детей, и только тогда ей удалось немного отдохнуть. Но вскоре пришлось накрывать на стол. Пришел хозяин и паныч – обед подавай, за столом прислуживай: то убери, то подай, это вымой, вытри.
После обеда дети притихли, хозяин лег спать, паныч закрылся в своей комнате. Христя вымыла посуду и тоже села обедать.
За обедом Марья разговорилась. Разговор шел о паныче: кто он, где служит и какой он вежливый, общительный, простой.
– Если б немножко полнее, какой бы красивый был! – говорила Марья. – Кажется, и наша хозяйка в него того… как зайдет о нем речь, не нахвалится своим кумом. Он Маринку крестил… А что до городских барышень, то каждая бы за него вышла. Такие они! Но он ни на кого не хочет променять свою попадью. Поп в церкви вечерню служит, а он с матушкой чаи распивает. Проходимец! А все же хороший человек, – закончила Марья и зевнула.
– Спать хочется? – спрашивает Христя.
– Еле на ногах держусь! Подумай – ни минутки не спала. Сейчас пойду в сарай и усну, а ты, пожалуйста, побудь за меня.
Управившись, Христя повела детей в садик. Хозяйка вышла на крыльцо и, мурлыча какую-то песенку, принялась вязать. Ее тонкие пальчики быстро перебирали спицы, из-под которых выплывали петельки, кружочки и снова петельки. Христя видела, как еврейки вяжут чулки, но это не то…
– Что вы делаете, барыня? – робко спросила Христя.
Хозяйка, взглянув на нее, засмеялась звонко, словно колокольчик. Лицо зарумянилось, блестели два ряда белых ровных зубов, а глаза так и сверкали. «Хорошая барыня, которая насмехается над прислугой», – подумала Христя.
– Вяжу, – сказала наконец Пистина Ивановна. – Никогда не видела? Погляди.
Христя подошла к ней ближе, и хозяйка начала ей показывать, как надо вязать.
У Христи только в глазах мелькало, когда она смотрела, с какой быстротой хозяйка медным крючком хватала нитку, вязала петельку, просовывала в эту петельку нитку, и неизвестно как образовывались две петельки. Христя только вздохнула.
– Не поймешь?
– Нет.
– Когда-нибудь научишься.
День близился к вечеру. Стоял удушливый зной. Раскаленный воздух казался желтым. Даже в садике – и то было душно. Дети капризничали.
– Веди их в комнату, – сказала Пистина Ивановна.
– Там ведь пан спит, – возразила Христя.
– Доколе он будет дрыхнуть? Выспится, а потом уйдет на всю ночь, – сдвинув светлые брови, сказала хозяйка.
В дверях Христя столкнулась с хозяином, заспанным, потным.
– Давай скорее умываться, – сказал он и вышел на крыльцо.
– Ух, и выспался, – произнес он, зевая.
– А теперь на всю ночь из дому, – сказала Пистина Ивановна.
– Надо идти – обещал. Но сегодня не засижусь, к полуночи буду дома.
– Смотри. Я буду ждать.
Солнце уже садилось, когда хозяин ушел из дому. Хозяйка собралась пить чай на веранде. Вышел и паныч. Он взял на руки свою крестницу Маринку и стал ее поить чаем.
– Вот только вы и напоите ее, любит вас, – говорит хозяйка. – Маринка, любишь крестного папу?
– Лю-бу, – прощебетала Маринка. Паныч ее поцеловал, и она принялась трепать его волосы и щеки.
– Ты же моя хорошая! – приговаривал он, раскачивая девочку, которая заливисто смеялась и размахивала руками.
Уже смеркалось, когда они закончили чаепитие. Дети захотели спать. Христя раздела их и уложила в постель. Когда она пришла в кухню, Марья наряжалась, уже собираясь уходить.
– Сегодня еще пойду, – сказала она, – и, может, в последний раз, – добавила она, глубоко вздохнув, и ушла.
Христя снова осталась одна. Дети спали; паныч ушел в свою комнату; хозяйка сидела в спальне… Кругом глубокая тишина. Христю начало клонить ко сну.
– Чего ты, Христя, сидишь? – сказала хозяйка, заглянув в кухню. – Ложись спать, я сама открою пану.
Христя раздумывала, где бы лечь: в сенях или в кухне на полу. И решила – лучше в кухне. Может, хозяйка кликнет, так она тут под рукой.
Потушила Христя свет, легла. Густой сумрак ночи охватил ее. Она сразу закрыла глаза. Странно ей: то еле на ногах держалась, а вот легла – и сна как не бывало… Думы роем кружатся в голове. Окна еле заметно маячили в темноте, и, вглядевшись в нее, Христя увидела мигающие звезды… А что это за полоска света трепещет и шевелится на полу?… Христя повернула голову и взглянула на дверь в комнату паныча. Дверь была неплотно прикрыта, и сквозь небольшую щель пробивался свет. «И он не спит, что-то делает», – подумала она и на цыпочках подкралась к двери.
Паныч сидел за столом, подперев рукой голову. На столе горели две свечи, перед ним лежала книга – он читал. Глаза его быстро скользили по странице. Свет падал прямо на лицо, и оно казалось еще нежнее и привлекательней. Лоб белый, высокий, словно высеченный из мрамора; брови – как бархатные жгуты. Шелковистые усы прикрывают плотно сомкнутые губы. Ноздри точеного носа то расширялись, то сужались. Небольшая черная борода закрывала его подбородок. Христя приникла к щели, чтобы лучше его разглядеть. Обычно она стеснялась смотреть на него, и теперь только увидела его благородную красоту. Она вспомнила хлопцев из села. Какими топорными показались они ей! Пришлось ей видеть и поповича. Будто паныч, а лицо прыщавое, волосы растрепаны, лицо испитое, говорил грубым голосом и ругался. Нет, она никогда не видела такого красивого молодого человека. Если б можно было, она обвилась бы вокруг его шеи, как хмель, прижала бы его к своей груди, к горячему сердцу. Пусть слушает, как оно бьется для него! Вся бы приникла к нему и так бы замерла.
Она глубоко вздохнула. «Недаром барышни льнут к нему, – вспомнила она слова Марьи. – Какая же эта попадья, что так очаровала его? И странно – попадья!..» Христя снова легла. Вскоре она услышала осторожные шаги: кто-то в комнате крался на цыпочках. Христя узнала в темноте фигуру хозяйки. У нее дыхание сперло. Хозяйка подошла к двери квартиранта, тихонько постучала пальцем и спросила:
– Можно?
– Пистина Ивановна! Кумушка! – сказал он и пошел ей навстречу.
– Сижу, все дожидаюсь своего благоверного… дети спят… Думала, хоть вы придете словом перемолвиться.
– Я читал. Почему же вы меня не позвали?
– А вы сами не догадались?
– Вы с работой пришли… Садитесь же, кумушка… Вот нежданная гостья! Сюда, в кресло, вам будет удобнее, – говорил он, придвигая ей кресло.
«Что ж это будет?» – подумала Христя, поднимая голову. Дверь не была закрыта, сквозь щель шириной в ладонь все было отчетливо видно. «Неужели и она? – вспомнились ей слова Марьи. – Ведь у нее муж, двое детей… Она – кума его», – думала Христя, и ей почему-то страшно стало.
А хозяйка тем временем весело болтала с панычом.
– Что же вы делаете? Мне скатерть вяжете? – спросил он, улыбаясь.
– Вам? – сказала она удивленно.
– А хоть бы и мне. Куму давно бы следовало связать скатерть – видите, стол голый.
Она так на него взглянула, словно хотела сказать: «Знаем мы вас. Есть кому вязать для вашей милости…» Потом весело засмеялась, сверкая глазами. «Как она хороша, когда смеется!» – подумала Христя. Видно, и паныч то же подумал, потому что его ласковый взгляд надолго остановился на лице хозяйки. Христе показалось, что от этого взгляда хозяйка еще больше похорошела; она, смеясь, рассказывала, как Христю поразило ее вязанье.
– У вас в самом деле пальчики – чудо! – тихо сказал паныч.
Хозяйка бросила на него лукавый взгляд. Ее пальцы еще быстрее забегали, словно она хотела ему показать, что нигде он не найдет более проворных, изящных ручек. Вдруг что-то блеснуло…
– Больно! – крикнул паныч.
– А другим не больно?
– Кумушка! – прошептал он, поднося ее руку к губам. Он гладил ее, покрывая поцелуями. Пистина Ивановна не сопротивлялась. Христя видела, как горели глаза у хозяйки, как дрожали ее губы. Что-то хищное, злое было в ее лице.
Вдруг она отдернула руку и сердито прошептала:
– И у попадьи такие руки?
Он вздрогнул и, глядя хозяйке прямо в глаза, ответил:
– Пистина Ивановна! Кому-кому, а вам грех! Неужели вы верите сплетням?
Та покачала головой и молча снова принялась за работу.
Она еще долго сидела, чем-то опечаленная, прилежно работая, и больше между ними ничего не было. Он без умолку говорил, она слушала. Порой бросит на него грустный взгляд, задаст какой-нибудь вопрос и снова задумчиво слушает. Христе казалось, что хозяйка решает что-то важное и, вероятно, не слышит слов паныча.
Далеко за полночь вернулся хозяин. Ему открыла Пистина Ивановна.
– А я сидела у Григория Петровича и ждала тебя, – сказала она.
Пан ей ничего не ответил.
Вскоре после этого свет погас. Все уснули. Одна Христя не спала. Она еще долго думала о ночном свидании хозяйки с панычом.
«А может, у панов так принято… Известное дело: панские обычаи – не наши», – решила она и только тогда уснула.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Поздно заснула Христя, а рано встала. Лицо ее словно припухло, голова горела, глаза покраснели. Так бывает, когда недоспишь. И правда, она другой день недосыпает. Христя вспомнила минувшую ночь и подумала: странно живут люди в городе; в селе по такому поводу подняли бы шум, ославили бы хозяйку, а тут – ничего, будто так и полагается. И хозяйка сама сказала пану, что была в комнате квартиранта, а пан – ничего… Ну, паныч не женат, а она-то законная жена, у нее дети… и не грех ей?… Христе хотелось поскорее взглянуть на хозяйку – такая ли она, как и раньше? И как она теперь будет глядеть панычу в глаза?
Пан пришел умываться. Поливая ему на руки, она внимательно к нему присмотрелась. Голова его уже лысела, в редких волосах пробивалась седина, спина сутулилась, лицо желтое с рыжими бакенбардами. Господи, какой же он противный!
Вскоре вышла и пани. Лицо у нее белое, свежее, румяное. «И зачем она вышла за такого?» – подумала Христя. Она боялась поднять глаза; ей казалось, что хозяйка, взглянув на нее, сразу догадается, что она вчера подглядывала.
Встал и паныч. Потом пили чай. Хозяйка, как обычно, наливала сама, а пан разговаривал с панычом. Один хвастается выигрышем, другой – неожиданной гостьей, а хозяйка усмехается, порой тоже слово вставит. «Ну и скрытные эти паны!» – думает Христя. Еще она заметила, что хозяйка как-то особенно нежно целует Маринку и неприязненно поглядывала на Ивася, похожего на отца. Но это продолжалось одну минуту, потом лицо ее снова стало ласковым, приветливым, веселым.
Христе очень хотелось обо всем этом рассказать Марье. Если б та спросила, она бы сразу все и выложила без утайки. Но Марья, необычайно бледная, молча крошила бураки. «Надо отложить до другого раза», – подумала Христя.
Весь день Марья и Христя были задумчивы и молчаливы. Христя никак не могла успокоиться. А Марья? Отчего она грустит? Никому в глаза не взглянет, ни с кем не заговорит.
После обеда Христя заметила слезы в глазах Марьи. В сумерки, побежав в сарай за углем, Христя застала там Марью горько плачущей.
– Тетечка! Что с вами? – спросила ее Христя.
Марья только махнула рукой и уткнулась лицом в подушку. Настал вечер, а вскоре и ночь подоспела. Марья не нарядилась, как накануне. Грустная, она молча сидела в кухне и только время от времени вздыхала.
Хозяева тоже посидели немного на веранде и пошли спать.
– Тетка, вы в сарае ляжете? – спросила Христя.
– А что?
– Лягу и я с вами; в хате душно.
– Ложись.
Христя взяла рядно, подушку и побежала стелить постель. Когда они легли и погасили свет, непроглядная темень охватила их; ни зги не видно – как в гробу! Христя лежит, прислушивается. Вот что-то треснуло, потом – словно мышь скребется.
– Тетка!
– Что тебе?
– Тут крыс нет?
– Не знаю.
Снова тихо. А с улицы доносится шум.
– Так и в селе шумят, – сказала Христя. – А весело на улице!
– Бывает весело, – откликнулась Марья. – Где я не бывала? Только в пекле не была… да и там, верно, хуже не будет, чем здесь.
– Что же с вами случилось?
– Состаришься, если все будешь знать. Спи лучше.
– Что-то не спится… – сказала Христя и немного погодя спросила: – А вы, тетка, правду сказали о нашей хозяйке?
– Какую правду?
– Что она паныча любит.
– И ты заметила?
Христя начала рассказывать о ночном происшествии. И странное дело: Марья точно ожила, даже перешла на постель к Христе.
– Ой, Боже! На что только любовь не толкает? – промолвила она, тяжело вздохнув.
– И что оно такое – эта любовь? – спросила Христя.
– Поди же ты! Невелика вроде пташка, а сила у нее большая. Не люби, Христя, никого! Ну его к бесу! Покоя и сна лишишься, о еде забудешь, а под конец еще обдурят тебя, как меня, глупую.
– Кто же вас обдурил, тетечка?
– Долго рассказывать… Да и мало ли кто! Если б на этих обманщиков вылились те слезы, что я из-за них пролила, они бы в них потонули. Боже, Боже! И зачем ты мне дал такое проклятое сердце? Но ничего не поделаешь. Такая уж, видно, мне горькая доля выпала. А может, и не такая суждена была, так паны толкнули на эту дорогу.
– Какие паны? – спросила Христя.
– Не знаешь?… Свои… Я же – панская. Да ты, видно, ничего не знаешь… Сам черт не изведал того, что я. Чего только не было в моей жизни, – задумчиво произнесла Марья и начала рассказывать: – Мы из крепостных. Семья у нас была небольшая: отец, мать да я. Жили мы в Яковцах – село такое есть. Не гляди, что я теперь постарела, а смолоду я красивая была, проворная, веселая… И на язык остра. Все село потешалось над моими затеями, всем хлопцам и девчатам прозвища смешные дала. Огонь была – не девка! Мать во мне души не чаяла. Бывало, где-нибудь задержусь, уж сразу – в слезы. И не диво – единственная дочка! Может, и отец любил, но он работал от зари до зари, и ему некогда было показать свою любовь. Бывало, погонят на барщину, так за месяц только раз домой наведается. Он бондарем был и пропадал на панском дворе, а мать все время со мной. Отец был сухой, худой, заморенный; придет домой и сляжет. Мать возится с больным, а я себе разгуливаю… Здоровая такая была, дородная! На тебя была похожа. Мне уже семнадцатый пошел. Хлопцы вокруг меня, как хмель у тычины, увивались, а больше всех Василь Будненко. Чернявый, кучерявый… картина – не хлопец! Люди говорили: поженить бы их – вот вышла бы пара! Оно бы, может быть, так и кончилось, да… отец все хирел, кашлял и таял как свеча. Так и умер за работой, бедняга. Ну, известное дело, тут пошли хлопоты, заботы. Был бы Василь решительный, поженились бы мы, но он ждал, пока год пройдет после смерти моего отца. Мне он так сказал, а матери ни слова. Жду я. Прошло уже два месяца. А тут помещик приказал нам переехать на барский двор, а на наше место дворового Якименко перевести. Господи! Сколько мы тогда плакали и долю свою проклинали! А люди в один голос твердят: пропала Марья, там ей будет каюк! Мать плачет, а мне страшно так… Не дай Бог утопят… А жить так хочется. Да, может, и лучше было бы, если б утопили; меньше горя знала бы. Так нет же, до сей поры мучаюсь! Переехали мы на панский двор. Во дворе женщины перешептываются, поглядывают на меня и усмехаются. А мать одно – плачет…
– Не плачь, старая, – слышу как сейчас голос кузнеца Степана. – Вот у тебя дочка-картинка, в обиду не даст. Отстоит перед паном. Еще награду получишь за то, что вырастила такую.
Все так и рассмеялись, а мать еще сильнее зарыдала! А я, как очумелая, на людей боюсь взглянуть.
Вдруг слышу – говорят: пан идет. Все расступились, кланяются. Перед нами, как из-под земли, вырос пан – горбатый, кривоногий, рябой и длиннобородый.
– А ну, где эта красавица? – спрашивает. Впился в меня своими мышиными глазками из-под лохматых рыжих бровей. Я так и обомлела. Глянула я на мать, а она, как стена, белая.
– Ничего, ничего, – говорит пан, улыбаясь и показывая свои гнилые зубы. – Нарядите дочку как следует и – в горницы. А мать и на кухне послужит.
Мать в ноги:
– Паночек дорогой!.. – Просит, слезами заливается.
– Что ты, – говорит, – дурная, воешь? Разве твоей дочке худо будет? Не бойся, худа не будет.
Мать припала к его ногам.
– Отведите старуху, – приказал пан, – пусть проветрится, а молодую в горницу. – С тем и ушел.
Меня, не долго думавши, двое человек подхватили и помчали в горницы. Там передали меня какой-то курносой, мордастой бабе. Та начала уговаривать, чтоб я не боялась, что хорошо будет. Она велела мне снять одежду, в которой я пришла, и надеть другую. Наряжает меня и все похваливает: какая я красивая, да как пану понравилась. Одела меня и к зеркалу подвела, а я в первый раз в него глядела. Смотрю и глазам не верю! Я это или не я? Наряжена, разодета, как панночка. И в тот же день пришлось попрощаться со своим девичеством.
Марья горько усмехнулась.
– Как я тогда плакала, убивалась! Но все напрасно… Меня заперли и никуда не пускали. За весь день у меня маковой росинки во рту не было, а вечером пан кривоногий снова идет… Как змея, вьется около меня. Такое меня зло взяло! Глянула я на него, омерзение так и подступило к сердцу; все равно, думаю, один конец, да как вцеплюсь ему в горло! Вижу: посинел он, глаза кровью налились… А я душу его и приговариваю: «А что, поглумился, натешился?» Как-то он изловчился и ударил меня по голове, так что в глазах потемнело. Не помню, что потом было. Знаю, что, когда очнулась, лежала на доске, вся в крови. Около ходит эта баба, что наряжала меня, и беззубым ртом шамкает ругательства. Целую неделю пролежала я, как колода, и только через месяц сошли синяки с тела. Когда я выздоровела, меня снова взяли в горницы и приставили, чтобы я держала пану ночной горшок. Бывало, стоишь, а он ни с того ни с сего треснет тебя по щеке. «Почему не убираешь?» – кричит. Наклонишься, а он тебя кулаком в спину. Хуже чем над скотиной глумился! Стерпела раз, другой, третий. В четвертый снова вся вскипела и плеснула ему в лицо из этого горшка… Господи! Никогда не видела я ничего страшнее, чем лицо пана в это время: глаза пылают, щеки то зальются краской, то бледнеют, аж синеют, а с него льется… Смех и грех! Я бросилась наутек. Но куда убежишь? Меня сразу и поймали. Ну, и досталось мне! Держат меня за руки, а он, лютый, как змей, прыгает возле меня и кричит: «Языком вылижь!» – и как ударит в висок, потом в другой. Заперли меня в свинарник. Целую неделю я там пролежала. По утрам приносили цвелый сухарь и какие-то помои. Или селедку дадут, а воды – ни капли. Жаждой морили. В аду не хуже. И видишь – не пропала. Живучая…
– Господи! Что же дальше было? – с ужасом спросила Христя.
– Многое было… Держали в свинарнике, а как зажили царапины и сошли немного синяки, приковали меня цепью к хлеву, как собаку. Дождь, ненастье, а я прислонюсь к стене и терплю… Не было, Христя, горше беды, чем крепостничество! Кабы не оно, разве я слонялась бы так по свету, как нынче? Вышла бы за Василия и была бы хозяйкой. А то живу, как та кукушка, без пристанища. Верно, где-нибудь под забором придется пропасть.
– А почему же мать за вас не заступилась? – спросила Христя.
– В том-то и дело, что ни меня к матери не пускали, ни мать ко мне. Потом я уже услышала, что пан ее выменял на собаку. Вот что с людьми делали!
– Как же вы выпутались из беды?
– Если все рассказывать, то на год хватит. Да… держат меня на цепи, мучаюсь… Хоть бы вырваться, убежала бы и повесилась. И вот начала я крутить цепь, да ведь это не веревка, а железо. Однако целую неделю крутила и вывернула. Когда конец цепи брякнул у моих ног, мне страшно стало. Что я наделала, думаю. Посидела, подумала, а потом как сорвусь с места, да бежать, только пыль пошла. Куда я бежала, по какой дороге, я и сейчас не помню. Только к утру очутилась около какого-то села. Что это за село, не знаю. Вхожу в первый двор; собаки набросились на меня, люди выбежали. Обступили меня, разглядывают, а я стою, оторопевшая.
– Кто ты, откуда? – спрашивают. А у меня словно язык отнялся; голова горит, а в глазах темно, будто сквозь сито гляжу. Спасибо одной молодице, повела меня в хату, накормила, приласкала… Наелась я, пришла в себя. Тогда только рассказала о том, что со мной приключилось. Рассказываю и плачу, а за мной и другие плачут.
– Куда же ты теперь пойдешь? – спрашивают люди.
– Не знаю, – отвечаю им. – Хоть с моста и в воду.
А один человек, старенький уже, лысенький, говорит:
– Тю-тю! Разве на такого суда нет, управы? Жалуйся. Я, – говорит, – знаю такого панка в городе, в суде служит. Помогает добрым людям. И мне, – говорит, – помог свою землю высудить. Хочешь, поведу к нему?
Я ему в ноги:
– Заступитесь хоть вы, дяденька! Я за вас век буду Бога молить!
– Не проси меня, – отвечает он, – там попросишь. Сказал, что поведу, так поведу, а уж там как будет – не знаю.
На другой день мы поехали… Повел он меня на квартиру к тому пану. Молодой еще пан, ласковый, ходит по двору, трубку курит. Дядька этот рассказывает про мою беду и просит: помогите.
– Можно, – говорит пан, – попытаться… А мне что за это будет?
– А уж это, паныч, назначайте сами, – отвечает дядька. – Высудите ей вольную, послужит вам или другому – и отдаст. – Посмотрел он на меня искоса и сразу отвернулся, пошел в хату. Долго не выходил, писал, видно, потом вышел и дал мне какую-то бумагу.
– На тебе, – говорит, – эту бумагу, и прямо иди к предводителю. Упади ему в ноги, расскажи все и бумагу подай.
Спасибо этому дядьке, – повел меня к предводителю. Позвали меня. Вхожу я в комнату, а там панов полно! И накурено так, что не разберешь ничего. «Где же тот предводитель? У кого спросить?» – думаю, да прямо бух на колени.
– Пожалейте, помилуйте! – говорю… А цепь как ударит о пол – в руке не удержала. Люди вздрогнули.
– Что, что? Откуда? – спрашивает один старенький пан, подходя ко мне. Я ему бумагу даю в руки. Взял он, прочитал. – Хорошо, – говорит, – бумагу твою принимаю и тебя пока от панщины освобождаю.
– Слушаю я это и ушам своим не верю. Я думала, что только смерть меня избавит от моего несчастья, а тут вот как вышло. Припала я к ногам того пана, целую их и слезами обливаю.
– Хватит! – говорит. – Вставай.
Поднялась я, стою.
– Куда ж я пойду? – спрашиваю.
– Уж это твое дело, – отвечает.
– Цепь же, – говорю, – у меня на шее прикована. И брякнула цепью. Кое-кто засмеялся. Старенький пан пошептался с другими.
– Подожди, – говорит. Потом позвал слугу и послал его куда-то. Посланный скоро вернулся с одним евреем. А у того целая связка ключей. – Раскуй, – говорит пан, – эту дивчину.
– Долго суетился еврей, пока нашел подходящий ключ и открыл замок. После того как он ушел, меня спрашивают, что я хочу: чтобы дело в суд пошло или, может, они вызовут пана и помирят нас.
– Господь с ним, – говорю, – не зовите его, лучше мою мать позовите.
– А где твоя мать?
– Не знаю, куда ее дели.
– Ну, иди себе, – говорит, – и приходи через неделю.
– Куда же мне идти? – опять я толкую свое. – У меня же нет пристанища.
– Наймись к кому-нибудь, – говорит пан. – А пока на тебе на харчи. – И дал мне бумажку. Поклонилась я, поцеловала пану руку и пошла. Дядька дожидался меня и снова повел к тому панычу.
– Ну как? – спрашивает тот. Я рассказала, как было. – Что же ты, глупая, не сказала, что хочешь по суду?
– Бог его знает! Откуда мне знать? – отвечаю.
– Ну, ничего, – говорит, – мы его нагреем. А теперь вот что: оставайся у моей хозяйки на службе.
– Хорошо, – говорю, – отслужу, сколько скажете. Кабы мою мать еще вызволили, я бы век вам служила!.. – Отдала я ему и бумажку, которую дал мне пан; он не хотел брать, но я настояла. – Столько, – говорю, – вы за меня хлопотали… – Проводила его, а сама осталась у его хозяйки. Она была перекупщицей, торговала хлебом, рыбой, подсолнухами… У нее я и стала жить. Сперва было страшновато, а потом привыкла. Хозяйка никогда не сидит дома – все на базаре и на базаре, а мы с ее дочкой дома хозяйничаем. Славная была эта Настя – так звали дочку, – веселая, певунья. Часто мы с ней пели вдвоем. Иногда к нам и паныч заходил. Рассказывает о ходе дела, говорит, что помещика нашего в тюрьму посадит. «Вот, – думаю, – если б он его в тюрьму запрятал, чтобы знал, как над людьми глумиться».
– А как же мать? – спрашиваю. Тогда он мне и сказал, что мать продали…
Затосковала я. Жалко мне мать; хоть бы увидеть ее, узнать, как ей живется.
Как-то вечером паныч зовет меня к себе в комнату. Слово за слово – стал он мне предлагать, что найдет квартиру и будем жить вместе. Тебе, говорит, хорошо будет, и то, и другое, и третье… Просит и уговаривает. Подумала я: не соглашусь – он не станет вести мое дело, могут меня снова забрать к помещику; а чем вернуться туда – лучше на виселицу… Согласилась. И начали мы с ним жить. Переехали на новую квартиру, живу, как госпожа, хочу – работаю, хочу – отдыхаю. Хорошо мне было. Обо всем забыла, только мать иногда вспоминала; да и то боялась. Что, думаю, как она в хату – шасть! – и спросит: «Что же ты от одного пана удрала, а другому на шею бросилась?» Лучше уж, думаю, не знать ей о моей доле…
Пожили мы так с месяц, а может, и больше. Как-то вечером паныч мне говорит:
– Что-то пан не едет.
– Какой, – спрашиваю, – пан?
– Твой обидчик.
– Ну его к бесу, – говорю, – я его и видеть не хочу…
– А наутро что-то промелькнуло мимо окна, гляжу – а это пан… У меня руки и ноги отнялись…
– Пан! – кричу сама не своя.
– Иди, – говорит паныч, – в другую комнату, я сам с ним поговорю…
Ушла я. Вошел пан, поздоровался. Да такой тихий, покорный, куда только девалась его волчья повадка? Завели они, слышу, разговор обо мне. Жалуется пан, что я и бродяга, и воровата. Удивляется, что паныч взялся за меня хлопотать. Паныч ходит по комнате, слушает и поплевывает. У него была такая чудна́я привычка. Слушал он пана, слушал, а вдруг как напустится на него:
– Так вы, – говорит, – не стыдитесь, после того, что учинили над ней, еще ее и ославить? Побойтесь Бога! Я, – говорит, – знаю ее. Она тут служит поблизости. Хозяйка не нахвалится ею. Я думал, что вы мириться приехали, а вы вот что болтаете…
– Пан тогда пустился на попятный.
– Да я, – говорит, – готов помириться и сделать для нее что-нибудь, пусть только это дело оставит.
– Что ж вы ей дадите? – спрашивает паныч.
– Замуж выдам, огород дам, хату построю, – отвечает пан.
– Это все глупости, – говорит паныч. – Хотите мириться, давайте три тысячи…
– Пан вскочил как ужаленный.
– Три тысячи? Лучше в тюрьме сгнию или в Сибирь пойду, чем такой поганке три тысячи дам. Еще, может, скажете прощения у нее просить при людях?
– И прощения, – спокойно отвечает паныч. – А вы думали как? Еще молите Бога, что она на вас подала в суд только за мучения свои, а о том, что вы ее насиловали, умолчала.
– Кто? Я ее насиловал? – кричит пан. – Врет, мерзавка! Она что угодно наплетет, а вы ей верите. Разве она мало гуляла с хлопцами еще раньше, чем я ее к себе взял? А на моем дворе казачок Яшка есть. Совсем еще ребенок, так она и его развратила!.. – Кричит, разоряется, а паныч ходит и поплевывает. Потом пан немного остыл и уже так тихо да ласково говорит панычу: – Иван Юхимович, вы же человек благородный, в ваших жилах течет дворянская кровь. У вас самих или у родителей ваших есть крестьяне. Спросите их, они вам скажут, что это за народ. Стоит ли вам браться за такое дело? Что она вам – сестра, родственница? Кто ее знает? Поговорят о ней немного люди, а если она добьется своего – всем завидно станет. Каждая мать сама охотно приведет ко мне свою дочку, если я ей обещаю такую награду, как этой… А я… Я Богу и государю служу беспорочно; я – известный человек; а теперь обо мне по всему свету пошла дурная молва… Из-за кого? – Зубами даже заскрежетал. – А вы, – говорит, – еще и покарать меня хотите… Иван Юхимович! Ради Бога! Может, и у вас когда-нибудь будут дети, имение, крестьяне… Может, и вы когда-нибудь не удержитесь – сердце не камень, – и ударите какого… Подумайте только, что из-за паскуды какой-то, о которой никто слова доброго не скажет, вас ославят, оторвут от детей, имение отберут…
– Вот так он лазаря поет. А я стою в другой комнате и все это слушаю… Так и тянет меня броситься к ним и сказать ему все. Но как гляну в щель, увижу его лохматую голову да мышиные глазки, и страх меня берет.
Долго они говорили, всего не упомнишь. Паныч не уступает. Ушел пан ни с чем, только пригласил паныча вечером к себе. Когда остались мы вдвоем, я и говорю панычу: пусть выкупит мать, даст ей хату и огород, и я уже на этом помирюсь, черт с ним.
– Что ты, глупая, и не думай без моего ведома мириться! – говорит паныч. Ну, ладно, думаю, ему видней.
Вечером паныч ушел и вернулся под утро пьяный-пьяный. В тот день и на службу не ходил, а вечером говорит:
– Знаешь, Мария, что? Дает тебе пан вольную и двести рублей: сто сейчас, а сто, как подашь прошение. Мирись!..
А я:
– Как же мать? Пусть хоть мать выкупит…
Паныч расхохотался…
– А зачем тебе мать? Ты ж у меня будешь жить. Если она вольная станет, так к тебе же придет. Что ж, думаешь, она тебя по головке погладит?…
Думаю: прав он; жалею мать, да и себя жалко. Что тут делать? А он одно: мирись!.. И бумажку мне дает.
– Вот тебе и деньги. Хочешь, у себя держи, а нет – я спрячу.
– Прячьте, – говорю. – Мне и негде, еще кто-нибудь украдет… – Так я ему верила, глупая. Потом я разузнала, что паныч содрал с пана две тысячи, а мне сказал – двести рублей… Но об этом речь впереди, а теперь одно толкует: мирись да мирись… Написал он прошение, послал меня к предводителю. Пошла я, подала.
– А что, – спрашивает, – голубушка, свое получила?
– Получила, – говорю.
– Дела по суду не хочешь вести?
– Не хочу… – С тем и ушла…
Иду я и думаю: вот есть у меня двести рублей. Что мне на них купить? У меня ни сорочки лишней нет, ни платка, ни юбки, ни тулупчика на зиму. Куплю сундук и наполню его доверху… пришла домой, говорю панычу, что задумала.
– Очень много покупать не надо, – говорит, – а что тебе надо – купи…
– Начала я делать покупки. Паныч мне деньги дает. Большой сундук всякого добра накупила. Нарядилась, ничего мне больше не нужно. Забыла и про деньги, что еще у паныча остались. Зачем они мне? Пусть лежат. Только однажды паныч говорит:
– Знаешь, Маруся, твой пан нас обманул, вторую сотню не отдает.
– Как так?
– Да так, – говорит, – надо было не подавать прошение, пока он остальные деньги не отдал…
– Мне, правда, жалко было денег, но не очень. Не отдает – черт с ним! Господь ему за это отдаст! Слава Богу, я теперь вольная, а о деньгах мне заботы мало. Живу себе беззаботно, как пташка…
Как-то раз хожу я по ярмарке и вижу меж возами знакомого человека из нашего села. Поздоровались, он узнал меня, спрашивает, где я теперь?
– Служу, – говорю ему. Слово за слово, разговорились.
– Хорошо, – говорит, – ты нашего пана обобрала!.. – И рассказывает мне, что пришлось пану много скота продать, чтобы со мной расплатиться. – Теперь ты богачка! – говорит.
– Какая там богачка? – говорю. – Пан мне недодал ста рублей.
– Как? – удивляется тот. – Приказчик рассказывал, что все до копеечки отдал тому пану, что за тебя хлопочет. Что-то две тысячи, если не больше; как, говорит, ни просил, ни умолял, и копеечки не уступил, все на стол пришлось выложить… – Защемило у меня сердце. В первый раз подумала: а что, если паныч меня обманывает?… Потом стала про мать расспрашивать. – А ты разве о ней ничего не знаешь? – спросил он. – Давно твоя мать умерла, и месяца не прожила у нового пана: тосковала, тосковала, да так и померла…
Пришла я домой, плачу. Жалко мне мать, и обидно, что все меня обманывают… Вернулся паныч, спрашивает, отчего я плачу. Я ему все рассказала. Он насупился.
– Верь, – говорит, – всякому. Чего только не наплетут? – С того времени стал он меня сторониться. Как придет домой, сейчас же спать ложится; повернется к стене и молчит; или уходит и засиживается до утра…
А тут и со мной что-то творится непонятное… Что-то шевелится под сердцем. То мне весело станет: пою, болтаю много; то, наоборот, слова от меня не добьешься. Нудно мне, тяжело, горько… Подумаю обо всем – слезы так и заливают глаза… Однажды я веселая была, рассказываю панычу всякую всячину, шучу, а потом спрашиваю его, будет ли он рад, если я рожу ему сына или дочку. Как сказала ему это, гляжу – хмурится он, морщится, аж в лице изменился.
– И не думай! – говорит. – Как только что-нибудь пискнет в хате, нам вместе не жить.
– Как же это? – спрашиваю. – Куда же я ребенка дену?
– Куда хочешь, хоть зажарь его и съешь!..
Поверишь, как сказал он мне это, так будто холодной водой обдал. Затряслась я вся, в глазах у меня потемнело. Голова кружится. «Боже, – думаю, – и это говорит отец! Где же его сердце?» А я сначала так радовалась, думала, как буду любить ребенка и что паныч тоже будет рад. И молю Бога, если пошлет сына, пусть на него будет похож. Не даст же он пропасть своему ребенку… А тут вот оно что… Хоть зажарь и съешь! Если бы он тогда ножом меня ударил, не так, кажется, было бы больно, как от этих слов…
Молчу я, понурилась. И с того раза стал он мне противен. Уж после этого никогда мы не говорили по душам. Он иногда ластился ко мне, но мне ненавистно было его подлизыванье. И не глядела бы на него. А тем временем уже заметно стало…
– Значит, ты и в самом деле задумала? – сказал он, показывая на живот. А на другой день приходит со службы и приносит маленькую бутылочку, а в ней что-то желтое. – На, – говорит, – выпей, это вино такое. – Я ничего не знала, взяла и выпила. Потом пообедала – ничего. Убрала, собралась ложиться. А тут как заболит у меня живот, как начались рези, света белого не взвидела. Упала и больше ничего не помню. Очнулась – гляжу, вся в крови плаваю. Лучше бы уж я тогда не встала. А он говорит: – Убери и закопай в огороде…
Не стерпела…
– Прибирай, – говорю, – сам, раз такое наделал.
А он как вскочит, затопает ногами…
– Я тебя на улицу выкину, то да се.
Пришлось подчиниться. После этого я неделю как пьяная ходила. Друг с другом не разговаривали. А недели через две прибегает он со службы раньше времени и говорит:
– Слушай, если будут спрашивать тебя, куда ты дела ребенка, скажи, что был выкидыш. Упала, мол, с чердака и вот… Не говори только, что пила что-нибудь, а то нас обоих в Сибирь угонят…
Тут вот как вышло: пан, заплатив за меня такие деньги, не оставил этого дела и нанял людей, чтобы следили за нами. Все видели, что я ходила на сносях, а тут сразу как ничего не бывало. Ну, те пану донесли, а он подал прошение, что паныч незаконно живет со мной, прижил ребенка, да извел его… Не успел он уйти, как к нам повалили паны и с ними полицейские…
– Ты такая-то? – спрашивают.
– Я.
– Ты была тяжелой?
– Была, – говорю.
– Куда же ты ребенка дела?
– Скинула; на чердак лезла и скинула. На огороде закопала… – Повела их, они отрыли, посмотрели.
– А не принимала ты чего-либо? Никто тебе не давал?
– Нет, – говорю.
– Врешь!
– Чего мне врать?
– В тюрьму ее! – крикнул усатый пан при шпорах. Берут меня, а паныч сзади мне глазами моргает: ничего, мол, выручу, только ты не признавайся… Взяли меня, день подержали. Опять спрашивают, а я им то же говорю.
– В тюрьму ее!..
Отвели меня в тюрьму, полгода отсидела, а потом отослали меня в монастырь на полгода.
– А паныч? – спросила Христя, тяжело вздохнув.
– Паныч выкрутился, потом он женился и зажил. Вот, Христя, как нашу сестру обдуривают!.. Такая правда на свете!.. После этого я как с цепи сорвалась… Полюбила одного военного, и жили мы хорошо, пока ему отставка не вышла. А потом он и думать обо мне забыл. Клялся, что поедет домой, продаст там свое наследство, потом вернется и мы поженимся… Обманул и этот. Покинула я тогда город, где все это пережила. Думаю, может, в другом лучше будет. Приехала сюда. Тут принесла нелегкая этого Осипенко – посватался. Я его ни капельки не любила; какой-то он увалень, а так пошла, чтобы не слоняться по чужим людям. Все-таки хозяин, своя хата, скот, земля… Думала: поживем, привыкну. Оно б, может, так и было, если б не свекруха. Так она ж меня что ни день поедом ела, как ржа железо. Бросила и его. Хуже не будет! Нанялась сюда. Подвернулся фельдфебель, молодой да бравый… Сердцу не закажешь… На свои заработки ему новую одежду справила, хорошие сапоги, часы серебряные купила. А теперь женился на какой-то мещанке… Так-то, Христя. Горюшко с таким сердцем, как мое.
Марья умолкла; молчала и Христя. Жизнь Марьи, горькая и загубленная, снова прошла перед ее глазами. Ей страшно стало за себя…
Сквозь щелочку проник серебристый луч месяца.
Христя вздрогнула.
– Вот уж и месяц взошел, – сказала она тихо.
– Да. Пора спать… Спи… пусть тебя минут те беды, что меня сокрушили… – Марья ушла на свою постель.
Христя долго молчала.
– А не знаете ли вы, тетка, Марину? – спросила она потом.
– Какую?
– Дивчина… из нашего села. Третий год уже здесь служит. Старая моя подруга. И никак не удается с ней встретиться.
– А у кого она служит? Не у Луценчихи?
– Не скажу…
– А какая она? Чернявая, высокая, губа будто разрублена.
– Она, она! – крикнула Христя. – Маленькая на нож упала.
– Знаю. Молодица с того двора рассказывала, что она с каким-то панычом водится, – он живет у Луценчихи на квартире. «Раз, – говорит, – ночью сплю, а сквозь сон слышу – дверь из комнаты паныча скрипнула. Кто-то вошел туда. Спрашиваю, кто там – не отзывается… Гляжу – что за черт! Марина лежала со мной рядом, а то только место теплое. Вот, – думаю, – тихоня. Слышу – целуются. Не скоро вернулась она. Уже светало. „А что, к панычу ходила?“ – спрашиваю. Она молчит. Потом как заплачет. „Что ты?“ – спрашиваю. Она тогда давай просить, чтобы никому не говорила».
– Неужто Марина такой стала?
– А что ж она – святая?
Христя молчала. «Неужели это правда? – думала она. – Марина была недотрогой: бывало, боится, если хлопец заговорит с ней. А теперь что? Нет, это неправда, неправда! Кабы мне увидеть ее, я по глазам узнала бы…»
Сон начал одолевать Христю.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Ей не долго пришлось ждать. Во вторник, как ушла Марья на ночь, так и утром не вернулась. Уж пан на базар собирается.
– Скажи Марье, чтоб на базар шла.
– Нет ее, – отвечает Христя.
– Как нет?
– Не вернулась.
– Вот чертовка. Тогда ты иди.
Христе давно хотелось куда-нибудь сходить, хоть в город, и людей посмотреть. Она быстро оделась и взяла корзину.
До базара рукой подать. Уж и возы видны, доносятся шум и крик. Вдруг из-за угла показалась какая-то дама.
– Здравствуйте, Антон Петрович, – сказала она, протягивая руку пану. – На базар?
– На базар.
– Пойдемте вместе.
– А почему вы одни? – спрашивает Рубец.
– Я не одна: там, позади, горничная. Беда с этой прислугой! Кухарка как ушла вчера вечером, так и до сих пор не возвратилась.
– И у меня не лучше. Видно, все кухарки сговорились.
Они захохотали. Христя молча идет позади. И вдруг глядит – Марина!
– Здорово, Марина!
– Христя? – вскрикнула та. – Откуда ты взялась?
– Я уж больше месяца тут. Служу.
– Как же так? А дома кто?
– Нет уж у меня дома, – грустно сказала Христя.
Она начала рассказывать о постигшей ее беде, но в это время они как раз пришли на базар; пан повернул в одну сторону, а пани в другую.
– Марина! Ты приходи ко мне, я тебе доскажу.
– Приду. Непременно приду. Жди на днях.
Христе не терпелось скорее увидеть Марину. «Совсем переродилась она – выглядит барышней, одета нарядно, платок на шее… И какая проворная стала… совсем не та Марина…» – думает Христя.
На базаре они не замешкались: купил пан мяса и зелени, и пошли домой. В кухне они застали Марью лежащей на полу; голова у нее была закутана в платок.
– Ты где шлялась? – крикнул пан.
– Я нездорова, – не поднимаясь, ответила Марья охрипшим голосом.
– Марш со двора! Всю ночь шляться ты здорова! Марш!
Марья поднялась. Платок упал с плеча. Увидя ее лицо, Христя чуть не крикнула. Не видно было ни глаз, ни рта, ни носа, а какая-то распухшая синяя маска.
– Кто это тебя так разделал? – спросил удивленный пан.
Марья дрожала как в лихорадке. Из ее распухших глаз текла какая-то мутная жидкость.
– Господи! – воскликнул пан. – Если бы тебя хозяин или хозяйка ударили хоть раз, что бы ты запела? Сейчас же побежала бы жаловаться, а если солдат морду разделал – так ничего.
Марья зарыдала.
Пан пожал плечами, плюнул и ушел в горницу. На Христю напал такой страх, что она боялась подойти к плачущей Марье. «Что это с Марьей? Неужели ее так избил этот фельдфебель?»
– Христя, голубка! Поработай за меня, пока я отлежусь, – немного спустя сказала Марья. – Я тебя отблагодарю.
У Христи от жалости навернулись слезы, и она бы разрыдалась, если б ее в это время не позвали. Когда пан ушел из дому, она начала умолять хозяйку:
– Пани, голубушка! Заставьте меня хоть день и ночь работать, но не гоните Марью из дому. Куда она пойдет такая страшная?
Пани пошла поглядеть на Марью.
Женское жалостливое сердце не могло остаться равнодушным при виде несчастной Марьи. Она посоветовала ей чем-то смазать лицо и отослала в сарай.
Христя металась как угорелая, норовя всюду поспеть, все сделать вовремя, без задержки, чтобы не было нареканий на Марью. К вечеру она страх как уморилась! Пока хозяева пили чай, она немного прикорнула на нарах. Потом приготовила и подала ужин и уж после этого пошла в сарай проведать Марью.
Та, видно, спала; на зов Христи она не откликнулась. Слышно только ее тяжелое дыхание. Христя тоже легла. Но что-то ей не спится, все Марья в мыслях. Вокруг темно, хоть глаз выколи, а перед ней все Марья избитая. Закроет глаза, и снова Марья перед глазами. Тихо, неподвижно лежит Христя с открытыми глазами; сквозь щелочку снаружи пробиваются полоски тусклого света… Забегали в темноте, засверкали. Сколько их, Господи! Темнота рассеялась… Послышались всхлипывания, затем плач. Христя вскочила.
– Марья!
Плач стал еще слышнее.
– Может, вам нужно что-нибудь? Я принесу.
– Ничего мне не нужно… Иди, ляг рядом.
Христя легла рядом с Марьей.
– Если б ты знала, Христя, как мне тяжело, – немного погодя начала Марья. – Лучше бы уж он меня убил.
– Пусть Бог милует! Опомнись!.. Кто же это вас так побил?
– Ох! Он самый, чтоб ему ни дна ни покрышки! Он, проклятый! Я давно замечала, что он не так дышит. Мне не раз передавали, будто он говорил – если б нашлась зажиточная мещанка, он бы женился. Я ему об этом рассказала. «Не верь, – говорит, – люди врут». Помнишь, в тот день, когда ты тут на работу стала, я ходила к нему, и на другой день тоже до самого утра дожидалась, и напрасно – он не пришел. Черт с тобой, думаю, хотела уж бросить его. Несколько дней совсем не ходила. А вчера утром слышу – перстни покупает; видно, дело у них уже сладилось. Я вечером – к нему. Застала. «Для чего, – спрашиваю, – ты перстни купил?» – «А тебе какое дело?» – «Как это так? Я все знаю, хоть ты и скрываешь от меня. И не думай венчаться. Вот как перед Богом говорю, я о тебе такую славу пущу!..» – «Ты?» – кричит он. «Я!..» Как начнет меня бить. Что дальше было – не помню. Очутилась уже на улице.
– И такого злодея любить! – удивленно сказала Христя. – Я б еще на него в суд подала, чтоб знал, как людей калечить.
– Ох, не знаешь ты ничего, Христя. Я б ему не только простила, а руки б целовала, лишь бы он не женился… Господи! И отчего я такая несчастная? За что ты, Господи, дал мне такое проклятое сердце? Я виню только себя, но ничего не могу поделать с собою. Сколько я ему всего подарила? Себе ничего не куплю, а ему несу. И вот благодарность. Берегись, Христя! Если тебе кто-нибудь приглянется, отвернись от него скорей; если шевельнется любовь в твоем сердце, задуши ее, пока не поздно, не давай ей воли! Никому не пожелаю мучиться так, как я мучаюсь! – Припав к плечу Христи, Марья снова зарыдала.
Два дня пролежала Марья, а на третий пани заговорила недовольным тоном:
– Сколько она лежать будет? Тут прямо крайность, а она вылеживается.
Встала Марья. Худая, страшная, как тень слоняется. Слезы и горе хоть кого иссушат. Она еле на ногах держится, и почти вся работа ложится на плечи Христи.
В субботу Христя снова встретила на базаре Марину.
– Что ж ты не приходишь?
– Сегодня после обеда беспременно приду.
Христя ждала ее с нетерпением. Она спешила вымыть посуду и со всем управиться, чтобы иметь свободный часок и поболтать с подругой. Давно они не виделись. Сколько воды утекло с тех пор, как они жили в селе и делились маленькими девичьими тайнами!
Вот и обед прошел. Христя уж свободна, а подруги все нет. Она то в окно взглянет, то на улицу выбежит поглядеть – нет Марины. Настал вечер, а ее все нет да нет. «Обманула», – решила Христя.
Вечером хозяйка ушла куда-то и детей взяла с собой. Тянула и паныча, но тот не захотел идти. Вот бы когда Марине прийти – вольно, делай, что хочешь! Никто не помешает их задушевной беседе. Христе досадно стало. Она пожаловалась Марье.
– Жди Марину! Так она для тебя и бросит своего паныча! – сказала Марья.
«Видно, правду говорит Марья… Если б не это, почему бы Марина не пришла? Ну, погоди же! Отпрошусь у хозяйки и сама к тебе приду. Уж я все увижу. От моих глаз не спрячешься!»
Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появилась Марина. В белом ситцевом платье, в черном бурнусе из ластика, с шерстяным платком на голове – барышня или богатая мещанка, а не прислуга.
– Марина, голубка! А я уж думала – обманула, не придешь, – крикнула Христя и бросилась обнимать и целовать подругу.
– Уж коли обещала, так приду. Раньше никак нельзя было – пока управилась и собралась.
– Ну, раздевайся и садись.
Марина разделась.
– Да какая у тебя свитка? – удивлялась Христя. – А платье? И как хорошо тебе в нем! А серьги какие! И зачесана как красиво! Так тебе к лицу эта голубая лента. В селе б тебя сейчас и не узнали!
Марина стояла среди кухни, довольная тем, что подруга любуется ею. Платье ее плотно облегало, обрисовывая тонкий стан, широкие плечи, высокую грудь. Длинное красное монисто обвивало шею. На груди блестел большой серебряный медальон, а по бокам – два маленьких. Косы короной лежали на голове; ее продолговатое румяное лицо дышало здоровьем, глаза задорно блестели.
– Видишь, а ты хулила городские наряды, – откликнулась Марья, выглянув из-за печи.
– Здравствуйте, Марья! – сказала Марина. – Я вас и не заметила. Чего же это вы на печь забрались? Лето на дворе.
– Такая стала, что и летом мерзну, – вздохнув, сказала Марья.
А Христя все продолжает шумно восторгаться подругой, даже паныч из своей комнаты выглянул.
– Кого вы так расхваливаете? – спросил он, просунув голову в дверь.
Марина посмотрела на него.
– Ну и хороша девка! – сказал он.
– А вы постарайтесь! – ответила Марина не то шутя, не то обидчиво, не сводя глаз с паныча.
– Куда нам? С суконным рылом в калачный ряд! – сказал паныч.
– То-то и есть, – ответила Марина и захохотала.
Христя тоже засмеялась.
– Козырь девка! – сказала Марья.
– Чья она?
– А вам зачем?
– Так. Хочу знать.
– А-а, задело… ну, а я не скажу.
Паныч пожал плечами и скрылся в своей комнате.
– Ушел, – промолвила Марина. – А жаль: я хотела с ним еще поговорить.
– А у вас разве нет такого? – ехидно спросила Марья.
– Ну их! Они все одним миром мазаны, – с досадой сказала Марина.
Христя попросила ее рассказать что-нибудь о своей жизни в городе.
– Что ж я расскажу? Тут все люди тебе незнакомые, а ты лучше расскажи про село. Как там у вас? Что Горпына – здорова, не вышла замуж? А Ивга и по сей день за Тимофеем бегает?
Христя начала рассказывать про себя, про село. Марина слушала, вставляла иногда вопросы.
– Что же, тебе нравится город? – спросила Марина, когда все сельские новости были исчерпаны.
– Людей много… суета, – задумчиво сказала Христя.
– А тебе, Марина? – откликнулась с печи Марья.
– Мне? Если бы кто мне дал сто рублей и сказал: брось, Марина, город и вернись в село – не пошла б! И не пойду… Никогда! Никогда! – улыбаясь розовыми губами, тарахтела Марина.
– А сперва тебе тоже было тоскливо, как Христе?
– Погодите немного, и Христя привыкнет. Вот Святки придут… гулянье, катанье. Выйдешь на улицу – народ валом валит… да все в праздничных нарядах… глаза разбегаются…
– Христя не любит городских нарядов, – заметила Марья.
– Потому что не наряжалась. А ну, давайте нарядим ее, Марья.
– Не хочу! Не хочу! – замахала руками Христя.
– А мы хотим. Вставайте, Марья.
Веселье Марины увлекло Марью, в запавших глазах появился блеск, бледное лицо разгорелось, на устах заиграла усмешка. Марья, кряхтя, слезла с печи. Христя тотчас же убежала в комнату, а Марина погналась за ней.
– Не убежишь! – кричала она вслед Христе.
Марина уговаривает ее одеться.
– А если хозяева придут?
– Ну так что? Посмотрят на тебя.
– Когда они еще придут? – говорит Марья.
– Ну, Марья, мы ее сперва причешем. Садись тут, на край нар. Где гребешок?
Марина распустила Христе косу. Густые волосы волной упали ниже колен.
– Да и коса у тебя! Это коса! – хвалила Марина, проводя по волосам гребнем. Ей пришлось отойти от Христи, чтоб расчесать концы, такие у той были длинные волосы. Марина разделила их на две пряди, прочесала гребнем, а потом заплела в косы толщиной с руку; они спускались до полу. Марья любовалась Христей – так она была хороша. Когда же Марина обвила косы вокруг головы Христи и завязала их узлом на затылке – ее нельзя было узнать! Маленькие уши, раньше закрытые волосами, теперь точно улыбались. Все волосы с висков были тщательно зачесаны. Широкий белый лоб сверкал белизной, на нем, словно змейки, лежали черные брови. И лицо будто удлинилось.
– А красиво как! Господи, как красиво! – воскликнула Марина. – Дайте зеркало, пусть она сама поглядит и скажет!
Марья бросилась в горницу за зеркалом.
– Любуйся! – сказала Марина.
У Христи из глаз искорки посыпались.
– Видишь? Говорила я тебе? Кабы сюда еще розовый цветочек…
– Мастерица ты, Марина!
– Теперь сними это тряпье… Что у тебя есть?
– Юбка, безрукавка, – говорит Христя.
– У меня есть, я сейчас… – сказала Марья и, не мешкая, принесла из сарая тонкую вышитую сорочку.
– Надевай поверх! – весело сказала Марья.
– А вдруг паныч войдет? – испуганно произнесла Христя.
– Скорей надевай юбку! – торопила ее Марина.
– А теперь безрукавку!
Как портниха на примерке, Марина хлопотала, подтягивая и поглаживая юбку и безрукавку на Христе.
– Держись ровно.
Вот уж все готово.
– А ну, смотри!
Марья держала зеркало перед Христей.
– Погоди, еще не все!
Марина сняла свой медальон, монисто и надела их на шею Христе.
– Вот теперь так! – сказала она, любуясь подругой.
И правда, Христя была хороша. Небольшого роста, полная, она не казалась, как Марина, полевым цветком с высоким стеблем, а пышной садовой маргариткой, за которой старательно ухаживали неутомимые девичьи руки, присматривали любящие глаза, вовремя пропалывая и поливая. Ее головка, как точеная, красовалась на лебединой шее, украшенной монистами. Румяные щеки еще больше разгорелись, глаза искрились. Белые вышитые рукава сорочки казались пучками цветов, а пестрая юбка была похожа на полянку в лесу, густо усеянную цветочками.
– Видишь, видишь! – радовалась Марина, похлопывая Христю по плечу. – А говорила – плохо. Кто еще краше? В селе так никогда не оденутся. Правда, Марья?
– Да, – грустно сказала Марья, вспоминая минувшие дни, которые уже не вернутся.
– Знаешь что, Христя! Зайди к панычу.
– Боже сохрани! Еще выгонят.
– Не выгонит, иди.
– Иди и скажи: просили барин и барыня, чтоб пожаловали к ним. А спросят – кто, скажешь: те, у которых вы были, – сказала Марья.
– Иди, Христя! Иди, голубка, – уговаривает ее Марина.
Христя наконец решилась.
– Только не смейся!
Христя подошла к двери и приоткрыла ее.
– Здравствуйте! – сказала она.
Паныч читал.
– Просил пан и пани, чтобы вы пожаловали к ним.
– Какой пан?
– Разве вы не знаете? – болтала Христя, усмехаясь.
– А почем я знаю?
– Там и ваши хозяева.
– Поздно уже, – говорит паныч, глядя на маленькие часы. – Кланяйся и благодари. Скажи, что собрался спать.
– Так и сказать?
– Так и скажи.
– Прощайте же.
– Иди с Богом.
Как только Христя вернулась, Марина и Марья начали хохотать.
– Что у вас там? – сказал паныч, выходя из своей комнаты.
Увидя хохочущих девушек, он понял, что над ним пошутили, и тоже засмеялся.
– Так это ты посланец? – сказал он Христе.
Марина хлопала в ладоши, а Марья вся тряслась от смеха и хваталась за живот.
– А ну, иди сюда, посланец из чужих краев! – шутил паныч, протягивая руку, чтобы схватить Христю.
Христя хотела было уклониться, но Марина сзади толкнула ее прямо на паныча. Тот взял ее за руку и повел в свою комнату.
– Красивая какая! – сказал он, потрепав ее по щеке. От этого кровь прилила к лицу Христи. Сердце ее забилось ускоренно, порывисто дышала грудь. – Славная! – таким задушевным голосом произнес паныч, что Христя вся встрепенулась.
Он действительно так сказал или ей это только померещилось? Глаза их встретились. Сквозь стекла очков глядели на нее его блестящие зрачки, точно черные спелые ягоды. От волнения у Христи кружилась голова и шумело в ушах. Она невольно отшатнулась, точно ее толкнули, и убежала.
– Что он тебе говорил? Что? – шептали ей с двух сторон Марина и Марья. Христя не в силах была говорить.
– Нет, с вами каши не сваришь! – громко произнес паныч, захлопнув книжку. – Лучше спойте хорошую песню. Кто умеет?
– Христя умеет! – сказала Марина.
– Нет, не умею, – робко произнесла Христя.
– Да ну, брось! – уговаривает ее Марина. – Ты да не умеешь!
– Христя! Что же ты? Не надо стесняться. Спой, я послушаю. Я люблю простые песни.
– Так я же не умею, – отнекивается Христя.
– Ну, пойдем! – крикнула Марина; она и Марья схватили Христю за руки и потащили в комнату паныча.
Паныч взял стул, поставил его рядом со своим и усадил Христю. Она только всплеснула руками и засмеялась. Она сидит рядом с панычом, где не так давно сидела пани… Чудно! Марина и Марья посмотрели на пана, на нее и многозначительно переглянулись… Христе стало душно; она почувствовала какую-то слабость, замирало сердце, что-то подкатывало к горлу. Она порывисто встала и убежала бы, если б паныч не схватил ее за руку и не удержал силой. Под его пальцами быстрыми толчками бьется жилка на ее руке.
– Пой, что хочешь, Христя. Я запишу. – И, сказав это, он взял перо.
Наступила тишина. Паныч ждет. Христя раздумывает, что бы спеть. Но мысли как-то спутались, она не может вспомнить целиком ни одной песни. А тут еще она видит ожидающие, нетерпеливые взоры подруг.
– Нет, не умею! – воскликнула, краснея, Христя, так что слезы выступили на глазах.
– Опять за свое. Ну, сделай милость, спой, – просит паныч.
– Да ну же, Христя, – торопит ее Марина.
– Ох, как мне душно! – вздохнув, сказала Христя.
Снова молчание, упрашивающие взгляды.
– Так никто не споет? – с нескрываемым недовольством спросил паныч.
– Пусть сначала Марина… мне душно, – ответила Христя. Она вскочила и вмиг убежала в кухню.
Марина села рядом с панычом и положила руку на спинку его стула, точно собиралась обнять.
– Какую же вам спеть? «Грыця» знаете? – спросила она.
– Нет, не знаю.
Марина запела. В комнате долго звучал высокий девичий голос, и порой слышен был скрип пера – паныч записывал слова песни. Христя на цыпочках вошла в комнату и стала рядом с Марьей. «Вот же Марина поет так смело и хорошо, а я боюсь… Чего? Ох, глупая!..» И она решила, что как только Марина кончит петь, она споет песню про девушку и вдовца. Она очень любила эту песню.
Наконец Марина умолкла.
– Пишите другую! – предложила Христя.
– Садись же, – сказала Марина, вставая.
– Нет. Я здесь буду петь.
И начала. Первые слова прозвучали тихо и неуверенно. Но чем дальше, голос ее все больше крепчал. Она с любопытством глядела, как быстро скользило перо по бумаге и черные строчки ложились ровным следом на белом листе.
Не иди, девка, за вдовца — Будет тебе лихо!Звенит молодой голос Христи. Все слушают, затаив дыхание. Видно, и панычу песня понравилась – глаза его горят, на лице радостное возбуждение.
– Вся! – окончив, сказала Христя.
– Хороша песня, – сказал паныч, положив перо. – А говорила: не умею, – закончил он с легкой укоризной.
– Да она их знает несчетное число, – сказала Марина, положив руку на плечо паныча.
Он искоса взглянул на Марину: видно, ему не понравилось ее фамильярное обращение. А Марине что до этого! Она не замечает косого взгляда паныча и даже слегка склонилась к нему, их плечи прикасаются, ее рука лежит на его спине. Не сводя с него глаз, она неустанно щебечет… Рассказывает, какие все хорошие песни раньше пела Христя у себя в селе.
– Вы только заставьте ее, она все споет.
– Ладно, – говорит паныч, хмурясь, – это уже в другой раз, я утомился.
– Ну, пойдем, – сказала Марина.
– Погодите, – говорит паныч. Вынув из кармана двугривенный, он протягивает его Христе.
– Зачем? – спрашивает она.
– Бери! – настаивает паныч.
– Не надо.
– Бери, это за песню, – говорит Марья.
– Не хочу! – резко отказалась Христя и убежала.
Паныч пожал плечами и обиженно оттопырил губы.
– Ну и глупая, – смеясь, сказала Марина. – Дайте мне.
Паныч нехотя дал ей монету. Марья решила, что не надо больше оставаться у паныча, и тоже ушла. Осталась одна Марина.
– Спасибо вам, – щебечет она, вертя монету в руке. – Этих денег я ни за что не истрачу… ни за что! Дам проделать ушко и буду носить вместо медальона. Погляжу на него и вас вспомню…
– Почему ты не взяла деньги? – говорит Марья Христе. – Паныч рассердился.
– Разве я нанималась петь? – крикнула Христя, да так, что паныч вздрогнул.
– Что с ней? – сказала Марина и тоже побежала в кухню.
Паныч закрыл дверь и начал ходить взад и вперед по комнате. Красота Христи взволновала его. Так бы и обнял ее, поцеловал разгоряченное личико, прижал к груди. Так привлекательна она. От возбуждения он порывисто дышал и все ускорял шаг… Дикая она, как горная серна. И денег взять не захотела, глупая… А тут эта вертушка липнет. Ну и вертлява!.. – Эх! – произнес он вслух и грузно опустился на стул. Ему досадно было, что Христя пришла к нему не одна, а с подругами. «Уж эти мне помощницы! Хоть еще раз посмотрю на нее».
– Христя! Принеси мне воды! – крикнул он.
Воду принесла Марья.
– А Христя где?
– У нее же гостья.
Он залпом выпил воду.
– Ну, видно, распалила ты паныча, – сказала Марья, вернувшись в кухню, – одним духом полный стакан выпил.
Христя ничего ей не ответила. Она молча сидела на лавке. Умолкла и Марина.
– Что ж это вы пригорюнились? – спросила Марья.
– Ох, мне уж домой пора! – сказала Марина и начала собираться.
– И у нас паныч есть, – тараторила она, одеваясь. – Да еще как ловко на скрипке играет. Приходи как-нибудь, я попрошу его сыграть нам.
– Возьми монисто, – сказала Христя.
– Не надо. Придешь ко мне, тогда и отдашь. Ну, прощайте!
– Падкая на панычей, аж разошлась! – сказала Марья после ухода Марины.
Христя помрачнела, насупилась. Она ругала себя за сегодняшний вечер. Было б сидеть в кухне, так нет – понесла нелегкая к панычу! Зачем? Чтобы ткнули ей двугривенный, как собаке кость! А та вперед лезет… «Дайте мне!» Так и лезет в глаза. А сама она лучше? Нарядилась и пошла к нему, точно он ее звал…
Христя легла, но ей долго не спалось. Она ворочалась с боку на бок. А в голову то и дело закрадывались досадные мысли, норовя задеть побольней, уколоть поглубже.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Григорий Петрович Проценко, сын бедного чиновника, вскоре после окончания школы поступил на службу. Десять лет прошло с тех пор, как отец отправил его в город с письмом к бывшему сослуживцу, а мать прибавила сумку с припасами, которые ей удалось наскрести в своем хозяйстве. Молодому хлопцу шел тогда семнадцатый год. Неохотно ехал он в губернский город на службу, ему хотелось учиться, поступить в гимназию. Его ровесник, сын одного богатого пана, учился в гимназии, а на каникулы приезжал домой. Грыць, встречаясь с ним, бывало, не наглядится на синий мундир с серебряным позументом и на фуражку с гербом, а когда его товарищ начнет рассказывать про гимназические нравы и обычаи, про разные науки, да заговорит на иностранных языках – он только рот разевает от удивления. Глаза Грыця горят, он боится слово проронить, с завистью глядит на товарища, а сердце терзает досада.
Вздохнет, бывало, Грыць, когда товарищ умолкнет, и просит еще что-нибудь рассказать. А когда тот уходит, забирается в укромное местечко и повторяет незнакомые слова, которые ему пришлось услышать. Большая тяга у него была к учению, но что поделаешь? Он понимал, что с отцовскими достатками далеко не уедешь! Кроме него, у отца еще три сына и две дочери на шее, надо всех вырастить, научить уму-разуму, а ему, уже окончившему школу, пора слезать с отцовской шеи – самому добывать средства к существованию. Куда ж податься сыну бедного чиновника? Одна у него дорога – служить. Вот Грыць и собрался на службу.
Было это в те самые дни, когда думы и чаяния лучших людей прошлого поколения ждали своего воплощения в жизнь. Это было раннее утро после темной ночи, время радужных надежд и больших ожиданий. Никто не знал, что готовит будущее, но было ясно, что так дальше продолжаться не может. Время безмолвной покорности миновало, и все более нарастала волна народного ропота и возмущения. Крепостные упорно распространяли слухи о близкой воле. Это не был случайный слух, перехваченный лакеями от своих господ и разнесенный дворней по селам, – об этом говорила вся страна, весь мир. Помещики уже съезжались по губерниям совещаться, когда и какую волю дать этим необузданным смутьянам.
Это был, с одной стороны, глухой стон, а с другой – приглушенный зов; в этом стоне, зове слышны были и голоса чиновников. Лучшие люди, до сих пор сторонившиеся чиновной среды как чего-то мерзкого, начали приближаться к ней, чтобы не выпустить из рук дела, которое они начали и много из-за него вынесли на своем веку. Долго они были в загоне. Теперь их позвали. Как же не откликнуться? Темные люди, пробравшись окольными путями, могут развеять в прах их надежды, свести на нет великую реформу. Они откликнулись, сменили свой домашний халат на служебный мундир.
Пришли, правда, одиночки, которых можно было пересчитать по пальцам. Однако старое чиновничество всполошилось: «Как это? Нигде не служили, никакого опыта не имеют и сразу такие посты заняли! От них добра не дождешься!» И начались закулисные толки и интриги. Старые не дрогнули: они кликнули клич молодым. Появились новые высокооплачиваемые должности, и их занимали безбородые или на медные гроши учившиеся молодые люди. С тех пор разгорелись страсти, началась отчаянная борьба. Старые чинуши кричали: «Молокососы!» А молодые им в ответ бросали: «Хапуги! Бестолочь!» Пошла вражда между старым и новым. Эта борьба происходила повсюду. Крепостной уже не гнул спину перед паном, а рабочий – перед хозяином, сын не слушал отца: все, почуяв волю, громко заявляли о своих правах. Это было шумное время, полное борьбы и споров, обе стороны напрягали свои силы, чтобы одержать верх. Молодые было одолели, но лишь для того, чтобы вскоре и самим состариться. Жизнь мчалась, как ветер!
Григорий Петрович застал еще на службе старые порядки: начальник был у них большой взяточник и еще больший ненавистник свободы. Он любил, чтобы все перед ним дрожали, млели, падали ниц, преклонялись. Частенько его голос, точно гром, раскатывался по залам, чтобы только нагнать страх на подчиненных. «Где страх, там и Бог», – обычно говаривал он. Со старшего брали пример и другие. Каждый держался в стороне от младших по службе. А над мелкими чиновниками глумились, как кому заблагорассудится: за провинность заставляли снимать башмаки, дежурить по целым неделям, записывали, кто сколько раз выходил из комнаты.
Грыць одновременно боялся начальства и ненавидел эти порядки. Как-то раз на улице он встретил толпу гимназистов, окруживших учителя и о чем-то оживленно беседовавших. Учитель беседовал с ними не начальственным тоном, а как старший и опытный товарищ. Все непринужденно говорили, шутили, смеялись. Грыць с большой завистью глядел на этих счастливцев.
Вот это жизнь!.. Под синим гимназическим мундиром свободно бьется сердце. А тут? Сердце его замирало от тоски и скуки, когда он думал об окружающей его среде. В нем поднималась ненависть, скорбь, гнев. Молодежь всегда любит свободу, приносит в жизнь новые думы и мечты, лелеет иные надежды – весну свою справляет.
По совету товарищей-гимназистов Грыць читал книжки. В них говорилось о правах человека и о борьбе за свободу, об извечных законах, о мире. Грыць читал запоем все, что ему попадалось под руку. Жизнь его раздвоилась: с одной стороны, постылая служба, которая давала ему пропитание, но гасила дух; с другой стороны, книги и интересные беседы с товарищами, подымавшие его над средой мелкого чиновничества. Но, не обладая волей, упорством, он не принадлежал к тому разряду людей, которые, наметив себе цель, уже не отступают ни на шаг и готовы бороться со всем светом за свои идеалы. Это – борцы и вожаки! Он не был таким.
Грыць по складу своего характера был слабовольным мечтателем. Он хотел так прожить, чтобы, даже падая, не ушибиться, чтобы волки были сыты и овцы целы. Он мечтал завести у себя в присутствии такие же порядки, как у гимназистов. Но поскольку этого нет – что поделаешь? Не лезть же ему на рожон, одному против всех!
Грыць помирился со своей долей. Одним он поддакивал, с другими отмалчивался; с молодыми посмеивался над стариками, со старыми помалкивал. Все это шло ему на пользу: молодые считали его своим приверженцем, а старые не трогали смирного и почтительного юношу. В враждующих лагерях такие люди всегда встречаются; они служат тем и другим и обманывают обоих. Пусть эти надеются, и другие не считают чужим – им от этого и хорошо, и тепло: ловись, рыбка, мала и велика!
Грыць, однако, и на это не был способен. Или не везло ему, или еще время его не пришло. Он не гнался за наживой. Его больше привлекали игры, танцы, пенье. Но так как тогдашняя молодежь пренебрегала подобными развлечениями как чем-то недостойным, он, проведя всю ночь в обществе стариков и вдоволь натанцевавшись с их дочерьми, на другой день насмешливо отзывался о них. Он любил поболтать и посмеяться. Это двуличие – служба нашим и вашим – делало его скрытным и хитрым.
Но разве он виноват? Жить каждому хочется, а ему – не меньше. Да и кто он, чтобы противиться чему бы то ни было? Маленький человек. Раздавить его – раз плюнуть… родители бедные… выше пупа не прыгнешь. Пришлось гнуться, ужом извиваться. И то однажды судьба его повисла на волоске.
Молодежь того времени впервые вышла на просторы жизни, сильная только своими стремлениями и пылом молодости. Не было у них часто учителей, которые направляли бы их по правильному пути, да он еще и не был проложен. Предстояло его самим прокладывать, чтобы двигаться вперед. Им хотелось сразу захватить все поле. Надо было одновременно идти в бой и собирать силы.
Появилось сразу не одно, не два, а десять направлений. После освобождения крестьян зародилась и любовь к «меньшому брату». Народолюбцы зазывали в свой стан много всяких людей. Чтобы правильно действовать, надо сначала узнать, чего хочет народ, к чему стремиться. До сих пор его видели главным образом на барском дворе. А надо его повидать всюду: в селе, в поле, на тяжелой работе и веселых играх, на людях и в семье, в радости и в горе… Песни, сказки, поговорки, словно склепы, хранили множество его дум, тайных упований, слез. Хорошо было бы записать их – это была бы книга о большой жизни и великом страдании…
Услышав разговоры на эту тему, Грыць сразу записал четыре песни, которые спела ему служанка его хозяйки, и передал их издательскому товариществу. Его поблагодарили, просили еще записывать.
Все кругом отлично видели народную темноту. Надо было хоть немного рассеять этот густой мрак, царивший не только в селах, но и во многих домах зажиточных мещан… Появились воскресные школы. Уговаривали и Грыцька преподавать в одной. Грыцько уклонялся: и некогда, да и справится ли он. Он понял, что это уже настоящее дело, и тут ясно будет, на чьей он стороне. Стыдно было отказаться и страшно уступить. Он согласился только на вечерние занятия. Вечером он свободен, да и в это время никто его не увидит и не узнает, где он был.
Эти школы просуществовали недолго. Неизвестно еще, добились ли они чего-нибудь, а старики уже ославили школы, как сборища заговорщиков, где проповедовали, что Бога нет и все старое плохо. Не прошло и года, как школы закрыли; кой кого из учителей арестовали и выслали. Грыць, ни живой ни мертвый от страха, ждал что вот-вот придут и за ним, и тогда прощай навеки!.. К нему действительно пришли, но обнаружили только записанные им четыре песни… Натерпелся же он тогда страху… Бог его знает, может, на их взгляд, эти песни хуже любых прокламаций, и за них его со света сживут… Начальство узнает, какого он поля ягода, и выгонит его со службы. От всех этих мыслей он готов был повеситься. Начальник набросился на него зверь зверем. Он клялся, что его обманом заставили дать согласие. Но, не показывая виду, добрые люди его отстаивали у кого полагается. Неделю пришлось Грыцю прожить в лихорадочном состоянии, в том безмерном страхе, который не имеет границ, охватывает со всех сторон, давит на сердце, холодит кровь.
У Грыця только тогда отлегло от сердца, когда ему вернули взятые записи песен. С какой ненавистью глядел он на них! С каким наслаждением он сжег их и пепел закопал в огороде!
Буря миновала, вырвала несколько дубов с корнями, сломала много молодой поросли и утихла. Настала такая скучная пора – ни слова живого, ни песни веселой, словно онемели все, словно похоронили великого и славного человека и теперь справляют тризну. На кладбище так тоскливо бывает поздней осенью, когда опадут листья и почернеют цветы на могилах.
Старики взяли верх и праздновали победу. Чего только они не взваливали на головы своих противников! Те молчали. Однако стояло возведенное ими здание и, кажется, ожидало, когда его начнут разрушать: со всех сторон надвигались враги с топорами, ломами, заступами в руках. Они только ждали приказа. Одно слово – и рушатся стены, поднимется пыль столбом, а вместо фундамента зачернеют глубокие ямы.
Но назад пятятся только раки.
Пять-шесть лет строительства не пропали даром. Всем стало ясно, что старая хата мала и тесна, нужна новая, более просторная и светлая. Фундамент вошел глубоко в землю, стены поднялись высоко вверх, надо общими силами завершить постройку. Потянулись в новый дом убогие, кривые, слепые. Позабивали окна, большой зал разделили перегородками, наделали много отдельных закут и утешали себя: «На наш век хватит…» – да не вышло по-ихнему.
Через полгода после этой бури пошли перемены: старого начальника Грыця сместили, вместо него назначен столичный… Кто он? Молодой? Старый?… Но какой бы он ни был, а перемены будут. К старому начальнику было легко приспособиться: будь только послушным и покорным – и живи, как у Бога за пазухой. Иной раз и выругает зря – смолчи: все будет хорошо. А молодой себе на уме: и не кричит, и не ругается, все тихо да мирно, и не успеешь оглянуться, как на улицу выкинет.
Старики вздыхали, шушукались, жалели старого начальника и со страхом ждали, кого Бог пошлет. Зато Грыць поднял голову: он слышал стороной, что новый начальник из молодых, и ждал его с нетерпением.
Наконец начальник приехал. Молодой, вежливый, обходительный – с каждым любезно разговаривает, тихо расспрашивает и все на свете знает. Старики загрустили, и было отчего. Скоро их и половины не осталось. Кого из столицы прислали, кой-кого и на месте нашли – и все это молодые, без заслуг. Пошли другие порядки, другая жизнь начиналась.
Проценко свободно вздохнул. Ему и служится, и живется легко: есть с кем общаться и поговорить по душам. И начальник тоже не сторонился своих подчиненных: он часто приглашал сослуживцев к себе на беседу. Соберутся, поговорят – и гляди: или устроят спектакль в пользу бедных, или организуют концерт в пользу женских курсов.
Жизнь пошла коромыслом. Грыць жалел, что забросил скрипку, а на сцену и ногой ступить боялся, да у него, правда, и способностей к этому никаких не было. Он напустил на себя хандру. Глядя на него, подумаешь: не до праздника ему. Начальство заинтересовалось, отчего он грустит. Нашлись доброжелатели, которые изобразили его мучеником за идею. Он, как настоящий мученик, молчал, не желая никого отягощать своими страданиями.
– Это он мученик? – сказало начальство таким тоном, словно хотело сказать: зачем же его держать?
Все думали: конец Проценко! Он сам упал духом еще гораздо больше, чем в пору той заварухи, которая задела и его. Проклятья на головы неосторожных болтунов уже готовы были сорваться с его уст, как он был вызван к начальству. Ни живой ни мертвый вошел он в кабинет.
– Вы хотите ехать в уезд?
Грыць ответил не словами, а покорным и угасшим взором:
– Какова будет воля вашего превосходительства.
– Хорошо, – коротко и строго промолвил начальник. – В Н. открывается вакансия. Поезжайте.
На радостях Грыць облетел весь город, зашел ко всем знакомым. Одним он рассказывал, как милостиво его принял начальник, какое место предлагал, как он будто отказался, а его упрашивали; другим шептал на ухо:
– Это за наши беды и страдания. Недаром мы подставляли шею под топор. Не напрасно мы боролись.
На третий день Проценко выехал из губернского города с твердым намерением больше никогда не возвращаться в это проклятое место, где ему пришлось столько вынести, где он опорочил свое доброе имя и загубил лучшие молодые годы. С радостью ехал он в новый город. С возницами говорил без умолку, обращался к ним на «вы», чем немало их поразил. Они не знали, что и думать о нем. «Видно, из далеких краев». И намеревались прокатить на славу приезжего барина, но староста охладил их пыл: не очень гоните лошадей, не велика цаца едет – знаем мы этих голоштанников!
В город Н. Проценко приехал совсем другим человеком. Веселый и общительный, он смело заводил разговоры с каждым встречным и поперечным, насмехался над уездными пирами, над городскими порядками и бестолочью. Казалось, он все знал, все пережил, передумал и стал выше всех окружающих, но тем не менее не сторонился их.
Встречался ли он с простолюдином на улице – он заговаривал с ним попросту, обращаясь на «вы», шел с ним рядом, как равный, не боясь огласки. Для каждого сослуживца он тоже находил подходящие слова: молодому рассказывал сплетни, всяческие истории, точил лясы, а стариков располагал к себе рассудительными речами о жизни и как бы невзначай вставлял иностранное словечко, чтобы поразить собеседника.
И действительно, Проценко вызывал всеобщее удивление. «Вот смелый, вот талант», – думали о нем молодые панычи и всегда с большой охотой заводили с ним разговоры.
– Голова, – отзывались о нем пожилые, – когда говорит, заслушаешься. И не по верхам скачет, а в самую глубину забирается. Далеко пойдет – не догонишь.
Перед барышнями никто его не мог перещеголять. Красивое лицо, любезное обращение, остроумие, любовь к танцам – все это привлекало к нему девичьи сердца. Правда, он только один раз появился перед ними во всеоружии, но этого было достаточно, чтобы каждая подумала: «Это тот, которого жаждала моя душа». Потом он пошел окольным путем; прямолинейность ему не к лицу: солнце тоже далеко, но люди на него молятся!.. Нельзя сказать, чтобы он совсем отдалился от девичьего круга, но, попадая к ним, он напускал на себя печаль, жаловался на нудную жизнь, насмехался над их провинциальными забавами и наивностью. Его боялись и жалели – боялись его острого языка, жалели за те испытания, которые ему пришлось вынести в молодые годы. Кто же из них привлек его внимание? Кто поразил его горячее сердце?
Конца краю нет догадкам и тайным надеждам. Каждая думала: а что, если я его избранница? И все старались одеться для него получше, казаться легче и изящнее. Разговаривая с ним, они замирали, закатывали глаза и применяли иные приемы, заученные перед зеркалом. Но не на них были обращены его взоры, не скромные луговые цветочки волновали его сердце, а пышно распустившиеся садовые лилии. Молодые барыньки рассеивали его грусть, от их взглядов загорались его глаза, ускоренно билось сердце.
Тотчас же после приезда он поселился у Рубца. Антон Петрович доволен квартирантом. Они вместе ходят на службу, чуть ли не в один и тот же час возвращаются. Комната лишняя есть: отчего ж не пустить хорошего человека, если он к тому еще платит как следует. Пистина Ивановна еще больше обрадовалась квартиранту. Антон Петрович пожилой, потрепанный и всегда занят то делами, то игрой в карты; а Григорий Петрович и молод, и хорош, и весел; говорить с ним так легко и приятно. И обходительный, и такой привлекательный, что не прошло и трех дней, как он стал своим человеком в доме, будто вырос в нем; и слуги к нему привыкли, и маленький Ивась полюбил его. Пистина Ивановна не раз вздыхала, глядя, как после обеда Григорий Петрович играет с Ивасем. Она вспомнила свои девичьи годы, ожидание суженого. Не посчастливилось же ей встретить такого! «Вот какое чучело храпит!» – думала она, глядя на мужа, спящего после обеда.
Через полгода родилась Маринка. Когда заговорили о крестинах, Пистина Ивановна шутливо сказала:
– О куме беспокоиться нечего, он тут рядом. – И она указала на Григория Петровича.
– От такой чести грех отказываться, – ответил тот.
Кумой Антон Петрович давно уже наметил толстую купчиху, что любила чай пить до седьмого пота, хорошо поесть и вволю поспать; любила она также перемывать косточки ближним – не сидеть же в самом деле в гостях, да в своей компании, и играть в молчанку.
– А крестить возьмем молодого попа, – говорит мужу Пистина Ивановна. – Все же что-нибудь перепадет ему. Говорят, он так бедствует. Да заодно и матушку пригласим, поглядим на эту губернскую цацу.
Крестины, именины, похороны никогда не справляются без шумного пиршества: соберутся чужие люди – надо дело сварганить, надо и попировать. В былое время эти пиры длились целыми неделями, широко и шумно праздновали всякое событие, приходили свои и чужие, а теперь все больше собираются только близкие.
На этот раз Антон Петрович собрал старых знакомых: Кныша с женой – высокой и высохшей, как вобла; секретаря суда – лысенького и низенького старичка с его бочкой, как он в шутку называл свою жену, толстую и расплывшуюся, близкую подругу жены городского головы; пригласил он и самого голову, и капитана Селезнева, но первого задержали дела, а второй уехал осматривать мосты.
В назначенное воскресенье вечером собрались приглашенные, уселись, рассказывают и обсуждают последние новости, ждут батюшку. А вот и поп – да не один, а вместе с матушкой.
– И чего она сюда пожаловала? – недоумевающим тоном спросила секретарша из полиции.
– Скажите, пожалуйста, и она тут, – недовольно произнесла секретарша из суда.
– Что ей здесь нужно? Шла бы на маскарад водить за собой целую стаю вздыхателей! – сказала жена городского головы. Она уже кое-что слышала о проделках молодой попадьи.
Матушка была нарядно одета, и от нее пахло крепкими духами. Шлейф ее красивого шелкового платья слегка шуршал по полу; цветистый пояс, словно радуга, обвил ее тонкий стройный стан; белая точеная шея казалась еще белее, оттененная темным шелком платья, плотно облегавшего ее круглые плечи и высокую грудь; золотой крестик на цепочке блестел на шее, небольшие сережки играли драгоценными камнями, на розовых пальчиках сверкали перстни. Из-под черных бровей усмехались голубые глаза; свежее розовое лицо обрамлено черными волосами.
– Нарядилась, а есть, говорят, у них нечего, – наклонившись к хозяйке, промолвила судейская секретарша.
– Поди ж! – ответила та.
Попадья, войдя в гостиную, приветливо поклонилась собравшимся. Пистина Ивановна поспешила ей навстречу; потом представила незнакомых гостей. Попадья, переходя от одного к другому, пожимала руки, женщин поцеловала. Лицо ее горело, глаза играли. Так рада была она новым знакомым. Так давно ждала этого часа. И она щебетала как птичка. Разговаривая с хозяйкой, постоянно обращалась к гостям. Не забыла и про новорожденную: забежав в спальню, расцеловала ее и снова вернулась в гостиную.
– А кто же будет кумом? – спросила она.
Пистина Ивановна познакомила ее с Григорием Петровичем.
– Я где-то вас видела, – сказала она, лукаво блеснув глазами.
– Может быть, на улице?
– Нет. Вы не из губернского города?
– Приходилось и там быть.
– То-то же, – и она заговорила о том, как интересно в губернском городе, как там весело – гулянья в городском саду, клубы, маскарады.
Григорий Петрович обрадовался новой знакомой. Они из одного города, у них сразу нашлось о чем поговорить. Беседа завязалась оживленная и веселая.
– Потаскушка! – тихо произнесла жена Кныша.
– Да еще губернская! – добавила судейская секретарша. Жена головы закашлялась и пролила на себя чай из блюдца.
– Платье! Платье! – в ужасе вскрикнула секретарша и бросилась искать тряпку.
– Ничего, – сказала жена головы, стряхивая с дорогого шелкового платья капли чая, а в душе ругала и попадью и секретаршу.
– Видите, какие здесь люди? Зверье какое-то, – прошептала попадья, вздохнув. – И вот живи среди них, да выбери еще подругу.
– А вы лучше не подругу, а друга выбирайте.
– Друга? – сказала она громко, и голубые глаза ее потемнели. – О, я знаю вас, мужчин. Все вы коварны, у-у!
И она с такой грацией погрозила пальцем, так очаровательно улыбнулась, что, если бы никого не было, Григорий Петрович так и припал бы к ручке.
– Неужели все? Мало же вы знаете нас, коли так, – сказал он с притворным равнодушием. Попадья пристально посмотрела ему в глаза.
Еще минута – и он, верно, не выдержал бы ее обжигающего взгляда, но она оставила его и подошла к Пистине Ивановне и о чем-то начала болтать с ней. Его сердце усиленно забилось.
«А ну, посмотрим, чья возьмет», – подумал он, поглаживая бороду. Начались крестины. Гости остались в гостиной, только хозяйка с попадьей пошли в детскую.
– Не по куму выбрали куму, – произнесла она, заглядывая в глаза Пистине Ивановне.
– Да видите, жена головы. Обойти ее как-то неловко. Знаете наши обычаи, – оправдывалась Пистина Ивановна.
Попадья молча улыбнулась.
– Как вас зовут? – спросила Пистина Ивановна.
– Наталья Николаевна. Только зовите меня просто – Наташа, – она обняла и поцеловала Пистину Ивановну.
«Девочка!.. Ей бы еще гулять с подружками, а не быть попадьей», – подумала та.
После крестин мужчины перешли в другую комнату и засели за карты.
В гостиной остались только женщины и Григорий Петрович. Говорили больше он и попадья, остальные молча слушали.
Наталья Николаевна сетовала на здешние порядки и с грустью вспоминала о прелестях губернского города. Григорий Петрович нарочито с ней не соглашался. А она, когда ей нечего было возразить, грозила собеседнику кулачком. Как она была хороша в этом притворном гневе! Пухлые губы раскрываются, как розовые лепестки, сверкают ровные ряды белоснежных зубов, а щеки и глаза горят.
– Мотовка она – спору нет, но глядите, как красива! – прошептала жена головы на ухо судейской секретарше.
– А что эта красота? – оттопырив губы, сказала та. – Разве для того только, чтобы мужчинам на шею вешаться. Видите, как она заигрывает.
– И стыда у нее нет, – вмешалась в разговор жена Кныша. – Рада, что на паныча напала, и тарахтит, как пустая бочка. А с нами небось и рта не раскроет.
В это время Пистина Ивановна позвала Григория Петровича.
Попадья обратилась к женщинам:
– Вам не скучно? Мы только с Григорием Петровичем разговариваем.
Жена головы переглянулась со своими подругами.
– Да, только вас и слышно, – прошептала жена Кныша.
– Мы, душечка, радуемся, на вас глядя, – ехидно сказала секретарша.
– Давайте играть в фанты, – предложила попадья.
– Не играли сызмальства, а на старости учиться поздно, – сказала жена головы.
Попадья ничего не ответила и, сделав несколько шагов по гостиной, ушла в комнату, где мужчины играли в карты.
– Видели, как носом закрутила, – сказала секретарша.
– Проглотила пилюлю, – злорадно произнесла жена Кныша.
– Мне в фанты играть? – отозвалась головиха и, склонившись к секретарше, захихикала; остальные последовали ее примеру. Толстые и круглые, как дыни, они колыхались от смеха, подталкивая друг друга в бока; их лица еще больше расплылись от смеха, а из глаз катились слезы; и только худая, долговязая Кнышиха, как ворона, тупо на них уставилась и ядовито усмехалась.
Тем временем попадья подошла к мужу.
– Что, везет тебе? – спросила она, прислонившись к его плечу.
– Ве-е-зет! – протянул он. – Большой шлем взял.
– Беда с батюшкой, – сказал секретарь суда, – всех обыгрывает.
– Присядьте ко мне, может, принесете мне счастье, – предупредительно подвигая ей стул, сказал Кныш.
Попадья, поблагодарив, села.
– Сват, сват, – пригрозил Кнышу секретарь суда, – а что сваха скажет?
– Завидно стало? – сказал Кныш, сдавая карты.
– Я всем счастье принесу, всем, – улыбаясь, сказала попадья.
Пока сдавали карты, все хранили молчание. Из гостиной доносился приглушенный смех.
– Глядите, наши там не дремлют, – сказал секретарь суда.
Попадья повернулась, чтобы заглянуть в гостиную, и на пороге увидела Григория Петровича.
– Давайте будем тоже играть в карты, – предложила она.
– Кто же?
– Вы, я.
– Во что?
– В нос.
– Как это?
– Давайте карты! – закричала попадья и, пройдя в гостиную, уселась около небольшого круглого столика.
Григорий Петрович разыскал карты. Быстро тасуя их, попадья говорила:
– У кого останутся карты, того по носу бить.
Она начала сдавать.
Пока шла игра, в гостиной было тихо; жена головы и секретарша только искоса поглядывали на играющих.
– Вышла, вышла! – вдруг закричала попадья и захлопала в ладоши.
– А теперь что? – спросил Григорий Петрович.
– Подставляйте нос! Сколько у вас карт осталось? Целых пять!..
Она схватила пять карт и собиралась ими ударить Григория Петровича по носу, но он увернулся.
– Чур! Не отворачиваться!
– Так больно же будет.
– А если я останусь?… Разрешается только закрыться картами и выставить один кончик.
Григорий Петрович покорился.
– Раз! – крикнула попадья и ударила картами по носу. – Еще четыре раза! – и она залилась смехом. – Два, – промолвила она тихо и уже слегка задела его картами, и так же в третий раз.
– Не будет же и вам пощады! – сказал он, сдавая карты.
В другой раз она осталась с десятью картами.
– Раз! – крикнул Григорий Петрович с притворным злорадством.
– Ой, больно!
– Григорий Петрович! – окликнула его из другой комнаты Пистина Ивановна.
Он оглянулся. На пороге детской стояла хозяйка.
– Оставьте! – тихо промолвила она.
Когда он вернулся, попадья, указав глазами на детскую, сказала:
– Слышите?
Оттуда доносился голос жены головы:
– И пошло… Еще носы поотбивают… Только их и слышно.
Григорий Петрович оглянулся. Пистины Ивановны уже не было. Он покачал головой.
– У-у, подлые! – прошептала попадья.
Весь остаток вечера она была грустна и молчалива.
Только за ужином от выпитого вина она немного оживилась. Кто-то из мужчин затянул песню.
– Вы умеете петь? Давайте споем, – предложила она Григорию Петровичу.
– Запевайте.
– «Выхожу один я на дорогу» – знаете?
– Немного.
Она вышла на середину комнаты и запела. Тихо-тихо, словно из-за гор, донесся звон золотого колокольчика, раздавался ее тонкий голос, постепенно крепчая. Григорий Петрович начал ей вторить тенором. Все затихли. Слушателям представилась ночь, тихая и звездная; темным пологом укрыла она высокие горы, крутые скалы. Невыразимая тоска охватывает душу, тоска одиночества и заброшенности. Кажется, будто горы шевелятся и шепчутся скалы, прислушиваясь к отдаленному гулу, доносящемуся из беспредельной вышины. А там? Мириады звезд мерцают, вспыхивают, гаснут… Вот несколько ринулись вниз, вычерчивая серебряный след… Сердце тревожно бьется, ширится, растет душа, словно она рождает все эти звуки и образы. Забывается все окружающее. Песчинка в безграничном мироздании, человек чувствует, как бьется сердце мира… мысли растворяются в сладостном забытьи… и он замирает в ожидании.
Замерла и песня. Умолкли певцы, но в комнате все еще стояла такая глубокая тишина, словно люди прислушивались к отдаленному эху. И хотя его не было, но оно звучало в каждой душе, пробуждая неясные предчувствия.
Первым нарушил молчание секретарь суда. Он молча поднялся, подошел к Наталье Николаевне и опустился перед ней на колени. Схватив ее руки, он умоляюще произнес:
– Матушка наша, соловушка! Еще раз… еще хоть немножко… – и он благоговейно поднес маленькую руку попадьи к губам. – Сроду не слышал такого голоса… – продолжал он.
Его жена как ошпаренная вскочила, заметалась по комнате и, пробегая мимо мужа, сердито толкнула его в спину.
– Бочка! – крикнул он, схватив ее за подол платья. – Ты слышала? Слышала когда-нибудь такой голос? Так только славят Бога серафимы и херувимы.
Все это приняли за шутку и засмеялись. Сама секретарша, не желая подать виду, что она глубоко задета, произнесла с улыбкой:
– А ты уже раскис, голубчик… Что-то он у меня очень падок на песни, особенно когда выпьет, – закончила она, обращаясь к попадье.
– От вашего пенья я когда-нибудь умру! Так меня и разорвет на куски! – говорил он возбужденно, хватаясь руками за грудь, словно хотел показать, как она у него разорвется.
– Вот вы какой. Тогда я не стану петь, чтобы с вами чего не случилось, – сказала попадья.
– Матушка, канареечка! Я и без того умру… спойте, – не унимался он, порываясь еще раз схватить ее за руку.
– Ладно, ладно, спою. Только встаньте… – сказала она, а глаза ее, вызывающе глядевшие на присутствующих, казалось, говорили: «А что? Видели? Слышали? Захочу – все будете у моих ног».
Казалось, она росла на глазах у собравшихся в гостиной. Не робкая девушка стояла перед ними, а величавая царица.
Спела веселую песню, потом снова грустную и еще веселую. Вечер закончился танцами. Секретарь суда, изрядно выпив, схватил попа, и оба они пошли откалывать гопака, да так, что пол ходуном ходил.
Разошлись далеко за полночь. Поп еле волочил ноги. Григорий Петрович пошел провожать их.
На улице попадья взяла Григория Петровича об руку, и они пошли вперед. Поп, стараясь не отстать, заметно шатался и что-то бормотал. Они не обращали на него внимания, занятые интересной беседой. Попадья все время весело смеялась, да так заливисто, что собаки, спавшие в подворотнях, начинали испуганно лаять. Поп кричал на собак, а попадья еще теснее прижалась к своему провожатому, словно боялась, что собаки бросятся на нее.
– Я надеюсь, что вы теперь, зная наше пристанище, когда-нибудь заглянете к нам, – сказала она, подавая ему руку, когда они подошли к поповскому двору.
– Ваш гость! – ответил Григорий Петрович; поп в знак дружбы обнял его на прощанье и поцеловал.
Григорий Петрович возвращался домой, опьяненный нечаянной радостью.
– Непременно пойду к ней, – произнес он шепотом, раздумывая, какой выбрать день для первого посещения.
Не долго он собирался и уже на другой день пошел. Домой вернулся рано, но еще более радостный, и решил рассказать куме, как весело провел время.
– Вот это люди! – закончил он рассказ.
– Ой, берегитесь голубых глаз! – предостерегающе сказала ему Пистина Ивановна. Она весь вечер была задумчива и грустна. Григорий Петрович не заметил этого.
На третий день он пошел погулять и сам не заметил, как очутился у поповского двора; на четвертый – снова… Вскоре он стал там бывать чуть не ежедневно, как свой человек.
По городу пошли сплетни. Люди передавали из уст в уста рассказы об их продолжительных загородных прогулках. Кто-то видел через окно, как они вечером пили чай… ее рука лежала в его руке, и он время от времени целовал ее. Поповская кухарка, Педора, обладательница большого синего носа, уверяла, что попу все это известно, но он до поры до времени решил терпеть. Только однажды, сильно опьянев, он заговорил с женой, плакал и умолял прекратить свидания.
– Хватит и того, что я уже раз покрыл твой грех… Знаешь, что будет, если преосвященный дознается? – уговаривал он ее. Но она и слушать не хотела.
– Плевать мне на тебя и на твоего преосвященного! Как жила, так и буду жить!
Много еще разных разностей плела кухарка. Но чего только не наговорит прислуга, которой хозяева уже задолжали за три месяца?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Миновало теплое лето с его солнечными, ясными днями; пришла осень, ненастная, с густыми туманами и темными, непроглядными ночами. Настанет день – оглянуться не успеешь, а он уж на исходе, а ночь длинная-предлинная – и выспишься, и лежать надоест, а свет все не заглядывает в окно, солнце где-то дремлет за горами; только дождь однообразно стучит в стекла, навевая тоску.
Христя и не заметила, как пробежало лето и наступили холодные ночи, начались беспрестанные ливни, загнавшие людей в дома. Выйдешь на двор – дождь, слякоть, а дома тоже не лучше – серо, сумрачно.
В это время тоскливо не только в селе, но и в городе. В селе хоть работа есть – прядут, шьют, а в городе – либо ложись спать спозаранку, либо слоняйся по комнате без дела.
Чтобы скоротать время, Христя начала вышивать сорочку. Марья то ей помогала, то рассказывала разные истории из своей жизни. С того дня, как она вернулась избитая, Марья никуда не ходила и все тосковала, часто плакала. Но слезами горю не поможешь, только изведешь себя. Марья и в самом деле начала сохнуть: безрукавка на ней болталась, как мешок, а в юбке она уже дважды переставляла петли; лицо поблекло и осунулось, померкли глаза, и не один седой волос засеребрился в висках.
В один из таких вечеров Христя принесла в столовую самовар, села на нары и взялась за шитье, а Марья забралась на печь. Кругом было тихо; из панских покоев доносились только звон посуды и приглушенный говор.
Марья молча поглядывала с печи, как Христя, склонившись над шитьем, проворно водила иголкой, то подымая, то опуская руку.
Она думала: вот Христя шьет, а она лежит на печи и ни к чему не прикасается, руки не подымаются. Да и к чему? Христя молода, жизнь ей кажется прекрасной… Когда-то и она была такой. А теперь… То, что раньше улыбалось ей, теперь – кривится, насмехается; то, что радовало сердце, нынче гнетет ее. Отчего же это – от надвигающейся старости или от жизни, полной горя и разочарований? Марье стало горько-горько. Она уже готова была заплакать, но в это время из столовой вышел в кухню паныч. Проходя в свою комнату, он остановился около Христи и тоже стал глядеть на ее работу.
– Ну, что вам? – сказала Христя, прикрыв сорочку руками.
– Разве нельзя? – спросил паныч.
– Конечно, нельзя.
– Боишься, чтобы не сглазил… У меня не такие глаза, – сказал он и ушел к себе в комнату.
Христя проводила его долгим взглядом, потом снова молча принялась за работу.
Марья видит по лицу Христи, как ее взволновал разговор с панычом, как обрадовал его ласковый взгляд. А ее уж ничего не радует.
– Ох, жизнь треклятая! – неожиданно сказала Марья. Христя вздрогнула. И снова тишина. Только еле слышно шуршит полотно и шелестит нитка, продеваемая сквозь сборки. Быстро скользит рука Христи, а позади тень ее неистово мечется по стене.
Вдруг из сеней донеслось шарканье ног. Христя и Марья взглянули на дверь. На пороге показался пан – не пан, но в одежде панской; лицо у него продолговатое, худощавое, усы – длинные, рыжие; в руках у него какой-то черный ящик.
– Григорий Петрович дома? – спросил вошедший грубым охрипшим голосом.
– Дома, – ответила Христя.
– Куда к нему пройти?
– Сюда, – Христя указала на дверь в комнату паныча.
Незнакомец задержался около Христи, с удивлением взглянул на нее и сказал:
– А-а-а…
Христя смущенно отвернулась.
– Лука Федорович! Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим! Да еще со скрипкой… Милости просим, – раздался голос паныча за спиной Христи.
– А я загляделся на вашу девушку, – прогудел незнакомец. – Где вы раздобыли такую красотку?
Христя торопливо скрылась за печью. Незнакомец прошел в комнату паныча, оттуда только глухо доносился его хриплый голос.
– Знаешь, кто это? – спросила Марья, когда Христя снова принялась за шитье.
– Столяр, может? – неуверенно произнесла Христя.
– Столяр! – смеясь, сказала Марья. – А ну тебя! Это Довбня, Маринин паныч.
– Так это он! – разочарованно сказала Христя. – Что ж он, служит где? – немного погодя спросила она Марью.
– Не знаю, служит ли он, – только слышала, что он певчими в соборе заправляет. Когда церковным старостой стал купец Третинка, он его откуда-то привез. Этот Довбня, кажется, на попа учился, но потом не захотел стать попом. А пьет – не приведи Господи! Как найдет на него запой, так недели две без просыпу по шинкам ходит. Все как есть пропьет. В одной сорочке бегает, пока где-нибудь под забором не свалится. Тогда возьмут в больницу, там он вытрезвится, отлежится, можно б и выйти – так не в чем. Люди в складчину одежду ему справят пристойную. Снова он за дело принимается. Ох, и мастер же играть! И к пенью талант имеет. Как без него поют в церкви, точно волки в лесу воют – тот сюда, тот – туда; а как он заправляет хором, будто ангелы поют – так согласно и красиво.
– И даст же Господь такой талант человеку, да вот не умеет его беречь, – вздохнув, промолвила Христя.
– Поди ж ты… и ученый, и умный, да вот! Панычи его сторонятся – как им с пьяницей водиться! Паненки тоже его избегают, боятся. Одни купцы его любят… Что ты сделаешь, если грех такой привязался…
Пока Марья рассказывала Христе про Довбню, в комнате происходила оживленная беседа.
– Вы оставили у меня свое либретто и не приходите. Что, думаю, это значит? Может, забыли? И решил сам отнести, – сказал Довбня, кладя на стол скрипку.
– Спасибо, я был очень занят… – сказал Проценко.
– Я и скрипку принес; может, мы вместе что-нибудь состряпаем.
– Значит, вы воспользовались либретто? – обрадованно спросил Проценко.
– Какого черта! Очень закручено, – ответил Довбня. – Свадьбу немного начал. Расскажу вам, только не угостите ли вы меня чаем?
– Христя! – крикнул Проценко. – Самовар уже убрали?
– Нет, он еще в горнице.
– Нельзя ли попросить у Пистины Ивановны чаю?
– Сейчас.
Христя убежала в комнаты.
– Как посмотрю на вашу девушку, обо всем забываю, глаз бы с нее не спускал! – бубнил Довбня, пристально глядя на Христю, принесшую им чай на маленьком подносе.
– Да берите же, а то брошу! – покраснев, как мак, сказала Христя.
Довбня, не сводя с нее восхищенного взора, лениво протянул руку, и, как только он взял блюдце, Христя вмиг убежала из комнаты.
– Вот это так, это – смак! Не городская потаскушка, не барышня, у которых в жилах вместо крови течет бураковый квас. Эта солнцем опалена, кровь у нее – огонь! – говорил Довбня, болтая ложечкой в стакане.
И он начал рассказывать Проценко разные случаи из своих пьяных похождений. Это были отвратительные приключения и прихоти беспутного пьяницы, вызывавшие омерзение свежего человека.
Видно, такими же они показались и Проценко, потому что он поспешил прервать Довбню:
– Бог знает, что вы мелете. Неужели умному человеку не стыдно на такое пускаться?
– Умному, говорите? – спокойно спросил Довбня. – А при чем тут ум? Натура – и все! Пьете вы? Ну…
Он не досказал. Да и нечего досказывать. Проценко страшно стало от такой неприкрытой откровенности. Он стремился замять этот разговор, перейти на другие темы и снова напомнил о либретто, над которым он работал с неделю. Хотя он писал второпях и не очень старательно, тем не менее придавал этой вещи большое значение. В его голову давно уж запала мысль написать оперу по мотивам народных песен, таких чудесных и значительных. Порой на сцене уже ставились спектакли на сюжеты этих песен, одной или нескольких, и они имели огромный успех у зрителей. Но все же это еще не была опера, а только первые шаги к ней, первые робкие попытки взяться за большое дело, которое ждало своего зачинателя.
Кто знает, не ему ли выпала судьба стать этим зачинателем? Недаром же ему первому пришла в голову мысль создать оперу. Почему же ее не осуществить, если у него есть к тому же большое желание поработать на этом поприще? Надо только завершить либретто, а музыку подобрать к нему из народных песен… Это уж дело нетрудное. Придется только попросить кого-нибудь знающего ноты, чтобы записал мелодии. Жалко, что он сам не учился музыке, тогда б сам все это сделал. Эта мысль так увлекла его, что он уже представлял свою оперу поставленной на сцене. Всюду толки, разговоры: «Проценко написал оперу. Ставит оперу Проценко!» Какая честь для него! Надо скорее кончить либретто и посвятить оперу попадье, такой знаменитой певице… И он его за неделю отмахал. Это был рассказ о том, как девушку выдали замуж за немилого, как сыграли свадьбу, как она потом была несчастлива с нелюбимым мужем и, наконец, с горя утопилась. Узнав, что Довбня хорошо знает ноты и к тому еще играет на скрипке, он познакомился с ним и попросил написать ноты.
– Я написал, – говорил он Довбне, – то, что взлелеял в тайниках своей души и опалил огнем своего сердца.
– Не довелось мне есть яичницу, зажаренную на таком огне. Боюсь, как бы не обжечься, – с притворной серьезностью ответил Довбня.
Но либретто он взял, чтобы сперва прочесть его, и обещал, если сможет, приложить и свои руки к этому делу.
Теперь Проценко жаждал поскорее услышать, что успел сделать Довбня. А если уж он принес скрипку, значит, кое-что приготовил. Ну, ладно, подождем, пусть отдохнет, напьется чаю, покурит.
Довбня курил, пуская густые клубы дыма, словно из трубы, запивая чаем каждую затяжку.
– А ну, сыграйте что-нибудь, – попросил Проценко, когда тот, выпив стакан чаю, бросил в блюдце окурок толщиной с палец.
Довбня молча поднялся, неторопливо раскрыл футляр, вынул скрипку, провел смычком по струнам и начал ее настраивать.
– Вот услышишь, как он хорошо играет, – сказала Марья. Христя не откликнулась, только еще ниже склонилась над шитьем.
Настроив скрипку, Довбня вышел на середину комнаты, широко расставил ноги и, прижав подбородком скрипку к плечу, начал играть.
Тихо, словно издалека, доносится песня… Вот она начинает приближаться. Это не походная казачья песня; добрые молодцы везут князя к молодой. Так, так… Вот молодого бояре кличут, а дружки подхватывают. И сразу – как отрезал – скрипка замерла на громком аккорде.
– Что он играет? – спросила Марья.
– А это как ведут жениха к невесте, – ответила Христя.
– Так, так, – начала Марья и не договорила. Довбня снова заиграл.
Тонко звенит голос первого дружки в хате молодой; протяжную и тоскливую заводит он песню; подруги ее подхватывают и поднимают высоко вверх. Из-за хаты откликается голос парубка. Едет, приближается молодой с боярами… Еще звонче заливаются девичьи голоса, еще выше возносятся к небу, словно пустились вперегонки; а бояре за ними вдогонку. Вот они приближаются, сходятся, и голоса их звучат слитно мощным хором. И как вешний поток, плывет она вдаль. Как вихрь, подымается ввысь, уносясь все дальше и дальше…
И снова внезапно оборвалась песня…
Немного погодя он заиграл «Метелицу». Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и незаметно перешел на «Казачок». Смычок неистово метался по струнам, а они звенели на все лады, наигрывая лихой пляс. Проценко даже ногами начал невольно притопывать; а перед глазами стал ровный и чистый двор, на котором справляют свадьбу… Он видит, как быстро перебирает каблучками нарядная девушка; как парубок откалывает трепака… Вот другой вылетел пулей и пустился вприсядку. «А ну, приналяжь! Поддай жару!» – кричит дружка, хлопая в ладоши… И сразу умолкла скрипка.
Проценко все еще чудится залихватский «Казачок», все еще вертятся перед глазами танцующие. Чей-то громкий смех заставил его очнуться. Он, словно спросонья, поднял голову, оглянулся… Смеялись в кухне. Христя не утерпела и пустилась в пляс, а Марья смеялась на печи.
– Ух! – воскликнул Проценко. – Батюшки!
А Довбня снова начал:
Ой да стой, сосна, Да развивайся Рано, рано…потекли звуки грустной песни. И в такт ее сабля дружки ударяет в потолок – раз, другой, третий. Эти удары, точно по команде, извещают, что вскоре начнется что-то очень важное и значительное. И оно в самом деле началось. Песня затихла. Послышался какой-то шум, суета. Пора молодую выряжать к жениху. «Пора!» – восклицает дружка. Дружки хором запевают, музыка звучит торжественно: «Вставай, княгиня, прощаться с родом своим да с волей девичьей. Теперь ты уж не вольная птица, а чужая работница. Свекруха тебе покоя не даст, а свекор укорять будет, и некому заступиться, муж побьет – некому пожаловаться. Слезы и горести да работа без отдыха сотрут краски с лица, согнут спину и состарят раньше времени. Вставай же, княгиня, прощайся со своим родом, волей и девичьей красой…» И княгиня, обливаясь слезами, идет поклониться отцу-матери. Настала тяжелая минута. Скрипка стонет, рыдает. У Проценко дыханье сперло в груди, на глазах выступили слезы… Но тут дружка крикнул: «Довольно, едем!» – и снова раздались звуки марша, сперва громко, потом все тише и тише, будто свадебный кортеж, выехав со двора, спустился в балку или скрылся за лесами, за горами…
Довбня снял с плеча скрипку и положил ее на стол.
– Вот вам и свадьба к вашей опере, – сказал он, вытирая вспотевший лоб. – Ух! Как я уморился! Черт бы его взял! – Он вынул кисет с табаком.
Проценко сидел точно в жару: щеки его пылали, глаза сверкали.
– Господи! – крикнул он. – Впервые на своем веку слышу такую невероятную музыку. Пусть спрячутся итальянцы и немцы… И это не гении творили, а простой народ… – Он возбужденно начал ходить по комнате. Не скоро улеглось его волнение, и он заговорил спокойнее: – Не ожидал я такого, по правде говоря. Я думал, что вы, Лука Федорович, забыли про мое либретто, и сам начал о нем забывать… Но вижу – нет. Хоть ваша музыка не подходит к моим словам, но как артистически она звучит! Что вы намерены сделать с этой пьесой?
– Ничего… поиграю кому-нибудь, и все! – сказал Довбня, выпуская изо рта целое облако дыма, которое окутало его.
– Как ничего? – крикнул Проценко. – Нет, так не годится, вашу пьесу надо записать и напечатать. Надо рассказать людям, какие замечательные мелодии создает народ. Большой грех будет, если вы это дело забросите.
– А где ж я возьму деньги, чтобы напечатать?
– Хотите, я достану? У меня в Петербурге есть один знакомый музыкант. Я ему отошлю. Пусть покажет Бернарду или еще кому. И вашу пьесу непременно напечатают. Много найдется рук взяться за такое дело… Сыграйте еще «Казачок» или то место, где молодая прощается с родными. Голубчик… А знаете что? В этом вопросе лучший ценитель – простой народ. Кликнем Христю, Марью, прислугу здешнюю, пусть они послушают, и спросим их мнение.
Довбня лукаво усмехнулся.
– Вы смеетесь? – крикнул Проценко. – А знаете, кому Пушкин читал свои песни? Няне своей – Арине Родионовне. И если та чего-нибудь не понимала, он перерабатывал свои бессмертные творения.
– То слова, а это музыка! – возразил Довбня.
– Пусть народ послушает, и он будет плакать. А скажите, кого из нас Шевченко не брал за сердце? Вы тоже «музыкальный Шевченко».
– Далеко кукушке до сокола, – сказал Довбня. Но Проценко его не слушал.
– Шевченко, так же как вы, – продолжал он с горячностью, – взял за основу народную песню. Его народ понимает, значит – и вас поймет. О-о! Народ – большой ценитель прекрасного!
Довбня молча кивнул головой. Ему гораздо больше хотелось увидеть Христю, чем услышать ее мнение о своей игре.
Проценко насилу уговорил Христю войти к нему в комнату. Да она бы сама и не пошла, если бы Марья не потащила ее за собой.
Довбня рассмеялся, когда Проценко усадил их обеих на кровати.
– А ну-ка, большие ценители, – сказал он, смеясь, – навострите уши.
И заиграл невольничий плач, как плачут казаки в турецкой неволе, вздымая руки к небу и моля его о ниспослании смерти… Горький плач, горячая молитва и тяжкие стенания наполнили комнату. Первые струны жаловались тонкими высокими голосами, а басы гудели, словно приглушенные рыдания вырывались из-под земли… Проценко сидел понурившись. Его бросало то в жар, то в холод, а звуки вливались прямо в сердце, заставляя его сильнее сжиматься от боли и восторга.
Глубоко вздохнув, он покачал головой. Христя переглянулась с Марьей, и обе они засмеялись.
– Ну что? – спросил Довбня.
Проценко молчал.
– Нет, эта нехорошая, очень тяжелая. Та, что вы раньше играли, куда лучше, – сказала Марья. А Христя тяжело вздохнула.
– Отчего же так тяжело вздыхаешь, моя перепелочка? – спросил Довбня, глядя на ее нахмуренное лицо.
– Христя! Марья! – послышалось из кухни.
– Пани… – испуганно прошептали обе и стремглав бросились в кухню.
– Заберутся к панычу в комнату… С чего это? – кричала Пистина Ивановна.
– Вот зададут перца нашим критикам! – сказал Довбня.
Проценко по-прежнему молчал, а Довбня большими шагами мерил комнату.
– Вот, если б вашу игру услышала Наталья Николаевна… Как бы она была рада, – немного спустя сказал Проценко.
Довбня недоумевающе взглянул на него и спросил:
– Какая?
– Вот с кем вам следует познакомиться! Вы знаете отца Николая? Это его жена – молодая, прекрасно поет и очень любит музыку.
– С попадьей? – спросил Довбня. – А у них есть что выпить?
Проценко сморщился и сказал небрежно:
– Наверное… как в каждом семейном доме.
– А если нет, то какого черта я к ним пойду? Чего я там не видел – поповской нищеты?
Проценко еще досадней стало. Довбня прав. Он и сам часто видел их нищету. Потом вспомнил попадью, такую живую, красивую.
– Неужели вы оцениваете людей по их достатку? – спросил он.
– А по чему же еще? – спокойно ответил Довбня. – Приедешь к людям в дом, посидишь до полуночи, а тебе не дадут ни рюмки водки, ни ломтика хлеба?
«Обжора! Пьянчуга!» – чуть не сорвалось с языка Проценко, но он только заерзал на стуле.
– А впрочем, пойдем, если вам хочется, – согласился Довбня. – Потрясем маленько поповскую мошну. Я его еще до семинарии знаю, а попадья, говорят, веселенькая.
Эти слова так и резанули ухо Проценко, он готов был, кажется, броситься с кулаками на этого проклятого пьяницу.
А тот как ни в чем не бывало стоял перед ним, спокойный и ровный, только еле заметная усмешка играла на его губах, да глаза ехидно поблескивали. Проценко страшно стало от мысли, что такой талантливый человек, как Довбня, так опустился.
– Когда ж мы пойдем? – спросил Довбня. – Завтра, что ли?
– Как хотите, – ответил Проценко.
Довбня, выкурив еще одну папироску, ушел, а Проценко, расстроенный, ходил по комнате, раздумывая, как бы уклониться от завтрашнего посещения попа. Вместе с Довбней ему туда идти не хотелось, и он жалел, что уговорил его. Напьется и ляпнет такое, что ни в какие ворота не лезет. От него всего можно ждать…
– Что с него возьмешь, – бурсак! – произнес он вслух, продолжая ходить по комнате.
– Паныч, ужинать! – весело сказала Христя, входя в комнату.
Проценко взглянул на ее слегка растрепавшиеся волосы, розовое лицо, оголенную шею, круглые точеные плечи.
– Ужинать? – спросил он, заглядывая ей в глаза.
– Да… зовут.
Сердце у него почему-то забилось.
– Голубка, – сказал он нежно и занес руку, чтобы обнять ее.
Она бросилась бежать и вмиг очутилась в кухне. Только дверь громко хлопнула за ней.
– Что ты выскочила как ошпаренная? – спросила Марья.
Христя тяжело дышала. Когда Проценко прошел через кухню в комнаты, она за его спиной погрозила кулаком и тихо произнесла:
– Ишь, какой!
– Приставал? – смеясь, спросила Марья. – Ох ты, простота деревенская! – Она вздохнула, а Христя покраснела, как мак.
За ужином Пистина Ивановна смелась над выдумкой Проценко – позвать прислугу, чтобы она оценила игру Довбня.
Григорий Петрович не сердился; он показывал, как сидела Марья, подпершись рукой, как тяжело вздыхала Христя.
Пистина Ивановна от души хохотала.
Когда он возвращался после ужина, Марья его остановила.
– Так вы вот какой, – сказал она, – святой да Божий: свечи съели и в темноте сидите.
Он поднес кулак к самому Марьиному носу и шутливо пригрозил:
– Видала?
Христя так и прыснула. Он и ей погрозил пальцем и ушел к себе. Все это произошло в одно мгновенье, словно молния сверкнула.
– Умора – не паныч! – смеясь, сказала Марья.
А из столовой доносился голос Пистины Ивановны:
– Ну и забавный он! Придумал же такое: позвать Христю оценивать игру.
– Забавный-то он забавный, а ты все-таки поглядывай, чтобы эта забава не довела до слез… – мрачно произнес Антон Петрович.
– Кого? – спросила Пистина Ивановна.
– Тебе лучше знать.
Пистина Ивановна надула губы.
– Еще что выдумал!..
Скоро все улеглись спать. Лег и Григорий Петрович, хотя ему и не хотелось. Но что же делать?… Был на редкость шумный вечер. Игра Довбни и его грубо-откровенные речи, разговор с прислугой, красота Христи, так взволновавшая его, – все это и многое другое кружилось в его голове. И рядом с Христей возникла изящная фигура голубоглазой попадьи. Они словно соревновались. Сердце у него ускоренно билось, какие-то смутные надежды волновали его. «Та – распустившийся пышный цветок, а эта – нетронутый родник. Кто первый зачерпнет из него воду?…» Ему стало душно, и он беспрерывно ворочался с боку на бок.
А в кухне на печи слышалось шушуканье.
– Какой он красивый и ласковый! Не сравнить с тем, что на скрипке играл, – тихо шепчет молодой, звонкий голос.
– Полюбила б ты такого? – допытывается хриплый голос.
– Вот уж, полюбила бы! – укоризненно произносит первый голос.
– Да ты не скрывай! Разве не видно, что тебя завлекает?
– Еще как… – и звонкий смех доносится из темноты.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Дома? – спросил Проценко сизоносую Педору, входя на следующий день вместе с Довбней в кухню.
– А где им быть? – недовольно ответила та гнусавым голосом. – К вам хотели посылать.
Довбня неприязненно взглянул на Педору: откуда еще взялось такое чучело?
Тем временем попадья, услышав знакомый голос, весело крикнула из комнаты:
– Нету дома!
– А где же барыня? – смеясь, сказал Проценко, входя в комнату.
– Господи! И не грех вам? – начала было попадья, но, увидев Довбню, сразу умолкла.
– Не ругайте меня, Наталья Николаевна, – начал Проценко. – Я к вам привел моего приятеля, Луку Федоровича Довбню. Помните, я вам как-то рассказывал о нем.
– Я рада… – заливаясь краской, сказала попадья, подавая Довбне руку.
– А я тот черт, которым детей пугают… – шутил Довбня, так сжимая ее маленькую руку, что у нее пальцы слиплись.
– Дома отец Николай? – спросил Проценко.
– Нет, его позвали на крестины, – ответила она и побежала в соседнюю комнату за стулом.
Довбня начал осматривать комнату.
В углу возле небольшого столика всего только два стула; самовар на столе напевал грустную песню. Видно было, что его уже давно не чистили: зеленые пятна ржавчины пестрели на нем повсюду, кран покосился, вода из него капала прямо на стол, на краю которого стояли два стакана; в одном был недопитый чай, а в другом какая-то бурная жидкость; из открытого чайника поднимался пар. Нигде не видно было хозяйской руки. Стены были голые, облупившиеся; тут валялись крошки, объедки, шелуха от семечек… В углу стоял оборванный диван, словно горбатый старец примостился у стены. Всюду бросались в глаза нужда и бесхозяйственность.
Пока Довбня оглядывал это убожество, из другой комнаты вернулась Наталья Николаевна со стулом.
– Это для меня? – спросил Довбня и взял у нее стул. – Напрасно беспокоились. Я могу и на полу посидеть.
Наталья Николаевна не знала, как ей понять слова Довбни: как насмешку над их бедностью или беспорядком? От стыда она покраснела до ушей.
А тут еще, хлопнув дверью, ввалилась в комнату Педора и, наступив Довбне на ногу, бросилась к самовару.
– Гляди, ноги отдавишь! – крикнул Довбня.
– У меня внизу глаз нет, – сердито буркнула Педора, хватая самовар.
– Педора, куда ты тащишь самовар? – крикнула попадья.
– Надо ж его подогреть. А то каким чертом гостей поить будем? Там уж и воды не осталось.
– Педора! – топнув ногой, крикнула попадья. – Сколько раз я тебя просила: хоть на людях не чертыхайся.
– А чем же вы будете гостей поить? Помоями? Глядите, я еще виновата.
– Педора! Бери самовар! Бери все! Только уходи, и чтоб я твоего голоса больше не слышала… Господи! – пожаловалась попадья, когда Педора скрылась за дверью. – Ни у кого, наверное, нет такой прислуги, как у меня… И приходится ее держать!
– Держать? – отозвалась из кухни Педора. – Хорошо держать прислугу и не платить ей! Заплатите мне, и я сегодня же уйду от вас и дорогу сюда забуду.
– Да замолчи, Христа ради! – крикнула попадья в кухню.
– А почему вы ее и в самом деле не рассчитаете? – спросил Проценко.
– Ну, скажите же ему! – гневно ответила попадья, очевидно, имея в виду мужа.
– За нее еще, видно, никто как следует не взялся, – сказал Довбня.
– Вот еще! – сказал Проценко.
– И задиристая какая, – сказал Довбня. – Хоть бы что-нибудь порядочное, а то смотреть противно.
Попадья и Проценко засмеялись.
– Ой, какой вы страшный и сердитый, – крикнула она с притворным ужасом.
– Да… пальца в рот не кладите, зубы еще крепкие, – улыбаясь, сказал Довбня.
– Неужели? – произнесла она, лукаво взглянув на него.
В ее голосе и жестах заметно было продуманное кокетство. Своей легкой кошачьей манерой и вкрадчивым голосом она старалась развлечь мрачного Довбню, который сидел насупившись и крутил свои длинные усы… Ей да не расшевелить его! Если захочет, она и немого заставит говорить!
Довбня вскоре развеселился и уж сыпал плоскими и грубыми шутками. Проценко поддерживал его, вставляя порой словечко-другое, а попадья их поощряла кокетливыми взглядами и раскатистым смехом. Вскоре наступило непринужденное веселье. Первые тяжелые впечатления рассеялись, и казалось, что нет мусора и грязи на полу, побелели стены и ярче стало тусклое пламя сальной свечи.
Оживленная беседа не умолкала ни на мгновенье. Педора внесла самовар, кряхтя, подняла его, поставила на стол и, окинув присутствующих неприязненным взглядом, вышла из комнаты.
– А я ждал, что раз она мне для первого знакомства ногу отдавила, так уж теперь кипятком ошпарит.
Громкий смех раздался в ответ, и за ним не слышно было, как сердито заворчала Педора и громко хлопнула дверью.
За чаем разговор еще больше оживился. Проценко не ожидал, что Довбня будет таким разговорчивым и веселым. Хотя без крутых словечек не обходилось, но Довбня так искусно вставлял их в разговор, как ювелир вправляет драгоценные камни. Он говорил почти не умолкая, под дружный смех слушателей, вспоминая давно прошедшие времена бурсы, гречневых галушек, протухшей каши и веселой дружбы. Рассказал, как чуть не еженощно, накинув на себя легкие хламиды, они отправлялись за добычей; как били сторожей и объездчиков, воровали сало и водку, а однажды поймали на улице кабана, закололи его, потащили к речке и там его так разделали, что следа не осталось. А было дело – у пана дочку украли. Пока одни пели под окном, а пан слушал, похитители с панской дочкой уже были у попа и уговаривали его повенчать молодую пару. Потом пан спохватился, но уж поздно было – дочка не его. Погневался старый, поругался, да ничего не поделаешь – принял зятя к себе. Только попа этого из села выжил, а вместо него зятя поставил.
– Теперь он уже благочинный! – закончил рассказ Довбня.
Наталья Николаевна тяжело вздохнула. Ее взволновало не то, чем стал герой рассказа, а то, как он украл дочку пана.
– Что ж, они раньше любили друг друга? – спросила она.
– Конечно. Записки передавали через слуг.
Наталья Николаевна еще больше разволновалась. «Пошлет же Бог такое счастье людям! И почему оно ей не выпало?» – думала она.
– А должно быть, весело и вместе с тем страшно удирать? – сказала она.
– Не знаю, удирать никогда не приходилось, бабой не родился.
Наталья Николаевна засмеялась.
– С такими усами, да бабой… – сказала она.
Довбня только глядел, как она колыхалась от смеха.
Чай выпили.
– Что ж теперь будем делать? – сказал Проценко. – Жаль, что Лука Федорович не взял с собой скрипки, а то бы вы услышали, как он играет.
– В другой раз без скрипки не приходите! Слышите! – сказала она и начала вполголоса напевать.
– Давайте споем! – предложил Проценко.
– Давайте! – поддержала попадья. – И вы, Лука Федорович, подтягивайте.
– Если песня мне будет знакома, то можно, – ответил Довбня, закуривая папиросу.
– А какую запоем? Давайте те, что у вас пели, – предложила Наталья Николаевна.
– «Выхожу один я на дорогу»? – спросил Проценко.
– Да, да… Лермонтова! Как я люблю Лермонтова! Страх! А при жизни, говорят, его не любили. Вот глупцы! Ах, если бы он теперь был жив!
– Так еще б насмеялись над ним, – заметил Довбня.
– Не признали бы? Правда ваша, Лука Федорович! – сказала попадья. – Сколько непризнанных талантов гибнет!
Только запели «Выхожу…», как в комнату вошел отец Николай и, не поздоровавшись, начал басом подтягивать. Он не прислушивался к поющим и пел сам по себе, не в такт. Видно, обильное было угощение на крестинах! Попадья, услышав этот разнобой, умолкла, за нею последовал и Проценко; один Довбня настойчиво подпевал попу, а тот, красный как рак, пыжился и ревел как бык.
– Да перестань! Слушать тошно! – крикнула попадья, затыкая уши.
– Не слушай… А как дальше? – обращается он к Довбне.
Довбня мрачно усмехнулся.
– Это уже конец, – сказал он.
– Конец? – спросил отец Николай. – Жалко.
Потом он бросился к Довбне, обнял его и расцеловал.
– Мы же с тобой старые друзья… вместе учились. Слышишь, Наталья… вместе учились. Он был только на старшем курсе… Отчего ж ты не пошел в попы? Эх, ты! Неуютное, братец, наше житье, но все же лучше, чем так слоняться. Жена, дети. Постой, соврал… детей нет и уж не будет… а жена? – Он хотел еще что-то сказать, но только мотнул головой и спросил Довбню: – Водку, братец, пьешь?
– Кто ж от такого добра отказывается?
– Эй, жена! Дай нам водки, закуски, всего давай! Что есть в печи, все на стол мечи! А я с вами не поздоровался, – вдруг спохватился он. – Простите! – И, бросившись к Проценко, обнял его.
– И это добрый человек, – сказал он, обращаясь к Довбне. – Хорошие теперь люди пошли, все как есть! А отчего ж его моя жена любит? Этого бородатого? Вишь, какой он… Дай в бороду поцелую… А ты, жена, гляди, как-нибудь наши бороды не перепутай… еще, чего доброго, в него вцепишься руками.
– Что ты мелешь? – укоризненно сказала Наталья Николаевна. – Напился, а теперь несет Бог знает что.
– Правда… напился… Нельзя было… кум… Постой, кто же кумом-то был?… Никак не вспомню… Вот это пивка… всех перепил. Не сердись же на меня, женушка, дай свою белую рученьку, приложи к моему горячему сердцу… Дай поцелую твои глазоньки ясные… как это в песне поется… как соленый огурчик.
Попадья торопливо отшатнулась – от него нестерпимо несло винным перегаром.
– Ты б хоть чужих людей постыдился.
– Какие это чужие? Они, брат, свои… А хоть бы и чужие… Кто ж ты у меня? Ты ж у меня первая и последняя! Не сердись, дай нам водочки… – и он сделал такую уморительную гримасу, что все от души захохотали.
Отец Николай смеялся со всеми и, подпрыгивая на одной ноге, выкрикивал: «Водочки, водочки!»
– Где ж ее взять? – наконец сказала Наталья Николаевна. – Ты же знаешь, что дома нет. А послать… кого ж я пошлю?
– А Педору?
– Она мне уж и так нагрубила; я ей слово, а она мне десять.
– О, черт бы ее побрал! Педора! – крикнул поп, опускаясь на диван.
Прошло несколько минут, пока в комнату вошла растрепанная и заспанная Педора.
– Ты моя слуга? – спросил поп.
Педора молча сопела.
– Слуга, – спрашиваю? – крикнул поп.
– Говорите уж, что нужно, – почесываясь, сказала Педора.
– Вот что: если ты барыни не будешь слушаться, то я… тебе!
– За водкой, что ли, идти? – зевая, спросила Педора.
– А-а, догадлива, чертовка! – усмехнувшись, сказал отец Николай. – Ну, скажи мне, как ты догадалась?
– Лавочник сказал, что без денег больше не даст, – отрезала Педора.
– Черт с ним! Нехристь! Я тебя спрашиваю, как ты догадалась, что водка нужна?
– Так у вас же гости. Может, кто и выпить хочет.
– А ты хочешь?
Педора усмехнулась, вытирая нос.
– И я выпью, если дадите.
– Молодец! – похвалил ее отец Николай и начал рыться в кармане. – На тебе полтинник. Слышишь? Целый полтинник… Скажи шинкарю, чтобы полную кварту налил, да хорошей! Только не из нашей посуды, а у шинкаря чарку возьми… и только одну чарку выпей. Слышишь?
– Вот так у нас всегда, – жаловалась тем временем попадья Довбне. – Как видите… Нет того, чтобы сделать прислуге выговор, все отшучивается. Так он и портит прислугу, и они не слушаются.
– Тебя слушаться, так надо на части разорваться, – огрызнулся отец Николай. – У тебя сразу десять дел: подай, Педора, это, на тебе то, беги за тем и не забудь о том!.. Нет, какая ты хозяйка!
– О, зато ты мудрый хозяин!.. Слоняться по чужим домам да есть, что дадут, – запальчиво произнесла Наталья Николаевна.
– У нас служба такая, – ответил отец Николай. – Мы, и слоняясь по чужим, не пропадем, а ты дома с голоду околеешь.
– С таким хозяином… – сердито сказала попадья.
Отец Николай махнул рукой.
– Не слушай ее, – обратился он к Довбне. – Женщины, брат, и черта проведут! – сказал он шепотом, но так, что все слышали.
Наталья Николаевна укоризненно посмотрела на мужа, поджала губы и молча опустилась на стул. Ее щеки пылали от гнева, глаза нахмурились.
Отец Николай потирал ладонями колени и беспричинно хихикал.
– Как придурковатый, – сквозь зубы процедила попадья.
– Вы сердитесь? – подойдя к ней, спросил Проценко.
Она молча взглянула на него. Нижняя губа ее дрожала… Довбня мрачно глядел на все это, а поп хихикал. Наступила гнетущая тишина, как перед бурей.
Быть может, и в самом деле разразилась бы буря, но в это время пришла Педора. В полушубке, накинутом на плечи, закутавшись так, что из-под платка только торчал нос, она ввалилась в комнату, грохоча своими огромными башмаками; подойдя к столу, она вынула из-под полы бутыль с водкой и, встряхнув ее, сказала:
– Самый смак!
Проценко засмеялся.
– Чего смеешься? – сказала Педора.
– Молодец ты у меня, молодец! – сказал поп. – Тащи только скорее чарку и чего-нибудь закусить.
Педора кашлянула, вытерла нос и молча ушла.
Вскоре она вернулась, неся в одной руке чарку, а в другой тарелки с жареной рыбой, солеными огурцами и хлебом. Отец Николай оживился, но, взглянув на жену, которая сидела надувшись как сыч, сел за стол и, обведя всех глазами, снова захихикал.
– Как здоровье вашей кумы? – спросила Наталья Николаевна у Проценко. – Я никак не соберусь к ней!
– Да потому, что вы долго собираетесь.
Она что-то хотела ответить, но отец Николай ее перебил:
– А может, ты бы нас, Наталья, попотчевала?
– Если не поднесете, я и пить не стану, – сказал Довбня.
– Почему же? – спросила она.
– У женщин рука легкая… Легко водка проходит, не застрянет в горле.
– О, у меня рука тяжелая, – сказала попадья, сжала свою руку в кулак и подняла ее вверх.
– Ваша? – насмешливо спросил Довбня. – А ну, покажите?
– Что ж вы там увидите? Разве вы знахарь?
– Знахарь.
Попадья разжала кулак и протянула руку Довбне. Тот бережно взял ее за кончики пальцев и, наклонившись вперед, разглядывал линии на ладони.
– Долго мне жить? – спросила она.
– Сто лет! – крикнул Довбня, потом прижал ее ладонь к своему уху. – Прижмите крепче! – сказал он.
– Вы и в самом деле точно знахарь, – защебетала она. – Что же вы там услышите?
Довбня не ответил. Потом поднял голову, снова взял ее руки и, улыбаясь, смотрел в глаза Наталье Николаевне. Он чувствовал, как пульсирует кровь в ее жилах.
Попадья вдруг весело засмеялась. Поп, подпрыгнув, крикнул:
– Магарыч! Магарыч!
Один Проценко стоял грустный и пристально глядел то на Довбню, то на попадью. Он видел, как загорелись ее глаза, как побелевшее лицо снова медленно покрывалось румянцем.
– Колдун! Колдун! – крикнул поп, бегая по комнате и радуясь, что Довбня развеселил Наталью Николаевну. – За это надо выпить! Ей-Богу!
– Что ж вы там услышали? – допытывалась Наталья Николаевна у Довбни.
– Поднесите! – сказал Довбня, указывая на бутылку.
Попадья схватила чарку и, наполнив ее, поднесла Довбне.
– Капельку! Одну капельку! – и он отстранил чарку.
Попадья отхлебнула с полчарки и поспешно долила. Довбня залпом опорожнил ее.
– Всем, всем наливайте! – крикнул он.
Наталья Николаевна неприязненно взглянула на Довбню.
– И вам, Григорий Николаевич? – перевела она взгляд на Проценко.
– Всем! Всем! – не унимался Довбня.
– Мне немножечко. Я не пью, – сказал Проценко.
– Надо делать так, как велит знахарь, – сказала попадья. Выпитая водка уже давала себя знать – у нее разгорелись щеки, заблестели глаза, шумело в голове.
– Не все то правда… – начал Проценко, беря чарку.
– Или не каждому слуху верь! – перебил его Довбня.
Проценко укоризненно посмотрел на него.
– Да вы в самом деле говорите как знахарь. Даже страшно делается, – откликнулась попадья.
Проценко отхлебнул немного водки, скривился и поставил чарку на стол.
– А мне? – сказал отец Николай.
– И тебе еще? Мало на крестинах выпил? – спросила попадья.
– Всем! Всем! – крикнул Довбня.
Попадья налила чарку отцу Николаю; тот торопливо выпил и поцеловал донышко.
– Правильно! – крикнул Довбня.
– Что же вы услышали? – спросила его попадья.
– А вы хотите знать?
– Конечно, хочу.
– И не рассердитесь, если правду скажу?
– Только правду.
– Ну, слушайте.
Все насторожились.
– Нет, сначала налейте еще по чарке, – сказал Довбня.
У попадьи еще больше разгорелись глаза, под ними еле заметно синели круги. Она схватила бутылку и налила Довбне и мужу. Проценко отказался. Он смотрел, как Довбня неуверенно ходит по комнате; прядь волос у него упала с головы на лоб, но он этого не заметил. Видно, что и его уже начал разбирать хмель.
– Только, чур, не сердиться! – обратился Довбня к попадье.
– Микола! Признавайся! – сказал он затем попу и что-то прошептал ему на ухо.
Отец Николай расхохотался. Проценко сильно встревожился. «Ну, теперь пойдет!» – подумал он, глядя на попадью. Но та игриво и выжидательно смотрела на Довбню.
– Признавайся: давно? – вслух допытывался Довбня.
– Да ну тебя, такое выдумал! Не надо… Давай лучше выпьем, – отмахиваясь, сказал поп.
– Ну, а если давно, то что будет? – спросила попадья.
– Сын будет, – крикнул Довбня.
– Браво! Браво! – Поп захлопал в ладоши и бросился обнимать Довбню.
Наталья Николаевна застенчиво улыбнулась, опустила глаза и искоса взглянула на Проценко; тот мрачно поглядывал на попа и Довбню.
– Нам весело, а тебе грустно, – тихо сказала она и громче добавила, указывая на Довбню: – Смотри, какой он приятный, веселый, разговорчивый, не тебе чета.
Проценко еще больше нахмурился.
– Ты сердишься? – шепнула ему чуть слышно. – А что, если Довбня угадал?
Проценко увидел, как у нее дрожали руки и горели глаза от возбуждения; ему казалось, что она вот-вот бросится ему на шею. Он торопливо отошел от нее и обратился к попу:
– А знаете, что Наталья Николаевна говорит?
– Григорий Петрович! – крикнула попадья, топнув ногой. – Рассержусь! Ей-Богу, рассержусь!
– Наталья Николаевна говорит… – продолжал Проценко.
Попадья, словно кошка, метнулась к нему и обеими руками зажала ему рот.
– Наталья Николаевна говорит… что надо выпить еще по одной, – с трудом выговорил Проценко.
– Правильно! Правильно! – загудел Довбня.
– Можно выпить, – поддержал поп.
– И я! И я! – сказал Проценко и выпил полчарки.
Довбня и поп не заставили себя ждать и осушили по полной.
Всем стало весело. В комнате не умолкал шум, хохот, крик. Поп просил Довбню запеть аллилую, а тот, слоняясь по комнате, жужжал, подражая жуку. Проценко забился в угол, а попадья носилась взад и вперед по комнате, не раз толкала его в бок, хватала за руки.
– Давайте играть в карты! – крикнула она и бросилась за картами.
Уже начали играть, но тут поп поднялся, сильно пошатываясь.
– О-ох, спать хочу! – крикнул он и ушел в другую комнату.
Гости тоже собрались уходить.
– Куда вы? Пусть он спит, а вы посидите, – просила попадья.
– Пора! Пора!
Довбня выпил еще на дорогу и, ни с кем не прощаясь, направился в кухню.
– Не ходите туда! Я вас провожу другим ходом, – крикнула попадья.
Довбня, словно не расслышав, посмотрел на нее, махнул рукой и, накинув на плечи пальто, вышел из комнаты.
– Отчего ты сегодня был таким невеселым? – спросила попадья в сенях, провожая Проценко. – Голубчик мой! И выпала мне горькая доля коротать век с нелюбимым мужем!.. Когда ж ты придешь? Приходи скорее, а то я с ума сойду.
Проценко молча освободился от ее жарких объятий. Он сам не знал, почему попадья сегодня оказалась неприятной. Ее намек о сыне словно холодной водой обдал его. Он и выпил лишнее, чтобы забыться, но это ему не удавалось. Одна мысль одолевала его – поскорее вырваться из этого запутанного положения. Холодный воздух освежил Проценко, и он облегченно вздохнул. Среди двора он натолкнулся на Довбню, топтавшегося на одном месте.
– Кто это?
– Я… – крикнул Довбня и добавил еще крепкое словцо, от которого Проценко передернуло. – Рукава пальто никак не найду. Не оторвали его?
Проценко засмеялся, помог Довбне одеться, взял его под руку и повел со двора.
Было уже далеко за полночь, на темном небе ни одной звездочки, вокруг – густая неприглядная темень. Холодная осенняя изморозь заставляет поеживаться; на улице – глухая тишина; редкие фонари желтеют во тьме мутными дисками.
– Куда ж мы идем? – спросил Довбня, останавливаясь среди улицы.
– Куда, как не домой, – ответил Проценко.
– Зачем? Я не хочу домой.
– А куда же?
– Хоть к черту в болото, лишь бы не домой.
– Почему?
– Почему?… Эх, брат! – продолжал Довбня, опираясь на Проценко. – Ты ничего не знаешь, а я знаю… Я все тебе расскажу, все… Ты видел у нас девку Марину? И – черт его знает – подвернулась она мне под пьяную руку. Случился грех… ну… а теперь проходу не дает… Женись, говорит, на мне, а то повешусь или утоплюсь… Видишь, куда гнет… Казацкими нагайками меня б надо за это пороть! – крикнул он, топнув ногой так, что вода из лужи обдала их фонтаном. – Какой это черт плюется? – ворчал он, вытираясь. – А все-таки она, брат, красивая! – закончил он неожиданно.
«Сам черт не разберет этого Довбню! – подумал Проценко. – Что ему нужно? Сам виноват».
– Ты не первый и не последний, – сказал он.
– То-то и есть! Жалко, брат, девку. Либо женись, либо вместе с нею топись.
– Жениться! Что ж, она тебя в самом деле любит?
– А черт ее батьку знает… Баба, брат, верна до тех пор, пока кто-нибудь ее пальцем не поманит.
– Ну, не все такие, – возразил Проценко.
– Все! – сказал Довбня. – Все одним миром мазаны! Такая уж это порода… А все-таки жаль девку, пропадет ни за что ни про что! Пойдет по рукам и умрет где-нибудь под забором.
– Ну, это уж твое дело; как хочешь, так и делай…
Они как раз дошли до перекрестка, где дороги их расходились. Проценко нужно было свернуть направо, а Довбне идти прямо через площадь.
– А что бы ты сделал на моем месте? – спросил Довбня.
– Не знаю, не бывал в таких переплетах.
– И желаю тебе в них не попадать. Самое худшее, когда разрываешься пополам… Этот, – Довбня ткнул себя пальцем в лоб, – говорит: наплюй на все! Так уж на свете повелось, что один другого поедает… А вот это глупое, – он положил руку на левую сторону груди, – разрывается от жалости… Тьфу!
Проценко зевнул.
– Зеваешь? Спать хочешь?
– Уже пора.
– Так идем.
– Тут наши дороги расходятся, – сказал Проценко.
– Тогда прощай, – сказал Довбня и собрался уходить. – Впрочем, постой!
– Что еще?
– Хорошие, брат, люди – поп и попадья. Она больно хороша… Как ты думаешь?
Довбня еще ляпнул такую непристойность, что Проценко только плюнул и, не отвечая ему, поплелся дальше.
– Молчишь?… Знает кошка, чье сало съела, да помалкивает! – вслух бормотал Довбня. Он шел один по пустынной площади, часто спотыкаясь, принимая блестевшие лужи за дорогу, и, увязнув, сердито ругался и снова плелся вперед.
А Проценко, оставшись один, вздохнул свободнее. Он опасался, что Довбня попросится к нему на ночлег. Пьяный будет выкомаривать всю ночь напролет. Хорошо бы еще о чем-нибудь путном, а то про эту шлюху… Вот мучается человек. А отчего?
Проценко начал перебирать в памяти слова Довбни о его переживаниях, о разладе между умом и чувством. «Странно!» – думал Проценко; он удивлялся не тому, что случилось с Довбней, а тому, что вообще такое бывает. Ничего подобного в своей жизни он не припомнит; всегда ему улыбалось счастье. Только один раз закружил его водоворот, да и то он не попал на дно, а быстро выплыл наверх, на тихие волны, которые понесли его к надежной пристани, и в душе только сохранились смутные воспоминания о заблуждениях молодости. Больше это не повторится! Нет, не повторится!
«Жизнь – удача, – думал он. – Бери от нее все, что она дает; ничто не вечно; не жалей о том, что миновало тебя, но не зевай, когда оно плывет тебе в руки».
Непроницаемая ночная темень, глухи и безлюдны улицы. Ничто не мешало Проценко всецело отдаться своим мыслям, и они окружили его шумным роем. Он сравнивал вчерашний вечер с сегодняшним. Как хорошо и весело было вчера! Игра Довбни согревала сердце, а сегодня его жжет поповская водка; вчера любовался красотой Христа, а сегодня с души воротит от приставаний попадьи. Это откровенное бесстыдство на глазах у людей… – Он даже вздрогнул. – …А Христя совсем другая: робкая, стеснительная, только порой лукавый взор выдает ее… Бьется сердце, чего оно хочет?… Он и не заметил, как очутился около своего дома. Всюду темно. Он постучался в кухонное окно.
– Сейчас, сейчас! – донесся до него тотчас же чей-то голос из кухни.
«Кто же это? Христя или Марья? Лучше, если б это не была Марья».
Пока он обогнул дом и дошел до двери, она уже была распахнута, а в сумраке белела чья-то фигура.
– Ну, идите скорее, – раздался голос Христи. Его словно что-то укололо.
– Это ты, Христя? Моя голубка. И встать не поленилась, – сказал он тихо и, обняв ее, поцеловал в щеку.
– Что вы? Господь с вами! – прошептала Христя.
Проценко казалось, что она к нему еще ближе приникла. Он ощущал ее горячее дыхание.
– Сердце мое! Христиночка!
Как безумный, прижал ее Проценко к груди, покрывая поцелуями лицо, губы, глаза.
– Довольно… Еще Марья услышит, – прошептала Христя.
– Ягодка моя наливная!.. – Он ласкал ее все с большей горячностью.
– Идите, я сама запру, – сказала она громко. Он ушел в свою комнату, а Христя снова забралась на печь.
Неожиданная ласка и поцелуи еще долго не давали ей успокоиться, и она не могла уснуть. Необычное, никогда не изведанное волнение овладело ею. Ей хотелось смеяться и плакать.
«Неужели он, паныч, за которым гонятся барышни всего города, меня любит?… Неужели эта попадья, которая, говорят, хороша, как картинка, хуже меня? А я, простая девка, понравилась ему?… Странно!.. И пани к нему льнет… а ведь и она недурна собой… Значит, я для него красивей? Господь его знает! Может, ему захотелось поиграть мною да посмеяться, а я ему верю? – Неожиданный приступ тоски овладел ею, словно острые когти вонзились в сердце… – Нет, нет! Что-то здесь не так… Отчего ж так горячи его объятия?»
До самого рассвета не сомкнула глаз Христя, то млея от неожиданного счастья, то тоскуя от тревожных дум и не находя себе места от беспокойства и томления.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Наутро Христя не знает, за что ей взяться. Ощущение чего-то хорошего и вместе с тем дурного не покидает ее. То вдруг подкрадывается страшная тоска… А что, если кто-нибудь слышал, как они в сенях целовались! И люди узнают? Вот, скажут, это девка! С панычом целуется!.. И Христя чувствует, как горят ее щеки; она не знает, куда девать глаза от стыда, словно все, глядя в них, при свете дня, догадываются о ее тайне. И зачем этот день так быстро настал? Лучше б уж ночь была подольше… Потом снова становится легко на сердце, какая-то смутная надежда согревает его. Ну, а хоть бы кто и увидел? Сделала что-нибудь дурное? Ничего же! Никому! Пусть он целовал ее… Так она в этом неповинна… А если он любит ее? В самом деле – любит?… Бог его знает! Может, меня до сих пор Бог карал лихом и напастями, чтобы теперь вознаградить счастьем и покоем?… Может, счастье мое пришло?
Нелегкую задачу поставила жизнь перед Христей – решай! Трудную задачу – попробуй, отгадай! И до сих пор судьба не щадила ее, поворачиваясь к ней спиной, а теперь уж так взяла ее за живое, так распалила сердце до самой глубины, взбудоражила покой, взбунтовала крылатые думы. Недаром они осаждают ее, как ярые враги. И Христя сама не своя; то надолго уставится в одну точку, то сидит неподвижно, точно к месту приросла.
– Христя! – окликает ее Марья.
А она и не слышит.
– О чем ты так задумалась? – спрашивает Марья, смеясь и пристально глядя на Христю.
Христя вся заливается краской, точно ее уличили в чем-то дурном.
– Чего ж ты грустишь? – допытывается Марья.
Ну и бедовые глаза у Марьи! Христя чувствует, как они, точно шило, до самого сердца доходят! «И что ей от меня нужно? Отчего она следит за мной? Мать она мне? Или старшая сестра? Чего же ей хочется?» – так думает Христя и чуть не плачет от досады; она была бы рада, если б в это время весь свет провалился и она осталась одна-одинешенька со своей тоской, со своими неспокойными мыслями.
В том-то и беда, что так не бывает, как хочется!
С утра, пока Христя с Марьей вдвоем на кухне, она еще как-нибудь старается отделаться от назойливых расспросов. А когда пани придет? А если паныч позовет ее подать ему умыться? Она никак не может себе представить, что тогда будет. От одной этой мысли силы ее покидают… «Господи! Что ж это со мною стало? – думает она. – Не караешь ли ты меня за то, что я третьего дня насмехалась над любовью?…»
Тут дверь в кухню скрипнула, и на пороге показалась пани. Неумытая и заспанная, она сердито крикнула:
– Что вы тут топчетесь? Почему ставней не открываете?
Христя стрелой полетела во двор, но в сенях вспомнила, что не отбросила крючков на пробоях. Она быстро вернулась – и начался стук в комнатах. Бегая от одного окна к другому, Христя гремела стульями, натыкаясь на углы столов, и, не чувствуя боли, неслась дальше.
– Что ты тарахтишь, как оглашенная? – прикрикнула на нее Пистина Ивановна.
Христя замерла на месте.
– Чего стала? – снова крикнула хозяйка.
Христя побежала во двор.
Утренняя прохлада немного остудила ее. Христя вернулась в комнату успокоенной. Марью она встретила на пороге; та собралась на базар, и это еще больше успокоило Христю.
«Если уж совсем невмоготу станет, спрячусь», – подумала она и принялась за свою обычную работу. Так продолжалось до тех пор, пока не раскрылась дверь из комнаты паныча.
– Христина! Дайте мне умыться, – произнес он тихо своим обычным голосом. Христю затрясло.
Черпая воду из кадки, она не заметила, что набрала только половину кувшина; побежала в комнату к панычу, а таз взять забыла. Метнулась обратно, наполнила кувшин, глубоко вдохнула холодный воздух и, уж ни на что не глядя, словно ее вели на казнь, вошла к нему в комнату.
Она чувствует, что паныч смотрит на нее, боится поднять глаза.
– Что это вы сегодня как в воду опущенная? – спросил он, склонившись над тазом.
Она молча млела под его пристальным взглядом.
– Да умойтесь же, – сказала она умоляюще.
Он вздохнул и подставил руки.
У ней появилась такая горькая жалость к себе, что рыдания подступили к горлу. Она и сама не знала отчего.
Льет воду, не видя куда; слезы, точно туман, застилают глаза, и сквозь пелену что-то розовое мелькает перед ней. Она догадывается, что это его руки. Она бы так без конца лила воду на маячившее перед нею розовое пятно, если бы паныч не сказал:
– Будет!
Торопливо взяв таз и кувшин, она выбежала из комнаты. Ей стало легко, когда она одна очутилась на кухне: стыд не жжет глаза, пристальный взгляд не смущает сердце.
Когда Григорий Петрович позавтракал и ушел на службу, ей стало совсем легко, словно уплыло облако, скрывающее солнце. Она усердно принялась за работу. Марья и пани стряпали, а она убирала комнаты. Где уж там предаваться раздумью, когда работы столько, что не оберешься! Она носилась как угорелая, чтобы всюду поспеть. А уж когда убирала комнату Григория Петровича, старалась и пылинки нигде не оставить; аккуратно расставила безделушки, и подушки так взбила, чтоб нигде не было ни морщинки, ни складочки.
«Когда вернется домой и увидит, что всюду так чисто и красиво, он, верно, догадается, кто к этому руки приложил», – подумала она, вздохнув.
Христя чувствует себя совсем спокойной и счастливой. Жизнь ей улыбается, манит ее какими-то неизведанными чарами, влечет радужными надеждами. Все, что ее угнетало и печалило, рассеялось. Ее тайна не разоблачена, никто ни о чем не догадался. Все страхи были напрасны. А вспоминание о ночных объятиях снова греет девичье сердце. Ей стало так весело, что она запела бы, если б никого не было дома. А тут как раз нужно было сбегать в погреб за картофелем. Уже спускаясь в погреб, она начала тихо напевать, а когда очутилась на дне, запела во весь голос. Тесно звонкому девичьему голосу в этой глухой яме, он силится вырваться наружу и все больше крепчает. Песня словно сама льется из ее сердца, и голос не знает усталости – ровный, высокий и звонкий.
До самого обеда оставалась она веселой. И когда вместе с паном пришел Григорий Петрович, она, прислуживая за столом, уж так не робела, как утром. Порой на него украдкой глядела… Какие у него ясные глаза! Какие брови черные! И все в нем так невыразимо влечет ее сердце!
Когда хозяева пообедали, Христя с Марьей тоже сели поесть. Христю так и подмывает заговорить о Григории Петровиче. Ей хочется поболтать с Марьей, но та грустна, молчалива.
– Не встречали вы где-нибудь Марину, тетенька? – спросила Христя.
– Носишься ты с этой Мариной. Я думала, что она в самом деле порядочная, а она – черт знает что.
– Почему же?
– На содержание идет.
– На какое содержание?
– Паныч один берет ее к себе в село.
– Нанимается она, что ли?
– Нанимается… с панычом спать.
Христя поняла. Она нахмурилась, а Марья ехидно улыбается. «Ну, и злая стала эта Марья! С того времени, как расплевалась со своим фельдфебелем, она ни о ком доброго слова не скажет; кто что ни сболтнет, она тотчас же подхватит, да еще и от себя прибавит, – думала Христя, соображая, как бы ей самой наведаться к Марине. – Сегодня суббота, а завтра воскресенье… праздник. Не сходить ли к ней? – Она запомнила двор, в котором живет Марина: когда ходила на базар, видела. – Раньше управлюсь, пойду засветло, как раз поспею…»
– Тетенька, вы завтра поставите самовар, если я отпрошусь на вечер к Марине? – спросила Христя.
– А что? Наведаться хочешь?
– Да надо ж ей монисто отнести.
– Неси! – нехотя ответила Марья.
Остаток дня и вечер прошли незаметно. Паныч куда-то ушел; пани сидела в спальне. Марья забралась на печь, а Христя выбирала платье на завтра.
Она засиделась. Уж и пани спать легла, и паныч вернулся, – лицо у него было сердитое, – а Христя все еще возилась. Легла она очень поздно, быстро уснула и проспала до утра.
В воскресенье после обеда она пошла просить хозяйку.
– Отпустите меня, барыня.
– Куда?
Христя сказала.
– Иди, иди, ты ж ненадолго.
– Да хоть бы на всю ночь, – смеясь, сказала Марья. Пани тоже засмеялась и ушла к себе в комнату. А Христя обиделась.
«На всю ночь! – думала она. – Разве я такая, как она, что уйду на всю ночь?»
Солнце, вынырнув из облаков, закрывавших его почти всю неделю, осветило город. Кругом громоздились тучи, синие, как печенка или запекшаяся кровь; словно они сердились, что кто-то освободил из их плена огненный диск, который теперь спокойно катился к горизонту, собираясь на покой. От багрового сияния лужи казались озерами крови, на западе разгорался костер. Каким-то печальным и неприветливым выглядело все от этого кровавого отблеска – будто должно было вот-вот произойти что-то страшное.
По дороге к Марине к Христе снова незаметно подкрались мрачные мысли.
В большой кухне, немазаной и неподметенной, тускло освещенной лучами заходящего солнца, она застала Марину в полном одиночестве. Непричесанная, в старом, засаленном платье, сидела она у окна, подпершись рукой. По ее покрасневшим глазам видно было, что она недавно плакала.
– Марина! – крикнула Христя. – Что с тобой? У людей праздник, а ты в таком виде! Одевайся скорее, пойдем погуляем, пока солнце не зашло, на людей хоть посмотрим.
– Нашла время – на улице такая грязь, – грустно произнесла Марина.
– Так это посередине, а на тротуаре много на-роду.
– Ну их! Пусть гуляют! – махнув рукой, сказала Марина.
– А что с тобой? Что-нибудь случилось? От матери плохие вести? Умерла? – спрашивает Христя.
– Лучше б умерла.
– Господь с тобой! Что ты говоришь? Расскажи, что случилось?
Марина молчала.
– Может, из-за сплетен? Боишься, чтоб мать не узнала?…
– А что люди говорят?
– Да мало ль… я б им языки отрезала. Говорят, будто ты к какому-то панычу идешь…
– Пусть выдумывают…
Некоторое время обе молчали.
– Я тебе монисто принесла, – сказала Христя. – Возьми, – и она положила его на стол.
Марина с ненавистью взглянула на него.
– Какое оно мое? Пусть он им подавится! – крикнула она, швырнув монисто на пол.
Христя удивилась. Она никогда еще не видела Марину такой сердитой и неприветливой. Собиралась погулять с ней, поговорить. А что застала?… Сердце у Христи еще больше заныло! Она не решалась больше расспрашивать Марину и молча села.
Солнце садилось. Режущий глаза оранжевый свет заката стлался по облупленным стенам, неметеному полу – казалось, что это отсветы зарева близкого пожара. Фигура Марины, словно черный призрак, все ниже склонялась над столом, точно ее гнула невидимая тяжелая ноша. И вдруг она заплакала навзрыд, припав головой к столу.
– Господь с тобой! Что это на тебя нашло?
Марина рыдала.
– Ну, послушай, успокойся. Расскажи, что с тобой случилось? А то уйду. Ей-Богу, уйду, – повторяла Христя.
Марина подняла голову, взглянула на Христю заплаканными глазами; словно провинившаяся девочка, просила она подругу не уходить. Казалось, глаза ее говорили: «Взгляни на мои слезы. Разве они напрасно льются? Горе мое тяжкое их разливает! Подожди же, пусть оно хоть немного уляжется, и я все тебе расскажу… Не покидай меня!»
Христя подошла ближе к Марине и начала ее утешать. Она перебирала различные случаи из своей жизни, вспоминала забавные происшествия в селе, общих подруг. Речь ее лилась, как весело журчащий поток. Если бы рядом была прежняя Марина – они бы вместе без умолку смеялись. Но нынешняя слушала молча, с плотно сжатыми губами, и только изредка по ним пробегала страдальческая улыбка. Напрасно Христя старалась! Столько горечи и отчаяния она видела в лице подруги, что сердце ее обливалось кровью.
Смеркалось. Угасло закатное зарево. В углах кухни и за печью сгущалась темнота.
Христя собралась уходить.
– Подожди, – упрашивала ее Марина. – Посиди еще немного. Хозяев нет дома. Видишь – одна я… Хочешь, самовар поставлю, и напьемся чаю.
– Мне страшно будет одной возвращаться.
– Я провожу.
– Ну-ну!
Христя согласилась. Марина вышла в сени поставить самовар.
Быстро надвигалась ночь, и кухня казалась Христе мрачным погребом, а не людским жильем. Даже страх закрался в ее душу. Вдруг скрипнула дверь, раздались чьи-то шаги в сенях.
– Для кого ты самовар ставишь? – произнес чей-то знакомый голос.
Молчание.
– Марина! Ты сердишься? Глупая! – бубнит тот же голос, и снова слышатся шаги, стук дверей.
Через минуту вошла Марина.
– Кто это говорил с тобой?
– Он! – отрывисто произнесла Марина.
– Кто он?
– Да этот проходимец!
– Говори толком! Я ничего не разберу.
– Ну – бродяга! Чтоб он, собачий сын, с кругу спился!
– Да кто же это?
– Паныч! – чуть не вскрикнула Марина.
– За что ты его так честишь?
– Я еще не то ему сделаю, пьянице проклятому. Он думает, что ему это так сойдет с рук – обманывать, с ума сводить. Он думает – если одежу мою забрал, то я и не уйду! Пусть найдет себе другую дуру! – раздраженно выкрикнула Марина.
– Так это все правда?
– Правда! Но и на моей улице когда-нибудь праздник настанет, – сердито произнесла Марина, потом зажгла свет и пошла в сени поглядеть на самовар.
Христя сидела понурившись, расстроенная невеселыми мыслями, пока Марина не напомнила о себе звоном посуды. Она снимала с полки стаканы и блюдца. Христя подняла голову и взглянула на подругу – та показалась ей сгорбившейся, словно стала меньше ростом. Засаленное и рваное платье висело на ней мешком, растрепанные волосы свисали космами… «Господи! Как она изменилась! Аж страшной стала!» – подумала Христя и тяжело вздохнула.
Марина принесла самовар, заварила чай, потом налила два стакана.
– Пей! – сказала она, придвигая стакан Христе.
Та словно не слышала слов подруги.
– Христя! – громко окликнула ее Марина.
И вдруг она засмеялась.
– Чему ты смеешься?
– Надоело плакать.
Марина точно переоделась. Она начала весело щебетать. Прежняя хохотунья Марина снова ожила перед глазами Христи.
Горько усмехнувшись, Марина рассказала подруге свою грустную историю: когда полюбила этого ирода, как он обещал жениться на ней, а она и поверила ему.
– А тебе не страшно? – спросила Христя.
– Чего мне страшиться?
– А как же, если мать дознается? Или в селе услышат?
– Что мне теперь мать?… Жалко, что она будет убиваться… но что делать? Я – отрезанный ломоть. А в село не вернусь. Чего я там не видела? Да и зачем? Чтобы каждый в меня пальцем тыкал? Глаза колол? Не только света, что в окне – за окном его больше!.. Таких, как мы, теперь всюду много, Христя, и живут же… А после праздников пойду к панычу в село, сама хозяйкой буду. Черт его побери! Пошла жизнь вверх ногами – ну и пусть! А этому чертову сыну покажу. Теперь он снова льнет, уговаривает: «Оставайся, Марина!..» Пусть с тобой мое лихо останется! Что я тут? Прислуга – и все. А там хозяйкой буду. Свое хозяйство, корова, прислугу заведу… Приезжай когда-нибудь в гости, увидишь, какой я барыней заживу! Таких лохмотьев и на работнице моей не будет, – она указала на небольшую дырочку в своем платье и еще больше разорвала… – А если б ты видела, как он разорялся, когда услышал, что я уезжаю. Все мои вещи хватал, рвал и в сени выбрасывал – и смех и грех!.. Спятил, совсем спятил… – Марина жутко захохотала, как сова глухой ночью.
Христе страшно стало от этого смеха и какого-то зловещего блеска глаз подруги.
На некоторое время Марина умолкла, потом подняла голову и снова сердито заговорила:
– Ну, да и твой хорош!
– Кто мой? – пугливо спросила Христя, думая: неужели она намекает на паныча? Не может быть, чтобы она узнала…
– Да кто? Паныч твой. Вчера он был в гостях у нашего… Играли там, пели… Наш хлебнул и начал говорить, что ему жаль меня и он, должно быть, на мне женится. А твой и пошел его отчитывать: и мужичка она, и не ровня тебе! Что ты не первый и не последний; если б не ты, какой-нибудь солдат нашелся бы… Я лежу тут на нарах, и все мне слышно. И такое меня зло тогда взяло! Так бы, кажется, вскочила, вбежала к ним и глаза ему выцарапала! Мужичка! Не ровня!.. А он кто? Великий пан! Сам живет, как серый бродяга. Он и с людьми порядочными не встречается, все бы по шинкам слоняться. Я бы его, может, хоть от пьянства отучила… Не ты первый, не ты последний! Он знает, кто был первый? Солдат нашелся бы! Я бы ничего не имела против, чтобы солдат тебе шею свернул, когда ты от своей попадьи возвращаешься!
Марина становилась все более раздраженной.
Но вот скрипнула наружная дверь, и послышались чьи-то шаги. Марина умолкла. Звякнула щеколда, дверь распахнулась, и в кухню вошел Довбня.
– А, здравствуй! – сказал он, обращаясь к Христе. – Я и не знал, кто тут. Хороша! Не то что эта… – он безнадежно махнул рукой в сторону Марины.
– Избави Бог… – сердито сказала Марина.
– Кого? – спросил Довбня. – От лютости твоей? Ты всегда была злюкой и умрешь такой…
– Я знаю одного проходимца, который обрадовался бы, если б я сегодня померла, – сказала Марина еще более гневно. – Да если бы Бог слушал…
Христя сидела, как на горячих угольях, и ждала, что вот-вот начнется баталия.
– Дурного пастыря? – закончил Довбня мысль Марины.
– Конечно! – сказала она.
Довбня снова обратился к Христе:
– Вот видишь… Так всегда. Ну, разбери сама, кто из нас прав, кто виноват. Кто кого соблазнил?
Христя растерянно поглядывала то на подругу, то на Довбню. Она не знала, что ей сказать. На выручку пришла Марина. Укоризненно покачивая головой, она сказала:
– А кто у меня в ногах ползал? Руки целовал, пока своего не добился?
– Это дело давнее… – начал Довбня.
– Давнее? – перебила его Марина. Глаза ее сверкали, как отточенные лезвия ножа.
– А сегодня… сегодня кто виноват?
– Ну, а раньше?
– Да подожди, дай сказать… Ну, я виноват.
– А кто же еще?
– Ты! От тебя никогда толку не добьешься. К тебе приходишь с лаской, а ты с руганью встречаешь! Просишь, а ты чертыхаешься… Пусть будет по-твоему! Да ты подумала, как мы жить будем? И я вспыльчивый, и ты – огонь петрович. Тебе слово, а ты десять… Так мы порежемся, глупая…
– Теперь уж глупой стала, а небось раньше умной была.
– Всегда была такой! Только не показывала людям… А теперь всем видно, какой ты перец…
Марина не ответила, только тяжело вздохнула.
– Опять же и то, – снова заговорил Довбня. – Кто первый начал размолвку? К кому евреи каждый день бегают и шушукаются? Зачем они повадились, спрашиваю?
– Кораллы хочу купить.
– Ну, ладно, покупай. А выходит – уезжать надумала. Какой-то придурковатый полунищий панок соблазнился, к себе приглашает. И ты согласилась. Даже не спросила меня. А мне чужие люди об этом рассказали. Что ж это такое? Думаешь, легко мне было это выслушивать? Вот сама посуди… Что, если б ты уж была моей женой, а тут, откуда ни возьмись, какой-нибудь фендрик с улицы… и ты к нему бросишься на шею? Приятно мне было бы на это смотреть?
– Если б я была твоей женой… а теперь я кто?
– Жена! – крикнул Довбня. – Что не венчаны? Наплевать! Я сказал, что не брошу тебя, и слово свое сдержу. Ты первая пошла на разрыв. А если б ты была моей женой, то вот этими руками задушил бы тебя!
Наступила гнетущая тишина.
– Марина, – немного погодя заговорил Довбня, – ну, довольно… я тебе верну вещи… Все!
– Ну его к черту! – буркнула Марина.
– Уходишь? – грозно крикнул Довбня.
Марина молчала. Довбня подошел к ней ближе. Руки его дрожали.
– Знай, Марина, что это в последний раз! Слышишь?
Христя сидела сама не своя. Она опасалась, что это добром не кончится, – решительное и грозное выражение лица Довбни не предвещало ничего хорошего.
– Слышишь? – повторил Довбня.
– Слышу… – прошептала Марина.
– Знай же: возврата не будет! – сказал он и, пошатываясь, как пьяный, вышел из комнаты.
После его ухода стало еще более жутко. Свеча догорала; у облупленных стен сгущалась темнота; пол чернел, как пропасть; тяжелый сумрак окутал все, и только громадная печь белела, как утес среди черных волн. Марина молча сидела за столом. С минуту еще слышались удаляющиеся шаги Довбни. Христе казалось, что вместе с ним уходило навеки Маринино счастье…
– Ну и недобрая же ты, Марина! Злое у тебя сердце, – сказала она подруге.
– О-о, зато они добрые! Все они очень добрые! – крикнула Марина.
– Разве ты не видишь, как он любит тебя, как жалеет?
– Любит! – сказала Марина и сердито плюнула. – Вот цена их любви!..
– Ой, гляди, как бы ты не попала из огня да в полымя!
– Лучше не будет и… хуже не будет. Знаешь, как люди говорят: пусть хуже, лишь бы другой.
– Другой? – чуть не вскрикнула Христя. Она этого не ждала от Марины. Через месяц – уже другой? А потом – через неделю? Если бы она, Христя, полюбила кого-нибудь, то уж навеки… Слова подруги точно обухом ее по голове ударили. Христя еще немного посидела, но уже больше не говорила на эту тему, боясь услышать еще что-нибудь худшее от Марины.
Все уже спали, когда она вернулась домой. Несмотря на то, что Марина провожала ее, Христе было страшно на глухих, безлюдных улицах, где только мигали, точно кошачьи глаза, подслеповатые фонари. Зато на Марину какой-то стих нашел: она отплясывала гопака на тротуарах, насвистывала, дурачилась, словно пьяный бродяга.
«Сдурела Марина, совсем сдурела, – думала Христя, ворочаясь на нарах. – То плачет, то бушует, то невесть что вытворяет. Вот до чего эта любовь доводит. Неужели так со всеми бывает? Неужели и с ней так будет, когда она полюбит? Верно, будет! И Марья столько горя хлебнула от любви… И она предостерегала ее. Не хочу я знать тебя, не хочу выносить эти муки! Сколько ты людей изувечила, сколько душ погубила! Сохрани же меня, Матерь Божья, от этой напасти», – молилась Христя. А в сердце закрадывалось что-то неведомое и тревожное, и манило, и тянуло, точно в омут, вселяя то грустные предчувствия, то радужные надежды.
Неделю спустя Довбня пришел в гости к Проценко и рассказал ему, что Марина уехала. На глазах у него были слезы.
Христе стало жалко его.
– Нехорошая Марина, – сказала Христя Марье, – до слез паныча довела.
– Молодчина! – откликнулась Марья. – Так им и надо! Верти ими, пока ты молода и здорова. Немало наших слез выпили – пусть свои попробуют!
Христя только тяжело вздохнула.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Прошла еще неделя. Весть об отъезде Марины облетела весь город. Она носилась по улицам и базарам, наведывалась в панские дома и купеческие хоромы, не миновала и простых мужицких хат. Всюду говорили о ней, всюду будила она сонное обывательское житье.
Старые барыни осуждали молодого соблазнителя, который, получив недавно по суду имение, оставшееся в наследство от родителей, теперь прокучивал его. Купцы, потирая от удовольствия руки, горой стояли за паныча: когда же погулять, как не смолоду? Они надеялись, что вскоре его добро перекочует в их лавки. Им только жаль было Довбню, который убивается из-за такой непутевой девки. Подпаивая его, они то насмехались над его любовью, то советовали опомниться и стать человеком.
– Этого цвета полно на свете! – говорили они. Но, видно, их советы не утешали Довбню. Вскоре он совсем стал пропадать в шинках, пока не лишился и денег, и одежды. Оборванный и распухший от пьянства, слонялся он по улицам, выпрашивая у прохожих копеечку, чтобы опохмелиться. Провожая его грустным взором, кухарки и горничные говорили: «Любовь не картошка». А простые люди сурово глядели и на Довбню, и на молодого паныча, который рядом с разряженной Мариной мчался на бешеной тройке. «Подождите немного, – говорили они, – промотает он родительское добро, а потом рад будет, если прислуга его накормит хоть куском хлеба!»
Каждый судил по-своему. Одни рассуждали, подходит ли этот случай к стародавним обычаям, другие – принесет ли он пользу или вред. Но никто не заботился о человеке и не задавал себе вопроса: как бы я поступил на месте Довбни или Марины, если б очутился в их положении?
Одна Христя думала об этом. Ее, молодую и неопытную, волновали неразгаданные тайны сердца, будили в ней тревожные думы. Она видела, что жизнь толкает ее на тот же путь, который избрала Марина. Найдет ли она на нем свое счастье, или злая доля ожидает ее? Вот Марья говорит: молодец Марина, верти ими!.. А что будет, когда Марина потеряет здоровье и красоту? Не окажется ли она тогда сама у разбитого корыта.
Христе становилось страшно от этих мыслей. Страшно от того, что ждет ее впереди.
Ей казалось, что она стоит на шатких мостках среди широкой и глубокой речки. Вокруг бурлят и пенятся высокие валы, чернеет мрачная бездна… Стоит только на мгновенье заглядеться, потерять равновесие, и вмиг умчат тебя яростные волны, закружит водоворот и поглотит страшная пучина.
Всю эту неделю Христя была грустной и задумчивой, точно в ожидании неведомой беды. Она не прислушивалась к людским пересудам о Марине и Довбне, всецело поглощенная тревожными мыслями и новым зарождающимся чувством. С ней творилось что-то непонятное: ей становилось легко, когда Проценко по вечерам оставался дома, а когда он уходил, ее охватывала тоска, и она не находила себе места. Она не раз задавала себе вопрос: какое мне дело до того, куда он уходит? По мне – пусть хоть совсем не возвращается! Но в сердце что-то болезненно ныло и подсказывало, что он идет к ней, к попадье… И тяжелая тоска камнем давит душу. Она ложится спать, но сон нейдет… и ждет не дождется, пока он вернется, чтобы, не мешкая, открыть ему дверь. Верно, он скажет ей ласковое слово и сладко поцелует: столько наслаждения доставляют ей эти короткие свидания! Только теперь этого больше не будет. Теперь она приготовила для него другие слова. Он возвращается от одной, им обманутой, чтобы обмануть другую… К черту его, коли так!.. Вот что она ему скажет… А если он обидится и начнет ей мстить? Уговорит хозяев, чтобы они ее рассчитали? Куда она денется на зиму? Где найдет пристанище? Тут она уже привыкла, а в другом месте Бог знает что ждет ее… Что же ей делать? Умереть? Она еще так молода; но лучше смерть, чем такая жизнь… И мается Христя ночь напролет, не в силах прогнать эти горькие думы. Она боится кому-нибудь поведать о своих терзаниях. Да и кому? Марье?
Марья и сама ходит как в воду опущенная; пожелтела, осунулась; больше молчит или бранится. Все ей мешает, все не по ней – то в кухне не прибрано, и она ворчит на Христю. А начнет Христя убирать, уж она снова недовольна:
– Ох, уж эти мне чистехи!
– Чего ж вы, тетка, сердитесь? – спросит Христя.
Марья сердито сопит. За весь день словом не обмолвится, а вечером заберется на печь и уж до утра не слезает. Христя принимается за шитье, а Марья все ворочается на печи, тяжело вздыхает, втихомолку бранится, а порой и плачет.
– Хоть бы свекруху скорее черти взяли! – сказала она однажды Христе.
– И что тогда?
– Вернулась бы к мужу. Так все осточертело – не поверишь!
Христя промолчала.
В тот же вечер после ужина, когда Христя стелила постели в спальне, она услышала разговор хозяев.
– Марья дома? – спросил пан.
– Да, – ответила пани.
– Научил солдат ее дома сидеть… Что же она делает?
– Ничего. Лежит.
– Я не знаю, зачем нам две служанки, когда и одной делать нечего? – сказал пан.
– А готовить кто будет? – возразила хозяйка.
– Разве Христя одна не справится? Она же все делала, когда Марья уходила. А лишний человек одного хлеба сколько поест. Опять же и плата не малая. Лучше Христе немного прибавить.
Христя, стоявшая против открытой двери, заметила, как хозяйка потянула мужа за рукав, кивнув головой на соседнюю комнату. Пан немедленно прервал разговор.
Эта неожиданная новость сильно расстроила и огорчила Христю. Когда хозяева легли спать, она обо всем рассказала Марье.
– А ты думала, что они нами дорожат? – спокойно сказала Марья. – Я давно тебе говорила, что мы хороши, пока нужны, а нужда миновала, так хоть с голоду сдыхай, никто куска хлеба не подаст. Запомни это хорошенько. Хорошо живется только тем, кто ничего не делает или за деньги покупает чужой труд, а рабочему люду всюду одинаково. Такая уж наша доля проклятая!.. Что меня хотят рассчитать, я давно замечаю. Не знаю, почему они еще раньше этого не сделали. Мне все равно: свет клином не сошелся. Не у них только можно работать, а мне рук не занимать… А когда ты останешься одна, они уж тебя запрягут.
– Мне бы только год дотянуть!
– Год! – удивилась Марья. – А мал этот год? Им только это и надо. Потом прибавку тебе дадут, и ты останешься.
– Нет, ни за что, – решительно заявила Христя.
– А если и не останешься, то всю зиму и весну одной работать – надорвешься…
– Что же мне делать? – упавшим голосом спросила Христя.
– Как – что? Не соглашайся оставаться за одну и уходи.
– Что ж я им скажу?
– То, что все. Тебя же нанимали как горничную. А кухарить, скажи, не твое дело.
– А когда меня нанимали, мне ничего не говорили, какую работу придется делать.
Марья засмеялась.
– Чудна́я ты, право, – сказала она. – Ну, довольно. Пора спать.
Она умолкла и вскоре заснула.
А Христей снова овладели тяжелые думы. Она не знала, как избавиться от грозящей ей беды. Послушаться Марью, уйти? Сердце не соглашалось. Оно нашептывало, что, уйдя отсюда, она навсегда потеряет что-то дорогое, милое. Да где найти работу? Хорошо Марье: у нее всюду много знакомых, она знает город как свои пять пальцев, живо отыщет новое место. А кого она знает? Где ее защитники? Одна, одна как перст! И тут одной оставаться – не сладко будет… – Христя горько заплакала.
На другой день она встала с тяжелым сердцем. Сегодня, наверно, рассчитают Марью, и ей нужно немедленно на что-нибудь решиться.
Пока хозяева спали, она ходила как приговоренная к смерти.
Наконец она встала; Марью посылают на базар. О вчерашнем ни слова. Христе легче стало… А может, они только так поговорили, а потом и забудут про это?
Прошел другой день. Марья куда-то уходила на часок и быстро вернулась.
На пятый день Христя уже начала забывать об этой истории.
Наступила суббота. Христя встала рано, сильно утомилась и, как только повечерело, легла спать.
Марья сидела за столом и грызла семечки. В окна барабанил дождь, из панской спальни доносился смех – там разговаривала хозяйка с панычом. Видно, они вспоминали что-то веселое. Марья не прислушивалась к их разговору, она неустанно бросала в рот семечки, сплевывая шелуху. Ее уж набралось на столе целая куча. А мысли Марьи были далеко. Грустные они и безотрадные: одни горести и утраты возникали в ее памяти. Вспоминала тех, кого любила, и как они по очереди обманывали ее. Целая галерея прохвостов и проходимцев! Ложь, разочарование, горе и слезы – вот и вся ее молодость… Что же, научили они ее чему-нибудь? Предостерегли от дальнейших ошибок? «Какого черта!» – думает она. Вот и сейчас тоскует ее сердце, томится от одиночества… Хоть бы пришел кто-нибудь.
Вдруг что-то зашуршало в сенях. Вот звякнула щеколда. «Неужели ко мне?» – с тревожной радостью подумала Марья.
Дверь распахнулась, и в кухню вошел высокий плечистый мужчина. На нем синяя чумарка, перехваченная коломянковым поясом, серая смушковая шапка, прикрытая сверху башлыком; лицо круглое, румяное, глаза быстрые.
– Здорово! – сказал он, снимая шапку.
– Свирид! – вскрикнула Марья, бросившись к нежданному гостю.
– Он самый! – крикнул Свирид, притопнув ногой.
– Цыть! Не кричи так, – остановила его Марья. – Чего это ты?
– Тут у вас девка Христя?
– Какая?
– Христя из Марьяновки.
– Тут. Зачем она тебе?
– Необходимо видеть ее. Где она?
– Спит на печи.
– Так рано?
– Добрые люди уж давно легли спать… но скажи, зачем тебе понадобилась Христя.
– Нужна. Я давно слышал, что она здесь, а мы из одного села. Пришел проведать землячку.
– Нашел время.
– А когда же?
– В полночь пришел бы.
Свирид почесал затылок.
– Да я не из-за денег. Лишь бы Христя приняла.
– Примет, а как же? – смеясь, говорит Марья.
– А ты своего фидфебеля уже забыла? – спросил лукаво Свирид.
У Марьи сжалось сердце.
– Молчишь?
– Молчу, – зло ответила Марья. – Кабы у всех у вас язык отнялся.
– Чего ты сердишься? Не все одинаковы.
Марья только сверкнула глазами и сердито выплюнула шелуху.
– Разве я тебе не говорил раньше: ой, берегись, Марья; этот прохвост тебя с носом оставит.
– Будто ты лучше, – иронически сказала Марья, глядя на него.
– Все же не такой, как твой Денис.
– Брось, пока я тебе в глаза не плюнула. Вспомни Приську, Гапку, Горпыну…
– Это были забавы.
– Забавы? – резко переспросила Марья.
Глаза их встретились. Румяное лицо Свирида дышало здоровьем, улыбалось; широкие плечи и молодецкая выправка говорили о его недюжинной силе.
– Все вы одним миром мазаны, – заметила она с болезненной усмешкой.
Христя проснулась тотчас же после того, как пришел Свирид. Она слышала его разговор с Марьей, но не подала виду. «Зачем он пожаловал? Что ему от меня нужно?» – думала она. Она вспомнила гулянки и посиделки, на которых Свирид, бывало, напоит хлопцев и затеет драку или начнет перебранку с девчатами и всех разгонит. «Непостоянный он, все б ему пить и гулять, над всеми верховодить. Все были рады, когда он ушел в город на заработки… Давно это было, года три, если не больше… и слух о нем затерялся… И вот опять появился…»
– Марья! Разбуди ее. Нужна… – снова просит Свирид.
– Буди сам, если тебе нужно.
– А можно? – Свирид встал.
– Буди, если хочешь, получишь по зубам.
– Неужели? – спросил Свирид и направился к печи.
Христя затаила дыхание.
Свирид стал ее будить.
Христя сначала притворилась спящей, но, когда Свирид схватил ее за руку, она откликнулась.
– Кто это?
– Не узнаешь?… Кланяются тебе марьяновцы… и Федор кланяется…
– Какой Федор?
– Супруненко. Поклонись, говорит, Христе и скажи, что, если б отец меня не женил, я бы после водосвятия прислал к ней сватов.
Известие это ошеломило Христю.
– Федор женился? – спросила она взволнованно.
– Перед филипповками… Я на его свадьбе гулял.
– На ком же?
– Горпыну Удовенко знаешь? Высокая, носатая… Да ты же с ней дружила.
– Неужели на ней?
– А что? Подумаешь, цаца какая! Одно, что высокая да языкатая – сам черт ее не переговорит.
– Так она ж бедная, а Грыцько все хотел богатую.
– Сам Грыцько ее облюбовал. Федор было заупрямился. А Грыцько ему и говорит: если не хочешь, то знай, что ты мне больше не сын, а я тебе не отец.
– Ну и как они живут – хорошо?
– Живут. Горпына на нем верхом ездит. Недавно я был в селе и к ним тоже зашел. Они теперь отделились, своим хозяйством обзавелись. «А что, – спрашиваю, – хорошо женатому?» – «Да оно б, ничего, если б жена не такая ревнивая была; все глаза колет и попрекает Христей». – «Они, – говорю, – все такие, старые девки…»
– А что еще нового в селе? – перебила его Христя.
– Ну что… Тимофей тоже женился.
– На Ивге?
– Или Ивга на себе его женила, а через неделю после свадьбы ребенка принесла.
– И ничего?
– Да это бывает.
– А наш двор как там? – спросила Христя.
– Ты его теперь и не узнаешь!
– Кто в нем живет?
– Старой хаты уже нет. Карпо построил новую, на две половины. Одну сдал под шинок… Первая корчма на все село… Весело там!.. Карпо теперь по всем статьям пан. А к Одарке и вовсе не подступиться – в парчовых чепцах ходит, как нарядится, надуется, – что твоя пани!
– Неужели правда? – недоверчиво спрашивает Христя.
– Если не веришь, поди погляди… В старой хате вашей никто не хотел селиться, так Карпо под шинок нанял. А для шинка она была неподходяща, вот он и решил ее перестроить. А теперь вавилон воздвиг – страсть! С одной стороны лавка – пряники, кахветы; в другой – шинок. В селе говорят: пошла Карпо на пользу беда Притыки! После Грыцька первым хозяином стал. Поговаривают старостой его выбрать, а то и волостным старшиной. Вот каков теперь Карпо! Не гляди, куда забрался, только б сам не замарался!
Странно слышать все это Христе. Давно ли она покинула село, а вот какие перемены произошли… Федор женился, Тимофей – тоже, Карпо разбогател… О, этот Карпо давно был себе на уме! Какое он имел право снести хату? Хоть бы спросил у меня… А он вот что… Шинок завел… Христю это задело за живое.
Свирид еще многое рассказал, но она уже слушала его рассеянно.
– Когда уж ты женишься? – спросила Марья Свирида, когда он наконец умолк.
– Невесты никак не найду.
– Девчат тебе мало?
– Кабы хоть одна на тебя была похожа, так и быть, полез бы в петлю.
– Что я? Старая баба.
– Старая, да молодого жара много еще у тебя.
– Был когда-то, да погас; теперь один только пепел остался.
– Небось и пепел горяч, – сказал Свирид, хлопнув ее по плечу.
– А чтоб тебе! – огрызнулась Марья.
– Что, забрало? – смеясь, сказал Свирид.
– Еще и смеется! – крикнула Марья и бросилась с кулаками на Свирида. Тот нагнулся, и она начала тузить его по спине.
– Да сильнее! Не бойся! – подзадоривал ее Свирид и, внезапно выпрямившись, обнял Марью и прижал ее к себе.
У Марьи закружилась голова, а Свирид поднял ее и начал кружить по кухне.
– Что тут делается? – послышался голос хозяйки.
Свирид быстро выпустил Марью и, растерявшись, стоял посреди комнаты.
– Да вот он, чертяка, – сказала Марья. – Пришел к Христе… земляк… поклон ей принес.
– Но не ей, а тебе их передает, – сказала хозяйка и затворила дверь.
– Видишь, я говорила тебе, чтоб не шумел, – сказала Марья.
– А я знал, что их там черт поднимет. Ну вас, еще влопаешься тут. Пойду! Где моя шапка?
– Ты без шапки пришел.
– Нет, будто в шапке.
Шапка лежала на нарах. Марья стремительно схватила ее и бросила на печь.
– Не давай! – крикнула она Христе. – Пусть уходит без шапки.
– Не пойду.
– Тут останешься?
– Останусь.
– Ну да. Нужен ты здесь.
– А чем я плох? Что я, у Бога теленка съел?
– Может, и съел! – Марья громко хохочет.
– Гляди? Мне говорит – не смейся, а сама хохочет на весь дом… Ну вас! Надо подальше от греха. Христя, брось мне шапку.
Марья не успела оглянуться, как шапка уже была в руках Свирида.
– Ну, прощайте… – сказал он.
– Иди к бесу!
– Да хоть бы проводила.
– Собак боишься?
– Боюсь.
Марья вышла вслед за Свиридом. Вернулась не скоро, вся мокрая.
– На дворе такое делается – страшно, – проговорила она, взбираясь на печь.
Христя молчала.
– Ты чего загрустила? – спросила ее Марья.
Христя начала жаловаться на свою горькую долю. Одна память осталась от родителей – хата, так и ту снесли.
– А зачем ты ее бросила?
– Так я ж надеялась на добрых людей, им оставила.
Разговор не клеился.
Христя сидела молча, Марья по временам вздыхала.
На следующий день Марья ушла с вечера и вернулась далеко за полночь. Христя почувствовала, что от нее пахнет вином. На третий день Марья была встревожена, словно ждала чего-то. Христя рано легла спать и быстро уснула. Ее разбудил какой-то шорох, она прислушалась, и до ее ушей донесся шепот.
– Марья! – окликнула ее Христя.
Шепот замер.
– Марья! – еще громче крикнула Христя.
– Что тебе?
– Кто-то шептался в хате… Ты слышала?
– Тише! – сказала Марья. – Это мой брат.
– Какой?
– Здравствуй, землячка, – сказал кто-то вполголоса.
– Тссс! – зашипела Марья.
– Чего там? Не бойся! Христя – землячка! – сказал тот же голос.
Христя узнала его – это был голос Свирида. Она повернулась к стене, закрыла голову свиткой и вскоре уснула.
На другой день Марью рассчитали.
– Я не хочу, чтобы ты в мой дом хахалей водила, – сказала хозяйка.
– Не хотите, и не надо! – огрызнулась Марья. – Я и сама не хочу у вас быть. Оставайтесь с теми, кого вам легко обдурить.
– Молчи, а то я тебе рот заткну! – пригрозил пан.
Марья ушла не простившись. Христя осталась одна. Во время ссоры она не посмела сказать хозяйке, что одна не управится и в комнатах и на кухне. Тоску и страх испытывала Христя; у ней было такое чувство, точно она попала в неволю; теперь с ней могут сделать все, что угодно: бить, терзать, и никто ее не пожалеет, никто не заступится; одна, словно былинка в широком поле, щепка среди бушующего моря!.. От страха и тревоги Христя ходила сама не своя. Она так растерялась, что даже мыслей собрать не может, они словно разбегаются врассыпную.
– Не спеши так, Христя, – говорит ей Пистина Ивановна, – сделай сперва одно и тогда уж за другое принимайся, а будешь хвататься сразу за все, только время потеряешь, а дела не сделаешь. Это потому, что ты еще к порядку не приучилась; а вот как привыкнешь, все у тебя спориться будет… Ты не думай, Христя, что будешь работать за прежнюю плату, мы тебе прибавим.
– Тяжело одной, не управлюсь, – робко произнесла Христя.
– Это только тебе кажется… А когда будет много работы, я тебе помогу, и у меня две руки.
Христя ничего не ответила, только подумала: руки-то у тебя есть, да чьими придется жар загребать?
Она так захлопоталась на кухне, что еле успела обед приготовить. А тут еще пан все время звал ее: то убери, это подай.
– Ты не тормоши ее, ради Христа! – заступилась за нее хозяйка. – Если затормошишь, тогда уж ладу не жди.
Проценко сидел за обедом грустный и молчаливый, порою он только сочувственно посматривал на Христю.
Возвращаясь в свою комнату, он спросил ее:
– Так вы теперь, Христина, одни остались?
Сердце у нее ускоренно забилось. Она вся задрожала, лицо у нее начало дергаться. Она выскочила в сени, чтобы не расплакаться у него на глазах.
Эта беготня, суета с утра до ночи так ее утомили, что она к вечеру чувствовала себя ни на что не годной; руки и ноги ныли; голова словно свинцом налита; в глазах – туман. Подав самовар, она присела на нары отдохнуть, прислонилась к косяку и незаметно задремала.
И снится ей, будто перед нею высокая гора, поросшая редким лесом и густой бархатистой травой; под горой, обвивая ее голубой извилистой лентой, вьется речка. За нею далеко-далеко распростерлась долина – глазом не охватишь этого зеленого простора, сливающегося на горизонте с небесной лазурью. Христя всходит на самую вершину горы и озирается кругом. Полдень. Солнце в зените, его лучи золотят траву и просвечивают реку до самого дна; вот качаются зеленые водоросли; темнеет омут; медленно плывет черепашка; вон там пиявка виднеется, а там играет рыба. И сколько ее! Целая стая: спинки черные, бока золотистые, а глаза с красными ободками. «Спущусь к речке, полюбуюсь, как рыба играет, а может, искупаюсь… – думает Христя. – Там, верно, хорошо купаться: вода чистая, дно песчаное. Пойду!» Христя спускается с горы. Скользко! Как бы не упасть. Христя с трудом держится на ногах, словно ее подталкивают в спину… Над водой склонилась верба, погрузив концы своих ветвей в воду. Под нею – тень и прохлада. Если раздеться там – никто не увидит, а придет кто-нибудь, есть где укрыться. Христя бежит. На берегу она видит: самая большая ветвь на вербе надломилась и почти касается земли; маленькие веточки так сплелись, что образовали настоящий шалаш, словно их плела чья-то рука; даже земля в нем устлана листьями. Тут, верно, кто-то живет. Но Христе до этого дела нет. Она оглянулась – кругом никого. «Это, видно, девчата такое убежище сделали, – думает она. – Вот и тропинка от самой воды до шалаша явором выложена, чтобы не запачкать ног после купанья. Надо скорее раздеться, пока никого нет!»
Христя мигом сбросила с себя одежду, распустила длинные косы и, как русалка, выскочила на берег. Солнечные лучи ласкают ее, шаловливые блики скользят по телу, а прохладные волны лижут ноги. Как дитя, резвилась Христя на берегу; то окунет ступни в воду, то греется на солнышке, то присядет и плещется руками в воде, брызгая себя, то снова убегает в шалаш. Ей почему-то страшно сразу броситься в воду, пугает прозрачная глубина. Все же отважусь, решает Христя. Она поднимает руки, наклоняется вперед… вот-вот ринется… И вдруг она вскрикнула и как безумная откинулась назад. Громадный черный паук, похожий на копну, сидел на вербе и глядел на нее своими страшными сверкающими глазами. Одной мохнатой лапой он схватил ее за руку, а другой намеревался обнять… О Господи! Какой ужас! Христя бросилась бежать. Листья вербы посыпались на землю, черный паук прыгнул на нее, расправил свои лапы и обнял ее… Ее словно обожгло. Вместе с пауком бросилась она в воду, нырнула, и когда снова выплыла на поверхность… о, диво! Вместо паука она видит Проценко. Его руки обняли ее шею, губы приближаются к ее губам…
На этом она проснулась. Рядом стоял Проценко, ласково улыбаясь.
– И не стыдно быть такой соней? – говорит он, слегка потрепав ее щеку. Спросонья она к нему склонилась.
– Утомилась? Ты б уж лучше легла, чем так клевать носом, – шептал он, прижимая ее к себе.
Христя окончательно проснулась только тогда, когда очутилась в его объятиях. Она быстро высвободилась и отбежала в сторону. Погрозив ей лукаво пальцем, он скрылся в своей комнате.
Ложась спать, Христя еще долго думала о загадочном сне. «И приснится же такое, чего никогда не видела… да такое страшное, противное… А потом все повернулось. Он так ласково обнимал…»
Спать больше не хотелось. Ей стало душно. Может быть, оттого, что она лежит на печи… Не перейти ли на нары?… И тут же она бросила подушку, которая с глухим стуком упала. «Что я делаю, глупая? Еще проснется кто-нибудь, подумает Бог знает что».
Она осторожно слезла с печи. Нет, никто не услышал. Тихо и темно, как в гробу. А что это за луч света – то мелькает, то исчезнет?… Вот что-то зашелестело… Кто-то, крадучись, приближается… дверь раскрылась, и на пороге стоял Проценко.
– Это ты, Христя?
Она так и замерла.
«Что я наделала?»
Проценко бросился к ней, схватил за руку и потащил в свою комнату. Дверь закрылась. В кухне снова стало тихо и темно. Немая черная тьма воцарилась всюду, только слышался приглушенный шепот, жаркие поцелуи…
На следующую ночь Христя долго сидела на нарах и неутешно плакала. Ее окружил густой мрак и еще более мрачные мысли. Снова вспомнился вчерашний сон. Так вот что он предвещал?!
Она не слышала, как раскрылась дверь из комнаты паныча, и только очнулась, когда почувствовала на своей шее его холодные руки.
– Христя, душечка! – шептал он. – Не плачь. Не горюй. Мы же любим друг друга. Разве мы не счастливы? Такое только раз в жизни бывает… Что-нибудь придумаем. Вот тебе моя рука, что я тебя не брошу.
Как цветок под дождем, склонила она свою голову и обняла руками его шею.
– Грыцю! Милый мой, – шептала она. – Один ты у меня на свете. Я верю, что ты не бросишь, не погубишь меня!
– Успокойся, сердечко мое, – утешал он ее. – Знаешь что? Дождемся лета, я поеду в губернию, выхлопочу себе перевод и тебя возьму с собой. Там-то мы заживем тихо и любо! Я научу тебя грамоте. Это совсем не так трудно, как думают… Вот я прихожу со службы, ты меня встречаешь. Пообедаем, потом я лягу отдохнуть, а ты сядешь рядом, почитаешь вслух книжку или газету. Поговорим о том, что на свете делается. А вечером после чая – опять чтение. Ты еще не знаешь, какое это удовольствие – книги! В них целый мир, высший, лучший, чем тот, в котором мы барахтаемся, как свиньи в луже.
– А почему здесь нельзя нам так жить? – спросила Христя.
– Тут? Среди этих собак? Разве с ними можно жить? Они начнут смеяться над нами, и это омрачит наше счастье.
– А в губернском городе разве другие люди?
– Другие. Там больше умных, образованных людей, которые и сами живут так, как им хочется, и другим не мешают.
– Вот если б в самом деле так было… – шепчет Христя.
– Дождемся! Наше счастье впереди… Надо только немного потерпеть.
– Терпеть?… Не только зиму, но целый год, хоть век, лишь бы с тобой, мой родной!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Наступило Рождество, пошли гулянки, пиры. Паны только первый день сидели дома, а потом как зарядили: и день и ночь в гостях. Тянут и Проценко с собой.
Христя скучает: будни были для нее более радостными, чем праздник.
– Ты не скучаешь, Христя? – спросил ее Проценко на пятый день Святок.
Христя тяжело вздохнула.
– Лишь бы вам было весело, – сказала она грустно.
Вечером Пистина Ивановна позвала его:
– Собирайтесь. Пойдем.
– Нет, я сегодня не пойду. Мне что-то нездоровится, – сказал он, стоя на пороге своей комнаты.
Пистина Ивановна пристально взглянула на него, потом перевела взгляд на Христю. Той показалось, что хозяйка побледнела. Она ничего не сказала и вскоре ушла вместе с детьми.
– Давай вместе чай пить. Хоть раз погляжу, как мы будем жить, – сказал Проценко.
В трех водах мыла свои руки Христя и все еще была недовольна, что они у нее не такие белые и чистые, как ей хотелось. Чай они пили в столовой. Сели за стол друг против друга.
Боже! Как она счастлива! В первый раз в жизни чувствовала себя равной ему, близкой. Как угорелая, она хватала то чайник, то снова бросалась мыть стаканы, они все ей казались не совсем чистыми. Сердце у нее замирает, от волнения дрожат руки, а он глядит на нее и смеется: и то, мол, не так, и другое…
– Ничего… – робко говорит Христя, – привыкну, буду настоящей хозяйкой.
– Посмотрим, посмотрим.
Только Христя налила чай, как услышала скрип кухонных дверей. Она так и обмерла.
– Пришел кто-то… Неужто хозяева?
Она испуганно озиралась по комнате.
– А хоть бы и они? Чего же ты боишься? – успокаивает ее Проценко. – Скажешь: чай наливала.
Христя помчалась на кухню. Чья-то черная фигура маячила в темноте.
– Кто это?
– Я… Григорий Петрович дома? – послышался грубый голос.
Она узнала Довбню.
– Дома… Нет!
– Как нет? А это кто сидит? – спрашивает Довбня, указывая на Проценко, сидевшего спиной к дверям.
– Они чай пьют.
– Ну так что? И я чаю не пил, вместе напьемся.
– Это Лука Федорович? – повернувшись, спросил Проценко. – Сколько лет, сколько зим! Что это вас так давно не видно? Пожалуйте сюда.
– А вы перешли в другую комнату?
– Нет. Тут хозяева чай пьют. Сегодня они рано ушли в гости, а я остался дома. Чтобы не нарушать заведенный порядок, пошел сюда чай пить… Пожалуйте, милости просим, – сказал он Довбне, который отчего-то топтался в кухне.
– Пусть пальто здесь полежит. Никто его не украдет? – нерешительно обратился Довбня к Христе.
– Кто ж его возьмет? Славу Богу, у нас воров нет.
– Кто его знает? Может, какой-нибудь солдат зайдет? Теперь их в городе до черта.
– Что ж ему тут делать?
– А может – к тебе.
Христя вскипела.
– Я не такая, как Марина. Ко мне никто не ходит, – гневно сказала она, но Довбня уже ушел в столовую и не слышал ответа.
Опечаленная, села она на скамью и подперла рукой щеку. Сквозь приоткрытую дверь из столовой прорывалась узкая полоска света, стлавшаяся по черному полу. Христя глядела на эту полоску, а досада и тоска все больше овладевали ею… Там за дверью остался ее недопитый чай – первый стакан, который она собиралась выпить вместе со своим любимым… Вот и напилась! Принес же черт этого проклятого пьяницу. Надоело по шинкам шататься, так еще и людям покоя не дает, думала Христя, и слезы навернулись на ее глаза.
– Христя! – услышала она голос Проценко.
Две крупные слезинки, точно бусы, скатились по ее щекам.
– Христя!
– Что вам?
– Иди налей нам чаю.
Христя молча вошла в комнату, налила чай и повернулась, чтобы уйти.
– Куда ты? Чаю не хочешь? – спросил Проценко.
– Да она плачет, – сказал Довбня.
– Плачет? Отчего?
Христя убежала в кухню.
– И с чего это она? – удивился Проценко. – Была такой веселой… Смеялась, когда чай наливала, а тут сразу – на тебе!
– Не обидел ли я ее? – сказал Довбня.
– Чем?
– Я ей сказал: кабы солдаты мое пальто не украли. А она мне: какие? – Может, говорю, к тебе ходят.
– Так вот оно что… – сказал Проценко и бросился в кухню.
Христя, всхлипывая, жаловалась ему:
– Разве я вожусь с солдатами, что он мне ими глаза колет?
– Глупая, я же только так сказал, – утешал ее подоспевший Довбня.
– А зачем такое говорить?
– Ну, ладно. Он больше так тебе не скажет. Умойся и иди к нам, – сказал Проценко, досадуя в душе на Довбню.
– Я, ей-Богу, не думал ее обижать, – оправдывался Довбня. – Сорвалось с языка, а она… И Марина такая же… Знаете, зачем я к вам пришел?
– Нет.
– Женюсь. Пришел на свадьбу звать… Придете?
– Почему же нет? На ком женитесь?
– Да на Марине ж!
Проценко вытаращил глаза.
– Как это? Марина ведь уехала.
– А теперь вернулась.
– Каким образом?
– Жаль мне ее стало. Пропадет… И написал ей, чтобы приехала.
– Когда же свадьба?
– А вот после водосвятия.
– Удивительно! – задумчиво произнес Проценко.
– Все удивляются, кому я ни говорю. «Пропал человек, – говорят, – учился, на дорогу вышел, а теперь надел себе петлю на шею…» Чудны́е люди! – глухо сказал Довбня, затянулся папиросой и выпустил густую струю дыма, окутавшую его. – А впрочем, – послышалось из-за облака дыма, – не чудные, а лукавые, подлые! Разве они не знают, что такое честная жизнь? Наделали разных перегородок, разделили людей и толкутся в тесноте; морочат голову, разбивают сердце, прячут свои мысли и стремления, не живут, а мучаются, седеют, и все это называют жизнью! А попробуй им противиться, сделай что-нибудь такое, что не вяжется с их проклятыми обычаями, они сразу завопят: нельзя! Не годится!.. А почему нельзя? Потому что в их кругу это не принято… Ложь! Плевать на них! Все хорошо, что приносит человеку счастье, делает его лучше, выше! Вот что значит честно мыслить, не лукавить с самим собой!.. И какое им дело до меня? Разве не они погубили мои лучшие стремления? Подлецы! Они не видели, как разрывалось мое сердце… не поддерживали меня, когда я шатался и падал… Так какое же вы имеете право судить меня, хорошо я делаю или плохо? Другое дело, если б я нанес ущерб обществу… А ведь этот поступок касается лично меня. Вы говорите: женись на благородной, а для этого стань попом. А мне не нужны ваши благородные и ваши попы, которые проповедь Христа превратили в ремесло. Плевать мне на все это. Буду жить так, как считаю нужным.
Проценко усмехнулся.
– Да постой же, – сказал он Довбне. – С кем вы воюете? Со мной, что ли?
– Нет… я знаю, что вы выше этих лавочников, которые готовы на каждом шагу осудить порядочного человека. Если б вы были таким же, я бы вам всего этого не говорил.
– Отчего же вы сердитесь?
– Досадно, черт побери… Всем до меня дело, у всех я в зубах навяз… Одни пристают: «Вы женитесь на простой девке?» А хоть бы и женился? Так что? Я стал кому-нибудь поперек дороги? Мешаю ему жениться на барышне? Был сегодня у отца Николая… Кланяется вам попадья. «Если увидите его, спросите, почему это он пропал, глаз не кажет?»
– Да так: то нездоровится, то некогда, – сказал Проценко, поморщившись.
– Мне все равно, я думал, что она в самом деле из себя что-то представляет, а убедился, что она пустая кукла, и все!
Проценко собирался что-то сказать, но Довбня остановил его взмахом руки.
– Погодите! Я все докажу вам. Прихожу я сегодня к нему, чтобы условиться насчет венчания. С отцом Николаем мы толковали недолго, только по-дружески он содрал с меня двадцать пять рублей за венчание. Черт с ним, думаю. И ему надо жить. А тут и попадья вмешалась. «На ком, – говорит, – женитесь? Неужели на простой девке?» – «Да, – говорю, – на простой…» Она сморщила нос, точно к нему что-то гнилое поднесли. Поглядел я на нее и говорю: «Куколка вы, куколка! А вам очень уютно живется в вашем гнездышке?» Она вздохнула. «А все-таки, – говорит, – не променяю свою жизнь на мужицкое житье». – «Ну живите по-своему. А мне не мешайте». – «Да я, – говорит, – ничего. Только вы учились, у вас другие навыки… а она – мужичка…» Я только махнул рукой – горбатого могила исправит. Слепорожденный никогда не увидит света. Расстроила она меня, никак не могу успокоиться…
– Да стоит ли? Вы же знаете, что она губернская барышня. Ну, и плюньте!
– Плевать? – крикнул Довбня. – Если б она была одна, а то все такие! И ведь придется с ними жить. Не каторжные мы, прости Господи, чтобы запереться в четырех стенах. Надо же когда-нибудь к людям пойти и к себе их позвать. Как же нам с ними жить, скажите, пожалуйста? Они будут тобой пренебрегать, насмехаться, хотя сами никакого уважения не заслуживают. Не то меня страшит, что я не сумею устроить свое счастье, а то, что люди станут на моем пути к нему, постараются отравить его… А все-таки я женюсь! Пусть их всех черт возьмет!.. Дайте же мне чаю.
– Христя, чаю! – сказал Проценко.
Вошедшая Христя, понурившись, начала разливать чай.
Довбня искоса взглянул на нее.
– Ты, вижу, еще сердишься. Я не знал, что ты такая обидчивая. Ну, прости и послушай, что я тебе скажу. Ты знаешь Марину? Она, кажется, твоя подруга?… Так приходи же на свадьбу.
Христя налила чай и молча вышла из комнаты.
– Молчишь? Сердишься? Ну и сердись, Господь с тобой! – сказал Довбня и снова закурил.
Вскоре он поднялся, собравшись уходить.
– Прощайте.
– Куда же вы?
– Надо идти. Марина одна дома, скучает. Так не забудете, придете?
– Когда?
– В первое воскресенье после водосвятия.
– Спасибо, приду.
Довбня ушел.
– А ты, глупенькая, рассердилась и чай пить не захотела, – сказал Проценко, проводив Довбню.
– Зачем же он плетет такое?
– Вот женится – переменится.
– А кто за него пойдет?
– Марина… он ведь пришел на свадьбу нас пригласить.
– Он женится на Марине? Будет вам…
– Да это же правда.
За чаем она еще несколько раз принималась расспрашивать Проценко о женитьбе Довбни. Ей казалось это невероятным, да и не хотелось верить. Она уже забыла о своей недавней обиде на него. Он казался ей теперь лучше и выше.
– Если он в самом деле женится, то сделает хорошее дело, – сказала она.
– А что?
– Не пропадет девка зря. Да и за ним присмотрит.
– Что-то мне не верится, чтобы Марина за ним присматривала. Не такая она, – сказал Проценко.
– Разве она не такой человек, как все? – обиженно спросила Христя.
Проценко не ответил. Вскоре он ушел к себе в комнату, сел за книгу, а Христя, моя чайную посуду, все думала о Марине и Довбне… Он на ней женится… А кто она? Простая девка из села… А Довбня – паныч, хоть и с изъяном. Грыць даже считает его умным человеком… И вот он женится на Марине. Странно, удивительно… А впрочем, что тут особенного? Понравились друг другу, и все. Ну, если б Грыць на мне женился?… Разве б я его не любила, не оберегала? Еще как бы любила!..
Миновали рождественские Святки. Прошло и Крещение. Оно выпало как раз на четверг, а в воскресенье свадьба Марины.
– Неужели вы пойдете? – спросила Пистина Ивановна своего квартиранта.
– Обещал. Надо идти.
Пистина Ивановна криво усмехнулась, но ничего не сказала.
В воскресенье Проценко сразу после обеда собрался и ушел. Венчание было назначено на вечер. Христя готова была полететь вслед за ним. Ей так хотелось посмотреть, как Марина будет стоять в церкви в подвенечном платье. Но идти нельзя – работы много, а тут еще барыня надумала булочки к чаю печь – на завтра пригласила к себе гостей. Надо заранее все приготовить. С вечера поставить, закваску положить, к утру замесить и разделать, чтобы сразу же и печь. Христя просеивает муку, а перед глазами у нее церковь, венчание… Никак из головы нейдет! «Хоть всю ночь спать не буду, дождусь Грыця; он расскажет, как все было», – думает Христя, взбалтывая закваску.
– Будет уже, процеди, – говорит хозяйка.
Христя исполнила ее приказание.
– Поставь же на печь, пусть выстоится. И спать ложись пораньше. В полночь надо закваску положить, чтобы к утру тесто поднялось. И я встану, – говорит хозяйка.
Все легли спать раньше обычного. Легла и Христя. Но мысли о свадьбе не покидают ее, гонят сон от изголовья. Боже, как медленно идет время, кажется, конца ему нет!
Наконец Христя услышала стук в окно. «Он, он, Грыць, сейчас все расскажет…» Христя бросилась в сени открывать дверь.
Она не ошиблась. Это был Проценко. Только она открыла дверь, как он сразу ее обнял.
– Идем скорее ко мне, – шептал он, обдавая ее винным перегаром.
– Пани скоро встанет, – говорит Христя.
– Зачем?
– Тесто ставить на булочки.
– Чертовы булочки!
– Что ты! Это же святой хлеб!
– Какой там святой? И свинья, по-твоему, святая, если человек ее ест?
– Так то свинья, а это – хлеб.
– Ну, пусть будет по-твоему. Только идем. Пришлось на свадьбе выпить, силой заставили. Идем, голубка. Ты лучше всех…
И, не дав ей запереть дверь, увлек в свою комнату. Христя и не очень сопротивлялась. Ей так хотелось поскорее услышать обо всем, что было на свадьбе.
– Марина какой была, такой и осталась, – шлюха, да и только, – сказал Проценко. – Довбня несчастный человек.
– Вот уже и несчастный! Чего? Вы сами говорили, что счастье не разбирает, кого хочет, того и обласкает.
– Ну с Мариной счастья не найдешь. Оно от нее, как от смерти, убегает. Какое счастье с шлюхой?
– А кто виноват? Вы же и делаете нас такими.
– Не в том дело. Она по натуре такая. Я б ее и на порог к себе не пустил, а тебя люблю… – и он горячо ее поцеловал.
Христя замерла в объятьях.
– Грыць! Любимый мой! – сказала она, забыв обо всем на свете – и о Марине, и о Довбне, и о тесте для булочек.
А тем временем хозяйка проснулась. Она зажгла свет и поспешила в кухню. Там сразу полезла на печь, где стояла закваска. «Где же Христя? – думает Пистина Ивановна. – Ее нет ни на печи, ни на нарах. Может, вышла на двор и дверь даже не закрыла за собой… Ну, пусть только войдет…»
А Христи все нет. «Что за черт», – думает хозяйка. Она выбежала в сени и увидела, что наружная дверь заперта.
– Где же она? – вслух произнесла Пистина Ивановна. – Странно! И вора не было, а девку украли! Христя! – крикнула она.
А Христя давно уже стоит у двери и ждет не дождется, чтобы хозяйка ушла к себе. «Вот так дождалась!» – думает она, и сердце у нее готово выскочить из груди.
– Где же она в самом деле? – сердито крикнула хозяйка и даже под нары заглянула.
«Теперь я знаю где!» – немного погодя мелькнула у нее мысль; она направилась будто в комнаты, но потом остановилась и спряталась за печь.
Христя на цыпочках выскользнула в кухню.
Не успела она закрыть за собой дверь, как из-за печи показалась хозяйка.
Лицо у нее было бледно, а глаза как угли горели.
– Где ты была? – крикнула она не своим голосом.
Христя, понурившись, молчала.
– Где была, спрашиваю? – еще громче крикнула хозяйка. – Бесстыдница! Тихоней прикидывалась. Недотрога! А сама на шею бросается!
Христя замерла. Только по-прежнему бешено колотилось сердце в груди.
А хозяйка одно долбит:
– То-то я примечаю, что он так любит в гости ходить, а теперь его из дому не вытянешь. Вот почему ему нездоровится. А ты?… Подлая!
Христя подняла голову. Лицо ее побелело, губы дрожали.
– Почему же я подлая? – спросила она.
– А это не подлость – к панычам ходить?
– А вы? Вы? – тихо спросила Христя.
Хозяйка, точно ошпаренная, вся задергалась.
– Что я? Говори!
– Вы же сами давали ему руку целовать.
– Шкура-а-а! – крикнула разъяренная хозяйка и ударила Христю по щеке. Словно кумач, раскраснелась щека от удара. Христя громко закричала.
– Докажи, шкура! – крикнула хозяйка, схватив Христю за волосы.
Христя, как сноп, повалилась на пол.
– Что здесь такое? – спросил вбежавший хозяин.
– Вон! Вон! – визжала Пистина Ивановна, толкая ногой Христю.
– Господь с тобой! Опомнись! – крикнул пан и, бросившись к жене, с трудом оттянул ее от Христи.
– Она… она… – вырываясь из его рук, кричала пани. – Погань! Дрянь! К панычу ходит… И еще смеет… я помешала ей вылеживаться на его постели… такое сказать про меня…
Закрыв лицо руками, Пистина Ивановна заголосила. Дети, услышав плач матери, тоже заревели. Поднялся шум, гам.
А что же Проценко?
Он лежал в постели и слышал, как Пистина Ивановна ударила Христю. Сердце у него защемило. Он соскочил на холодный пол. «Вот еще проклятые, насморк из-за них поймаешь», – сердито проворчал он, снова лег, укрылся с головой и силился уснуть.
До самого утра Пистина Ивановна продолжала браниться.
А Христя забралась на нары, уткнулась головой в подушку и неутешно плакала.
На заре пан один пошел на базар, но пробыл там недолго. Вернувшись, он привел с собой какую-то молодицу.
– Хватит тебе валяться, – сказал он Христе. – Вот тебе твоя плата, и уходи. Мне таких не надо.
И швырнул Христе деньги.
– А ты гляди, чтобы она нашей одежды не унесла, – сказал он молодице. – Все, что на ней, – наше. Пусть свое надевает и уходит.
Когда пан скрылся в комнате, Христя поднялась. Две трехрублевых бумажки лежали около нее.
Она взяла их, судорожно смяла в руке и крикнула в отчаянии:
– Куда же я теперь пойду?
– На улицу, куда же еще? – гнусавым голосом ответила молодица.
Христя пристально взглянула на нее, и слезы у нее сразу высохли. Что-то обдало ее сердце холодом. Она впервые почувствовала и поняла, что жалости ей ждать не от кого. Машинально поднялась, переоделась и, пошатываясь, как пьяная, вышла из дому.
Пистина Ивановна заболела. Так и не собрались гости в назначенный день; кой-кого предупредили, другие услышали о ее болезни и сами не пришли.
У Проценко был сильный насморк, и он не выходил из комнаты. Ему туда приносили чай, обед, пока он не поправился и не переехал на другую квартиру.
Часть четвертая В ОМУТЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Прошло пять лет.
Стояла ранняя погожая осень. Солнце уже не припекало, а ласково грело после длинной прохладной ночи и розового утра. Недавно кончилась жатва, и хлеб свозили с полей; разве только где-нибудь в степи, далеко от селений, еще маячат копны, а то повсюду чернеет зябь, порой сменяющаяся желтой полосой стерни… Пустынно в полях, да и в лесу тоскливо; ветры-суховеи оголили ветви, а ранние заморозки окрасили листву золотом и багрянцем. Птички-певуньи улетели в дальние края.
Жизнь уходила из степей и лесов. Зато в селах с утра до поздней ночи не умолкал стук цепов, намолачивая добротное зерно – дар обильного урожая. Люди спешили закончить работу, чтобы самим прокормиться и кое-что повезти на ярмарку и базары. В городах тоже была суета: мазали, белили, убирали, готовили припасы на зиму. Особенно это заметно было в губернском городе. Да и не удивительно: так недавно закончилась осенняя ярмарка, город был запылен и засорен, весь пропах ярмарочным духом. Надо все тщательно убрать, ибо вскоре должны состояться дворянские выборы, а за ними – губернский земский съезд. С утра до ночи кипела работа, особенно в гостиницах и постоялых дворах. Всюду стук, грохот; метут, белят, моют, красят… Надо как следует встретить дорогих гостей. Это тебе не ярмарочные купцы и лавочники, которые ютятся по пять душ в одной комнате, спят, где придется, едят, что дают; одного чаю целые ведра выпивают… Прибудут дворяне, да самые родовитые, привыкшие широко жить, сладко есть, ни в чем себе не отказывать.
К этому съезду арендатор городского сада Штемберг, помимо своего постоянного оркестра, нанял еще полковой и пригласил арфисток. Только не таких, какие были на ярмарке… «То мусор, который вымели из больших городов, воронье, почуявшее добычу. А глянешь на этих – пальчики оближешь, послушаешь их – обо всем забудешь. Все они молодые, стройные, светлоглазые! Не поют какие-нибудь частушки охрипшими голосами, а уж как затянет одна из них, так все в ней поет – и руки, и глаза… А потом как хор подхватит, так от волнения дрожь прохватывает… В Харькове, когда они пели в гостинице, там пол провалился – такая уйма народу собралась их слушать!» – хвастался арендатор.
Горожане ждали того дня, словно чуда. Только и разговору было про арфисток.
– Хоть бы уж скорее дворяне съезжались. Посмотрим, что за диво покажет нам, – говорили нетерпеливые.
– О-о! Да он нюх имеет, знает, что кому требуется, угодить может всякому, – отвечали другие.
– Штемберг умеет товар лицом показать, – подхватили третьи.
– Да и себе небось охулки на руку не положит. А уж если скажет, то не сбрешет, как за что возьмется, так покажет диковинку!
– Да черт его побери, хоть бы скорее!
– Не терпится?
– Конечно. Того и гляди ненастье начнется, ведь осень на дворе.
– Подождем, больше ждали, теперь уж недолго.
Так волновались горожане в ожидании сюрприза, приготовленного Штембергом для дворянского съезда.
Но вот на улицах города показались рыдваны, запряженные четверкой коней. Вздымая пыль, громко цокали копытами гладкие, упитанные кони; серебристые подковы высекали искры на булыжниках мостовой; грохотали колеса; неустанно дребезжали рессоры. Кони мчали к центру города, к лучшей гостинице, где все уже было готово к встрече дорогих гостей. Около гостиницы была такая сутолока, как на ярмарке; одни рыдваны отъезжали от высокого крыльца, а другие подкатывали на смену. У распахнутых дверей стоял высокий бородатый швейцар в картузе с золотым галуном и в ливрее с позументом. Он приветливо улыбался знакомым панам, здоровался с ними. А с незнакомыми вел себя по-разному: перед теми, которые шли с гордо поднятой головой, он вытягивался и следил глазами, не потребуются ли его услуги; если же он видел какого-нибудь неказистого или в потрепанной одежонке, то делал вид, что занят и не замечает его, а иногда останавливал и строго спрашивал, что ему здесь нужно. В большой передней – гам, толчея. Лакеи как угорелые метались взад и вперед, торопясь разместить приезжих по номерам. До самых сумерек не улеглась эта суета. К вечеру все окна длинного трехэтажного здания гостиницы ярко осветились; с улицы видно было, как за ними суетились люди, а внутри стоял несмолкаемый шум; то и дело пронзительно дребезжали звонки, скрипели двери, бегали лакеи, звенела посуда на подносах. Приезжие пили чай, кофе, закусывали. Только далеко за полночь начал гаснуть свет в окнах – гости укладывались спать.
На следующий день солнце уже стояло высоко, когда приезжие начали выходить на улицу. Кого только тут не было! Толстые и высокие, низкие и пузатые, круглые и долговязые, темноволосые и белокурые, молодые и резвые, а порой – старцы, еле волочившие ноги.
Медленно, небольшими кучками слонялись они по улицам в своих длинных балахонах, разглядывая то какой-нибудь витиевато построенный особняк, то высокую колокольню, то витрины магазинов, где была выставлена напоказ всякая всячина: искусная резьба по дереву и камню, золотые и серебряные часы с цепочками и брелками, перстни и ожерелья, браслеты, дорогие сукна и шелка… Все это сверкало и слепило глаза.
День выдался тихий и погожий; на небе ни облачка, его голубой шатер раскинулся над городом, словно закрывал его голубой вуалью; ярко светило солнце, и город купался в его золотом сиянии; как свежая трава, блестели недавно окрашенные крыши. По обеим сторонам улицы, на фоне ослепительно белых стен, словно сторожа, выстроились тополя и кудрявые осокори, тронутые желтизной первоначальной осени; каменные мостовые, недавно политые, лоснились на солнце, и над ними подымался легкий пар. Было тепло, дышалось легко и свободно, что-то радостное и бодрое ощущалось в прозрачном воздухе, как это бывает ранней весной или в ясный тихий осенний день.
В такие дни чуть ли не все жители города высыпают на улицу. Только те, кого болезнь приковала к постели или нудная работа держит около печи, остаются дома; а все, у кого есть свободная минута, спешат на улицу подышать свежим воздухом и понежиться на солнышке. Улицы кишмя кишат народом. И стар, и мал, и тот, кто пожил, и тот, кто только начинает жить; богатый и убогий, пышно наряженный и одетый в лохмотья – все смешались в толпе, словно равные, – ведь всем одинаково светит солнце, всех одинаково обвевает теплый ветер, всем одинаково хочется жить. Но по-разному относилась к людям судьба, и равенство было только кажущимся. Бейся, говорят, конь с конем, а вол с волом. Так и здесь: несмотря на то, что люди двигались тесной толпой, плечом к плечу, каждый разыскивал своих: паны здоровались только с панами, купцы с купцами, убогие – с убогими. Одни только древние старцы кланялись всем, дети заговаривали с каждым, кто чем-нибудь привлекал их внимание, невзирая на то, был ли он богат или беден. Да и то их удерживали старшие, сопровождавшие их.
В этом безостановочном людском потоке держались особняком небольшие группы приезжих дворян. Им нужно было обо многом договориться, дел на съезде предстоит решить немало, а тут еще нависла над ними угроза, которая уже давно не дает им спокойно спать, – угроза если не совсем их оттеснить от земских дел, то во всяком случае лишить ведущей роли. На уездных съездах – гласных из серого мужичья больше половины, а на некоторых – только треть дворян; верховодят мужики и образованные молодые люди, которые держат сторону мужиков, называют их меньшим братом; сговорились и что хотят, то и делают: большими налогами обкладывают помещиков, своих в управы выбирают. Есть немало управ, где городскими головами стали бывшие писаря, а о членах и говорить не приходится. На что уж губернская, и в той член – резник. Неужели так должно быть? Неужели мы – отборное семя среди сорняков – должны смешаться с ними и погибнуть? Неужели мы не сохраним место, которое занимали раньше, – ближе к трону? Не отстоим в государстве тех порядков, которые создали своими руками и всемирно оберегали от всякого враждебного посягательства? Неужели мы допустим свергнуть отечество в бездну, в которую толкают его разные выскочки? Это будет несмываемый позор для дворянской чести! Весь свет над нами смеяться будет. Нет, это не должно случиться! Крикнем на все царство, на весь Божий мир: к оружию, спасите отечество!
Больше всех был озабочен губернский предводитель дворянства Лошаков. Хоть он и не скрывал своего происхождения из старинного казачьего рода и того, что его прадед Лошак служил бунчужным в казачьем полку, однако он не мог присоединиться к темной и невежественной толпе, от которой его отделила судьба. «Довлеет дневи злоба его», – говорил он тем молодым верховодам, которые порой намекали на его происхождение, указывая, что негоже ему, казачьему сыну, отрекаться от своего рода. «Я не отрекаюсь, – говорил он, – я преклоняюсь пред всем тем, что сделало казачество, перед его стойкостью в защите веры и отечества. Так надо было действовать в те времена. Но когда настало другое время, надо и самому не отстать от века, не топтаться на месте. Кто не идет вперед, невольно отстает. Так и случилось с нашим казачеством: отстаивая только свои вольности и права, оно не пожелало следовать за веком, отстранилось от того культурного направления, которое было предопределено ходом истории, и поэтому осталось в хвосте. Ну а тому, что умерло, что обречено на гибель, я поклоняться не буду. Надо идти вперед, а не пятиться назад».
И вот теперь правнук Лошака, губернский предводитель дворянства Лошаков, узнал, что от земства оттесняются просвещенные дворяне, потому что казаки приравнены в избирательных правах к разночинцам, которым закон предоставляет право каждому, кто имеет десять десятин земли, выбрать уполномоченного, а двадцати таким владельцам – одного гласного. Возмущенный предводитель поднял баталию против этой казачьей привилегии. Положение о земстве не дает на этот счет точных указаний, а закон о сословиях ясно указывает, что казаки ничем не отличаются от крестьян, отбывая те же повинности и пользуясь теми же правами, что и крестьяне. Поэтому казаков и не следует присоединять к разночинцам – пусть они выбирают гласных на своих волостных сходах, сколько на каждую волость полагается.
– Таким образом, если это предложение утвердят в столице, количество гласных из мужиков сразу уменьшится наполовину, – говорил Лошаков. – Тогда нашему брату, дворянину, будет большой простор в земских делах, и мы сумеем всем этим верховодам утереть нос. А что утвердят – это как пить дать! Больно много эти верховоды заодно с мужичьем себе позволяют. Не надо об этом молчать, а поставить вопрос и на дворянском и на земском съезде. Не выгорит на одном, добьемся на другом! А сидеть молча, сложа руки, не годится. Надо бить в набат на весь свет!
Дворяне единодушно соглашались со своим предводителем. «Что ни говори, у него есть голова на плечах. Мудрый, да еще упорный: если за что-нибудь возьмется, доведет до конца. Один у него недостаток – очень уж он беспутный в личной жизни. С женой не живет, она где-то за границей шатается, а он тут. Не пропускает ни одной красивой дамы и даже простой девки. Ну, да это уж старый грех. Кто в нем не повинен? А что касается общественных дел – он их первый ревнитель. Ему бы не предводителем быть, а губернатором или министром. Одним словом – голова!»
Так говорили приезжие паны, прогуливаясь по городу.
Короткий осенний день близился к вечеру. Солнце садилось; багровое пламя полыхало на западе, отбрасывая розовые отсветы на белые стены домов; стекла окон, разгораясь все ярче, пронизывали пролеты улиц косыми красно-оранжевыми лучами. Сияющие купола и золотые кресты церквей, казалось, тянутся к синеющей чаше неба. Тени удлинялись и темнели; высокое дерево сдвинуло свои ветви перед лицом приближающейся ночи, длинная тень его пролегла через всю улицу, сгущая сумрак. Прохожие старались скорее миновать эти темные островки и выйти на свет, туда, где царило оживление. Вдруг сразу что-то ухнуло, загудело… и вскоре над городом понеслись звуки музыки.
– Музыка! Музыка! Скорее в сад! – закричали прохожие.
– Мы еще чаю не пили. Пойдем домой чай пить, – щебетали барышни молодым панычам, обступившим их.
– Стоит из-за этого домой идти. Разве в саду нет чая? – уговаривали их панычи…
– А в самом деле… – нерешительно сказала одна.
– Ну что ж? В сад так в сад, – поддержали ее подруги. И они гурьбой потянулись в городской сад.
Около сада давка, толчея. В церкви по большим праздникам никогда не бывало так тесно, как около кассы, помещавшейся в маленькой будке, куда горожане сносили свои двугривенные. Кассир не поспевал выдавать билеты.
– Два билета!.. Три!.. Пять!.. – кричали наперебой.
Вот большая группа людей, получив билеты, двинулась между двумя домами к входу в сад. Над этим проходом на длинной проволоке колыхался ряд разноцветных фонариков, словно радуга. А там дальше – огни, огни! Чуть не каждая ветка была освещена, над каждой аллейкой горела цветная радуга.
– А красиво как! Вот этот чертов Штемберг! У него есть вкус! – говорили люди.
В саду действительно было красиво. Тропинки, прихотливо извивавшиеся вокруг цветочных клумб, были посыпаны просеянным песком; раскидистые грушевые деревья, мелколистая акация, молодые осокори и клены светились разноцветными фонариками – издали казалось, что на ветвях выросли такие диковинные плоды. Деревья были подрезаны, подстрижены, чтобы не мешать гуляющим нависшими ветвями. От разноцветных фонариков падали на светлый песок синие, зеленые, желтые и оранжевые круги, и казалось, что дорожки выложены цветными камешками, по которым слегка шуршали шелковые шлейфы дамских платьев и поскрипывали лаковые башмаки… Все это было на боковых аллеях. А на главной? Целый ряд небольших беседок, густо увитых диким виноградом, зияли своими входами, точно пещеры. В них сновали какие-то уродливые тени, словно мертвецы вылезли из могил и глядели на море света и гульбище. Там – все чудеса, которые люди умудрились смастерить из огня. Вот три больших стеклянных шара, словно три солнца, горят над главным входом; под ним лента фонариков играет всеми цветами радуги; около высоких столбов, поддерживающих широкий навес, качаются маленькие фонарики, словно звездочки, упавшие с неба.
Под навесом бесчисленное количество стульев, скамей, искусно сплетенных из лозы диванчиков. На крытой просторной веранде множество столов, круглых маленьких столиков и ломберных – для карточной игры. На высоких и низких подставках стоят свечи в металлических подсвечниках.
Столы ломились от напитков и яств; были на них также искусные изделия из стекла, в которых переливались волны света. А напротив высилась эстрада с круглой кровлей, густо обвитая хмелем. На ней разместился полковой оркестр, который заполнял своими звуками небольшой сад.
Мала пташка, но какие красивые перья на ней! Невелик и сад, а сколько там народу собралось. И все пышно наряжены – сукно и шелка, бархат и золото так и мелькают в толпе. Вот идет большая группа барышень; шажки их так мелки – и перепелка с ними не сравнится. Их замысловато сшитые платья, в сборках, складках, плотно облегают их фигуры, самым выгодным образом обрисовывая плечи, груди, руки; на ногах у них маленькие туфельки на высоких острых каблуках – горе тому, кто попадет под них! Руки туго затянуты в лайковые перчатки, так что и пальцев согнуть нельзя. Щеки горят – неизвестно только: от горячей крови или румян. Глаза сверкают, как драгоценные каменья в золотых сережках. Голоса у них нежные, певучие, так и влекут к себе. Недаром их окружила целая толпа кавалеров. С длинными и короткими бородами, в широких плащах, с соломенными шляпами, сдвинутыми на затылок, льнут они к барышням, заглядывают им в глаза, размахивают руками, ведут веселый разговор, стараясь блеснуть острым словечком, вызывают то искренний, то притворный смех.
Хотя в саду уже было много людей, народ все еще продолжал прибывать. Явились и приезжие. С важным видом выступают дворянские и земские столпы, жмурясь от непривычного яркого света, в сопровождении многочисленной свиты прихлебателей и поклонников. Встречаясь со своими давними городскими приятелями, с которыми им смолоду пришлось вместе служить, они удивленно оглядывают друг друга.
– Неужели это вы, Иван Петрович?
– Он самый. А вы, простите, кто будете?
– Неужели не узнаете? Сидор Тимофеевич.
– Сидор Тимофеевич! Боже мой!..
И старые приятели обнимаются, целуются… Начинаются разговоры о житье-бытье. Вспоминают прошлое, смеются, вздыхают… Чего только не было!.. Всюду шум, гам, крики, стук.
Но вот снова заиграл полковой оркестр. Резкими и высокими звуками заливались флейты и кларнеты; протяжно гудели трубы и фаготы; звонко бьют литавры; турецкий барабан стонет и ухает. Все смешалось – и звуки музыки и говор, и шарканье ног, – ничего не разберешь – все гудит, трещит, лязгает, завывает, точно зимняя метель. А народу набралось всюду – и на веранде, и в темных аллеях парка, и в глухих углах – видимо-невидимо.
Умолк оркестр. Отчетливей слышен людской говор. Сидящие за столами торопят официантов скорей подавать. Одни пьют чай, другие толпятся у киосков, где торгуют пивом; третьи пошли в буфет выпить водки. Просторней стало на дорожках. Столпы тихо беседуют.
– Что такое? Только и слышно: интересы крестьянства… интересы крестьянства того требуют… Да разве все дело в крестьянстве? Разве исторические судьбы государства им создавались?… Это черт знает что такое! Если мы, культурные элементы, не выступим вперед и не заговорим о диком разгуле демагогии, что же тогда ожидает государство? Оно потонет, должно потонуть в разливе самой страшной революции. Мы должны стоять на страже и предупредить!.. – глухо говорил столп.
– Но позвольте. Чего же вы хотите? – перебил его низенький щуплый человек в широкополой соломенной шляпе, закрывавшей густой тенью все его лицо. – Ведь это одни только общие места, которые мы уже около десяти лет слышим из уст охранителей! Вы определенно формулируйте свои желания.
– Извольте, – грубым голосом начал столп, бросив презрительный взгляд на маленького человека. – Во-первых, мы требуем, чтобы нас выслушали, а для этого необходимо дать нам преобладающее значение хотя бы в таком незначительном органе самоуправления, как земство. Помилуйте: не только в уездных управах избраны председателями полуграмотные писаря, эти истинные пиявки народные, но и в губернскую управу втиснули членом какого-то ремесленника.
– Вы, значит, признаете недостаточным такое самоуправление? Желали бы большего?… Английская конституция с ее лордами вас привлекает?
Столп что-то грубо загудел в ответ и вскоре скрылся вместе со своим собеседником в темной гуще акаций, скрывавших глухую тропинку.
– А слышали. Слышали? Наш-то Колесник за сорок тысяч имение купил. Вот она новая земская деятельность… строительство гатей, плотин, мостов!..
– Да, да!.. Нам необходимо принять меры… стать в боевое положение. И так уже долго мирволили всяким либеральным влияниям. Вы слышали проект нашего губернского предводителя дворянства? Государственного ума человек! Нам нужно его поддержать. Он все проведет!
Другая пара тоже скрылась под акациями.
– Чего ж эта бестия Штемберг тянет? Не подпустил ли жучка? – раздался охрипший голос из беседки.
– А что?
– Объявил, шельма: арфистки будут. Что же он их до сих пор не показывает? Давай, братцы, вызовем Штемберга.
И через минуту раздались громкие хлопки.
– Штемберга! Штемберга!.. Что же это он, чертов сын! Где его арфистки?… Арфисток подавай! Арфисток! Го-го-го! Го-го-го! – заревело сразу несколько голосов, грубых и визгливых.
Народ так и хлынул к беседке. Что там случилось? Среди толпы замелькали металлические пуговицы и жгуты полицейских мундиров.
– Позвольте, господа! Позвольте! Дайте дорогу! – расталкивая людей, покрикивал частный пристав.
– Господа! Прошу вас не скандальничать! – обратился он к сидевшим в беседке.
– Проваливай!.. Штемберга!
– Господа! Прошу не кричать!
– А-а… Федор Гаврилович! Наше вам! Просим покорно, заходите… Выпьем, брат! – подойдя к приставу, крикнул высоченный бородатый купец и одним махом втащил пристава в беседку.
Крик там затих, слышался только неясный говор и отдельные возгласы:
– Выпьем! Наливай, брат!
Народ начал расходиться; слуги, целой стаей бросившиеся к беседке, когда оттуда донесся крик, начали расходиться. Один только худощавый и не очень опрятно одетый пан стоял около беседки и смотрел на пьяное гульбище. Его высокая фигура сгорбилась, жиденькие рыжеватые бакенбарды свисали космами с впалых щек; концы их уже поседели; запавшие глаза сурово глядели из-под торчавших бровей. Заложив руки за спину и опершись на высокий парусиновый зонт, он точно ждал кого-то. Немного спустя из беседки вышел пристав, красный как рак.
– Федор Гаврилович! – бросился к нему пан.
Пристав остановился, вытаращив глаза.
– Кажется, я не ошибся? Имею честь говорить с Федором Гавриловичем Кнышем? – сказал пан.
– Ваш покорный слуга, – звякнув шпорами и слегка поклонившись по-военному, ответил пристав.
– Не узнаете? Так, так… – усмехнувшись, сказал пан.
– Извините, пожалуйста… не узнаю…
– А помните, когда вы были секретарем в полиции, как мы вместе с вами и капитаном Селезневым пулечку закладывали? Давно это было… Верно, забыли уже Антона Петровича Рубца?
– Антон Петрович! – крикнул удивленный пристав, подавая обе руки старому приятелю. – Боже мой! И постарели же вы, изменились, ни за что узнать нельзя! – сказал Кныш.
– Время берет свое! – глухо произнес Рубец. – А вот вы помолодели. И как вам идет эта форма!
– Как видите, переменил службу… Жена приказала долго жить.
– Слышал, слышал…
– Махнул на все и в приставы пошел.
– Тяжелая служба! Хлопотливая! У всех на виду.
– Все бы это ничего, только поспать некогда.
– Да, да… Опять же это… – Рубец кивнул головой на беседку, где снова поднялся невероятный шум. – Другим гулянье, веселье… а ты за всем присматривай, чтобы не очень-то разгулялись.
– Это наши купчики раскрутились. Что с ними поделаешь? Знакомый народ, в моей части живут.
– Так, так… Кому гульня, а кому служба.
– Ну, а вы как? Все на старом месте? Что это вы к нам пожаловали?
– Вы слышали, что капитан умер? – сказал Рубец. – Умер, сердешный, царство ему небесное… И меня на его место выбрали.
– Так вы уж в земстве служите?
– Пенсию небольшую выслужил… В отставку вышел. А все-таки не хочется сидеть сложа руки… Привычка, знаете… Захотелось еще обществу послужить. Спасибо добрым людям, не обошли: выбрали на место капитана. Помаленьку живем…
– Так вы сюда на выборы приехали?
– На какие там выборы? Господь с ними!
– По своим делам?
– Да нет же… После выборов – земский съезд… Меня, видите, выбрали губернским гласным.
– Вот как! – сказал Кныш. – Поздравляю.
– Спасибо! Хотя и поздравить не с чем; хлопот и расходов больше; а все же – почет… Раз уж выбрали, надо хоть раз побывать на съезде… послушать, что умные люди говорят… Мы и у себя в городе на каждом собрании слушаем речи. Да то свои, знакомые, а тут со всей губернии… Шуму много ожидается. Будет ли только толк?
Кныш усмехнулся.
– А сейчас решил на ваши губернские чудеса взглянуть, – продолжал Рубец. – Потратил двугривенный, думаю, кого из старых знакомых встречу… И хорошо, что вас нашел. Скажите: не знаете ли вы случайно Григория Петровича Проценко? Он у меня когда-то жил.
– Как же, знаю. Он тоже в земстве служит: бухгалтер губернской управы, – ответил Кныш.
– Хотелось бы мне его повидать.
– Он тут в саду был. Я его видел… Да вот и он, – сказал Кныш, указывая на высокого, хорошо одетого человека, выходившего из ресторана. – Григорий Петрович!
Проценко неторопливо подошел, поздоровался с Кнышем и, не глядя на стоявшего рядом Рубца, спросил:
– Что нового?
– Узнаете земляка? – спросил Кныш, указывая на согбенную фигуру Рубца.
Проценко сквозь пенсне взглянул на него.
– Не узнаете? – глухо произнес Рубец. – Дело давнее…
– Кажется, Антон Петрович? Сколько лет, сколько зим! Здравствуйте! – Проценко протянул руку.
Пошли расспросы и воспоминания.
Проценко словно обрадовался, когда узнал, зачем Рубец приехал.
– Так и вы на съезд? Приятно, приятно видеть своих, – отбросив свою натянутость, приятельски заговорил Проценко. – А как хорошо меня кормила Пистина Ивановна! Здесь ни за какие деньги такой пищи не достанешь. Позвольте ж мне теперь угостить вас… не отказывайтесь, грешно вам будет… Вот мы втроем с Федором Гавриловичем выберем укромное местечко, посидим, старину вспомним.
– Человек! – крикнул Проценко. Официант со всех ног бросился на зов.
– Выбери лучшую и уютную беседку… Чаю, закуску… живо! – командовал Проценко.
Официант стрелой метнулся выполнять приказание.
– Проворный! – сказал Рубец. – У нас таких нет.
– Он только бегает скоро. А пока принесет, мы еще насидимся, – сказал Кныш.
Пока Рубец и Кныш вели беседу об официантах, Проценко стоял, повернувшись лицом к веранде, и свысока оглядывал прохожих.
– Мосье Проценко! Скажите вашей супруге, что я на нее сердита, – сказала ему молодая женщина, за которой увивалась большая группа офицеров, погромыхивая саблями и шпорами.
– За что это?
– Как же! Тянула, тянула ее в сад, а она ни за что не хотела пойти, – кокетливо глядя на него, сказала незнакомка, проходя мимо.
– Так вы женаты? – спросил Рубец.
– Уже полгода, как женился.
– А я и не знал. Поздравляю. Почему же вы один? Разве жена нездорова?
– Да нет… Она у меня домоседка.
Рубец хотел что-то сказать, но тут как раз прибежал официант.
– Готово-с! – сказал он, остановившись перед Проценко, и рывком бросил салфетку на плечо.
– Где? – спросил Проценко.
– Пожалуйте-с! – сказал он, побежав вперед.
– Куда же ты? – крикнул Проценко.
– Там-с! – сказал официант, указывая рукой на купу акаций, черневших вдали.
– На кой черт такую глушь выбрал? – сердито сказал Проценко.
– Здесь все заняты-с!
Проценко остановился.
– Пойдем. Там будет меньше любопытных глаз, – сказал Кныш, и все двинулись вслед за официантом.
В конце широкой аллеи, под сенью акации, чернела небольшая беседка. Дойдя туда, официант сказал:
– Здесь!
В беседке стоял стол, накрытый белой скатертью, на нем горели две свечи под стеклянными колпаками, вокруг стола стояли табуретки.
– Как тут уютно, – сказал Рубец.
– Так ты еще ничего не приготовил? – спросил Проценко.
– Что прикажете-с?
– Черт бы тебя побрал! Хоть бы чаю принес.
– Сколько прикажете-с?
– По старому обычаю… – вмешался Рубец.
– Пью раньше водочку, – закончил вместо него Кныш.
– Как хотите. Что же мы закажем? – спросил Проценко.
Начали совещаться. Кныш захотел битки в сметане, Проценко – перепелку, а Рубец сказал: пусть дают что угодно, только поскорее.
– Графин водки! Бутылку красного! Битков, перепелов, а третье… что есть у вас лучшее?
Официант, точно трещотка, начал сыпать названиями блюд.
– Дай мне котлеты, да по моим зубам, – сказал Рубец.
– Отбивных, пожарских? – снова затараторил официант. Рубец, не зная, какие ему заказать, растерянно озирался.
– Пожарских! – крикнул Проценко.
– Хорошо-с!
– Постой! Принеси пока графин водки, селедку, а если есть хороший балык, икра, тоже захвати.
В ожидании закуски старые приятели завязали обычную в таких случаях беседу. Проценко расспрашивал Рубца о городе, Пистине Ивановне, детях. Рубец отвечал не спеша, пересыпая речь пословицами и поговорками, как все уездные жители. Его речь затянулась бы надолго, если бы в это время официант не принес водку и закуску. Когда же засверкал на столе графин и приятно зазвенели рюмки, беседа сразу оборвалась; руки сами потянулись к рюмкам, глаза жадно поглядывали на ломтики жирного балыка, черную икру, отливающую серебром селедку.
– Будем! – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Приятели чокнулись и выпили.
Закусив, приложились ко второй.
– Вы, кажется, это зелье не употребляли? – спросил Рубец, глядя, как Проценко опрокидывает одну рюмку за другой.
– Не употреблял. Молодой еще был.
– Вы тогда больше по женской части… – смеясь, вставил Кныш.
– Случалось, не робел. А теперь жена мешает, – сказал Проценко.
– А вас еще и сейчас вспоминают барышни и молодые барыньки, – сказал Рубец.
– Счастливая пора, – сказал Проценко. – Давайте выпьем за них!
Только наполнили рюмки, как официант принес жарко́е. Своим приятным запахом оно вызвало еще больший аппетит.
– А вино? – спросил Проценко.
– Сейчас, – сказал официант.
– Потом подашь чай. Слышишь? И бутылку рому.
– Слушаюсь.
– Так выпьем за здоровье тех, кого мы любили и кто нас любил, – сказал Проценко, поднимая рюмку.
Они снова чокнулись и выпили. После четвертой у всех загорелись глаза.
– Чего в молодые годы не бывает? – задумчиво сказал Рубец. – Помню, как я в свою крепостную влюбился, да так, что жениться хотел, а покойный отец задал мне хорошую взбучку, и любовь вся испарилась.
– А я? – крикнул Проценко. – Это ж у вас на глазах произошло. Помните Христю? Я ж хотел с ней гражданским браком жить. А теперь где она? Что с ней?
– Так и пропала. Когда я рассчитал ее, слышно было, что она одно время у Довбни жила. Жена Довбни такая же шлюха, как и Христя. Довбня начал к ней приставать, а Марина заметила это и выгнала подругу. Говорят, что потом она и у покойного капитана жила. Тот, как военный, любил девушек. А потом капитан ее кому-то уступил, а там и слух о ней пропал. Не знаю, куда делась. А жаль, хорошая была работница.
– Да, она была даровитая. Очень… – подумав, сказал Проценко. – Куда даровитей этой попадьи. Как ее? Наталья… Наталья… взбалмошное существо!
– Царство ей небесное! – сказал Рубец. – Отравилась. А поп постригся в монахи. Оба они чудные были.
– Взбалмошное существо! – повторил Проценко.
– В городе тогда говорили, что из-за вас, – сказал Рубец.
– Может быть. Чем же я виноват? Вольно человеку дурь в голову вбить. Вечной любви желала… Глупая! Как будто существует вечная любовь!
Кныш и Рубец захохотали, а Проценко, почесав затылок, сказал:
– Уж мне эти бабы!
Официант принес чай, вино и ром.
– Вот это кстати! – сказал Проценко и придвинул к себе стакан.
Принялись за чай. Кныш и Рубец налили ром, а Проценко ждал, пока чай остынет. Он часто вставал, выходил из беседки. Видно, его что-то встревожило. Лицо его побагровело, глаза потускнели, он часто снимал пенсне, протирал его платком и снова надевал.
– Григорий Петрович! Здравствуйте! – приветствовал его кто-то громко, когда он снова вышел из беседки. – Вы один?
– Нет, с компанией. Ах, кстати. Хотите земляка увидеть?
– А как же! Земляка – охотно. Где он?
Немного погодя на пороге беседки появился Проценко в сопровождении плотного здоровяка с лоснящимся от жира румяным лицом и черными усами.
Рубец сразу узнал Колесника. Тот же голос – звонкий и гулкий, и весь он такой же бодрый и бравый, как прежде. Только одет иначе. Он уже не был в долгополом кафтане и шароварах, заправленных в сапоги, а в сюртуке модного покроя и светлых брюках навыпуск, элегантных башмаках и рубашке с воротничком; на груди у него болталась массивная золотая цепочка от часов, а на пальцах сверкали бриллиантовые перстни.
– Антон Петрович! Сколько лет, сколько зим! – крикнул Колесник и полез целоваться.
Потом он сказал:
– Вот где вы собрались, земляки. Ну что ж, и я с вами выпью чарочку рома.
– Константин Петрович, а может, чайку? – спросил Проценко.
– Нет. Чай сушит. Это не по нашей части. В земстве говорят, что я мужик. Так уж мужиком останусь. Будем здоровы. – И он мигом опрокинул рюмку.
– Ну, а вы как живете? – обратился он затем к Рубцу. – Слышал, вы службу переменили, в земство перешли. Это – по-моему. Хорошо. Ей-Богу, хорошо. Служба только хлопотливая. На месте посидеть не дадут, гоняют как зайца. То мост поезжай строить, то плотину. Паны сидят и пишут, а ты как угорелый мотайся. И всюду поспевай. Только и отдохнешь перед собранием. А так – из повозки не вылезаешь.
– Однако вам, Константин Петрович, это впрок идет, вот как вы раздобрели, – улыбнувшись, сказал Кныш.
– Хорошо, что я такой удался. А был бы слабый – что тогда? Дождь, грязь, ненастье, а ты мчишься. Дело не ждет. Ох, и спросить забыл, – обратился он к Проценко. – Видели новое диво?
– Какое? – спросил тот, прихлебывая чай.
– Арфисток! – крикнул Колесник. – Ну и Штемберг! Вот это арфистки! Платья у них коротенькие, ножки в голубых чулочках. А личики – розы и лилии. Сроду таких не видал. А лучше всех одна Наташка. Как в сказках говорят: на лбу – месяц, на затылке – звезды.
– Ну, пошел расписывать! – ввернул Кныш.
– Это по его части, – вставил Проценко.
– Не верите? Вот увидите сами. Скоро они начнут петь.
Кныш и Проценко начали посмеиваться над склонностью Колесника к женскому полу.
– Было когда-то! А теперь никчемным стал, – сказал Колесник, наливая себе в рюмку ром.
В саду начался шум, все устремились к веранде. Послышались выкрики:
– Сейчас будут петь! Сейчас!
– Пойдем! Пойдем! – засуетился Колесник.
– Ну, пусть идут молодые, – сказал Рубец. – А нам, старикам…
– Разве у старого кровь холодная? Пойдем!
Не допив вина, они бросились к веранде. Колесник шел впереди и тащил за руку Рубца, который никак не поспевал за своим проворным и вертлявым земляком. Проценко и Кныш шагали в стороне. Около закрытой веранды была такая давка и теснота, что протиснуться нельзя было. В двери входили не поодиночке, а точно тараном пробивались плотно сомкнутыми группами. Протиснулись и наши земляки и сразу бросились занимать хорошие места. Как раз против дверей находился высокий помост, на котором тесным рядом стояли арфистки, озираясь по сторонам; порой улыбка мелькала на лице у той или другой. Со всех концов раздавались восторженные возгласы.
– Вот Наташка. Средняя. Сюда глядит! – крикнул Колесник.
Посредине стояла невысокая круглолицая девушка, одетая в черное бархатное платье, особенно оттенявшее нежную белизну ее лица и шеи, – она выделялась среди своих подруг, как лилия в букете.
– У-у! – загудел Проценко. – Вот скульптурность форм, вот мягкость и теплота очертаний!
– Ага! Не я вам говорил? – торжествовал Колесник. – Козырь-девка!
– Постойте, постойте. Она мне напоминает кого-то, – сказал Проценко. – Дай Бог памяти. Где же я видел похожую на нее?
– Нигде в мире. Разве что во сне, – сказал Колесник.
– И я где-то видел такую, но черт его знает, не припомню… – сказал Рубец и пристально взглянул на девушку. Та спокойно смотрела на публику своими жгучими глазами. Вот она перевела взор на Проценко. Удивление, смешанное с испугом, отразилось в ее бездонных зрачках, она еле заметно вздрогнула и сразу начала смотреть в другую сторону.
– Ей-Богу, я где-то видел ее! – сказал Проценко.
– Не может быть, – уверял его Колесник.
Народу набилось столько, что нельзя было повернуться, жара – трудно дышать.
– Знаете что? Пойдемте к той стене, на скамью станем, там не так жарко будет, и все видно, – предложил Колесник. Он двинулся вперед, все последовали за ним.
Когда они пробирались на новое место, заиграли на рояле – значит, скоро начнут петь. Все мгновенно замерли, слышно стало, как жужжит муха. Среди этой тишины зазвучали аккорды рояля. И вот наконец грянула походная песня:
Мы дружно на врагов, На бой, друзья, спешим…Звонким голосам девушек вторили сиплые голоса стоявших за роялем мрачных верзил с испитыми лицами. Это бесталанные или пропившие свои голоса и выгнанные со сцены актеры развлекали пьяное купечество своим завываньем. Когда спели походную, слушатели наградили исполнительниц бурными аплодисментами. Певицы улыбались, кланялись, перешептывались, потом опустились на маленькие табуретки, стоявшие позади их. Только Наташа стояла по-прежнему. Аккомпаниатор взял несколько аккордов на рояле и умолк. Наташа быстрым взглядом обвела море голов, колыхавшееся перед ней, и запела «Прачку».
Звонким и сочным голосом она пела про тринадцатилетнюю прачку, как позвали ее к сударину-барину стирать сорочку, – это была одна из тех песен, которыми кафешантанные певички услаждали слух барам, пьяным купцам и купеческим сынкам. Свои песни Наташа дополняла выразительными жестами и взглядами. Слушатели млели. Казалось, они забыли обо всем на свете, и владела ими одна похоть, о которой рассказывала певица. Когда она начала жестами показывать, как она стирала сорочку, поднялся бешеный рев. К нему присоединились рукоплескания, топот сотен ног, – казалось, что от этого неистового грохота треснут стены и обвалится потолок. Певица несколько раз поклонилась во все стороны и опустилась на табуретку.
Барышни скромно потупили глаза, а их кавалеры, плотоядно улыбаясь, говорили: «Настоящий бесенок!» – и целые охапки цветов полетели к ногам певицы. Некоторые, протиснувшись к сцене, сами протягивали ей цветы. Она брала их, церемонно кланяясь. «Шампанского!» – послышался громкий возглас. Официант подал на подносе вино одному панычу; тот взял его и со своей компанией направился к певице, и там начали выпивать за ее здоровье. Она и сама отхлебнула из одного бокала и со всеми приветливо чокалась.
А что же наши земляки? Кныш смеялся и слегка подталкивал в бок Рубца, который, краснея, отмахивался от него обеими руками.
Проценко пристально следил за певицей, не отрывая от нее горящих глаз, она притягивала его словно магнит, а Колесник вертелся как ошпаренный, хлопая себя руками по животу, и говорил:
– Ох не выдержу! Ей-Богу, не выдержу!
Он так и не выдержал. Дождавшись, когда народ разойдется, он соскочил на землю и пробрался к сцене.
– Наташа! – окликнул он певицу.
– Что, папаша? – лукаво улыбаясь, спросила та.
– Можно вас просить поужинать со мною?
– С удовольствием, – ответила Наташа, протягивая ему пухлую белую руку. Все только глаза вытаращили от зависти, глядя, как Колесник повел через весь зал Наташу к отдельным кабинетам, находившимся сбоку.
– Человек, карточку! – крикнул Колесник, торжествующим взглядом окинув публику. Затем он вместе с Наташей скрылся за толстой портьерой.
По залу прошел громкий говор. Знай наших! Откуда взялся сизый голубь и оставил на бобах воробьев!
– Вот и полюбуйся. Старый, а меткий!
– Уж этот Колесник! Куда ни сунься, а наш пострел везде поспел.
– Еще бы! Куда девать земские деньги, что сами в его карман плывут?
– Вот почему разваливаются наши мосты и гати.
– Пойдем отсюда. Тут дышать нечем, – сказал нахмурившийся Проценко и направился к беседке.
Кныш и Рубец последовали за ним, расхваливая Колесника за его смелость и удачливость.
Проценко молча пил чай, все время подливая в него красное вино. Когда они наконец вышли, Рубец и Кныш были багровыми, как спелые арбузы, а Проценко сильно побледнел. Ноги у него заплетались.
– А вот и Колесник! – сказал Кныш, заглянув в раскрытое окно отдельного кабинета.
Колесник и Наташа сидели на плюшевом диванчике около небольшого столика, на котором было наставлено много всякой снеди и бутылок. Обняв Наташу, Колесник прислонился головой к ее плечу и, казалось, дремал, а она его хлопала по щеке.
Проценко первый приблизился к окну.
– Здравствуйте, мамзель! – сказал он.
– Здравствуйте, мосье! – ответила Наташа, пристально взглянув на него.
– Мы, кажется, знакомы. Я где-то видел вас.
– Спросите у Пистины Ивановны! Она все расскажет! – отрезала Наташа и, быстро поднявшись, опустила штору.
Проценко, словно пораженный громом, долго не мог прийти в себя. Он готов был броситься в окно и разбить голову этой шлюхе. Но Кныш, заметив его состояние, поспешно оттащил Проценко от окна.
– Дрянь… и смеет так отвечать! – крикнул Проценко.
А из-за шторы донесся звонкий голос:
– Папаша! Папаша, поедем к тебе.
Вскоре после этого все увидели, как пьяный Колесник, взяв под руку Наташу, повел ее к выходу, кликнул извозчика, и они уехали.
– Кого это она назвала? – допытывался Рубец у Проценко, который ходил по саду точно в воду опущенный. – Мне послышалось – будто имя моей жены.
– А так, сдуру сболтнула первое, что ей взбрело в голову, – сказал Кныш. – Разве эти шлюхи о чем-нибудь думают?
Проценко не проронил ни слова. Вскоре он позвал официанта, расплатился с ним и ушел домой. Идя по затихшим улицам, он невольно вновь задумался над словами арфистки. «О какой она Пистине Ивановне говорила?» Кроме жены Рубца, у него не было больше знакомых женщин с таким именем. Он действительно когда-то заигрывал с женой Рубца, но откуда ей это известно. Колесник успел рассказать?
И, дойдя до дому, он с такой силой дернул звонок, что по улице покатилось эхо.
ГЛАВА ВТОРАЯ
– Номер! – раздался окрик Колесника в вестибюле лучшей гостиницы, куда он вошел вместе с Наташей. Ее лицо было закрыто густой черной вуалью.
– Семейный?
– Конечно. Видишь – я не один.
– Пять с полтиной.
– Веди! А не запрашиваешь?
– Да я так. Кому как угодно. Может, дорогой будет, есть и подешевле, – оправдывался лакей.
– Веди! – проговорил Колесник.
Лакей повел их по тускло освещенному коридору. Он побежал вперед, а Колесник неторопливо следовал за ним, ведя под руку Наташу и громко скрипя сапогами.
Дойдя до одной двери, лакей открыл ее ключом и зажег свет.
– Этот? – спросил Колесник.
– Самый аристократический, – сказал лакей.
Стены были оклеены голубыми обоями; на дверях – тяжелая голубая портьера, на окнах – узорчатые занавеси; мягкая мебель с голубой обивкой довершала обстановку, и весь номер производил впечатление уютного голубого гнездышка. Большое зеркало в бронзовой раме, в котором отражалась комната, словно удваивало ее. Колесник грузно опустился в кресло и начал оглядывать мебель.
– Красиво, черт побери! – сказал он.
– А спальня где? – спросила Наташа.
– Вот, – указал он на другую портьеру, тщательно прикрывшую боковую дверь.
– Посмотрим, – сказала Наташа и скрылась за портьерой.
Лакей понес за ней свечу.
– Ничего, хорошо, уютно, – вернувшись, сказала она. – Только, друг мой, еще так рано – не напиться ли нам чаю?
– Самовар! – распорядился Колесник. Лакей мигом убежал, и только слышно было, как стучат в коридоре его тяжелые башмаки.
– Это я, папаша, так, чтобы не дать лакею понять, что я не твоя жена.
– О, да ты лукавая! – сказал Колесник, погрозив ей пальцем.
Наташа начала его тормошить, да так, что он совсем запыхался.
– Хватит! Хватит! – взмолился он.
– А твоя жена жива? – спросила Наташа погодя. – Она живет в городе Н…?
Колесник с удивлением взглянул на нее.
– Кто тебе это сказал? – спросил он.
Она захлопала в ладоши и, засмеявшись, сказала:
– Ты думаешь, я твоей жены не знаю? Я все знаю. А как я отбрила сегодня Проценко!
– Так ты и Проценко знаешь?
– И Проценко, и Рубца, и Кныша. Всех вас, чертей, знаю как свои пять пальцев.
– Откуда?
Она неестественно засмеялась.
Лакей принес самовар. Пока он расставлял посуду, Наташа была сдержанной и молчаливой, а когда он ушел, снова начала хохотать. Потом заварила чай, принялась мыть и перетирать посуду. Ее розовые пальчики, как мышата, бегали и мелькали перед глазами Колесника.
– Так почему ты все это знаешь? – спросил Колесник.
Она словно не слышала его вопроса. Оттопырив губы и моя в полоскательнице стакан, она тоненьким голоском замурлыкала веселую песенку – тру-ля-ля, тру-ля-ля…
– Ты слышала?
Наташа грустно взглянула на Колесника и тяжело вздохнула. Потом вытерла стакан, прошлась по комнате и, остановившись перед Колесником, произнесла задыхающимся голосом:
– Я вина хочу. Вина!
– Так почему ты раньше не сказала?
Схватив звонок со стола, Колесник неистово зазвонил.
Прибежал лакей.
– Вина! – крикнул Колесник.
– Красного, – шепотом прибавила она. – Я люблю с чаем пить.
Колесник добавил:
– Да хорошего, старого, и бутылку рому.
– Я думала, что ты не согласишься, – сказала она, когда лакей ушел.
– Для тебя? Проси все, что хочешь. Ты думаешь, что я стану скаредничать в мелочах?
– Люблю молодца за нрав, – сказала она. – А что деньги? Человека за них не купишь. И я такая. Сколько через мои руки прошло всякого добра? А где оно? Раздала. Все, что было, то сплыло. Однако – живу.
– Ну, я своего не упущу, – сказал Колесник, – благодаря глупым панам, выбравшим меня в члены, я теперь могу спокойно жить. Хоть, может, и больше не выберут, а Веселый Кут и две тысячи десятин кого угодно успокоят навек. Буду теперь хозяином.
– Ты купил Веселый Кут?
– Да.
– Это недалеко от Марьяновки?
– Тот самый. А ты откуда Марьяновку знаешь?
Она только вздохнула. Лакей принес вино, ром, поставил на стол и бесшумно скрылся.
– Ты что, из тех краев? – спросил Колесник.
– Много будешь знать – скоро состаришься, – ответила она, придвигая к нему стакан чаю, наполовину смешанного с ромом.
– Да… Эх! Кабы сбросить двадцать лет… а то одно только горе, – сказал Колесник.
Наташа с жадностью принялась пить. Чай, наполовину разбавленный вином, утолял жажду. Осушив стакан, она сказала:
– Я еще буду пить.
И налила еще больше вина в стакан. Медленно отхлебывая обжигающий напиток, она все больше краснела, – хмель заметно сказывался и на ее лице, и в движениях, и в разговоре.
– А ну, пройдись по одной доске, – сказал он, смеясь.
– Думаешь – не пройдусь? Так вот же тебе! – Схватив свечу, она поставила ее на пол. Потом, подняв еще выше свое короткое платье, медленно зашагала. – Гляди же! – крикнула она.
Она мелкими шажками прошлась по комнате. Потом закружилась вокруг него и в изнеможении упала. Он с трудом поднял ее и положил на диван.
Колесник долго хлопотал, пока удобно устроил ее. Он принес подушку из спальни, положил ей под голову и уселся рядом. Как белая лилия, лежала она, затянутая в черный бархат. На лбу выступили капельки холодного пота, высоко и порывисто подымалась грудь, точно ей не хватало воздуха.
Долго она лежала совершенно неподвижно, потом открыла глаза и тяжело вздохнула.
– Ох! Закружилась я, – произнесла она тихо и снова закрыла глаза.
– Не надо было столько пить, – укоризненно произнес Колесник.
– Разве я много пила? – сказала она немного спустя, повернув к нему порозовевшее лицо, на котором только сохранились следы усталости. – У меня так всегда бывает, когда я много резвлюсь. Один доктор сказал, что я от этого умру.
– Много они знают, твои доктора, – буркнул Колесник, снова взяв стакан с ромом.
– Должны знать. Для чего-нибудь они ж учились столько лет…
– Чтобы столько лет… людей морочить.
Она на минуту задумалась, а потом снова грустно заговорила:
– Кто только их не морочит?
– Кого?
– Людей. Ты – меня обманываешь, другой – тебя. Каждый готов обмануть другого. А нам больше всех достается.
– Да и ваш брат как приберет к рукам, все кишки вымотает.
– Есть такие, есть. Только разве они такими родились? Вы же сами их сделали такими. Обманете, выбросите человека на улицу, голого и босого, куда ж ему деваться? Просить милостыню – стыдно, красть – грешно.
– А работать?
– Работать? Когда вы человека так обидите, ему и свет не мил.
– Не верь.
– Как не поверишь, когда каждое слово его до самого сердца доходит. А вот обманут тебя раз, другой, а потом уж и себе перестаешь верить. Тогда и пускаешься во все тяжкие. Ты думаешь, что мы охотно идем на такую жизнь? Сладко, что ли, вертеться перед таким, на которого мне и смотреть тошно. Ох, если б ты знал, как нам порой бывает горько! Если бы в это время рядом была глубокая река, так бы и бросилась в нее! Разве мы – люди? Только лицо у нас человеческое, а сердце в невылазном болоте затоптали. Знаешь что? Ты, говоришь, купил Веселый Кут? Возьми меня к себе. Как Бога, почитать тебя буду. Может, я там привыкну. Возьми! – И она поцеловала его жилистую багровую руку.
– Кто же ты?
Она взглянула на него. Потом вынула из-за корсажа бумажку и подала ему. Это был паспорт крепостной из Марьяновки – Христины Филипповны Притыки.
– Так ты Христина? – спросил он ее. – Почему ж тебя зовут Наташа?
– Такой у нас обычай – всем дают другие имена.
– Христя… – произнес он задумчиво, что-то с трудом припоминая.
– Помнишь Загнибиду?
– Так ты та самая Христя, что у Загнибиды служила? Говорят, ты жену его задушила.
– Сказать все можно.
– Да я знаю, что это ложь. Ты потом служила у Рубца. По городу ходил слух, что вы с хозяйкой Проценко не поделили.
Христя только тяжело вздохнула.
– Не напоминай мне о нем. Прошу тебя. Это горе мне и по сей день сердце гнетет. От него и пошли мои беды… – начала она жалостливо, но вдруг поднялась и чуть не крикнула: – Я сегодня с трудом сдержалась, чтобы не плюнуть ему в глаза, когда он подглядывал в окно.
Она задыхалась от гнева, душившего ее.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
На следующий вечер в сад повалил чуть ли не весь город посмотреть на красавицу арфистку, но Наташи в этот вечер не было. Не было ее и на другой, и на третий, и на четвертый…
– Где же эта красавица? – допытывались все.
– Нет ее. Куда-то исчезла.
– Жаль, так и не пришлось ее повидать.
– Постойте, спросим хозяина.
И несколько панычей отправились к арендатору сада разузнать о Наташе.
Хитрый Штемберг только качал головой, причмокивал и сердито почесывал бороду. Наконец, когда к нему очень пристали, он не вытерпел и крикнул:
– Ах, если бы вы знали, сколько она мне хлопот наделала.
Кныш спросил его, в чем дело. Штемберг рассказал, что к нему приезжал Колесник и просил уступить ему тайком Наташу. Он поднял бучу, отобрал у Наташи платье, да этим дело и кончилось.
– А Наташа у Колесника осталась?
– У него. Голая сидит, ждет, пока ей сорочки, платья пошьют, – смеясь сказал Кныш.
– Вот тебе и Колесник. Недавно имение купил за тридцать тысяч, а теперь еще и гарем заведет. Вот служба так служба!
И про Колесника пошли по городу слухи, что он наворовал земских денег, отпущенных на постройку мостов и плотин, купил большое имение. В паны лезет. Из его рук уж не вырвешь…
Эти слухи про тридцать тысяч никому не давали покоя. О Колеснике говорили все – и обедневшие дворяне, и чиновники, и даже крупные помещики. У всех он торчал бельмом в глазу.
«Вот куда наше добро идет! Крепостных отобрали, деньги, которые мы должны были получить за них, пошли на погашение долгов. Остались мы и без рабочей силы, и без денег. Что ж ты с одной землей сделаешь? Хоть бы банки завели, под заклад деньги б дали. Надо же иметь средства, чтобы хозяйство вести. Ничего этого нет. Сидим, как раки на мели. Поневоле попадешь на удочку купцам, а они нас и слопают!» – толковали паны.
А больше всех возмущался Лошаков – гвардии ротмистр, плечистый, краснолицый, о котором когда-то вздыхали барышни, когда он был молод и холост. Не одна была очарована бравым гвардейцем, да и молодые барыни проклинали свою судьбу за то, что поспешили выйти замуж, и охотно давали ему целовать свои пухленькие ручки. А он, веселый, говорливый, носился как мотылек от одного помещика к другому, и всюду его принимали как родного. Умными и солидными речами сначала обворожит молодого барина или старого отца, а потом уж целует ручки дамам и барышням. Но это было давно. Теперь Лошаков не тот. Он давно женат, имеет детей, стал хорошим семьянином, видным общественным деятелем. Его уже в третий раз выбирают уездным предводителем дворянства, а теперь выбрали губернским. Пошел Лошаков в гору. С самим губернатором запанибрата. Он может принести большой вред такому червяку, как Колесник, тем более что они земляки.
Колесник обрадовался, узнав, что губернским предводителем намечают Лошакова. Встречая его, Колесник всегда ему почтительно кланялся и старался с ним заговорить, словно не слышал того, что говорил о нем Лошаков. Теперь он твердил каждому встречному и поперечному:
– Добрый пан. Справедливый человек. И голова! И что-нибудь сделает для дворянства. Давно пора!
И когда стало известно, что Лошаков выбран предводителем, Колесник вместе с группой дворян поехал его поздравлять.
– И Колесник пришел! – громко произнес Лошаков. А тот, словно не расслышав, сказал:
– Давно мы этого ждали, давно загадывали, чтобы нашего земляка увидеть во главе. Теперь дождались. Поздравляю вас, как член земства, а еще больше, как житель нашего родного уезда. Дай же Бог увидеть вас на более высоком посту!
Лошаков усмехнулся, подошел к Колеснику и подал ему руку. Тот готов был приложиться к холеной барской руке, когда она очутилась в его красной лапе.
– Как же ваши земские дела? – лукаво взглянув на него, спросил Лошаков.
– Помаленьку, ваше превосходительство, помаленьку везет наш земский конек, да все вперед. Разве только споткнется на худом мостике. Тогда мы все кучей бросаемся этот мостик чинить.
«Вот шельма в мужичьей шкуре, – говорили глаза панов, окруживших Лошакова. – Знает, кому что сказать».
– Слышали, слышали про вашу неутомимую деятельность, – усмехаясь, сказал Лошаков.
– Про мою, ваше превосходительство? Какая она моя? Земская, ваше превосходительство! Мы все сообща: если один не справится – другие помогают. Храни Боже нашего председателя – сам не спит, значит, и другим дремать нельзя. Надо, говорит, оправдать доверие, верой и правдой послужить обществу. И служим. Известное дело – не без того, чтобы не ошибались, – говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает. Может, на чей-нибудь взгляд, мы и большие ошибки делаем – Бог знает. На всех не угодишь. Вот скоро будет съезд – все увидят, что и как мы делали. И тогда каждому воздастся по заслугам.
Все глаза вытаращили, пораженные смелой речью Колесника. А он хоть бы бровью повел: речь его льется, как соловьиная песня.
Затем он поклонился Лошакову и почтительно сказал:
– Ваше превосходительство! Мы вас не только уважаем, мы вас любим. Нам приходилось не раз видеть вас как члена земства, который первым указывает на наши ошибки и новые нужды. Теперь вы будете предводителем на наших съездах. Это большое дело. Но у вас уже не будет времени вести те бои, которые вы так талантливо вели в земстве. Для нас это большая утрата. И вот, как бывшего земского деятеля, мы теперь хотели бы почтить вас обедом. Примите наше приглашение. Там будут наши члены, кое-кто из уездных предводителей, больше свои люди. Просим вас, – еще раз низко поклонившись, закончил Колесник.
Лошаков, правда, принял это приглашение свысока. Поблагодарив за оказанную честь, он сказал, что не думает забросить работу в земстве, что сейчас ему предстоит решить еще более трудную и сложную задачу – примирить интересы дворянства с интересами земства, и он рад будет даже чем-нибудь поступиться, лишь бы это дело привести к благополучному концу. Еще раз поблагодарив, он подал Колеснику руку.
Тот, низко поклонившись, повернулся и вышел из комнаты.
– Замечательное соединение простоты с трезвым и здравым умом, – сказал Лошаков, выпроводив Колесника.
– О, Колесник себе на уме, – сказал кто-то.
– Да, он не без лукавства, – заметил Лошаков. – Но такие люди необходимы для земства.
Все промолчали – то ли потому, что были согласны со своим предводителем, то ли потому, что не хотели ему перечить. Вскоре заговорили о других вещах, не имеющих отношения к земским делам. Лошаков, видимо, довольный, ходил по комнате, обращаясь то к одному, то к другому из собравшихся дворян.
А Колесник? Сидя в изящном шарабане, он то и дело понукал своего семисотрублевого коня:
– Ну, ну, вывези, жеребчик! Не овса, золота тебе насыплю, только вывези. – А конь, вытянув шею и быстро перебирая ногами, стрелой мчался по мостовой. – Быстрей! Быстрей! Хлопот еще много! – приговаривал Колесник.
И в самом деле, в этот день ему предстояло еще немало беготни. От Лошакова он поехал к председателю земской управы. Рассказал ему о своем посещении предводителя. Потом намекнул, что дворянство, вероятно, устроит в честь Лошакова обед, не мешало бы и земству почтить такого деятеля. Председатель только поддакивал. Нужно бы устроить. Но за чей счет? Выделять на это земские средства как-то неудобно.
– Зачем же тратиться земству? У него и без того большие расходы. А я бы вот что предложил. Недавно я прикупил себе землицы – так, небольшой хуторок! И хочется мне эту покупку спрыснуть. Вот это и можно сделать под видом земского обеда – я б уже не пожалел сотню-другую.
– Так в чем же дело? – сказал председатель. – Давайте.
– Значит, вы согласны? Я уж Лошакова пригласил. Попросите еще и от своего имени. Только скажите, что земство его хочет чествовать.
– Ладно, ладно! Да у вас просто гениальная голова, – крикнул председатель.
– Была когда-то, – ответил Колесник. – А сейчас – чем дальше, тем глупее становится.
От председателя Колесник направился к членам земской управы. Им он уже прямо сказал, что председатель велел ему устроить обед в честь Лошакова, и пригласил их принять участие.
Затем он поехал по магазинам сделать кой-какие покупки. Знакомый торговец рассказал ему, что недавно он продал целый воз всякой снеди.
– Кому?
– Дворянство дает обед в честь Лошакова.
– А когда этот обед будет?
– В субботу.
Колеснику только это и нужно было. Он все время раздумывал над тем, когда лучше устроить обед.
«Сегодня уже четверг… в субботу дворяне пируют. А в воскресенье – мы… Так хорошо будет…»
И он тоже заказал целый воз всяческих продуктов. Потом поехал за вином, купил самые дорогие и выдержанные старые вина и водки, английской горькой, «Адмиральской», «Железнодорожной», рому и коньяку.
«Утоплю в вине, чертей, – думал он, выбирая напитки. – Пусть врагам хлеб-соль в горле застрянет». Но тут заговорила в нем жадность. Ему стало жалко денег, которые пойдут на этот обед. «Подумать только – триста рублей, и это еще не все. А что, если он обманет, чертов сын, и не придет?… Лучше уж не думать об этом. Все равно назад не попятишься…»
В этот день Колеснику пришлось немало потрудиться. Он заехал еще к булочнику, к мясникам, нанял повара, да не какого-нибудь, а такого, что знал все барские прихоти.
Чуть ли не до самого вечера кружил он по городу, а тревога все больше и больше овладевала им.
– Где ты так долго пропадал, папаша? – спросила его Христя, когда он наконец вернулся. Она была в пышном новом наряде: сорочка пестрела разноцветной узорчатой вышивкой, ярко-оранжевая юбка слепила глаза, а на бархатной безрукавке сверкали и переливались золотые медальоны и ожерелья из самоцветов. Белолицая, румяная, Христя так приветливо глядела своими большими черными глазами, что даже каменное сердце дрогнуло бы при виде такой красавицы. А у Колесника сердце еще не окаменело.
Куда девалась недавняя тревога? В его глазах засветилась радость, широкая улыбка растеклась по лицу.
– Глядите, как моя дочурка нарядилась, – сказал он, все веселее улыбаясь. – А я, как оглашенный, бегаю и морю ее голодом.
– Где был? К другим бегал? – спрашивала она, смеясь.
– Деньги транжирил! Не знаю, куда их девать, так чуть не сую их каждому встречному и поперечному.
– Зачем? Лучше бы ты мне домик купил. Небольшой домик с садиком. И я бы, как пташка-канареечка, там песни распевала, ожидая своего седенького папашу.
– А в самом деле? – подумал он. – Куплю, только не сейчас. Дай немножко дух перевести. Зажали меня. Вот готовься к банкету.
– Какой банкет?
Колесник все рассказал Христе и, ласково глядя на нее, закончил:
– Ты у меня хорошая, послушная, сделаешь это для меня. Лошаков этот большой пан, он многое может сделать и давно чертом на меня глядит. Вот постарайся перетянуть его на мою сторону. Сделаешь, так куплю тебе чудесный домик и не с одним, а с двумя садиками.
– Руку! – сказала она весело и задорно, а глаза ее говорили: разве твой Лошаков устоит?
В воскресенье к дому Колесника одна за другой подъезжали кареты, коляски и фаэтоны, из них выходили всякие паны, направлялись в парадные двери, в которых (до сих пор еще невиданное чудо в городе) стоял саженного роста швейцар в парчовом картузе, кафтане, расшитом золотым позументом, и с булавой в руке. Перед каждым гостем он вытягивался в струну, размахивая булавой и пропуская в раскрытые двери. Около дома собралась большая толпа поглядеть на это диво – вся улица была запружена людьми так, что трудно было пройти.
– Побей тебя сила Божья! Что он выделывает? – дивились рабочие, глядя, как швейцар затейливо размахивал булавой. – Помашет под носом, а потом пускает.
– Дает понюхать, чем пахнет! – ответил кто-то, и в толпе поднялся хохот.
– Вот это церемония. Не по-нашему. Так только в Москве бывает. Вот и поди потягайся с Колесником. Он первый человек на весь город, – говорили друг другу зажиточные ремесленники, пришедшие поглядеть на невиданное зрелище.
– Какого черта вы тут собрались и глаза таращите? – раздался голос Колесника из раскрытого окна. – Уходите, пока вас не разогнали.
– Сам. Сам. Видели? Краснорожий и сердитый какой.
– Кто сам?
– Да кто же – Колесник.
– Глядите… А давно ли он дохлятиной торговал?
– Поди ж ты. Забылось. Начальство…
– А знаете что? Лучше разойтись, подальше от беды. Что нам смотреть, как паны бесятся.
– Если тебе не хочется, уходи, а мы хоть раз в жизни посмотрим, как паны пируют.
– Смотрите, как бы вам в глаза не наплевали.
– Им недолго.
Несколько человек ушло, а на их место протиснулись другие.
– Расходитесь! Расходитесь! – закричали появившиеся вдруг полицейские и начали расталкивать людей.
– Это почему же? – послышались возгласы. – Уходи, если тебе надо.
Полицейские напирали – народ не поддавался. Завязались стычки. Внезапно налетели пожарные и начали поливать толпу струями воды. Все бросились врассыпную. Через полчаса на улице не было ни живой души. Никто не заглядывал в окна и не мешал пирующим.
А в доме Колесника шел пир горой. Столы ломились от всякой снеди и напитков. Затейливые бутылки, графины и бокалы с разноцветными винами сверкали и переливались в солнечном блеске. Закуска была разложена на серебряных блюдах и аппетитно выглядывала из-под стеклянных крышек. Паны поднимались, чокались, стучали вилками и ножами; челюсти усиленно работали; одни набивали полный рот большими кусками пирога, другие жевали рыбу и дичь; со всех концов доносились шутки и смех. Весь дом заполнили гости: уездные предводители с Лошаковым во главе, члены земства, губернские гласные и среди них – Рубец. Пришел и Проценко.
Пир вышел на славу. Земские и дворянские столпы собрались сегодня отпраздновать мир и согласие. Об этом красноречиво говорили многочисленные ораторы. Лошаков первый провозгласил тост за земство и его сотрудников. Потом председатель земской управы поднял свой бокал за дворян – лучших работников земства. Колесник произнес тост за единение дворянства с земством. Его простая короткая речь очень понравилась. Раздались аплодисменты и крики «ура». За единение! Затем последовали взаимные пожелания успеха, чоканье, братание. Вино лилось рекой.
Пока еще только закусывали. А что же было за обедом? Во главе длинного стола сел Лошаков, по правую руку от него разместились уездные предводители, по левую – земцы. Колесник сел на другом конце стола против Лошакова. Как хозяину, ему приходилось неоднократно отлучаться, потому он и занял это место. Лакеи целой ордой носились по комнате, разнося кушанья. Перед каждым гостем стояли две бутылки дорогого вина. Ну и пили же там, и ели! Шум не утихал ни на минуту, тосты следовали один за другим. На что уж тихий был Рубец, но и тот произнес тост за Колесника. Все поддержали его. Колесник в радостном смущении раскраснелся, кланялся и благодарил за честь.
– Впервые в жизни мне довелось принимать таких дорогих гостей, – сказал он, прослезившись.
– После обеда качать Колесника! – раздались голоса, когда Колесник на минуту вышел в другую комнату.
– Идет!
Вскоре он вернулся. За ним на большом серебряном подносе несли пломбир, возвышавшийся горой. На пломбире красовались два герба из жженого сахара, дворянский и земский, обрамленные вверху цветами, а внизу – снопами пшеницы, яблоками, грушами и другими плодами. Под ними золочеными буквами было написано: «Не уменьшай, Боже!» На самом верху пломбир был увенчан короной, под ней лента с надписью: «Боже, царя храни!» А над короной золотой вымпел с надписью: «Земство – дворянству!» Это было чудо кондитерского искусства. Вся губернская управа ломала голову над тем, чем бы особенным и необычайным отметить этот обед. И остановилась на этом торте из мороженого. Лучший городской кондитер потратил два дня, чтобы соорудить это чудо. Удивлению гостей не было предела. Потом лакеи принесли шампанское. Лошаков первый поднялся и от имени дворянства поблагодарил земцев за оказанную честь.
– Дай Боже, чтобы единение земства и дворянства не осталось только пожеланием, а осуществилось поскорее во славу нашего края и всей русской земли и поведало миру о благих делах мудрых мужей. Ура-а!
– Ур-р-а-а-а! – загудели кругом.
Лошаков отхлебнул из бокала.
– Ваше превосходительство! – крикнул с другого конца Колесник. – Разве у нас шампанского не хватит? Ваша здравица стоит того, чтобы ее не так отметить. Это великие, святые слова. За такие речи по ведру надо выпить. Ура!
– Правда! Правда! – закричали кругом. – Ур-а-а!
Все выпили. Выпил и Лошаков. Снова наполнили бокалы. Председатель земской управы провозгласил тост за Лошакова. За ним последовали другие. Снова и снова пили. В головах зашумело от шампанского. Все говорили одновременно, перебивая и не слушая друг друга. Кто-то разбил бокал, тарелка с грохотом упала на пол и разбилась. Шум, хохот не умолкал ни на мгновенье.
– Извините, господа! – крикнул Колесник, низко кланяясь и давая понять, что церемония окончена. – Может, не угодил, так простите, и спасибо вам.
Загрохотали отодвигаемые стулья. Все благодарили Колесника. У некоторых уже заплетались языки, и они только трясли его руку, обнимали и целовали.
– Попрошу вас, господа, пока тут приберут, в другую комнату. Покурить.
Гостиная, такая же просторная, как и столовая, с мягкой мебелью, моментально заполнилась людьми. Гости набросились на папиросы, лежавшие в красивых коробках. Вскоре всех окутали облака дыма.
– Может, кто-нибудь хочет пулечку заложить или стаканчик пунша выпить? – спросил Колесник.
Со всех сторон раздались выкрики:
– В ералаш! Преферанс! Винт! Бакара!
Разбившись на маленькие группы, гости уселись играть в карты.
Лошаков собрался домой.
– Ваше превосходительство! А может быть, и вы в карты? – спросил Колесник.
– Вы же знаете, что я враг карт. Я чувствую усталость, – сказал Лошаков, затем попрощался и вышел из комнаты.
Колесник, провожавший его, просил:
– Ваше превосходительство. А может, вы отдохнете немного. Я для вас комнатку приготовил – там и муха не пролетит.
Лошаков постоял и, после некоторого раздумья, ответил:
– Нет.
– Ну, хоть посмотрите, ваше превосходительство! Одну минуточку.
И он повел захмелевшего Лошакова по коридору. В самом конце его Колесник ткнул ногой в дверь и ввел Лошакова в небольшую пышно убранную комнату. Окна ее выходили в садик. Широколистные клены и липы своими ветвями чуть не касались стекол. Тихий ветерок навевал прохладу. Колесник отдернул полог, разделявший комнату пополам. Оттуда выпорхнула нарядная Христя и хотела убежать.
– Стой! – крикнул Лошаков, схватив ее в объятия.
Колесник задернул полог и на цыпочках вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Надвигались сумерки. Розовый свет заката струился над землей. В комнате не сиделось. Всех тянуло в сад, на свежий воздух. Гости один за другим уходили. Остались только Проценко и Рубец. Втроем с Колесником они сидели в гостиной и выпивали. Проценко потягивал старое вино, Рубец смаковал душистый крепкий чай, а Колесник пил водку. Проценко сильно побледнел и, как безумный, озирался по сторонам. Он то заводил серьезный разговор, то внезапно начинал шутить. Рубец бессмысленно махал руками и качал головой. Колесник, красный как рак, опрокидывал рюмку за рюмкой за здоровье гостей, их жен и детей. Казалось, этому не будет конца-краю.
– Охо-хо! – улучив минуту, когда Колесник умолк, сказал Проценко. – Скоро собрание.
– Начихать на него! – крикнул Колесник. – Хотите, я вам зверька покажу?
– Какого?
– Заморского. Пойдемте.
Взяв под руку Проценко и Рубца, он потянул их за собой:
Не сама ж я иду, А ведут меня…Напевая, Колесник шел по коридору. Потом он открыл дверь и толкнул Проценко и Рубца в маленькую комнату. Солнечные лучи, проникнув сквозь густую листву за окном, чертили светлые узоры на полу и стенах. Злые глаза Лошакова и лукавые – Христи устремились на вошедших.
– Что вам здесь нужно? – крикнул Лошаков.
Проценко и Рубец как вкопанные стояли у порога.
Они уже хотели уйти, но двери были заперты.
– А что, видели? Открыть дверь? – спросил Колесник, и глаза его встретились с сердитым взглядом Лошакова. – Ох, простите, ваше превосходительство! Мы пришли проверить, хорошо ли вы отдыхаете. Это мои хорошие знакомые, можете не беспокоиться, – сказал Колесник, указывая на Рубца и Проценко, которые, как зайцы, шмыгнули в раскрытую дверь. – Простите, Бога ради! – закончил он, кланяясь, и вышел из комнаты…
– А что, видели зверя? – спросил Колесник.
– Ох, Константин Петрович! Греха ты не боишься, – укоризненно покачивая головой, сказал Рубец.
– Какой там грех, Антон Петрович.
– А это что за зверек с ним был? – спросил Проценко.
– Не узнали? Лисичка. Настоящая лисичка! Вот погодите, выпроводит она волка и сама придет сюда.
– А Лошаков этот бедовый, – удивляется Рубец, – каким смолоду был, таким и остался. Жена, дети… А ему хоть бы что.
– А ты, земляк, не каркай, как ворона. Наша хата с краю, ничего не слыхали, ничего не видали, – предостерегающе сказал Колесник.
– Да я не о том, – оправдывался Рубец. – А тебе, Костя, ада не миновать, хитер ты на выдумки.
– Надо же чем-нибудь горластому пану глотку заткнуть.
– Ой, и лихая у тебя головушка! Не миновать ей Сибири.
– И там люди живут, – сказал Колесник, махнув рукой. – Давай лучше выпьем! За здоровье наших молодых! Ура!
– Кто ж она такая? – допытывался Проценко.
– Вот нетерпеливый! Погоди, сам увидишь. Своими глазами узришь.
– О! Пан уже уехал! – крикнул он, увидя в окна отъезжавшего на извозчике Лошакова.
– А-а! Знает кошка, чье сало съела. Удираешь? Не уйдешь из моих рук! – сказал Колесник, погрозив кулаком. Потом отвернулся и крикнул: – Доченька!
– Что, папаша? – донесся издали тонкий девичий голосок.
– Иди сюда!
– Ну, что вам? – появившись на пороге, сказала красивая девушка в парадном платье.
– Видал, Антон, Христю, которая у тебя когда-то служила? Видал? – повернувшись к Проценко, спросил Колесник.
И тот и другой молча глядели на девушку. А она только всплеснула руками, крикнула «ой, маменька!» и быстро убежала.
На следующий день в городе только и говорили про обед у Колесника. Сплетничали о том, кто сколько выпил, кто на четвереньках полз домой, а упоминая о Лошакове, только покачивали головами. Ну, не черт этот Колесник – такого пана оседлал! Вот какие дела!
– Да это же брехня, – недоверчиво говорили другие. – Лошаков давно на него зубы точит. Вот погодите, начнется земское собрание, так он Колесника со всеми его потрохами слопает.
Но на открытии съезда все видели, как Лошаков ласково обращался к Колеснику, по-приятельски жал ему руку, шутил с ним, хотя Колесник по-прежнему льстил ему и низко кланялся.
Когда перешли к обсуждению земских дел и некоторые начали понемногу трепать членов управы, Лошаков молчал. Когда же потребовали, чтобы он высказался, предводитель лениво произнес:
– Мы хоть и не видели до сих пор их больших дел, однако не доверять своим избранникам тоже не годится.
Этими словами он заткнул рты всем недовольным.
– А что, выкусили? – шепнул Колесник Рубцу.
Тот только посмотрел на него и в страхе отодвинулся от своего земляка, словно от сатаны.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Всего в семи верстах от Марьяновки раскинулся Веселый Кут – небольшая слобода с панским двором на возвышенности и низкой людской хатой, глядевшими в темные воды большого пруда. Позади, на обратном скате холма, густо разросся сад, примыкавший на окраине к дремучему лесу. Столетние дубы, высокие осокори, ветвистые клены и темно-зеленые липы, словно зачарованные рыцари, стояли в этом буйном лесу, укрытые густой непроглядной листвой. Их окружала молодая поросль, тонкая и гибкая, тянувшаяся к солнцу и синему простору. Она набирала силу, чтобы пуститься вдогонку за своими дедами. На широких полянах кусты калины и орешника опустили свои тонкие ветви до земли. Хмель и повилика обвили их своими длинными плетьми, с завистью глядя на столетних рыцарей в поисках ветки, чтобы, уцепившись за нее, прыгнуть на ствол и забраться вверх до той кудрявой верхушки, на которой построили гнездо орлы.
Буйный, чудесный лес! Вокруг и над ним гуляет вольный ветер, пригревает солнце, а в глубине – всегда тишина, прохлада, зеленые сумерки. Там, в лесной чаще, водились стаи птиц: чижи, крапивницы рассыпают свои трели, грустно воркуют горлинки, перекликаются кукушки, неистово чирикают воробьи, а соловьи заливаются до зари. Издали слышен орлиный клекот, а вот долбит носом аист, жутко хохочет сова, каркает ворон, а кобчики, как мотыльки, снуют над ветвями, жалобно попискивая с голоду… Лес шумит, как живой, на тысячу ладов.
Чудесные места! Лучшего и более подходящего названия, чем Веселый Кут, нельзя было придумать. Некогда богатое княжеское гнездо, где выросло насколько поколений, после отмены крепостного права захирело. Старый владелец Баратов оставил его в наследство своим молодым сыновьям, постоянно жившим в столице. Зеленый простор и невозмутимая тишина, видно, не очень привлекали наследников, и они, похоронив отца, разъехались кто куда. Веселый Кут осиротел. Без хозяйского глаза он начал оскудевать. Ровные, утрамбованные и усыпанные песком аллеи заросли подорожником; перед княжеским домом, где некогда пестрели редкие цветы на клумбах, теперь рос только бурьян да чернобыль, заглядывая в зеркальные окна, наполовину перебитые. Ненастье, осенние ливни и буйные ветры исполосовали стены дворца – памятник былого великолепия и крепостной неволи; как пугало, стоял он на возвышенности, наводя страх на слободских детей. Ночью сычи и совы оглашали своим криком окрестности, а люди говорили, что это резвятся черти, и передавали из уст в уста страшные россказни про всякую чертовщину, ведьм, вурдалаков и прочую нечисть.
Колесника все это не страшило, когда он решил купить Веселый Кут. Его привлекал не роскошный замок, а столетние дубы в лесу, которые он думал продать земству и этим окупить пятьсот десятин земли, прилегавшие к усадьбе.
«Имение стоит тридцать тысяч, – думал он. – Земля там хорошая, плодородная. Такую по пятьдесят рублей за десятину не купишь, а даже по пятьдесят, и то это составит двадцать пять тысяч. На лес и усадьбу остается пять тысяч. Если разобрать дворец, одного кирпича на три тысячи наберется, кроме того, есть еще дом управляющего, совсем новый, конюшни, кухни, амбары – и все каменные… Лес ему достанется почти даром. А за него, если с умом продать, можно выручить по двадцать рублей за десятину. Это дело!» – обрадовался Колесник и не побоялся заплатить Баратову за Веселый Кут земскими деньгами. Он опасался только, как бы его не опутали на съезде враги. Разговоры об этой покупке росли. Все кричали: вот как распоряжается земскими средствами. Колесник не раз глубоко задумывался. Теперь, когда съезд окончился благополучно, благодаря его удачному маневру с чествованием Лошакова и отчасти Христе, Колесник снова ожил.
– Пташечка моя, – ластился он к Христе. – Вот дождемся лета, я тебя в такой край увезу, что тебе и не снился. Подумай только: гора, на ней стоит домик среди густого сада, с одной стороны – пруд, с другой – лес, густой и буйный. Хоть в одной рубашке бегай, никто тебя не увидит, кроме птичек.
– А соловей там есть? – спросила Христя.
– И соловьи, и чижи, и кукушки.
Христя вскочила и, хлопая в ладоши, запрыгала от радости.
– Боже, Боже! – кричала она. – Усыпи меня на всю осень и зиму, чтобы я проснулась только весной. А еще так долго ждать. Пойдут долгие осенние дожди, расквасят землю. Туман весь свет окутает. А потом еще снег, морозы. И снова сиди дома, носа не высовывай. Господи, как долго еще до весны!
– Дурочка моя! Больше ждали, теперь уже меньше осталось.
– Где же этот рай? Как он зовется? – допытывалась Христя.
– Веселый Кут.
– Около Марьяновки?
– Да.
– Слыхала. Там дворец есть. О нем у нас всякие страхи рассказывали.
– Мало ли что выдумывают.
– Ты меня в Марьяновку повезешь?
– Повезу.
– Я там в церковь пойду. Меня никто не узнает, а я всех узнаю. Вот будет радость! А что, если твоя жена туда приедет и накроет нас? Вот уж мне достанется, все волосы вырвет.
– Выдумываешь ты разную чепуху. Не приедет она без моего разрешения. Не посмеет. Заживем мы с тобой, как в раю. Будто Адам и Ева…
Наступила осень: дожди, туманы, грязь невылазная. Христя не выходила все это время из дому; со скуки вышивала рубашки себе и Колеснику. Да хоть бы пришел кто-нибудь, а то не с кем слова вымолвить.
Как-то раз зашел Проценко по делу. Христя спряталась. Колесник и Проценко долго о чем-то говорили.
«Он, кажется, еще лучше стал», – думала Христя, глядя в дверную щель.
Вечером Колесник позвал ее чай пить. Проценко весело болтал, рассказывал смешные истории. Христя хохотала, а Колесник недовольно поглядывал на нее.
– Ты что-то очень много смеялась сегодня, – сказал он ей, когда Проценко ушел.
– А что?
– Ничего. Может, к молодому потянуло? Смотри!
Христя не ответила, но решила больше никогда не выходить из своей комнаты, когда придет Проценко.
Так она и делала.
Колесник заметил это и был очень доволен.
Как-то в воскресенье Христя оделась особенно нарядно и пошла погулять. Улицы были полны народа.
На Христе было черное суконное пальто, отороченное серым смушком, и такая же шапочка. Мороз еще больше нарумянил ее щеки. Она хороша была, как маков цвет. Все на нее заглядывались.
– А кто эта незнакомка? – спрашивали друг друга прохожие.
– Это же содержанка Колесника.
– Эх, и хороша, черт его подери!
Среди группы молодых женщин Христя заметила Проценко. «А ну, узнает он меня?» – подумала она и направилась к нему навстречу. Проценко оживленно болтал, а его спутницы громко смеялись. Христя подходила все ближе. «Кто это?» – услышала она приглушенный шепот. В это время Проценко взглянул на нее. Словно пораженный громом, он мгновенно умолк. И сразу опустил глаза.
– Ты замерзла? – обратился он к спутнице, шедшей с ним рядом.
Та что-то невнятно сказала, и они прошли мимо. Христя вскоре свернула на другую улицу и пошла домой. Смеркалось, мороз крепчал, на темно-зеленом небе загорались звезды, на улицах зажгли фонари. Дневной шум понемногу утихал, люди спешили домой. Христя шла неторопливо. Ей было досадно. Вот он какой – дома готов руки лизать, а на улице отворачивается. Где уж нам: он с барышнями гуляет, а я кто?… Содержанка Колесника… От горя сердце у нее сжалось. С опущенной головой она медленно шла по направлению к дому. Вдруг пред ней очутился Проценко.
– Здравствуйте! Гуляете?
Христя молчала.
– А Константин Петрович дома?
– Что вам нужно от меня? – сказала она сердито. – Мало вам, что молодость мою загубили?
– Вы сердитесь, что я не поздоровался с вами? Со мной была моя жена.
– Я одно только хочу знать: что вам от меня нужно?
Проценко сбивчиво заговорил о прошлом, которое так быстро миновало.
Христя была рада, что уже близко к дому. Как только они подошли к крыльцу, она резко дернула ручку звонка. Открыть вышел сам Колесник.
– Константин Петрович, мое почтение! – предупредительно сказал Проценко.
– А, то вы…
– Проводил… вот их… – Проценко указал рукой на Христю, побежавшую вверх по лестнице. – А теперь иду домой. До свидания.
– К черту! – буркнул Колесник, запирая дверь.
– Где ты подцепила этого вертопраха? – сердито спросил он Христю, вернувшись в комнату.
– А я знаю, зачем он увязался? – не менее сердито ответила Христя.
Колесник, сдвинув брови, угрожающе произнес:
– Смотри! Не очень водись с этими молодчиками, а не то в два счета вылетишь!
Весь вечер Колесник был молчаливым и неласковым. Христя тоже молчала. Установившийся мир и покой был нарушен. А Христя сейчас больше всего жаждала покоя.
Она вспомнила свое недавнее прошлое, как носилась по белу свету без руля и без ветрил, словно опавший лист, гонимый осенним ветром, и ужаснулась при мысли, что может снова вернуться к этой жизни.
– Папаша! Не сердись на меня! – сказала она нежным голосом.
И она рассказала Колеснику о встрече с Проценко, о том, что он с ней не поздоровался, и как потом он попался ей навстречу, когда она возвращалась домой.
– Гляди, только не обманывай! – ласково сказал Колесник.
После этого Христя дала себе зарок больше не гулять по городу. Она сидела дома и нетерпеливо ждала прихода весны.
В этом году весна, как назло, запоздала. Уж и Пасха не за горами, а снег еще не тает; дни ясные и солнечные, а морозы берут свое. Только после Пасхи пошли дожди и стало тепло. В три дня растаял снег, появились подснежники, фиалки. Эти первые цветы так радуют сердце, так сладостно волнуют. А мысли неудержимо влекут в неведомые края, прекрасную и манящую даль, воображение рисует образы счастливой жизни, которой человек, может быть, никогда не увидит.
Так мечтала и Христя о своей поездке в Веселый Кут.
Дом ей казался тесным и душным, город – пыльным и мрачным. Ее тянуло на простор, в бескрайние поля, где гуляет ветер и солнце золотит колышущееся море колосьев, на зеленые луга, похожие на богато вышитые ковры, в кудрявые рощи, синеющие вдали. Там бы она, как вольная птица, отдохнула и набралась сил. А Марьяновка? Родная хата, где она выросла… что с ней сталось? А подруги, с которыми она делила девичьи радости и горести, – где они теперь? Христю очень волновали эти воспоминания… «Все перенесу, все стерплю, только бы скорее попасть в этот рай!» – молила Христя, вставая и ложась.
Миновали дни за днями, сначала теплые, весенние, потом знойные и душные.
– Когда ж мы поедем?
– Скоро, скоро, – ответил Колесник. В последнее время у него было много служебных дел, приходилось часто выезжать в уезды. Христе случалось целые недели просиживать одной дома.
Собрались ехать только в конце мая. Колеснику надо было попасть в Н-ский уезд чинить мосты и плотины. Уже несколько дней шли дожди.
– Хочешь, поедем?
– Хочу, хочу! – радостно вскрикнула Христя.
На следующее утро они выехали. Как счастлива была Христя, когда она снова увидела поля, зеленые всходы, кудрявые леса и села, – все одинаковые и так похожие на ее Марьяновку, что Христя не раз спрашивала: не она ли это?
– Еще далеко до Марьяновки. Надоест трястись, пока доберемся.
Только к концу следующего дня добрались они до Марьяновки, но Христе не пришлось ее увидеть. Утомленная ездой, она уснула и, только когда подъезжали к Веселому Куту, открыла глаза.
– Вот тебе и Кут, – сказал Колесник, указывая на ряд небольших хаток у подножья крутой горы.
– А Марьяновка?
– Проспала…
– Почему ж не разбудил меня? Господи! – сокрушалась Христя.
– Еще увидишь ее. Не за горами. Лучше полюбуйся Веселым Кутом. – И он указал рукой на гору.
Солнце садилось, обливая предзакатным багровым светом барский двор. Дворец возвышался черной громадой, в розовом сумеречном свете внизу белели хатки, пруд казался огненным.
От дворца по обратному скату холма сбегал вниз фруктовый сад, а за ним в долине высился густой лес, казавшийся сейчас почти черным. Вершины его могучих столетних деревьев закрывали горизонт. Извилистая дорога змеей вилась в гору. Уставшие кони шли шагом, а в гору еле тянули коляску. И чем выше они поднимались, тем привлекательней развертывался перед глазами Христи пейзаж. Огненный диск солнца катился по горизонту, разбрасывая вокруг пучки золотисто-багряных лучей; казалось, земля горела, и пламя пожара охватило весь небосклон. Овраги и долины, точно острова, горели среди этого огненного моря, в лиловых водах пруда отражался дворец, гора и вся слобода, а справа темный лес, словно исполин, погружался в надвигавшуюся ночную темень. Из слободы доносились людские голоса, рев скотины, а в лесу запели соловьи. Христя не могла оторвать глаз от этого зрелища. Ей казалось, что она попала в зачарованное царство.
– Как тут красиво! – крикнула она, всплеснув руками. – Стойте, стойте! Я пешком поднимусь.
Выскочив из коляски, она напрямик побежала в гору. Подъем крутой, скользят ноги. Христя хватается за стебли бурьяна, взбирается, как по ступенькам. Из-под ног с шорохом выскользают комья глины… а Христя взбирается все выше и выше, ее красное платье мелькает в потемневшем вечернем воздухе.
– Совсем сдурела от радости, – говорит Колесник, не спускающий с нее глаз.
Когда он въехал на вершину горы, Христя уже стояла там на самом краю зеленой лужайки и оглядывала окрестности.
Солнце совсем закатилось. Только розовый сноп света остался на том месте, где только что скрылся край багрового диска. Розовел небосклон, а на земле уже простерлись вечерние тени. Потемнел и пруд, белые хатки слободы смутно вырисовывались в вечернем сумраке, а вдали чернел лес. Христя слегка вздрогнула от вечерней прохлады.
– Господи! Как хорошо, как красиво! – сказала она, вздохнув, и пошла навстречу Колеснику.
– Уморилась, глупенькая? – спросил тот.
– Нет. От чего? Только сердце сильнее бьется.
– Здравствуйте, батюшка! – послышался старческий голос.
Христя оглянулась и увидела рядом маленькую сгорбленную старушку.
– Здравствуй, Оришка. Ты ли это? – сказал Колесник.
– Слава Богу, еще держусь на ногах, батюшка. Все вас дожидаемся. Передавали из города, что вы вчера будете. Целый день ждали, а вас все нет. Думали, что уж не приедете.
– А я вот взял да и приехал. И не один. Вот взгляни, какую кралю к тебе на поправку привез.
– А кто же это? – спросила старушка, глядя в упор на Христю. – Какая хорошая панночка. Позвольте мне вашу ручку поцеловать. – И не успела Христя опомнится, как Оришка прикоснулась своими высохшими губами к ее пухлой руке. Христе вся кровь прилила к лицу. Ей стало так стыдно, так стыдно!
– Кирило где? – спросил Колесник.
– Весь день ждал вас, батюшка, а под вечер пошел за чем-то в слободу.
– Что ж ты нас на дворе держишь? Веди в дом. Покажи, какие горницы приготовила.
– Тьфу! Совсем дурной стала. Разболталась тут и забыла, что для этого дом есть, – сказала старушка; ковыляя и покачиваясь, как подстреленная утка, она пошла к дому.
– Для панночки я такую горенку приготовила – чудо: утром солнышко взойдет – поздоровается, а вечером, уходя на покой, попрощается. Уютное гнездышко, тихое, спокойное. Из окна все видать кругом как на ладони. Вот сами увидите, панночка! – и она юркнула в темные сени.
Когда зажгли свет, Христя взглянула на Оришку; низенькая и маленькая она; лицо точно высушено, рот ввалился, подбородок – острый; глаза, глубоко запавшие, тлели, как догорающие угли. Только они немного оживляли ее мертвенное лицо.
Христя и Оришка загляделись друг на друга.
– Ой, и хороша же ты, моя панночка, – зашамкала она своим беззубым ртом, – личико у тебя как яблочко наливное, бровки как радуга, счастливы твои батюшка с матушкой, что такую красавицу на свет породили.
– Нет у меня, бабуся, ни отца, ни матери, – грустно промолвила Христя.
– Так ты сиротка, моя родимая? Ох! Горька доля сиротская! Да Господь тебя, видно, хранит, – сказала старушка и снова ткнулась носом в руку Христи.
– Не целуйте мне рук, бабуся! – попросила Христя, вздрогнув от неожиданности.
– Не любишь? Не буду. Стара уж и поцеловать как следует не могу. Молодчика бы сюда. – Старуха хотела сделать подобие улыбки.
Боже! Ничего более страшного Христя не видела. Настоящая ведьма! В испуге она отшатнулась. А Оришка все глядела в упор, не закрывая рта… Потом перевела взгляд на топтавшегося рядом Колесника и начала быстро бормотать:
Страх, как мне не хочется Со стариком морочиться… Кабы парень молодой Погулял сейчас со мной.Словно туча надвинулась на лицо Колесника. Он помрачнел, брови сдвинулись, глаза, как шило, сверлили старуху.
– Слушай, бабка. Если ты из ума выжила, то держи язык за зубами, – сердито проговорил он.
– Нет у меня зубов, батюшка, – весело отозвалась Оришка, – давно выпали. А если что лишнее сказала, простите.
– То-то же. Нечего зря болтать. Лучше самовар поставь.
– Хорошо, батюшка. Это дело невеликое. Сейчас поставлю. – И, поклонившись, она заковыляла к выходу.
– Ты не слушай эту старую дуру, – сказал Колесник. – Ей, вероятно, за сводничество зубы повыбивали, а она еще никак от него отучиться не может.
– Да ну ее! Она такая страшная, что я на нее и смотреть боюсь.
– Бояться ее нечего. Но и слушать не нужно. Люди говорят, что она ведьма, а по-моему, она просто из ума выжила.
– Она единственная на весь двор?
– Нет, с мужем.
– Я с ней не останусь. Ей-Богу, боюсь.
– Возьмешь девушку из слободы, – сказал Колесник, позевывая. – Что-то мне спать хочется.
– С дороги. И я тоже еле на ногах держусь.
– Скорей бы она самовар принесла – и спать. Завтра уж за дело примемся. Прости, Господи, и помилуй! – Он снова зевнул и перекрестил рот.
Вскоре самовар закипел. Христя налила чаю. После чая Колесник сразу же пошел спать. Христя осталась одна. Она начала оглядывать свое новое жилье.
Комната была высокая, просторная, тщательно выбелена, в шесть окон – по два в каждой стене. Они были раскрыты настежь, и ночная прохлада врывалась в горницу, тускло освещенную сальной свечой. В переднем углу – божница, перед ней стол, вдоль стен – плетеные стулья. У глухой стены, за печкой, стояла кровать с пухлыми перинами и высоко взбитыми подушками.
«А в самом деле уютно», – подумала Христя и бросила взгляд на дверь, в сени. Она была открыта, за ней чернела густая темень. Христе показалось, что там кто-то шевелится.
– Кто это? – крикнула Христя.
– Я, панночка, – откликнулась Оришка. – Испугалась?
– Я думала, что кто-то чужой вошел.
– Не бойтесь. За самоваром пришла. Может, и для меня чаек остался? Люблю чаек, – шамкала она, заглядывая в раскрытый чайник.
– Есть, есть, берите, пейте. Вот вам сахар.
Старуха потянулась за сахаром. Христе казалось, что это не человеческая рука, а жабья лапа, – такой она была темной и сморщенной, а ногти острые, как у кота. Заграбастав полную горсть сахару, она ушла в сени, но вскоре вернулась за чайником и стаканами.
– Может, вам перестлать постель? – спросила она Христю.
– Спасибо, бабуся. Не надо.
Оришка уже собралась уходить, но потом, немного подумав, сказала:
– И ничего вам больше не надо?
– Ничего, бабуся. Идите спать, и я сейчас лягу.
– Хорошо. Только вот что. Зачем вы меня бабусей называете? Какая я вам бабуся? А что я кажусь вам старой, так вы поглядите лучше. – Говоря это, она провела сморщенной рукой по своему лицу. Христю словно кто-то в грудь толкнул или ударил по голове, свет у нее померк в глазах. И кажется ей, будто рядом стоит девочка, лицо с кулачок, и глаза у нее ясные, улыбающиеся. Христя крикнула и видит снова старую Оришку, которая покатывается со смеху.
– А что, видели, какая я бабка? Не зовите ж меня бабусей, а просто Оришкой, как звал покойник-пан.
Христя не заметила, как Оришка ушла, так она испугалась. «О, Господи! Это настоящая ведьма», – подумала она и бросилась закрывать окна и двери. Полная тревоги, она быстро разделась, потушила свечу и легла, укрывшись с головой.
Тихо, темно… И под землей темнее не будет. А Христя еще глубже зарылась в подушки, плотнее закуталась покрывалом. В комнате тепло, а она дрожит словно в лихорадке. Перед глазами вертится огненное колесо, проносятся разноцветные искры. Она еще крепче зажмуривает глаза, а искр становится больше, они так и летят во все стороны. По коже мороз продирает. Слышит она голос Оришки: «А что, будешь меня бабкой называть? Какая я бабка?» Появляется девочка. Христя вот-вот умрет со страху… и просыпается.
По стенам мелькает светлый кружок. Он то опускается вниз, то вскочит на стул, покачается и снова прыгнет на стену: «Что это? Неужели луна взошла? Да, да. Это луна… Надо встать…»
Ей мерещится, что она стоит у окна. Внизу, в долине, чернеет лес. Из-за горы выплывают густые клубы тумана и обволакивают деревья. Испарения подымаются над землей. А лунный рог словно усмехается.
– Ну, ну, – говорит он, – ложись и укройся. Пришло время отдохнуть тебе. Да и мне поглядеть охота. Люди ждут меня не дождутся.
– Кто там ждет тебя ущербленного? – слышится голос снизу.
– Посмотри на дворец. Да и спи спокойно, – отвечает месяц и сразу подпрыгнул вверх на пол-аршина. Всю долину покрыл туман густым пологом. Он приблизился к самому окну, где стояла Христя. Взглянув на дворец, она увидела, что там на самом краю крыши стояло что-то белое и тянулось к луне.
Христя взглянула пристальней: это же баба Оришка. Она, она. В одной рубашке, растрепанная.
– Ну, только скорее иди. Отчего ты сегодня так запоздал? – спрашивает Оришка.
– Да бес их знает, – говорит месяц, снова подскочив выше. – Как начали мяться и раздумывать, пока выпустили. Знают, что ночь коротка, надо всю землю обежать, так нет же – затеяли пир. Сидят – пьют и гуляют.
– Кто ж там такой?
Месяц произнес какие-то диковинные имена, которых Христя никогда не слыхала. Их и выговорить трудно.
– О-о, это известный гуляка! – сказала бабка. – А у нас тоже новости.
– Приехал, значит.
– А ты откуда знаешь?
– По следам видно. Я только высунулся и сразу увидел колеи, а на дворе около хаты столько сена натрушено, конский навоз лежит.
– Приехать-то приехал. Но угадай с кем?
– С женой, – ответил месяц.
– Кабы с женой, никакого б дива не было. А то такую панночку где-то прихватил, что не для него – старика.
– Молодую, пригожую?
– В самом соку.
– Эх, черт побери! Хоть бы одним глазком взглянуть! – крикнул месяц и волчком завертелся. У Христи в глазах зарябило.
– Ну-ну! Я тебе дам! – пригрозила ему бабка скрюченным пальцем. – Все вы, я вижу, повесы. Сегодня я пропела песенку, что не ему с такой кралей водиться. Так где там? Так рассердился, дальше некуда. Испугалась я его! Вот только жену его примчу сюда, так несдобровать ни ему, ни его крале.
– О-о, ты отчаянная! Я тебя знаю по бойне – порезала ты меня там пополам.
– А что же ты еженощно повадился? Вашего брата не сдержи, так вы такое натворите, что хоть со света беги.
– Что ж они и вместе спать легли? – лукаво подмигнув, спросил месяц.
– Нет, врозь.
– Так можно и взглянуть на нее? – лукаво подмигнув, спросил месяц.
– По мне гляди. Только чур, не баловать! А то и другую половину твоей рожи растолку, как перец, в ступе.
Месяц покружился на месте, прыгнул и сразу очутился в окне. В комнате стало так светло, что иголку – и ту видно.
Видит Христя – чьи-то бледные уста с черными усиками тянутся к ее щеке. Чмок!
– Видал! Видал! – крикнул месяц, спрыгнув с окна, и стрелой помчался к бабке.
– А не стерпел-таки! Хоть раз чмокнул, – заворчала старуха, схватила его за рога и спрыгнула с крыши. Затем она пошла скользить над туманом, держась за рога месяца. То стрелой промчится вдоль, то пойдет вприсядку, то нырнет в бездну, то вновь вынырнет, засмеется и пойдет кружить… Волосы ее становятся все длиннее, сорочка розовеет, тело начинает просвечивать, как прозрачная бумага, глаза горят, как искры. Месяц, бледный-бледный, пулей помчался по небосклону и остановился напротив, дрожа как в лихорадке…
Христя вскрикнула и проснулась.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Солнце только всходило. Румяная заря занялась над землей, над нею простерлась черная туча с багровыми отсветами по краям. Розовый поток заливал горницу, по балкам потолка прыгали солнечные зайчики, а в дальних углах свет еще боролся с темнотой. В комнате было душно. «Сон это или явь?» – подумала Христя, сладко потягиваясь. Потом, точно ласточка, спрыгнула на пол и в одно мгновенье очутилась у окна. Щелкнула задвижками, и в раскрытое окно ворвалась утренняя прохлада. Христя вздрогнула, когда легкий ветерок коснулся ее тела. Солнце одним краешком выглянуло из-за горизонта, и пучок золотых лучей в тот же миг осветил Христю, скользнул по лицу, горячим устам, белоснежной груди. Словно теплая рука ласкала ее.
Христя посмотрела вдаль: густые клочья тумана клубились у подножья горы. Вот одно облако оторвалось, поднялось вверх, растянувшись тонкой цепью в утреннем воздухе. Солнце поднялось еще выше. Заблестела роса на траве, загорелись верхушки деревьев. Проснулись птички: где-то насвистывала крапивница, закуковала вещунья-кукушка, в кустах у самого окна запел соловей, а в бесконечной вышине на разные лады пели тысячи птиц. Они, казалось, встречали Христю радостным хором, ласкали ее слух, нежили вместе с ласковой прохладой.
– О, Боже, как тут хорошо! – вслух подумала Христя и взглянула на дворец. Весь фасад розовел, купаясь в солнечных лучах. Сломанные карнизы, выбитые окна, исполосованная дождями и метелями штукатурка, облупившиеся колонны – все выглядело неприветливым и страшным, словно здесь не было людской обители, а темница, где пытали грешников. Теперь, брошенный хозяевами, дом превратился в развалины. Лопухом и чернобылем заросли дорожки к веранде, хмель заглушал стены и окна. Христя отвернулась и стала смотреть в другую сторону.
Там, в тумане, скрывалась слобода. Над прудом подымался густой пар, словно кто-то снизу подогревал его. Вдали белели хатки, а еще выше зеленели огороды. Подсолнечники высоко поднимали свои оранжевые шапки, словно становились на цыпочки, чтобы скорее дотянуться поближе к солнцу, которое, точно золотым песком, посыпало луга. Они улыбались, греясь в теплых лучах после ночной прохлады, купались в солнечных волнах, который раз меняя цвет – из зеленого в ярко-желтый и оранжевый. За лугами клетчатыми плахтами распростерлись поля, словно кто-то разостлал по долине цветные ткани и они тянулись бесконечными полосками, исчезая за далеким горизонтом. Христя так загляделась, что забыла обо всем на свете. Как там красиво, так бы и полетела туда! А вот в стороне что-то маячит. Будто легкая тучка колышется над землей, а над ней что-то сверкает. Так это же крест на церкви! Да, да… а вот село чернеет… Марьяновка! Она!
– Родимая моя! Я думала, вы спите, а вы уже встали, – послышался голос позади.
Христя обернулась – перед ней стояла Оришка. Такая же приземистая и сморщенная, как вчера. Однако лицо ее как-то изменилось. Подбородок еще больше вытянулся, нос чуть не касается губ, только она уже не такая желтая, как вчера, и ни капельки не страшна, да еще более приветлива. Она глядит так весело и ласково, словно принесла хорошую весть. Лоб высокий, с небольшими морщинами, голова повязана черным платком, и только белеют виски.
– Это вы… – Христя уже хотела сказать «бабушка», но спохватилась: – Орина.
– Вы не забыли вчерашнего? – усмехаясь, спросила Оришка. – Ох, панночка! Зовите меня хоть прабабкой, мне уж не молодеть. Я вчера шутила, а вы думаете в самом деле? Вчера вы с дороги утомились и были такой невеселой. Вот я и хотела вас рассеять немного.
– А сегодня я какая?
– Сегодня вы как солнышко ясное.
– Вот как.
– Да, моя голубка. Как я рада, что вы к нам приехали. Так рада, будто родную дочку увидела.
– А у вас была дочка?
– Была, панночка, была. Такая красивая и нежная… панского рода.
– Панского? Куда ж она делась?
– Давно это было, еще до воли… Пан взял ее к себе, а куда он ее девал, куда завез – Господь его знает. Говорил – в школу отдам. Может, умерла, а может, где и живет барыней. Господи! Все бы отдала, чтоб хоть перед смертью увидеть ее. Одна ж она у меня. – По ее сморщенным щекам покатились обильные слезы. – Вот как на свете бывает. И теперь, как увижу молодую, сейчас же присматриваюсь, не моя ли это. Вчера, когда вы сказали, что нет у вас отца с матерью, я тотчас подумала: не моя ли это сиротка?
– Нет, бабуся. Я знаю своих родителей.
– Кто ж они были?
Христя горестно улыбнулась.
– Долго рассказывать.
– Тогда в другой раз. Вы ж к нам на все лето приехали?
– На все, бабуся.
– Ну, и слава Богу. Погуляете у нас, отдохнете. Вы и так, не сглазить бы, здоровенькая, а поживете у нас – еще сил наберетесь. У нас не то что в городе. Там пыль и вонь, а здесь воздух чистый, целительный. На что уж я стара, а пока в Марьяновке жила – село тут есть такое невдалеке, – так что ни год болела, а тут помолодела – легко дышится, веселее на свет глядишь.
– Здесь и правда красиво.
– Да тут рай Божий. Зимой, когда метели бушуют, скучновато, а лето настанет – и не заметишь, как оно пробежит. Слышите, как птицы поют. И так каждый день. Пойте, пташечки, пойте! Веселите мою панночку, чтоб она не заскучала!.. Вот туман рассеется, теплей станет, пойдете в сад, в лес. Там-то самый рай и есть! Да что ж я разболталась? Дело само не сделается.
И Оришка бросилась прибирать постель. Старая и высохшая, а подушками, да немалыми, как игрушками, орудует. Подбрасывает их, взбивает и бережно кладет одну на другую. В минуту постель была убрана.
– Сейчас колодезной воды принесу, – сказала Оришка и метнулась из комнаты.
«Неужели это был сон? – думала Христя, вспоминая вчерашнее. – Видно, сон. Сейчас расскажу бабушке».
А та как раз вернулась с ведром воды в руке.
– Знаете, бабуся, что мне приснилось? Да такое забавное. Сроду со мной такого не бывало.
– Что же вам снилось, панночка?
– Будто вы с месяцем разговаривали, да еще и танцевать с ним пошли.
Старушка потупила глаза и пожала плечами.
– Чего только не померещится? Видно, вы неспокойно спали.
– Нет…
– Или молодая кровь играла… а то, может, голову положили слишком высоко или низко. Вот кровь прилила, да и мерещилось всякое.
– Может, и так. Только мне всю ночь страшно было.
– Еще не привыкли.
– Уже стрекочете, сороки-белобоки? – послышался голос Колесника из соседней комнаты.
– А вы еще потягиваетесь? – весело спросила Христя.
– Потягиваюсь, милая… Чертова баба, видно, сон-траву подбросила: как лег, будто умер.
– На здоровье, батюшка. Сон не помеха: кто спит, тот не грешит, – откликнулась старушка.
– И ты туда же, старая карга? Нет того, чтобы хозяина задобрить. Может, он переспал, – послать бы молоденькую разбудить его.
– Зачем же? Такие теперь девчата, что и разбудить толком не умеют. Лучше бабки никто не разбудит – не затормошит, не вспугнет.
– Ты, что ли, такая?
– А хоть бы и я. Иль испугаю?
– Да тебя сам черт испугается, не только человек. Я не знаю, как до сих пор Кирило не сбежал от тебя.
– А вы все такой же. Вам бы только шутки да смешки, – сказала Оришка, шмыгнув носом.
Может быть, они б еще долго так болтали, если бы снаружи не донесся шум и крик. Христя взглянула в окно – к дому направилась группа людей.
Среди них были и старики, и молодые, и женщины с детьми на руках. Христя насчитала не менее двадцати человек. Подойдя к крыльцу, они окружили его, мужчины сняли шапки, женщины, понурившись, ждали, дети испуганно озирались. Все такие ободранные, загоревшие и запыленные, как цыгане. Лица скорбные, озабоченные.
Солнце приветливо светило, весело щебетали птички, но пришедшие словно ничего не видели и не слышали. Казалось, они пришли с повинной головой молить о пощаде.
– Что это за люди и что им здесь надо? – спросила Христя.
– Это из слободы…
– По какому делу?
Оришка поспешно вышла.
– Ну, зачем пришли? Что скажете? – послышался голос Колесника.
Он вышел на крыльцо в одном нижнем белье.
Все низко поклонились. Младенцам матери наклоняли головы, нашептывали: кланяйся пану.
– Доброго здоровья, пане! С приездом! – послышались голоса.
– Ну ладно, ладно. А что же дальше? – не обращая внимания на приветствия, спросил Колесник.
Толпа заколыхалась. И сразу, словно подкошенные, все упали на колени.
– Паночек! Смилуйся! – в один голос простонали крестьяне.
– Ага! Это рыбаки? – спросил Колесник. – Те, что самовольно рыбу в пруду ловили.
– Милостивец! – сказал белый как лунь дед, стоявший ближе всех к крыльцу. – Так было издавна. Еще в княжеские времена. Никто никогда не возбранял тут рыбу ловить. Известно, вода… набежала… пруд стал. Рыба завелась… Никто не разводил ее – сама, а может, птицы занесли икру. Мы же думали – на долю всякого Господь ее плодит.
– О-о, вы думали! Серые волки надели овечьи шкуры да такими тихонями стали… А когда вам приказали не ловить рыбу, вы что запели?
– Паночек! – сказала одна женщина. – Неужто рыба стоит того, что с нас присудили?
– А это какая канарейка защебетала? – ища глазами виноватую, спросил Колесник.
– Это я, батюшка, говорю, – смело выступила вперед молодая женщина с девочкой на руках.
– Ты? Молодая, а такая умная! И уже с ребенком на руках? Не солдат тебя наградил? А может, и ума у него заняла.
Молодица покраснела, глаза ее загорелись от гнева, но сразу же потухли.
– У меня муж есть, – подавив возмущение, сказала она.
– Так это он тебя надоумил идти ко мне? О, хитер! А что было бы, если б я… – тут Колесник выпалил такое, что даже видавшие виды деды вытаращили глаза. – Что бы тогда твой муж запел? Вероятно, на месте прикончил меня вилами?
Молодица, с горящим лицом и сверкающими от гнева глазами, строго промолвила:
– Постыдитесь хоть старых людей, пане!
– Ага, правда глаза колет. Черти бы вас взяли! Все вы одинаковы. На чужое, как собаки, лакомы. А тронь только ваше, так ты бы первая мне глаза выцарапала. Руками своими паскудными впилась бы. Теперь вы тихие, когда попались мне в руки. На коленях ползаете… а тогда? Вон из моего двора, такие-сякие! – крикнул он что было сил.
Заплакали дети, послышалось всхлипывание женщин.
– Что ж вы молчите? Просите пана… стойте на коленях, – с горечью и болью упрекали женщины своих мужей.
– Паночек! Смилуйся над нами, мы уж и так двести рублей заплатили. Где ж нам еще три сотни взять? – сказал седобородый дед.
– Мне до этого дела нет… Я вас предупреждал: хотите в мире жить, вот вам огороды, пруд, хоть топитесь в нем, мне все равно. За это только окопайте мне лес рвом. А вы мне на это: тысячу дашь, так окопаем. Слыханное ли это дело: тысячу рублей за то, чтобы ров выкопать! За такие деньги можно вас всех купить со всеми вашими потрохами. Кроме огородов, я вам еще сотню накинул. Не взяли. И не надо. Без вас найдем грабарей. За те деньги, что сдеру с вас, найдутся охотники копать ров. Еще и не то будет. Я вам и воды не позволю брать на пруду. Копайте себе колодцы. Пруд мой и вода моя!
– Вода Божья, – произнес кто-то робко.
– А вот посмотрите. Я покажу вам, чья она!
– Да мы уж видели… – сказал дед, вставая, – все видели… А что дальше будет, посмотрим… Идемте! – И он повернулся спиной к крыльцу.
За ним, понурившись, двинулись остальные. Тяжело вздыхали мужчины, женщины тихо плакали, а дети ревели, оглашая своим криком всю окрестность. С опущенной головой, шатаясь, словно пьяный, уныло брел дед. Так провожают покойника или приговоренного к смерти.
Христя стояла у окна, с грустью глядя на удалявшуюся толпу. В душе у нее росла обида за этих бедных людей. И гнетущая тоска камнем легла на сердце. Люди давно скрылись за горой, а ей все еще казалось, что они стоят на коленях и молят о пощаде растрепанного неодетого Колесника. А он хохочет, издевается над несчастными, над их кровавыми слезами и мольбой. Глаза у него налиты кровью, он рычит, как зверь, вот-вот кинется на людей. И это тот самый Колесник, который торговал мясом и в три погибели гнулся перед Рубцом, прося его повысить таксу. Ему жалко рыбы, которой он не пользуется, а вся цена ей грош. У Христи потемнело в глазах, словно туча закрыла солнце и больше не пели птицы. Она низко склонила голову, и горячие слезы упали на завалинку.
– Хамское отродье! – крикнул Колесник, вернувшись в комнату. – Принесла их нелегкая, чтоб рассердить меня. Видно, Кирило их надоумил. Чертов пьянчуга, вчера ходил с ними пить мировую, а сегодня наслал всю эту нечисть во двор! Оришка!
Оришка вышла и остановилась у порога.
– Где твой дурень? – спросил Колесник. Не дождавшись ответа, он крикнул: – Не понимаешь? Кирило, спрашиваю, где?
– Скотину погнал на водопой, паночек. Да вот и он, – сказала Оришка, увидя в окно Кирила, гнавшего телят и овец.
Христя посмотрела на него – так это ж Кирило из Марьяновки. Тот самый, что когда-то отвел ее в город к Загнибиде. Только постарел немного и поседел.
– Это ты, пьянчуга, наслал мне этих дьяволов во двор? – крикнул Колесник из окна.
Кирило снял шапку и подошел ближе.
– Каких, пане, дьяволов?
– Не знаешь? Ворона – вороной, а хитрее черта, – набросился на него Колесник. – Всю ночь, верно, вчера пил с ними магарыч, а сегодня чуть свет ушел со двора.
– Да побей меня Бог, если я хоть каплю в рот взял, – оправдывался Кирило. – Они уже целую неделю топчутся около двора, все спрашивали, когда приедет пан.
– А за каким же чертом ты в слободу отлучался?
– Да я все за лес беспокоился… А они говорят: «Кабы пан нам простил нашу вину, мы б уж лес за сотню окопали». А я говорю: «Назад пятитесь, как увидели, что не тае… я ж вам сразу говорил. Пан у нас справедливый, добрый. Берите, дурни, что вам дают, не спорьте, а то хуже будет. Не послушались меня, вот теперь и платите». – «Да это, – говорят, – все наши верховоды наделали, подбили нас: не слушайтесь, соберитесь всем обществом. Общество, мол, – большое дело. Мы, значит, и послушались. А оно теперь и выходит, что советчики наши в стороне, а нам – отвечать. Им, видать, только это и нужно было, чтобы с паном рассорить. Теперь они, верно, собираются и огороды, и пруд заарендовать».
– Кто ж эти верховоды? – уже мирно спросил Колесник.
– Да не кто иной, как слободские богатеи – шинкарь Кравченко и лавочник Вовк.
– Брехня это, паночек! – затараторила Оришка. – Не верьте. Кравченко и Вовк – почтенные люди, хозяева; никогда не станут они подстрекать людей против вас. А что они хотят арендовать огороды и пруд, так уж давно мне говорили про это. Мы б, говорят, хорошо заплатили пану.
Христя взглянула на Оришку. Та размахивала руками, сердито шамкала своим беззубым ртом – куда только девалась недавняя тихоня?
– Не знаю. Может, оно и брехня, – робко произнес Кирило. – За что купил, за то и продал; что слышал, то вашей милости и говорю.
– Ладно, ладно, – Колесник махнул на него рукой и повернулся к Оришке. – А сколько бы Вовк и Кравченко дали?
– Не знаю, паночек, сколько. Да таким хозяевам, если и уступите какой рубль, жалеть не будете. Они во всем порядок заведут. Не станут чужого разорять, как другие. Известное дело – хозяева.
– Да скажи им, пусть придут, если хотят арендовать. Потолкуем. А дураков учить надо! Мне и огороды что-нибудь принесут, и лес будет окопан.
– Что ж, пане, людей наймете? – спокойно спросил Кирило.
– Зачем нанимать? Пока они у меня в руках, сами окопают.
– Нет, они так не захотят.
– Не захотят – найму, – решил Колесник, – за их же деньги.
– За двести нанять трудно.
– Какие двести? Двести я получил, а еще триста.
– Навряд ли, пане, вы их получите.
– Почему?
– Нечего у них брать.
– Найдутся. Коли нажать – найдутся. Как опишут хаты и землю, то заплатят.
– А усидим ли мы тогда?
– Почему ж не усидим?
– Так… Голому, говорят, и разбой не страшен. Подожгут, гляди, так и сами ног не унесем.
– Не пугай. Для поджигателей есть тюрьма, виселицы, Сибирь.
– Да и от краж не убережешься. Все, что можно, утянут.
– А глаза на что?
– Глаза-то есть, да что поделаешь, если нас двое, а их двадцать.
– Не верьте, паночек, – снова точно залаяла Оришка, – ничего не будет. Смело сдавайте Вовку и Кравченко. Они почтенные хозяева, а эти – мусор. Разбойники и голодранцы.
– А вот же твой муж не советует, – усмехнувшись, сказал Колесник.
– Брешет, паночек, хоть он и мой муж, – не унималась Оришка.
– Эх, и дура ж ты, – спокойно сказал Кирило. – Видно, мало я тебя учил. Мужа брехней попрекаешь. Хоть и говорят люди, что ты ведьма, а глупа ты как пробка. Знаете, пане, почему она окрысилась на слобожан. В прошлом году была засуха. Люди взаправду ведьмой ее считают, хоть она такая же ведьма, как я вурдалак. Ну, вот и пошли толки: это, видно, ведьма росу с неба украла, давайте выкупаем ее. Поймали ее раз, да и бросили в пруд. Вот она и мстит обидчикам.
Колесник так и прыснул со смеху.
– Так ты в воде лягушек пугала?
– Брешешь, поганый! Брешешь! И не бросили в пруд, а только водой облили. Далась бы я им, разбойникам проклятым. Глаза б им всем выдрала!
– Кто тебя знает, как дело было, только вернулась ты домой, вымокшая до нитки.
Оришка посинела от ярости. Потом позеленела. Стоит, трясется, глаза пылают, как угли. А Колесник, схватившись за бока, хохочет до упаду. Улыбнулся и Кирило. Оришка посмотрела, как прыгнула в окно кошка, плюнула и бросилась вон из комнаты. Колесник со стоном хватается за живот, не в силах сдержать смех. «Хо-хо-хо», – глухие раскаты хохота разносятся по всему дому. Кирило тоже посмеивается.
Одна Христя грустно глядела на все это. Жалость наполнила ее сердце. Перед глазами неотступно стояли образы истощенных грязных и оборванных людей. Они стояли на коленях перед этим богачом Колесником, который издевался над ними и наконец выгнал со двора.
Теперь, после рассказа Кирила, она убедилась, что эти люди ни в чем не повинны. Вспомнилось ей прошлое: Грыцько Супруненко, который по всякому поводу приставал к ее несчастной матери… А Кравченко и Вовк такие же злодеи, как Супруненко. «Богачи, хозяева, – говорит Оришка, – а на чужое зарятся; им не дают покоя огороды, которыми владели слобожане, – может быть, единственное средство к существованию для этих бедняг. Мироеды, на их беде хотят нажиться…» Эти печальные думы овладели Христей, в то время когда Колесник надрывался от хохота. Каким отвратительным казался ей этот разбогатевший мясник, смеющийся над людским горем… а она должна еще обнимать его. Омерзительной стала ей и Оришка, плюющая в глаза своему мужу за то, что он сказал правду. Господи, и это люди! Собаки так грызутся за обглоданную кость. Тяжело было Христе. Побледнели ее румяные щеки, потускнели ясные глаза, а сердце сдавила безысходная тоска… Морщинка появилась на чистом лбу.
Не скоро еще успокоился Колесник. Потом велел Кирилу передать Кравченко и Вовку, чтобы они как можно скорее пришли договариваться, потому что ему надо уехать по делам службы. А Христя сидела, понурившись, не проронив ни слова.
– Отчего ты так загрустила? – спросил Колесник.
Христя только тяжело вздохнула.
– Ты о чем вздыхаешь? Не о городе ли? Гляди, как губы надула. Пошла бы лучше в сад, оглядела места, где придется провести все лето.
Христя уж собралась уйти.
– Иди, иди, и я скоро приду.
Христя остановилась.
– Я еще не умывалась, – сказала она.
– И не нарядилась? – злобно взглянув на нее, спросил Колесник.
– И не нарядилась, – в тон ему ответила Христя.
Колесник побагровел.
– Что вы сегодня сговорились все меня злить? Кому что вздумается, все на меня валят, – сказал он и, сердито посапывая, вышел в соседнюю комнату.
Христя умылась; не причесываясь, накинула платок на голову и выбежала из комнаты.
Солнце уже высоко поднялось. Туман рассеялся, оседая на траву сверкающей росой. Воздух становился прозрачным, легкие тени плыли в море света. Блестела зеркальная гладь пруда, над слободскими хатами поднимались столбы дыма. Издали доносился приглушенный говор, рев скотины; кудахтали куры, заливисто голосили петухи.
Сад был залит щедрым июньским солнцем, внизу сновали узорчатые тени. Спрятавшись в ярко-зеленой листве, неустанно пели птицы. Чириканье, писк, щебетанье сливались в разноголосый хор. Горлинки жалобно ворковали; кукушки, перелетая с дерева на дерево, ни на минуту не умолкали; иволги сердито переругивались; только пчелы однообразно гудели. В это чудное летнее утро легче стало на душе Христи.
«Свет мой, цвет мой, как ты красив. Еще б ты лучше был, если б не замутили тебя лихие люди», – думала она, забираясь в гущу молодых зарослей.
Солнце поднялось еще выше, время близилось к полудню, когда из дому вышел Колесник, веселый, оживленный, и направился в сад.
– Христя! – крикнул он, и его голос гулко разнесся по саду.
Никто не откликнулся. Он подождал немного и крикнул еще раз.
– Тут я. Зачем кричать? – наконец отозвалась Христя.
– Знаешь, за сколько я сдал в аренду пруд и огороды? За семьдесят пять рублей в год. Это я тебе подарю на забавы. Только… – он погрозил ей пальцем. – Они и деньги дали вперед. На!
Христя грустно взглянула на Колесника. Ей стало так тяжело, что рыданья подступили к горлу. Она с трудом превозмогла волнение, улыбнулась, обняла Колесника. Оришка выбежала из кухни и, крадучись, прошла за ними в кусты.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Неделю спустя Колесник уехал, строго наказав Оришке присматривать за панночкой.
– Как же мне за нею смотреть, когда вокруг ни одной живой души нет?
– То-то же, гляди!
И, позвав еще в комнату, он долго шептался с нею. Оришка вышла от него, усмехаясь и покачивая головой.
– Что он сказал вам, бабуся? – спросила Христя, когда Колесник скрылся за горой.
– Эх… не знаешь пана! Все шутит: «Ты б, – говорят, – нашла панночке какую-нибудь иную утеху». «Какую, – спрашиваю, – иную?» – «Так, молоденького паныча, что ли». – И Оришка ехидно захихикала.
Христя похолодела от этого хихиканья. Она сразу догадалась, что Оришка отделывается шутками, чтобы скрыть правду; вспомнила, как вчера Колесник наказывал ей беречь себя, не уходить далеко в лес, совсем не показываться в слободе – там, мол, опасно… что-то сболтнул про парубков… и замял этот разговор, обещав привезти хороший гостинец, если она себя будет хорошо вести. Теперь ей ясно было, какой наказ Колесник дал Оришке. Ей не верят на слово. Ее оставляют под надзором.
Пока Христя думала обо всем этом, Оришка продолжала:
– А я им отвечаю: «Что мне, старухе, искать? Панночка сами найдут. Да тут, – говорю, – окрест ни одного паныча нет. Завалящего и то не найдешь, ими и не пахнет». А они как засмеются. «Разве, – говорят, – панычами пахнет?» Забавные они, дай им Бог счастья.
– Я еще вот о чем хотела вас спросить, бабуся, – заставив себя улыбнуться, сказала Христя.
– Слушаю, панночка.
– Церковь далеко отсюда?
– Церковь? Самая близкая в Марьяновке.
– Хотелось бы мне пойти в воскресенье в церковь.
– Как, пешком?
– А что же?
– Ножки свои натрудите. Семь верст – не близко.
– А в слободе нельзя подводу нанять?
– Почему нельзя? И нанимать не надо. Кравченко даром подвезет. Он давно уж обещал меня в церковь повезти. А мне то некогда, то дом не на кого оставить. Дождемся воскресенья и поедем. Я уж не помню, когда в церкви была. Да там у меня и родичи живут, проведаю их заодно.
– Вот и хорошо, – сказала Христя. – И я погляжу, как люди в селе живут.
– Плохо, панночка, живут. Мужики – и ведут себя по-мужичьи.
В субботу Оришка напомнила Христе, что завтра с утра Кравченко заедет за ними. Христя еще вечером приготовила новую одежду: красную шелковую юбку, искусно вышитую сорочку из тонкого полотна, бархатную безрукавку. Она хотела показаться в Марьяновке в привычной для крестьян одежде. Этот наряд очень шел ей. Кроме того, ее неудержимо тянуло побывать в родном селе – может, она встретит старых подруг, знакомых. Узнают ли ее? Вряд ли… а она их узнает. Вспомнят минувшее, девичьи тайны. Вот будут удивляться, откуда ей все известно… Христя долго не могла уснуть, думая, кого бы из подруг больше удивить.
Чуть свет Христя встала, начала одеваться и к приезду Кравченко была уже совершенно готова. Как хороша она в этом наряде, как свежа! А черная коса, длинная и толстая, с ярко-красной лентой болталась ниже колен.
Кравченко, еще молодой человек, смотрел на нее во все глаза: обычно плутоватые, бегающие, они застыли от изумления. А Христя с усмешкой поглядывает на него. В глубине ее черных глаз веселые искорки.
– Садитесь, панночка, садитесь, – говорит Оришка, выходя на двор, тоже одетая в праздничное платье. Черный платок ерзал на ее седой голове, а халат из синей китайки доходил до пят. Она казалась наряженной жабой.
– А ты, Василь, и не постлал как следует, – сказала Оришка, взглянув на воз.
– Я сейчас, сейчас, – засуетился Кравченко и, бросив вожжи, наложил на сиденье соломы. – Бабуся, у вас нет лишнего рядна? Мягко будет, хоть бы и царевне тут сидеть.
Затем он постлал рядно, которое вынесла Оришка.
Туда подложит, там подоткнет. Сам любуется своей работой.
– Готово! – сказал он, ударив ладонью по сиденью. – Усаживайтесь.
Христя только собралась прыгнуть, как Василь подхватил ее сзади и усадил в повозку.
– О, вы прямо мастер.
– Не впервой, – сказал Кравченко. – Сколько я народу перевез – и не сочтешь!.. А ну, бабуся, садитесь скорей.
Он помог ей усесться.
– Ну, все уселись? Трогай, Васька!
Конь махнул хвостом и сразу рванул повозку. Кравченко бежал рядом.
– Не очень гони с горы, Василь, а то как бы не перевернуться, – предупредила Оришка.
– Не беспокойтесь. Такого коня на всем свете не сыщешь.
И в самом деле, еще не подъехали к горе, а конь уж замедлил шаг. По спуску он шел ровно, выгнув спину и подняв голову. Ни разу не тряхнул, не поскользнулся, а гора крутая.
– Ну что? Не говорил я вам? – торжествовал Кравченко. – Пусть Вовк на своем вороном так поедет! Он бы вам на таком спуске все кости растряс, если бы шею не свернул. Да и на ровном месте против моего не годится. Упрямый, сначала совсем не идет. А побежал версту-другую, уже отставать начнет. Гляди, мой Васька уже опередил его. Мы и на заклад бились. Рубль я выиграл. Хоть Вовк за своего сотню отдал, а я – только полсотни. Что с того, что конь у тебя гладкий, как боров, а не везет? Такому коню – грош цена. А это конь! Эй ты, басурман! – крикнул он и потянул вожжи. Конь сразу прибавил шаг. Будто и не шибко ступает, а повозка катится – только колеса гремят.
– Видели? У него ума больше, чем у всех слобожан.
– Что ж вы его басурманом кличете? – спросила Христя.
– Он татарской породы… Но!.. Село уж недалеко! – крикнул Кравченко, повернувшись к коню.
Вскоре показались сады, обычно окружающие каждое село. За ними – застава, площадь, а дальше – хаты, огороды, кривые улицы, перерезанные маленькими проулками. Христя не знает, на чем остановить свой взор. Давно ли она из села – его трудно узнать. За семь-восемь лет все переменилось. «Тут была хата Вовчихи, где мы собирались на посиделки. От нее и следа не осталось. Она стояла на распутье – теперь тут все застроили, перегородили. А чья это хата покрыта дранкой? Это уже новинка. При мне этого никогда не было. Видно, какой-то богатей здесь поселился – двор обнесен забором… А вот, кажется, хата Супруненко… она самая… покосилась, осела. Когда-то таким страхолюдом был этот Супруненко. А теперь? Может, его и на свете уж нет?…»
Они выехали на площадь. Вот и церковь. Какой она казалась когда-то Христе большой и красивой, а теперь и она осела – ее почти не видать из-за лип, буйно разросшихся вокруг. А кладбище по-прежнему заросло травой. Так же белеет узенькая тропинка вокруг церкви, словно кто-то разостлал кусок холста. И люди снуют… девчата расселись в холодке, парни поглядывают на них из-за деревьев. Около самой церкви дети играют на травке. Христю так потянуло к ним. Как только конь остановился у церковных ворот, она соскочила с повозки и бегом бросилась на церковный двор.
– Гляди, кто это? – услышала она позади. Сотни любопытных глаз уставились на нее.
Христя, не оглядываясь, пошла прямо в церковь. Толпа, запрудившая вход, расступилась перед ней; красная юбка и бархатная безрукавка растаяли в море белых свиток и синих халатов.
– Откуда она взялась? – слышался глухой шепот в церкви. Все глядели на нее и не могли насмотреться на эту диковинную залетную пташку.
А Христя все шла и шла вперед. В сумеречном свете она медленно пробиралась к притворам, где перед поблекшими образами горели целые снопы грошовых свечек. Она остановилась, когда уже дальше некуда было идти. Перед ней стоял большой подсвечник, в котором пылало много огней; за ним висела икона Божьей Матери. Желтое лицо ее казалось еще безжизненнее от горящих свечей. Глаза были устремлены на сына, сидевшего у нее на руках, прислонившись к груди. Личико у него тоже желтое, глаза смотрят грустно и задумчиво. Христе почему-то страшно стало, и, перекрестившись, она опустилась на колени.
Молилась она недолго. Тот самый псаломщик, которого она еще помнила с детства, гнусавил своим охрипшим голосом; ей захотелось взглянуть на него. Сделав несколько земных поклонов, она направилась к столику ктитора, где продавали свечи. По дороге она разглядела и псаломщика: такой же он низенький и сухонький, так же заплетены волосы в жиденькую косицу, только она стала еще тоньше и короче. Около ктитора толпилось много народу, и Христя стала в сторонку.
– Ну, что вы сгрудились, как овцы? Уходите. Может, кому поважнее вас надо подойти, – покрикивал ктитор, без стеснения расталкивая людей руками.
– Пожалуйте… Вам сколько и каких? – любезно обратился он к Христе.
Христя взглянула: да это же Карпо Здор, их сосед. Он самый, только лицо у него стало белым и толстым, да и весь он разжирел. В синем суконном кафтане, причесанный по-городскому, с пробором, он выглядел таким важным и степенным.
Христя взяла у него пять белых свечек, заплатила двадцать копеек и торопливо ушла, чтобы Карпо не узнал ее. Какой же теперь стала Одарка? Хотела бы она поглядеть на нее. Задумавшись, она не заметила, что все свечи прилепила к одному подсвечнику, и только одна-единственная осталась у нее в руках. Она отнесла ее к иконе Божьей Матери.
– Кто же она? Не знаете, матушка? – услышала она позади женский голос.
– Не знаю.
– И одета так богато. Неспроста это.
– Бог ее знает, кто она.
– Вы про эту?
– Ну да.
– Бабку Оришку знаете? Ведьму… С ней, говорят, приехала.
– Так это, может, ее дочка?
– Какая там, к черту, дочка?
– А та, про которую она вечно болтает… Пан ее какой-то забрал, что ли.
– Может, и она. Что-то Горпыны не видать, она этой бабке какой-то родственницей приходится.
– Родная племянница. Оришка с матерью Горпыны – родные сестры.
– Послать бы ее к бабке – расспросить…
Псаломщик запел херувимскую, все усердно начали молиться, и разговор прекратился.
После херувимской народ двинулся к притвору.
– Вот и Горпына пошла, – снова услышала Христя чей-то голос позади.
– Она, она. Постойте, я подойду, спрошу ее.
Христя оглянулась. Чернявая, высокая и толстая молодица в синем халате и в оранжевом платке прошла мимо нее. «Да это ж Ивга, что за Тимофея вышла… Как растолстела. Если б она узнала меня, что было бы! Еще больше почернела бы от зависти».
Ивга подошла к двум женщинам, о чем-то беседовавшим. Одна из них была небольшого роста, круглолицая, другая высокая, сухощавая. Ивга что-то шепнула им; долговязая, сильно закашлявшись, наклонилась, и Христя заметила, как та повела глазами в ее сторону. Неужели это Горпына? Постаревшая, желтая, глаза запали, щеки сморщились.
Поп с дароносицей ушел в алтарь, за ним со здоровенной свечой, в другую дверь, прошел пономарь. Христе лицо его показалось знакомым. Она где-то видела его, но не может припомнить. Псаломщик надтреснутым голосом запел «царя», и народ подался назад.
– Сказала, что спросит бабку и скажет, – снова услышала Христя голос Ивги.
– Только не пропусти ее.
– Нет. Я ее подстерегу у выхода.
– Ну и любопытная эта Ивга!
– Да и язычок у нее! Недаром говорят, муж в солдаты ушел.
– А ей и горя мало. Она запрягла старого Супруна и ездит на нем. Все добро покойной Хиври перешло к ней. Удивляюсь, как Горпына молчит. Я б на ее месте исполосовала среди бела дня эту черную рожу.
– Она, может, думает, что если будет с Ивгой в ладу, то после смерти старика и ей что-нибудь перепадет.
– Пусть дожидается. Ивга его так прибрала к рукам, что ничего уж из добра не выпустит.
Разговор умолк. С алтаря доносился голос попа, а с клироса глухое завывание псаломщика. В церкви становилось все более душно. Дым от ладана облаками плыл над молящимися, клубился у потемневшего свода, из дальних углов доносился кашель. Ударили на «Достойно». Народ, прослушав «Верую», начал понемногу выходить на паперть. Когда началось «Свят, свят…», около Христи стало совсем пусто. Ктитор гасил свечи. В церкви стемнело. Она стала похожей на склеп – тусклые лики святых сумрачно глядели с иконостаса.
Несколько женщин с малыми детьми столпились у царских врат, дети плакали, матери, шикая, укачивали их. Христе стало не по себе, и она намеревалась выйти наружу. Но, повернувшись, она увидела Ивгу, которая что-то быстро тараторила двум молодицам. Христя осталась.
– Ну что? – услышала она.
– Какая-то панночка. Из губернии приехала с Колесником, что купил Веселый Кут, – громко шептала Ивга.
– В гору пошел Колесник, а мясником был. Одна наша девка, что в городе служила, рассказывала. Жена его дома осталась. Не взял ее с собой. Куда ж ей, она совсем простая, а он в паны вышел, – сказала другая.
– Когда мужиком был и жена работала с утра до ночи, она нужна была, а теперь, когда паном стал, на что ему жена.
– Там, в губернии, немало есть таких… Может, он и привез себе… – продолжала Ивга.
– Неужели? Стар уж…
– Стар! Бабка говорит, что у него только девчата на уме. От таких старых бед не оберешься!
С шумом откинули полог на церковных вратах, люди начали бормотать молитвы, разговоры затихли. Испугавшиеся дети подняли рев. Поп с чашей в руках показался из алтаря. «Со страхом Божьим», – послышалось. Женщины, наклонив головы, подошли к попу. Началось причастие.
Христя отошла к дверям. Духота и детский плач ее донимали. А у входа так хорошо! Легкий ветерок продувает, видна зелень кладбища; солнышко пробивается сквозь густые кроны лип, играет на траве – словно узорчатый ковер разостлан по земле. А на нем людей видимо-невидимо: резвится детвора, в холодке уселись девчата, лукаво поглядывая на проходящих парубков, степенно проходят старшие. На липах громко чирикают воробьи, заглушая говор и церковное пение. Христе кажется, что снаружи – настоящая радостная жизнь, а тут – тишина, сумрак, глухой закуток, куда приходят люди исповедоваться перед Богом. Она задумалась, сравнивая эти два столь различных мира. Туда, на свет, тянула ее молодость, – там веселье и забавы, все, чем хороша жизнь, а тут – мрак, глухое бормотание попа, надтреснутый голос псаломщика, запах ладана, дым – все, что холодом обдавало сердце. И отчего так происходит: туда тебя тянет, а от этого, хоть оно и свято, отталкивает… Трудное, видать, дело – спасение.
– Батюшка поздравляют вас с воскресением и велели поднести вам эту просфору, – услышала Христя.
Глядь – перед ней стоит пономарь и держит в руках оловянную тарелочку с высокой просфорой. Да это же Федор Супруненко! Христя оглянулась – все взоры устремлены на них. От смущения у нее потемнело в глазах. Не обопрись она о косяк, так, вероятно, свалилась бы. Лицо ее стало красным, как сафьян. Она стояла растерянная, не зная, что предпринять. Только когда Федор повторил наказ батюшки, она взяла с тарелочки просфору. Федор ушел. «За кого они меня принимают?» – думала она, прислонившись к двери, чтобы ни на кого не глядеть. Те недолгие минуты, которые оставались до конца обедни, казались ей вечностью. Она уж больше ни о чем не думала, только – как бы скорее кончилась служба, чтобы уйти отсюда на свежий воздух.
Наконец толпа заколыхалась и повалила из церкви. Христя проворно выбежала через боковую дверь и пошла к воротам, чувствуя на себе любопытные взгляды сотен глаз. Она готова была провалиться сквозь землю, только бы скрыться от этих пронизывающих взглядов.
– А я вас давно жду, – услыхала она голос Оришки. – В церкви не нашла, так уж, думаю, стану у ворот, не пропущу.
– Идемте, бабуся, вот наша повозка, – сказала Христя и поспешно двинулась вперед, потому что снова начала собираться толпа.
– Да постойте, панночка. Я вам что-то скажу, – остановила ее Оришка.
Христя оглянулась.
– Тут у меня есть родственница. Просила зайти к ней после обедни. Мы вас поджидали, а потом она побежала домой приготовиться. Может, вы пожалуете к ней в хату. Она рада будет, а вы увидите, как живут люди в селе.
– Ладно, ладно. Идем же скорее, – сказала Христя и пошла вперед. За нею поплелась Оришка и чуть не упала, наступив на полы своего длинного халата.
– Ох, уж эти мне балахоны! Ну их! – ворчала Оришка, подойдя к повозке, на которой уже сидела Христя.
Она нетерпеливо ерзала, ожидая, пока усядется Оришка. Наконец та взобралась на повозку. Поехали… Слава Богу! Христя почувствовала себя так, словно вырвалась из тюрьмы, и с облегчением вздохнула.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Стой, Василь, стой! – крикнула Оришка, когда они проезжали по улице.
– Потеряли что-нибудь? – спросил Кравченко, придерживая коня.
– Нет. Заверни вон к той хате. Видишь, молодица в воротах стоит. Это моя племянница. Заедем. Закусим там, ты ж, верно, еще не ел ничего. И панночка, спасибо им, обещала зайти.
Христя взглянула – у ворот стояла Горпына. «Вот куда меня бабка привезла, – подумала она, – верно, знает, ведьма, кто я, но только виду не подает…»
Кравченко повернул коня.
– Во двор заезжайте, – сказала Горпына, распахивая ворота. – Спасибо вам, бабуся, что панночку привезли. А я думала, что они загордятся и не захотят идти в простую хату.
– Да у нас панночка… дай, Господи, ей всего лучшего! С той поры, как приехала к нам, я только свет и увидела, – сказала Оришка, слезая с повозки.
Не успела Христя ступить на землю, как Горпына подбежала к ней и чмокнула в руку.
– Здравствуйте… не целуйте… зачем это? – сказала она смущенно, пряча назад руки.
– Просим в хату. Там за вами, бабуся, Приська скучает. В тот раз бубличками поманили ее, а теперь она все спрашивает: «Когда же, мама, бабуся еще приедут?»
– Вот досада. У меня на этот раз и гостинца никакого нет, – переступая порог, сказала Оришка.
Вошли в хату. Низенькая она, небольшая, но зато аккуратно смазана, чисто выбелена, а печь и окна обведены кругом желтой глиной; стол в углу над образами покрыт белой скатертью, скамьи гладко тесаны и блестят, словно навощенные. Пол посыпан песком. Во всем видна хозяйская рука.
– Бабуся! Бабуся приехала! – радостно крикнула девочка лет семи, подбегая к Оришке. За нею, словно кочан, катится пятилетний хлопчик, а потом поднялся с нар еще меньший и, переваливаясь, точно утка, тоже поплелся к бабке. Поднялся шум, возня. Дети наперебой кричали, малыш ухватился за Оришкин халат и лопотал: «ба! ма!»
– Детки мои! Голубчики! Не надеялась повидать вас сегодня, потому и не принесла гостинцев.
– Вот вам гостинец, – сказала Христя, отдавая им просфору.
Дети испуганно смотрели на незнакомую.
– Отчего ж вы не берете? – спросила мать. – Возьмите и скажите спасибо панночке.
Девочка робко подошла к Христе и поцеловала ей руку, за ней хлопчик, а самый меньший ухватился за юбку.
Христя взяла его на руки и подняла выше головы. Хлопчик засмеялся, выставив свои белые зубки. Христя принялась качать его, то подымая высоко вверх, то спуская на пол. Петрик заливисто смеялся.
– Будет, панночка, будет, а то уморитесь. Не сглазить бы, он такой тяжеленький. Возьмешь его на руки, подержишь, так рук не чувствуешь.
Христя опустила его на пол. Постояв немного, хлопчик снова бросился к ней.
– Петрусь! – пригрозила ему мать. – Хватит. Прошу вас к столу.
– Доброго здоровья! – сказал, входя, Кравченко. Горпына и его попросила к столу.
– А что же это Федора до сих пор нет? – спросила бабка, усаживаясь рядом с Христей.
– Не знаю. Ему б уже пора вернуться. Не зашел ли к отцу?
– А что, все по-прежнему?
– Так же с ума сходит… И днюет, и ночует у этой черной рожи.
– Ты говорила с ним?
– Что же я ему буду говорить? Все равно не послушает, еще скажет, что я не в свое дело вмешиваюсь. Федор говорил…
– Ну?
– Известно, что. «Вы, – говорит, – и за отца меня не почитаете, а только на мое добро заритесь. Скорей бы старый черт глаза закрыл, да заграбастать бы его добро. Только не бывать этому, чужому отдам, так хоть буду знать, что душу мою поминать будет…»
– А ты бы ему сказала, что внуки не чьи-нибудь, а его же сына дети. На них взгляни. Да много ли и сын заработает, нося за попом кадильницу? Хоть бы землю вам отдал, все равно он уж не может ее сам обработать.
– Да! Землю отдаст. А мне, скажет, с чего жить?
– А денег, старый пес, он мало скопил? – сердито крикнула Оришка.
– Были когда-то у него деньги, – спокойно сказала Горпына.
– Ну и что?
– В сундук Ивги перекочевали. Кругом опутала старика. Смеется над ним, с молодыми по шинкам шляется, а он и не замечает. Я уж ей говорила, мы ведь дружили когда-то. Ты б, говорю, Ивга, хоть Бога побоялась – над старым так издеваться. А она пьяная была. «Что уж, – говорит, – к Богу лезть, коли черт не помог». Какой, спрашиваю, черт? «Не знаешь, – говорит, – какой? У тетки своей спроси. Думаешь, не знаю, какое вы зелье варили и старого обкуривали. Помогло? Много взяли своим колдовством? Не очень я испугалась твоей тетки, хоть она и ведьма. Я вас еще и сама научу колдовать». Одно слово – пьяная и несет Бог весть что.
Оришка позеленела от злобы. Сидит, ухватившись за лавку руками, и так тяжело дышит, будто у нее грудь заложило.
– О ком это вы речь ведете? – спросил Кравченко.
– Да… – Горпына махнула рукой. – Про свекра говорим, добрый человек… Вместо того чтобы на старости лет грехи замаливать, он с солдаткой связался. Да хоть бы путная была, а то…
– А-а… – сказал Кравченко. – Я тоже знал одного… Вот чудное дело. Ему двадцать лет, а полюбил пятидесятилетнюю бабу. Да так полюбил, хоть вешайся. Все диву даются; спятил парень, и только. А он, ни на что не глядя, зачастил к старой – не отвадишь его. Слух пошел, что венчаться будут. У нее, правда, своя хата, скотина и денег до черта, а у него только и добра, что штаны, да и те драные. Люди говорят: «Дурак, на добро позарился. А стоит ли оно того, чтобы свою молодость загубить?» Готовятся они к свадьбе. И день назначили. Уже в церковь пора идти, а тут он заупрямился. «Что ж, – говорит, – у меня есть? Как был работником, так и останусь. Не хочу». Она и туда и сюда. «Я тебе, – говорит, – все отдам». – «Давай сейчас». Пошли они в волость. А он уже, значит, с писарем сговорился, бумагу такую написали, что она ему все продала. Деньжонки, какие были у нее, тоже отдала. Тогда он говорит: «Подумай, под пару ли мне такая старая баба? Лучше будь мне вместо матери, я тебя до самой смерти кормить буду». Она ни в какую. «Ничего не дам! – кричит. – Жаловаться буду, в тюрьму засажу». – «Коли так, – говорит, – в тюрьму меня посадить хочешь, то – вон из моей хаты!» И выгнал ее; в чем была, с тем и осталась. Жаловалась, так еще судьи посмеялись. «Так, – говорят, – и надо дураков учить». Что ж бы вы подумали? Парень этот женился, приданое взял, таким богачом зажил, что ну! Шинок открыл, постоялый двор завел. А баба эта где-то под забором померла… Вот молодец!
– А разве это не грех? – спросила Горпына.
– Есть поговорка: «Греха бояться – голым ходить будешь». Что грешно, про это один Бог знает. Да жди еще, когда он рассудит.
– А люди? – спросила Горпына.
– Люди? Наплюй на них. Люди и того парня дураком звали, а потом, как на улице встретят, шапку перед ним снимают. Вот тебе и дурак!
Горпына только тяжело вздохнула. Вздохнула и Христя. Оришка сидела понурившись, подбородок ее дрожал. В хате стало тихо-тихо. Детвора сидела на нарах, молча глядя на просфору, лежавшую перед ними.
Какая-то тень скользнула по окну, во дворе послышались шаги.
– Вот и Федор идет! – сказала Горпына, посмотрев в окно. – Да еще не один, а с отцом.
И она поспешила в сени встречать гостя. Христя невольно вздрогнула. Вспомнилось старое, когда она не могла без дрожи глядеть на Грыцько.
– Сюда, отец, сюда… Тут порог, глядите не споткнитесь, – послышался голос Федора.
– Хе-е, стар стал, – отвечает другой голос, – глаза глядят, да не видят. Дай-ка руку.
На пороге показался высокий старик. Голова белая как лунь, редкая борода, торчащие брови. Грыцько мало изменился – такой же сухой, сердитый, только темное когда-то лицо стало бело-розовым.
– Ну, здравствуйте! Да у вас тут гостей полно, – сказал он, переступая порог.
– Здравствуйте. Это тетка приехала из Кута, – сказала Горпына.
– Ну, а тот? – Грыцько ткнул пальцем в сторону Кравченко.
– Он тетку привез.
– И панночка с теткой приехала.
– Так вы уж и с панами знаетесь? Поэтому, верно, и отца забыли, – ворчал Грыцько. – А на нарах кто?
– Дети. Встаньте, дети, может, дедушка захочет там присесть, – крикнула Горпына.
– Встаньте, дети, пускай дед хоть на нары присядет, в красном углу важные гости расселись, – ворчал Грыцько, плетясь к нарам.
Горпыну точно кипятком обдали. Не успел свекор порог переступить – уже и бранится, да еще при чужих людях. У нее выступили слезы на глазах.
– Разве я вас обидеть хотела? – только и сказала она.
– Зачем обидеть? Почтить. Усадила старика. И дети рядом. Чужие дети, как придешь, бывало, поклонятся старшему, а твои прячутся от деда, как собаки от мух.
Горпына совсем опешила. И как она об этом раньше не подумала? Она стояла оторопевшая, не зная, куда деваться от стыда. Ее выручила Оришка.
– Ты что это, старый, разворчался? – сказала она. – С левой ноги встал?
– Правда твоя. Старому – все помеха. Да еще свои шпильки под ногти загоняют.
– Кто ж тебе их загоняет? – спросила Оришка. – Наслушаешься разной брехни и ворчишь! Что, тебя сын не почитает? Невестка не слушается? Раз ты сторонишься их, им и невдомек, что тебе надо. Опять же – дети. Кабы ты к ним с лаской, и они б тебе ответили тем же. А ты на порог не успел ступить – и сразу же принялся ворчать. Известное дело, и детям страшно.
– Толкуй. Тебя послушать, так я всему виной. Чего ж вы зовете меня к себе? Судить?
– Эх, Грыцько, к тебе с добром, а ты опять за свое. Нет того, чтобы сесть, как говорят, рядком и потолковать ладком.
– Ты мягко стелешь, а спать каково будет? – буркнул Грыцько.
– Я тебе правду говорю. К чему хвостом вертеть? Сам посуди: стар ты стал, немощен… за тобой глядеть надо. Кому ж, как не своему? Другое дело, если б у тебя близких не было, а то ж у тебя сын, невестка. Чего же тебе, как отшельнику, сидеть в своей трущобе? Человек – не колода: куда положишь – там и лежит. Надо и словом перемолвиться… Взял бы да и переехал к сыну, один он у тебя, и присмотр был бы за тобой, и поговорить было бы с кем.
– Как ушла старая, кончилось мое счастье.
– И то правда. Добрая она была и хозяйка хорошая… Но это дело Божье. А своих сторониться не надо.
– Кто же сторонится? Я их или они меня? Вот ты говоришь – сын у меня. А ведь он смолоду шел против отца. Хотел его женить на Куцой. И богатая, и роду хорошего. Так нет, поднес черт Христю Притыку… Я, может, и Бога прогневал, грех на душу взял, чтобы отбить его. Так он дуреть начал.
– Батя, это ж когда было, – понурившись, сказал Федор, и Христя сидела сама не своя, не зная, куда глаза девать.
– Давно, говоришь? – крикнул Грицько, поднявшись и, как столб, стал посреди хаты. – А после что было? Насилу тебя отходили, женили. Вместе жить стали. Так вы ж нас только и поносите перед чужими людьми. Все слышу: «Кабы отец нас отделил, дал хату, землю, мы бы знали, для чего работаем». Посоветовались со старой – отделили. Снова слышу: «Отделить – отделил, а чем наделил?» Вместо того чтобы работать, землю сдал, рук марать не хочется, – протопопом думал стать, а попал в звонари. Легкого хлеба захотелось. Значит, не нужна тебе земля, давай обратно… Опять хают, а мне это легко слышать? Год прошел, а они ни разу не пришли в хату, даже с праздником не поздравили. Мать захворала – пришли они ее проведать? Чужие от ее изголовья не отходили, ухаживали за ней, а невестка и не притронулась. Только когда умерла, заявились, как посторонние. И нет того, чтоб отца утешить или помочь в беде. Пан какой – ему ж кадильницу за попом нести надо, а она – важная птица, пономарша! У-у! Проклятые! Нет вам моего благословенья! Чужим все отдам, а вам шиш под нос! – крикнул Грыцько и, схватив шапку, пошел к двери.
В хате стало так тихо, словно там не было ни живой души. Оришка и Христя сидели понурившись, Горпына, припав головой к столу, дрожала как в лихорадке. Федор, бледный и растерянный, ходил по комнате, потирая руки. Один Кравченко лукаво поглядывал на всех своими серыми глазами.
– Чудак, да и только, – сказал он, пожимая плечами, – кому нужно его благословение? Кабы добро свое отдал!
– Зачем ты его привел? – вне себя крикнула Горпына. – Мало мы от него натерпелись? Захотел еще, чтобы он проклял нас в нашей хате?
– Кто ж мог знать? – глухо произнес Федор, потирая руки. – Я ж хотел, как лучше…
– Не будет меж вами ладу, – сказала Оришка. – Прощайте! Поедем, – обратилась она к Кравченко и вприпрыжку заковыляла из хаты.
– Поедем, поедем, – сказал Кравченко, схватив шапку. – Уж время обедать, аж живот подвело.
Горпына всплеснула руками.
– Тетечка! Хоть пообедайте с нами. Совсем рассудка лишилась с этими проклятыми хлопотами.
Она выбежала вслед за Оришкой в сени.
Федор и Христя остались одни в хате. Когда она тоже собралась и пошла к дверям, он схватился за голову и воскликнул: «Вот так у нас всегда! Господи!..»
У Христи защемило сердце. Первая мысль у нее была, что Федор ее узнал. Но она только склонила голову и молча вышла из хаты.
В сенях она встретила Оришку и Горпыну.
– А мы вернулись, Горпына просит пообедать у нее, – сказала Оришка.
– Не знаю, угожу ли я панночке. Отведайте нашей мужицкой пищи. Когда-то у нас останавливался следователь. Такой хороший пан, еще благодарил. Просим вас, панночка. Чем богаты, тем и рады… – говорила Горпына.
– Да панночка хоть посидит. Мы – быстро, аж в кишках урчит, – сказал, смеясь, Кравченко.
– Обо мне не беспокойтесь. Я подожду, – сказала Христя.
Горпына, обрадованная, хотела поцеловать ей руку, но Христя успела подставить ей губы. «Если б ты знала, кого целуешь, – подумала Христя, – может, и отказалась бы».
Не меньше обрадовался и Федор. Смущенный и растерянный, он сразу ожил, засуетился, забегал.
– Прошу вас, садитесь. Я на минутку, сейчас вернусь, – и он выбежал из хаты.
Пока Горпына вынимала пироги и горшки из печи и гости рассаживались, Федор уже вернулся. Из одного кармана он вынул бутылку водки, из другого – какую-то красную наливку.
– Вы не поверите, как мне эти ссоры опостылели. Но недели не проходит без того, чтоб не поругаться. Только и забудешься, когда добрый человек зайдет в хату и поговоришь с ним по душам. Спасибо вам, что вернулись. Ну, давайте выпьем по чарке. Водка должна быть хороша.
– Настойка?
– Корчмарь говорит, что старая. А Бог его знает, – сказал Федор и, налив чарку, поднес ее Оришке.
– У кого в руках, у того и в устах, – сказала она, отводя чарку рукой.
– Жена! У нас должна быть еще одна чарка. Дай ее сюда, попотчуем панночку. Я для них купил терновую наливку.
– Для меня? – покраснев, спросила Христя. – Напрасно потратились. Я не пью.
– Нельзя, панночка. Хоть пригубьте, – просила Горпына, поднеся Христине наливку.
– Вот и чокнемся с панночкой. Будьте здоровы! Пусть наши враги погибнут! – Федор сразу выпил до дна, потом налил бабке и Кравченко.
Христя немного отпила и поставила чарку на стол. Терновка показалась ей удивительно вкусной.
– В самом деле хороша, – сказала она.
– Просим вас всю выкушать, – поклонившись, сказала Горпына. – И пирожком закусите. Пирожки с творогом, и сметана свежая.
– Разве что с вами, – нерешительно сказала Христя, беря чарку.
– И я выпью, – сказала Горпына и налила себе полчарки.
– Врагам нашим – виселица! – крикнула Христя, наклонив чарку и плеснув несколько капель поверх головы.
– О, наша панночка, голубушка! – воскликнула Горпына и, наклонившись, поцеловала Христю в плечо. – Так вы наши обычаи знаете, будто родились и выросли среди нас.
– За это стоит выпить! – крикнул Кравченко.
– Выпить! Выпить! – крикнул Федор.
После третьей все сразу заговорили весело и громко, словно загудел пчелиный рой. Федор рассказывал разные истории про попа и дьяков; Горпына говорила о детях, которые, сидя на нарах, уписывали пироги. Кравченко вспоминал всякие проделки и плутни, неизменно расхваливая ловких обманщиков. Одна Оришка молча поглядывала на присутствующих посоловевшими глазами. Христя после двух чарок терновки раскраснелась, и глаза ее заблестели. Ей стало так хорошо и легко на душе – она снова ощутила себя полностью в родной и милой сердцу обстановке села, и это делало ее счастливой хоть в эти короткие минуты. Ведь и она могла бы так жить, радоваться, глядя на своих детей, хозяйничать в своем доме, а теперь что?…
– Доброго здоровья всем! Со святым воскресеньицем! – послышался женский голос.
В хату вбежала чернявая Ивга.
– Что, не было у вас старика? – спросила она.
– Был, – ответила Горпына.
– Куда же он ушел?
– За тобой, – сказала Оришка.
– Ох, горе мне! Значит, мы разминулись. Побегу скорее за ним. – Сказав это, Ивга выбежала из хаты.
Неожиданное появление Ивги на некоторое время прервало оживленную беседу.
– Гляди, какая страдалица нашлась! – в сердцах крикнула бабка и сердито плюнула.
– Так всегда: когда она у кого-нибудь чужого увидит, тотчас же бежит узнать, что делают, – сказала Горпына.
– И нас она, спасибо, не забывает, – вставил Федор.
– Паскуда, – сказала бабка.
– Да ну ее. Лучше выпьем, – сказал Федор, – Горпына, дай нам борща, каши… все давай, что приготовила.
Перед борщом выпили еще по одной и снова развеселились. Говор и смех не утихали ни на минуту. Оришка совсем осоловела, глаза ее закрывались, голова качалась, она совала ложку не тем концом в борщ. Все над ней смеялись.
– Выпила, – говорила она нетвердо. – А все же врагам своим не поддамся… Вот тут они у меня сидят. Я не Горпына, что всем смолчит, и не Федор, что их избегает. Я знаю, что у них на уме.
– Какие ж у вас враги, бабуся? – спросила Горпына.
– До черта у меня врагов. Даже собственный муж. Разве я за него по доброй воле пошла? Не такого постылого я достойна… – И ее сморщенное лицо расплылось в улыбке.
Все засмеялись, а Кравченко пуще всех.
– А ты мне не хохочи, – сказала ему бабка. – Ты у меня в руках. Захочу – раздавлю. И ты, Федор, не смейся. Знаю, что сквозь слезы смеешься. А ты… – обратилась она к Христе, – твое дело еще только начинается. Смейся пока, смейся… А я все знаю. – Бабка поднялась и продолжала пророческим тоном: – Тебя горе ждет. Тяжкое горе ждет тебя. Я знаю все.
– Что вы знаете? – испуганно глядя на бабку, спросила Христя.
– То знаю, что спать хочу, – усмехнувшись, сказала Оришка и вышла из-за стола. Не поблагодарив и не перекрестившись, она кое-как поплелась к нарам и легла рядом с детьми.
– Ослабела старушка. Выпила лишнее, – сказала Горпына и бросилась к нарам постелить тетке постель.
Обед кончился. Кравченко и Федор вышли на двор покурить. Горпына принялась мыть посуду, а Христя размышляла над бабьим пророчеством. Вид, голос и самые слова бабки произвели на Христю неотразимое впечатление. «Твое еще только начинается…» Что это значит? Да и почему она знает, что меня ждет? А так говорит, будто знает.
Христя начала перебирать в памяти минувшие годы. Длинной чередой возникли перед нею утраты, горести, мытарства. А теперь разве не то же самое? Сегодня у нее есть где преклонить голову, а что будет завтра? Стоит Колеснику захотеть – и она тотчас же очутится на улице. Раньше, не приученная к довольству и безделью, она бы могла еще взяться за работу и честно добывать себе кусок хлеба. А теперь? Вся ее сила в красоте. Без нее – она ничто. Доколе ж она будет так скитаться, то жить в роскоши и холе, то падать на дно грязной ямы? Она так мечтала о спокойной жизни, хотя бы такой, как у Горпыны. Бывают и у нее горькие минуты… вот сегодня. Однако никто у нее не отнимает того, что у нее есть: семью, Федора, хату. Люди знают, что она честная женщина. А я? Сегодня – панночка, а завтра… может, никто и не захочет говорить со мной, если узнает, кто я.
Тоска все больше овладевала Христей. Ей хотелось перед кем-нибудь излить свою душу.
– Горпына! – позвала она тихо.
– Что, панночка? Может, отдохнуть хотите?
– Нет, я хочу тебе что-то сказать. Может, когда услышишь, из хаты меня выгонишь.
– Ох, как вы страшно начали. За что ж я вас выгнала б?
– Все может быть. Только об одном я тебя попрошу. Никому не рассказывай того, что от меня сейчас услышишь.
– Кому же говорить?
– Побожись, что не скажешь.
– Да что это вы? Душу чью-нибудь загубили, так я не поверю.
– Не чью-нибудь, а свою. Знала ты Христю Притыку?
– А как же. Мы с ней дружили.
– Где ж она теперь?
– Вы разве знали ее?
– Да. И мне б хотелось узнать, где она сейчас.
– Господь ее ведает. Была красивая девка, да, видно, в беду попала. Родители ее померли. А она в городе служила. Федор был там и, вернувшись, рассказывал, что хозяйка ее выгнала за то, что с панычом связалась.
– А добра никакого не осталось у нее?
– Нет. Был у них земельный надел, огород. Здор, сосед их, владел им. Люди говорят, что он с этого и нажился. Богачом стал. Дом его дранкой крыт, забором обнесен… В церкви он у нас ктитором. Старый двор продал. А в хате Притыки – шинок, еврей какой-то снял.
Христя молча слушала.
– Вот так, – повторила она, – в Христиной хате еврей шинкарит.
– А когда же вы знали Христю?
– Горпына, разве ты меня не узнаешь? Я ж и есть Христя. Та самая, что когда-то жила здесь. Видишь, какой я стала.
– Ты… вы… Христя… – забормотала Горпына. Она так испугалась, словно перед ней был выходец с того света.
В это мгновенье проснулась Оришка.
– Не пора ли ехать? – спросила она.
– Пора, пора, – сказала Христя.
А тут и мужчины вернулись.
– Василь! Пора ехать!
– Ехать так ехать. Сейчас запрягу.
И Кравченко вышел из хаты. Вскоре гости уехали.
Измучилась Христя перед отъездом. Она боялась, что Горпына заговорит о ней, но та сидела точно в воду опущенная… Только когда выехали со двора, Христя облегченно вздохнула.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
– Теперь я вас повезу по другой дороге, чтобы вы всю Марьяновку увидели и знали, какая она есть, – сказал Кравченко и повернул коня к церкви.
Они проехали по большаку, который шел из города через Марьяновку. Как знакома эта дорога Христе! Хорошо знакома! По ней она бегала еще девочкой. По этому шляху Кирило отводил ее в люди, по нему катилось ее горе. Вот здесь она когда-то прощалась с селом, а тут встретила покойную мать, когда ее несли на кладбище. Доконали ее люди и напасти, до того довели, что и во сне ей не снилось. Безрадостные воспоминания, невеселые думы!
За площадью должен быть их двор. Где ж он? Теперь здесь уже целая улица, а раньше хата – на конце села. Это Карпа двор… Карпа Здора… Он, он. Рядом – и ее хата. Неужели это она – с бутылкой над дверью? Будто незнакомой стала: вход прямо с улицы, а не через калитку, как раньше. Там, где был палисадник, цвели высокие розы и стлался барвинок по земле, теперь пустое истоптанное место. Рыжий корчмарь стоит на пороге и глядит на проезжающих.
Христе стало еще тяжелее на душе, когда она увидела родной двор. Вспомнился ей недавний разговор с Горпыной… Вот до чего довела ее злая доля. Вот для чего ее родили, растили, лелеяли!
Жизнь представилась ей высокой горой, на которую она с трудом взбирается. Только она достигает вершины, как уж снова летит вниз головой. Где ж ее пристанище? Где ей склонить измученную голову? Неужто лишь в могиле обретет она желанный покой? И только для этого жить, мучиться, терпеть? Она склонила голову на грудь и тяжело вздохнула. Так клонится к земле увядающий цветок.
Всю дорогу Христя была печальной, рассеянной и не проронила ни слова. Ни просторы полей, освещенные лучами заходящего солнца, ни дремучий лес у Веселого Кута не привлекли ее внимания.
Дома ей стало еще тоскливей и безотрадней. Она почувствовала себя в позолоченной клетке. А тут еще Оришка пристает с разговорами, допытывается, понравилось ли ей в Марьяновке.
– А как же? Понравилось, – ответила Христя, чтобы отвязаться от назойливой старухи.
Да не так-то легко от нее отделаться.
– Что в ней теперь хорошего? Поглядели б вы на нее лет тридцать назад, когда еще панщина была и сам пан жил в селе. Эх, и лилось тогда в панском дворе – хлеб свой, и выпивка, и музыка… Ешь, пей вволю, а гуляй хоть до упаду! И народу тогда меньше было, и люди лучше. Все вместе, друг за дружку держались. А если кто собьется с пути – пан всегда на страже. Тогда уж виноватому пощады не будет.
И Оришка начала весело рассказывать о том, кого и когда пороли на конюшне. Кого отдали в рекруты. Как одной женщине за кражу молока присудили всю жизнь носить на шее ковшик, который специально заказали гончару. Как мать чернявой Ивги, когда пан дознался, что она пошла к венцу не девушкой, остригли, вымазали дегтем, утыкали перьями и голой водили по селу. Люди говорили, что оттого и дочка у нее черной уродилась.
Страшные были эти Оришкины рассказы. Христя ужасалась, слушая их, а Оришка – хоть бы что… Глаза ее горели от радостного возбуждения. Ей, видимо, приятно было вспоминать молодые годы и все эти случаи, от которых у Христи стыла кровь.
– Вот как жили в старину! И хорошо! Было кому людей от греха удержать. А теперь все расползлось, как изношенная одежда. Не найдешь, где рукав был, где пола, где спина. Все пошло вразброд. Все люди врагами стали… друг друга подстерегают, как бы обдурить, облапошить, провести. Не разберешь в такой сутолоке, кто свой, кто чужой. Все чужие, каждый сам по себе.
Так рассказывала Оришка, сидя с Христей в столовой и потягивая сладкий чай. Христя молчала, слушала, и перед ее глазами возникали страшные картины былого, еще более тяжелого, чем то, что ей пришлось пережить. И казалось ей, что жизнь с незапамятных времен была бесконечной цепью горестей и утрат сотен тысяч людей, обойденных судьбой. Некогда этой судьбой распоряжались одни паны, а теперь… теперь богатые купцы, мироеды, накопившие деньги всякими правдами и неправдами, и содрали они это богатство с того же бедного люда.
– Что ты тут мелешь глупости? – сказал Кирило, входя в комнату.
– А тебе какое дело? Сам дурной и других по себе судишь, – огрызнулась Оришка.
– Где ж там, раскудахталась, что при панах лучше было; сидел я на кухне и слушал, так аж нудно стало. Пойду, думаю, хоть остановлю ее.
– Конечно, при панах лучше было. Ты жил где-то на отшибе, вдали от панского двора, и ничего не видел. А пожил бы ты на дворе, посмотрел, как там все было. Где теперь такое отыщешь?
– Что гоняют по селу с ковшом на шее мать за то, что она для своего голодного ребенка взяла кружечку молока у пана? – спокойно произнес Кирило.
Оришка презрительно взглянула на него.
– Так и надо. Не воруй! Теперь так не наказывают, зато и воровство пошло повсюду. Кто теперь не крадет? Даже малое дитя и то норовит стащить, что плохо лежит.
– А мажут вас дегтем, как мать черной Ивги? – спросил Кирило.
– Зато и гулящих расплодилось видимо-невидимо, – гаркнула Оришка.
Христю точно острым ножом полоснуло по сердцу. «Гулящая!» – так и стучало молотком в ее голове. И она теперь тоже гулящая. Да, да! Шатается по белу свету без пристанища, от одного к другому…
– А разве тогда их мало было? – спрашивает Кирило.
– Да не так. А сейчас – не успеет на ноги встать, еще материнское молоко на губах не обсохло, а она уже с солдатами водится.
– Теперь хоть сама водится, а тогда силой вынуждали.
– Да не было того, что теперь, – под забором сдыхают как собаки, шляются.
– Ты лучше скажи, что виной этому ваша утроба ненасытная. Удержу нет на вас! Тогда вас насильно заставляли, так вы хоть с плачем шли, а теперь еще и смеетесь.
– Врешь, постылый! Тьфу! Путного слова сказать не можешь! Хоть бы панночку постыдился. – Оришка вскочила и побежала вон из хаты.
– Вот тебе и на! – Кирило развел руками. – Простите меня, панночка. Совсем дурной стала баба! Ей, может, одной хорошо было с панами, так она думает и всем так. И теперь, правда, очень трудно жить, но знаешь, что никто тебя арапником не отстегает на конюшне. Бывает голодно и холодно, зато хоть вольный. Живи, как знаешь.
– Но тогда надо было одного пана остерегаться, а теперь много их развелось, панов разных, – промолвила Христя.
– Так оно и не так. Тогда шкуру берегли, а теперь только карманы. Вот в чем дело.
Христе теперь казалось, что жизнь не так уж плоха, как это изобразила Оришка. Раньше ей такие мысли не приходили в голову. Она чувствовала себя так, словно стала на много лет старше, на голову выше остальных людей, и озирала мир с горной вершины.
– Может, выпьете стакан чаю? – предложила она Кирилу. Ей хотелось подольше быть с этим ласковым и спокойным человеком.
– Если уж вы так добры, панночка, то выпью стаканчик.
– Садитесь. Я сейчас.
Христя налила стакан чаю.
– Вспыльчивая моя старуха, как порох. А все потому, что глупа. К примеру, говорит, что теперь жить хуже стало, чем раньше. Ну, хуже так хуже. Так хоть сама не делай людям зла. А то и без нее горько, а она еще больше горчит.
– Кому же она зло причинила?
– Разве мало было? Да вот вы сами недавно видели. Это ж она уговорила пана сдать огороды и пруд Вовку и Кравченко. На первый взгляд оно как будто и не плохо. То даром землей владели, а то семьдесят пять рублей аренды. Только, по-моему, это не по-Божьему – нет. Слобожанам эти огороды очень нужны, хоть и не стоят они столько.
– Почему же Вовк и Кравченко дали?
– Эти кровопийцы да не дадут! Они знают, где раки зимуют: не на молоке, так на сыворотке свое возьмут! Им надо общество связать по рукам и ногам. Вот что им нужно! Пока у людей были огороды и водопой, им бы не удалось их скрутить. А теперь удастся. К таким, если попадешь в лапы, не вырвешься. Жалко людей! Не по-Божьему!
Выпив чай, Кирило снова заговорил:
– Я еще другого боюсь.
– Чего? – спросила Христя.
– Когда человеку нечего терять, он готов на все.
– На что же? На что?
– На все.
– Зарезать может?
– Ну зарезать – и сам попадешься. А вот темной ночью красного петуха пустить…
– Как же это?
– Очень просто. Свезут, примерно, хлеб на ток молотить, а тут невесть откуда огонь вспыхнул, и все сгорело дотла.
– Так, думаете, они подожгут? – испуганно спросила Христя.
– Я не говорю, что они обязательно это сделают, но у других такое случалось. Коли с ними не по-Божьи, то и они не по-людски… Ну, спасибо вам, – сказал он, поднимаясь.
– Может, еще стаканчик?
– Нет, благодарю. Пора спать, завтра надо встать рано. Спокойной ночи! – Кирило поклонился и ушел.
Христя осталась одна. Перед ней стоял недопитый стакан холодного чая. Погрузившись в невеселые думы, сидела она неподвижно за столом. Тускло горела свеча, в раскрытые окна вливался вечерний сумрак, легкий ветерок колебал пламя свечи, большие тени колыхались на стенах. Мысли разбегались, из темных углов глядели на нее какие-то незнакомцы темными глазами и словно говорили что-то глухими голосами.
Еще никогда такое множество мыслей не осаждало голову Христи. Жизнь сурово глядела ей в глаза, будила такие думы, которые раньше не приходили ей в голову, подымали такие вопросы, о которых она до той поры не слышала. Теперь ей предстояло в полном одиночестве разобраться в этом сложном клубке, решить, куда ей направить свой утлый челн среди бурного житейского моря. Тяжелы эти вопросы! Людям большого ума они часто не под силу, а каково ж ей, одинокой и несчастливой! Недаром бессильно опускаются ее руки, клонится голова на грудь, бледнеет лицо, тускнеют ясные – девичьи глаза.
А легкокрылые думы то мчат ее в прошлое, и тогда кажется ей, что она одна виновна во всех своих бедах… То возвращают ее к настоящему – и оно предстает пред нею в самом мрачном свете. То снова уносят ее в будущее искать для себя место в жизни. Казалось, нет для нее теплого угла! Гулящая… как веет над полем ветер, как птица носится над землей, так и она блуждает по свету. Умный человек Кирило, да и Оришка не глупа. Одним словом, она определила ее безрадостное существование. Кирило считает бабку глупой. Нет, она не глупа, а страшна. Словно в душу вползает, и слова ее точно ядом пропитаны. «Ведьма она, ведьма… оттого и вещает», – решила Христя. Голова ее клонится все ниже, она не хочет смотреть на эти стены и углы, где ей мерещатся какие-то чудища, которые кривляются и смеются над ее горем.
Свеча совсем догорела; длинный обнаженный фитиль подымается над синей горошиной пламени, еще больше сгустился сумрак в комнате. Вдруг что-то треснуло, вспыхнуло. Христя стремительно подняла голову.
Кровавое зарево пожара поднялось из-за горы и осветило комнату. Христя, сама не своя, бросилась к окну. Среди густой темени, словно исполинские меха раздували горн, полыхала хата внизу над самым прудом. По его спокойной глади бегали огненные струйки, по сторонам желтели соломенные кровли. Послышался топот… страшно выла собака, заревела скотина. Затем поднялся отчаянный крик в слободе, и целые снопы огненных искр понеслись в ночное небо. Густой черный дым заклубился над заревом, рядом еще вспыхнуло, словно язык пламени вырвался из печи и лизнул темное небо… Потом загорелось еще что-то, не то сарай, не то хата.
– Спасите, люди добрые! – услышала чей-то крик Христя и бросилась к дверям. На бегу она зацепила ногой тяжелый дубовый стул, и он грохнулся на пол. Страшный стук гулко разнесся по всему дому. Христя отчаянно вскрикнула и упала. Растрепанная, простоволосая Оришка вбежала в комнату и замерла, глядя в окно обезумевшими глазами. Вид ее был страшен; у нее подкашивались ноги, в темных зрачках сверкали отблески пожара. Христе казалось, что настал день Страшного суда и сам дьявол выскочил из-под земли и стал рядом с ней. Не помня себя, она отчаянно голосила.
– Что такое? – послышался тревожный голос Кирила, и он вбежал в дом.
– Ой… беда! – только крикнул он и бросился к Христе. – Панночка, панночка! Очнитесь! Господь с вами! Это в слободе горит, от нас далеко! Не бойтесь.
Слова Кирила подействовали на Христю успокаивающе. «Это еще не Страшный суд, если так ласково говорят со мной», – пронеслось в ее голове, и хотя она не поднялась с пола, но перестала причитать.
– Встаньте! Господь с вами! – сказал Кирило и взял ее за руки.
С его помощью Христя встала. Потом, как сноп, свалилась на стул.
Сейчас она сидела лицом к окну. Перед нею в глубоком обмороке лежала Оришка. Сзади стоял Кирило, держась за стул.
А пожар все разгорался. Пламя перебрасывалось на новые хаты, искры роями носились над слободой. Но теперь было уже не так страшно. Проснулись люди, отовсюду доносились отчаянные крики:
– Воды! Где ведра? Лей! Ломай плетень! Налегай! – Треск, лязг и шипение воды сливались в сплошной гул.
– Кажется мне, что это Кравченко горит, – сказал Кирило.
Очнувшаяся Оришка, словно хищная птица, метнулась из комнаты.
– Куда? – крикнул Кирило, схватив ее за рукав сорочки. – Ни с места!
Оришка закрыла лицо руками и глухо застонала.
– Ох… ой… подожгли… подожгли… – зашипела она.
– Кто поджег? – испуганно спросила Христя.
– Да не слушайте ее… Кто его знает, отчего загорелось, а она уже мелет: подожгли, – сказал Кирило.
– Подожгли, подожгли, – не унималась Оришка, как ополоумевшая, слоняясь по комнате. – Отчего могло загореться? Иуды подожгли.
– Да замолчи, чертова сорока! – крикнул Кирило.
Надо бы в слободу побежать, помочь людям, да не на кого дом оставить. Две бабы, обезумевшие от страха, – ненадежная охрана, они сами нуждаются в присмотре.
Пожар начал утихать. Прожорливое пламя, насытившись своей добычей, утомилось; длинные языки его уже не лизали с жадностью черного неба; словно угасающий костер дотлевал на земле. Зато стал отчетливей и громче людской крик и говор. Казалось, все радовались, что одолели ненасытного зверя, и шумно делились своей радостью. Это был неясный гул, но он означал, что, покончив с опасностью, люди принялись хлопотать на пожарище, помогать друг другу.
– Утихло, слава Богу! – вздохнув, произнес Кирило и вышел.
За ним следом поплелись Христя и Оришка.
Внизу, над прудом, тлело большое пожарище. Синие язычки пламени кое-где мелькали над золотым жаром и золой. Слева в зеркальной глади пруда колебалось багровое отражение пожарища. Казалось, что и под землей горит. На берегу пруда толпилось множество людей – женщины, дети, старики стояли черной стеной, глядя, как боролись две страшные силы – огонь и вода. А над всем этим в черном небе подымалось зарево, далеко разнося весть о несчастье, постигшем слобожан.
Только поздней ночью, когда погасло зарево, Христя успокоилась и легла спать. Но ей не спалось. Вспомнились бабкины слова, обращенные к смеявшемуся Кравченко: «Не смейся, ты в моих руках». Оправдались и опасения Кирила: богатство Кравченко развеялось, как дым… Оришка говорит, что подожгли. Чьих же это рук дело? Конечно, слобожан. Отомстили Кравченко за огороды и пруд. Но разве он виноват? Не предостережение ли это тому, кто владеет этим имуществом? Грозное предостережение. А какая же будет кара?… Сквозь сон мерещится Христе страшное зрелище горящей усадьбы… Она встрепенулась и, перекрестившись, снова легла. И опять видит бушующее пламя… Горит дворец на горе, кричит Кирило, люди вопят, а другие хохочут. Смеются над чужим несчастьем.
Снова проснулась Христя.
Бледный рассвет поднимался над сонной землей. Край синего неба зарумянился, будто девичье лицо от вольного слова парня; сквозь закрытые окна неясно слышится пенье птиц. Тихую радость ощутила Христя. Словно искра в темноте, разгоралась она где-то в глубине души, заглушая горечь воспоминаний о вчерашнем. Христя подбежала к окну подышать свежим утренним воздухом. Напрасная надежда! Вместо ароматной свежести на нее дохнуло гарью и чадом. Желтый дым, смешанный с облаками тумана, будил горькие воспоминания. Сразу исчезла радость, появились печальные мысли. Проснулось и любопытство. Услышав доносившиеся из кухни голоса, она направилась туда.
Оришка и Кирило уже встали. Оришка суетилась, бегала по кухне. Кирило, стоя в углу перед образами, громко молился.
Чтобы не помешать ему, Христя с порога вернулась в свою комнату.
– Вы уже встали, панночка, – сказала вдогонку Оришка, следуя за ней в комнату. – Рано, рано. Поздно легли, а рано встали. Вам что-нибудь нужно?
– Да, я хотела бы умыться, бабуся.
– Можно. Почему же нет? – Оришка подала ей кувшин с водой и таз. – Зачем вы так рано поднялись? Вам бы только теперь и поспать. На дворе такой смрад после пожара, что гулять нельзя.
– Я хочу пойти туда, посмотреть.
– Ладно. И я с вами пойду. Может, чем-нибудь утешим Кравченко. У бедняги все сгорело. И конь, говорят, сгорел, что нас в Марьяновку вез. Все пропало у них, еле сами выбрались, – тараторила Оришка.
Христя быстро умылась, оделась, и едва только солнце своими первыми лучами согрело остывшую за ночь землю, как она уже вместе с Оришкой, спустившись с горы, повернула на дорогу к слободе. Только они обогнули гору, как перед ними блеснул помутневший пруд: на берегу чернело пожарище. Несколько человек копалось в черной золе, над которой еще кое-где тлел жар, другие носили из пруда воду и заливали тлевшие уголья. Христя и Оришка робко приближались. Большая усадьба, недавно отстроенная, вся была покрыта дымящимся пеплом.
На месте, где раньше стояла хата, среди груды золы и угля возвышался обгоревший остов печи. Такие же бесформенные кучи высились там, где были сараи, амбары; посреди двора лежало обугленное туловище какой-то скотины, без ног, с раздувшимся животом и потрескавшейся кожей.
– Что это? – спросила Христя у стоявшего вблизи человека.
– Корова сгорела. Хорошая была, породистая. Ведро молока в день давала. И какого молока! – вздохнув, ответил он и, заметив, что из одной кучи вырвалось пламя, побежал заливать его.
– Так ничего и не спасли? – обратилась Христя к другому.
– Ничего. Все, что было, тут и осталось! – сказал он, безнадежно махнув рукой.
– Много добра пропало, – прибавил другой. – В другой раз столько не наживешь.
– Отчего же это?
– А Бог его знает.
– Теперь капут Кравченко! Капут! – заметил третий, и все сразу принялись за работу.
С кем бы Христя ни заговаривала, она видела, что никто не жалеет Кравченко. Сокрушались о пропавшем добре, сгоревшей корове, коне, но никто даже и случайно не обмолвился ни словом о Кравченко.
– Где же сам хозяин? – спросила Христя.
– А Бог его знает. Был тут. Видно, ушел куда-то. Да вот он слоняется, – указал молодой парень на серую фигуру, приближавшуюся к пожарищу.
Это в самом деле был Кравченко. Босой, с непокрытой головой, в одной сорочке, шел он с опущенной головой. Руки, точно плети, болтались по бокам, голова взлохмачена, лицо вымазано сажей, взгляд блуждающий, как у безумного.
Страшно было глядеть на него и трудно поверить, что это веселый и болтливый Кравченко. Он шел молча, неуверенно ступая, встречные сторонились, испуганно глядя на его страшное лицо. Он шел, не озираясь, вперед, глядя в одну точку, словно его манило к себе что-то невидимое.
Все ближе и ближе подходит он к пожарищу. Вот, кажется, наткнется на кучу пепла. Но тут он сразу остановился как вкопанный. Поднял голову, безумными взглядом окинул пепелище и, зашатавшись, упал на колени. Потом глухо застонал, как волчица, увидевшая свое детище, разодранное собаками.
У Христи волосы стали дыбом. Оришка, перепрыгивая через кучки пепла и дымящиеся головешки, подошла к Кравченко и, положив руку на плечо, ласково сказала:
– Василь! Не журись!
Кравченко посмотрел на нее и неожиданно расхохотался. Это был жуткий хохот умалишенного.
– Не журись! – сказал Кравченко, смеясь. – Глянь! Глянь! – схватив ее за руку, крикнул он, указывая на пожарище. Потом, бросив Оришку, поднял сжатые кулаки и пригрозил кому-то невидимому.
– Это всё вы! Всё наделали! – И снова убежал.
Присутствующие не обратили на него никакого внимания. Они старательно разгребали золу и заливали огонь. Христя только услышала, как кто-то тихо сказал своему соседу:
– Видел, как ведьма утешает черта. Ворон ворону ока не выклюет.
Окликнув бабку, Христя побрела домой. Ей было тяжело и тоскливо. К счастью, как только она вернулась, приехал Колесник. Христя ему обрадовалась, как родному отцу. Начались расспросы, рассказы, вздохи. Оришка все шамкала: «Это его, паночек, свои подпалили». Колесник молча слушал, не проронив ни слова.
Потом он заперся с Христей в комнате.
– Чего ты испугалась, дурочка? – спросил он, весело заглядывая в ее опечаленные глаза.
– Я тебя хочу попросить… – начала она неуверенно. – Отдам я те деньги, что ты мне подарил. Пусть все останется по-прежнему.
– Как так?
– Пусть слобожане пользуются прудом и огородами.
– И не говори об этом, если не хочешь меня рассердить, – сказал он, насупившись. – Не будет по-ихнему! Не дам поджигателям поблажки. Я их в тюрьме сгною, со света сживу. Они еще узнают меня!
Потом он позвал Кирила и велел передать Кравченко, чтобы тот не убивался, – он даст ему лес на новую постройку, а пока, если хочет, путь переедет жить на панский двор.
– Теперь лето, как-нибудь перебьется, – сказал Колесник. Он зевнул и вскоре лег спать.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Неприветливым казался теперь Христе Веселый Кут. Как будто не произошло никаких перемен – огонь уничтожил только один двор Кравченко, да и то он при помощи Колесника уже место расчистил, навес поставил и приступил к постройке хаты. А в панской усадьбе все по-прежнему. Гордо красуется дом на горе, у подножья растянулась слобода, а позади лес шумит. Так же всходит и заходит солнце; прозрачен, чист и ароматен горный воздух. Все оставалось прежним, но не таким оно представлялось Христе.
Усадьба кажется ей теперь гнездом коварного хищника – словно коршун забрался ввысь и отсюда подстерегает свою добычу. Солнце немилосердно печет, будто нарочно досаждает людям, воздух пахнет гарью, сад и лес – немые свидетели людских бед. Даже щебетанье птиц ей наскучило. С безмолвной печалью встречает она утро, прячется от назойливых взглядов Оришки, весь день не находит себе места и ложится в постель с той же гнетущей тоской. Ночная темнота скрывает ее слезы, которые она сдерживает днем.
Люди и даже сама жизнь опротивели ей. Все вокруг так омерзительно, не дает ни капли радости и утешения. Напротив – все будит в ее душе какой-то неопределенный страх, от которого она не может избавиться. И хоть бы нашлась одна душа, пред которой можно было бы раскрыть наболевшее сердце, вызвать сочувственные слова! Каким оно было бы теплым, целительным! Никого! Одинокая, как былинка в поле, затерянная в этом страшном мире. Все чаще и чаще мысль ее возвращалась к прошлому, вспоминалась жизнь в селе – какой она казалась ей теперь хорошей, спокойной. Вечные невзгоды, холод и голод, тяжелая нужда словно ее не касались, и она росла, как цветок в саду, под любовным присмотром матери. Мир и люди рисовались ей тогда такими приветливыми, а на уме у нее были одно веселье да забавы девичьи. Если б можно было вернуть это далекое время, вырвать из ее жизни мытарства последних лет! Нет, огнем выжжены эти годы в ее сердце, их нельзя стереть. И теперь уж до самой могилы придется тащить эту тяжелую ношу… Гулящая… гулящая… больше ничего.
Это слово сковало ее ледяным холодом; она носила свой позор, как клеймо каторжника, с невыразимой горечью обреченной. Христя ни на мгновенье не забывала о нем, как о вечной каре, наложенной на нее неумолимой судьбой.
Убежать бы отсюда куда глаза глядят! Может быть, в другой среде она отдохнет и найдет силы начать новую жизнь; может, ей удастся установить иные отношения с людьми, не такие тяжелые и болезненные, как здесь. Хоть бы скорее прошло лето! Она уедет в город и ни за что сюда больше не вернется; и калачом ее не заманишь!
А время плетется, словно калека, тихо, не спеша. День кажется вечностью. Сколько до осени таких дней осталось, долгих-предолгих, знойных и душных? Еще и сенокос не наступил, а там жнива. Зачахнуть можно за это время!
И Христя в самом деле увядала. Побледнело лицо, на мраморном челе залегла глубокая продольная морщинка. Потускнели черные глаза… Под ними от еженощного плача появились синие мешки.
– Что с тобой? – допытывается Колесник, заглядывая в ее грустные глаза.
– Тоскливо мне тут, – упавшим голосом отвечает Христя. – Хоть бы уехать скорее.
– Куда?
– В город, на край света, в пекло… Только не здесь. Уедем…
– Чудна́я ты! Жила в городе – тебе грустно было, рвалась в село. А теперь снова в город тянет. Нигде себе места не найдешь.
– Так уж мне, видно, на роду написано, – ответила Христя и заплакала.
– Опять слезы… ненавижу я это… – крикнул Колесник и ушел.
«Чего ей не хватает? – думал он, бродя в одиночестве по саду. – Как сыр в масле катается, а еще плачет. Напустит на себя дурь и носится с нею, как цыган с писаной торбой!»
А в это время Христя, оставшись одна в комнате, тоже думала: «Никто тебя не поймет… не хочет понять… одинокая… гулящая!..»
С тех пор она дала себе слово отмалчиваться, когда Колесник будет к ней приставать с расспросами. Все равно, если скажешь правду, он не поверит, скажет – дурь на себя напустила, а заплачешь – он еще пуще рассердится. Лучше уж молчать.
Она так и делала. Если Колесник спрашивал, отчего она грустит, Христя ссылалась на головную боль или недомогание. Ласки его она тоже принимала с каменным равнодушием.
– Ты стала холодной, как рыба, – жаловался он.
А она недоумевающе глядит на него своими черными глазами, словно не о ней идет речь.
– Поцелуй меня, – просит он.
Она прикасается губами к его лицу, словно к железу или дереву, и снова сидит тихая и спокойная.
– Стар я для тебя, стар… Молодого тебе надо. О, я знаю вашу ненасытную натуру!
Эти укоры она также выслушивает молча и безропотно. Ей все равно. Когда в душе стужа и мрак, а на сердце безысходная тоска, и укоры не трогают.
К тому же ей так опротивели ласки Колесника. Сначала он хоть стеснялся Оришку и Кирила, а теперь и при них норовит ущипнуть ее.
– Так вот она какая панночка, – услышала Христя однажды слова Оришки. – Я думала – порядочная, а она – тьфу!
– Она нам не родня, наше дело сторона, – ответил Кирило.
– Знаю, что не наше дело. Да смотреть тяжело, как он к ней со всей душой, а она рожу отворачивает. Я ее ни одного часа не держала бы в доме.
– Кабы свинье рога!
Оришка сердито сверкнула на мужа глазами.
– Ты сперва погляди на него, потом на нее, – немного погодя сказал Кирило. – Думаешь, сладко ей ласкать такого?
– За мою хлеб-соль такая благодарность! – крикнула Оришка.
– Видели глаза, что покупали, – спокойно возразил Кирило и ушел, чтобы не затеять ссору.
Раньше Христя приняла бы это близко к сердцу, и Оришке бы несдобровать, а теперь… Видели вы, как хлопают плетью по воде? Широко расходятся круги, а через некоторое время все уляжется и следа не останется. Так и Христя. Услышав болтовню Оришки, она вся затряслась, кровь прилила к ее лицу, но это продолжалось только одну минуту. «Разве я и в самом деле не такая? Разве я не достойна, чтобы на меня плевали честные люди?» – подумала Христя и только низко опустила голову, словно подставила ее под удар.
– Ты б хоть погулять пошла. А то сидишь, как наседка, аж пожелтела, – однажды вечером сказал ей Колесник, глядя на унылую фигуру Христи. – Вчера я ходил далеко в лес. Славно так, птички поют. Не будь проклятого народа, совсем бы хорошо было. А то и в своем имении нет покоя. Ты только подумай: двадцать голов скота выпустили в молодую рощу! Совсем ободрали! А дубки так хорошо поднялись, с меня ростом. Стал говорить – так куда там! И слушать не хотят. Один еще обругал меня. Не знаю, куда лесничий глядит. Слоняется вокруг своей хаты, а что делается дальше, ему все равно. Вызывал я его. «Что это?» – спрашиваю, а он только затылок почесывает. «Это, – говорит, – слобожане». И рассказывает, чьи хлопцы волов пригоняли… А теперь надо к мировому судье ехать. Завтра поеду. В печенках у меня сидят эти потравы! Ну и люди, ну и соседи! А ты еще просила, чтобы огороды им вернуть. Кому? Скотину, зверя приручить можно, а их? Посмотрим, кто кого? Как вы ко мне, так и я к вам… Ну, это наши счеты. А ты все-таки не сиди дома. Я завтра уеду, а ты поди, за лесничим присмотри. Будь хозяйкой. Ты же моя хозяюшка… правда, плохая… пожелтела, похудела… Бедняжка моя…
Он слегка потянул ее за кончик носа.
– Правда, плохая… Ну, не буду, не буду! Только не плачь, – сказал он, заметив на ее глазах слезы. – Ты оттого и киснешь, что из дому не выходишь. Хоть ты не огорчай меня. Развеселись. Ты ж мне всего дороже. Как тебя, такую, в город везти. Ох жизнь, жизнь! Отчего я не моложе на двадцать лет? – сказал он, вздохнув, и ушел в свою комнату.
А Христя еще долго сидела с опущенной головой, роняя слезы. Потом безнадежно махнула рукой, разделась, потушила свечу и легла спать.
На следующий день Колесник уехал. Христе стало еще тоскливей. Она думал, что после его отъезда ей станет легче: он не будет к ней приставать с ласками. Хоть это не будет напоминать о ее горькой доле. Но когда коляска скрылась вдали и она осталась одна в комнате, на нее внезапно нахлынуло безысходное отчаяние. Вчера он сказал, что она ему дороже всего. А сегодня так заботился о том, чтобы ей не было скучно… Почему ж она так равнодушна к его заботам? Ведь у нее нет ни одного близкого человека, кроме него. Даже поговорить не с кем. Раньше Оришка частенько заходила поболтать с ней, а теперь и та сторонится. Что ж она – зачумленная, что все ее избегают?… «Ох, нет у меня сил больше так жить!» – думает Христя… Накинув платок, она убежала из дому, никому ни сказав ни слова.
День был погожий, знойный, солнце жгло немилосердно. Время близилось к обеду. В саду парило. Темнолистные вишни, ветвистые яблони и груши не могли защитить землю от палящих лучей. Они пробивались сквозь сплетения ветвей и точно поливали траву горячим искристым дождем. Над землей поднимался еле заметный пар. В долине между садом и лесом колыхалось серое марево. «Может, там не так жарко», – подумала Христя. Чем ниже спускалась она, тем становилось прохладней. Тут и там росли фруктовые деревья, больше всего лесной орех. Дальше попались ей навстречу молодые осинки. «Иудино дерево, на нем Иуда повесился», – вспомнились Христе чьи-то слова, когда она глядела на круглые листочки, которые все время трепетали и словно перешептывались, хотя было совсем тихо. Земля здесь густо заросла сочной травой, словно кто-то разостлал зеленый ковер, разбросав по нему целые охапки цветов – желтых одуванчиков и красных ирисов. Густые кроны осин тоже пронизывают солнечные лучи и словно золотые нити колышутся в прозрачном синем воздухе. Христя остановилась, любуясь этим уютным островком.
Сначала ей захотелось лечь, понежиться в мягкой шелковой траве, потом появилось желание рвать цветы. Она сплела венок и надела его на голову. Венок очень украсил ее побледневшее лицо. Срывая цветок за цветком, она спускалась все ниже, пока не достигла дна оврага. Там двумя рядами росли ветвистые вербы, отгораживая лес от сада. Они были кудрявые и раскидистые, ветви их почти касались земли, а верхушки маячили высоко в небе. Под ними было сыро. Тонкий чернобыль, широкие лопухи и мелколистый болиголов буйно росли вокруг. В мокрой траве прыгали лягушки – значит, близко вода. Вот и она – стремительный и чистый, как слеза, родничок течет из-под горы по узенькому руслу, заросшему тростником. Христя пошла вниз по течению. Ручеек, петляя в разных направлениях, дошел к опушке леса. Высокие столетние дубы обступили его, прикрывая от солнечных лучей. Дальше тянутся луга, поля, лес…
Христе захотелось пить, и она опустилась к ручейку. Стоит только подставить ладони, и кристально чистая вода наполнит горсть. Христя взглянула на свои руки, они позеленели от цветов. Она наклонилась, чтобы помыть их в небольшой ложбинке, наполненной водой. На ровной глади воды что-то колыхнулось, словно тень скользнула по ней.
– Это ж я, я!
Она улыбнулась и в воде увидела свое нежное улыбающееся лицо. Христя невольно залюбовалась им. «Вот почему они гонятся за мной, и этот одутловатый Колесник… – подумала она, с нарастающей грустью глядя на свое лицо, дрожавшее в темной зеркальной глади ручья. А что мне с того? Другим утеха, забава, а мне?» Потухли огоньки в глазах, исчезла улыбка, словно тень легла на лицо Христи. Она глубоко вздохнула и опустила свои руки в прохладную струю. Холодная вода точно обожгла ее. Но удивительно – сколько она не терла кожу, желтовато-зеленые пятна не смывались. «Ну его!» – решила Христя, набрала полную горсть воды и с наслаждением выпила. Родниковая вода освежила ее, точно целительный бальзам. Потом она умылась… Боже, как хорошо! Ей казалось, что она летит на легких крыльях по залитой солнцем долине.
Христя и не заметила, как очутилась на противоположной опушке леса. Перед ней распростерлись бескрайние поля, лес круто повернул влево. А что там маячит вдали? «Не косари ли это?» – подумала она. Под зеленым деревом, одиноко возвышающимся в поле, показался сизый дымок. «Косари! Косари! Галушки или кашу варят». И Христя направилась к ним.
Она шла по зеленому лугу. Так приятно было идти по высокой траве. Кузнечики, вспугнутые неожиданным появлением человека, роем подымаются ввысь. Они неустанно стрекочут, звенят, словно предупреждают товарищей о надвигающейся опасности. Повсюду порхают мотыльки, похожие на лепестки пестрых цветов. Где-то невдалеке в траве закричал перепел и вскоре затих. Знойный степной ветер внезапно налетел, принес с собой запах полевых трав и цветов – чабреца, душицы… Как привольно в степи! Стихает душевная боль, вместе с пьянящим ароматом. Не слышно говора людского, не видно суеты, а буйная жизнь идет кругом. Чувствуешь, как она входит в тебя тихим шелестом трав, неугомонным стрекотанием кузнечиков, криком перепелиным… Все это так приветливо, радостно, мило… И чувствуешь себя только маленькой частицей вселенной…
Так чувствовала себя Христя в степных просторах, идя по лужайке к недалекому костру. Зачем она шла туда? Кого там встретит? Она не отдавала себе отчета, но ее неудержимо тянуло к этим неизвестным людям. Вот она уже видит высокую темно-зеленую липу. Сбоку от нее над костром греются чугунки: около них хлопочет молодая девушка, с лицом, измазанным сажей, и с ложкой в руке. Солнце припекает ее непокрытую голову, но она этого не замечает. В тени, опершись спиной о ствол липы, сидит молодица и, мурлыча песенку, что-то шьет. Смуглая девочка, сидящая рядом с ней, не сводит глаз с блестящей иголки, мелькающей в руках женщины. А с другой стороны спит кудрявый хлопчик, раскинувшись на мягкой траве. Лицо молодицы полное, белое; одета она просто, но богато – на ней тонкая сорочка, искусно вышитая, нарядная плахта и голубой передник. Не то что девушка у костра в грубой и грязной сорочке. Сразу видно, что она прислуга, а молодица – хозяйка. И лицо ее очень знакомо Христе.
– Смотри, Кылына, не перевари, – тихо сказала молодица.
Девушка сунула ложку в чугун и, дунув на нее, попробовала варево.
– Еще раз закипит, хозяйка, и будет готово, – сказала девушка. Молодица взглянула на подходившую незнакомку.
– Христя! – крикнула она и, бросив шитье, быстро поднялась.
– Одарка! – в свою очередь крикнула Христя и бросилась к молодице. Они крепко обнялись и расцеловались. Кылына с недоумением глядела на незнакомую панночку.
– Боже! А я уже думала, что больше никогда тебя не увижу, – радостно сказала Одарка. – Недаром говорят, что гора с горой не сходится, а человек с человеком встретится. Вот жаль, что Карпо не поехал на косовицу. Он остался дома – пчелы роятся, так надо за ними присмотреть. А как он хотел видеть тебя, Христя! Горпына рассказала нам, что панночка была в церкви. Он так жалел, что не пришлось поговорить с тобой. А видишь, как дети выросли. Миколка уснул, набегался по жаре, устал бедняжка. А это – Оленка.
Христя поцеловала девочку и спросила:
– Не узнаешь меня?
– Нет, – смущенно ответила Оленка.
– Это тетя Христя, – сказала Одарка. – Когда ты была еще совсем маленькой, она тебе на руках носила.
Девочка приветливо улыбнулась.
– Садись же, Христя! Садись, моя голубка! – сказала Одарка. – Расскажи, как тебе живется. Тебя теперь и не узнать.
Христя, опустившись около Одарки на траву, тяжело вздохнула.
– Что ж ты вздыхаешь? Разве тебе нехорошо? А мы – слава тебе Господи… Старый двор продали, новый дом построили. Выкупные уплатили, да еще землицы прикупили. Грех Бога гневить, живем – не тужим. И люди нас уважают. Карпа ктитором выбрали. Слава Богу! Хозяйство – полная чаша! Луг этот мы арендовали. Карпо занят пчелами, так я поехала за косарями, присмотреть. Миколка в школу ходит – у нас теперь и школа есть. Уже умеет читать и писать. Советовали и Оленку в школу отдать, и Карпо хотел, а я подумала: на что ей эта грамота? Теперь много этих грамотеев, а есть им нечего. Пусть лучше приучается к хозяйству. У нас и без грамоты дела много: всех обмыть, обшить, накормить. В хозяйстве так: не присмотришь на грош, а потеряешь на рубль. Что же ты молчишь? Ты плачешь! Голубка моя! – Одарка обняла Христю и приласкала ее.
– Пойдем погуляем, – тихо сказала Христя.
– Пойдем, голубка! Если б ты знала, как я рада тебя видеть! Кылына! Не пора кашу снимать?
– Еще не успела, – ответила Кылына.
– Ну, ну! Смотри же! Чтоб косари не сказали: вот хозяйки – и каши не умеют сварить. А ты, Оленка, посиди тут, шитьем займись. Только гляди, чтобы матери потом не пришлось все распороть. Мы скоро вернемся, – говорила Одарка.
– Ну рассказывай, Христя, – сказала она, когда они отошли от костра. – Ничего не утаивай. Ты знаешь, что я тебя как родную сестру люблю. Горпына всем разболтала, что ты была в церкви, и просит: «Не говорите Федору. Как призналась, что она – Христя, так будто острый нож в сердце мне всадила. Я сразу тогда подумала: это она за моим Федором пришла!» А в селе, как узнали про тебя, стали говорить: «Ничего, видно, верой и правдой Колеснику служит, что в такие шелка ее нарядил». Одни завидуют, другие ругают. А я думаю: как можно другого судить? Про себя никто дурного не скажет. Может, думаю, беда ее заставила эти шелка надеть, может, если б можно было вернуть прошлое, человек бы дал руку свою отрезать, только бы оно вернулось.
Одарка весело болтала, а Христя, с трудом поспевая за ней, шла с низко опущенной головой.
– Отчего ж ты отстаешь, Христя? Ты снова плачешь? Неужто тебе и в самом деле так плохо?
Христя тяжело вздохнула.
– Что мне сказать тебе? Ты сама все хорошо знаешь. Такая тоска меня душит. После того как я побывала в Марьяновке и своими глазами увидела, как люди живут, не найду себе покоя. Все люди как люди, есть у них о ком заботиться, что-то красит их жизнь, а у меня нет ничего. У других счастье рядом, а меня от него отделяет пропасть. И вижу я его, манит оно меня. Да вот никак не найду перехода. И, кажется, вовек не найти мне. Так и буду слоняться, пока не свалюсь в эту пропасть.
– Что-то не пойму я, Христя, о чем ты речь ведешь, о чем тоскуешь?
– Тебе это трудно понять, Одарка. У тебя муж, семья. А у меня только одни шелковые тряпки, чтобы другим было приятно смотреть. И никто меня не спросит: по душе ли они мне?
– Значит, ты горюешь о том, что у тебя нет своего хозяйства и семьи? – спросила Одарка.
– Нет, нет… – Христя замахала на нее руками. – О том, что нет у меня пристанища на белом свете.
– Да ты ведь живешь – дай Бог всякому: и сыта, и в тепле, и обута, и одета.
Христя словно не слышала доводов Одарки.
– Нет ничего родного, близкого, что согревало бы сердце. Нет такого, о чем бы я могла сказать: это мое и никто его у меня не отнимет. Все чужие, и я всем чужая. Как птица, у которой нет пары, носится от дерева к дереву, чтобы укрыться темной ночью в чужом гнезде, так и я… Разве это жизнь? Разве об этом я мечтала?
Одарка задумалась.
– И как вспомню все это, – продолжала Христя, – не знаю, куда мне деться. Куда бежать? Где спрятаться?
– Никуда ты не убежишь от самой себя, нигде не спрячешься, – тихо сказала Одарка.
– Что ж мне делать, Одарка? Как быть? – с отчаянием спросила Христя. – Раньше я об этом совсем не думала. А теперь из головы не выходит! Не наваждение ли это? У нас есть бабка Оришка. Страшная такая. Сразу мне ведьмой показалась. Предсказывает, что меня большое горе ждет. И с того времени нет мне покоя. Не она ли наслала на меня эту напасть?
– Бог его знает, Христя. Может, и она. Бывает дурной глаз, бывает и слово лихое. Зачем же ты держишь эту бабку в доме? Разве ее нельзя отослать?
– А как это сделать?
– Как? Сказала бы своему старику. Неужто он тебя не послушает? Говорят же, что он в тебе души не чает.
Христя задумалась. Некоторое время они шли молча. Вдруг позади послышались торопливые шаги.
– Мама! Мама! – раздался детский крик.
Одарка и Христя повернулись. Прямо к ним во весь дух мчался хлопчик. Волосы у него растрепались, глаза горели.
– Вот и Миколка, – сказала Одарка. – Выспался, сынок? Что же ты не поздороваешься с тетей Христей? Поклонись ей.
Миколка подбежал к Христе. Та поцеловала его.
– Какой большой! И не узнать.
– А я вас сразу узнал, – сказал Миколка.
– Не постарела?
– Ничуть.
Одарка довольно усмехнулась.
– О, ты у меня умница! Только не надо без шапки бегать по солнцепеку.
– А учитель сказал, что бегать полезно для здоровья, а барчуки потому такие бледные и вялые, что боятся солнца.
Одарка снова засмеялась.
– А что там Кылына делает? – спросила она.
– Кылына уже сняла чугуны. Ждет вас, чтобы звать косарей на обед.
– Так идем, идем скорее, – сказала Одарка.
– Может, и тетя Христя с нами пообедает? – спросил Миколка.
– Не знаю, сынок. Если уж не побрезгует кашей.
Христя молча шла позади.
– Мама, попросите ее с нами пообедать… И о лесе скажите… Помните, что отец говорил? – тараторил Миколка.
– Тссс… – остановила его Одарка, и густая краска залила ее лицо.
Христя только взглянула на идущих впереди Одарку и Миколку, и сердце ее наполнилось горечью. Ей казалось, что необыкновенная приветливость Одарки вызвана какими-то другими соображениями, о которых случайно проговорился болтливый Миколка.
Поэтому, как Одарка ни просила и ни уговаривала пообедать с ними, Христя попрощалась и ушла домой.
– А какая пышная тетя Христя, как панночка. Я неправду сказал, что узнал ее, я совсем ее не узнал, – без умолку болтал Миколка, подпрыгивая на одной ноге.
– Уходи, постылый! – сердито крикнула Одарка. – Все знают, какой ты брехун. И болтаешь лишнее. Какое тебе дело до того, что отец говорил? Что я, без твоей помощи, не знаю, что мне говорить… Дурак!
Покрасневшая от злости Одарка стала пробовать кашу.
– Совсем несоленая! Что ж ты, не пробовала? – напустилась она на Кылыну.
– Я же по вкусу солила, – робко оправдывалась девушка.
– Хороший у тебя вкус! Дай соли! – И она насыпала по целой горсти в каждый чугун.
Хотя косари и жаловались, что каша пересолена, но Одарка и ухом не повела. Склонившись над шитьем под тенью липы, она думала: «Ох, уж эти дети! Как ни остерегаешься, они все разболтают…»
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
На третий день Колесник вернулся сердитый и нахмуренный. Дело о потраве он проиграл в суде. «Что это за судья? У вас, говорит, нет ни свидетелей, ни поличного. Зачем все это нужно? Разве я стану врать? Ты же судья – так суди по совести! Я, значит, вру, по-твоему? Ну, ладно, доживем до новых выборов. Пустим тебя, голубчик, вверх тормашками. Кто тебя выбирает? Мужики, думаешь? Дожидайся, пока тебя выберут!» – ворчал он, ругая заодно и судью, и лесника, и слобожан.
На следующее утро Колесник и Христя пили чай в столовой. Снаружи в открытое окно доносился какой-то шум.
– Тут такой нету, – услышали они голос Кирила.
– А мне хозяева велели идти сюда и спросить Христю Притыку.
Услышав, что речь идет о ней, Христя бросилась к окну. У развалин старого замка рядом с Кирилом стоял молодой парень и держал в руке какой-то круглый предмет, завернутый в белый платок.
– Что там такое? – крикнул Колесник.
– Да это паренек из Марьяновки, – ответил Кирило. – Ищет какую-то Христю Притыку. Я говорю, что у нас такой сроду не было, а он одно твердит, что здесь она.
– Ты от кого? – спросил Колесник.
– Да я из Марьяновки, от Карпа Здора.
– Что тебе нужно?
– Мои хозяева прислали Христе сотового меду и наказывали беспременно отдать только ей в руки.
– А ты уже всем разболтала о себе и коммерцию завела! Бери, если твое! – крикнул Колесник и, резко повернувшись, ушел в свою комнату.
Христя наклонилась и взяла узелок.
Руки ее дрожали, и вся она пылала. Кирило на нее смотрел с таким удивленным видом, точно перед ним был выходец с того света.
– С женщинами никогда толку не добьешься! – ворчал Колесник, вернувшийся в столовую. – Нет того, чтобы держать язык за зубами. Хвастаться надо – вот куда мы шагнули! Знай наших! Недаром говорят: волос долгий, а ум короткий. Ну какая тебе польза с того, что ты себя раскрыла? Да Оришка первая наплюет на тебя… – Он не договорил и снова ушел в свою комнату.
Христя сидела точно на горячих угольях. И надо же было Одарке затеять такое! Что, просила она ее? Нужен ей этот мед?
– Посуду опорожните? – спросил хлопец.
– У вас чистая мисочка есть, бабуся? – сказала Христя.
– Зачем?
– Да соты выложить.
– Так бы и сказали. А то про мисочку спрашивает. У нас не так, как у других, что иной раз и ложки в доме нету. Давайте! – и своими корявыми руками она почти вырвала узелок из рук Христи.
– От кого это? Ну и соты! – сказала она уже ласковее, увидя три больших пласта липового меда.
Христя молчала, думая: «Хоть бы скорее она отпустила парня». Он казался ей сейчас живым укором.
Между тем Оришка не спешила. Христя терпеливо ждала.
– Чего вы ждете? Я сама принесу, – гаркнула Оришка, перекладывая последний кусок.
Христя схватила тарелку, платок и помчалась в комнату.
– Постойте! – крикнула Оришка. – Там еще мед остался. Надо же вымыть! Зачем такая спешка! – Войдя в комнату, она забрала тарелку и ушла в кухню.
Христя тяжело вздохнула.
Упреки Колесника еще звучали в ее ушах, а тут еще Оришка ворчит.
Христя открыла свой сундучок и начала в нем рыться. В это время вернулась Оришка, неся в одной руке миску с медом, а в другой – опорожненную посуду.
– Нате вам, а то еще скажете, что я украла. Стара уж я для этого, – сказала она обиженно и тотчас же ушла в сени.
Христя вся затряслась, но решила сдержаться. Она отдала хлопцу посуду, сунув ему в руку монету.
Хлопец низко поклонился, поблагодарил и ушел со двора.
Больше Христя не могла сдерживаться. Она отвернулась, и слезы градом полились у нее из глаз. Словно подстреленная, свалилась она на постель.
– Опять начинается! – с горечью произнес Колесник, войдя в комнату и почесывая затылок. – Ну, чего ты?
Христя вздрагивала от рыданий, уткнувшись лицом в подушку.
– Вот всегда так… – сказал Колесник, сердито шагая взад и вперед по комнате. – Сами натворим, да еще и плачем, покоя людям не даем.
– Что я такое сделала? – сквозь слезы спросила Христя.
– Зачем ты в Марьяновку ездила?
Христю словно кнутом стегнули. Она поднялась и заплаканными глазами сердито взглянула на Колесника.
– Спросите у бабки, которой вы наказали следить за мной.
Колесник вытаращил на нее глаза.
– А вчера… или третьего дня, где ты была?
– У любовников. Их у меня целая шеренга.
– У нас никогда не бывает, как у людей… Или слезы, или крик, – тихо сказал Колесник и вышел из комнаты.
Еще тяжелее стало на сердце у Христи. Она подумала, что подозрения ее, может быть, напрасны. Колесник ушел обиженный, не упрекнув ее ни в чем. Может, у него и в мыслях не было того, что ей померещилось. Он бы это как-нибудь проявил, а то предпочел уйти, чтобы не поднять бучи. Отчего же она так думала? Старая ведьма тогда намекнула перед отъездом Колеснику, а ей уж показалось, что это так и есть. Досада пиявкой впилась в ее сердце. Обидные слова Оришки и назойливый допрос Колесника жгли ее, словно горячие уголья. Она громко зарыдала. В комнату вошла Оришка, поглядела на плачущую Христю, пожала плечами и вернулась в кухню.
– Все заливается… кабы взял ее за волосы да отодрал как следует, тише бы стала… – бормотала Оришка.
– Знаешь, кто эта панночка? – спросил Кирило.
– Не знаю, как ты… А я давно вижу, что она гулящая девка, – ворчливо ответила Оришка. – Видно, чем-то не угодил ей сегодня хозяин. Слышишь, как ревет?
– Это их дело. Поссорились и помирятся. А вот кто она… Помнишь старого Притыку?
Оришка молчала.
– Что замерз на ярмарке. Жену его Приську Здоры еще хоронили.
– Ну и что? – спросила Оришка.
– Это ж их дочка, Христя. Парубок от Здоры приходил, мед принес, спрашивает Христю. Я сначала думал, что он спятил, такой у нас и в помине не было. А она тут и призналась. Потом я пригляделся – и правда, она. Вот куда прыгнула.
– Много чести! – покачав головой, сказала Оришка.
– Да, чести мало. Хотел бы я знать, как она дошла до этого?
– Нужно… очень нужно!
– И хорошо делаешь, Оришка, что не допытываешься, – внезапно послышался из сеней голос Колесника. – А тебе, старому дураку, стыдно в бабьи толки вмешиваться! Лучше бы присматривал за лесниками, чтобы не пускали скотину в молодняк. – Сказав это, Колесник прошел в столовую.
Оришка злорадно взглянула на Кирила, а тот с поникшей головой молча ушел.
– Вот послушала б, что о тебе Оришка и Кирило говорят, – сказал Колесник Христе, войдя в комнату. – А все твой язычок наделал.
Христя, припав головой к подушке, молчала словно окаменевшая. Ей сейчас все было безразлично, и она с одинаковым равнодушием принимала и горькие упреки, и сердитую брань.
Душа ее жаждет только одного – покоя, окружающее ее не интересует… Ни одним словом не обмолвилась Христя. Колесник еще немного походил по комнате и ушел.
«Ну и денек сегодня выдался!» – думал он, гуляя по саду и, казалось, не замечая жары, хотя весь обливался потом. Что ему до этого зноя, когда внутри у него все горит? Еще не улеглась досада от неудачного суда с слобожанами, как сегодня эта плакса подлила масла в огонь. Все разболтала, завела какие-то связи кругом. Найдутся и такие, что донесут жене. И так она житья не дает, а тут еще – на тебе!
Колесник чувствовал себя так, точно его осы жалили.
– Пане! А, пане! – крикнул издалека Кирило.
– Чего тебе?
– Тут к вам человек приехал.
– Какой там человек? – спросил Колесник, подымаясь вверх.
– Здравствуйте, – приветствовал его приезжий, мужчина средних лет, в суконном кафтане, крепких яловых сапогах и с картузом на голове. Лицо у него упитанное, гладко выбритое, усы рыжие, слегка подстриженные, прическа с пробором. Все в незнакомце свидетельствовало о его зажиточности и солидности.
– Здравствуйте, – ответил Колесник.
– Я к вам по делу, – сказал приезжий.
– По какому?
– Да, видите ли… – замялся незнакомец.
Колесник понял, что он не хочет говорить в присутствии Кирила, и повел гостя в сад.
– Я слышал, вы лес продаете, – начал приезжий.
– Продаю, – сказал Колесник. – Если хороший покупатель найдется, почему бы не продать?
– Вот я по дороге и заехал узнать: весь ли продаете или по участкам?
– А вы кто ж сами будете?
– Карпо Здор из Марьяновки. Вы меня, верно, не знаете… – Карпо снова замялся, – а Христя знает.
– Какая Христя? – избегая лукавого взгляда Карпо, спросил Колесник.
– Да у вас живет. Бывшая наша соседка. Жена моя с ними виделась.
– Так вы к Христе или ко мне? – неприязненно спросил Колесник, бросив на него сердитый взгляд.
– К вам, – спокойно ответил Карпо. – Лес ведь не Христин, а ваш…
– Я леса не продаю, – выпалил Колесник, побагровев.
Карпо пожал плечами.
– А если не продаете, то простите, что беспокоил. Прощайте! – произнес он, улыбнувшись, и ушел, помахивая кнутом.
Колесник сердито смотрел ему вслед. Казалось, он готов был броситься на заезжего купца. А тот шел, не озираясь, и вскоре скрылся за развалинами замка.
Немного спустя на дороге показался гнедой конь, запряженный в зеленый возок. На передке сидел возница в соломенной шляпе, а позади знакомый купец в кафтане. Колесник узнал в вознице паренька, который утром приносил мед. Сейчас он вез хозяина на сенокос.
«Теперь понятно, откуда этот мед! Задобрить думали. Мужик, говорят, глупее вороны, а хитрее черта!» – подумал Колесник, все более раздражаясь. Гнев клокотал в его груди. Словно черные вороны, напавшие на добычу, терзали его голову мрачные мысли, предвещая грядущие беды.
«Вот о чем речь идет. Мое добро им поперек горла стало. Мешает. Хотят меня обойти, завладеть моим имуществом. И Христя с ними заодно… Я ее приютил, вытянул из ямы, в которой она была. И вот так она меня благодарит за это! Спасибо! Спасибо! Не ждал я от тебя, Христя! То-то ты в Марьяновку ездишь, то-то болтаешь всюду. Подожди же, голубушка. И на тебя у меня найдется узда. Тут тебе тихо и спокойно. А вот когда вместо тонкого полотна на тебе будет рядно, вместо шелковых платьев – рваная рубаха прикроет твою наготу… цвелый сухарь, а не булка, застрянет у тебя в горле, ты поймешь, что я для тебя сделал. Придешь ко мне опять, в ногах будешь валяться, как собака заскулишь… Вон! Вон из моего дома, шлюха!.. А где он, мой двор, мое добро? Веселый Кут, эти поля и леса – разве это не мое? Небольшой клочок земли в городе и домик на этом клочке – вот и все мое добро. Да и там живет враг… И это все… Все деньги, на которые надо было строить мосты и гати, пошли сюда. Все их слопал этот Кут, как прорва. Все куплено на чужие деньги… но ведь придется их когда-нибудь отдать. Когда же?»
Колесник схватился руками за голову и, сам не свой, забегал по саду. Разве никто об этом не знает? Все знают. В прошлом году чуть не свалилась на него беда. Он ждал, что Лошаков доконает его… Христя вывезла, она помогла. «Христя… ох! Неужели и ты против меня? Хоть и гулящая ты, но для меня дороже всех…»
– Нет, нет, – сказал он вслух и торопливо пошел в дом.
– Собирайся, поедем в город! – крикнул Колесник.
Христя испуганно вскочила, глядя на него заспанными глазами. Рыданья и все пережитое утомили ее, и она уснула.
– Что глаза таращишь? Собирайся, говорю, в город поедем.
– В какой город?
– Какой? Губернский. Надышались мы тут вольным воздухом, хватит.
Христя наконец поняла, и радость блеснула в ее глазах.
– Когда ж ехать? Сейчас?
– Завтра или послезавтра…
– Мне собираться недолго: платье сложила, запаковала, и все. Слава Богу! Хоть бы скорее!
Колесник глядел на нее и не верил своим глазам: Христя сияла от радости.
«Разве она обрадовалась бы, если бы имела что-нибудь против меня? – думал Колесник. И мысли его приняли другое направление. – А может, ее обдуривают?»
– Слушай! – окликнул он Христю, которая уже принялась снимать платья с вешалки.
– Что?
– Скажи мне правду: ты знаешь, почему тебе Здор меду прислал?
Христя только пожала плечами.
– Откуда мне знать? Вчера я видела его жену. Она хвасталась, что разбогатела, что пасека у них. Может, по старой дружбе и прислала мед.
– Так… А сегодня Здор приехал лес покупать.
– Вот как! Теперь я понимаю, почему Одарка рассердилась, когда ее сынок намекнул, чтобы она не забыла мне сказать про лес, как отец ей наказывал.
– Значит, они хотели с твоей помощью дело обделать, да не удалось.
– А я при чем тут? Разве это мой лес?
– Поди ж ты! Вот чертовщина! – крикнул Колесник и, почесав затылок, ушел.
Христя заметила, что Колесник чем-то расстроен. Немного погодя она побежала к нему в комнату.
– Чем озабочена твоя головушка? – спросила она ласково.
Колесник повернулся к ней. Перед ним стояла прежняя Христя, с розовым лицом, сверкающими черными глазами, такая привлекательная и желанная.
– Ох, Христя! – сказал он. – Если б ты знала, как мне тяжело, будто сто гадюк впились в сердце.
– Что случилось?
– Эх! – махнул рукой Колесник. – Это имение, черт бы его побрал, не дает мне покоя! И зачем я его купил? Чувствую, что не уйти мне от беды. Вот осень придет, съезд будет.
– Какая же беда?
– В тюрьму посадят, в Сибирь сошлют.
– За что?
Колесник, не расслышав ее вопроса, продолжал:
– И никто про меня не скажет доброго слова. Все будут обвинять.
– Вот и не угадал. Не все. А я?
– Спасибо тебе, ты, может, одна и добра ко мне. Но разве ты станешь рядом со мной, когда меня поведут на позорище? И ты отречешься от меня, как другие.
– Я буду молиться за тебя. Может, молитву мою Бог услышит и помилует тебя.
– Поздно. Все против меня.
– Ты сам так ведешь дела, что люди становятся твоими врагами.
– Как?
– Вот слобожан обидел, а если бы ты этого не делал, они были бы за тебя.
– Ну, кто они такие?
– Люди. Хоть добрым словом помянули бы.
Колесник болезненно усмехнулся.
– Что же мне делать?
– Прости им тот долг, что за ними остался. Верни пруд, огороды. И они будут молиться за тебя.
Колесник долго молчал в глубоком раздумье.
– Добрая душа у тебя, Христя, – сказал он потом. – Пожалуй, ты права. Хоть кому-нибудь добро сделать, и то хорошо! Кирило! – крикнул он.
Кирило словно из-под земли появился.
– Вот что, – сказал ему Колесник. – Завтра или послезавтра я уеду. Там с слобожан следует мне триста рублей. Так собери их и скажи, что я прощаю им этот долг. Вовку и Кравченко передай, что огороды и пруд остаются за слобожанами.
Кирило, не веря своим ушам, растерянно глядел то на Колесника, то на Христю.
– Скажи им, – продолжал Колесник, – пока я жив, все останется по-старому. А не станет меня, может, вспомнят добрым словом, может, кто помолится за меня.
– А деньги как за аренду, что Вовк и Кравченко заплатили? – спросил Кирило.
– Деньги я верну, – сказала Христя и побежала в светлицу.
– Погоди. Пусть они у тебя останутся. Выручишь с хозяйства, Кирило, вернешь, а не то – из города пришлю, немного погодя.
Кирило радостно сказал:
– Вот это по-Божьему!
– Так понимаешь. Когда я поеду, сообщишь им. Скажи им, пусть и за Христю помолятся.
– За что? Разве это мое?
– Тссс… – зашикал на нее Колесник и махнул Кирилу рукой.
Тот, поклонившись, вышел из комнаты. А Колесник подошел к Христе, обнял ее, поцеловал и сказал:
– За ум и за сердце!
У Христи радостно засветились глаза.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Два дня спустя Колесник и Христя уехали. Никогда она себя не чувствовала такой счастливой, как в эти дни. Ожила, расцвела, словно снова на свет родилась. И Колесник кажется ей красивым да приветливым, и люди такими добрыми и сердечными. На что уж Оришка неприятна (Кирило ей рассказал о распоряжении Колесника), и та ей казалась не такой страшной, как раньше. Христя подарила ей свой платок.
– Носите на здоровье и вспоминайте меня! – сказала Христя, не заметив, что бабка чуть не вырвала у нее платок из рук и даже не поблагодарила.
Она не замечала, что Кирило с ней так ласков, как с дочерью, в глаза заглядывает, чуть не молится на нее. Христя и ему подарила шелковый платочек на кисет.
Кирило, не помня себя от радости, поцеловал этот платок и сказал:
– Не стану я из этого платка кисет шить. А как умру, завещаю положить его со мной в гроб. Мне с ним и под землей легче будет лежать, он мне напомнит о доброте людской.
Колесник и Христя выехали после обеда. Слобожане собрались у дороги. Они, может, и во двор панский пошли бы, но Кирило строго-настрого запретил им там показываться. Только когда повозка спустилась с горы, Колесник заметил серую толпу; сняв шапки, люди низко кланялись. Дети побежали вдогонку по дороге.
– Кирило таки не выдержал, – сказал Колесник и отвернулся. А Христя, оборачиваясь с повозки, кланялась и улыбалась бегущей детворе. Еще долго не смолкал детский крик.
– Будет тебе с этими щенками возиться, – строго сказал Колесник, надевая на голову капюшон своего плаща. Христя, прикрывшись платком, притихла.
До самой Марьяновки ехали молча. Только слышался конский топот, грохот колес, понукание возницы и хлопанье кнута.
Солнце уже садилось, когда они въехали в Марьяновку. Оранжевое зарево подымалось над крышами, садами и огородами, а по земле стлались длинные тени, и в глухих закоулках сгущались сумерки. Тихо кругом, пыль стоит столбом и никак не уляжется. Издали доносится блеяние овец, где-то замычала корова, бугай заревел на все село, слышится приглушенный говор. Скоро зайдет солнце, ночная тень укроет землю, и все умолкнет до утренней зари.
Колесник сидел сгорбившись, ни на что не обращая внимания, а Христя жадно все разглядывала, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Каждая хата, каждый уголок были ей знакомы, напоминали о невозвратном прошлом. Все тут было дорого ей. Только шинок на том месте, где раньше была ее хата, навевал горькие думы. Она поспешно отвернулась, чтобы не видеть его.
Когда они выехали в поле, солнце уже село. Только на горизонте подымалось еще закатное зарево, его багровые отсветы блестели на низко нависших тучах, а все вокруг тонуло в вечернем сумраке. На потемневшей синеве неба уже загорались звезды. Тихо кругом, только изредка доносится стрекотание кузнечика или крик перепела. Да кони быстро перебирают ногами, и грохочут колеса по сухой дороге.
– Если б ты знала, – каким-то чужим голосом произнес Колесник, – как мне не хочется ехать в этот проклятый город.
Христя молчала.
– И так каждый раз. Едешь, словно на казнь.
– Почему?
– Эх! – Колесник тяжело вздохнул. – И почему не суждено человеку жить так, как ему хочется? Каждый раз, когда он даже чувствует себя счастливым, в каком-то глухом уголке сердца зарождается томительное предчувствие беды и отравляет его счастье. Зачем это?
Христя молчала, не зная, что ему ответить.
– Ну, хоть возьми меня, – продолжал он, не дождавшись ответа. – Женили меня совсем молодым, чтобы не баловался. Разве я знал тогда свет, людей? Показали мне девушку и говорят – вот твоя невеста. Бери ее за руку и веди в церковь. Я послушался родителей, чтобы потом проклинать день и час, когда увидел свою будущую жену. Кто ее выбирал? Родители. Поженили нас на мою беду. В первый же год совместной жизни у нас пошли нелады, ссоры. Своя хата казалась хуже тюрьмы. Слова нельзя сказать с гостьей или чужой девушкой. Всегда как на ножах. Она жалуется: «И такой, и сякой! Загубила я свою молодость, выйдя замуж». Пока молод был, терпел, и ее жалко было. Потом надоело мне, плюнул на все. И вот теперь люди осуждают меня. Говорят, не придерживаюсь законов Божьих и обычаев. А что, мне лучше было, когда я терпел? Счастлив я был? Посадить бы этих судей в горячую печь, небось закричали бы: печет! А я, видишь, должен терпеть. Вот приедем в город, должен я пойти к ней, кланяться. Как, скажут, был в городе и к жене не зашел? А мне на нее смотреть тошно. Эх, жизнь! Не выходи замуж, Христя, не связывайся. Будь вольной птицей. Так лучше.
Христя только глубоко вздохнула.
А Колесник, немного помолчав, снова начал жаловаться. Он весь был охвачен тревожными мыслями и предчувствиями и особенно упрекал себя за то, что купил Веселый Кут.
– Вот скоро будет земский съезд. Вывези кривая из вражеского стана! Да нет, где уж там! Не снести мне головы на плечах!
Христя оглянулась: словно ночное море распростерлись темные просторы полей. Мерцают звезды в вышине. Ей стало так грустно, словно она была одна в пустыне.
Долго ехали молча.
– Вот она уже светится, мука моя, глядит своими злыми глазами.
Христя посмотрела вдаль – за горой колыхалось желтоватое зарево, рассеивая ночной сумрак. Они подъезжали к городу.
– Я сойду на базаре, а ты поезжай в гостиницу Пилипенко. Он хоть и враг мой, но там номера лучшие в городе. Жди меня, я заеду за тобой, – сказал ей Колесник на городской окраине и, взяв руку Христи, прижал ее к сердцу. Словно молот, колотилось оно в груди.
– Стой!
Подъехали к базару.
– Спасибо вам за компанию и спокойной ночи! – громко сказал Колесник, крепко, до боли сжал Христину руку и быстро ушел. Вскоре он скрылся в ночной темени.
Грустно и горько было на душе у Христи. Лет восемь назад ее вез сюда Кирило и утешал; теперь она ехала с Колесником, как равная, и пришлось его утешать…
Такова жизнь! А кто знает, что ждет ее впереди? Не придется ли бродить здесь голой и босой, скрываясь от людского глаза, чтобы кто-нибудь не узнал?…
«Жизнь – что длинное поле, – думала Христя, очутившись одна в номере гостиницы, – пока перейдешь его, и ноги поколешь, и порежешься на острой стерне».
Сколько раз судьба то улыбалась ей, то поворачивалась спиной, пока не пустила ее бродить по белу свету. Она вспомнила Загнибиду, его кроткую жену-мученицу, Проценко, Рубца, Пистину Ивановну, которая так ее обидела и прогнала. Бог с ней! Марина еще больнее обидела ее, приревновав к ней своего мужа. А где теперь Марина, Довбня? Хоть она, может, до сих пор на меня сердится, а я все-таки завтра пойду и разыщу ее. Днем мы, вероятно, не уедем, старик боится свидетелей, – вот я и пойду.
С этими мыслями она легла спать и вскоре уснула.
На другой день Христя спросила горничную, не знает ли она Довбню.
– Довбню? – удивилась та. – Да кто его здесь не знает? Нет такого забора, под которым бы он пьяным не валялся. Совсем спился с кругу.
Христю неприятно поразило это известие. Она вспомнила, как Марина жестоко с ним обращалась, пьяного выталкивала на улицу, а он целую ночь слонялся под окнами, называя ее ласковыми именами и Христом-Богом моля впустить его в дом.
– А где он живет, не знаете?
– Да говорю же вам – с кругу спился, – отрезала горничная. – Голый бегал по городу. Сколько раз его в больницу брали – не помогало. Говорили, что надо везти в губернию в дом сумасшедших. Его что-то не видно теперь, может, и повезли.
– Он ведь был женат.
– Жена его, кажется, и довела до этого.
– А не знаете, где она живет?
– Не знаю. Говорили, что где-то на окраине. – И горничная назвала имя хозяйки.
Напившись чаю, Христя направилась разыскивать Марину. Ей долго пришлось бродить и расспрашивать, пока она отыскала нужный дом на самом краю города. Над оврагом, куда вывозили и сбрасывали мусор и нечистоты, стояла одинокая неогороженная хата с продырявленной крышей, покосившимися стенами и окнами.
Согнувшись, чтобы не удариться о низкую притолоку, пробралась Христя в эту конуру. Снаружи она казалась не такой грязной, как внутри. Стены облупились, пестрели пятнами сырости, в углах свисала густая паутина. Печь – вся в саже. Неровный земляной пол покрыт мусором и грязью по щиколотку. Сквозь зеленые стекла маленьких окошек еле пробивается дневной свет, будто надымили в комнате.
Христя сразу ничего не могла разглядеть в сумраке. Потом она заметила, что кто-то копошится на нарах около печи.
– Здравствуйте. Кто тут?
– А вам кого надо? – услышала Христя незнакомый охрипший голос.
– Марина тут живет?
– Какая Марина?
– Довбня.
– Я – Марина.
Темная фигура поднялась с нар.
Христя увидела высокую женщину с расплывшимся, обрюзгшим лицом и заспанными глазами.
– Марина! – подавив вздох, испуганно повторила Христя.
– Я, я, Марина, – сказала та, приблизившись к Христе.
– Не узнаешь меня? – спросила Христя.
– Кто же вы будете?
– Христю не знаешь?
Глаза Марины широко раскрылись.
– Христя! Тебя и не узнать, совсем барыня!
– А почему у тебя так темно, грязно?
– Вот так приходится жить. Все пропил проклятый. Все до нитки, и сам спился. А ты откуда?
– Проездом. Остановилась дня на два. Насилу нашла тебя.
– Спасибо, что не забыла. Садись же, садись. Вот, у стола, не бойся, там чисто. Вчера вытерла, – сказала Марина, видя, что Христя с опаской озирается.
Наконец Христя села.
– Давно ты сюда забралась? – спросила она.
– С трудом нашла эту конуру; здесь, того и гляди, задавит тебя. Разве можно было с ним жить? Сколько мы этих квартир переменили. Вот переедем, день-два – ничего. А там, как запьет, хозяин и гонит. Беда, Христя, с таким мужем. Кабы знала, лучше бы с последним нищим связалась, чем с ним.
– А где ж он теперь?
– Где? В больнице. В губернию отвезли. Насилу допросилась, чтобы его взяли. Ты, говорят, жена, сама и вези. А на какие деньги? Он ведь все пропил. До того допился, что глянуть страшно: оборванный, чуть не голый, весь трясется, глаза на лоб лезут, заговаривается, Господи! Так я с ним намучилась, что слов не найду.
Христя молча сидела у стола. Ей казалось, что вот-вот распахнется дверь и войдет страшный, обезумевший Довбня.
Дверь действительно раскрылась, и вошел высоченного роста солдат. Голова его чуть не касалась потолка, руки – как крючья, лицо – продолговатое, рябое.
– Марина Трофимовна! Наше вам! – сказал солдат, протягивая Марине руку. Та, приветливо улыбнувшись, подала ему свою, и солдат так ее сжал, что Марина подскочила от боли и ударила его изо всей силы по плечу. Солдат громко засмеялся.
– Чтоб тебя черти так жали! – ругала его Марина.
– Ничего-с. Это здорово! – сказал солдат, садясь на другом конце стола против Христи.
Она пугливо посмотрела на гостя и подумала: «Тут, видно, босяцкий притон».
– А это что у тебя за барышня? – спросил солдат.
– Это моя подруга, а не барышня.
– Понимаем-с. Наше вам, – сказал он, протягивая Христе руку.
Та боязливо подала свою.
– Бойтесь! Вот это ручка. Беленькая, пухленькая, – любовался он, слегка поглаживая руку Христи шершавой ладонью
– А позвольте спросить. Вы где ж находитесь? Здесь или проездом?
– Проездом, – ответила Христя.
– При должности какой состоите или гулящая?
Христя остолбенела от этих слов; она вся скорчилась от неожиданности.
– Ну, и понес! – крикнула Марина. – Тебе какое дело? Молчи!
– Не извольте гневаться, Мария Трофимовна. Я, значит, все доподлинно желаю знать.
– Скоро состаришься, если все знать будешь.
– А вот у нас в роте фельдфебель всегда говорит: «Все знать – самый раз!»
– Так это у вас. А у людей не так.
– У солдат всегда лучше, чем где-либо. Ничаго своего, одна душа, да и ту кому отдашь на сохранение.
Марина глубоко вздохнула.
– Ты ж кому свою препоручил – Богу или черту? – спросила она, смеясь.
– Зачем Богу? Богу еще успеем, а черт к нашему брату не пристает. Вот к молодушке какой – самый раз!
– У вас все молодушки на уме, кто ж нас, старых, приголубит? – спросила Марина.
– Старым бабам помирать надо, а молодушкам – песни петь да солдат любить.
– За что?
– Как за что? За то, что солдат – сиротинушка. Один на чужой стороне.
– Красиво поешь. Ангельский голосок, а душа чертова.
– Опять чертова. Эх, едят нас мухи! Разве с бабами можно говорить об этих материях? У бабы волос долог, да ум короток. Вот что я тебе скажу.
– Это почему же?
– А так. Вот пример, пришла к тебе гостья, подруга твоя. Нет того, чтобы, примерно, в шиночек за водочкой сбегать… гуся жареного или барашка из печи вынуть… Все на столе – пей и ешь, любезная подруга! А ты вот соловья баснями кормишь.
– Да что поделаешь, коли нечем, – грустно сказала Марина.
– А нет – так и скажи. Тогда с тебя и не спросят. Вот у меня в кармане осталась завалящая копейка. На! Тащи! – сказал солдат, вынул двугривенный и брякнул им о стол.
– Нет, нет, – вскрикнула Христя. – Бога ради, не надо! Я ничего не хочу. Спасибо вам. Я только пришла проведать подругу.
– Ну, может, кто другой хочет, – сказал солдат, сунув монету Марине.
Та покорно взяла деньги, накинула платок на голову и ушла. Христе стало не по себе.
– Хорошая баба Марина, – сказал солдат. – Вот только муж у нее лихой. У, лихой!
– А был такой смирный.
– Да, смирный-то он смирный. Только больно много зашибает. Небу жарко! Ну, а тогда уж не знает, что делает. На меня однажды с ножом бросился. Не увернись я – так бы насквозь и проколол.
– За что же он так рассердился на вас?
– Как тебе сказать? Ни за что. Первое – он всегда пьяный. Как его любить жене? А второе – я их квартирант. Ну, вот он и начал ревновать ее ко мне.
В это время вернулась Марина с бутылкой водки и буханкой хлеба в руках.
– Все про того ирода говорите? – сказала Марина, выкладывая свои покупки на стол. – Осточертел он мне, лучше не вспоминайте.
– Ладно, не будем. Потчуй-ка гостью, – сказал солдат.
– Я не пью. Спасибо вам, – поблагодарила Христя, когда Марина поднесла ей чарку.
– Ну, как хочешь, – сказала та и быстро осушила чарку. – А горилка хороша. Выпили б.
– Да что же, раз не пьют? – сказал солдат. – Ну, и не надо. Я за нее выпью.
Он выпил, крякнул и налил другую.
Христя еще посидела немного, с грустью глядя, как постепенно хмелели Марина и солдат, потом решительно поднялась, попрощалась и ушла.
– Нос задираешь, – сказала Марина. – Ну, и убирайся к черту!
– А бабенка ядреная! – сказал солдат.
– Думаешь, порядочная? Такая же шлюха, как и все.
– Значит, наш брат Савва! Эх, едят ее мухи!
И солдат хлопнул Марину по спине. Та, изгибаясь, стукнула его кулаком между лопаток.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В тот же вечер Христя и Колесник уехали в губернский город. Всю дорогу он был грустным и неразговорчивым. Христя думала о Довбне, Марине и тоже сидела молча.
Приехали к вечеру следующего дня; Колесник сразу ушел на свою половину и заперся. У Христи заныло сердце от тревожного предчувствия. Она долго не спала, думая о Колеснике. Верно, немало пришлось ему выслушать нареканий от жены. Недаром у него такое тяжелое настроение. Христе казалось, что Колесник должен позвать ее, она и сама порывалась идти к нему, – может быть, он расскажет ей о своих бедствиях, и ему легче станет. Но каждый раз ее останавливало опасение: а если он утомился с дороги и спит?… Пусть уж завтра. Так она и уснула. А Колесник…
Поставив свечу на ночном столике у изголовья, он лег на спину, грустно оглядывая комнату. По темным обоям стен сновали тени, тускло отсвечивал белый потолок. В желтоватом сумраке навязчивые мысли Колесника воплощались в какие-то неясные видения. Из темных углов они глядели на него с пугающей таинственностью. Вот его отец – высокий круглолицый мясник, которому низко кланяются все городские мещане. А там – мать, бойкая торговка, болтливая, говорит, точно горохом сыплет, и все притчами да поговорками, которых у нее было целый ворох на все случае жизни. Что ни скажет Петро Колесник, никто лучше его не придумает, а послушать толстую Василину останавливались не раз и паны на базаре, удивляясь, откуда у нее такие слова берутся. Все диву давались, глядя на эту удачливую пару. И умны, и живут в ладу, и сына единственного учат в школе, где и панские дети учатся. «Дома баловаться будет, а к делу приучать его – еще рано», – говорил отец. «И правда, кто за ним дома присматривать будет? Ты – на бойне, я – в лавке», – добавляла мать. Маленький Костя рос один, без присмотра, как дерево в степи. Он не знал материнской ласки, да и видел ее изредка. «Матери дома нет, матери некогда», – постоянно слышал он от кухарки, заменявшей ему няньку. А отец только прикрикивал на него. Страшно ему, когда он вспомнит свои детские годы. Родители казались ему теперь бессердечными людьми, которых ничего не интересовало, кроме бойни и базара. От отца и матери он только и слышал разговоры о таксе на мясо и торговле. А люди с завистью говорили о них: «Вот кто наживается и богатеет». Жизнь показывала ему с самого детства только свои непривлекательные стороны, не будила в нем сочувствия к людям, сеяла в его душе недоверие и зависть.
– Знай: если ты не обманешь, тебя вокруг пальца обведут, – говорил отец, приучая сына к делу, после того как тот окончил школу. И рассказывал о тех проделках, на которые приходится пускаться, чтобы выгодно сбыть товар. Сын был послушным учеником, торгашеские плутни сначала ему даже понравились. «Мы только для тебя трудимся и копим, – говорила мать, – а ты, гляди, не растеряй отцовского добра. Чем больше наживешь, тем крепче на ногах стоять будешь. Деньги – сила, а в нашем сословии они все». Как ему было не пойти по проторенной дорожке? И люди его приохочивали к этому, похваливали: и отец с матерью хороши, а сын в них удался… Правда, еще играла в нем молодая кровь, нудно было от повседневных забот, загуляет порой в веселой компании – то шинок вверх дном перевернут, то утащут ворота со двора, где есть девка на выданье, и выставят на показ на базаре. Но скоро и этим невинным забавам пришел конец. «Пора, сынок, тебе жениться. Вот у Сотника дочка есть, хоть и некрасивая, зато послушная и не без приданого», – однажды сказал отец. И через неделю Константин уже был женат. С той поры для него весь свет закрыла черная туча. Он жил как в тумане, обирая людей и приумножая свое добро. Умерли родители, но слава их осталась. Сын ее упрочил – он стал поставщиком мяса для квартировавшего здесь полка, а потом и для всего города. Его имя можно было услышать в каждом доме. Вскоре он стал первым в мещанском сословии города. Это льстило его самолюбию. Но слава не утешала его. Самый близкий и родной человек, его собственная жена, отравляла лучшие и счастливейшие минуты жизни. Ее безумная ревность не давала ему ни минуты покоя. Дом стал для него адом, из которого приходилось убегать. И он направил всю свою энергию на хищническую наживу, разорение людей, и, казалось, мстил тем, которые, не имея ничего, все же были счастливы. Боже! Чего он только не натворил на своем веку. Сколько темных дел и людских слез лежит на его совести! Домашние неурядицы подстегивали его, как норовистого коня. Он неустанно мчался вперед и вот до чего доскакался. Теперь он сидит за одним столом с панами, сам стал паном. Бывшее графское гнездо принадлежит ему. Но какой ценой оно досталось? Если земство потребует у него свои деньги, пропал тогда Веселый Кут, а вместе с ним и он, Колесник. Все, на что ушли годы труда, как помелом сметет. Когда-то Загнибида, тоже плут первой руки, сказал: «Ой, допрыгаешься ты, Костя. Так тебя огреют, что век помнить будешь». Не было ли это пророчеством? Чует его сердце, что приближается беда. Скоро съезд… Он заходил к Рубцу, и тот ему издалека намекнул, что пора проверить земскую кассу. Колеснику показалось, холодное лезвие ножа коснулось его горла, когда он услышал эти слова. И жена ему говорила, что по городу ходят нехорошие слухи. «Он, – говорят, – купил имение на земские деньги и откармливает там гулящих девок!» Христя, первая, которую он полюбил больше всего на свете, – всего только гулящая! Разве это не насмешка судьбы?… «Ох, если бы вернуть прошлое, не была б она гулящей. Не был бы и ты, Костя, тем, чем стал теперь, – думал Колесник. – Не мутило б твою душу от постоянных плутней, жил бы ты в тихом углу мирно и счастливо. А что толку в твоем высоком положении в свете? Зачем оно тебе? Чтобы все видели, как ты с этой высоты полетишь вверх тормашками? Чтобы тыкали на тебя пальцами, приговаривая: „Вот он казнокрад, развратник!“
Колеснику стало страшно. Такой непреодолимый страх он ощутил впервые. Словно все внутри у него застыло и перестало биться сердце, он чувствовал, как на голове шевелятся волосы. И послышалось ему, как тысячеголосая толпа торжествующе кричит: «Так ему и надо. Собаке – собачья смерть!»
Колесник рванулся, вскочил и начал шагать по комнате.
Все вокруг спали мертвым сном, нерушимая тишина царила, казалось, во всем мире; только его шаги, словно неумолкающие укоры проснувшейся совести, раздавались в немой тишине ночи. Ему было горько, а еще тяжелей становилось от сознания своего полного одиночества: он знал, что ему не от кого ждать помощи или хотя бы совета.
На другой день Христя не узнала Колесника – таким он был желтым, осунувшимся, сумрачным.
– Что с тобой? – крикнула она.
Он пристально посмотрел на нее. Что-то безумное было в его взгляде.
– Ты болен, болен? – допытывалась она.
– Да… Всю ночь не спал. Не буди меня, – сказал он и снова закрылся в своей комнате.
– Что это с ним? Не дай Боже…
Страх и тоска овладели Христей. Если с ним что-нибудь случится, куда она денется, что ей тогда делать? Она только немного пришла в себя, как ее уже снова подстерегает страшная судьба гулящей девки. Вспомнилось предсказание Оришки: «Большое горе ждет тебя…» Неужели оно оправдается?
Христя и чаю не пила; она бесцельно бродила по комнатам, не зная, за что ей взяться. «А может, все еще обойдется», – мелькнула надежда. Она, крадучись, подошла к двери и неслышно приотворила ее. С затаенным дыханием прильнула к щели. Колесник лежал на спине, скрестив руки на груди. Лицо – бледно-синеватое, глаза закрыты. В одно мгновение она очутилась около него. Он пошевелился, застонал, потом склонил голову набок. Христя отодвинулась в сторону, чтоб остаться незамеченной, если он откроет глаза. Долго стояла она, глядя на его лицо, обросшее серебристой щетиной. Еще недавно оно было круглым и лоснящимся, а теперь вытянулось, глубокие морщины избороздили его вдоль и поперек. «Как он сразу постарел…» – подумала Христя.
Тяжелые мысли не покидали ее весь день, предчувствие неминуемой беды лишило ее покоя. Господи! Неужели? Только блеснул луч надежды и уже гаснет.
Колесник проснулся только к вечеру. Сон хоть и подкрепил его, но не вернул покоя. Следы пережитого были отчетливо заметны на его лице.
– Напугал ты меня, – сказала Христя, наливая ему чай.
Он только почесал затылок, но ничего не сказал.
– Ты еще не пришел в себя. Может, позвать лекаря?
– К чему? Не поможет кадило, коли бабу скрутило, – сказал он, болезненно усмехнувшись.
– Тебе не до смеха, а ты смеешься, – сквозь слезы сказала она.
Колесник схватился за голову.
– Боже, хоть ты не мучь меня! – крикнул он и убежал в свою комнату.
И снова всю ночь не умолкали его тяжелые шаги. Бледный свет утра еще застал его на ногах, понурого, с поникшей головой. «Одно, что осталось мне, – это сойти с ума. Другого выхода нет», – подумал он, махнул рукой и лег на постель, закрыв голову подушкой.
Со дня на день Колесник становился все более и более странным. Днем спит, ночью бодрствует, часто заговаривается.
– Ну, погадай, Костя, вывезет ли тебя и на этот раз кривая? Вывезет. Нет. Вывезет. Нет… – говорил он, опасливо поглядывая на свои ладони. Потом умолкнет, задумается. – Хоть бы одна близкая душа была, – крикнет и снова часами бродит по комнате.
Так шли дни за днями. Колесник нигде не показывался. Не выходила из дому и Христя. Ей хотелось пойти в больницу проведать Довбню, но как оставить Колесника?
Тем временем приближался земский съезд. По городу ходили слухи, что этот съезд будет очень интересным, говорили, что нельзя верить на слово членам земской управы, пора наконец хорошенько разобраться в их деятельности, а также посмотреть, целы ли доверенные кой-кому суммы. Иные с возмущением указывали на воровство и сетовали на то, что казна доверила выбранным денежные дела. Не надо было этого делать. Земство – земством, а деньгами лучше бы казна распоряжалась. Другие совсем не усматривали никакой пользы в земстве и говорили:
– Еще одна обираловка, а для государства – обуза. Раз коню отпустили поводья, дали ему свой норов показать, отучить уж трудно будет. Попомните мое слово: из этого земства ничего хорошего не получится!
Третьи жаловались, что «мужичье прет в земство, будто оно пригодно для этого дела». Отсюда и пошло воровство и растаскиванье общественных денег. «Пусти, – говорили они, – свинью за стол, она и ноги на стол».
Много сплетен и пересудов ходило по городу, но Колесник ничего не слышал. Однажды пришли к нему из управы узнать, вернулся ли он. Он прогнал посыльного, ничего не сказал ему. Потом прислали официальное письмо: представить отчет съезду. Колесник еще больше задумался. Он что-то долго писал, рвал написанное и снова принимался писать. С неделю занимался этой писаниной, потом на все махнул рукой и повеселел. Христя видела, что веселье это напускное, но ничего не сказала об этом Колеснику.
Утром он оделся и собрался уходить.
– Куда ты? – спросила Христя.
– В управу. У нас сегодня съезд. Забыла?
Перед уходом он сказал:
– Вот что: не забудь своего обещания помолиться за меня, когда я умру.
Христя с недоумением взглянула на него.
– Может, ты пойдешь навестить Довбню? – спросил он на прощанье и, не дожидаясь ответа, ушел.
«А в самом деле надо пойти… Узнает ли он меня? Все равно. Может, ему легче станет, когда он увидит, что не все от него отвернулись».
Христя оделась и пошла в больницу.
Там ей сказали, что еще рано. Посетителей пускают к больным только после врачебного обхода. Христя решила обождать в больничном саду.
День вдался ясный, безветренный. Осеннее солнце еще сильно пригревало, но в тенистом саду было прохладно. Зеленая листва, ярко окрашенная золотом и багрянцем, напомнила издали диковинные цветы на деревьях.
Христя вошла в сад и села на скамейку. С другого конца доносился шум, по вычищенным дорожкам сновали больные в желтых халатах и белых колпаках. У Христи сердце замерло при виде этих несчастных, похожих на желтые тени.
«А может, он среди них?» – подумала она и пошла по дорожкам, заглядывая в лица встречным. Христя обошла весь сад, но Довбни нигде не было. Она снова вернулась на свое место, откуда хорошо виден был больничный двор.
Вот жалкая кляча приволокла возок, на котором лежал больной, прикрытый рядном. Голова и лицо его были забинтованы. За возком, понурившись, шла женщина, видно, жена больного. Четыре санитара несли на носилках человека с восковым лицом, который стонал. Кто-то выбежал из больницы с медицинским тазом в руках и плеснул из него в яму что-то красное. Кровь? Вдруг откуда-то выбежала полуголая женщина и, всплескивая ладонями, побежала на улицу. Кто-то закричал: «Куда же вы глядите? Сумасшедшая убежала! Ловите ее! Ловите!» И все погнались за ней. Немного спустя два человека вели ее за руки, а она, нагибаясь то к одному, то к другому, пыталась их укусить. Дойдя до калитки, один из провожатых толкнул ее во двор, раздался оглушительный хохот. А слуга громко жаловался на умалишенных, что с ними никак не справишься.
– Здоровы, проклятые! Известно, нечистая сила их обуяла!
Христе так страшно стало в этом месте, где скопилось столько несчастий, болезней и уродств, что она уже готова была убежать отсюда, но вспомнила про Довбню и снова пошла в больничную контору.
– Довбня? – спросил смотритель. – Был такой в белой горячке. Кажется, выздоровел. Сейчас.
Он прошел в соседнюю комнату и, возвратившись, сказал, что уж третий день, как Довбня выписался.
«Вот так собралась проведать… Где ж теперь искать его?» – с досадой подумала Христя.
С поникшей головой она медленно шла по улице, думая об умалишенной… Потом мысли ее незаметно перенеслись на Колесникова. Чудной он стал. Как бы не сошел с ума!
– А-а, Христя! Здорово, черноброва! – услышала она вдруг знакомый голос.
Христя подняла голову – перед ней стоял Проценко. Поблизости никого не было.
– Где ты была, моя старая любовь? – спросил он, заглядывая в ее грустные глаза.
– Я? В больницу ходила… проведать Довбню.
– Опоздала. Он еще дня три тому назад ушел из больницы.
– Там мне так и сказали. Где ж он теперь?
– Где? Верно, добрался до первого кабака и засел там. Что ты на меня так смотришь? А ты ничуть не изменилась. Еще похорошела. Пойдем, я провожу тебя.
– Когда никого нет поблизости, можно и проводить, – промолвила Христя, ускоряя шаг.
– Чудная ты! Был когда-то вольной птицей, да отрезали крылья.
– Значит, нашлась такая, – усмехнулась она.
Некоторое время шли молча.
– Что ж вас нигде не видно? То, бывало, забегали к Константину Петровичу, а теперь – ни ногой.
– Мошенник твой Константин Петрович! Плут! – Христя подняла на него удивленные глаза. – Украл земские деньги, имение себе купил. Да какое? Веселый Кут. В земской кассе двадцати тысяч не досчитали. Сегодня такое творится в земстве, что только держись. Под суд его отдали.
У Христи закружилась голова, перед глазами пошли зеленые круги. Теперь все ей стало понятно – и причина дурного настроения Колесника, и его странные речи.
Ей казалось, что земля под ней колышется. Она чуть не бежала, но была уверена, что еле переставляет ноги.
– Отчего ты так летишь? – спросил Проценко.
Она остановилась перевести дыхание.
– Дошло до тебя наконец? – злорадно усмехаясь, спросил Проценко. – Теперь снова на распутье? Знаешь что? Если не хочешь пропасть, брось своего старого друга да нанимайся к моей жене в горничные. Только ни гугу! Хорошо тебе будет. Я все помню, Христя. Мне хочется тебе чем-нибудь услужить.
Перед ее глазами померкнул свет.
– Прочь от меня, ирод! Сатана! – крикнула она и пустилась бежать без оглядки.
Она ничего не чувствовала, не видела, как Проценко бросился вслед за нею, едко сказал:
– Ну-у! Я ж доберусь до тебя, шлюха!
Из подворотни одного дома выскочила собака и погналась за ней. Да разве догонишь ее?
– Это что за лисичка так бежит? – крикнул кто-то.
– Федор! А ну догони! – крикнул один извозчик другому.
– Поедем.
И они пустились за ней вдогонку.
А Христя все бежит без оглядки. Вот и крыльцо ее дома.
Двери тут обычно заперты – надо позвонить, чтобы открыли. Христя забыла об этом и резко рванула ручку двери. На этот раз она не была заперта и с грохотом распахнулась. Христя бросилась вперед, но тотчас же остановилась как вкопанная…
Перед нею на толстом шнуре висел… Колесник. Христя пошатнулась, крикнула и упала навзничь.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
– Где я? – были первые ее слова, когда она очнулась.
Кругом тихо, темно. Что-то шелестит под нею. Да это же солома. Откуда она взялась? Вверху что-то смутно сереет. Господи! Что с ней случилось?
Христя поднялась, в ушах у нее звенело. От слабости она снова легла… что-то пробежало по лицу.
Как безумная, вскочила Христя и сразу все вспомнила. Она видит перед собой Проценко, вот он шепчет: «Добра тебе желаю – иди ко мне в горничные»… Потом вспомнилось ей, как бежала… как увидела висевшего Колесника…
Как же она очутилась здесь, в этой мрачной дыре? Этого Христя никак не могла вспомнить.
Ощупью пробралась она к окошку. Потянулась к нему руками – но не достать.
Она поднимается на цыпочках, машет рукой и ударяется в железную решетку.
Да это же тюрьма! Она – в тюрьме! За что! Рыданья душили ее. Верно, что-то дурное сделала, если ее бросили сюда.
Слезы градом покатились из ее глаз. Долго она плакала, уткнувшись лицом в солому, потом впала в сонное забытье. Когда проснулась, сквозь железную решетку уже пробились первые лучи солнца, и веселые зайчики мелькали на грязной соломе. Стены, покрытые плесенью и черными пятнами, казалось, надвигались на нее, чтобы задушить. Издали доносился приглушенный шум.
Потом что-то задребезжало у нее над головой, и дверь в камеру растворилась.
– Эй, ты! Спишь там или очумела? – окликнул ее грубый голос. – По-барски почивать изволишь. Подь сюда!
Христя поднялась. У дверей стоял стражник.
– Да живей, живей! Что, словно неживая!
Христя покорно пошла за ним, с ужасом думая, на какую еще муку ее ведут.
Ее ввели в какую-то большую комнату.
– Посиди здесь и обожди. Сейчас пристав выйдет.
Теперь только Христя сообразила, что она была в полицейском участке. Каково же было ее удивление, когда она увидела вошедшего Кныша!
– А, это ты, певунья! – сказал он. – Что ж, ты хорошо выспалась в моей опочивальне? В ней тихо и мягко, не то что на перине у Колесника.
Христя заплакала.
– Чего же ты плачешь? Я же тебя не бью. Перестань. Скажи лучше, что ты знаешь про Колесника. От чего он повесился? Может, сама и помогла?
– Кабы знала, что такое случится, я б из дому не выходила.
– Где ж ты была?
Христя рассказала ему обо всем, не утаив и свой разговор с Проценко.
Кныш только свистнул и зашагал по комнате, искоса поглядывая на Христю.
– Что ж ты теперь будешь делать? – спросил он немного спустя. – Пойдешь к Проценко?
– Чего я там не видела? Кабы мне одежду мою вернули…
– Одежду?… Вот что… ты лучше останься у меня.
– Здесь. Чтобы блохи меня заели?
– Нет, не в кутузке… а там, в моей квартире. И одежду свою получишь, и отпустить тебя скорее можно будет. А то, пока дело кончится, в кутузке тебя и вправду блохи заедят.
У Христи сжалось сердце. Вот куда ее снова толкает судьба. А она думала… Впрочем, нет! Она еще окончательно не погибла, пока не увяла ее красота.
– Так ты… согласна? – запинаясь, спросил ее Кныш и, подойдя ближе, взял ее за круглый подбородок.
Христя покорно опустила ресницы.
– Ну, гляди же мне!
– Я ничего не ела… Есть хочу.
– Иванов! – крикнул Кныш.
Словно из-под земли появился на пороге полицейский.
– Отведи ее ко мне. И накорми. Самовар готов?
– Готов, ваше высокоблагородие! Слушаюсь! – и он повел Христю на квартиру пристава.
А вечером Христя и Кныш уже мирно пили чай. На столе стояла бутылка рому. Кныш все время усердно подливал и в ее, и в свой стакан. Его щеки и глаза горели от возбуждения. Он весело болтал. Христя лукаво на него поглядывала. Ей тоже было весело. Только раз, когда она потянулась за бутылкой, ей вдруг померещилось, что на нее глядит синее лицо Колесника с закрытыми глазами. Она вздрогнула и закрыла глаза.
– Ты что, испугалась чего-то? – спросил Кныш.
Христя судорожно схватила стакан.
– Давай пить! – крикнула она и в одно мгновенье осушила стакан.
В голове у нее зашумело. Вспомнились давние дни, когда она была певичкой и славилась своей гульбой… Как тогда горько ни было, но зато весело… Горят огни, играет музыка, толпы людей снуют. Подруга шепчет на ухо: «Вот тот чернявый купчик загляделся на тебя» или: «Гусар ус покручивает и смотрит, как кот на сало…» А ты стоишь, как ни в чем не бывало, и поешь. Кончила петь, а тут бросаются к тебе и наперебой приглашают ужинать… А там – вкусные блюда, отборные вина… весело!.. И Христя начала заигрывать с Кнышем, как в те времена, когда она была арфисткой.
На другой день, когда Кныш ушел и она осталась одна, темные мысли снова нахлынули на нее. Кто она? Давно ли тешила похотливого Колесника, еще труп его не успел остыть, а нынче уже ломается перед другим. У каждой скотины своя цена, а она, как игрушка, переходит из рук в руки. И никто ее не спрашивает, чего она стоит. До каких же пор это будет продолжаться? Каждый встречный и поперечный берет ее, как вещь, поиграется и бросает. Проклятая доля!
За обедом она снова напилась допьяна, чтобы забыться и ни о чем не думать.
Миновала неделя. В эти дни только и разговору было, что о Колеснике. Судили-рядили о земских порядках, о том, сколько денег прошло через руки Колесника и сколько перепало ему.
На съезде поднялась небывалая буря. «Да что мы попусту болтаем? Кто вернет украденное, покроет убытки?» – спросил Лошаков. «Управа!» – кричали одни. «Те, кто халатно относились к общественному добру», – подхватывали другие. «Всех под суд!» – требовали третьи. Председатель и члены управы ходили мрачные, как тени.
– Вот это с больной головы на здоровую. Разве мы виноваты? – оправдывались земцы. – Кто выбирал всяких плутов и проходимцев? Говорили же тогда: зачем допускать мужиков к таким важным делам? Недоставало еще волостных писарей выбрать.
Три дня не унималась буча. На четвертый председатель сообщил, что Колесник купил большое имение на свое имя. Не лучше ли просить органы власти наложить арест на все имущество Колесника? Все облегченно вздохнули. Выход найден.
Но тут как раз доложили председателю, что на его имя получен срочный правительственный пакет. Что это? Может, новая беда? Сомнения вскоре разрешились. Председатель вернулся веселый, с бумагой в руках.
– Господа! Радость! Большая радость!
– А что такое?
– Губернатор прислал духовное завещание покойного – Веселый Кут, на покупку которого Колесник взял двадцать тысяч рублей из земских средств, он завещал земству.
– Ура! Ура! – раздались голоса вокруг.
– А знаете, он все-таки порядочный человек. Другой на его месте так не поступил бы. Только глупо он сделал. Выложил бы все перед нами и сказал бы: берите мое добро. Мы бы простили его и оставили на месте – пусть служит. А то такое учинил. Жаль!
Все говорили о его злосчастной доле.
– Что такое жизнь человека? Дым, не больше. Бьется он, как рыба об лед, а выберется на сушу, и тут на тебе… Споткнулся и повис на перекладине.
– Человек, яко трава, дни его, яко цвет сельный, – произнес Рубец.
Это изречение так всем понравилось, что Рубца предложили выбрать на место Колесника.
– Единогласно! – раздались выкрики.
Но тут поднялся один из казаков-гласных в крестьянской сермяге.
– Нет, мы не согласны, – сказал он. – Мы знаем, как пан Рубец бегал к панам и кланялся им в ноги, чтобы его выбрали. Мы знаем пана Рубца как бывшего секретаря думы, а на это место надо человека, знающего толк в сельском хозяйстве.
– Так, может быть, вы желаете баллотироваться? – поднявшись, спросил Лошаков и, зло усмехнувшись, добавил: – Мы рады будем и вас выбрать. Был же Колесник, а теперь вы будете.
– Я не добивался панской милости, – ответил казак, – а прошу поступать по закону.
– Ну что же, баллотировать так баллотировать! – сказал Лошаков, глядя на часы. – Пора уже обедать.
В результате выбрали Рубца семьюдесятью пятью голосами против пятидесяти.
– Ну что, вы удовлетворены? – спросил Лошаков казака, выходя из собрания. – Ведь вы знали, что выберут Рубца. Не все ли равно – баллотировкой или единогласно?
– Знал. Но мне неизвестно было, сколько из тех панов, что кричали единогласно, сами хотели бы сесть на место Колесника. А теперь я узнал. Нас, мужиков, здесь только трое, а навалили ему пятьдесят черных шаров. Вот тебе и единогласно.
Лошаков сердито посмотрел на говорившего и, ничего не сказав, ушел.
А вечером у Лошакова на прощальном банкете совещались, как бы усмирить мужиков в земстве.
– Помилуйте! На губернском съезде так разговаривают, а в уездах – совсем их царство. Председателями своих выбирают, членами. Разве нашего брата, что сызмальства служебную лямку тянул, мало?
– Да, об этом надо будет подумать, – сказал Лошаков.
– Постарайтесь, пожалуйста. Мы в долгу не останемся. А знаете что? Зачем нам нужен Веселый Кут? Заплатите двадцать тысяч и возьмите его себе, он больше стоит.
Лошаков на это ничего не ответил, только поклонился и пробормотал:
– Постараюсь, постараюсь.
Кое-что из этих разговоров узнала и Христя. Пьяный Кныш понемногу ей рассказывал обо всем, что происходило в городе. Но она слушала его рассеянно – ее мало занимали земские дела.
Одно Христя хорошо знает: паны дерутся, а у мужиков будут чубы болеть. Она только спросила, остается ли Кирило управляющим в Веселом Куте и будут ли слобожане владеть огородами и прудами?
– Какой Кирило? Какие слобожане? – спросил Кныш. Она рассказала ему о событиях в Куте.
– Ну, вряд ли, – сказал он.
– Что же они сделают с Веселым Кутом?
– Продадут, и все.
Христе было жалко и Колесника, и Кирила, и слобожан. Значит, все ее старания помочь беднякам пропали даром.
Вечером Кныш сообщил ей другую новость.
– Знаешь, кого выбрали вместо Колесника?
– Кого?
– Земляка – Рубца.
– Рубца? Я у него когда-то служила.
Кныш вспомнил, что и он ее там видел.
– Так ты, верно, и проценковых рук не избежала?
– Чтоб ему… Он и теперь еще пристает ко мне.
– Он такой, что не упустит.
– А Довбня где?
– По шинкам шатается. Раз у меня в кутузке ночевал. Пьяного под забором подобрали.
– Я хотела б его видеть.
– Ты с ним зналась?
– Я жила у них, когда ушла от Рубца. Он добрый человек, не то что его жена, хоть она и моя подруга. Теперь ютится в хибарке и путается с солдатом, рада, что избавилась от мужа… А на что он живет, Довбня?
– Черт его знает. Днем около суда слоняется. Настрочит какому-нибудь мужику прошение, вот и есть на выпивку.
– А нам хорошо – и покупать не приходится. Пей, сколько хочешь.
– Да ты шельма, видать!
Кныш залился веселым смехом.
– Знаешь что, Христя. Меня, может, скоро переведут в другой город. Поедешь со мной?
– Куда?
– Может, и в Н.
– Туда я ни за что не поеду.
– Почему?
– Там знакомых много. Да из села приедут.
– А тебе что?
– Ничего. Только не поеду туда.
– Ну, а в другое место?
– Нет, я отсюда не хочу уезжать. У меня к вам одна просьба – устройте меня на квартиру.
– Куда же тебя пристроить?
– В гостиницу.
– А платить кто будет?
– Свет не без добрых людей.
– Гулять, значит?
– А что ж мне еще делать? – с горечью сказала Христя. – Другие хуже меня, а у них все есть; только я одна такая дура, что за столько лет почти ничего не нажила.
Разговор прервался. Христя сидела понурившись, а Кныш мерил комнату своими длинными ногами.
– Дурное ты замышляешь, – сказал он погодя. – Тебе со мной лучше будет. Будешь хозяйкой у меня в доме.
– Была уж я такой хозяйкой, – сказала она, вздохнув.
– Как хочешь. Я не держу тебя. Только смотри – тебе хуже будет.
– Хуже, чем есть, не будет.
На этом разговор окончился. Кныш ушел на службу, а Христя, сидя в одиночестве, погрузилась в невеселые думы о своей горькой доле.
Господи! До чего она дошла! До чего довели ее добрые люди и злая судьба. Что бы сказала мать, если бы увидела ее с Кнышем?… Что же ей делать? Ехать с Кнышем? Ни за что! Он внушает ей отвращение. Если бы она его не боялась, то и дня не согласилась бы здесь пробыть.
Кныш вернулся перед рассветом.
– Ну, прощай, Христя. Еду в Н.
– Так скоро?
– Да. Назначили помощником исправника. Вот попировал с компанией на прощанье.
– А как же мне быть?
– О тебе я говорил с одним человеком.
– Ну?
– Обещал.
– Спасибо, дорогой!
– А все же тебе лучше поехать со мной. Конечно, не сейчас. Пока ты перейдешь в гостиницу. А я поеду, все разузнаю, осмотрюсь, квартиру найму, все устрою. Слышишь?
– Слышу, – ответила Христя и подумала: «Дай мне только уйти отсюда, и ноги моей больше у тебя не будет».
Христя уже целый месяц живет в гостинице. Днем спит, ночью гуляет. Кого у нее за это время не перебывало. Вино рекой льется, деньгами сорят вовсю. Сколько их прошло через Христины руки! А где они? Только купила себе платье, белье, шляпки, а все остальное идет хозяину. За одну комнату – пятьдесят рублей в месяц! И за стол с нее берут вдвое дороже, чем с других. Если кто-нибудь пришел к ней – плати рубль! Слуги по полтиннику получают за то, что приводят гостей.
От бессонных ночей потускнели глаза у Христи, покрылись желтизной некогда розовые щеки, приходилось их подкрашивать румянами.
Христе постоянно казалось, что впереди ее ждут новые потрясения и беды. Чтобы забыться, она топила свои думы и опасения в вине. С ним приходило веселье, пьяная отвага, и мысли легкие, как тени, неслись вихрем, не оставляя заметного следа… И она неслась в неизвестность, словно стремительный поток подхватил ее, и у нее уже не было сил остановиться. Впрочем, она и не пыталась…
Пусть несет!
Так в один прекрасный день она очутилась в больнице. Тело ее покрылось струпьями, на лице выступили синие пятна, горло опухло, из него вырывалось только глухое хрипенье.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Осеннее ненастье стояло на дворе. Дождь лил как из ведра, дороги раскисли и покрылись грязью. Низко нависли темные свинцовые тучи. Улицы тонули в густом белесом тумане, над землей весь день царил сумрак, и в нем, словно тени, сновали съежившиеся люди.
Вечерело. В домах зажигали свет, на улице один за другим вспыхивали фонари. Мутно-желтые круги колыхались в густом сумраке, тускло освещая клочок земли под самым фонарем, а дальше была непроглядная тьма. Слышно было шлепанье ног по лужам и проклятья по адресу непогоды, тьмы, грязи. Редкие прохожие спешили домой. Одни извозчики тарахтели на опустевших улицах, выкрикивая охрипшими голосами: «Подать?» Никто их не окликал, и в поисках седоков они ехали дальше.
Несмотря на такое ненастье и бездорожье, земский съезд был необычайно людным. Управа, словно костер, пылала сверху донизу мириадами огней. Во всех комнатах и коридорах толпились люди, то собираясь кучками, то снова расходясь, и гудели, как пчелиный рой. Тут и светлейшие князья, и вельможные паны, и богатые купцы, и наш брат – голь перекатная.
Что же заставило собраться сюда всех этих разношерстных людей из далеких и близких краев?
А вот увидим, послушаем.
Звонок давно уже сзывает гласных, рассеявшихся по всему зданию управы.
– Господа! Прошу занять места! – кричит председатель.
– Слышите, звонок! Хватит… – доносятся выкрики. Солидные тузы медленно проходят на свои места, а юрские мозгляки все еще усиленно жестикулируют, что-то горячо доказывая своим собеседникам. Седобородые сквозь очки внимательно оглядывают присутствующих, а толстопузые купцы пыхтят в толпе и вытирают пот большими кумачовыми платками. Только крестьяне в сермягах собрались кучкой у стены и смирно стоят, точно обвиняемые, которых собираются судить.
– Господа! Прошу занять места! Нам предстоит еще обсудить много вопросов… – снова кричит председатель.
– Слышите? – Гласные спешат на свои места. Звонок заливается, как расходившийся щенок.
Наконец все уселись.
– Господа! – начал председатель. – Нам предстоит сейчас рассмотреть вопрос о растрате бывшим членом управы Колесником двадцати тысяч земских денег. Прошу вашего внимания. Вопрос о растрате столь значительной суммы уже сам по себе достаточно серьезен, но он еще осложняется тем печальным обстоятельством, что, к стыду нашему, представляет не единичное явление.
– Но деньги ж эти уплачены, – неуверенно сказал кто-то в серой свитке.
– Да, деньги внесены. Но я вовсе не о том говорю. Я говорю о самом явлении. Оно столь часто начало повторяться за последнее время, что я просил бы вас обратить на это серьезное внимание и положить предел такому печальному положению.
– Какой же предел? Под суд вора – вот и весь предел.
– Прошу не перебивать меня.
– Послушаем.
– Господа! – побагровев, крикнул председатель. – Я лишу того слова, кто еще раз перебьет меня. – Он снова заговорил плавно и торжественно. Речь его лилась то как бурный поток, то затихала, чтобы через минуту снова обрушиться лавиной на слушателей, все сметая и сокрушая на своем пути. Он беспощадно осуждал воров, окидывал всех своим пронизывающим взглядом, словно хотел заглянуть в самую душу сидящих здесь.
– Таковы, господа, печальные последствия простой кражи – неуважение к чужой собственности, нарушение общественного спокойствия, шаткость религиозных убеждений. Но во сколько раз преступнее и позорнее растрата общественного добра! Нет, господа, нам нужно обелить себя в глазах честолюбивых интриганов, которые не задумаются бросить в нас комком грязи на глазах у всего света! Кому, как не нам, дворянам, стоящим на страже чести, взяться за это дело. И я, как дворянин, считаю своим священным долгом предложить вам, господа, некоторые меры, могущие служить для искоренения столь гнусного зла. Но прежде всего позволю себе спросить: какие причины, какие, так сказать, условия породили возможность появления среди нас такого рода личностей? Скажут нам: разве и в прежнее время не было этого? Разве чиновники не брали взяток? Да, брали, потому что получали нищенское жалованье, брали, чтобы с голоду не умереть, но не крали. Потому что чиновники – те же дворяне. А теперь? Наряду с нами сидят люди иных сословий, где понятие о честности еще недоразвито или как-то уродливо проявляется: обвесить, обмерить, обмануть другого не считается преступным. Что же вы хотите после этого? Руководствуясь таковым взглядом, я предложил бы следующую меру: очистить земство от того чуждого дворянству элемента, который, в особенности по уездам, прибрал к своим рукам все земские дела.
– Так это нас, Панько, по загривку и вон из хаты! – крикнул один из группы крестьян.
– Обрили вы нас, ваше превосходительство, нечего сказать, – поднявшись, сказал бородач в купеческом кафтане. – А двадцать тыщ заняли у меня из пяти процентов, тогда как мне давали десять, да вот уж пятый годок никак не истребуем.
– Тише, господа, я еще не кончил, – крикнул Лошаков и отчаянно зазвонил колокольчиком.
– Идем, Грыцько, пока не вытолкали в шею, – снова сказал кто-то, и крестьяне один за другим потянулись к выходу.
– Господа, тише! Стойте! Куда вы? – крикнул Лошаков.
– Куда? Домой!
– Я не позволю. Требую, чтобы вы остались. Вопрос очень серьезный.
– Нет такого закона, чтобы нас поносили на все лады да еще заставили слушать.
Крестьяне уже столпились у дверей, как вдруг в зал ворвался незнакомый человек. Одежда на нем была рваная, сухощавое лицо небрито, волосы растрепаны, а глаза горели, как у хищного зверя.
– Стойте, люди добрые! – крикнул он. – Я вам все по правде скажу. Ничему не верьте, все это брехня! Как раньше крали, так и теперь крадут и будут красть. Пока у одного добра много, а у другого – ничего, воровство не переведется! Это я вам правду говорю.
– Социалист! Нигилист! Арестовать его! – раздались крики; все вскочили с мест.
– Кто это? Кто?
– Это, господа, один сумасшедший, не очень давно выпущен из дома умалишенных, – сказал председатель управы.
– Кто он? – спросил Лошаков.
– Довбня… окончил когда-то курс семинарии.
– Ну, и верно, что социалист. Сторож! Позвать сюда полицейского, арестовать того господина.
– Эх, испугали! – крикнул Довбня и захохотал. – Я никуда не убегу. – Обратившись к крестьянам, он продолжал: – А вам, братцы, одно скажу: не верьте ничему – все ложь! Если и есть доля правды, то только у бедняков, зато им и хуже, чем всем.
В это время вошел полицейский. Довбню схватили за руки и поволокли из зала, хотя он сильно упирался и кричал. Крестьяне куда-то исчезли. Гостям, аплодировавшим Довбне, Лошаков предложил покинуть собрание. В зале поднялся невероятный шум; гласные разъяренно кричали, гости смеялись, кто-то вслух ругал Лошакова, кто-то свистал, и все заглушали шарканье и топот ног.
Зал быстро опустел. Посторонние все ушли, только гласные суетились и гудели, как пчелы, потерявшие матку. Но вот снова раздался звонок. Все затихли.
Лошаков начал свою речь с предложения уменьшить количество гласных из недворянских сословий и просить правительство запретить казакам и владельцам из мужиков быть самостоятельными выборщиками, с тем чтобы они, как государственные крестьяне, выбирали всей волостью. Заканчивая свою речь, он выразил надежду, что его предложение будет принято; если же кто-нибудь нашел лучший выход из создавшегося положения, пусть выскажется.
Собрание бурно рукоплескало красноречивому председателю. Несколько гласных подбежали к Лошакову и, кланяясь, горячо благодарили его. Другие кричали с места: «Что нам еще слушать? Лучшего предложения не надо. Ставьте на голосование!»
Вдруг поднялся какой-то взлохмаченный человек в синих очках с окладистой бородой.
– Я прошу слова! – крикнул он зычным голосом.
– Тише, тише, господа! – сказал Лошаков. – Вы желаете говорить? – спросил он, ехидно глядя на бородатого незнакомца в очках
– Не надо! Не надо! – загудели гласные. – Мы наперед знаем, что услышим одни порицания.
– Позвольте, господа! – крикнул Лошаков, поднявшись. – Не будем пристрастны. Может быть, господин профессор, как гласный от крестьянского общества, скажет нам что-нибудь в защиту своих избирателей.
– Не надо! Не надо! – не унимались гласные.
– Да позвольте же, не могу я лишить его слова.
– Не надо!
Лошаков зазвонил.
– Господа! – крикнул профессор. – Я не стану долго истязать вашего внимания, скажу лишь несколько слов. Я думаю, господа, что мы прежде всего – представители земства, а не какого-нибудь одного сословия, почему я и полагаю, что останавливаться только на сословных вопросах по меньшей мере неделикатно…
– Мы уже слышали… Не надо! Голосуйте. Вопрос так ясен, что в прениях нет надобности.
– Вы не хотите меня выслушать. Но, господа, я считаю для себя позорным участвовать в таком собрании, где нарушается свобода прений, возбуждается сословная вражда, причем обвиняющая сторона не дает возможности обвиняемой сказать что-либо в свое оправдание.
– Не надо!
– Я слагаю свои полномочия и удаляюсь, – сказал оратор и, с шумом отодвинув стул, вышел из зала.
– Скатертью дорога!
– Помилуйте! Что это такое? Приходишь в собрание – одни свитки и сермяги. Вонь, грязь, просто сидеть нет возможности.
– Сами себе назначают содержание, какое желают хозяева!
– Налоги вводят, какие им заблагорассудится, не считаясь ни с законом, ни с доходностью. Да к тому же еще и воруют земские деньги.
Такие возгласы и выкрики доносились со всех концов зала.
– Ну как же, господа? Никто не желает высказаться? – спросил Лошаков.
– Что тут говорить?
– Баллотируйте, и все!
– Помилуйте, уже одиннадцать часов, меня в клубе ждут партнеры.
– Господа, садитесь. Сейчас поставлю вопрос на голосование.
– Зачем? Единогласно!
– Единогласно! – загудели кругом.
– Против никого нет?
– Никого.
– Предложение принято единогласно. Поздравляю вас, господа.
– Закрывайте заседание. Главное разрешено, остальное можно отложить до следующего собрания.
– Да, я думаю, господа, что нам следует отдохнуть. Вот только еще вопрос о Колеснике.
– На завтра! На завтра! Сегодня поздно. Пора в клуб.
– Объявляю заседание закрытым. Завтра прошу пораньше, часов в одиннадцать, – сказал Лошаков.
Через десять минут зал опустел. В вестибюле и у подъезда давка, шум, суета.
– Извозчик! Давай!
– Карету генерала Н.!
– Эй, давай скорее!
Грохот железных шин о камни мостовой, дребезжание рыдванов, цокот копыт и гул, как в пчельнике…
Полчаса спустя и здесь все затихло. Вскоре начали гаснуть фонари. Здание управы постепенно тонуло в ночном сумраке. Казалось, обитатели его испугались того, что здесь произошло, и спешили погасить свет.
Когда свет погас в последнем окне, из-за колонны высунулась темная фигура и зашагала по невылазной грязи прямо через площадь. В непроглядной темени ночи слышалось только хлюпанье воды в лужах и невнятное ворчанье. В конце улицы под тускло горевшим фонарем замаячила какая-то тень. Это была женщина в дырявом и грязном платье. Ее голову и плечи закрывала рогожа. Незнакомка подошла вплотную к фонарю и начала вытирать башмаки.
– Вот это грязь! – произнесла она гнусавым голосом.
– Эй ты, безносая! Башмаки чистишь? – окликнул ее другой охрипший голос.
Женщина в рогожке начала озираться.
– Что, ослепла? – снова послышался охрипший голос.
– Ты, Марина?
– Я. Иди сюда – здесь не так сечет.
– А ты что, лучше? Нос – как труба, а вся в язвах, – огрызнулась женщина в рогоже и поплелась через мостовую на другую сторону улицы.
– Здорово! – сказала ей какая-то фигура в платке.
– Здравствуй, – прогнусавила в ответ первая.
– Где так измазалась?
– Около земства. На площади такая грязища, еле ноги вытянешь.
– Заработала что-нибудь?
– Заработаешь! В такую ночь хоть глаза выколи. А ты как?
– Да и я так же. Тут шел один пьяный…
– Ну и что?
– Прошел мимо.
Некоторое время обе стояли молча у забора.
– Я еще сегодня ничего не ела, – сказала та, что в рогоже.
– Разве тебя кормят через день? – смеясь спросила Марина.
– Нет. Сегодня совсем не варили…
Женщина в рогожке вздохнула.
– А слышала новость? – спросила она немного погодя.
– Какую?
– Твоего в полицию повели.
– Пьяного?
– Нет. Он обругал панов в земстве. Такой шум там поднял, что за полицией послали, насилу его увезли на извозчике.
– Так ему и надо.
– Кучера говорили, что ему за это тюрьма грозит или Сибирь.
– Дай Боже мне избавиться от этого пьянчуги.
– А все же ты сегодня ела.
– Не за его счет. Я и водку пила, так что? Он бы из рук вырвал, если б увидел.
– Все же лучше. Знаешь, Марина, что я надумала.
– А что?
– Домой уйду.
– Под забором сдыхать?
– А не все равно где?
– Тут у тебя хоть угол есть. А там кто тебя пустит?
Снова замолчали. Немного спустя издалека донесся какой-то неясный гул.
– Слышишь? – спросила Марина.
– Да.
– Пойдем, может, выгорит?
Марина двинулась вперед и запела тонким голосом:
Кабы да муж молодой Хозяином был в хате!А женщина в рогоже стала ей подтягивать сиплым голосом, точно поскрипывал сухой камыш:
Ой, гоп, до вечера! Замыкайте, дети, двери. Гоп! Гоп! Гоп!Взяв Марину за руку, она начала отплясывать гопака.
– Стой! Не шуми! Расшибу! – крикнул на них прохожий, еле державшийся на ногах, и схватил за руку женщину в рогожке.
Марина пошла дальше. Пьяный что-то бормотал, ни к кому не обращаясь.
– Двугривенный не дашь, не пойду, – сказала женщина.
– Что мне твой двугривенный. У меня денег куры не клюют. Вот! – Он ударил по карману рукой. Послышалось дребезжание меди.
Они скрылись в темном переулке. Вскоре женщина в рогожке вернулась.
– Марина! – крикнула она.
– Чего тебе?
– Иди сюда.
Марина подошла.
– Ну что? Заработала?
– Двугривенный. Пойдем выпьем и закусим.
– А пьяного куда девала?
– Заснул под лавкой.
– Денег у него не осталось?
– Бог его знает. Он вперед дал.
– А ты, дура, сама не пошарила у него в кармане?
– Ну его!
– Где он лежит? Я пойду.
– Ушел. Ей-Богу, ушел.
– Врешь.
– Убей меня Бог. – Женщина махнула рукой, и рогожа упала с головы.
Она стояла около фонаря. Свет падал прямо на нее, освещая мокрое от дождя безносое лицо, потрескавшиеся губы, взлохмаченные волосы на голове.
Подняв рогожу и напялив ее на себя, она снова крикнула:
– Идем, говорю!
– Куда?
– А вот в шинке светится.
И обе женщины молча пошли по улице. Это были Христя и Марина.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На следующий день Лошаков на чем свет стоит громил Колесника. Если бы душа покойного еще летала по свету, то, прослушав эту речь, она, верно, поспешила бы в ад, чтобы там, в кипящей смоле, искупить тяжелые грехи и преступления, которыми наделил ее Лошаков.
Заодно досталось и Христе, «этому продукту глубокого нравственного растления… куртизанке… камелии… кокотке…». Она была бы, вероятно, страшно удивлена, если бы узнала, что о ней помнят такие важные персоны.
А Лошаков заливался соловьем. Даже побледнел от чрезмерного усердия… Ведь он старался недаром: благодарное земство преподнесло ему Веселый Кут с тем, чтобы он в течение двадцати лет покрыл растрату Колесника.
После закрытия съезда Лошаков устроил пышный банкет. На нем присутствовали только дворяне. Пили и ели там не меньше, чем на пиру у Колесника, но уже не провозглашали тостов за единение, а больше за победу.
Мелкопоместное и служилое дворянство горячо благодарило Лошакова за то, что он протянул руку помощи своему брату-дворянину.
– …А то совсем нас отстранили от дел. Разве мы раньше не служили, не работали? Мы были исправниками, и непременными членами, и судьями, и заседателями. Потом серое мужичье взяло верх… За здоровье нашего предводителя! За победу! – Многоголосое «ура» огласило стены дворянского собрания.
Слыхали ль вы, хлеборобы, в далеких селах и хуторах эти радостные выкрики ликующего дворянства? Нет, вам некогда было к ним прислушиваться. Работа, хозяйственные хлопоты и заботы отнимают ваше время, чтобы не пришлось зимой жить впроголодь. А земские дела вас мало интересуют – даже на выборах ваши гласные больше думали о своем. А теперь они привезли вам недобрые слухи о намерениях панов:
– Хотят нашего брата из земства выжить. Колют панам глаза серые свитки.
– Что земство? Только обирает нас, и все! – И снова разговор перешел на урожай, низкие цены на хлеб, нищенские наделы.
Зима. Земля скована морозом, укрыта снежными сугробами. По небу низко плывут зеленоватые тучи. Тоскливо, пустынно… Только ветер гудит над заснеженными просторами. Вокруг точно на кладбище; лишь кое-где торчит почерневший бурьян. Леса, потеряв свой пышный зеленый убор, выставили свои оголенные стволы и заиндевевшие сучья. Давно улетели певчие птицы, на токах сиротливо чирикают воробьи, да черный ворон, нахохлившись, жалобно каркает на высоком кургане.
Все живое попряталось в теплых хатах, не слышно песен, смеха, говора. Всюду – пустота, глушь.
С приходом зимы Христя еще сильнее страдала от голода и холода. Лохмотья, еле прикрывающие ее тело, – ненадежная защита от мороза, а пища – одни объедки с хозяйского стола да луковица с черствым хлебом. Когда было теплее, ночные похождения приносили ей порой пару двугривенных, а с наступлением холодов и это прекратилось. Кого встретишь в мороз и в метель? А тут еще Христя отморозила ноги. Горят и болят пальцы, а хозяйка посылает за версту к речке за водой.
– Не дойти мне. Я нездорова, – с плачем говорит Христя.
– А жрать здорова? А по ночам бегать здорова? Если не хочешь работать, убирайся к черту.
Делать нечего – Христя надевает какую-то рвань, берет ведра и уходит.
Однажды, чтобы скорее управиться, она не пошла к речке, а свернула к колодцу, хотя ей хозяйка запретила брать в колодце воду, – там она соленая и горькая.
«Выпьют. Черт их не возьмет!» – подумала Христя.
Вечерело. Пора самовар ставить, горячим чаем согреться, скоро хозяин вернется.
Христя поставила самовар и села доедать свой ужин – луковицу с сухарем. Вот и хозяин идет.
– Расселась тут, а самовар бежит, – крикнул он.
Христя бросилась в сени и принесла самовар. Хозяйка заварила чай, дети соскочили с печки, и все уселись за стол.
– Наливай, уже настоялся, – говорит хозяин.
Из чайника потекла какая-то мутная жижа.
– Ты, верно, из колодца воду брала?
– С какой это радости? – возразила Христя.
Хозяева попробовали чай.
– Врешь, – заорал хозяин. – Вода из колодца!
Христя молчала.
– Раз в день воды принести не можешь, дармоедка! – не унимался хозяин.
– Сам иди в такую вьюгу к речке! – не стерпев, огрызнулась Христя.
– А коли так – вон из моего дома, зараза!
– Куда я пойду, на ночь глядя?
– Хоть к черту в зубы! – крикнул хозяин и, схватив Христю за руку, потащил ее из хаты.
– Подожди. Дай хоть собраться.
Он отпустил ее, и Христя принялась напяливать на себя лохмотья и тряпье.
«Куда я денусь ночью?» – не покидала ее неотвязная мысль. Она не жалела о случившемся. Решение оставить этот дом созрело у ней давно. Смущало ее только, что на дворе ночь и ненастье.
Намотав на себя все, что только можно было, Христя остальное тряпье связала в узел и, вскинув его на спину, молча вышла из хаты.
Выходя из хаты, вдруг она услышала окрик хозяина.
– Эй! Подожди!
– Что еще?
– Возьми с собой свою воду! – крикнул хозяин.
– Подавись ею! – бросила ему в ответ Христя и не успела оглянуться, как холодная вода окатила ее с головы до ног. Потом хлопнула дверь, загремел засов, и все стихло.
Христя промокла до нитки. А тут еще позади послышался смех, шутки… Страшная злоба овладела ею. Она наклонилась, подняла кусок льда и запустила им в хату. Послышался звон разбитого стекла, шум, крики… Христя пустилась бежать и вскоре скрылась в темном пролете улицы. Мокрая и холодная одежда липла к телу. А где ее высушить?
Она уже была на другом конце города, когда мелькнула тревожная мысль: куда же идти?
Безнадежность и отчаяние охватили ее. Она опустила свой узел около забора и села на него… «Куда теперь?» – «В Марьяновку, – точно подсказал ей какой-то голос, – там твоя родина, земля, дом… Там не околеешь с холоду. Туда, туда, в Марьяновку!»
«Но не ночью же идти туда… Заблудишься, дороги не найдешь, замерзнешь в поле. Днем – другое дело».
Невдалеке раздался свисток ночного сторожа. Вот он и сам показался в длинном тулупе.
– Ты кто? Чего тут сидишь? – спросил сторож.
– А куда ж мне деться?
– На место поступить, работать. Шлюха! Уходи отсюда, а то я тебя!
Христя взяла узел и поплелась дальше. Вслед ей раздался пронзительный свист сторожа – ей казалось, что он проник в самую глубину ее опустошенной души.
Она плелась все дальше и дальше, заглядывая то в одни ворота, то в другие, как заблудившаяся собака в поисках убежища. Но все ворота и калитки на запоре, дома выстроились, как немые сторожа. Сквозь замерзшие стекла окон проникает свет, доносятся пенье, говор, смех… «Хорошо там людям, тепло, уютно… и мне когда-то хорошо было, пока не измотали, не испоганили и выбросили на улицу, как ненужную вещь».
Острая жалость к себе охватила Христю. Не раз хотелось ей разбить эти освещенные окна, где люди блаженствуют. Пусть они знают, что на улице погибает человек!
А мороз крепчал. Христю пробирает дрожь, рук она уже не чувствует, а все идет, идет, не зная куда… Вот уже и окраина города, просторный выгон. Что ждет ее… неужели смерть на улице?
– Пусть будет, что будет! – решила она и пошла дальше, думая только о том, чтобы не сбиться с дороги.
Вдруг какой-то огонек замаячил в темноте: то блеснет, то скроется… Она пошла прямо на свет. Идти пришлось недолго… Замелькали хаты, показались огни.
«Пойду попрошусь. Неужели и здесь не пустят?» Она подошла к окну, приникла к замерзшему стеклу – ничего не видно. Однако слышится говор. Христя постучала.
– Кто там?
– Пустите, ради Бога, переночевать.
Говор затих.
Вот стукнул отодвигаемый засов, дверь распахнулась, и на пороге появился солдат.
– Что тебе?
– Нельзя ли у вас переночевать?
– Эй, Маринка, женщина просится переночевать.
– Пусть идет дальше. Нам и самим тесно.
– Марина! Неужели и ты меня не пустишь? – взмолилась Христя, узнав голос подруги.
– Кто это? – удивленно спросила Марина.
– Это я – Христя.
– Куда же ты?
Христя вошла в хату. Сбросив с себя лишнюю одежду, она поскорее забралась на печь, чтобы хоть немного согреться.
Марина сидела около маленькой лампочки и что-то шила. Солдат мешал ей, шутил, смеялся. Марина сердилась, ругала его, колола иголкой.
– Смотри, глаза выколю! – говорила она угрожающе.
– Не буду, не буду! Оставь!
Христя не обращала на них внимания. Она с жадностью впитывала в себя тепло, которое постепенно разливалось по ее телу. Вместе с теплом она обрела покой и тихую радость… Незаметно подкрадывается сон, мысли путаются, теплые волны обволакивают тело… Христя и не заметила, как уснула.
Проснулась она не скоро. Тихо. Марина сидит одна, по-прежнему склонившись над шитьем.
– Ты еще не ложилась, Марина? – спросила Христя.
– Уж светает. Ну и крепко ты спишь.
– Перемерзла сильно, вот и заснула. Ох!.. Собираться мне пора.
– Куда?
– Да куда ж? В Марьяновку.
– В такую стужу?
– Что делать? Хозяин прогнал… куда же мне деться?
– А в Марьяновке к кому ты пойдешь?
– У меня там своя хата.
– Она, верно, давно развалилась.
– Да старой уж нет. Шинок выстроили на этом месте.
– Надеешься, что шинкарь тебя пустит?
– А не пустит – черт с ним! Найду на него управу. Это ж мое родовое добро.
– Какого черта! Вы ж панские. Вам дали надел, не стало вас, общество и передало ваш надел другому.
– Ты шутишь, Марина? – испуганно спросила Христя.
– Не шучу. Разве ты порядка не знаешь?
Христя стала молча глядеть на тусклый свет коптилки, ошеломленная словами Марины, отнимавшими у нее последнюю надежду.
– Я правду говорю, не сомневайся, – подтвердила Марина.
Христя тяжело вздохнула.
– Мой надел передали Здору, он примет меня.
– Зачем ты ему нужна?
– Что же мне делать?
– Поздно… ничем уж горю не поможешь.
Христя задумалась. Перед ее глазами возник бесконечный путь… скитания бездомной собаки, голод и холод и, вероятно, смерть где-нибудь под забором.
Марина тоже думала о печальной судьбе Христи и о том, что и ее ждет не лучшая доля на скользком пути, по которому она идет.
Обе – и Марина и Христя – чувствовали досаду и злобу и на себя за то, что загубили свои молодые жизни, и на людей, которые толкнули их в эту пропасть.
Мутный рассвет с трудом проникал в хату сквозь замерзшие стекла. Христя поднялась и начала собираться в дорогу. Марина сидела молча, точно окаменевшая.
Христя закуталась и взяла свой узел.
– Прощай, Марина, спасибо за приют.
Христя встала. Марина так и не поднялась, словно приросла к месту. Уже совсем рассвело, лампочка чадит, давно пора ее погасить, но Марина ничего не замечает. Не от этого ли чада разболелась у нее голова? Она потушила свет и забралась на печь.
А Христя шла по дороге, не озираясь на город, который было поднял ее высоко, потом кинул в такую бездну, что уж ей не выкарабкаться оттуда. Думала-гадала о том, как ее встретят в Марьяновке. Перед ней раскинулась бескрайняя степь под белоснежным покровом, только темнела извилистая лента дороги да порою покажется холм, овраг или перелесок, усеянный вороньими гнездами. Иногда встречаются и путники, больше вблизи сел. Кто идет в город, кто – на мельницу, а минешь село – снова глушь, пустыня, вороний грай.
Христя шла по столбовой дороге, чтобы не заблудиться; да и людей здесь больше осело: часто встречаются села, хутора. Если невмоготу станет, есть хоть куда зайти погреться. Только бы добраться до города Н., оттуда она уже хорошо знает дорогу в Марьяновку. И она вспомнила, как впервые шла в город с Кирилом. Давно это было, а кажется, будто только вчера.
Все ее наводило на мысли о Марьяновке. Когда ей приходилось где-нибудь проситься на ночевку, каждая хата своим видом и убранством вплоть до последнего гвоздика напоминала родное село, незабываемые дни детства. И сейчас все мысли и надежды Христи были устремлены к дому. Этот клочок земли казался ей теперь единственным пристанищем и утехой. Пусть ее там судят и карают – она на все согласна. На родном пепелище она искупит свои тяжкие грехи, и земля, где она родилась и выросла, примет ее останки.
Христя торопилась, не щадя своих слабеющих сил. Мерзла, голодала, чуть не падала от усталости… тут немного согреется, там выпросит ломоть хлеба, отдохнет – и снова в путь.
На пятый день она добралась до Н. Знакомые места, улицы, по которым она ходила, дома, где жила, – все ей напоминало прошлое. Вот дом Загнибиды – он до сих пор пустует и уже скоро развалится. В нем она узнала впервые людскую несправедливость и жестокость. А вот и дом Рубца – он почти не изменился. Вот окно, в котором она в первый раз увидела Проценко. За этим окном она узнала первые радости любви и муки раскаяния. Там она сделала первые шаги по тому скользкому пути, который довел ее…
Теперь она идет в Марьяновку, а зачем? Что ей суждено, то и будет!
На окраине города она попросилась в кривобокую хатенку переночевать, с тем, чтобы чуть свет отправиться в Марьяновку. Она уже чувствовала горький запах дыма над хатами, видела кривые улицы, знакомых односельчан. Жив ли еще Супруненко, не доконала ли его Ивга? А Федор, Горпына? Здоры… хорошо бы к ним попроситься, да больно уж большими барами они стали… Не пойду к ним. А где теперь Кирило и Оришка? Напророчила мне беду, ведьма проклятая. С того времени все и свалилось на меня…
До рассвета не спала Христя, раздумывая о Марьяновке, знакомых, печальной судьбе своей. Что ждет ее теперь в родных местах?
По знакомому большаку шла Христя домой. Тучи расступились, и солнце, вырвавшись из неволи, светило особенно ярко на небесной лазури. Ослепительно сверкали заснеженные поля, так что глазам было больно. А мороз такой, что дыхание захватывает. Он словно боролся с солнечным теплом. Откуда взялось оно – непрошеный гость? Кликнул мороз на помощь своего непоседливого брата – ветер, а теперь лютует, что тот где-то задержался, закутал землю туманом, сковал инеем леса, образовал наледи на крышах, расписал узорами стекла… Христе еще не приходилось быть на таком морозе – сквозь лохмотья он добирался до ее тела, опушил инеем брови и ресницы. Христя шла быстро, притоптывала, чтобы хоть немного согреть закоченевшие ноги. Надежда вскоре добраться до уюта и тепла придавала ей силы, и она неустанно шла вперед.
Был уже полдень. На горизонте замаячил хутор Осипенко, окруженный ометами соломы. Вспомнилась Марья – где она, дома живет или скитается по свету? Надо зайти к ним погреться. Если Марья дома, она будет рада увидеть ее. Марья была так добра к ней и теперь, верно, накормит ее. А Христя еще сегодня ничего не ела.
Холод, мороз и желание видеть Марью подгоняли Христю, и она еще ускорила шаги. Скорее, скорее! Вот какая-то дородная молодица, легко одетая, несмотря на холод, тянет ведро из колодца. Скрипит журавль. Подняв свою ношу, он снова опускается. Красными, как бураки, руками снимает молодица ведро с деревянного крюка и уж собирается уйти в хату. Скорее, скорее! А то некому будет собак отогнать – они здесь такие злые.
Христя добежала до плетня. Она уже отчетливо видит белолицую полную женщину с черными глазами и бровями. Да это ж Марья! Сам Господь прислал ее!
– Здравствуй, Марья! – крикнула Христя как раз в то мгновенье, когда та уже собиралась войти в хату.
Марья поставила ведро на землю и с удивлением глядела на оборванную нищенку.
– Не узнаешь? – спросила Христя, подойдя ближе.
Марья недоумевающе пожала плечами.
– Не узнаю, – сказала она.
– Меня никто не узнает. Пусти, ради Бога, погреться, там разглядишь.
– Идите, – сказала Марья, легко подняв полное ведро, точно игрушку.
В хате чисто, прибрано, а тепло, как в бане.
– Кто там? Свой или чужой? – послышался мужской голос с печи.
– Будто свой. Только никак не могу узнать. Погреться просит.
– Что ж, можно. В хате тепло, а на печи и вовсе душно, – спускаясь с печи, сказал Сидор.
– А ты бы еще полежал, – смеясь, говорит Марья.
– Чего ж ты стоишь у порога? – обратился Сидор к Христе. – Раздевайся и лезь на печь, если замерзла.
Христя не знает, как ей быть. Снять ли тряпье, которым она закутана до самых глаз, или нет? Как показать людям свое изуродованное лицо?
– Не узнаете, пока сама не скажу, – робко произнесла Христя, развязывая рядно.
– А нос ты отморозила или откусил кто? – спросил Сидор.
– Отморозила, – сквозь слезы ответила Христя.
Сидор умолк, а Марья так и впилась глазами в Христю.
– Где-то я тебя видела, – сказала она неуверенно, – но где, никак не вспомню.
– Рубца знаете?
– Ну?
– Мы служили у него вместе.
– Христя?! – воскликнула Марья. – Боже мой! Где ж ты была и куда идешь?
Христя молчала.
– Какая ж это Христя? – спросил Сидор.
– Да ты не знаешь. Из Марьяновки. Она к нам заходила, когда еще мама была жива.
– Значит, во времена царя Гороха? – сказал Сидор.
– Ладно… Иди-ка скотину поить, уже обедать пора.
Сидор, не мешкая, оделся и вышел. Христя примостилась на край нар около печи и сидела молча, потупившись. Ей страшно было поднять голову, показать Марье свое лицо. Да и Марья только вскинет глаза на гостью и сразу же отвернется. Она догадывается об истинной причине уродства Христи, но ей неловко спросить об этом.
– Куда же тебя Бог несет? – наконец заговорила Марья.
– Домой.
– В Марьяновку?
– Ну да.
Снова замолчали.
– У тебя там есть родные? – немного спустя спросила Марья.
– Не знаю. Хата родительская была.
– Значит, решила, что дома лучше?
Христя молчала.
– И я так же… Спасибо, Господь прибрал свекруху. Теперь у нас мир и лад. Вот уж третий год живем.
– Старое забылось?
– А ну его! Не вспоминай. Даже подумать страшно. И ты, верно, несешь домой много тяжких воспоминаний.
– Ох, много! – вздохнув, сказала Христя.
– Невесело, значит, что тяжело вздыхаешь.
Христя только рукой махнула. Тут вошел Сидор, и разговор перешел на другие темы. Он жаловался на холод, удивлялся, как Христя шла по такому морозу, и торопил Марью скорей подавать обед.
Марья налила горячего борща и пригласила Христю к столу. Христя молча села за стол, и хотя она была очень голодна, с трудом ела, – мысль о своем уродстве не покидала ее ни на одно мгновенье, и ей было совестно и страшно смотреть в глаза Сидору и Марье.
После обеда она тотчас же начала собираться в дорогу.
– Куда это? В такой мороз? – спросил Сидор.
– Тут недалеко, – сказала Христя.
– А ночь застанет в дороге.
– Ну хоть к ночи приду.
– А куда ж ты там ночью денешься? – спросила Марья.
– Да уж где-нибудь приткнусь, – ответила Христя. И, поблагодарив, она ушла. Марья вышла ее проводить во двор и потом долго глядела вслед.
– Ушла? – спросил Сидор, когда Марья вернулась в хату.
– Да.
– Допрыгалась, что безносой стала, – сказал он.
Марья молчала, а сердце у нее так щемило…
Христе легче стало, когда она снова очутилась в пустынном поле. Здесь ей дышалось вольней, чем в теплой хате Осипенко. Приветливые речи Марьи, ее жалостливые взгляды и гостеприимство оставили в душе Христи какую-то неосознанную горечь. Зачем все это ей – отверженной и бездомной? Чтобы лишний раз почувствовать, как она своим уродством вызывает отвращение у людей? Бог с ними и с их жалостью! Снежная пустыня не угнетает души, как теснота чужой хаты; здесь никто не спросит, как дошла ты до жизни такой…
Христя все шла и шла, не думая о том, что идет к таким же людям, что марьяновцы вытаращат глаза еще больше, чем Марья, и в один голос спросят ее: зачем ты к нам приплелась?
Короткий зимний день был на исходе. Солнце уже скрылось за гору, окрасив в розовые тона горизонт и легкие облака, плывшие по небу. Было тихо, безветренно, мороз крепчал.
Только сейчас подумала Христя, что в Марьяновке ждет ее бесконечная пытка, неотвязные расспросы любопытных: как, откуда, зачем? Безнадежность и отчаяние охватили ее. Она остановилась, с невыразимой тоской глядя туда, где небо слилось с бескрайным простором полей и чернела какая-то полоска – может, и Марьяновка.
«Ну зачем я иду туда?» – думала она. Идти дальше? Нет. Она и так достаточно утомилась. Чего стоит один переход из губернского города. Мало она намерзлась и наголодалась? А в Н?… Не набреди она случайно на хату Марины, пришлось бы ночевать в поле.
Христя снова двинулась в путь, но шла все медленнее и медленнее, словно кто-то придерживал ее. А тем временем погасло зарево заката, наступил вечер, замигали звезды на потемневшем куполе неба, и вскоре оно все было усеяно ими, словно кто-то сыпал их полной горстью из ковша.
Христя ускорила шаг. Теперь ночь, никто ее не увидит, не остановит, не начнет расспрашивать. Вскоре все улягутся спать – завтра воскресенье и уже сегодня с вечера никто за работу не принимается. Разве только молодежь соберется погулять в хате, где обычно устраивают посиделки. Христя вспомнила молодые годы, подруг, хлопцев, которые за ними ухаживали… Будто живые стоят они перед ее глазами, слышны знакомые голоса, смех, шутки… Она забыла о том, куда идет; ей казалось, что она, как в былое время, спешит на посиделки. И Христя все ускоряет шаг… под ногами скрипит снег, быстрей течет кровь, теплей становится… легкокрылые мысли, беззаботные и отрадные, роем вьются в голове. А ночной сумрак сгущается, обволакивает землю, застилает горизонт. Снег искрится на полях вдоль оледеневшей дороги. Христя уже не идет, а бежит. Скрип ее шагов сливается в сплошной гул. А кругом тихо, только изредка раздается сухой треск от мороза, словно выстрел.
Долго еще шла Христя, пока услышала отдаленный собачий лай. Слава Богу! Если это не Марьяновка, то, во всяком случае, людское жилье. Попрошусь переночевать. Ноги немилосердно ныли, а пальцы точно кололи иглы. Все ближе и явственней слышится лай. Вот и хата показалась. В окнах темно, и собак не видно. Христя пошла дальше. Вот какая-то черная громада высится впереди. Что это? Да церковь же – значит, уже Марьяновка. Слава Богу! Здесь недалеко и ее хата стояла. Христя перекрестилась и пошла дальше.
Видно, было уже поздно, – ни одно окно уже не светится. На улице попадались только собаки. Как все переменилось! Когда-то здесь был пустырь, а теперь все застроилось, новые улицы проложили. Узнает ли она свой двор? «Да вот же он!» – крикнула она, остановившись перед длинной хатой, в которой, кроме жилой половины, была и лавка. «Гляди, чего только тут не настроил на чужой земле!» – думала она, надеясь, что вскоре все это будет ей принадлежать.
Она постучала в окно. Дребезжанье стекла гулко разнеслось в морозном воздухе. Яростно залаяли собаки.
– Кто там? – послышалось изнутри.
– Пустите.
– Кого это несет? – Что-то скрипнуло, потом дверь приотворилась, и в щель просунулась голова с большой бородой.
– Пустите переночевать, – просит Христя.
– Какая там ночевка? Здесь не постоялый двор. Иди дальше! – крикнул бородатый шинкарь и захлопнул перед ней дверь.
«Куда идти? Это ж моя хата…» – подумала Христя.
Она снова постучала в окно. Никто не отозвался.
– Пустите же, замерзаю! – молит Христя.
– Уходи, пока тебя в шею не накостыляли! – угрожающе крикнул хозяин.
«Чего доброго – дождешься!» – подумала Христя и пошла дальше по улице. Собаки из соседних дворов бросились с яростным лаем к воротам. Христя повернула назад. «Еще разорвут собаки. Лучше посижу около лавки, потерплю до утра, а там и на шинкаря управу найду. Не пустил, нехристь, – ну, я с ним сочтусь!»
Она примостилась на лавочке под навесом, где казалось не так холодно. Пожалуй, можно и лечь. Нет, все-таки холодно, немилосердно холодно. Христя, свернувшись калачиком, плотней прижалась к стенке. Успокоившись немного, она начала думать о будущем. Завтра пойдет в волость – пусть ей вернут ее добро… Что ж она будет делать? Что? Можно сдать лавку и часть дома внаем. Лишь бы зиму продержаться, а придет лето, тепло, тогда она как-нибудь начнет жить снова…
Христя глубоко задумалась, забыв обо всем на свете. Незаметно подкрадывается сон. Вдруг словно что-то ударило ее, перед глазами заметались искры… И видит она ясный летний день. Жаркое солнце золотит зеленые поля, поют птицы, в прозрачном воздухе носятся мотыльки, пряно пахнут цветы. Христя идет по полям, на которых буйно разрослись хлеба. Ветер колышет зеленые волны, убегающие до самого горизонта.
– Чье это поле? – спрашивает она прохожего.
– Христино, – отвечает тот.
– Какой Христи?
– Из Марьяновки. Хороша была собой, но пошла по рукам и стала уродливой. Да уж, видно, за ее тяжкие муки Бог послал ей удачу – разбогатела она. Вот все эти поля кругом принадлежат ей. Там и лес столетний, и дом панский в Марьяновке. В этом доме живут девушки, которые сбились с пути. Как проштрафится какая-нибудь, Христя тотчас же к себе ее сманивает. Грамоте учит, ремеслу. Школу такую открыла. И дивно: совсем непутевая попадет, а гляди, год-другой побудет, – такой хорошей хозяйкой становится: все знает, все умеет. Потом, если захочет, замуж выходит, а нет, так остается здесь навсегда. Сначала люди сторонились ее, а как смекнули, в чем дело, и хозяева начали ей отдавать своих дочерей в учение. Добрая душа, много для людей делает! Не то что другие – как разбогатеют, Бога и людей знать не хотят. А Христя говорит: я им за их зло добром отплачу, – закончил незнакомец и скрылся.
– Где наша мать? Где наша мать? – услышала она многоголосый крик.
И вот со всех сторон, из густой пшеницы и высокой ржи, показалось множество женщин и девушек, гладко причесанных, в венках из живых цветов. Лица у них румяные, глаза ясные… Все они бросились к ней.
– Вот наша мать! Утомилась, бедняжка. Давайте, понесем ее домой.
Они подняли ее и понесли по полю. Огромным шатром распростерлось над ней синее безоблачное небо, порой высоко пролетит жаворонок, и звонкая песня его льется над землей. Хор молодых голосов оглашает поля… Так хорошо, легко Христе, – дрема смежает глаза, она впадает в сладостное забытье…
На другой день шинкарь, выйдя на рассвете оглядеть свои владения, наткнулся на неподвижное тело.
– Кто это? – крикнул он и, подойдя ближе, прикоснулся к залубеневшему лицу лежавшего.
– Караул! Караул! – завопил шинкарь и бросился в хату.
Немного спустя он снова вышел в сопровождении жены. Заспанная и неумытая, она уставилась на лежавшее тело.
– Что тебе Бог послал? – спросил шинкаря сосед.
– Напасть послал. Какой-то злой дух замерз под лавкой.
– Мужчина или женщина?
– А черт его знает. Не нашел другого места.
Сосед, бросив среди двора охапку соломы, которую нес скоту, пошел к лавке взглянуть на мертвое тело.
– А никто к тебе не просился на ночлег? – спросил он шинкаря.
– Нет, не просился, – ответил шинкарь, многозначительно взглянув на жену.
– А я слышал среди ночи, что лаяли собаки и кто-то стучал в окно.
– Не знаю, может, и стучали. Я спал. Ты не слышала? – обратился он к жене.
– Нет.
Сосед потрогал голову замерзшей и спросил:
– Что ж теперь будешь делать?
– Возьму и выброшу на дорогу.
– Нет, так нельзя, можешь на себя беду накликать. Надо заявить в волость.
Шинкарь, не мешкая, убежал со двора. Жена его пошла в хату. Ушел и сосед.
– Остап! – крикнул он через забор другому соседу. – Ты слышал, около шинка человек замерз.
– Да ну!
– Вот лежит.
Остап побежал к лавке.
– А что там? – спросил третий.
– Да вот, замерз!
Вскоре собралась толпа. Заслышав о случившемся, люди бежали со всех концов села. Начались толки, расспросы. Кто такой? Откуда? Зачем забрел в село?
Вернулся и шинкарь в сопровождении двух сотских. Один, старый, сгорбленный, еле поспевал за другим.
– Пропустите, пропустите! – крикнул шинкарь, расталкивая народ.
Подошли. Только сотский отвернул платок с головы замерзшего, как зазвонил церковный колокол. Его медный гул потряс морозный воздух. Старик, снимавший платок с трупа, вздрогнул и отступил. Люди торопливо крестились.
– Испугался, дядька? – крикнул кто-то.
– Чего там? Не впервой! – ответил сотский и совсем сдернул платок. Показалось женское лицо, с щеками, побелевшими от мороза, и провалившимся носом.
Люди начали тесниться, наваливаясь друг на друга, чтобы разглядеть замерзшую.
– Вот чудеса! Что это, нос отморожен?
– Какое там! Его совсем не было!
– Как же это?
– Да уж так!
– Видать, женщина.
Сотские сумрачно глядели на труп. Старому показалось, что он где-то видел это лицо.
Приехали старшина и писарь. Люди расступились, торопливо снимая шапки. Старшина пошел прямо к лавке.
– Ты что, Кирило, так засмотрелся? Узнаешь?
– Что-то знакомое, но никак не вспомню.
– А вот мы сейчас узнаем. Надо обыскать, может, у нее деньги есть или документы. Ну и мерзкая! – сказал старшина и плюнул. – Кладите ее на сани и отвезите в волость.
– Нет, так не годится, – заметил писарь. – А может, она не замерзла? Может… Надо станового ждать.
– А верно, так и сделаем.
– Так, так, – сказал шинкарь. – А кто мне заплатит за то, что я не буду торговать?
– Разве она вход заградила?
– А кто пойдет в лавку?
– Не надо было такой навес строить. Она думала, что укроется там, да не выдержала, – сказал кто-то.
Шинкарь плюнул и, ничего не сказав, побежал в хату. Люди не расходились, гудели, строили догадки, дивились.
– Мы греха не совершим, если обыщем ее, – сказал старшина и начал рыться в тряпье. Немного спустя он вытащил какую-то свернутую вчетверо бумажку. Развернув ее, он прочел вслух: – «Крестьянка села Марьяновка Христина Филипповна Притыка».
– Христя! – крикнул Кирило. – Она, она! Вслед за отцом пошла. И он замерз, и ее не минула та же доля.
– Христя? Та самая, что у Колесника была? В усадьбе? – послышались голоса.
– Она…
– А нос куда дела?
– Допрыгалась.
– У всех гулящих – один конец.
Толпа начала редеть. Кто побрел домой, кто в церковь. Старшина и писарь уехали в волостное правление, приказав Кирилу стеречь труп. Усевшись на лавку, Кирило с грустью смотрел на обезображенное лицо Христи.
Вдруг послышались возгласы «Цоб! Цоб! Цобе!» и скрип полозьев.
Из-за угла тотчас же потянулся целый обоз. Медленно плелись волы, тащившие сани, нагруженные большими чувалами с зерном.
– Здоров, Кирило! – крикнул первый возница, оставив волов. – Ты чего тут сидишь?
– А вот стерегу замерзшую.
– Кто это?
– Христю знал, что у Колесника жила?
– А как же! Добрая душа была.
– Вот она и есть.
Возчики подошли ближе. Вышел и шинкарь – верно, подумал, не удастся ли сбыть проезжим полштофа. Начались расспросы, воспоминания о Колеснике и Христе.
– Он завзятый был, да она его сдерживала, – сказал Кирило.
– Как он плох ни был, а все же лучше, чем нынешний, – откликнулся один из крестьян. Он рассказал о том, что Лошаков сдал землю в аренду Кравченко. А тот – настоящий кровопийца. Давно ли погорел, а опять уже тысячами ворочает. – Вот его пшеницу в город везем.
– В город! – заворчал Кирило. – Все в город! Эту бездонную прорву никак не насытишь. Сколько ни давай, всего мало. И ее слопал, – он указал на Христю. – Какая девка была – здоровая, красивая. А попала в город, он из нее высосал все, что можно было, и вышвырнул замерзать под забором!
– Глупости ты плетешь, – сказал шинкарь. – А что бы мы делали без города? Куда бы свой хлеб девали? На то и село, чтобы хлеб растить, а город будет покупать. В селе – работа, а в городе – коммерция.
– Ох, чую, – вздохнув, сказал Кирило, – скоро твоя коммерция нас целиком проглотит.
Возчики задумчиво слушали этот разговор. Горькая крестьянская доля предстала перед ними во всей своей неприглядности.
– Ну чего, дядьки, задумались? Пора погреться, а то еще замерзнете. Налью вам полштофа. За провоз пшеницы, верно, хорошие денежки взяли.
Возчики только вздохнули и пошли к саням. Они везли пшеницу не за деньги, а в отработку. Кравченко сдавал им в аренду землю по десять рублей за десятину, и, кроме того, каждый арендатор должен был еще неделю бесплатно работать у него.
Лишь неделю спустя похоронили Христю. Сначала ждали станового, потом шло следствие, а там возник вопрос: как и где хоронить? Становой сказал – по-христиански, но батюшка не решился без письменного разрешения. Пока пришла бумага из уезда, неделя и кончилась. Похоронили ее по-христиански в самом глухом углу кладбища. Тут больше всех старался Федор Супруненко. Он бегал из хаты в хату, чтобы собрать на похороны. Кто что даст – старую рубашку, юбчонку, краюшку хлеба. Карпо Здор раскошелился и, перекрестившись, выложил целых два рубля. Люди говорили, что он мог бы и десятку пожертвовать – немало нажился на сиротском добре…
Федор поставил крест на могиле, а весной посадил вишневое деревцо. Чернявая Ивга болтала в шинке, что Федор, мол, не забыл свою первую любовь. Горпына ругала его.
– Чудна́я ты! Разве я это для себя делаю? Надо же позаботиться о христианской душе, – уговаривал он жену.
– Дурной ты, блаженный! Правду говорил покойный отец, что она тебя кошачьим мозгом напоила.
Федор, однако, продолжал делать по-своему. После смерти отца он унаследовал его имущество и стал бы совсем зажиточным, если б хозяйничал как следует. А то бросается от одного к другому – то портняжить принимается, то плотничать. Накупит инструмент, повозится с ним неделю-другую и бросит. Только к своей службе пономаря после смерти Христи относится еще более ревностно.
Ну, а другие?
Тимофея убили на войне. Оришка умерла. Кирило снова стал десятником в волости. Хотя он уже с трудом справлялся со своими обязанностями, но общество относилось к нему снисходительно, принимая во внимание его лета. Довбня умер в больнице. Марина и сейчас живет в той самой хатенке, в которой застала ее в последний раз Христя, и путается с кем попало.
Лошаков получил назначение в Польшу на пост губернатора. Он взял туда с собой Проценко на должность управляющего делами, а Кныша в качестве полицмейстера. Оба они служили верой и правдой и вскоре получили в награду крупные поместья.
Рубец по-прежнему работает в земстве. Там сейчас верховодят паны, крестьянам ходу не дают. Впрочем, марьяновской бедноте это безразлично: земли так мало, что не прокормишься, и они уходили на заработки в город. А когда заходила речь о земстве, бедняки и богачи говорили: «Что нам это земство? Одна обираловка!»
Другого мнения придерживаются марьяновские богатеи, как, например, Карпо Здор. Он был гласным и готовился стать членом земской управы, в связи с чем сын целый месяц учил его выводить каракулями свою подпись. И выучился! Однако дело его не вышло. Выбрали Кравченко. Но тот поблагодарил за честь и отказался: «Пускай паны заседают в управе. Наше дело – коммерция!» И дела свои он вел так ловко и успешно, что, говорят, поехал к Лошакову покупать Веселый Кут.

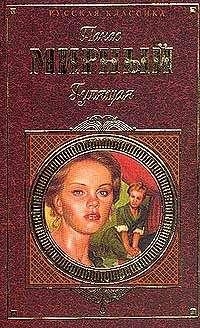
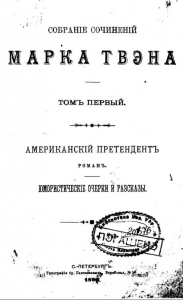



Комментарии к книге «Гулящая», Панас Мирный
Всего 0 комментариев