Эфраим Севела Викинг
Привокзальную площадь убирали две снегоочистительные машины. Металлические рычаги загребали и толкали вверх по желобам элеваторов грязные смерзшиеся комья и, доползая до самого конца, они оттуда сваливались в высокие кузова грузовиков. Чтобы подъехать к вокзалу, такси обогнуло впритирку грузовик и несколько комьев со стуком ударило по его крыше. Альгис сидел на переднем сиденье, рядом с шофером. Он мельком глянул на светящийся циферблат, где настучало плату за проезд, расстегнул пальто и, уже вынимая из кармана кошелек, усмехнулся, вспомнив, как Рита, смеясь, поучала его, что москвич никогда не даст на чай больше двух-трех гривенников, и только провинциалы, гостящие в Москве, швыряются рублями, словно заезжие купчишки. Это, говорила она, периферийный комплекс неполноценности и у столичного таксиста или официанта, кроме иронии, ничего не вызывает.
Но Альгис сейчас был один, и он дал на чай лишний рубль, проследив за выражением лица шофера. Тот смерил ленивым взглядом добротное велюровое пальто на Альгисе, пыжиковую мохнатую шапку на голове и, не сказав «спасибо», сунул деньги в карман.
— Хам, — незлобиво констатировал Альгис, думая о том, что Рита права, и что он ей это непременно скажет, когда она приедет через полчаса сюда пообедать с ним на вокзале. Они условились встретиться в ресторане и провести там прощальных час-полтора до отхода поезда.
А пока надо было поторопиться с билетом. Альгис не сделал заранее заказа в Союзе Писателей, забыл в суете прощальных визитов, но это его не беспокоило. Мягкий вагон обычно уходил полупустым, и купить билет на вокзале даже в последнюю минуту не составляло труда. С желтым кожаным чемоданом и такого же цвета щеголеватым саквояжем в руках вошел он в гулкий билетный зал, где извивались две длинные очереди к двум окошечкам касс. Остальные четыре были закрыты.
По привычке удивляться каждой нелогичности он подумал о том, что если бы были открыты все шесть касс, люди бы не толпились в очереди, никто бы не раздражался, не томился в этой духоте. Но подумал он об этом благодушно, как здоровый человек выслушивает рассказ о чьих-то болезнях. Конечно, плохо… но что поделаешь? У кассы, где продавались билеты в мягкий вагон, было пусто, и Альгис уверенно направился туда, скользнув взглядом по громадному табло над кассами. И остановился. На табло светились буквы: МЯГКИХ МЕСТ НЕТ.
Альгис сразу почувствовал усталость, опустил вещи на каменный пол, еще раз прочитал надпись и увидел, что окошечко кассы, куда он направлялся, закрыто фанерной дверцей. Это был сюрприз и настолько неожиданный, что Альгис сразу потерял доброе состояние духа. Значит, ему предстояло целых двадцать часов томиться в многолюдном вагоне, терпеть соседей, которых он знать не хочет и чьи занудные россказни слушать не желает, вдыхать запах чужого несвежего белья и, возможно, вообще глаз не сомкнуть из-за чьего-то храпа.
— Весело, — подумал он и с большой неохотой, но все же решил поискать железнодорожное начальство и. козыряя всеми своими регалиями, выбить билет в мягкий вагон. Его всегда коробило, когда кто-то лез со своими заслугами и требовал для себя привилегий. Но что оставалось делать? Не ехать же ему в общем вагоне.
Разговор с дежурным по вокзалу ни к чему не привел. Альгис только унизился, показав ему лауреатскую книжку. Дежурный в большой красной фуражке. молоденький и сонный, равнодушно вернул ее Альгису, буркнув, что мягких мест нет, весь вагон забронирован для иностранных туристов, и ушел, оставив его с книжкой в руках.
— Удивительное дело, — рассердился Альгис, из-за каких-то иностранных туристов, среди которых несомненно есть и шпионы, а уж недоброжелателей полно, его, советского человека, заслуженного, известного поэта, наконец, коммуниста, хозяина своей страны, лишают возможности ехать с удобствами.
И то же самое в гостиницах. Альгис вспомнил, как однажды он застал свои вещи вынесенными из номера в коридор, и администратор гостиницы предложил ему переселиться в другую комнату, похуже, в полуподвальном этаже, и все потому, что приехали туристы, и он, Альгис, должен освободить им место. Это лакейское заискивание перед иностранцами и абсолютное неуважение к своим, что считалось нормальным во всей России, коробило Альгиса, но возмущаться этим не было смысла. Мало ли нелепостей в нашей жизни? Не он один с этим сталкивается, и никто не ропщет. А чем он лучше других? И так уж жизнь окружила его благами, недоступными большинству. Мелкие неудобства можно и не замечать.
Он снова вернулся к табло. Купейные места были. Это не то, что в мягком вагоне. Купе на четверых и обычно без пустых мест. Но в купе публика все же почище, чем в общих плацкартных вагонах. И он со вздохом оглядел длиннющую очередь у кассы. Какие-то деревенские мужики и бабы, многие с хнычущими детьми на руках, и чемоданами и мешками у ног. По мере движения очереди каждый переставлял на шаг свои вещи. По одежде и облику Альгис определил в них русских и белорусов. Ведь поезд шел через Смоленск, а дальше пересекал всю Белоруссию. Литовцев он сразу выделил. Одетые, казалось бы, как все, они чем-то неуловимым отличались от своих соседей, То ли иным выражением глаз, немножко замкнутым, чужеватым, то ли покроем одежды и манерой ее носить. Они выглядели аккуратней, строже. И породистей. Вот именно — другую породу узнавал в них Альгис среди славянской толпы. Прибалтийский облик. Те, не похожие на русские, черты, которые так нравились в Альгисе русским женщинам и за что Рита называла его викингом.
Вспомнив о Рите, Альгис встревоженно глянул на часы. Она вот-вот должна была прийти в ресторан, а чтоб выстоять очередь за билетом, потребуется не меньше часа. Альгис окончательно расстроился. Подняв вещи с полу, он растерянно посмотрел на самый конец очереди, где ему предстояло занять место, и подумал, что минут через десять пойдет в ресторан предупредить Риту, а пока надо будет сдать вещи в камеру хранения, предварительно заняв место в очереди.
— Поближе к народу, к массам, — ухмыльнулся он, понимая, что прощальный обед с Ритой испорчен и вообще получилось нелепо, нехорошо, и впредь не надо полагаться на случай, а все делать заранее, благо, такая возможность ему, Альгирдасу Пожере, всегда предоставляется, хотя бы из-за его положения в этом не весьма устроенном мире.
Последние десять-пятнадцать лет, то есть в тот период, когда его счастливая звезда шла неуклонно в гору и его уже при жизни записали в классики, в плеяду лучших представителей современной литовской поэзии, Альгирдас Пожера как-то незаметно привык к комфорту; стал чувствителен к малейшим неудобствам, и оттого ситуация, в какую он попал здесь, на вокзале, окончательно испортила ему настроение, потому что он почувствовал себя таким же, как все. Но слава остается славой и она порой проявляется в самых неожиданных формах. В очереди у кассы Альгиса узнали. Узнал его, конечно, литовец. И стоял он у самого окошечка. Выбежав из очереди, этот немолодой, простоватого вида мужчина в старом пальто, по облику, несомненно, средний служащий из какого-нибудь захудалого городишки в Литве, смущаясь и краснея, оттого что говорит со знаменитостью, предложил Альгису свои услуги: купить ему билет и даже отказался от денег, сказав, что у него хватит своих, и они рассчитаются потом, когда билет будет куплен. Альгис был приятно польщен, своим бархатистым голосом, к которому вернулась уверенность, поблагодарил его, и когда тот побежал обратно к кассе, подумал о том, что имя уже работает на него помимо его воли, и так уже будет до конца жизни. Одно лишь портило радость. Этот человек поедет с ним в одном купе и на правах знакомого станет надоедать разговорами, расспрашивать о жизни писателей и отказать ему во внимании будет неудобно, и придется расплачиваться за услугу потерей покоя и фальшивым доброжелательством.
Опасения Альгиса оказались напрасными. Будущий сосед по купе, вручив ему билет, с нескрываемым огорчением сказал, что сам он едет другим поездом и поэтому лишается возможности ближе познакомиться с известным поэтом, которого он лишь читал, но живым видит впервые, и второй такой случай представится неизвестно когда. Альгис, стараясь скрыть чувство облегчения, какое испытывал от этих слов, долго, пожалуй, слишком долго благодарил его, говорил какие-то незначащие слова и, подхватив чемодан и саквояж, пошел из билетного зала.
Все складывалось как нельзя лучше. С минуты на минуту Рита должна была появиться в ресторане вокзала, времени у них еще оставалось уйма, и Альгис вошел в ресторан в самом наилучшем расположении духа.
В добротном костюме и теплом свитере под пиджаком, из нагрудного кармана которого скромно, но элегантно высовывался уголок носового платка в тон свитеру, он производил впечатление одновременно и мужественного и интеллигентного человека. Светлые, словно выгоревшие на солнце, волосы, серые с голубизной глаза, поздний крымский загар на резко очерченном сухом лице с заметным твердым подбородком («Вот такими я представляю себе древних викингов,» — говорила Рита, целуя его), высокий и стройный, сохранивший спортивный склад фигуры, несмотря на то, что ему уже стукнуло сорок, и он, пока еще незаметно, но начинал полнеть, Альгис сразу был оценен официантом, безошибочно угадывающим настоящего клиента.
Хоть ресторан и был переполнен, Альгис получил отдельный столик в углу, и интимное, с подмигиванием, обещание официанта никого из чужих к нему не подсаживать и готовность без промедления явиться за заказом, когда придет дама. А дамы не было. Взгляд Альгиса блуждал по залу: возможно, Рита пришла раньше его и ждет за одним из столиков. Время, о котором они условились, уже прошло. Рита, очевидно, задержалась в пути — такси в такой час не так легко поймать.
Альгис машинально полистал карточку меню и решил ждать, благо, спешить ему уже было некуда. Рассматривать соседей за чужими столиками оказалось занятием неинтересным, и он устремил взгляд к потолку с аляповатыми, из гипса, выступами по краям. Его внимание привлекли серые круглые наросты возле выступов — ласточкины гнезда. Это было неожиданным открытием. Здесь, в шумном зале вокзального ресторана, в пару и острых запахах, изолированные от внешнего мира, слепили гнезда ласточки и, забыв о временах года, преспокойно зимовали в московской стуже. Ласточки перелетали из одного конца зала в другой, но не стремительно, молнией, как это делали их собратья там, под открытым небом, а тяжело, медленно и, казалось, как бы вразвалку, потому что они разжирели от обильной пищи, подбираемой на столах. Они стали какими-то неуклюжими — опасность здесь не подстерегала, никакой ястреб сюда не заберется. И извечный инстинкт, ведший их стайками осенью на юг, в жаркие страны, а весной — обратно, к своим гнездам, со временем, должно быть, атрофировался. Здесь было покойно и сытно.
Потолок ресторана был расписан пейзажами, вделанными, как в медальоны, в круглые алебастровые рамки. Пейзажи изображали густую тайгу, степь с колосящимися нивами, горы со снегами на вершинах и тропические пальмы.
Пересекая под потолком зал, ласточки в сокращенном и очень удобном варианте видели все те места, над которыми проносились их собратья: и леса и степи, и горы и джунгли. С той лишь разницей, что им не приходилось мучиться и погибать от истощения на тяжком пути, попадать под грозы и снегопады, под штормы и ураганы, и, оставляя в пути погибших товарищей, неуклонно стремиться к неведомой, но властно зовущей цели, как это проделывали их отцы и деды и будут, возможно, делать их дети и внуки.
Эти нашли свой путь: покойный и удобный. Пейзажи в медальонах утешали душу: многострадальный маршрут, избранный предками, был всегда под рукой, видимый птичьему глазу, и это, должно быть, усыпляло совесть и утешало мыслью, что они в конце концов не отрекались от вековых заветов, делают то же самое, но только умнее своих сородичей — без надрыва и потерь. Правда, они стали не такими быстрыми, жиром затянулось тело, инстинкты притупились. Но это уже на любителя — кому что нравится. Альгис взволнованно размышлял, глядя в потолок на неуклюжих ласточек, показавшихся ему похожими на мохнатых летучих мышей. Вот уж, действительно, жизнь богаче фантазии. Какой сочный художественный образ подбрасывал ему случай. Сколько гражданственной поэтики в этом. Он обязательно напишет стихотворение о ласточках, зимующих в ресторане, о тех, кто ради житейских удобств променял романтику странствий, героику борьбы и смертельной опасности на унылое, но сытое прозябание в четырех стенах.
Сколько таких людей знал на свое веку Альгис, сколько таких окружает его и по сей день. Он напишет стихотворение острое, хлесткое, как бич, полное сдержанного гражданского гнева и боли, и его из-за актуальности опубликуют сразу в газетах, прочитают по радио. О нем, об Альгирдасе Пожере, снова заговорит критика, как о поэте боевом, наступательном, вспомнят его ранние жгучие стихи, какими зачитывались литовские комсомольцы лет двадцать назад, проведут параллель между теми стихами и этим, и обязательно кто-нибудь скажет в рецензии, что «есть еще порох в пороховницах».
Но больше всего Альгису хотелось увидеть реакцию на его стихотворение, которое он уже назвал «Жирные ласточки», старого Ионаса Шимкуса.
Нынешняя поездка в Москву, невзирая на то, что он осуществил здесь все, что замышлял, оставила в душе терпкий осадок горечи, непонятной и беспричинной. Казалось бы, нет никакого повода для тревоги. Двухтомник избранных стихотворений, переведенных на русский язык, принят в печать в крупнейшем московском издательстве. Солидный аванс получен, и цифра со многими нулями значится в аккредитиве, покоящемся у него в кармане. Он умышленно не перевел эти деньги на свой банковский счет, а взял аккредитив, потому что каждый уважающий себя мужчина должен иметь свободную сумму денег, ускользнувшую из-под контроля жены.
Альгиса очень тепло и с почтением принимали в Москве, в Союзе Писателей. Предложили творческую поездку в страны Латинской Америки. Очень дорогую. За счет Союза. Предложили, а не он попросил. А когда он великодушно согласился, сделав вид, что размышляет, как выкроить для этой поездки время, которого у него, конечно, в обрез, руководство Союза выразило свою радость, будто он им сделал большое одолжение. Ну, кто еще из пишущей братии в Литве может похвастать таким положением и таким успехом? Ведь он отлично знает, каких неимоверных усилий стоит другим добиться хотя бы половины того, чем обладает он. Ему же все дается легко, без всякого напряжения. Прочное имя и репутация в литературных кругах, созданные некогда, теперь работают сами на него. Он вступил в ту пору, когда пожинают лавры, и что бы он ни сделал, что бы ни написал, многоголосый хор газетных льстецов будет курить ему почтительный фимиам. А в случае откровенной неудачи вежливо промолчат, сделают вид, что ничего не случилось.
Так от чего же легонько посасывает у него на душе? Сколько ни перебирал в памяти Альгис, не мог вспомнить малейшего обидного случая, проявления неуважения к нему или иронии, ни одного укола его весьма болезненному самолюбию. Его везде принимали радушно, и радушие это выглядело искренним. Многие добивались его дружбы или хотя бы приятельских отношений и делали это безо всякой корысти, а только потому, что Альгис Пожера им импонировал. Не одни лишь женщины, но и мужчины откровенно им любовались, и блеск восхищения видел Альгис во многих глазах, когда его, высокого и стройного, как нестареющего атлета, с белесыми и мягкими, как лен, волосами, представляли в новой компании. Даже его легкий литовский акцент пользовался в Москве успехом, вызывая доброжелательные, а порой и влюбленные улыбки.
Но что-то произошло в Москве, мельком, как бы невзначай, капнувшее ложкой дегтя на его самолюбие, вынудившее сейчас искать тоненькие нити к первопричине неприятного ощущения, уже несколько дней не покидающего его, то вспыхивая, то притухая.
Старый Ионас Шимкус, отец Риты. Да. да. Этот скрюченный, но все еще жилистый паучок, с голой, как яйцо, головой. Московский литовец, говорящий по-литовски с русским акцентом, и при этом крупнейший знаток литовского языка, всех тонкостей многочисленных наречий, бездонный кладезь старинного фольклора, с ясной юношеской памятью и неприятным скрипучим голосом, от которого веет сибирским холодом. Ровно двадцать лет просидел он в лагере на севере, в Сибири, продубился на морозе и усох, но выжил, вернулся в Москву и, как паучок, подвижный, окунулся в жизнь, словно позади ничего страшного не было. Оптимист и работяга, он быстро занял положение одного из ведущих переводчиков поэзии с литовского на русский, и этот двухтомник Альгирдаса Пожеры он перевел и редактировал. Причем стихи, переведенные прежде другими, он перевел заново, придав им свежесть и блеск. Альгис, как в лотерее, выиграл, попав в такие руки, и потому он скоро предстанет перед русскими читателями в самом лучшем виде, какого можно пожелать. В переводе Ионаса Шимкуса даже слабые, не совсем удавшиеся стихи, приобретали новую звонкость, краски, а порой становились неузнаваемыми, сохраняя лишь мысль первоисточника.
Альгис даже подумывал о том, чтобы поделиться со стариком частью своего гонорара, и это было бы абсолютно справедливо, и он даже осторожно намекнул ему, но встретил такую отчужденность и даже обиду, что больше и не пытался заговаривать об этом. Он был знаком с Шимкусом уже несколько лет и только в этот приезд в Москву был у него дома. И не один раз, а несколько. В двухкомнатной тесной квартирке в Новых Черемушках, где все дома, унылые коробки, были похожи, как близнецы, и даже шоферы такси долго плутали по одинаковым улицам, расспрашивали прохожих и ругались. Шимкус здесь жил с женой и дочерью. Дочь — Рита. В этой квартире Альгис с пей познакомился, а потом она почти каждый день, в обеденный перерыв, удирала с работы и до самого вечера была у Альгиса в казенном, но. довольно комфортабельном номере гостиницы «Украина». Там они предавались любви, по пять-шесть часов не вылезая из постели, словно им обоим по семнадцать, и с осунувшимися, мятыми лицами возвращались через всю Москву в Черемушки, и Альгис иногда провожал ее до подъезда, а раза два-три поднимался к старикам, задержавшись на лестничной площадке после ухода Риты, чтоб не вызвать дома подозрений. Предлог навещать Шимкусов был естественный: книга Альгиса, над которой трудился старик. И они допоздна засиживались, пили чай, порой коньячок, старик назидательно разглагольствовал, Рита вела себя непринужденно, ничем не выдавая их отношений.
Старика Альгис недолюбливал. Его подвижность и энергия в этом возрасте, после сибирской каторги, казались ненормальными, какой-то шутовской игрой в бодряка, и Альгис исподлобья разглядывал его, неумеренно оживленно говорившего о чем-то, все ожидая, что вот-вот он, как проколотый мяч, выпустит воздух и превратится в кучку тряпья. Благо, одет он был неряшливо, в старые поношенные вещи. И останется под тряпьем отсвечивающая бликами голова с водянистыми прозрачными глазами.
Шимкус обрусел окончательно, и звали его в Москве не Ионасом, а Иваном Ивановичем. И фамилия жены была Шимкус, а не как водится в Литве, — Шимкене, и Рита тоже была Шимкус, а не Шимкуте. Это резало слух, раздражало Альгиса.
Окончательно добивали Альгиса неоправданный оптимизм и всепрощение старика. Когда-то, до 1936 года, он был в Каунасе учителем литовского языка и литературы в гимназии, состоял в Руководстве подпольной коммунистической партии, очень немногочисленной тогда, так что на каждого коммуниста приходилось тогда по десятку полицейских сыщиков, денно и нощно не упускавших их из виду, но не чинивших им заметных неприятностей. Шимкус, как человек прогрессивный, был женат на еврейке, нынешней своей старушке Рахили Абрамовне, в те годы — белошвейке-модистке. И у них была годовалая дочь, названная прелестным литовским именем Рута, а потом уже в России ставшая Ритой.
Режим Сметоны долго не стал терпеть наличие кучки коммунистов в Литве. Начались аресты. Чем это грозило Шимкусу? От силы — одним-двумя годами тюрьмы. Но такая перспектива его не устраивала, и он перешел границу с ребенком на руках, бежал в Советский Союз, в объятия русских коммунистов, своих братьев по борьбе, ни на йоту не сомневаясь в радушном приеме.
Шел тридцать седьмой год. В Москве Шимкуса арестовали как иностранного шпиона, чрезвычайная тройка вынесла модный в ту пору приговор — расстрел, в камере-одиночке Бутырской тюрьмы он целый год ожидал рокового часа, от чего у него выпали волосы и голова стала голой, как яйцо. Потом, по необъяснимой причине, расстрел был заменен пожизненной каторгой, и в телячьем вагоне с сотнями подобных ему страдальцев он отправился в Магадан, сначала по железной дороге до Владивостока и дальше морем, в переполненном трюме, где живые лежали рядом с покойниками. Рахиль Абрамовна, как жена шпиона, была сослана на поселение в Казахстан, промаялась там до конца второй мировой войны, каким-то чудом смогла разыскать в уральском детском доме свою дочь Риту — десятилетнего подростка, забывшего своих родителей.
Только через двадцать лет, когда Шимкуса реабилитировали, семья собралась вместе, в тесной квартирке в Новых Черемушках.
Старик, когда рассказывал о своих мытарствах в лагерях, об избиениях и пытках на допросах в Лубянке, напоминал Альгису юродивого монаха, упивающегося своими язвами и страданиями и никого в них не винящего. Альгис как-то у него осторожно спросил:
— И у вас не осталось никакого чувства обиды? Ведь вам погубили двадцать лет жизни, лучшую пору. И кто? Свои же. Именем партии, за которую вы готовы были жизнь отдать. Вы сохранили прежнее отношение к партии?
— Безусловно, — как само собой разумеющееся подтвердил старик и при этом был искренен. — Поймите, дорогой Альгис. Партия для меня родная мать. Я это говорю не для красного словца. И вот представьте себе: вашу мать, которая вам дороже всех на свете, изнасиловали, обесчестили злодеи. Разве из-за этого вы перестанете любить ее, отвернетесь? Конечно же, нет!
Альгис был тоже коммунистом, но уже другого поколения. Без фанатизма Шимкуса, без его почти религиозной, исступленной веры. Он принимал, как должное, все партийные догмы, не обременяя себя попыткой анализа, регулярно скучал на партийных собраниях с сосредоточенным, как и у всех остальных, выражением лица, старался во-время платить членские взносы и при этом понимал, что все играют в одну игру, ставшую привычной и не вызывающей иронии. Но основные цели коммунизма были для него святыми, как и в дни юности, когда он с трепетом душевным принимал от секретаря свой партийный билет, ставший путеводителем в новом повороте его жизни. И когда он в стихах упоминал «сияющие вершины коммунизма», «лучезарный свет Октября» и тому подобное, он не кривил душой и не подделывался. Слова же Шимкуса, его безоглядная вера, невзирая ни на что, коробили Альгиса, и старик ему в такие минуты казался не вполне нормальным. Совсем неприятна Альгису была его простецкая манера во всем рубить правду-матку, поучать и наставлять, не задумываясь, как это воспринимает собеседник.
И тут Альгис докопался до причины того неприятного чувства, которое в тайниках души увозил он после посещения Москвы. Виноват был Шимкус. Это он, старый паук, выпучив на Альгиса рачьи водянистые глаза, с блаженненькой усмешкой на занявших губах всадил Альгису в сердце иглу..
— Понимаете, мой дорогой, в этом двухтомнике вся ваша поэтическая жизнь. От начала — юного, румяного и очень честного и до конца. А конец непригляден. Последние ваши работы словно другой человек писал. Не узнаю. Чем позже, тем хуже, И, все больше пустоты.
Альгис ничего не ответил. А Рахиль Абрамовна, разливавшая по чашкам чай, перехватила обиженный взгляд гостя и, будучи тактичней своего мужа, поспешно перевела разговор на другую тему.
Рита тоже была за столом. Одна опустила глаза и покраснела. Покраснела, как казалось тогда Альгису, за грубость отца. Ведь она любила Альгиса, и ей было больно видеть, как его унижают. И он не может ответить, потому что обидчик — ее отец. Но через день, у него в номере в гостинице «Украина», прижавшись голым телом к нему и тепло дыша в шею, она тихо сказала:
— Не обижайся на отца. Я с ним согласна. Альгис вздрогнул, как от укуса, ему захотелось ударить ее, выгнать в коридор, босую и голую, на позор, но он сдержался и только глубже затянулся дымом сигареты.
Собственно, кто такая Рита? Высокая и угловатая в отца, и жгучая брюнетка — по материнской линии. Носатая. Правда, с очень сочными припухшими губами и еврейскими скорбными глазами. Чем-то она нравилась Альгису и одновременно отталкивала, раздражала. Неумелая и стыдливая в постели, каждый раз напоминала она девчонку, впервые отдающуюся мужчине, и Альгис чувствовал себя с ней неутомимым юнцом. Но во всем остальном Рита была самостоятельной, даже чересчур, подчеркнуто независимой и в суждениях, и в поступках, и Альгис никогда не мог предугадать, чего от нее можно ожидать. Она не разделяла политических взглядов отца, хотя любила его по-своему, грубовато, покровительственно, как больного. Не боялась вслух громить все, что ей не нравилось. А не нравилось ей в советской жизни очень многое. И порой она ставила Альгиса в неловкое положение.
Так было, на банкете в ресторана Центрального Дома литераторов, где чествовали знаменитого московского поэта, и Рита, приглашенная туда Альгисом, с неприязненной ухмылкой, заметной всем за столом, слушала стихи, которые читал юбиляр, и когда он кончил под жидкие аплодисменты, сказала Альгису, да так громко, что слышали все:
— Бедненький. Как он страдает за вьетнамских детей! А сам не платит жене алименты и даже не интересуется, что жуют его собственные чада. Альгис в тот вечер решил больше Риту никуда не приглашать и как-нибудь вообще отделаться от нее. Легкая любовная интрижка, одна из многих, что заводил Альгис, приезжая в Москву, могла повредить его репутации, а это уже было слишком высокой ценой за несколько приятных часов в жестковатой постели гостиницы «Украина». Он поссорился с ней, провожая домой. Рита спокойно, с той же усмешкой, выслушала все гневные тирады и заключила:
— А тебе не кажется, милый, что ты так горячо вступаешь за обиженного мною юбиляра потому, что сам в чем-то недалек от него?
Альгис не попрощался и ушел, давая этим понять, что рвет с ней навсегда. А через два дня беспокойство охватило его, и он позвонил ей в институт, долго и невразумительно извинялся, и Рита смеялась в ответ и только повторяла таким теплым и дружеским тоном, что у него начинало щемить сердце от желания немедленно увидеть ее:
— Дурачок. Не болтай. Ведь ты — викинг. А викингу все прощается. Я приду.
— Когда? — нетерпеливо дышал в трубку Альгис.
— Хоть сейчас, — смеялась Рита. Вот только такси поймаю.
И через полчаса действительно приехала, и Альгис жадно, по-мальчишески целовал ее, мешая раздеваться, и она улыбалась доброй, такой нужной Альгису улыбкой, глубокие черные глаза ее туманились, и Альгис уже совершенно не владел собой, хотя за ним давно установилась репутация хладнокровного, уравновешенного любовника.
Вчера Альгис не смог встретиться с Ритой. Он был занят весь день, а после десяти часов вечера женщина не могла прийти к нему в гостиницу. Ее бы не пропустили дежурные по этажу. В целях борьбы с развратом, ханжи — блюстители морали во всех гостиницах ввели порядок, при котором весь день можно было творить, что угодно в номере, но ночью это категорически воспрещалось.
— А мы ночуем днем, — смеялась она, покидая с ним гостиницу за несколько минут до десяти, и даже раз показала дежурным язык.
Альгис не хотел уезжать, не повидавшись с Ритой, и договорился с ней пообедать на вокзале. Она обещала быть вовремя. И не пришла. Уже пора было идти к поезду. И он понял, что Рита не придет. Не придет проводить его, проститься. И не отсутствие времени было тому причиной. Она не явилась сознательно, демонстративно, подчеркнув этим окончательный разрыв.
Под потолком ресторана, над степями, тайгой и тропическими лесами, намалеванными в круглых медальонах, проносились ласточки — толстые, неуклюжие, как летучие мыши.
Альгис сунул официанту три рубля, извинился за то, что напрасно занимал столик, и пошел из ресторана рассерженный и голодный.
— Бог с ней, с Ритой, — думал он, пробираясь к выходу на перрон с вещами оттянувшими руки. Сама облегчила задачу. Не придется лгать, изворачиваться, чтоб смягчить разрыв, неминуемый, уже назревавший, как это бывало каждый раз, когда случайный роман затягивался. Обычно оставлял женщин он. Он совершал это элегантно, без грубости, находя пустяковый предлог и талантливо раздувая его до трагедии. Он покидал женщин с ощущением у них, что пострадавшей, безутешной стороной остался он, и они даже испытывали чувство неловкости перед ним. На сей раз оставили его. Впервые. И даже не удосужились прощальным обедом смягчить удар.
Он, Альгирдас Пожера, светский лев, кумир многих женщин Вильнюса и Москвы, начинал стареть, и болезненный щелчок, полученный от Риты, был напоминанием об этом.
К выходу на перрон по узкому туннелю густо текла разномастная толпа пассажиров, потная и бессмысленно-озлобленная, увешанная чемоданами и узлами, волоча за руки хнычущих, сдавленных со всех сторон, детей.
На перроне все это растекалось, словно развеянное морозным сквозняком с колючим снегом, и у дверей общих вагонов вырастали, извиваясь, нетерпеливые очереди. У купейного вагона народу было поменьше и совсем никого возле синего, мягкого вагона, того самого, где ему не досталось места. А кому же? Альгис ревниво шарил глазами по замерзшему перрону в поисках тех, кто выжил его из привычного мягкого в купейный вагон, кто имел на это право, а следовательно, был персоной, значительней его.
И увидел. Сначала шеренгу носильщиков в полотняных фартуках с бляхами, толкавших тележки с горами пестрых, пузатых, невиданных форм и размеров чемоданов. Заграничных чемоданов. Сомнений в этом быть не могло. Затем мохнатой, пушистой с стаей больших птиц появились владельцы багажа. В добротных шубах, теплых, не здешних шапках и разноцветных, мехом наружу, сапожках. Только женщины без единого мужчины. Но крупные, рослые, как мужчины. Добрая половина в очках на красных от мороза лицах. И ведомые женщиной. Русской, хоть и одетой, как иностранка. И в таких же очках. И в шубке не хуже. Гид из «Интуриста». Вышколенная, с уверенными, отработанными движениями, бабенка, в меру смазливая, в меру стройна. Строгая чопорность сквозит в ее взгляде, в каждом повороте головы. Она командует этой группой туристов и отвечает за них. Без суеты, привычно, как наседка свой выводок, стала она грузить меховые толстые шубы в мягкий вагон, повелительным тоном командуя ими и при этом непременно улыбаясь, как это принято в лучших туристских бюро мира.
Альгис сосредоточил свою ревнивую обиду на ней, а не на туристах. Эта бабенка со скуластым кукольным личиком, самоуверенная от данной ей власти, эдакий фельдфебель в юбке, одетый ладно, с иголочки, типичный продукт «Интуриста» (Альгис встречал их немало в своих поездках), почему-то сейчас раздражала его, словно она и только она была повинна в том, что он едет не в мягком, а купейном вагоне, и даже в том, что Рита не пришла проводить его.
Она покрикивала на морозе по-английски; ловкой и гладкой скороговоркой, без нижегородского акцента и в этом ощущалась хорошая выучка, новейшая школа эпохи возросших контактов с Западом. Альгис не знал английского. Он понимал совсем немножко и даже мог кое-что спросить на улице, когда бывал за границей.
— Это было все, то он постиг за несколько уроков перед первой поездкой на Запад. А дальше махнул рукой. Обычно ездил с переводчиком, который по совместительству был соглядатаем за ним, но зато освобождал его от всех хлопот, связанных с пребыванием в новом и непривычном месте.
В мягкий вагон садились американские туристки. Это стало ясно из обрывков фраз, долетавших до его ушей. Потом он насторожился, уловив нечто неожиданное. Явственно прозвучала литовская речь. Не чистая, а с чужим, американским акцентом. Но литовская. Родная и близкая, какой бы акцент ее ни окрашивал. И еще одна американка, смеясь, прокричала что-то из тамбура по-литовски. Сомнений быть не могло. Это ехали американские литовки. Ехали в Литву. Повидать бывшую родину, которую большая часть из них даже не знала, потому что родились уже за океаном от родителей, покинувших Литву.
Оттого, что они на чужбине не забыли родной язык, у Альгиса стало тепло на душе, даже исчезло раздражение, которое вначале вызвала у него гид из «Интуриста». Теперь он рассматривал ее дружелюбно, понимая, что в Вильнюсе обязательно придется столкнуться на банкете, как это бывало уже не раз. И этой бабенке суждено увезти из Литвы в Москву его портрет с автографом и стандартно-вежливой надписью по-русски и по-литовски.
Она стояла у дверей вагона, подсчитывая поднимавшихся по ступеням туристок, как цыплят. В коричневой короткой шубке, вязаной элегантной шапочке, но без сапожек, а в чулках и туфлях и потому постукивала ногой об ногу, чтоб не застыть. И начальство и лакей одновременно. Такова профессия. Унизительная и заманчивая. Заманчивая от того, что можно часто бывать за границей без туристской путевки и за казенный счет, покупать барахло, недоступное другим, на валюту, скупо отпускаемую в каждую поездку. Экономить, нa еде, буквально голодать, чтоб прилично одеться в недорогом магазине в Париже или Лондоне и потом пускать пыль в глаза своим соседям и знакомым в Москве.
У Альгиса был приятель, в Московском цирке — акробат. Он часто гастролировал в Европе и Америке и жаловался Альгису на свою профессию, при которой много добра домой не привезешь. Акробат не может ограничить свой рацион и урвать из денег, отпущенных на питание, что-нибудь для покупки вещей. Ослабнешь и полетишь с трапеции. Дороже обойдется. Зато, по его словам, процветали на гастролях дрессировщики. Им завидовали все циркачи. Те вообще не тратились на питание, а объедали своих зверей, пожирая их морковь, свеклу и даже овес. Уже, не говоря о мясе. Зверь бессловесный. Не напишет донос в партийную организацию. А дрессировщик, слегка отощав на половинке звериного пайка, везет домой из заграницы кучу добра, которому там цена — копейка, а в России — состояние.
Глядя, как она постукивает каблуком о каблуки с казенной веселостью на хорошем английском языке подбадривает, развлекает иностранок, в своих шубах и меховых сапогах грузно садящихся в вагон, Альгис подумал о том, что она, в сущности, несчастный человек, всегда на чужом пиру, лицезреет чужое богатство, недоступное ей, и пишет в КГБ рапорты, ничем не отличимые от доносов. Такова служба. Все эти девочки-гиды проходят специальное обучение, при поступлении на работу подписывают секретные обязательства, и им присваиваются соответственно офицерские звания. В мундире и в погонах КГБ их никогда не увидишь. Их лейтенантские звания фигурируют в ведомостях на получение заработной платы. Шпики с накрашенными губками, точеными ножками и сносным иностранным произношением.
Он пошел к своему вагону, где у подножек уже не было жидкой кучки пассажиров — успели погрузиться, пока он разглядывал туристок.
Еще была середина дня, а морозный воздух сгустился, как в сумерки, и по всему перрону горели круглые лампионы фонарей, серебря снежную пыль в конусах неяркого света.
Проводницу вагона, укутанную, в теплый платок поверх форменного берета, он спросил, как можно интимней, когда она, посвечивая фонариком, вертела в своих перчатках, с оторванными для удобства кончиками пальцев, его билет:
— Надеюсь, купе не забито до отказа?
— Одни поедете. До Вильнюса? Отметить нижнюю полку?
— Да, Пожалуйста.
— В Можайске никто не сядет — ваша удача.
— Спасибо. Я не останусь в долгу.
Окинув опытным глазом велюровое пальто и пыжиковую шапку на Альгисе, она посочувствовала:
— В мягком места не досталось? Все загранице… Едут и едут… Чего не видали? Будто Россия им цирк. В купе действительно было пусто, и от мягкого международного вагона оно отличалось лишь тем, что было рассчитано на четырех пассажиров, а не двух, и полки были деревянные, жесткие, покрытые сверху стеганым матрасом, застланным простынями и шерстяным одеялом. Если не подсадят соседей в Можайске, он до конца доедет один, в относительном комфорте и утром придет домой отдохнувшим.
Он раскрыл чемодан и со вкусом, испытывая удовольствие от этого занятия, стал располагаться в купе в расчете на почти суточное путешествие. Достал прелестный кожаный несессер, купленный в Канаде, электробритву «Филипс» — подарок одного литовского эмигранта в Аргентине. На стол легли изящная мыльница, французский одеколон, щеточки, ножички, пилочки и множество мелочей, без которых он прежде отлично обходился, а сейчас уже не мыслит, как можно жить без них.
Когда вагон, мягко качнувшись, поплыл вдоль фонарей перрона, Альгис уже полностью обжил свое купе и стал готовиться к обеду. Он основательно проголодался. Поездной вагон-ресторан никогда не блистал своей кухней, но в его положении это было последней возможностью утолить голод. Не всухомятку, каким-нибудь каменным бутербродом с колбасой и крутыми яйцами. А основательно. Горячий борщ, бифштекс или, на худой конец, рагу из баранины. И рюмку другую коньяку. С морозу. Для аппетита.
Поезда дальнего следования и, в первую очередь те, что отправлялись из Москвы, снабжались сравнительно неплохими продуктами. Лучше тех, что можно получить где-нибудь в городском ресторане. И причина этому одна: в поездах ездят иностранные туристы. Их не покормишь словесными утешениями вроде того, что, мол, в Советском Союзе временные затруднения с продовольствием уже давно стали постоянным фактором. Над этим можно посмеяться в своем кругу. А с иностранцами — шутки в сторону. Подавай жрать. Заодно перепадает и другим пассажирам поезда — советским. Красная икорка или черная. Многие уже не помнят, какой она вид имеет икра эта. А иностранные задницы думают, что русские только икру и лопают. Ложками. Столовыми. чай пьют из блюдечка на растопыренных пальцах. Обязательно из самовара.
Вот так-то. Леди энд джентльмены. Слепые, как котята. Возят их, как дурачков. С черной икры бросают на красную. С грузинского коньяка — на армянский. Обопьются, обожрутся. Кроме балета, ничего не увидят и едут к себе на Запад большими поклонниками социализма.
Он заменил свитер розовой мягкой рубашкой. Вместо галстука повязал на шее под расстегнутым воротом толстым узлом пестрый, в розовых пятнышках, шарфик. Этому он научился в Латинской Америке, и многие находили, что ему к лицу. Сбросил меховые ботинки и обул замшевые мокасины. Протер руки и лицо одеколоном, внимательно осмотрел себя во весь рост в зеркале на двери, проверил достаточно ли денег в кошельке и вышел, заперев за собой дверь. Поезд мчался на хорошей скорости мимо загородных дачных платформ, и серые домики, убегая назад, тонули под тяжелыми снеговыми шапками.
Проводница вагона, та, что проверяла при посадке билет, с одобрением окинула его элегантную фигуру и показала, в какую сторону идти к вагону-ресторану.
— Как бы народу там не подвалило, — сочувственно сказала она ему вслед. — Вам бы, как сели, сразу туда, чтоб место захватить.
О том, что в вагоне-ресторане не окажется свободных мест и уже будет переполнено через полчаса после отхода поезда, Альгису не хотелось думать. Ведь большинство пассажиров в отличие от него успели в Москве пообедать, благо, там дешевле, чем в поезде. Он пошел по вагонам, по гулким, холодным и грохочущим переходам, из тамбура в тамбур. Вагоны, вагоны. Плацкартные, без купе, самые дешевые, с обнаженной для постороннего глаза жизнью их обитателей, сразу забравшихся на двухэтажные жесткие полки, выставив в проход босые ноги или мокрые подметки оттаявших ботинок.
В последнем тамбуре перед вагоном-рестораном стояли у запертой двери несколько человек и возбужденно и негодующе галдели. Альгис сразу догадался, что проводница была права, и места в ресторане заняты все до единого.
— Да там половина мест свободных, — возмущался высокий военный с багровым, то ли с мороза, то ли от выпитой до обеда водки, лицом. — Пустили только туристов и перед носом двери захлопнули. Выходит, мы — второй сорт. Мы русские! Буржуи из Америки с нами рядом сидеть брезгуют. Аппетит испортят. Безобразие! Позвать старшего!
Он забарабанил кулаками в дверь, а толстый коротыш в белых мягких валенках, стоявший позади, пытался его урезонить:
— Напрасно, товарищ полковник, обижаетесь, И шумите зря. Я тоже не обедал. Но раз не открывают, значит, не положено. Дипломатия. Не все нам объяснить можно.
— Иди отсюда, дипломат! — огрызнулся, не оборачиваясь, военный. — Я жрать хочу, понял? И не позволю, чтоб в своем отечестве меня, заслуженного человека, держали за дверью из-за каких-то заморских шлюх. В тебе русской гордости нету! И сам, должно быть, не русский. Так не бубни под руку!
Коротыш в валенках был широколиц и узкоглаз. Явно не русский. Из азиатов. Высокомерный тон русского полковника, не скрывавшего своей неприязни к домашним инородцам, покоробил Альгиса. Он хотел было уйти, предпочитая остаться голодным, чем подвергаться оскорбительной насмешке этого шовиниста, способного на все на голодный желудок, разогретый водкой. Нерусское происхождение Альгиса не останется для него загадкой, стоит тому только раскрыть рот. Но полковник неистово барабанил кулаками, и дверь распахнулась. Тучный, с сальным армянским лицом шеф ресторана стоял в проеме двери в свежей белой куртке, не сходящейся на животе и завидев багрового от гнева полковника, расплылся в умоляющей сладкой улыбке. За его плечом сверкнули большие заграничные очки и высокая глянцевитая, словно склеенная лаком, модная прическа гида «Интуриста». Она отодвинула в сторону испуганно-заискивающего шефа и вышла к полковнику высокой грудью под белоснежной кофточкой и строгим, привыкшим повелевать взглядом за стеклами очков.
— Полковник, немедленно уйдите отсюда, сказала она тихо, но с металлическими нотками в голосе. — Вы мешаете нам работать. — Она подчеркнула слово «нам». — Больше повторять не стану. С вами поговорят в другом месте.
Толстый коротыш в белых валенках задом выполз из тамбура. За ним последовали остальные. Остались только Альгис и полковник. Альгиса эта сцена рассмешила, ему хотелось увидеть, как поведет себя бравый полковник, перед этой крепенькой и строгой дамочкой из «Интуриста». Вернее, из КГБ. Неужели испугается ее полковник?
— Я жду, — нетерпеливо сказала она. Багровая шея полковника стала белеть. Он задом отступил на шаг, сплюнул на пол у ее ног и, резко повернувшись, выскочил из тамбура, со стуком хлопнув за собой дверью.
Альгис громко рассмеялся. Он испытал непонятное удовлетворение, что этот русский полковник, у себя дома был унижен, даже припугнут. И из-за кого? Из-за литовок. Тех самых литовок, каких этот русак два десятка лет назад за людей не считал, когда покорял Литву огнем и мечом. Правда, это были литовки из Америки и их охраняла, как цербер, русский гид. Она вскинула на Альгиса свои круглые глаза, и тонкие бровки приподнялись над краем модных стекол без оправы. Ноздри коротенького, в слое розовой пудры, носика затрепетали и широко растянулись в улыбке излишне накрашенные тонкие губы.
— Вы кто товарищ? — уже не строго спросила она и с затаенным бабьим восхищением, так знакомым Альгису, посмотрела ему прямо в глаза.
— Я такой же литовец, как и те женщины в ресторане.
— Вы иностранец? — удивилась она.
— Нет, советский гражданин. Умирающий с голода.
— Ну, не похоже, чтоб вы скоро умерли, скользнула она глазами по его атлетической фигуре. — К сожалению, туда нельзя. Впрочем, я могу вам принести что-нибудь из буфета.
— О, спасибо. Но смею вас уверить, вы напрасно меня не приглашаете зайти в ресторан.
— Почему напрасно? Я действую по инструкции.
— А что такое инструкция? — Альгис почему-то стал находить удовлетворение в болтовне в этой «интуристовской» дамочкой, и ему захотелось подразнить ее, заставить напрячь не слишком крепкие мозги. Нужно проявлять инициативу. Ситуация меняется каждую минуту, инструкция за ней не поспевает.
— К чему вы клоните? — она поморщила невысокий чистый лобик, с обеих сторон обложенный лакированными локонами. Барственный, уверенный тон Альгиса, его импозантная спортивная фигура и мужественное холеное лицо внушало ей почтение и даже робость.
— Я — поэт, — сказал он. — Лауреат. Неужели вам мое лицо не знакомо по газетам?
— Извините, — растерялась она. — Я припоминаю… где-то видела… Вы не назовете ваше имя?
— Альгирдас Пожера. Уверяю вас, эти американские литовки, что сейчас аппетитно едят в ресторане, знают мое творчество. В Америке мое имя хорошо известно в литовских кругах. Но они не подозревают, что их любимый поэт и национальная гордость стоит голодный перед закрытой дверью ресторана.
Она вдруг рассмеялась, и под слоем розовой пудры на щеках проступил румянец.
— У меня есть идея. Я вас приглашаю обедать с туристами, а вы с ними побеседуете за столом. Ответите на вопросы. Идет?
— Согласен. Но…
— Я надеюсь, вы знаете, как надо отвечать?
— Знаю, знаю, = снисходительно улыбнулся он. — Не первый раз.
— Отлично. Только извините… по долгу службы… я была бы вам признательна… если б вы мне показали ваши документы.
— И все это ради обеда?
— Нет, для первого знакомства, — рассмеялась она. — Меня зовут Тамара. Тамара Георгиевна. — Она протянула ему лодочкой руку, и когда он, пожав, не сразу выпустил ее, зарделась и даже потупила взор.
— Пойдемте. Не надо документов. Английским владеете?
— Нет.
— А как же будете объясняться?
— На родном языке. Они ведь литовки.
— Ах да, я совсем забыла. Вы — член партии?
— Разумеется, Тамара. Еще несколько вопросов, и я уже буду бывшим коммунистом, скончавшимся от истощения. И вы будете повинны в моей негеройской гибели.
Она заглянула ему в глаза мягко, по-женски и, казалось, сейчас доверчиво и покорно положит ему ладошки на грудь. Альгис знал этот взгляд, как сигнал полной капитуляции перед его мужским обаянием.
— Пойдемте, я представлю вас, товарищ Пожера. — Она обернулась к скромно дожидавшемуся их, сложив пухлые ручки на животе, шефу-армянину: — Еще один прибор. За мой столик. Запишите в общий счет. Двери больше не открывать.
— Милости просим, дорогой товарищ, — грациозно, как балерина, показал обеими пухлыми руками направление шеф и посмотрел на Альгиса томным взглядом черных, как маслины, глаз. — Вы будете один мужчина на весь ресторан. Как в букете роз. Они пошли по узкому проходу мимо кухни, откуда несло острыми раздражающими запахами. Она впереди, покачивая бедрами под туго натянутой юбкой, а он — чуть позади, слегка напрягшийся, как бывало перед публичными выступлениями, и уже недовольный тем, что согласился превратить обед в пресс-конференцию, на которой придется говорить избитые банальности под строгим оком дуры из «Интуриста» и не замечать, что ешь. Слава Богу, она литовского не знает, а то пришлось бы взвешивать каждое слово, как на допросе.
— Кстати, товарищ Пожера, — сказала она, не оборачиваясь, и словно угадав его мысли. — Я литовского не знаю, а мне бы не хотелось быть лишней при беседе. Вы переведете мне… в общих чертах? Альгис не ответил, сдержался, чтоб не выдать тоном закипающего в нем раздражения.
Вагон-ресторан был разделен посредине ковровой дорожкой на два длинных ряда столиков. Американки, как дети, занимали левый ряд. Правый пустовал. И только где-то на среднем столике сиротливо виднелся один-единственный прибор с дымящейся тарелкой чего-то красного. Должно быть, борща. Это было место Тамары. Как наблюдательный пункт, откуда было удобно обозревать всех своих подопечных, отвечать каждой, в каком бы конце ресторана она ни сидела.
Пока Тамара торжественно, вкусно выговаривая английские слова, представляла обедающим Альгиса, официант проворно ставил второй прибор в пустом ряду рядом с тамариным
— Дорогие дамы. Позвольте представить вам совершенно случайно оказавшегося с нами в одном поезде необычайно интересного вам человека — гордость современной литовской советской литературы, лауреата Государственной премии товарища… — она сделала неловкую паузу и, лишь скосив глаза на Альгиса, углом губ спросила по-русски свистящим шепотом, повторите ваше имя.
— Пожера… Альгирдас… — также шепотом и чувствуя, что краснеет при этом, повторил, как школяр Альгис, разглядывая устремленные на него молодые и старые, но все с каким-то единым литовским обликом, лица американских туристок.
— Альгирдаса Пожеру! — громко, как в цирке, возвестила Тамара, и Альгис с ужасом подумал, что она их вынудит этим возгласом на цирковые аплодисменты.
Но, к счастью, все обошлось. Ему лишь вежливо заулыбались, засверкали очками. Больше половины женщин было в очках, в оправах самых замысловатых форм и оттенков. И Альгис почему-то подумал, что за границей слишком много людей страдает недостатками зрения, значительно больше, чем в Советском Союзе. Если судить по количеству людей, пользующихся очками. Правда, его вильнюсский приятель, врач-окулист, имел свое мнение относительно этого преимущества советского образа жизни. Он считал, что у нас так мало людей в очках не потому, что у остальных здоровое зрение, а из-за отсутствия регулярных профилактических осмотров населения.
Появление Альгирдаса Пожеры в ресторане не вызвало сенсации у американских литовок. Они доброжелательно и с любопытством рассматривали его, пока он раскланивался, словно на сцене, и продолжали есть, вполголоса переговариваясь.
Тамара подвела Альгиса к своему столику. В его тарелке уже тоже дымился красный борщ. Он положил на колени салфетку, взял хлеб из тарелки посреди стола и стал есть, отведя глаза на пустой ряд, в конце которого у кухни стоял шеф в белой, не сходящейся на животе, куртке, с полотенцем, перекинутым через руку, и своими черными оплывшими глазами с удовлетворением обозревал склоненные к тарелкам головы и жующие рты.
Тамара толстым слоем накладывала ложкой икру на хлеб и глубоко откусывала, ощерившись, чтоб не смазать краску с губ. У нее была неприятная, плебейская манера есть и при этом разговаривать с набитым ртом.
— Не люблю такие группы, доверительно пожаловалась она Альгису. — Они же, кроме английского еще и на своем тарабарском языке лопочут. А я, как дура. Стой и хлопай глазами. Может, смеются надо мной или какую гадость про нашу страну говорят. Они же все нас, русских, ненавидят.
Тамара забыла, что Альгис тоже не русский, а литовец, и делилась с ним, как со своим человеком, ища сочувствия. В этот момент она поразительно напоминала полковника, тщетно прорывавшегося в ресторан. Тот же шовинизм. Высокомерный, брезгливый. В лучшем случае — покровительственный.
Альгис весьма часто сталкивался с этим даже в среде интеллигентной, чуждающейся официального квасного патриотизма. И даже такие люди, всесторонне образованные, говоря о Прибалтике, путали Латвию с Литвой, а Литву с Эстонией и почти никогда не могли уверенно сказать, какой город является столицей любой из этих республик. Это был тот особый род шовинизма, завуалированного, покровительственного и полупрезрительного.
— Но, слава Богу, мне с ними недолго возиться, — оттопырив губы, кусала бутерброд с икрой Тамара. — В Вильнюсе сдам их литовскому «Интуристу», а сама домой.
Альгис увидел, как в другом ряду, где обедали туристки, поднялась высокая, плотно обтянутая синим свитером, совсем молоденькая девушка и, улыбаясь до ушей, как это умеют только американцы, направилась к ним, мотая широченными, по последней моде штанинами, вязаных брюк.
На фарфоровом личике Тамары появилась недовольная гримаска, но она тотчас же смахнула ее заученной служебной улыбкой.
— Здравствуйте, мистер Пожера, американка протянула ему руку и Альгис заметил, что ее светлые, подведенные синевой глаза немного косят и от этого она была очень женственной и миловидной. — Я ваша давняя поклонница. Я слышала вас в Питсбурге два года назад. Не правда ли?
— Верно, верно, — закивал Альгис, подставляя ей стул и жестом приглашая сесть. — Я был в Америке. И в Питсбурге выступал.
Они оба говорили по-литовски, и лицо у Тамары стало непроницаемым. Она злилась. Это чувствовалось по остервенению, с каким она кусала свой бутерброд, безразлично устремив глаза поверх их голов.
— Я так рада встретить вас. Ведь я пишу докторат по литовской поэзии советского периода. В университете Сан-Диего. Все, что было в американских библиотеках из написанного вами, я читала. В подлиннике. Мой литовский не очень режет слух? Не правда ли? Я американка в третьем поколении. Джоан Мэйдж. Уже мой отец был Мэйдж, а дедушка — Мажейка. Я знаю, это очень распространенная в Литве фамилия. Как в Америке Смит. Возможно, встречу родственников. Не правда ли?
Она говорила с каким-то округлым и смешным акцентом, будто перекатывала во рту горячую картофелину. Смотрела на Альгиса своими косящими серыми глазами без жеманства и как-то очень открыто, и это сразу расположило его к ней.
Я вас не стесню, мистер Пожера, если попрошу мой обед подать сюда, чтоб иметь возможность поговорить в непринужденной обстановке? Ведь неизвестно, будет ли еще такой случай, не правда ли? А спросить хочется очень много. Не знаю, с чего начать. Не хочу начинать с комплиментов, но, на мой взгляд, вы сегодня в литовской литературе — звезда первой величины. Если можно попросите официанта, он английского не знает, перенести сюда мой прибор.
Альгис искренне обрадовался тому, что она будет обедать с ним. Озорно подмигнув, подозвал официанта и велел все подать к этому столу. Не спросив согласия Тамары, а попросту забыв о ней. Но стоило официанту все перетащить сюда, как из-за другого столика поднялась дородная, в очках с толстыми линзами, туристка и на вытянутых руках, смеясь и притворно вскрикивая, понесла свою тарелку с борщом к их столу, села рядом с Джоан и на хорошем литовском представилась густым басом. Она была школьной учительницей из Чикаго и в воскресной школе для детей выходцев из Литвы вела уроки языка и литературы. Еще несколько туристок со своими тарелками перебрались за соседние столики. Тогда поднялась со своего места Тамара и захлопала в ладоши, призывая к тишине.
— Дорогие друзья! — сказала она по-английски. Я понимаю ваш интерес к известному литовскому поэту. Но чтоб не утруждать нашего гостя излишними вопросами, я предлагаю определенный порядок. Кто желает, задает вопрос мне, я перевожу мистеру Пожере, а он вам отвечает. Так мы сэкономим время и узнаем много интересного и полезного. Итак, какие будут вопросы?
— Женат ли мистер Пожера и сколько у него детей?
Тамара перевела ему вопрос и сочувственно, словно оправдываясь, сказала:
— Вот такие они все. Ничего серьезного.
Альгис с улыбкой ответил, что он женат и у него двое детей. Даже достал из кармана фотографию жены с детьми, и карточка пошла по столам, из рук в руки, сопровождаемая восклицаниями и шумными одобрительными комментариями. Тамара тоже мельком глянула на фотографию, возвращая ее Альгису, и спросила:
— Блондинка?
Альгис не ответил.
Вопросы посыпались со всех столиков. Ему пришлось рассказывать, в каком доме он живет, собственном или наемном, и в связи с этим объяснить, что такое кооперативная квартира и сколько она стоит. Цена показалась американкам невысокой. Но зато, когда он, приврав на одну больше, сказал, что живет в пяти комнатах, это не произвело на них никакого впечатления. И автомобиль «Волга» в собственном гараже никого не удивил. Правда, Джоан заметила, что в Америке известно, как дорого и как нелегко купить в Советском Союзе автомобиль. Тамара коршуном кинулась на нее, заявив, что это все враждебная пропаганда и не соответствует действительности. У нее, мол, тоже есть автомобиль и у официанта, который их обслуживает, тоже имеется. Он незадолго до этого ей сказал.
Бесцеремонность Тамары окончательно рассердила Альгиса. Он обратился к литовкам на литовском языке и попросил задавать вопросы ему без переводчика.
— Тогда давайте установим порядок, — попросила всех Джоан. — Каждая задает по одному вопросу. В противном случае мы замучим мистера Пожеру, и он о нас будет плохо думать. Не правда ли? Первый вопрос мой. Скажите, мистер Пожера, насколько правильна наша информация о том, что в СССР нет свободы слова, и деятели культуры выражают не свои мысли, а то, что им указывает партия коммунистов. И при этом мило улыбнулась, скосив свои серые глазки так, будто сказала Альгису нечто весьма приятное.
Вопрос был не нов. И иностранные делегации, посещавшие СССР, обязательно задавали его, и сам Альгис, когда выезжал за границу, на каждом митинге, пресс-конференции или даже частной встрече у кого-нибудь дома слышал все тот же назойливый вопрос. И ему казалось нелепым, что умные, седовласые люди задают его с таким невинным видом, будто сами не знают, что не может быть никакой свободы при диктатуре, тоталитарном режиме. А возможно, им всякий раз доставляло садистское удовольствие заставлять его изворачиваться, лгать, не краснея, нести околесицу, набившую всем оскомину. И никто из них, людей действительно свободного мира, где можно безбоязненно трепаться о чем угодно, никто ни разу не пощадил его, как это бывает у порядочных людей при виде противника, не способного к сопротивлению.
Каждый раз Альгис принимал сосредоточенный задумчивый вид и врал. Умело, вкусно, хорошо поставленным голосом. Доказывал, что черное — это белое и наоборот. Нагло, не смущаясь. Принимая законы этой игры и издеваясь над своими слушателями так же, как они над ним.
И на сей раз в вагоне-ресторане, с отеческой улыбкой глядя в косящие глазки Джоан, он говорил о том, что только социализм дает подлинную свободу художнику. Никто не оказывает на него давления. Никто, в отличие от Запада, не может купить его совесть: Советский художник творит по велению своего сердца. А так как он коммунист, то сердце его принадлежит партии. Выполняя партийный заказ, он осуществляет величайшую свободу творчества, то есть — волю своего сердца.
Доброжелательно внимавшие ему туристки, в основном дамы, весьма далекие от искусства, ничего, не поняли из его сложного построения, но на всякий случай согласно закивали, не желая прослыть в его глазах профанами. Лишь Джоан, отведя глаза, тихо сказала:
Вы меня не убедили. На нее зашикали сразу несколько американок постарше, а одна с укором заметила:
— Мистер Пожера, мисс Мэйдж, беседует со всеми нами. И мы ему очень признательны за любезное согласие. Ваше замечание граничит с бестактностью. Она сказала это по-английски и дала повод вмешаться Тамаре.
Господа, — нервно вскочила она с места, — мы не даем спокойно поесть нашему гостю. Я предлагаю отложить беседу до приезда в Вильнюс. Там у нас будут условия для такой интересной беседы.
— Тамара! — по-русски прикрикнул на нее Альгис, и его раздраженный голос насторожил всех в вагоне. Вы недостаточны умны, чтоб давать мне указания, как вести себя с иностранцами. У меня больше опыта, чем у вас и еще ни разу я не допускал оплошностей. У вас же они в каждом слове. Подобным поведением вы компрометируете не себя, а страну, которую по недоразумению представляете. Вам ясно? Умолкните, прошу вас. Если дорожите службой.
У Тамары под пудрой проступил густой и неровный румянец, ноздри побелели, а губы сжались тонким червячком. Но холодный безжалостный взгляд серых глаз Альгиса, устремленных на нее в упор, заставил ее сникнуть, опустить голову и сделать вид, что она ест и больше ничем не интересуется:
Американки — свидетельницы этого поединка получили несомненное удовольствие. И больше всех Джоан. Хотя не поняли ни одного слова в резкой отповеди Альгиса.
Тамара больше не мешала разговору. Альгис, отвечая американкам, рассказывал об экономическом подъеме в Литве, приводил цифры роста промышленности, числа студентов, женщин, занявших видное положение в общественной жизни. Все это он знал наизусть со времени своей первой поездки за границу, когда готовился всерьез и заучил множество статистических данных.
Эти цифры не были вымышленными. Но они не давали правдивой картины жизни Литвы, а лишь одну сторону, весьма выгодную для демонстрации. А вот подлинная жизнь с ее страстями и драмами, действительная судьба Литвы, страны очень сложной и трагичной, будет тщательно закрыта от них стараниями мощного и бдительного аппарата, одним из мелких винтиков которого была недалекая Тамара. Да и сам он. Разве не уводил он их своей гладкой и доверительной болтовней от правды, познать хоть частицу которой приехали они из такой заокеанской дали, уплатив немало долларов, хотя многих из них богатыми не назовешь.
С другой стороны, зачем открывать им правду? Чтоб насыпали соли на наши раны? Заулюлюкали, залаяли в эфире и прессе? А что толку? Кому от этого станет легче? Литве? Литовцам, которых так мало осталось на родине? Еще один бунт вызвать? Толкнуть народ на самоубийство?
Нет, пусть это делает кто угодно, но не он, Альгирдас Пожера. Он любит свой народ. Больше, чем многие записные доброжелатели. Он — певец своего народа, Признанный народом. И не будет тыкать носом в черное. Потому, что он видит перспективу и туда, к свету, к счастью, будет указывать людям путь. Нелегкий путь. Через муки и кровь. Новое всегда рождается в муках.
Но вот задала вопрос Джоан. И все стихли, потому что сами не решились об этом спросить. Она повторила вопрос по-английски, чтоб и Тамара знала, о чем она спрашивает. Тамара с ехидным прищуром из-под очков уставилась на Альгиса: а ну-ка, посмотрим, как ты выпутаешься?
Джоан задела больной нерв, глубоко и тщательно скрываемый от заграницы.
— Ответьте, пожалуйста, мистер Пожера, на один вопрос. Но если по какой-либо причине вас затруднит ответ, я не буду настаивать. В последнее время в западной прессе, особенно в газетах прибалтийских эмигрантов, появляются какие-то устрашающие сообщения о том, что случилось в Литве сразу после второй мировой войны. Будто бы русские, чтоб усмирить Литву, заставить ее покориться после потери независимости совершали массовые убийства на манер тех, что французы допустили в Алжире примерно в ту же пору. Насколько эти слухи соответствуют действительности? Если я не ошибаюсь, мистер Пожера, в те годы вы уже были взрослым и делали первые шаги в литературе. Ваши стихи, датированные тем временем, посвящены классовой борьбе, мужеству коммунистов. Следовательно, они в какой-то мере должны были отразить те события, если все это не клевета врагов? Вы в те годы писали о литовских девушках, с гордо поднятой головой, идущих на смерть. Это было после войны, в мирное время. Против кого они шли и кто угрожал им смертью?
Слушая этот длинный, бесконечный вопрос, Альгис машинально кивал. Ни Джоан, ни эмигрантская пресса не знали и толики правды. Все было настолько страшней, что рассказывать об этом сейчас, спустя двадцать лет, бередить еле зажившие раны, было жестоко и бессердечно. Альгис знал много, слишком много, чтоб выкладывать им, благополучным американским дамочкам, глубокую боль несчастной великомученицы — Литвы.
В Литве тогда шла война. Необъявленная и в исторических летописях неотмеченная. Жестокая, бескомпромиссная, порой принимавшая неслыханно изуверские формы. Война велась без всяких правил и потому была особенно бесчеловечна. Пленных не брали обе стороны, а если кто и попадал живым, то дышал лишь день-другой, пока из него выбивали нужные сведения. Потом зарывали, как падаль, без креста, без какой-нибудь отметины.
Горела, истекала кровью маленькая крошечная Литва. И это длилось много лет после второй мировой войны, когда вся планета приходила в себя, залечивала раны и рвалась к удовольствию мирной жизни, как всегда бывает после большого кровопускания. И никто — ни на Западе, ни в России — не знал, что в Литве льется кровь на каждом шагу, и потери этого маленького народа затмили то, что унесла у него мировая война. Численность населения катастрофически, заметно для глаза, падала, с каждым месяцем угрожая полностью вычеркнуть литовцев из списка наций. Жалкие сведения доходили из Литвы, оцепленной русскими войсками, закрытой для иностранцев (да и жителям России нужны были пропуска, чтоб приехать туда). Эти слухи не принимались на веру, от них отмахивались, как всегда бывает, когда хотят сохранить душевный покой, не добавлять к своим бедам еще чужие.
Тем более, что в московских газетах Литва рисовалась чудным краем озер и янтаря, оттуда привозили невиданные в России копченые окорока, вкусные сыры, розовое сало толщиной в пять пальцев, и уже тогда начинали входить в моду литовские курорты Паланга и Друскеники. В Москве выступали литовские ансамбли, и парни и девушки, краснощекие, светловолосые, высокие и стройные, как на подбор, изумляли москвичей вихрем народных плясок, узорами и покроем невиданных доселе национальных костюмов.
Даже в Литве, в местной печати ни словом не упоминалось об этой войне. Говорилось о классовой борьбе, о создании колхозов, о сопротивлении кулаков, и это был привычный стандарт, за которым не угадывалась действительность. Улыбались со страниц газет знатные литовские доярки, свинарки, трактористы, но улыбка их оставалась на газетном листе. Портрет в газете, похвальная статья о человеке были приговором, который обжалованию не подлежит. Лесные братья находили этого человека, где бы он ни скрывался, и приговор был один — смерть. Многих, о ком писал в газете Альгис Пожера, постигла эта участь. В их числе и Броне Диджене. Она была на его совести. За смерть активиста мстила советская власть, хватали всех, кто жил в этой волости, и угоняли эшелонами в Сибирь, а кто пытался спастись, стреляли на месте и не давали родне хоронить.
В конце сороковых годов Литва была советской Вандеей. Одна дралась, не сдаваясь, без надежды на успех. И истекала кровью, потому что кровь маленького народа не бесконечна и имеет предел. Никто до сих пор не подсчитал, сколько тысяч убито, и кто остался в холодной сибирской земле.
Сталин действовал по принципу: цель оправдывал г средства. И потому, чтоб подсечь корни национального сопротивления, невиданного доселе и угрожающего примером остальным народам, приказал ликвидировать его питательную среду, то есть, народ. В каждом месте, где вспыхивали бои, население выселялось в Сибирь, все подряд, от стариков до грудных детей. Тысячи хуторов стояли пустыми, с заколоченными окнами. Поля кругом зарастали кустами, и одичавшие кошки бродили по безлюдному запустению. В Красноярский край, к берегам Енисея, уходили из Литвы бесконечные маршруты товарных поездов набитых, как скотом, людьми. Там их ждал мороз, голод и смерть. Угоняли в Сибирь так много, что в Литве Красноярский край стал называться Малой Литвой Мажойи Лиетува.
В этой резне Альгис был на стороне сильных, на стороне оккупантов. Не потому, что он не любил свой народ, но как раз — наоборот. Он, а таких было тоже немало в Литве, из любви к народу готов был его истребить. Он верил, без тени сомнения, что путь коммунизма единственно верный, и никакие жертвы не могут и не должны остановить его победное шествие. Но народ, его народ, умирал, не желая идти этим путем, ненавидя своих русских поводырей, и Альгис страдал, пытаясь понять упрямство своих соплеменников невольно восхищаясь их мужеством и героизмом, таким массовым, каким не мог бы похвастать, другой народ.
Героизма было столько, что он на много лет стал обычным явлением, нормой жизни. Героизм тысяч одиночек, который никогда не будет воспет. Героизм коммунистов, не думавших о страхе, когда забирались в глухие хутора, каждую ночь меняя ночлег, засыпая с пистолетом под подушкой и умирая от пули в затылок или от топора в лоб. Героизм их врагов — лесных братьев, гонимых по чащам, как затравленные звери, и находящих свою смерть от гранаты в лесном бункере под корнями вековых сосен. Такие бункера, завалившиеся от взрывов, становились их братскими могилами.
Теперь у Альгиса часто бывают сердечные боли. Внезапный приступ. Еще не инфаркт, а сосущая, ноющая боль. Это отдается сердечной спазмой его молодость, страшная, обугленная, какой бы он сейчас и своему врагу не пожелал.
Глубокой занозой сидит в его сердце память о том времени.
Глядя на ждущие его ответа лица американских литовок, он среди множества жертв той поры в первую очередь видит женщин. Они гибли наравне с мужчинами. Не уступая им в храбрости.
И проступают три женских лица. Все красивые литовской неяркой красотой. Молодые и скорбные. будто ведающие, на что обречены. Ох, рассказать бы вам хоть бы эти три истории.
Уездное начальство могло быть довольным — раньше всех в Литве здесь удалось водворить порядок. Уезд славился своими черноземами. Литовская Украина — так писали о нем в газетах. Крестьянин тут был крепкий, зажиточный, не чета соседям. Каменные дома под железными крышами стояли среди свекловичных полей, как помещичьи усадьбы, окруженные садами и пчелиными пасеками. А лесов было мало, отдельными островками врезались они в раздолье тучной черной земли, и ничто тут не напоминало привычный литовский пейзаж.
Все это облегчало задачу начальству. С богатым мужиком не церемонились — пять эшелонов ушло из уезда в Сибирь, сразу обезлюдив его и присмирив. А банды, залетавшие из чужих лесов, не могли здесь разгуляться. В жидких рощицах не укроешься от погони, хутора стоят пустые, заколоченные, некому приютить на ночь, накормить, дать верного проводника. В уезд, помимо своего гарнизона истребителей, прибыл русский полк, регулярная армия с тяжелым оружием и дисциплиной. Начались облавы по всем правилам военной науки — дороги блокировали, лесочки окружили, прочесав каждую пядь, специально натасканные собаки-ищейки выводили солдат к самым хитро упрятанным бункерам, туда спускали в люки для воздуха парочку противотанковых гранат, взрыв выворачивал деревья с корнями, а солдаты шли дальше, даже не посмотрев, что сталось с обитателями подземного убежища. Почистили и городишко — вывезли сотни семей по списку, а в их дома и пустые усадьбы поселили проверенных людей, голоштанную братию — новоселов из других, победнее, уездов, где земли было мало и в сравнение не шла со здешней — одни пески.
Уезд первым рапортовал о стопроцентной коллективизации, во всех деревнях созданы колхозы, во-время и на высоком уровне проведен весенний сев. Правда, каждого сеяльщика охранял солдат с автоматом, чтоб не сбежал со страху или не подстрелили его из кустов. Но об этом в рапортах не писалось.
Для начальства наступила пора пожинать плоды своих нелегких трудов. Уезд не только усмирен. Еще одно достижение самого деликатного свойства венчало полный триумф.
В местной гимназии удалось создать танцевальную группу. Да такого высокого класса, как профессионалы. Для них не поскупились, заказали яркие национальные костюмы, клумпы[1] из лучшего дерева, канклес[2] на целый оркестр и послали в Вильнюс на республиканский смотр. Первое место и все призы привезли домой танцоры.
Из других уездов, где люди боялись из дома нос высунуть, ничего не смогли наскрести, а этот уезд продемонстрировал полный расцвет культуры — национальной по форме, социалистической по содержанию. Начальство предвкушало награды: ордена и грамоты. Составлялись списки, и одной из первых, сразу вслед за начальством, записали Генуте Урбонайте — учительницу гимназии, ту, что сотворила чудо, обучила танцоров и довела их до победы. Генуте не была комсомолкой, не лезла в активисты, но сделала такое полезное дело, что сейчас не знали, как ее обласкать. Да еще, и это совсем немаловажно, Генуте Урбонайте была писаной красавицей, какая, если уж встречается в Литве, то нигде подобной не найдешь. Ее портрет в литовском национальном костюме был помещен на обложке столичного журнала, и провели бы тогда в Литве конкурс красоты, ей бесспорно дали бы титул «Мисс Литва».
Начальство — народ немолодой, затурканный делами, связанный партийной дисциплиной и женами да детьми, при виде Генуте молодело, непривычно суетилось и вспоминало, что они тоже мужчины, а век короток и кто знает, что ждет впереди.
На Генуте облизывались, делали осторожные намеки в своих кабинетах, когда оставались с ней с глазу на глаз, сулили золотые горы и первый секретарь комитета партии, и председатель уездного исполкома, и начальник отдела государственной безопасности, и гроза всего уезда — начальник местного МВД.
А она только смеялась в ответ, открывая белые влажные зубы, невинно глядя своими большими серыми глазами, как бы и не понимая намеков, но и оставляя какую-то надежду.
Поэтому, когда у Генуте был день рождения и каждый из них в отдельности получил от нее приглашение прийти, посидеть вечерком, жены всего начальства были извещены мужьями, что предстоит важное заседание и пусть не ждут их до утра.
Жены не дождались своих мужей ни утром, ни днем. Только назавтра были найдены все четверо руководителей уезда в маленькой квартирке гимназической учительницы. Под столом с остывшей едой и недопитыми бокалами лежали четыре трупа, прошитые автоматными очередями. Красавицы Генуте Урбонайте и след простыл.
Это был сильнейший удар литовского подполья и нанесен он был в единственном усмиренном уезде, где советская власть торжествовала полную победу. За потерю бдительности и морально-бытовое разложение убитых похоронили без всяких почестей, и даже их жены в обиде за измену не пришли проводить их в последний путь. В уезд снова ввели войска, патрули перекрыли дороги, началось прочесывание лесов, и он стал таким же, как все остальные уезды в Литве.
Долго не могли напасть на след Генуте Урбонайте Подвел ее портрет на обложке журнала. Кто-то опознал ее на улице и привел солдат в квартирку на каунасской окраине, где она полгода укрывалась. Судить ее привезли в уезд, на место преступления. Военный трибунал на закрытом заседании приговорил Генуте Урбонайте к смертной казни через повешение и постановил экзекуцию провести публично, на площади городка в воскресенье, чтоб все население уезда присутствовало при казни.
Альгис приехал туда в субботу вечером по заданию газеты и не без труда получил разрешение повидать приговоренную.
— Правильно, — сказал майор, кому поручено был провести казнь, — потолкуй с ней. И напишешь отчет. Нам надо знать психологию врага.
Майор был низенького роста, в широких синих галифе, и говорил он будничным скучным голосом:
— Будь осторожен с ней. Стерва опасная. Четыре мужиков уложила. Не шутка.
Старшина с калмыцким, нерусским лицом пришел проводить Альгиса, накинув на плечи шинель. Была середина ноября, и холод по ночам давал о себе знать. Лужи на каменной мостовой стянуло пленкой стрельчатого льда, и он сухо трещал под яловыми сапогами старшины. Альгис брел следом за ним, пересекая наискось булыжник площади.
Городок спал. Здесь в центре, высясь над площадью чернела громада костела с двумя острыми готическими башнями, подсвеченными сзади нечетким, в облаках, контуром луны.
Все казалось неживым и напоминало декорацию к средневековому спектаклю. Это чувство усиливалось от перестука молотков на краю площади. Несколько темных фигур заколачивало гвозди, сидя верхом ни перекладине, положенной на два толстых столба. Другие плотники внизу мастерили из досок ступени к сбитому из таких же досок эшафоту. Людей было не разглядеть, только неясные очертания фигур. А чуть поодаль, сыро потрескивая, горел на камнях костер, и возле него грелся часовой в тулупе с поднятым воротом, напоминая силуэтом монаха с капюшоном. У Альгиса сжалось сердце от мысли, что все это до жути смахивает на картину времен инквизиции. И мрачный массив костела, нависший над булыжной площадью, и темные фигуры на виселице, и дымный костер с монахом в капюшоне. Только портрет Сталина, над входом в уком лукаво улыбавшегося в усы, в красной раме, увитой еловыми ветками, нарушал единство стиля. Приговоренную оставили на ночь неподалеку от места казни, в каменном подвале одноэтажного дома с темными окнами. Подвал был глубокий, и Альгис насчитал двенадцать бетонных ступеней пока они спускались в низкий сводчатый коридор с одной дверью и конце, запертой большим амбарным замком. Старшина сказал что-то часовому в полушубке с автоматом, гремя связкой ключей отпер замок, с режущим скрипом потянул на себя железную сплошную дверь, в которой не было глазка, как обычно в тюрьмах, и молча пропустил Альгиса вперед. Мурашки пробежали него по спине, когда с тем же скрипом дверь закрылась сзади, ударив о железный косяк, и глухо зазвенели ключи в запираемом замке.
Под потолком, тоже сводчатым, с выпирающими ржавыми балками слабо светила электрическая лампочка, забранная в металлическую сетку. В этом неярком свете Альгис увидел ее.
Генуте сидела на дальнем конце длинной деревянной скамьи в наброшенном на плечи платке и зябко поджав под скамью ноги. В подвале было холодно. У Альгиса сразу застыли руки, и он их сунул в карманы пальто. Простудитесь, — сказала она, мельком взглянув на него и зайдясь долгим кашлем. — У меня воспаление легких.
— Э-э-э… — растерянно протянул Альгис. — Вам не дали постели?
Скамья была голая, и больше ничего он в подвале не различил.
Генуте не ответила, Нахохлившись под платком, она сидела упершись подбородком в ладони, а локтями — в колени, подняв на него глаза, большие, неразличимого в полумраке цвета, но то, что они серые, Альгис знал по портрету на обложке журнала.
Альгис представился, смущаясь, испытывая перед ней неловкость. Но ее лицо оживилось, какой-то интерес замерцал в глазах и даже улыбка тронула губы.
— Слава Богу, не следователь. А вас я знаю… Читала. Губы ее иронически шевельнулись, а глаза сузились, пристально разглядывая его.
— Не ожидала, что встречу автора… восходящую звезду… новой литовской поэзии. Садитесь, — показала она глазами на другой конец скамьи, и когда Альгис несмело присел на самом краю, улыбнулась ему, почти дружелюбно. — А вы талантливы, Пожера… Хоть пишете совсем не то. И это подтверждает мою мысль, что наш народ бесконечно талантлив, если он не обделил и таких, как вы… Не обижайтесь. Мы же враги, по разные стороны баррикады. Но вы — талантливый литовец, и я не могу не гордиться этим… потому что умираю за Литву.
Она сказала это просто, без тени жалобы в голосе и смотрела на него без вражды, а даже ласково, как мать на заблудшего сына. Альгис знал, что она моложе его на три года и был подавлен, прибит ее мудрым спокойствием и этой улыбкой, все понимающей и все прощающей. — Не задавайте мне вопросов. Я устала от этого, — с той же сочувственной улыбкой попросила она. — Я буду говорить с вами, как душе вздумается. Пусть это будет моей исповедью. Ведь ксендза отказались прислать. Они в Бога не верят… Будьте вы ксендзом… У вас хорошие глаза… и я рада, что вас Бог послал. Вас надолго ко мне впустили?
— Не знаю. О времени мы не условились.
— Хорошо. Мне будет легче дотянуть до утра… в беседе с человеком, который любит наш язык.
Альгис кивнул и откашлялся. И она вслед зашлась долгим всхлипывающим кашлем.
— Накройтесь моим пальто. Вам холодно. Она замотала головой, все еще кашляя.
— Извините… Зачем греть труп?.. Завтра у меня уже не будет воспаления легких… И кашлять перестану… А вы, Пожера, будете жить долго… Берегите здоровье… Эта власть в Литве надолго. Может быть, на сто лет. Народ весь не убьют, он выживет и дождется лучшего часа. И знаете, вас тогда тоже не будет в живых… Но помянут нас обоих. Вас — талант, послуживший не тем, кому надо… а меня… в числе жертв. Кровь-то у нас течет одна. Мы — красивый народ. Верно, Пожера? У вас хорошее лицо… Такими были наши рыцари при Витаутасе[3]. Порода не умирает в веках. Обо мне говорят, что я тоже недурна. Вы не находите? Сколько поколений ушло, отбирая лучшие черты по капельке, чтоб сотворить нас с вами. У вас дети есть? Но будут. Я же никого не оставлю. Мне жаль. Не у каждой такие глаза, как у меня. Такая талия, такие ноги. Это все копилось предками, чтоб достаться мне, а я не смогу никому передать. И будет меньше на земле красивых литовцев.
Альгис слушал ее, смотрел на нее и только в этот момент с леденящим страхом осознал, что завтра она умрет, не будет ее больше, и погибнет такая красота, какой долго в Литве не найти. Будет убита не только Генуте Урбонайте. Литва потеряет часть своего Богатства, своей красоты. Она угадала его мысли и грустно усмехнулась. — Меня на фестивале назвали символом Литвы. Ваши люди любят пышные слова. Значит, завтра покончат с Литвой. Но я — не Литва. Я не беру на себя так много. Я — Генуте. Геняле… Мама меня так звала. И мне двадцать лет. Не раскаиваюсь в том, что сделала. Не я — другая бы нашлась. Наш народ не из трусливых. Верно, Пожера? Скажите мне, но откровенно. Встреть вы меня раньше… в иной обстановке, я, бы понравилась вам?
Альгис поспешно кивнул и почувствовал себя перед ней совсем жалким, никчемным существом.
— Вы бы женились на мне? — плутовато блеснули ее глаза. — Не трудитесь отвечать, я шучу. Юмор висельника. Так это называется, товарищ Пожера? И в прямом и переносном смысле. Сможете его потом пересказать своим друзьям — я надеюсь, у вас есть интеллигентные приятели, и вы посмеетесь, невесело, даже грустно. Потому, что вы тоже литовец, и нас на земле так мало, а с вашей помощью станет еще меньше. Вам, как писателю, хочется понять, почему я пошла на это? Ведь могла прекрасно жить… с моей внешностью… жизнь многое сулила. А кончаю в петле. По своей воле. Я же не надеялась, что спасусь. Сила на вашей стороне. Но я не люблю вас… вернее, презираю и не смогла иначе. Я — не герой. Таково мое понятие чести. А за это — страшная цена… жизнь.
Вы ведь тоже любите Литву? Это есть в ваших стихах… да и лицо у вас… порядочного человека И я люблю Литву. А мы — враги. Поймите, Пожера в этом трагедия нашего народа.
Мы с вами могли быть чудесной парой и произвести на свет наших детей. Самых красивых. Самых стройных. С серыми глазами. Волосами, как лен. И все бы диву давались — какой красивый, литовцы, народ. Чему вы улыбаетесь? Не будет этих детей. И никто ничего не скажет.
Она помолчала, уставившись в колени, потом подняла голову и взглянула на Альгиса кротко, просяще.
— Обо мне тут в уезде, Бог знает что, говорят. Любовница начальства, оргии устраивала. Вам я сознаюсь, я — невинна. Честное слово. Не успела познать, о чем пишут в романах. Потому что ждала любви. А она не успела прийти. Моего тела не касалась мужская рука, а это, должно быть, приятно, если — любимого. Меня обнаженной не видел никто, ни один мужчина. Мечтали об этом многие. Хотите… я для вас разденусь?
Альгис вздрогнул и невольно оглянулся на дверь Серая железная дверь была плотно закрыта и в ней не было ни единой щелки.
— Здесь холодно, — силился он остановить ее, уже вставшую со скамьи.
— Для меня уже нет больше холода, — улыбнулась она, — как нет и тепла. Уступите мне, Пожера взгляните на меня… обнаженную… Я немногого прошу. Сидите и смотрите. И, возможно, тогда я не все унесу с собой в могилу, что-нибудь сохранится в вашей памяти.
Она раздевалась быстро, резкими нервными движениями, будто боясь, что войдут и не позволят сделать, что она задумала.
Слабый свет лился сверху, и Альгису показалось что вокруг ее головы, над льняными волосами, тугой косой сброшенными на грудь, вспыхнуло, замерцало сияние. Свет падал на лоб, кончик носа, подбородок, на грудь, где лежала коса, матово серебрясь, на круглый упругий живот. Все остальное было в полутени, но угадывалась молочная белизна точеного, без единого изъяна, женского тела.
Она была, как дева из древних легенд, и глаза ее, скрытые тенью, светились таинственным потусторонним светом. И улыбка на сочных, нецелованных губах была победной, торжествующей.
— Встаньте, — чуть слышно, но повелительно сказала она.
И Альгис встал.
— Подойдите.
Альгис сделал шаг, потом второй. Теперь он прямо перед собой видел ее глаза, большие, прозрачно-серые и длинные ресницы, трепетавшие вокруг них. Глаза приближались, расширяясь, заполняя все лицо, и исчезли, растворились. Альгис почувствовал на своих глазах — сначала левом, потом правом — холодное прикосновение ее губ. Затем губы тронули его лоб, скользнули по носу и легко прижались к губам. Она осенила его поцелуем, как крестом.
Ладонь ее уперлась в его грудь, оттолкнула от себя, и он отшатнулся.
Она стояла с закрытыми глазами, опустив руки, ладонями на бедрах.
— Уходите, — прошелестели ее губы. — Это все.
Не помня, что делает, Альгис сорвал с себя пальто, накинул ей сзади на плечи, даже запахнул на груди и стал пятиться к двери.
Она не сдвинулась с места, глаза, как у неживой, были прикрыты веками.
На его стук отперли дверь из коридора, и он побежал по ступеням вверх, потом через площадь, мимо костела с острыми башнями, под дробный стук молотков, забивавших последние гвозди в виселицу. Альгис не стал дожидаться утра и уехал ночным поездом, не попрощавшись и не дав объяснений своему бегству. Разумеется, ни строчки не вышло из-под его пера. Газета заменила не сданный им материал официальной, в один абзац, информацией о том, что пойманная властями буржуазная националистка, убийца, агент иностранной державы Г. Урбонайте приговорена к смертной казни, и приговор приведен в исполнение.
— Это вам рассказать, дамочки-американки? со злостью думал Альгис, глядя в простоватые любопытствующие лица туристок. — Все прошло и быльем поросло. Литва обновилась. Сменилось поколение. Вас поведут в школы, в университет. Вы увидите здоровых и красивых парней и девчат. И среди них не будет самого красивого или самой красивой. Сына или дочери Генуте Урбонайте. Ну, и что с того? Кто это заметит? Как никто и не помнит, что жила когда-то на свете Броне Диджене. От нее, правда, остались дети. Но помнят ли они свою мать? Они же были совсем крошками, когда стояли сырой ночью в толпе людей и видели дергающееся в петле тело матери, вздернутой на толстый сук старого дерева, росшего у их дома. У матери были связаны руки и на шею подвешена дощечка с надписью. А что написано, они не могут помнить, потому что еще не знали азбуки.
В конторе колхоза «Победа» он никого не застал, кроме совсем молодой, городского вида женщины с подведенными ресницами и ярко накрашенными губами.
— Не знаете, где председатель колхоза? спросил Альгис, не рассчитывая получить ответ, потому что она, как и он, явно была заезжей гостьей и, возможно, так же тщетно разыскивала председателя колхоза. Я — председатель колхоза, — сказала она, густо покраснев, и протянула ему крепкую сухую руку, и пожатие было мужским.
Альгис опешил. Здесь, в этом неспокойном краю, где каждую ночь засыпают под выстрелы, где людей силой загнали в колхоз совсем недавно, позже, чем в других деревнях, заправляла всеми делами эта крепко сбитая и в то же время хрупкая, городская кокетливая бабенка, краснеющая при виде мужчины и по-женски игриво поводящая раскосыми бедовыми глазами. Она была очень женственна и миловидна. В шелковой цветастой косынке, по моде небрежно повязанной под подбородком, в короткой шерстяной юбке, не закрывавшей круглых аппетитных коленок, просвечивавших сквозь паутинку капроновых чулок, с модным черным швом на упругой икре и высокой черной пяткой. Таких Альгис встречал в Каунасе на Лайсвес алея.[4] Кровь с молоком. Разбитные, притягательные, как магнитом клеившие к себе мужские взгляды и притом далеко не всегда доступные.
— Мне позвонили, что вы приедете, — сказала она, потупясь и краснея. — С утра вас жду.
Что занесло ее сюда. Не дожидаясь расспросов, она торопливо и радостно сама поведала ему. Она действительно из Каунаса. Работала ткачихой на фабрике «Кауно аудиняй». По партийному призыву поехала сюда, в деревню и уже год здесь живет. У нее трое детей, еще совсем маленьких, и их с собой забрала. А муж? Он был против, несознательный человек. Оставила его. И очень довольна. Впервые чувствует себя человеком.
Она повела его к себе домой, в деревенскую просторную избу с деревянным крашеным полом и геранью в горшочках на подоконниках, накормила обильным и вкусным обедом, то и дело извиняясь, чего ничего лучше приготовить не смогла — это не Каунас, выбора нет, и при этом возбужденная присутствием такого редкого гостя легко носилась по комнате, быстро и ловко управлялась с домашними делами. Дети были чисты и послушны, дом прибран, на ее лице ни следа усталости.
— Если напишете в газету, — смущаясь говорила она, — пожалуйста, мужа моего не затрагивайте. Ну его к Богу. Дурак, пьяница. Не понял новой жизни. А мне его, по совести, жалко. Пропадет из-за своей темноты.
— Про себя что я могу рассказать? — задумалась она, покусывая крашенные специально для него, губки, и Альгис невольно залюбовался ею. Женственность, как бы она ее ни гасила, била из нее через край. В каждом движении, взгляде, в улыбке и задумчивости.
— Судите сами. Кем я была прежде? Вертишься день и ночь, о себе подумать некогда. А теперь-равноправие. Перед женщиной все пути открыты. Чувствую, нужна людям. Одни меня любят, другие бы съели. Живу. А раньше? От мужа слова доброго не услышишь. Подай, прибери. И — в кровать… Если он не совсем пьян…
При этих словах она вспыхнула, покрылась румянцем и отвела глаза в сторону.
— Вот, ясли хочу здесь открыть и детский сад. Чтоб всех баб освободить. Меня здесь бабы очень поддерживают. Я им втолковала: сейчас все равны. На них у меня все хозяйство держится. А мужчины… — она махнула рукой. — Жрут самогон и в лес косят, как бы уйти в банду.
Альгис слушал ее и поражался, что она ни словом не помянула об опасности, подстерегавшей ее на каждом шагу. О всех сложностях непривычной сельской жизни, о хозяйственных неурядицах колхоза, в которых и опытный человек запутается, а она — новичок, горожанка и совсем еще недавно не смогла бы отличить рожь от овса.
Ей все было ясно, и жизнь была наперед четко распланирована. Поставит колхоз на ноги, поедет учиться, ей уже обещали в укоме. Дети? С собой возьмет. Ничего, управится. Трудности для того и есть, чтоб их преодолевать.
Говорила она искренне, увлеченно, и Альгис даже позавидовал ее уверенному, не знающему сомнений, взгляду на жизнь. Только обладая ее физическим и душевным здоровьем, думал он, невольно любуясь ею, можно чувствовать себя счастливой здесь, в этой глухой дыре, где она чужая всем, где не с кем словом перемолвиться. И поэтому она так спешит вылиться перед ним, случайным гостем из того мира, где выросла она, а потом опять погрязнет в делах и хлопотах и при этом будет все делать легко, не жалуясь, уверенная, что все впереди и жизнь ее только начинается.
— Ну, судите сами. У нас в Литве советскую власть не любят. Чего скрывать? А почему? Наша отсталость. Разве при Сметоне было уж так сладко? Один богат, другой беден. В деревне — темень. А сейчас? Каждый может стать человеком — только захоти. Вот и надо это в наши дурацкие литовские лбы вколотить — потом спасибо скажут. Честно говорю: для такого святого дела не только мужа бросить, а сказали бы — надо! — детей бы бросила.
Она рисовалась перед ним, она верила в это без оглядки, и Альгис уже поздно вечером, укладываясь спать в соседней комнате на деревянной широкой кровати с периной и свежим, городским бельем, вынутым ею из чемодана, все думал над тем, как написать о ней в газете. Подать ее такой, какая она есть, не поверят, сочтут пропагандой. А она действительно такая. Советские лозунги для нее абсолютно ясная программа жизни, и она жертвует собой ради того будущего, что сулят лозунги, даже не считая это жертвой. В таких людях вся сила коммунизма, заманчивого и ясного, как дважды два — четыре. А то, что приходится кровь проливать, угонять эшелонами людей в Сибирь — все окупится, когда будет достигнут результат.
Он разделся, слыша за стеной, как она, стараясь не шуметь, все еще возится в кухне, положил под подушку пистолет и лег, с наслаждением натянув до груди стеганое мягкое одеяло в хрустящем пододеяльнике. Закурил сигарету, пустил кверху дым. Слегка кружилась голова. От усталости. Он весь день ходил с ней по хуторам, смотрел хозяйство, которое она с затаенной гордостью показывала ему, как свое собственное: ржавые плуги и бороны, сваленные кучами в сарае, тощих, с комьями навоза на запавших боках, коров, согнанных под общую крышу, и до сих пор в жалобном мычании изливавших тоску по ласковым рукам своих прежних хозяек. Она дала ему резиновые сапоги и сама обула такие же, потому, что стояла непролазная грязь. Он еле ноги волочил, когда вернулись в сумерках к ней домой. А она, свежая и крепкая, как антоновское яблоко зимой, быстро переоделась в те же капроновые чулки и туфли на модном каблуке, подвела губы и брови и стала носиться по дому. Приготовила ужин, накормила детей, умыла, уложила спать, села с ним ужинать, поставив на стол раздобытую тайком от него — они весь день были вместе, но он не заметил, когда это она успела бутылку настоящего армянского коньяка. Распили они ее вдвоем и поровну, она не отставала и пила с удовольствием, не жеманясь и не прикрывая свой стакан ладонью. Но он захмелел, а по ней незаметно было. С той же легкостью постелила ему, убрала со стола и сейчас, деликатно погромыхивая посудой, все еще хлопочет в кухне.
Выпитый коньяк мешал ему думать о ней, как о героине своего будущего газетного очерка. В его туманящемся мозгу она возникала то своими круглыми коленками под паутинкой чулок, то шеей, мягкой, вкусной, с пульсирующей жилкой над впадиной у ключицы, то шаловливым глазом, манящим и загадочным. Попробуй тронь, намекни, и кто знает, что на тебя обрушится. Такая способна и в ухо съездить и письмо начальству послать вдогонку. Слишком прямая и идейная, хоть баба она на зависть, и такую долго не забудешь, если подпустит к себе.
— Неужели смогла она подавить в себе бабу? — размышлял Альгис, ворочаясь в постели и прислушиваясь к звукам за стеной. — Год без мужа. Тут, в деревне, с местными мужиками она себе ничего позволить не могла. Терпит. Ради чего? Чудачка. Святая простота. Пропадет, завянет. А хватится будет поздно. Добилась равноправия. Одна, без мужа, без ласки. В этой слякоти и грязи. А в прежней жизни были асфальт, бульвары, ванная в доме, театр, рестораны. В эту жизнь вернется он завтра, ей же тут прокисать. И ни о чем не жалеет, кажется счастливей и уверенней, чем он.
— Бог с ней, — решил Альгис, запахиваясь с головой, но услышал, как стихло на кухне, а спустя минуту шаги босых ног вкрадчиво приблизились к его двери, замерли.
— Броне, — хрипло позвал он. И она вошла. В короткой ночной сорочке, еле различимая во тьме, остановилась у изголовья, нагнулась к нему, и он различил контуры грудей, вылезших из-под кружевной оторочки и набухшими теплыми грушами нависших у его глаз.
— Не прогонишь? — прошелестел ее ломкий от волнения голос, и когда он, обхватив ее руками, властно рванул к себе, сдавленное рыданье вырвалось у нее:
— Не могу больше… Не суди меня… Нет моих сил. — Такой одуряющей женской сладости, безыскусственной и самозабвенной, в какой утопила она его, он долго потом забыть не мог. Медленно остывая и вздрагивая разгоряченным, ненасытным телом, она, легонько прижавшись, лежала возле него и шептала на ухо, касаясь губами:
— Возьми меня, увези… Я тебе ноги мыть буду и воду пить… На руках носить буду… Я еще жить хочу… Ведь нравлюсь тебе… Увези… Не могу больше… — И плакала, содрогаясь всем телом, ласково и сдержанно, словно боясь вспугнуть, гладила его щеки, нос, подбородок.
Альгис был озадачен и неуклюже пытался утешить ее теми же словами, что она так бойко сыпала ему днем. О равноправии, какого она добилась, о светлой цели, о жертвах, которые все мы приносим ради будущего. Нес какую-то чепуху, сам понимая, что говорит не то и что ждет она от него других слов. А их он не находил. Было попросту жаль эту бабу, хорошую, теплую, сдуру, не задумываясь, полезшую не в свое дело только лишь потому, что искала, как и все, свой кусочек счастья. Будь у ней муж получше, поласковей, никуда не пошла бы. А сейчас платилась за это. По-бабьи открылась ему, излила душу, ни на что не надеясь. Только на ласку, без которой ей уж стало совсем невмоготу.
Пустые слова Альгиса быстро отрезвили ее. Она умолкла и долго, прищурясь в темноте, глядела на его профиль. Потом вздохнула и ровным, будто не было слез, чуть злым голосом сказала:
— Ну что ж, парень, твоя правда. Каждый несет свой крест. А что болтала я, так это по глупости. Баба она баба и есть. Забудь. Ладно?
Альгис кивнул.
— Мне к себе пойти? — спросила она, и глаза ее выжидающе блестели в темноте.
— Почему? — обнял ее за шею Альгис. — Оставайся.
Она сняла его руку с шеи, села, свесила с кровати ноги, обернулась к нему:
— Пистолет где держишь? Под подушкой. Ну, и я свой принесу. Ночь долгая, неровен час кто заглянет, пусть защита лежит под рукой.
Она принесла пистолет, сунула туда же, под подушку. Потом с каким-то веселым отчаянием грузно свалилась в постель, обхватив Альгиса голыми руками.
— Одна ночь, но моя. Ты, парень, не женат? Значит, чужого не прихвачу. Погуляем вволю. Бога нет, стесняться некого.
И, как в первый раз, она утопила его в ненасытной ласке, мяла руками, давила, и, казалось, она хочет за ночь утолить свой бабий голод на год вперед.
Проснулся Альгис поздно, когда за окном был светлый день. Ее в кровати не было. За стеной слышался ее бойкий, быстрый голос и довольный счастливый смех, возилась с детьми, напевала что-то.
Завтракал он один. Она только подавала к столу и была такой же, как вчера. Будто и не было всей этой ночи. Лишь изредка в ее чуть насмешливом взгляде мелькала грусть, но она тут же гасила ее.
Потом приехал мужичок на телеге, чтоб отвезти его в город. Она при мужичке попрощалась с ним, пожав руку и сухо сказав:
— Пишите о нас правду, а то колхозники не верят газетам.
И тогда Альгис вспомнил, что для очерка нужен портрет и спросил, нет ли у нее хорошей фотографии.
— Карточка есть, а хорошая ли, вам судить. Она вернулась в дом и принесла ему открытку с зубчатыми краями на матовой бумаге, какие делают в городских фотоателье: вполоборота, с серьгами в ушах, игривыми глазами и улыбкой в той мере, что требовал фотограф.
— Сойдет?
Уже в Вильнюсе, когда надо было портрет сдавать в ретушь и нести в цинкографию, Альгис на обратной стороне обнаружил надпись, сделанную поспешно и с грамматическими ошибками: «На долгую и добрую память Альгирдасу Пожере от Броне Диджене. Пусть мертвая копия всегда напоминает тебе живой оригинал».
Альгис расхохотался, представив, в какую историю он бы влип, сдав художнику портрет с этой надписью. Заклеив обратную сторону фотографии полоской бумаги, он отнес ее в лабораторию и засел за очерк. Писалось плохо, фактов интересных он не привез, и в памяти всплывали лишь ее глаза, теплые упругие груди, соленый вкус поцелуев, когда она, плача, просила увезти ее с собой. Об этом писать в газете не полагалось, и вымученный очерк не понравился редактору. Сократив его до стострочной заметки, он забраковал портрет, сказав, что такие висят на стендах у фотографов, а не в газете, и дамочки с подобными глазками не работают председателями колхозов.
Альгис не стал возражать и скоро совсем позабыл о Броне Диджене, вспомнив лишь спустя полгода, когда снова приехал в Шяуляй.
Ему захотелось повидать ее, и если удастся, повторить ту ночь. Уж ее, эту ночь, он запомнил со всеми подробностями. И теперь снова потянуло туда. Но одного его не пустили, потому что была весна, дороги затопило и дали в сопровождающие инструктора укома партии, молодого белобрысого парня в высоких болотных сапогах. Они отправились пешком, телеги не могли проехать. В низине, у самой деревни, путь им перекрыл широкий разлив, и белобрысый инструктор предложил взобраться к нему на плечи, и верхом на нем Альгис долго перебирался через мутные холодные потоки, доходившие инструктору чуть ли не по пояс. Ему было неловко оттого, что его тащат на спине, и он извиняющимся тоном сказал инструктору:
— Ничего, доберемся до деревни, согреемся. Помню, в прошлый раз меня здесь угостила хорошим коньяком Броне Диджене.
Инструктор сдержал шаг и, запрокинув к нему лицо, насмешливо переспросил:
Броне Диджене?
— Кажется, так зовут здесь председателя? Нету Броне Диджене. Угостит она коньяком…
— Вон там, на кладбище. — Он кивнул в сторону пустого пригорка, где редкой щетиной виднелись кресты.
Ее, как узнал потом Альгис, убили месяца за два до этого. Пришли ночью, взяли спящей. Согнали колхозников к ее дому, зачитали приговор от имени литовского народа и повесили на дереве перед домом, и, привязав к груди дощечку с надписью «Предатель». Детей не тронули, и их забрал муж, вызванный из Каунаса. Он же и похоронил ее здесь, на сельском кладбище, ни за что не согласившись поставить над могилой обелиск с красной звездой.
Серый бетонный крест высился над голой, еще не поросшей травой, могилой. В крест был вделан портрет, перенесенный на овальной формы фарфор с той самой фотографии, что она некогда дала Альгису для газеты. Вполоборота, с серьгами в ушах, игривыми бедовыми глазами улыбалась Альгису с креста Броне Диджене, отличная, чудная женщина, каких он потом не часто встречал, и был он, видать, последним у нее, кому принесла она бурную и нечаянную радость.
— Ну, этого достаточно? Или еще? — в упор, насмешливо смотрел на американок Альгис. — Такая она, Литва, подлинная. А вам покажут картинки с выставки. И вы уедете к себе домой, в Америку, умиротворенные. И советская власть вам покажется благодетельницей. При ней Литва расцвела. Но на чьей крови, взошел этот цвет, знаю я. И не могу никому рассказать. Хоть и хочется. Очень хочется.
Припоминая другую женскую судьбу, безымянную, потому что Альгис не знал ни имени этой девушки, ни даже, как она выглядит, так как видел ее при таких обстоятельствах, когда лица не разглядишь, он всегда ее связывал с человеком, имевшим прямое отношение к тем событиям и потом весьма часто попадавшим в поле зрения Альгиса.
Это был младший лейтенант министерства государственной безопасности Литовской республики, молодой худощавый еврей по кличке Мотя-Кролик. Альгис никогда не слыхал его фамилии, а знал только кличку, под которой он был известен среди завсегдатаев каунасских ресторанов «Версаль» и «Метрополь». Он действительно чем-то напоминал в профиль кролика, не отличался бравым видом даже в мундире и погонах, но был отчаянным пьяницей и дебоширом, не вылезал из долгов у ресторанных кельнеров и буфетчиц, а в лесу на операциях слыл бесшабашным, не знающим страха офицером, и многие банды долго и безуспешно охотились за ним.
Кролик остался после войны один, лишившись всей своей многочисленной родни в Каунасе и десятке литовских местечек. Сам он выжил потому, что воевал в русской армии и вернулся в Каунас с несколькими медалями и дергающейся от контузии головой. Евреев в Литве убивали не немцы, а под их руководством эту грязную работу чаще всего выполняли литовцы из полицейских батальонов. И Кролик, одержимый жаждой мщения, поступил в МГБ, карательные отряды советской власти. Тут он себе дал волю, а возвращаясь из лесных операций, пил беспробудно, все больше и больше сатанея. Где-то в драке ему выбили передние зубы, и он, не вставив новых, стал похож на жалкого измятого гнома, одинокого, озлобленного и опасного для окружающих.
Но в министерстве государственной безопасности его, видать по всему, ценили и прощали ему все дебоши и скандальные выходки, зная, что он безотказен в деле. Кролик допрыгался. Попал в руки лесных братьев живьем и совершенно невероятным образом спасся, сбежал. Это был уникальный случай. Ни до него, ни после ни один сотрудник МГБ не уходил живым из рук лесных братьев. Там расправлялись быстро и без пощады. А Кролик ушел, нажив себе тем самым кучу неприятностей и окончательно загубив офицерскую карьеру. Всю эту необыкновенную историю Альгис услышал от него самого за грязным столиком вокзального буфета. Кролик, шепелявя беззубым ртом, уже не в мундире, а в кургузом штатском пиджаке, захлебываясь и спеша, словно боясь, что Альгис не поверит ему и уйдет, не дослушав, рассказывал:
Видно, есть на небе еврейский Бог. Кто-то же должен остаться живым в моем роду? А я был уверен — конец, кончилась моя фамилия.
Дело было так. Послали меня в Шакяй, на оперативный пункт. Нашалила там одна банда, надо было их пугнуть. Гонялся, гонялся по лесу никого, в бункерах попрятались, гады. Ищи, свищи, хрен возьмешь. Сижу в Шакяй, дурею от скуки. Ни одного приличного ресторана. Провинция. Дыра. А тут воскресенье. Выходной день. Совсем повеситься можно. Дай, думаю, схожу к одной бабенке. Я ее на хуторе засек. По морде видно — ломаться не умеет. А меня, сам знаешь, бабы любят. Надраил медяшки на кителе, погоны золотом сверкают, сапожки — до блеска, фуражечку — на макушку и — к ней. Километра три. День теплый, солнышко. Иду, беды не чую.
Тропинка сначала лугом, а потом — в лес. На лугу человек сено косит. Наш человек. Коммунист из местных. По фамилии Гедрис. Я фамилии запоминаю. Профессия. А во всем Шакяй коммунистов было раз-два и обчелся. Остальные — враги.
Косит себе Гедрис сено, а рядом дочка его маленькая в траве играет. Взял с собой погулять. И надо тебе сказать был Гедрис здоровенным мужиком, вдвое выше меня. Это очень важно для дальнейшего. Гедрис был единственным свидетелем, кто мог бы сейчас подтвердить мою правоту. Нет в живых, своими глазами видел, как его кончили.
Но слушай дальше. Поздоровался я с Гедрисом, он мне еще рукой помахал. Луг кончился, тропинка ведет в лес, а кругом кусты выше моей головы. Иду, посвистываю. Слышу голос по-литовски:
— Руки вверх! И из кустов мне в голову проталкиваются четыре дула автоматов, со всех сторон, прямо к голове. Я даже рук поднять не мог, пришлось их просовывать мимо автоматных стволов. Выскочили на тропинку. Лесные братишки. Понял — конец. Забрали пистолет, часы, партийный билет и удостоверение МГБ. Дурак, все с собой захватил.
Узнали меня. Один даже подмигнул — «попалась птичка, давно тебя ищем». Дело ясное. Прощай, мама. Хоть мамы у меня нет. Руки назад, скрутили ремнем, а конец ремня один держит сзади. Повели. Подальше. На большую поляну вышли. А там их человек десять. И с ними Гедрис, коммунист наш. И его дочка. Я сначала решил: предатель. Он их навел. Гляжу — у него руки тоже связаны. Значит, влип, как и я.
Гедрис их мало интересовал, очень обрадовались, что меня взяли. Ржут от удовольствия. Совещаются, как меня казнить. Слышу все, меня не стесняются, уже труп. Понимаю, стрелять боятся, услышат на оперативном пункте. Будут резать, чтоб без звука. Резать, так резать. Мне все равно. Конец один. И понимаешь, Альгис, девочка им весь концерт испортила, дочка Гедриса. Заплакала вдруг в голос. Один из бандюг ее толкну — замолчи, мол. А Гедрис, все же отец, не может позволить, чтоб дочку обижали. Хоть и связаны у него руки, он ногой, как врежет тому, кто толкнул девочку. Тот — с копыт. Сгоряча бахнул из автомата очередь, прямо в Гедриса. А тот стоит, не падает. Да как заорет во весь голос. И дочка рев подняла. Поверишь, Альгис, я много повидал, как убивают, но такого не приводилось. Гедрис был живуч, как бык. В него все палят из автоматов. А он стоит и кричит. Всего изрешетили. Наконец, упал, но дергается и все кричит. Они его, лежачего, прошивают, строча за строчкой, как швейной машиной. А он все орет. Вот мужик, так мужик. Сроду не видал такого. Ну, кончили с ним, а сами в панике. Такую пальбу затеяли, надо смываться. Кричат — кончай его. Это меня, значит. Один пистолет выхватил, мой пистолет отобрали, и тычет мне в лоб. Тут у них заминка получилась. Сзади-то меня за ремень держит другой. Не так выстрелишь — в своего попадешь. Ну, тот ищет, как бы поудобней приладиться, водит кончиком дула по моему лбу, а я, естественно, голову — в плечи, да назад подаюсь, пячусь от него, и заднего, что за ремень держал, столкнул. За ним канава была. Чую, руки свободны, хоть связаны. И — прыг через канаву, за дерево.
Они — стрелять. А я — ходу. Между деревьями, как кролик. Не зря мне такую кличку дали. Никто не попал. С ремнем на руках в Шакяй прибежал. Взял солдат, в лес, их уж и след простыл. Только убитого. Гедриса нашли и его дочку, плакала над ним. Вот и все. Вместо того, чтоб меня наградить, хотя бы за смекалку, из МГБ ногой под зад, из партии — вон, все заслуги псу под хвост. Не внушаю доверия. Не бывало такого, чтоб живым наш сотрудник из плена возвращался. Значит, у меня что-то нечисто. Куда ни обращался, к самому президенту, у него же в личной охране когда-то был, не хотят слушать. И теперь мне конец. Пенсию не платят, профессии нет, вот и пью, если кто-нибудь поставит.
Альгис не жалел его. Угостил водкой и быстро распрощался. Но о его судьбе частенько задумывался. Ведь Мотя-Кролик делал то же дело, что и он. Каждый по-своему. И его конец мог в любой момент стать судьбой Альгиса. Вышвырнут за ненадобностью при первом промахе, даже спасибо не скажут за все, что сделал раньше.
А кроме того, Мотя-Кролик чем-то импонировал Альгису. Беспробудный пьяница он в редкие трезвые минуты бывал остроумен тем особым еврейским горьким юмором, от которого пахнет слезой. Как-то в одном буфете они сидели вдвоем, а за соседним столиком дремал сидя деревенский мужичок в рваном полушубке. Задремлет, уронит голову на грудь и испуганно вскрикнет, пробуждаясь.
— Налоги снятся, — сказал Мотя-Кролик без улыбки.
И Альгис долго смеялся. Сказано было метко со снайперской точностью, отчего к сердцу подкатила едкая грусть, хотя и было смешно.
Кролика он потом встречал несколько раз. Он бы спился и погиб, если б не подобрала его толстая еврейка, женила на себе, нарожала кучу детей, а его пристроила продавцом в магазин металлической посуды. И уж много лет спустя Альгис узнал, что удалось ему уехать в Израиль, и он оттуда присылает письма с фотографиями в Каунас. На этих карточках стоит Кролик, чистенький, аккуратный, облокотившись на капот новенького «Мерседеса», в окружении своих упитанных детей и жены, и в Каунасе многие завидуют ему. Даже литовцы.
Благодаря этому Моте-Кролику, младшему лейтенанту МГБ, давным-давно стал Альгис свидетелем события, которого он до смерти не забудет.
Было это в Пасвалисе, на севере Литвы. Зимой. Альгис ездил туда по заданию газеты, и в единственном ресторане уездного городка наткнулся на Мотю-Кролика. В шинели и военной шапке он подсел к нему и, болтая пьяный вздор, между делом, спросил:
— Хочешь пороху понюхать? Пошли со мной. Тут недалеко, на хуторе, трех бандитов обложили. Завтра будем брать. Батальон истребителей взял их в кольцо. Будет потеха. С дымком. И огнем.
Мотя-Кролик запасся в буфете бутылкой коньяку, вылив его в армейскую фляжку.
Утром они поехали туда. Снегу на полях лежало много. Ночью был туман, а к утру подморозило, и сугробы покрылись ледяной коркой в рождественских веселых блестках. Голые прутья берез свисали гроздьями сосулек и тихо позванивали. Дышалось легко и глаза жмурились от яркого света.
Хутор, вернее, красный кирпичный сарай с высокой крышей, крытой соломой, а поверх толстой шапкой снега, торчал один-одинешенек на большом ровном поле, мягко укутанном снежной белизной. Он был, как на ладони, ничем не прикрытый и не защищенный.
Те трое, что скрывались в нем, явно были загнаны туда, как в мышеловку. Путей к отступлению не было. Вокруг сарая по краям поля залегли цепью истребители в черных казенных полушубках и стеганых ватных куртках. Несколько полушубков и курток темнели в снегу, поближе к сараю. Это были трупы — результат первой, неудачной атаки.
Теперь истребители залегли, зарывшись в снег, и вели беспорядочную пальбу. Два пулемета «Максим» время от времени резко постукивали. На стенах сарая откалывались куски кирпича, фонтанчиками взлетала красная пыль, и на несколько метров вокруг снег был припорошен красной пудрой.
По сторонам в обрамлении хрустальных от звонкой наледи берез затаились другие хутора. Без единого дымка из труб. Словно вымерли. И только тревожное мычание коров, вспугнутых стрельбой, напоминало, что они обитаемы и оттуда затравленно следят, как целый батальон расправляется с тремя смельчаками.
Из сарая отвечали. Редко. Короткими, экономными очередями. И каждый. раз в цепи кто-то вскрикивал, отползал назад, к оврагу, где стояли сани с лошадьми и зеленая санитарная палатка. А иные, вскрикнув, оставались лежать, выронив автомат и судорогой подтянув к животу ноги.
— Им с крыши хорошо видно, — просипел в ухо Альгису Мотя-Кролик, вжимаясь рядом с ним в снег. Выбирают цель, как на охоте. Но, гады, все равно не уйдут.
Командовал истребителями капитан МГБ, русский, не знавший ни слова по-литовски. А бойцы не понимали русского, и Мотя-Кролик служил капитану переводчиком, орал на все поле команды капитана на плохом литовском с заметным еврейским акцентом
По всей цепи передавались из рук в руки бутылки с самогоном. Истребители отхлебывали, плевали в снег. Кролик и капитан по очереди прикладывались к мотиной фляжке, и каждый раз капитан брезгливо вытирал горлышко рукавом шинели. Кролик же пил так. Альгис от коньяка отказался.
— Сейчас пойдем в атаку, — сказал Альгису Кролик. — Ты лежи, не твое дело. Капитан — дурак, не захватил миномет. Положил людей зря.
Истребители неохотно поднялись вслед за выскочившим вперед Мотей-Кроликом. Заорали простуженными сорванными голосами. Деревенские литовские парни, пьяные и обреченные. Капитан в длинной шинели вылез из своей норы, когда цепь укатила намного вперед, и, поводя пистолетом по спинам атакующих, не спеши пошел за ними, увязая сапогами в снегу.
Три длинных захлебывающихся очереди из-под крыши сарая повалили всю цепь. Поползли обратно истребители с запорошенными снегом ошалелыми лицами. Впереди на локтях полз капитан. За ним чернеющими кучками тряпья оставались недвижно те, кого прихватила пуля. А другие, раненые, кричали истошным криком, вскакивали на ноги и валились скошенные посланной вдогонку пулей.
Атака не удалась. Капитан матерился по-русски, Мотя-Кролик отругивался тоже по-русски и с тем же акцентом.
Снова заработали пулеметы. На сей раз — трассирующими пулями, и многоцветные пунктиры понеслись. к крыше сарая.
— Порядок, — хлопнул Альгиса по плечу Мотя-Кролик. Зажигательными выкурим.
Пули сбривали пласты снега с крыши сарая, и они кусками обваливались вниз, на красную кирпичную пыль. Обнажалась серая солома на крыше, а вскоре в разных местах поднялись к небу синие дымки. Они набухали, ползли по крутому скату. Дым густо повалил из высокого, в рост человека, слухового окна. Вслед за дымом полыхнул огонь и сразу занялась вся крыша. Языки пламени с двух сторон потянулись навстречу, соединились в высокий костер, с треском и гудением выбросив вверх, как фейерверк, снопы искр.
Стрельба из сарая кончились. И цепь вокруг поля тоже перестала стрелять. Истребители, высунув носы из снега, жмурясь, смотрели на пожар.
Гудел, бушевал огонь, охватив весь сарай. И не успел Альгис подумать о тех троих, что заживо сгорали за кирпичными стенами, как наверху, в слуховом окне, четко рисуясь на фоне красного огня за спиной, в тлеющей дымящейся одежде возникла женская фигура. Альгис был близко от нее, метрах в двухстах, и до боли четко разглядел, что она молода и в одном платье, без пальто, и волосы светлые, льняные, раздувало ветром вокруг лица, ветром, которым, как из поддувала, тянуло изнутри сарая, из клокочущего пламени, багрово-синими языками уже лизавшими ее.
Лица ее, как ни силился Альгис, разглядеть не смог. Мешали волосы. Но голос ее он услышал. Услышали и все в цепи.
— Будьте прокляты-и-и! — закричала она высоким срывающимся девичьим голоском.
И запела. Запела истошно громко, не в лад мелодии, старый литовский гимн, выкрикивая каждое слово им, лежавшим вокруг на снегу. Ее голос сверлил, раздирал уши. Истребители, уронив автоматы, сидели в снегу, не шевелясь, в каком-то оцепенении, не сводя с нее глаз. И лица у этих парней по-детски кривились, как перед плачем.
Мотя-Кролик, нахохлившись, с поднятым воротником шинели, словно хотел им заткнуть уши, отвернулся и чаще, чем обычно, дергал контуженой головой. Капитан, встав во весь рост, курил сигарету рывками, будто она обжигала ему губы, выдергивая ее изо рта, и кидал быстрые, вороватые взгляды то на истребителей, застывших истуканами в снегу, то на пожар с охваченной пламенем фигуркой в слуховом окне.
Она не пела, а кричала. Так кричат умирая. И слышно было ее не только на ближних хуторах, и казалось, на самом краю света.
Альгис застонал, рухнул чужим, как если б с него содрали кожу, лицом и снег и не видел, как она упала в огонь. Он лишь услышал тишину и гудение пожара. И удивленный голос Моти-Кролика.
— Ну, и баба. Таких поискать — не найдешь.
Альгис, оглохший, бесчувственный, лежал в снегу, не смея поднять лицо, и мысль четкая и ясная, повторяясь, билась под черепом: «Мы удивительный народ. Эта девушка сильнее Жанны Д'Арк. Огонь унес ее на небо… Она станет святой… А я… я… никто… И все… никто. И Россия, которая нас убивает… И Америка, которая молчит… Все… Есть лишь одна… несчастная Литва… моя родина, распятая… под ножом.»
Слезы брызнули из глаз, горячие, жгучие, и Альгис чувствовал, как они дырявят, прожигают снег.
— У вас в глазах слезы? — всполошилась Тамара и оттого, что Альгирдас Пожера, известный прославленный поэт, доведен до слез и, возможно, в этом повинна она, ведь она отвечает буквально за все и еще потому, что это произошло на глазах у иностранных гостей, да еще к тому и литовцев, и неизвестно, как они это расценят в своей прессе. — Вы вспомнили что-нибудь очень печальное? Да? Ваше трудное детство при буржуазном строе?
Последнюю фразу Тамара произнесла по-английски в расчете на уши туристок, потому что знала Альгис английским не владеет.
У Альгиса даже не возникло желания рассердиться на нее. Он старался ее не замечать. А глаза у него действительно набрякли, он это чувствовал и, возможно, покраснели.
Джоан и ее приятельницы вежливо отвели глаза, давая ему овладеть собой. Он заулыбался им, но грустно, невесело. Нужно было что-то сказать, объяснить им. Да и успокоить дуреху Тамару.
— Мне стало грустно, тихо начал он, и за всеми столами женщины приумолкли, напрягли слух.
Я вспомнил трех женщин… времен моей юности, трех очень разных, но единых тем, что они были литовками и любили нашу маленькую Литву… и отдали свои жизни за нее… Когда-нибудь я напишу о них… Возможно, реквием… погибшей красоте.
Тамара, не понявшая ничего из того, что он сказал, склонилась к Джоан, и та ей объяснила по-английски. Она ободряюще и благодарно закивала Альгису, блестя большими стеклами очков и уже сама стала развивать его мысль, громко обращаясь ко всем столикам.
— Уважаемые дамы! Наш дорогой гость в своем выступлении напомнил нам о тех, кто сложил свои головы за счастье народа, за торжество неумирающих идей. Среди них было много женщин, и их имена свято чтит наш народ. Их именами названы улицы, школы, колхозы:
Пока лилась се гладкая и мягкая, как распаренный горох, английская речь, Альгис поманил официанта и спросил, не может ли он выставить, разумеется, за его счет, всем туристам хорошего кавказского коньяку.
— Имеется. Грузинский… три звездочки, понимающе зашептал официант ему в ухо и, скосив глаз, одновременно сосчитал количество туристов в вагоне. Молдавский не рекомендую.
— Хорошо. Пусть грузинский. И лимона нарежь. С сахаром.
— Лимона нет.
— Позор. Теряем лицо перед Западом, — смеясь, укорил его Альгис, и официант фамильярно захихикал, как свой человек со своим.
— Да они, иностранцы, и так сожрут. Лишь бы бесплатно. Любят дармовщинку. Я их, как облупленных, знаю… Какой год кормлю.
— Бог с ними, — заступился за них Альгис. — У каждого свои слабости. Обслужи, как надо. Не обижу…
— Десять бутылок понадобится. Не меньше, глубокомысленно задумался официант. — Учтите, у нас недешево. Сто процентов ресторанной наценки… И железнодорожной столько же…
— Не разоришь, — отпустил его Альгис.
Тамара все еще рассказывала туристкам о советских женщинах, и они уже явно скучали, ерзали на стульях, играли бумажными салфетками, поглядывая с надеждой на Альгиса. В особенности, Джоан. У нее глаза были чертовски лукавые. Да и все лицо лучилось от возникавших и таявших ямочек. Альгис ей нравился. Она этого не скрывала. Даже от Тамары, которая, как наседка, встревоженно и неодобрительно переводила глаза за стеклами очков с нее на Альгиса. И при этом поджимала губы, давая знать Альгису, что она никаких вольностей в своей группе не допустит.
— Ну, и хрен с тобой, ханжа кагебистская, — ругнулся в душе Альгис и взял у официанта полный стакан коньяку.
Коньяк в изобилии расставленный на столиках вызвал у американок возбужденное ожидание. Они нюхали свои стаканы, пробовали кончиком языка, причмокивали, пучили глаза, выражая одобрение и коньяку и тому, кто так щедро угостил их.
Перед Тамарой официант тоже поставил полный стакан. Она вскинула тонкие бровки над дужками очков и сказала Альгису по-русски:
— Зря вы это затеяли. Перепьются сейчас, а мне отвечать. Знаете, какая у них мораль? А никакой. Что хочу, то делаю. А если столько пьяных женщин сразу вздумают…
Альгис не стал слушать, что будет, если столько пьяных женщин чего-то захотят. Он поднялся со стаканом в руке, покачиваясь на расставленных ногах вместе с полом вагона.
— Я с вами скоро расстанусь, мои случайные, но очень дорогие спутницы по путешествию… мои соплеменницы, отделенные от своего народа океаном…, но не забывшие своих корней. Давайте выпьем на прощанье за наших литовских женщин. Сделаем по одному глотку за три женских судьбы. Поверьте мне, это были красивые люди, и любой народ мог бы гордиться такими. Помянем их… по именам… Генуте Урбонайте…
— Генуте Урбонайте, — с американским акцентом повторил вагон.
— Броне Диджене…
— Броне Диджене, — как эхо отозвались американские литовки, с торжественной скорбью, как в церкви.
— И безвестную женщину, чье имя мне неведомо.
— И безвестную женщину, чье имя мне неведомо.
Тамара, не понявшая, о чем идет речь, поначалу решила, что они молятся, но когда Джоан ей перевела, успокоилась и сама осушила до дна свой стакан, сразу зардевшись румянцем сквозь слой тона и пудры. Туристки с шумом вставали из-за своих столов и, прежде чем покинуть вагон-ресторан, считали своим долгом протиснуться к Альгису и пожать ему руку. Джоан тоже подошла и, играя глазами, спросила приглушенным тоном:
— В каком вы вагоне едете, мистер Пожера? До ночи много времени, и я бы очень хотела еще раз повидать вас, если вас это не затруднит.
— Мистер Пожера очень устал, безапелляционно вмешалась с раскрасневшимися от выпитого коньяка щеками Тамара и встала между Джоан и Альгисом. Мы и так у него отняли массу драгоценного времени. Мои милые леди, прощайтесь. с нашим гостем и ступайте в свои купе отдыхать.
Тамара уже не отходила от Альгиса, и Джоан за ее спиной сделала смешную гримасу, подразнив ее, и пошла между столиками к выходу, несколько раз с сожалением оглянувшись.
Альгис еле сдерживал закипавший в нем гнев. Выпитый коньяк, а он опорожнил бутылку, ударил в голову. Он возненавидел Тамару, эту интуристовскую чистюлю, отутюженную и накрахмаленную, с тусклым блеском лака на взбитых и склеенных волосах. Особенно раздражала ее лакированная прическа, покрытая упругой коркой, и ему захотелось запустить туда все пальцы, разлохматить, разодрать, чтоб ее фарфоровое личико, наполовину закрытое большими заграничными очками, исказилось от боли, осыпалось, как штукатурка, слоем тона и пудры.
В вагоне-ресторане они остались вдвоем, если не считать официанта, оформляющего счет и затем давшего его Тамаре для подписи. Она нагнулась к столу, стоя спиной к Альгису, и черная юбка полезла вверх, обнажив тугие икры и крепкие бедра, а выше плотно обтянув хорошей формы аппетитный зад.
Охмелевший Альгис даже присвистнул. Тамара оглянулась на него, хотела распрямиться, по покачнулась вместе с вагоном, и Альгис подхватил ее, сжав ладонью грудь, высокую и податливую, как надутый мяч.
— Проводите меня, — прикрыла под стеклами глаза Тамара. — Ваш коньяк меня совсем… Не надо было пить.
Официант, как соучастник, сально подмигнул Альгису, когда он повел Тамару под локоть к выходу. Она повисла на его руке и жаловалась, запинаясь и подыскивая слова;
— Если б вы знали, как с ними… трудно. Особенно с бабами. У них никакой морали. Все деньги.
— И мужчин покупают за деньги, даже за сигареты. Позор! У нас еще попадаются такие подонки, что клюют на их удочку. А за все отвечать мне. Пиши потом рапорты, давай объяснения. Вы зайдете ко мне? Я одна в купе. Хочется поговорить с советским человеком, отвести немного душу… Терпеть не могу иностранцев… Так зайдете? Это вас не затруднит? Купе Тамары было первым в мягком вагоне, вслед за отделением для проводников и туалетом. Они прошли никем из туристок не замеченными, и Тамара, захлопнув дверь, защелкнула задвижку. Альгис сел на мягкий диван, откинулся, утонул затылком в мягкой спинке. В таком купе обычно ездил он. Теперь его отсюда выжили туристы, и он обречен всю ночь маяться в жестком вагоне, и еще будет великим счастьем, если к нему не подсадят соседей.
Это купе было на двоих. Два уютных дивана, покрытых бежевыми чехлами, были разделены столиком у широкого окна, и колени Альгиса и Тамары соприкасались, вызывая в нем нездоровое, злобное возбуждение. За все, чем не удался этот день. За то, что Рита не пришла на вокзал, и он напрасно ждал ее в ресторане. За то, что вынужден ехать в другом вагоне. За то, что Джоан, эта американская литовка, хорошенькая и многообещающая бестия была отнята у него. И кем? Вот этой, окосевшей от коньяка партийной ханжой с бабьим задом и раздражающе крепкими ногами, заковавшей свое еще молодое и жадное тело в корсет из запретных инструкций. Блюститель морали, надзиратель за чужим поведением. А сама-то? Сама? Как кошка на сметану, поглядывает из-за очков на Альгиса и не знает, что делать, как вести себя с ним, оставшись наедине. У Альгиса возникло мучительное желание оскорбить и унизить ее. Растоптать и смять этот благополучный и добропорядочный футляр, в который она затянута.
— Возьмите, — протянула ему Тамара непочатую пачку американских сигарет «Кэмел». — У меня много.
— Я предпочитаю свои, литовские.
— Знаете, хоть их образ жизни нам чужд, но сигареты у них вкусные. Это правда. Привыкнешь, трудно менять.
— Вы замужем?
— А что?
— Просто так. Спрашиваю.
— Да. Для вас это важно?
— Нет. А то ведь мне показалось, что вы девственница.
Тамара рассмеялась, открыв крашенные чуть пошире, чем надо, губы и за ними ровные ряды белых, одинаково мелких зубов.
— Значит, я так молодо выгляжу?
Она нагнулась к нему, и очки заблестели у его глаз. Альгис небрежным движением сорвал с нее очки и с удивлением обнаружил, что без них ее лицо многое утеряло, даже стало менее женственным. Он нахлобучил ей очки на переносицу, нарочито грубо, фамильярно, и она сама заправила дужки за уши, не обидевшись.
— Никогда не снимайте очки, даже в постели с мужчиной. Очки придают вам сексуальность.
— Вы так думаете? Мне многие это говорили.
— Значит, многие вас видели голой, но в очках?
— Ну, зачем же так? Я могу обидеться…
— На меня? Вы же меня пригласили к себе в купе? Зачем?
— Ну, поговорить… посидеть… вы… такой интересный… мужчина и… поэт.
— Хватит трепаться, Тамара. У меня мало времени, снимай штаны.
Он ожидал, что она возмутится, закричит на весь вагон, прогонит его, и он этого добивался, чтоб, уходя, высказать ей все, что думает о ней и ей подобных. Альгис протянул руку к зеркальной двери и увидел свое отражение. Лицо было багровым и злым, и он чуть не рассмеялся, увидев себя со стороны, но сдержался, повернул рукоятку замка, сел на диван и стал деловито, демонстративно расстегивать штаны. Здесь светло, беспомощно произнесла Тамара.
— А ты привыкла к темноте? По-воровски? Прячась?
= Нет… Зачем ты сердишься? Я сделаю, как ты хочешь.
В ее голосе была абсолютная покорность, готовность сделать все, что он потребует и никакого следа от той чопорной строгости и недоступности, какая сквозила в ней на людях. Это еще больше раззадорило Альгиса.
Но она вдруг как-то вся стихла, жалко взглянула на него:
— Могут войти… я на службе…
— Плевать я хотел на твою службу. — Альгис с силой сжал ее колено. — Снимай штаны… или я ухожу…
— Не горячись… Сейчас все… сделаем. Защелкни замок.
— На какой диван ты хочешь? Где ты? Или ко мне? — робко спросила она, и голосом и выражением лица давая понять ему, что он хозяин и его слово-закон.
— Никаких диванов! Встань! Вот так. Повернись спиной. Хорошо. Нагнись. Ниже. Руками упрись. Он поднял ей юбку, задрал выше талии на спину, отстегнул пояс, державший чулки, сбросил вниз туфли и, дернув трусики, снял их с одной ноги, обнажив два мягких и белых полушария зада, сразу съежившихся, как от холода, гусиной кожей.
Тамара безропотно семенила, переступала ногами, помогая ему раздевать ее, но когда он навалился всей тяжестью ей на спину и она почувствовала кожей обнаженного зада его разгоряченное тело в прорехе расстегнутых штанов, она повернула назад лицо в больших очках с недоуменно вскинутыми бровками:
— Товарищ Пожера, что вы делаете?
— А что мужик с бабой делает? Не знаешь? Вот и учись. Дуреха и ноги шире. Шире, говорю!
Со злорадным наслаждением услышал он, как она сдавленно, с подвывом застонала, когда не без боли ощутила в своем теле его, и тогда он сгреб ладонью ее загривок, смяв лаковую корку прически, больно потянув на себя за волосы ее голову.
Тамара замычала, замотала головой, стукаясь очками в стенку, а он нарочито громко хрипел на ней, приговаривая:
— И не учи других морали! Поняла? Сама не лучше! — Имеешь мужа… небось, тоже партийный, как и ты… А подставляешь зад первому встречному после одного стакана коньяку. Сука ты! Учти, я буду спать сегодня с Джоан. Она мне. больше нравится. Считай, что я тебе взятку сую сейчас за то, чтоб ты нам с ней не мешала. Поняла?
Он раскачивал ее, толкал, с маху шлепая своим животом по заду, и она еле держалась на ногах, тычась лицом в стенку, но не сбрасывала его с себя, а лишь всхлипывала, содрогаясь худенькими плечами под нейлоновой кофточкой и пробивая слезами неровные бороздки в толстом слое розовой пудры.
Вагон покачивало, под полом ритмично стучали колеса. В широком, в никелированной раме, окне, чуть тронутом инеем по краям, бежало неяркое зимнее Подмосковье. Темные голые рощицы перемежались снежными, в сугробах, полями. Мелькали пустые, заколоченные дачи, серые, неуютные, с пустыми скворечниками на крышах. Оттуда веяло стужей, и даже поддувало в неплотные пазы окна.
Но в купе было тепло. Волны тепла поднимались снизу от упрятанных под столом калориферов. Меховая шубка Тамары, покачиваясь на крючке, мягким ворсом поглаживала Альгису лицо, и он все больше свирепел, ощущая под собой безвольное, послушное каждому его толчку женское тело, бесстыдно заголенное им и отданное ему на утеху и надругание — что душа, пожелает, потому что противиться Тамара была неспособна, как дворовая сучка породистому кобелю. Наконец, он разогнулся и, шаря рукой, стал застегивать брюки. В зеркале двери был виден голый поникший зад опустившейся на колени Тамары и послышался ее тихий, поскуливающий плач. Только теперь в ней пробилось что-то человеческое, и в Альгисе даже шевельнулось чувство жалости к ней. Он нащупал на ее спине край задранной юбки, потянул, закрыл наготу и, не прощаясь, вышел из купе, приоткрыв дверь лишь наполовину. В коридоре у окон стояли туристки, спинами к нему, и он поспешил в тамбур, опустив голову, пряча глаза. Ему хотелось бежать.
На душе было скверно и гадко, Будто он вымазался в чем-то вязком и тягучем, и надо будет долго скрести, чтоб очиститься, отмыть. Ему даже показалось, что это все произошло не с ним, а с кем-то другим. Он лишь был случайным свидетелем и теперь не может освободиться от чувства омерзения.
Он пересек, направляясь к себе, один или два общих вагона со спертым перегретым воздухом, вонью портянок и детских пеленок. На гремящих переходах между вагонами из-под ног вырывались струйки морозного пара, сковывая ноги и тело холодом и остужая пылающее раскрасневшееся лицо.
К себе в купе не хотелось, там будет душно. Он стоял в прохладном тамбуре, где не было никого, и прижимался лбом к замерзшему, в инее, стеклу. Кто-то прошел из другого вагона, и в открытую дверь ворвался грохот колес и поползло сизое облако холода. В мерзлом стекле, как в тусклом зеркале, Альгис разглядел укутанную во множество платков старушку с туповатым равнодушным крестьянским лицом. Она вела за руку высоченного и широкого, вдвое больше ее, парня без шапки, со стриженной наголо головой. Парень недвижно смотрел в одну точку и неуверенно переставлял ноги. Альгис осторожно оглянулся. Старушка вела слепого с пустыми, провалившимися глазницами и давно затянувшимися шрамами на лбу и щеке. Как у всех слепых, у него было бессмысленное, отчужденное выражение на лице и, хоть было ему под тридцать, инвалидом он стал еще в детстве, отчего печать неразвитости осталась на всем его облике. Он был в стеганой деревенской телогрейке, с плеча свисала на потертом ремне старенькая сельская гармоника с облупленной краской и заплатками на выступах мехов. Старуха несла в руке его шапку-ушанку донышком вверх — для милостыни.
Это были нищие. Слепой с поводырем. Возможно, мать и сын. Альгис давно не встречал в поездах нищих. В купейные и мягкие вагоны их не пускали проводники. Единственным местом для добычи пропитания для них оставались пригородные электрички и общие плацкартные вагоны в поездах дальнего следования, где публика была попроще и сердобольней, а проводники — безразличны ко всему, в том числе и к своей. службе, вменявшей им в обязанность не допускать в вагоны безбилетных нищих.
Эта пара отвлекала Альгиса от неприятных, будто чего-го гадкого наелся, ощущений, и он последовал за ними в душный вонючий вагон и остановился в проходе возле чьих-то нечистых голых ступней, нацеленных на него с верхней полки.
Слепой ощерился в безглазой улыбке, открыв большие конские зубы и, нащупав ремень, надел его на другое плечо, со стонущим звуком растянув заклеенные меха гармошки. Кто-то посторонился, уступив ему место на лавке, и старушка усадила его туда, рукавом своего кожушка смахнув с его лба и носа проступившие капли пота. Смахнула мягким привычным движением, как делает только мать. У Альгиса кольнуло сердце. Он представил, как война столько лет назад ослепила ее сынишку-мальчонку, и она его спасала, выхаживала, пока он не вымахал вдвое больше ее — никому, кроме нее, не нужный, всю жизнь неотрывно держась за ее руку.
Старушке тоже освободили место напротив него. Она сбросила на спину одну за другой все шали, в какие была укутана, открыв седую голову со сморщенным, обветренным морозом лицом и вылинявшими серыми глазами, в которых были кротость и терпение. На колени она положила шапку сына, аккуратно расправив в стороны меховые уши с тесемками. Пассажиры потянулись сюда со всего вагона — это было развлечением в нудном однообразии дороги. Да к тому же Россия испокон веку питает слабость к нищим, убогим, к их душещипательным заунывным песням. Что-то роднило и слушателей и исполнителей. И даже лицами они были похожи.
Слепой потянул край гармошки, пробежал пальцами по пуговкам клавишей и запел. Гнусаво, в нос, устремив курносое, с вывернутыми ноздрями и проваленными глазницами, лицо вверх, к потолку, где покачивались чьи-то босые желтые ноги.
— Хотят ли русские войны — Спросите вы у тишиныВторую фразу подхватила высоким и тоже гнусавым голосом старушка, а потом вместе, слитно, жаловались в два голоса, как нищие на церковной паперти:
Спросите вы у тех солдат Что под березами лежат Спросите вы у матерей…!У Альгиса захватило дух. Не Бог весть какие слова этой песни, написанной Евгением Евтушенко, молодым русским поэтом, которого Альгис не любил, так поразительно точно прозвучали в этом покачивающемся душном вагоне, так слились с обликом самих исполнителей, что он понял — это и есть подлинное искусство. Кому, как не этому пареньку, которого война с младенчества лишила света, а значит, и жизни, кому, как не этой матери, исстрадавшейся со слепым сыном, не вопрошать с полным на то правом:
— Хотят ли русские войны?
Ах, Евтушенко, Евтушенко. Быть бы тебе сейчас в этом вагоне, слышать своими ушами, как нищие, убогие слепцы поют твою песню, ею бередят души людей. Это они тебе поют славу. Не зная тебя. И слава Богу, что не знают, что не видят, как ты каждый день, на зависть всей Москве, меняешь заграничные костюмы, просаживаешь тысячи в самых дорогих ресторанах. Непонятный баловень судьбы. Такой прогрессивный и смелый в одних стихах, что кажется, тебя в первую же ночь арестует КГБ, и такой угодливо преданный — в других, что не хочется верить, один ли автор писал и первое и второе.
Альгис не любил его как человека. За позу, за любовь к дешевым и громким скандалам, за явную нравственную нечистоплотность. А теперь остро завидовал ему. На его глазах Евтушенко становился безымянным народным поэтом, песни которого слепцы распевают в поездах, и им за это подают милостыню… Это было высшей наградой для поэта, и случись подобное с ним самим, с Альгисом Пожерой, он посчитал бы, что достиг предела мечтаний.
За что же Альгис недолюбливал этого поэта, широко известного и, конечно же, не бесталанного? За то, что он уютно пристроился в ягодицах у начальства и. целует, и временами покусывает? Так ведь и он, Альгис, сидит там же. И тоже целует. Но не кусает. Надо выбирать одно: или целовать, или кусать. Нельзя беспринципность, производить в принцип. Альгис-советский поэт, рожденный этой властью и поющий ее, искренне, в полный голос, без ужимок и кукишей в кармане. Так хоть честнее. И о нем никто, посмеиваясь, не скажет, как говорят о Евтушенко в московских литературных кругах, словно о футболисте, одинаково бьющем и с правой, и с левой ноги: левый, правый, полусредний.
Все это верно. Но нищие слепцы поют Евтушенко, а не Пожеру. Свою неприязнь к автору Альгис перенес на ни в чем не повинных певцов. Протолкался через сгрудившихся в проходе пассажиров и вышел в холодный тамбур с ощущаемым под полом стуком колес. Сюда тянуло запахами кухни. Дальше шел вагон-ресторан, и чтоб попасть к себе, Альгису надо было пересечь его. Он был сыт, состояние опьянения прошло и хотелось лишь одного: поскорее добраться до своего купе, раздеться и, если удастся, помыть хоть часть тела после этой нелепой связи с Тамарой и лечь, растянуться на мягком матрасе, на белой, хрустящей от крахмала, простыне. Не хотелось никого видеть, а в ресторане его запомнили. И официант с вороватой понимающей усмешкой, и шеф в белой тужурке, не сходящейся на животе, со своими налитыми печалью армянскими глазами.
Но прежде, чем встретить их, он увидел, проходя через полупустой в это время ресторан, Джоан. Она сидела одна за столиком и вокруг не было других туристов. Перед ней стояла бутылка шампанского, и она отпивала из высокого бокала короткими глотками, глядя в окно, где уже потемнело и изредка мелькал, проносясь, огонек.
Альгис обрадовался, что встретил ее одну, без гида, и даже подумал, что она не случайно сидит здесь одна. Она ждет его, надеется, что встретит. Он подошел к ее столику, бухнулся на стул напротив, заставив ее, вздрогнув, оглянуться и радостно — она действительно поджидала его — рассмеяться.
— Джоан, я теперь полностью в вашем распоряжении, — сказал он ей так, будто они старые друзья и никаких условностей между ними не существует.
— И я тоже, — очаровательно кося, улыбнулась в ответ она.
— Что же нам мешает? Мы, наконец, одни. И в моем купе кроме меня, никого нет. Захватим шампанского и пойдем ко мне.
— Хорошо. Но чуть попозже.
— Почему?
— Я — американка, дорогой мой и уважаемый поэт. Для нас дело на первом месте. Если пойду к вам, мы забудем о деле. Не правда ли?
— О каком деле?
— Я ведь вами интересуюсь не только как мужчиной. Но и профессионально. Я хочу написать о вас и о многом должна спросить. Вот так вдвоем, без лишних глаз. И, пожалуй, ушей.
Альгис был разочарован.
— Бедная моя Джоан. Вы — действительно американка. Сохранись в вас хоть что-нибудь от литовки, вы бы предпочли уединиться и забыть свою профессию… хотя бы на часок.
— Поспешно судите обо мне. Мы еще уединимся. и я докажу, насколько вы не правы.
Она рассмеялась, протянула через стол руку и пальцами коснулась его руки. Интимно, нежно. Альгис обмяк, схватил ее пальцы, поднес к своим губам. Она легонько отдернула руку.
— Но я же просила. А теперь будем разговаривать. Вернее, я буду спрашивать, а вы — отвечать. Если найдете нужным. Я многое знаю, мой дорогой поэт. Вы не всегда вольны в своих ответах. Не думайте, что мы на Западе уж так наивны. Я ничего не напишу, что сможет вам доставить неприятность. Итак, приступим.
Альгис кивнул и снова поймал ее пальцы. Она их не отняла.
— Из всего, что я читала вашего, есть одно стихотворение, самое любимое мною. И очень популярное среди литовских эмигрантов в Америке. Вы догадываетесь, что я имею в виду?
— Н-нет.
— Очевидно, вам все нравится из написанного вами?
— О, нет. Далеко не все.
— Хорошо. Не буду вас томить. Есть у вас одна вещица. Небольшая. Но в ней вся Литва. Ее природа. Ее воздух. Для нас, в эмиграции, это стихотворение принесло запах родины. Это высокая лирика. Наша литовская. Не сравнимая ни с чем иным. «Литва моя, улыбкою росистой…» Помните?
— А-а, — рассмеялся Альгис. — Грешный человек, я тоже люблю это стихотворение. Неужели у вас его хорошо знают?
— Очень. Дети в воскресных школах наизусть учат, чтоб вкусить прелесть родного языка и полюбить, вдохнуть воздух далекой родины.
— Спасибо. Вы меня растрогали. Для поэта нет большей награды…
— А для искусствоведа нет большей удачи, как взять интервью у автора.
— Квиты. Спрашивайте.
— Значит, «Литва моя, улыбкою росистой». Как возникло оно? Что побудило вас так осязаемо и влюбленно воспеть литовскую природу. Будто в мире ничего иного нет. Поэт и природа. Никакой служебной идеи. Чистое искусство. Как вы смогли найти в наш бурный век такую покойную созерцательную позицию? Возможно, это был самый безмятежный период вашей жизни?
Альгис криво усмехнулся. Джоан смотрела на него своими косящими глазами и ждала ответа, Господи, если б рассказать ей правду? Ни в коем случае. А что ей сказать? Снова лгать? Как же на самом деле родилось это стихотворение, что побудило написать его?
…Помятый старенький «Виллис» с откинутым брезентовым тентом прыгал, скакал, как козлик, по рытвинам и выбоинам шоссе, окруженного с обеих сторон частоколом старых, обезглавленных, к весне деревьев. На обрубках корявых сучьев пучками зеленела клейкая молоденькая листва. Кричали грачи на вспаханных полях вдоль дороги. Пласты земли чернели сочно, свежо. С близкой Балтики тянуло соленым ветром.
Альгис подпрыгивал на жестком рваном сиденье, катался руками за соседа, когда «Виллис» бросало в стороны и задорное мальчишеское веселье, бездумное, просто от радости бытия, как некогда в детстве наступлением весны, пронизывало все его существо.
Он забыл о своих ночных невеселых мыслях, не дававших ему уснуть после вчерашнего совещания в горкоме партии, не обращал внимания на сосредоточенные угрюмые лица своих соседей в машине. Он дышал всей грудью, глотал открытым ртом упругий весенний морской воздух, и первая строчка стиха, легкая, прозрачная, как и весь пейзаж кругом, рождалась в его голове безо всякой натуги, сама по себе, будто он давно носил ее в сердце, а сейчас она со звоном выплеснулась. Этой ночью в клайпедской гостинице он долго ворочался с боку на бок под храп своих незнакомых соседей по номеру. В сущности, он мог сегодня и не ехать. Ведь он в командировке, здесь не состоит на партийном учете. Но когда перед началом совещания в горкоме куда он пришел просто послушать, посидеть, как корреспондент, первый секретарь Гинейка попросил его, как о личном одолжении, принять участие в завтрашней операции, ссылаясь на то, что людей не хватает и его долг коммуниста и так далее и так далее, он, не раздумывая, согласился и его внесли в список. То, что на совещании называлось операцией, в газетах потом подавалось, как всенародный праздник и демонстрация патриотизма советских людей. На деле же это была действительно боевая операция, а в условиях Литвы, где уже годами шла официально замалчиваемая война, она принимала особенно жестокий и опасный для жизни характер.
Ежегодно в этот день торжественно объявлялась подписка на государственный заем развития СССР. Каждый работающий в городе должен был отдать правительству не меньше одной месячной заработай платы и потом она у него высчитывалась, как добавочный налог в течение всего года. Это не вызывало особых затруднений. Рабочий этих денег не видел, ничего не платил, только расписывался в ведомости и не досчитывал каждый месяц какой-то суммы.
Куда сложнее было проводить заем на селе. Крестьяне жалованья не получают, у них ничего не вычтешь. Значит, мужичок должен в один день уплатить наличными установленную для него властями сумму и получить облигации, которые имели ценность не больше, чем бумага, на какой они были напечатаны. Назначалась общая сумма на всю волость и ее потом раскладывали по дворам, в зависимости от зажиточности хозяев.
Прекульская волость, куда теперь направлялись они на «Виллисе», должна была внести двенадцать тысяч рублей. И ни одной копейкой меньше. К полуночи эти деньги должны лежать на столе у Гинейки.
— Не привезете, — сказал поздно ночью им троим, в том числе и Альгису, Гинейка, — поплатитесь партийным билетом. План должен быть выполнен. Чего бы это ни стоило. Ясно? Не церемониться и не гладить по головке. Запомните, любую сумму, какой не достанет до двенадцати тысяч, выложите из своего кармана. Я у вас приму только двенадцать тысяч. Меня не интересует, где вы их возьмете. В добрый путь. И в дорогу им дали с собой автомат, пистолеты и гранаты.
Вот после этого Альгис долго не спал. Но сейчас весеннее майское утро разбередило поэтические струны в его душе, и невеселые мысли испарились из головы. Соседи же по «Виллису» не были поэтами. Они ежились от холодка, жмурились от ветра. Гладутис, немолодой инструктор горкома, поглубже запахнулся в кожаное пальто и держал на коленях, прикрыв ладонью, пистолет. Другой, сидевший рядом с шофером, русский парень, коммунист из порта Вася Кузнецов, нервно попыхивал сигаретой, и искры от ветра падали на Альгиса и Гладутиса и сразу гасли.
Прекуле замаячило издали высоким шпилем костела, и по мере приближения открылась куча домишек, разбросанных вокруг него. Это и был центр волости, где им предстояла операция. Остальные усадьбы были рассеяны среди полей и перелесков и до каждой из них предстояло сегодня добраться.
Местечко казалось вымершим. В большинстве домов даже ставни были закрыты. «Виллис» развернулся на булыжной площади перед костелом, вспугнув стайку кур, и остановился возле бетонного круглого колодца деревянным воротом, за ручку которого держался левой рукой щуплый маленький человечек со всклокоченной головой. В правой руке он поднял вверх дулом черный барабанный револьвер системы «наган» и потрясал им воздухе, приветствуя гостей. Это был единственный коммунист в волости, секретарь волкома Клюкас, на помощь которому и прикатил из Клайпеды «Виллис» с вооруженными людьми.
Альгис поначалу не придал значения тому, что Клюкас, единственный коммунист в волости, в такой день стоит почему-то у колодца и потрясает револьвером. Его больше удивил сам внешний вид этого человека. Жалкое тщедушное существо, очень далекое от воинственности, и револьвер в его руке казался совсем неуместным и даже смешным. Густая и давно немытая, торчавшая войлочными клочьями шевелюра, неопрятная поношенная одежда, и весь он выглядел спившимся местечковым счетоводом, над которым подтрунивают соседки, а мужчины и вовсе не замечают. Но поди ты, как обманчиво первое впечатление, Клюкас был героем. Фанатичным, безумным, не ведающим, что такое страх. Он уже год жил здесь один со своим старым милицейским револьвером нагана, был единственным представителем советской власти в волости, выполнял все предписания сверху, проводил все кампании, вынуждая население подчиняться, и все это один-одинешенек, во враждебной среде, где у него не было ни друга, ни приятеля, ни жены, ни детей. Что он ел и где кормился, ведал один Бог, ночевал в сараях, каждый раз менял место, чтоб его во сне не застали врасплох, прятался, исчезал, когда через волость со стрельбой прокатывались лесные братья и снова возникал после их ухода и приступал к своим обязанностям.
Сегодня он подписывал свою волость на заем. Альгис, Гладутис и Кузнецов были брошены ему из городи на помощь.
— Поздновато, товарищи, — встретил он гостей и почему-то не выпускал рукоятку колодезного ворота. — У нас уже работа в разгаре.
— Где народ? — начальственным тоном осведомился Гладутис, уязвленный замечанием Клюкаса.
— В соборе, — хихикнул Клюкас, и глаза его, маленькие, под мохнатыми бровями заиграли нездоровым, как показалось Альгису, блеском.
Он указал наганом на крепкий каменный дом с закрытыми ставнями, стоявший напротив костела. Массивная дверь под вывеской «Волком» была заложена железным засовом. И только теперь Альгис расслышал невнятный шум многих голосов, доносившийся из запертого дома.
— У меня свой метод. Проверенный, — пояснил Клюкас. — Всех, кто победнее, кому положено двадцать пять рублей платить, с рассвета пригнал сюда и запер. Для размышления. Денек-то стоит на заказ, мужичку пахать надо, а его — под замок. Вот и день пропал. Пусть покумекает: себе дороже выйдет, если не заплатит. А заплатил, иди себе, работай на здоровье. Гости переглянулись. Альгис, прищурясь, смотрел на Клюкаса, на мелкие черты его сухого, давно не бритого лица, на его нехорошо поблескивающие глазки и все больше настораживался, как бывает при встрече с не вполне нормальным человеком.
Гладутис был старшим в группе. Он ничего ненормального не нашел в поведении Клюкаса.
— Какие результаты? — деловито спросил он.
— Больше тыщи, — с гордостью хлопнул наганом по карману брюк Клюкас. — И ведомость тут. Полный порядок.
Неплохо, неплохо, — одобрил Гладутис. — Что ты стоишь у колодца? Пошли куда-нибудь, обсудим план действий.
— Не могу отойти, — качнул рукоятку колодезного ворота Клюкас. — Будут жертвы.
И жестом, с таким выражением, будто сейчас им покажет главный сюрприз, подозвал ближе к колодцу.
— Туда, туда смотрите, — закивал он внутрь колодца, куда уходила туго натянутая цепь.
И когда Альгис осторожно заглянул через бетонный край, то увидел далеко внизу, в сырой полутьме, где растворялся конец цепи, человека в мятой крестьянской шляпе, запрокинувшего вверх серое бородатое лицо. Привязанный к бадье, по пояс в воде сидел в колодце старик и не мигая смотрел снизу на склоненные к нему головы.
— Пусть отмокает. Кулацкая морда, — торжествующе доносился за ними голос Клюкаса. — Меньше, чем за двести рублей не вытащу.
У Альгиса сжалось сердце. Он разогнулся над колодцем и гневно уставился на Клюкаса.
— Вы понимаете, что делаете? Если он и не был нашим врагом, то станет.
— Не станет, успокоил его Клюкас и помахал наганом. — А это зачем? Я у него марксистское мышление развиваю.
Он сказал это без тени юмора, и Альгис окончательно убедился, что перед ним сумасшедший, который находит во всем этом какое-то ребячье удовольствие. Кузнецов молчал, пыхтя сигаретой, а Гладутис, ничему не удивившись, одобрительно похлопал Клюкаса по плечу.
— Даешь! Так мы к обеду, глядишь, и управимся. Поощренный Клюкас отпустил на один оборот рукоятку ворота, и мужичок внизу ушел в воду по самую шею.
— Не надоело братец? — весело крикнул ему Клюкас. — Тут начальство приехало. Хватит купаться, кашлять будешь.
Из холодной глубины колодца донеслось невнятное «бу-бу-бу…»
— Готов, — рассмеялся Клюкас. — Можно записать еще двести рублей. А ну, товарищи, подсобите, один не вытащу.
Гладутис ухватился за рукоятку, и они оба с натугой стали вертеть скрипящее колесо, наматывая цепь на деревянный искрошенный вал. Над бетонным краем показалась моргающая бородатая голова и уперлась мятой шляпой в дерево вала. Дальше пришлось тащить его руками, и они вчетвером приподняли и перенесли через край мокрого, дрожащего от холода старика вместе с бадьей, к которой он был привязан ремнем, На ногах старика поверх толстых вязаных носков болтались клумпы — извечная обувь литовских крестьян, вырезанная из цельного куска дерева. И эти клумпы, и мятая шляпа, и сползающие мокрые штаны, прилипшие к ногам, — от всего этого веяло нищетой и никак не вязалось с представлением о кулаке, зажиточном хозяине.
— Гони, папаша, монету, захохотал Клюкас, отвязывая старика от бадьи, в которой он сидел, обняв железную дужку мокрыми ногами в свисающих клумпах. Небось, в чулок зашил? Поможешь государству укрепить свою мощь и иди сушись на печь.
Над шпилем костела пролетела темным облаком с расползающимися краями грачиная стая и с гомоном стала приземляться на верхушках деревьев. Это было последним, что потом отчетливо вспоминал Альгис. Остальное возникало обрывками. Он помнил, что в голове почему-то мелькнула, не отвязываясь, первая строчка стиха, сочиненного в дороге: «Литва моя, улыбкою росистой…» Эту строку он бубнил потом, когда шел за стариком на хутор, и пока тот, не глядя, сунул ему смятые деньги и долго не хотел расписываться в ведомости, и за него, наконец, расписался белоголовый внук, в штанах с одной шлейкой и с соплей на верхней губе. Пока из волкома по одному выводили крестьян и они, ругаясь с провожатым, шли домой за деньгами.
«Литва моя, улыбкою росистой…» — бессмысленно повторял Альгис, чтоб не слышать женского плача, злобного старушечьего ворчания, не видеть испуганных, удивленных детских глаз.
Еще помнил он, как Гладутис сердито, словно Альгис его чем-то обидел, выговаривал ему:
— Интеллигентские замашки. Нет в вас пролетарской жилки. Стишки писать легко. А кто будет этим заниматься? Мы, коммунисты. Мы делаем черную работу и не брезгуем, потому что имеем дальний прицел. Для блага этих же людей, Потом поймут, оценят. И нечего раскисать, вы не барышня.
И еще он помнит радостный возглас Клюкаса.
— Половина работы сделана. Шесть тысяч у нас! Ей-Богу, первыми в уезде отрапортуем.
Рапортовали уже без Альгиса. Да и рапортовали ли, он до сих пор не знает.
Где-то уже за полдень Альгису нестерпимо захотелось есть, и он, забыв о строгом наказе ни до какой еды не прикасаться, попросил в одном доме перекусить. Уже потом ему говорили, что, к счастью, он не забрел на дальний хутор, а здесь, возле площади, пообедал. Шофер «Виллиса» увидел, как он выбежал из дома скрючившись, сжимая руками живот. Его стало рвать, и он упал на булыжник.
Дальше все делалось без него. Он не знает, как его везли, как доставили в Вильнюс, как поместили в отдельной палате спецполиклиники ЦК.
Семь суток, ровно неделю, провалялся он без сознания, скрипя зубами от сжигавшего все внутренности огня. Врачи определили острое отравление, и когда совсем потеряли надежду вывести его из забытья, на восьмой день вызвали из Паневежиса отца. Очевидно, чтоб присутствовал при его последнем часе.
Первое, что увидел Альгис очнувшись, было лицо отца с вислыми серыми усами за окном, со сплющенным, прижатым к стеклу носом. Не понимая, где он, Альгис вскочил, сбросив одеяло, сел на кровати и со слабости сразу привалился спиной к стене. На нем были какие-то белые кальсоны и рубаха, в разных местах черневшие казенными печатями.
Отец за окном встрепенулся, растерянно заморгал, и Альгис увидел, что по его коричневой морщинистой щеке ползет слеза. Мутная. И очень большая. И Альгис тоже заплакал. Навзрыд. Как ребенок. Облегчающими душу обильными слезами. И заплакал, видимо, в голос, потому что прибежали врачи и сестры в белых халатах, засуетились, радостно что-то гомоня, и ласково, как малое дитя, укладывая его, на подушки.
Значительно позже, когда дело шло на поправку, ему принесли газеты, которых он не видел за время болезни, и в них он читал рапорты об успешном распространении займа среди населения Литвы и письма крестьян, казенными газетными словами выражавшими радость по этому поводу, и каждое письмо кончалось здравицей в честь любимого вождя товарища Сталина.
В ворохе газет он случайно набрел на некролог в жирной черной рамке, где писалось о героической гибели коммуниста из Клайпедского порта Василия Кузнецова, подло убитого кулаками, и он, напрягая память, вспомнил, что это пишут о том самом Васе Кузнецове, что был с ним на операции в Прекуле, и, возможно, зарубил его топором мокрый мужичок, вытащенный из колодца. Но сколько ни силился Альгис, лица Васи Кузнецова никак вспомнить не мог. Одно засело в памяти — пыхтящая сигарета и искры, что сыпались от нее на ветру в «Виллисе».
А через полгода, совсем окрепнув, он написал стихотворение. И начиналось оно словами: «Литва моя, улыбкою росистой». Это было лирическое стихотворение, прозрачное, как слеза, какой рыдал он в больнице, и это стихотворение долго хвалили в рецензиях и артисты читали со сцены. В нем не было ни следа от всего пережитого в Прекуле, а только свежесть майского утра, каким воспринял его Альгис, когда подпрыгивал на сиденье «Виллиса» и открытым ртом глотал соленый упругий ветер, какой бывает только в Литве.
Джоан терпеливо ждала ответа, потягивая мелкими глотками шампанское из бокала на высокой ножке, а Альгис смотрел на ее близко посаженные, чуть косящие серые глаза, крепкие и неестественно белые зубы, теплую впадинку на шее и хотел лишь одного, ни о чем с ней не говорить. А подняться со стула и пойти к себе в купе и чтоб она покорно шла следом.
Альгис сказал ей об этом своем желании. Откровенно. Даже о том, что не желает ни о чем говорить и просит ее молча следовать за ним. Потому что, вряд ли такой случай еще представится им обоим. И нужно спешить воспользоваться им.
— 0'кэй, — согласилась Джоан. — Допьем шампанское и пойдем.
— Не обижайтесь, Джоан, — неуклюже попытался Альгис смягчить свой отказ говорить, — Вы же умница. Есть в России поговорка: язык мой — враг мой. Постарайтесь понять все без слов.
— О'кэй, — повторила Джоан и сочувственно заглянула ему в глаза. — Мне от ваших слов плакать хочется. За ваши успехи, мистер Пожера. Пусть вас и впредь хранит Бог, наш литовский Бог, в этой чужой для меня и для вас тоже, стране.
Альгис залпом опрокинул бокал шампанского, как водку, и от газовых пузырьков в вине у него защипало в глазах.
Поезд уже давно стоял, и в синеющих сумерках раннего зимнего вечера виднелись за окном желтые стены вокзала, пятна фонарей с радужным нимбом мороза и суетливо бегущие в разных направлениях люди, с чемоданами и узлами, подхлестываемые непонятной спешкой, будто каждый не верил, что успеет сесть в вагон и поезд непременно уйдет без него, хоть в его взопревшей липкой руке покоится билет, взятый с бою в огромной очереди у кассы на станции. Альгис искоса следил за взглядом Джоан и понимал, что она все замечает. И плохонькую одежду людей, и их загнанный вид, и эти допотопные чемоданы и узлы, какие встретишь только в России. Но ему не хотелось отвлекать ее болтовней, как он непременно сделал бы прежде, защищая честь мундира. Советского. Самого незапятнанного в мире. Нет. Пусть видит правду и делает свои выводы. Хотите, чтоб мир ничего не знал, зачем пускаете туристов? Ах, денежки, валюта. Но уж тут надо выбирать одно — хотите прибыль, тогда не румяньте фасад и не прячьте свой неприглядный вид.
Но тут вспомнил слова проводницы вагона: если в Можайске никто не сядет, до конца поедете одни. Значит, эта стоянка — Можайск. И оттого, сунут ли к нему в купе какого-нибудь зачумленного обитателя Можайска, зависит вся ночь с Джоан Мэйдж, американской литовкой, чудесное дорожное приключение, подаренное ему судьбой.
— Пойдемте, Джоан, — сказал он, вставая и бросая на стол деньги, чтоб заплатить советскими рублями за сделанный ею заказ.
— Да, да, — вдруг заспешила и она. — Наш гид может сюда войти, а при ней я себя чувствую, как школьница перед классной дамой. Несносная особа! Они покинули вагон-ресторан, сопровождаемые всепонимающим взглядом официанта и грустными маслянистыми глазами шефа в белой куртке, и Альгис лопатками ощущал их за собой и понимал, что кто-то из них, а возможно, и оба, в служебном рвении сейчас же разыщут Тамару из «Интуриста» и донесут ей, что высокий литовец со светлыми волосами, ну, этот… поэт увел к себе американскую туристку. И она бросится на поиски. И останется с носом. Потому что не знает, в каком вагоне едет Альгис и, если даже будет заглядывать в каждое купе, что почти невероятно, то они с Джоан запрутся изнутри и никого до утра к себе не впустят.
Подгоняемый мальчишеским азартом он быстрым шагом, проскальзывая боком мимо встречных, пробирался по узким вагонным коридорам. Джоан еле поспевала за ним, не понимая причины этой спешки и оправдывая ее лишь тем, что она несомненно понравилась Альгису, и его несет вспыхнувшее желание, возбужденное ею. Это льстило самолюбию и тоже возбуждало, потому что все кругом было необычно: и этот поезд, мчащийся по замерзшей нищей стране, где люди не смеют говорить откровенно, и Литва-родина дедов, встреча с которой предстоит завтра, и этот красавец-поэт с мировым именем.
Альгис даже задохнулся от быстрой ходьбы. Вот, наконец, и его вагон. В коридоре новые лица, каких прежде не замечал, но дверь в его купе плотно закрыта. Слава Богу! Поезд уже мчится от Можайска и его оставили одного. Он рванул ручку двери. Она не поддалась. Он дернул еще раз. Тщетно. Дверь была заперта на защелку изнутри.
— Извините. Там женщина переодевается. Это было сказано по-русски, но с явным литовским акцентом. У окна коридора напротив двери стоял высокий мужчина, примерно одних лет с Альгисом, в пиджаке и галстуке, но почему-то в синих брюках-галифе и сапогах. Такое сочетание в одежде любили начальники невысокого ранга в сельских районах Литвы. И лицо у него было крестьянское: грубоватое и обветренное. Зато взгляд маленьких, под низкими бровями, глаз был уверенный и даже нагловатый.
— В моем купе едет еще кто-нибудь? — раздраженно перешел на литовский Альгис и в ответ получил вызывающую и снова нагловатую ухмылку.
— Во-первых, купе не ваше, а государственное. Во-вторых, сейчас в нем полный комплект: вы и нас трое. И тут же ухмылка смягчилась, подобрела, стала простодушней.
— Будет у нас литовское купе. Никого не надо стесняться. Все четверо — свой брат — литовцы. У этого человека были желтоватые, прокуренные и длинные как у лошади, зубы.
— Сигита, — негромко позвал он, стукнув согнутым пальцем в дверь купе. — Ты уже? Тут люди ждут. Позади него стоял еще один мужчина литовского типа, постарше и ниже ростом и тоже в потертом, вышедшим из моды пиджаке с галстуком и синих галифе с сапогами.
— Альгис, — тронула его за руку Джоан. Лучше вернуться в ресторан.
— Сейчас, сейчас, — раздраженно ответил он, чувствуя, что рушатся все его планы, и противная, сосущая боль вползает в сердце, как это стало случаться с ним в последнее время, когда он нервничал или злился. — Я хочу посмотреть, с кем мне предстоит провести ночь.
Насколько я поняла, это женщина, — в голосе Джоан проскользнули насмешливые нотки.
— Какая женщина, — усмехнулся высокий сосед Альгиса по купе. — Девчонка. Молоко на губах не обсохло.
— Ваша дочь? — спросила Джоан.
— Дочь, не дочь, чего мне перед вами отчитываться!
— Не хамите, — оборвал его Альгис. — Так не разговаривают с женщиной. И чтоб вы были впредь осмотрительней, предупреждаю — это иностранка, литовка из Америки.
На его длинном, в продольных морщинах, лице проступило сначала удивление, затем замешательство.
— Простите, если что не так. Прошу прощения. Если можно, я бы хотел с вами кое о чем поговорить. прежде, чем мы войдем в купе.
И он пальцем поманил Альгиса подальше от Джоан. Альгис сделал несколько шагов за ним, строго и неприязненно глядя на него.
— Дело вот в чем, — зашептал он Альгису косясь через плечо на Джоан. — Я и мой напарник — из каунасской милиции. А девчонка, что мы везем, преступница. Наше задание доставить ее на суд. Ясно? Поэтому иностранку, если можно, в это дело не впутывайте и пусть она в купе не входит.
— Черт знает что, — поморщился, как от зубной боли, Альгис. — Какое-то наваждение. В моем купе везут преступницу. Под конвоем. И мне предстоит целая ночь в таком приятном обществе. Я немедленно перехожу в другое купе. Помогите мне вещи перенести. Дверь купе уже была открыта, и Альгис, заглянув туда, никого не обнаружил. Потом что-то шевельнулось вверху на левой полке и оттуда свесилась головка в кудрявых нечесаных волосах. Курносое, губастое, еще детское лицо. С большими серыми глазами. Настороженными и удивленными. И голос мелодичный, мягкий:
А я вас знаю. Вы Альгирдас Пожера! И когда он кивнул, ее глаза вспыхнули таким неподдельным восторгом, такой радостью узнавания, что Альгис невольно улыбнулся ей в ответ и пожал протянутую ему сверху руку. При этом он увидел на лацкане пиджака, в который она была одета, комсомольский значок с профилем Ленина и совсем растерялся. Преступница. С таким доверчивым детским личиком. Ей на вид не больше шестнадцати. Да и комсомольский значок. И эти два конвоира. Не смеются ли над ним, не подстроил ли кто-нибудь шутку?
Альгис, пригласите эту девочку с нами, — сказала за спиной Джоан. — Вы так популярны. Вас даже дети узнают в лицо.
— Нет, нет, — вмешался высокий в галифе. — Ей надо отдыхать. Завтра тяжелый день.
— Так вы едете с нами, в одном купе? — ликовала девочка. — Вот уж никто не поверит мне, что я с вами вместе ехала. Здорово повезло мне.
Альгис вдруг почувствовал, что ему не хочется уходить из купе. Ему показалось знакомым лицо этой девчонки, даже манера говорить. Надо было выяснить, разобраться во всем этом сумбуре, что свалился на него. А для этого — отделаться от Джоан, отправить ее к себе, в мягкий вагон. Он вдруг потерял к ней всякий интерес. И, сказав, чтоб она шла к себе, он, мол, попозже заглянет, вошел в свое купе, сел на нижнюю полку и, запрокинув голову, встретился с серыми улыбающимися глазами.
Оба милиционера остались в коридоре, даже деликатно отвернулись к окну и, должно быть, следили за ним в отражении на стекле. Ему это было безразлично. Он смотрел на Сигиту, на ее улыбку и силился вспомнить, кого ему остро, до беспокойства напоминала она. Он напрягал память, упрямо шарил в ее самых дальних закоулках и все отчетливей — каждый раз отдельными и застывшими, как фотографические снимки, возникали изображения вот такой же угловатой, еще не округлившейся девичьей фигурки, вот этой же улыбки на припухлых и обветренных губах, тот же диковатый взгляд серых глаз из-под сдвинутых бровок. Настороженный, постоянно готовый к отпору взгляд еще не созревшего человечка, уже знающего, что в этом мире жди подвоха с любой стороны.
В какой-то момент Альгису почудилось, что он уже встречал Сигиту, даже знал ее и с ней связаны какие-то воспоминания. Такую же шестнадцатилетнюю деревенскую девчонку, застенчивую и грубоватую, в ту самую пору, когда вся она, как яблоко-дичок, наливалась сладкими соками зреющего девичества, и ни бедное застиранное платьице, из которого она выросла и оно лопнуло на боку, ни голенастые исцарапанные ноги с темными ссадинами на коленях, ни обветренный, с шелушащейся кожей, нос не могли притушевать того тихого очарования, которым она светилась, которым было полно каждое ее движение.
Нет, конечно, не Сигита возникала в памяти. Ведь Альгис в ту пору был совсем молод, и Сигита тогда еще не родилась или в лучшем случае ползала у матери на коленях. Но той, что проступала и исчезала в смутной памяти, было столько же лет и походила она на Сигиту как сестра-близнец. Может, имя вспомнится. Вертится на кончике языка, Дана… Дануте! И все всплыло из глубины, прояснившись до пронзительной отчетливости, и Альгис обонянием учуял тот запах, которым насквозь было пропитано это воспоминание. Запах цветущего клевера. Сладковатый, сырой, чуть медовый запах.
Мохнатые, как ежики, белые и лиловые головки клевера среди резных круглоконечных листочков, покрытых пушком — седоватым от капелек росы.
Это была маленькая железнодорожная станция, затерявшаяся среди полей и рощ. И поезд был маленький, словно игрушечный. Сюда в глубину провинции вела узкоколейная дорога, по которой не спеша и отчаянно посвистывая, будто перегретый чайник, тащил семь-восемь крохотных вагончиков паровозик, черный и новенький, прозванный в народе «кукушкой». На подъемах он захлебывался, сердито плюясь и шипя паром, и тогда пассажиры, обычно крестьяне из окрестных деревень, слезали на ходу, не доезжая до станции, благо, отсюда было ближе до дому, и шли рядом с вагоном, не убыстряя шага, пока им из окон передавали мешки и корзины нехитрый багаж сельского жителя.
В этих вагонах густо пахло махоркой, потными ногами и кислой овчиной полушубков. Люди сидели тесно, развязав мешки, ели сало с луком, и угощали соседей. Булькала из темных бутылок самогонка, распространяя острую сивушную вонь. Бутылки вместо пробок натыкались смятым куском газетной бумаги.
Альгис в ту пору не тяготился таким соседством. Наоборот, ел вместе с ними сало с луком, пил самогон и жадно слушал неторопливый крестьянский разговор, умиляясь метким словечкам и стараясь запомнить их, сам говорил, вдохновляясь тем, что они с ним на равных и внимают с уважением.
Он любил этих людей. Это была истинная Литва. Со своими бедами и заботами. Не читающая газет и потому не похожая на ту, что описывается в газетах.
Альгис тогда себя ощущал одним из них, только выбившимся немного вверх, и смущался этим, словно поступил по отношению к ним не совсем честно. Он тогда был молод, наивен, чист, как девица под венцом, и широко, раскрытыми глазами вбирал в себя весь мир, болея его тревогами и горем и искренне надеюсь и веря, что скоро, вот еще немного, и всем будет хорошо, и кончатся страдания, каких пока еще очень много!
Вот таким подъехал Альгис в то сырое утро к маленькой станции и спрыгнул с подножки на дощатый пастил перрона, покрытый росой, с чернеющими отпечатками босых ног, цепочкой тянувшихся по доскам. Альгис проследил, куда они ведут, и увидел две одиноких женских фигуры в самом конце перрона. Обе босиком. Старушка и девочка-подросток, лет пятнадцати. Тогда он и запомнил диковатый взгляд серых глаз из-под сдвинутых бровок, голенастые исцарапанные ноги с темными ссадинами на угловатых коленях. Это была Дануте. Та Дануте, которая потом часто пересекала его путь, пока он был в этом колхозе, и забыть которую он почему-то не смог, хотя прошло много лет тех пор и между ним и ею ничего не возникло да и возникнуть не могло.
Дануте с матерью принесли к поезду бидоны с молоком, огурцы и редиску в больших мокрых пучках с копьями земли на длинных хвостах.
— Кому молочка? Кому редиски? — покрикивала Дануте, шлепая босыми ногами по дощатому настилу и протягивая свой товар в окно.
Покрикивала она нехотя, даже зло, и злиться было отчего. Пока поезд стоял, никто ничего не купил у нее. И так, видать, бывало не раз. В поезде ехали большей частью крестьяне, а уже какие они покупатели, сами везут то же самое на рынок. Паровоз свистнул, вагончики слабо звякнули и поплыли. На перроне остались Альгис со своим чемоданчиком и они вдвоем. Дануте прошла мимо него, направляясь к матери, скользнула быстрым цепким глазом, и когда он по простоте душевной улыбнулся ей, посуровела, сдвинув брови, и во взгляде ее сверкнуло столько злости, что Альгис вначале опешил и лишь потом сообразил, что она приняла его улыбку за насмешку. Дануте подошла к матери, поставила корзину у ее ног, а та стала ругать ее. Альгис слов не слышал, но видел, что мать отчитывает ее за неудачную торговлю, и потом еще хлестнула рукой по лицу. Дануте отскочила от нее, как коза, ругнулась в ответ и побежала с перрона на тропинку, высоко вскидывая босые ноги. И бежала, не оглядываясь, пока совсем не скрылась за кустами в овраге.
Альгис, возможно, вскоре и забыл бы ее, если б их пути снова не перекрестились. И произошло это в тот же день вечером.
Со станции Альгис направился к цели своей командировки — в колхоз «Родина», которым управляла удивительная женщина — Она Саулене. О ней Альгис и раньше писал в газете и каждый раз приезжал сюда, как к себе домой.
Вся жизнь Саулене давала благодатнейший материал для газетных статей на тему, что принесла советская власть в Литву. Такие, как она, получили все, о чем прежде и мечтать не могли. До советской власти она ютилась в этих местах в жалкой хибарке с мужем и тремя детьми, своей земли не имела и работала в чужих хозяйствах у богатых крестьян, оставаясь неграмотной, бедной и озлобленной. Крупная, тяжелая, как большинство жемайтийских крестьянок, она была человеком суровым, с твердым мужским характером и цепким природным умом.
Вот эти свои качества она с лихвой проявила, когда Литву присоединили к России, и советская власть, недолго думая, стала по своему образцу создавать колхозы: отбирать у мужиков землю, скот и все это объединять в одно хозяйство, где все равны, без бедных и богатых. С богатыми дело решилось просто — их скоренько увезли в Сибирь, а бедным терять было нечего — что на чужом поле гнуть спину, что на колхозном.
Это был звездный час Оны Саулене, она как бы родилась заново. С револьвером в кармане пальто, первого в жизни пальто, которое ей выдали без денег после конфискации имущества у кулаков, ездила она по хуторам, выселяла по спискам в Сибирь, свозила плуги, бороны, сеялки, коней и коров на общий двор, не знала милосердия к богатым, но была честна и справедлива к бедным.
Она, жестоко поплатилась. за это. Лесные братья, те, что не дали себя увезти в Сибирь и ушли в леса, отомстили ей. Однажды ночью запылала ее хибара, а окна и двери были предусмотрительно заперты снаружи чьей-то немилосердной рукой. В огне остались муж и трое детей. Сама она уцелела чудом, в эту ночь она была в уездном центре на собрании. Вернулась на пустое пепелище, молча, без единой слезы, рылась в золе, собирала обугленные косточки, сама похоронила все, что собрала, в одной яме и уж совсем осатанело продолжала строить колхоз,
Крестьяне, напуганные и придавленные всем, что происходило вокруг, были рады, когда ее назначили председателем и дружно голосовали за нее, потому что она была своя, а не чужая, в честности ее никто не сомневался, и была надежда, что уж эта баба с мужским характером, если и обидит кого, то от души по-свойски, но зато и защитит от всех напастей перед уездным начальством, которого развелось вокруг, как грибов после дождя.
Она оказалась на редкость даровитым человеком. Неграмотная, забитая баба отлично понимала в хозяйстве, а уж заставить людей работать она умела, как никто другой. Не только женщины, но и мужики боялись ее взгляда. Если проезжала мимо, когда народ работал в поле, все кланялись ей до земли, как давным давно помещику. Но при этом ее и уважали. Люди при ней стали богатеть, хозяйство шло в гору, за ее спиной им и сам черт не был страшен, А сама она себе лишнего не брала. Жила, как все остальные.
Альгис с нескрываемым интересом и восхищением наблюдал за ней в частые свои поездки сюда. Рано состарившаяся, широкой кости и в последние годы пополневшая от сердечного недуга, она была некрасивая. Плоское обветренное лицо, нос картошкой и маленькие сверлящие глазки под вечно сдвинутыми бровями. Но эти глазки могли быть и добрыми.
Альгис замечал, как непривычно теплел ее взгляд, когда она разговаривала с ним. Она сама призналась, что он напоминал ей старшего сына, и каждый его приезд был для нее тихим праздником. Тяжело усевшись в продранное кресло у топящейся печи, дымя самодельной папиросой, которую она по-мужски скручивала из газетной бумаги, она подолгу говорила с ним, а раз ночью, он спал в ее доме, проснулся оттого, что она стояла над ним, разглядывая его лицо.
Такие, как эта женщина, олицетворяли для Альгиса новую жизнь, что пришла в Литву с советской властью. Она Саулене сама была этой властью, подлинно народной, не щадившей себя для общего блага. Как быстро она научилась, не смущаясь, выступать на собраниях, спорить с начальством, грубовато, но метко, и ее языка побаивались даже столичные гости. Однажды Альгис случайно встретил ее в Вильнюсе, куда она приехала на совещание. В ресторане «Бристоль» под хрустальной люстрой, тяжело нависшей с лепного потолка, отражаясь со всех сторон в зеркалах, грузно сидела она в полупустом зале с ковровыми дорожками и вощеным паркетом и, хмуря брови, делала заказ официанту, почтительно склонившемуся перед ней. Альгис подсел. На ней было черное шерстяное платье городского покроя с глубоким вырезом на груди, и в этом вырезе Альгис, оторопев, увидел розовый шелк нижней рубашки, поднятой высоко до горла. Смущаясь, Альгис пытался объяснить ей, что нижнее белье не должно быть видно, его носят под платьем, но Саулене и бровью не повела.
— А пусть все видят, что и мы в шелках ходим, горделиво сказала она, окинув весь зал вызывающим взглядом, готовым вцепиться в каждого, кто непочтительно глянет на нее.
У себя в колхозе Она жила одна в доставшемся ей после конфискации у богачей большом доме со старинной резной мебелью. Жилой была лишь одна комната, остальные пришли в запустенье, как и вся усадьба с сараями и пристройками. О прежнем богатстве напоминали лишь два павлина, доставшиеся ей вместе с домом, вконец одичавшие, но не покидавшие двора и по ночам гортанными резкими криками будившие ее.
Уже к вечеру, закончив все дела и не зная чем заняться — обратный поезд будет поздно ночью, Альгис пошел побродить перед сном.
Наступил вечер, синий и прозрачный. Бледная, как сквозь марлю, луна вылезла из-за дальних холмов, растворив сумерки, и было видно далеко-далеко. Даже небыстрая река Шешупе угадывалась отсюда петляющей полоской среди зарослей орешника. Оттуда, с реки, тянуло сырой свежестью и первыми волокнами тумана, несмело ползшими по низинам к полям. Головки клевера по краям песчаной мягкой дороги набухали влагой, источали такой медовый дух, что воздух хотелось пить, а не просто дышать им, чтоб запастись на много дней вперед. Альгис пришел в то умиротворенное невесомое состояние, какое предшествовало обычно рождению нового стихотворения и, уже сладко предчувствуя это, бесцельно брел по мягкой дороге, не думая ни о чем.
Здесь, в гостях у Оны Саулене, он обретал душевный покой. Уже несколько лет, как присмирела перестала буйствовать Литва. Стихли выстрелы, испарились патрули. В заколоченных пустых хуторах снова засветились окошки, безбоязненно, уютно, и. из печных труб вились домовые дымки. Поля, заглохшие бурьяном в те годы, были снова чисто ухожены и, как бы нагоняя упущенное радостно и тучно зеленели
Значит, все беды и кровь не напрасными были. Мир и покой пришли в Литву, а люди, что уцелели, жадно дорвались до сытой, в трудах и заботах, жизни. Так думал Альгис, и колхоз Саулене давал ему лучший пример для таких размышлений.
Приезжая сюда, Альгис не досаждал никому вопросами, не составлял никаких планов. Он только наблюдал и это давало гору материала. Так и ни сей раз. Он с утра забрался в рессорную двуколку председателя, запряженную норовистым игривым мерином, Саулене грузно опустилась рядом на застланное охапкой клеверного сена сиденье, по-мужски взяли вожжи, и они понеслись, мягко покачиваясь, по пыльному проселку. Он решил сопровождать ее, пока не надоест, во всех будничных делах и даже не делать пометок в блокноте, а больше полагаясь на свою память.
Мерин ходко бежал по холмистой равнине, екая селезенкой, и когда Альгис спросил, почему бы ей не завести автомобиль, в отдельных колхозах уже появились, Саулене только усмехнулась, как детской забаве, сказав, что автомобиль воняет, и так уж тракторы кругом губят воздух, скоро по всей Литве дышать будет нечем, а от коня запах свойский, домашний. Была она в тот день в хорошем настроении, возможно, приезд Альгиса был причиной тому, и даже один раз созоровала, совсем по-молодому, открывшись Альгису еще с одной, неведомой ему прежде, стороны. На полях поспевал, заметно побелев, густой усатый ячмень, а клевер, под какой была занята большая часть земли, совсем уже созрел к укосу, стоял высокий, по колено, и даже в знойный полдень из его темной гущи несло сырым холодком. Заяц, похожий на кролика, серый, с растопыренными ушками, выскочил в дорожную пыль, вспугнув мерина, и сиганул в другую сторону, в, густую темень клевера.
Альгис не успел и глазом повести, как Саулене проворно, одним движением, выхватила из-под сиденья пистолет, не целясь, пальнула в клевер и, осадив коня, велела ему:
— Пойди, подбери добычу. Альгису стало смешно. Он и не сомневался, что, стреляя наугад, в клевер, она не могла попасть в зайца, но не стал ей перечить, принял это как игру — балует старуха, соскочил и вошел в клевер, сразу замочив концы брюк и стал старательно глядеть под ноги, делая вид, что ищет.
— Левей пойди. И чуть дальше. Он смеясь повиновался и увидел зайца на примятых стеблях клевера с сочащейся по серой шерстке кровью и уже закрытыми глазами. Попадание было точным в голову, и это казалось невероятным. Старая, с больным сердцем женщина на полном ходу коня, не целясь по порхнувшему в клевер зайцу, попала без промаха. Притом, совсем не случайно, потому что без тени сомнения послала Альгиса подобрать его и даже указала место.
— Поужинаем, как охотники, — рассмеялась она, пряча зайца под сено, и туда же сунула пистолет — немецкий трофейный «парабеллум».
На холме клевер уже косили, и оттуда пряно несло запахом чуть привядшей на солнце травы. Три конных сенокосилки со стрекотом шли уступом одна за другой, валя сочными буграми охапки клевера. На железных сидениях покачивались бабы, Саулене им доверяла больше, чем мужикам. Чуть поодаль, вытянувшись цепочкой цветных платков, женщины ворошили ручными граблями вчерашний укос.
— Вот, поверь мне, — подмигнула ему Саулене, увидят меня, запоют.
И точно. Оттуда-послышалась песня, сначала тихо, потом громче, во весь голос, хоть никто не поднял головы, делая вид, что не заметили, как она подъехала.
— Это мой приказ. Везу гостя, чтоб была песня. Пусть видит, как счастливо мы живем. Что? Почему напоказ? Разве плохо мои живут? Посмотри у соседей. Как была нищета, так и осталась, только коллективная. Потому что нет у них хозяев, каждый тащит, что сможет, себе. Ты вот подумай своим умом, кто раньше на Литве в хозяева выходил? Старательный мужик, непьющий, каждую кроху берег и копил. Таких-то в Сибирь спровадили. Я даже думаю — зря. Осталась в Литве земля без хозяина. Нищий мужичонка хозяином не станет, не привык. Вот и нужна им строгость, чтоб боялись. К хорошей жизни надо за уши тащить. О том, как ее в колхозе боялись Альгис знал хорошо по прежним наездам, но и тут подвернулся случай увидеть. Они поровнялись с трактором, приткнувшимся у края дороги. На прицепе сбились две лобогрейки, застыв деревянными планками крыльев. Прицепщики, дремавшие в сене, вскочили, как шальные, и наперебой, боясь разгневать, пояснили, что расплавился подшипник и тракторист поехал за новым.
— Давно поехал?
— Да часа два…
— А может, три?
— Может, и три…
— Пьет, жаба! — подхватив вожжи, припустила коня Саулене и пожаловалась Альгису, как своему человеку:
— Сладу с ними нет, с мужиками. Моих я отучила. А тракторист со стороны, из МТС. Хоть бы поскорей подросли ребята в школе, своих выучу, не будет голова болеть.
Конь бойкой рысью спускался по косогору к реке Шешупе на деревянный свежесрубленный мост. Навстречу по мосту ехал шагом на неоседланной пегой кобыле испачканный мазутом мужичок, босой, с перекинутыми через плечо сапогами.
В центре поселка, где тянулась улица с десяток домов, высился в окружении старого заглохшего парка серый шпиль костела. Костел был небольшой и ветхий. Стены из дикого тесаного камня змеились глубокими трещинами и оттуда рос яркий, как трава, мох и, выгнув дугой тоненький ствол, тянулась вверх жидкая березка. В глубоких, как бойницы, узких стрельчатых окнах матово играли на солнце витражи древней хорошей работы. Эти-то витражи и спасли костел от закрытия.
— Приехали из города орлы. Много их поразвелось нынче, — неодобрительно кривя рот, рассказывала Альгису Саулене. — Закрывай, кричат, костел. Возьмешь его в колхоз под склад. Было дело, настоятель костельный, собака, с бандой снюхался. Его — в Сибирь, а костел — под замок: Мне жалко. Куда, думаю, бабы старые пойдут, помрут, как мухи, от тоски. Не дала. Говорю, ценность костел имеет для истории. Не дам губить. Сама то я, честно говоря, в мои годы там пол коленками протерла. Жалко. Прислали нового ксендза. Кроткий, что ягненок. Со мной в ладу.
Альгис давно собирался осмотреть костел и попросил высадить его.
— Погоди, проедем подальше, — погнала коня Саулене. — Народ из окошек за мной следит. Еще подумают, взбрело Саулене под старость с Богом совет держать.
За углом Альгис слез, дав слово не опаздывать к обеду, и побрел поросшей травкой улицей к костелу. Древностью веяло от его стен. Внутри, в цветном полумраке пахло сыростью и приятно холодило после жаркой улицы. Несколько старушек в темном застыли на коленях в дальнем углу спинами к Альгису. Больше здесь никого не было. И он тихо, неслышно ступая, пробирался от одного витража к другому, задрав голову кверху, откуда под овальным сводом в цветное окошко лился столб пыльного света.
Кто-то, шлепая босыми ногами по каменным плитам, проскользнул за его спиной. Альгис обернулся. По ситцевому платьицу, лопнувшему на боку, по голенастым загорелым ногам он и сзади узнал Дануте, вспомнил станцию утром, старушку, ударившую ее по щеке, и диковатый, не подпускающий взгляд из-под сдвинутых бровок, которым она смерила его в ответ на улыбку. Дануте на цыпочках приблизилась к старушкам, стала, как и они, на колени, закачала головой и плечами, неслышно шепча молитву. Потом поднялась, отвесила поклон большому темному распятию с лопнувшей, в трещинах, краской на теле худого Христа и, глядя в пол, быстро прошла мимо Альгиса в жаркий, слепящий проем двери.
За обедом Альгис вспомнил Дануте, рассказал Саулене про станцию, про костел.
— Пропащие люди, — горестно вздохнула она. Ни Богу свечка, ни черту кочерга. Мать-то ее со мной когда-то в подругах ходила. Вместе на торфе работали у хозяина, язвы на ногах наживали. Была баба, как баба, мужик попался дрянной. В войну к немцам в полицаи пошел. С тех пор — ни духу, ни слуху. Ее, горемыку, хотели с дочкой в Сибирь увезти. Я не дала. Голытьба беспросветная, какой она враг? Теперь жалею. Ух, и змея. В колхоз ни за что. Землю отняли, налогом придавили — не идет. Хуже попрошайки живет, подворовывает. Сколько я ни билась с ней — как камень. И дочка тоже… от яблони недалеко. Дети в школу ходят, а она нет. Вот на станции молочком приторговывает… Разве это дело в ее-то годы?..
Саулене пристально посмотрела на Альгиса, будто проверяя, понял ли он.
— Хочешь людям добра не понимают. Как малые дети. Ей-Богу. Не посечешь — не научишь. А с другой стороны, один Бог знает, чья правда. Я книжек не читала, в школу два года бегала, вот и весь диплом. Не умом, а страхом людей держу. Долго ли так пойдет? Не знаю… И спросить некого.
В ней было что-то от атамана. Она любила людей. По-своему, грубо. И умела держать их в руках, подчинять себе беспрекословно. И притом была для них вроде матери. Особенно пеклась она о том, чтобы дети учились, все, поголовно и без церемоний влезала в домашнюю жизнь каждой семьи, в меру своего понимания принуждая людей жить красиво.
Мужики перестали пить. Только по праздникам. И тогда ее, одинокую, наперебой приглашали в дома, почтительно чокались с ней и пили умеренно, чтоб не вызвать ее гнева. В одной семье она выгнала из дому мужа-пьяницу, и тот подался в город на заработки, а хозяйство повел старший сын Витас Адомайтис, славный парень, демобилизованный солдат, ставший для матери и сестер за хозяина. Альгис об этой истории писал в газете, и она вызвала много сочувственными откликов, как пример подлинно социалистической перестройки крестьянской семьи.
С тех пор Саулене особенно опекала эту семью, а Витаса любила, как родного сына. Поэтому настояла, чтоб он, хоть и переросток по годам, учился в школе, мечтая со временем послать его в университет, а для материальной поддержки семьи поставив его ночным объездчиком, высвободив день для учебы. Витас — худощавый, но высокий паренек, неприметный, хоть по бедности еще донашивал военную форму и этим выделялся среди других парней, ходил, как теленок, за ней по пятам, и Альгис часто видел его в ее доме, где он на правах сына помогал Саулене в домашних делах.
Это была новая Литва, и каждый признак такой новизны Альгис бережно выуживал, собирал в своих поездках на село, не без основания полагая, что и он приложил к этому руку и приложил не зря. Впереди рисовались безмятежная, идущая в гору жизнь без тех страшных проблем, какие смыла кровь, обильная, даже чересчур, но пролитая не напрасно. Нынешний вечер, уснувшие тихие домики с редкими не погашенными огнями, винный запах клевера, от которого слегка кружилась голова, наводили на эти размышления.
Альгис бесцельно брел по дороге, удаляясь от деревни. Клеверные поля тянулись до самой станции. Кругом была пусто, безлюдно, и только справа, редко пофыркивая, паслась по колено в клевере однорогая корова, иногда позванивая цепью, какой была привязана к колышку. Альгис с улыбкой подумал о том, что ночной объездчик Витас Адомайтис сейчас мотается на своей лошади в других полях, а возможно, еще не вышел на дежурство, и кто-то — людей так скоро не перевоспитаешь — тайком выгнал свою корову в колхозный клевер попастись.
Он ушел еще дальше, уже стали различимы пустынные станционные постройки и цепочка телеграфных столбов вдоль путей, когда услышал протяжный свист. Долгий-долгий, с переливами. Так свистел он сам в детстве, заложив два пальца в рот.
Озираясь по сторонам, он увидел вдали перед темнеющим одиноким домиком силуэт всадника на лошади. Свистел он. Вкрадчиво и призывно. Приподнявшись в стременах и действительно заложив пальцы в рот. В лунном свете проступал только четкий силуэт, без лица и других, примет, по которым Альгис мог бы опознать человека. Он здесь знал почти всех. Всадник опустил руку, прислушался. Внимание его было нацелено на темный домик, но оттуда ничего не слышалось в ответ. Тогда он снова свистнул — коротко, нетерпеливо и снова настороженно затих.
От домика отделилась темная тоненькая фигурка и вприпрыжку по клеверу побежала к нему. Всадник слез с лошади.
Альгис почувствовал какую-то неловкость оттого, что стал невольным свидетелем этого свидания, без сомнения, двух влюбленных, кому посторонний глаз был совсем ни к чему. И в то же время какое-то озорное чувство заставило его присесть, затаиться в клевере, сразу промокнув до плеч: очень хотелось разглядеть этих двоих, опознать. Из доброго любопытства, свойственного художнику. И при этом, упаси Боже, не вспугнуть их, не выдать себя.
Силуэты всадника и девушки, а то, что это девушка, Альгис уже не сомневался, сошлись. Он обнял ее, положив руку на плечо, высокий, на голову выше её, и они пошли. Прямо по клеверу, подальше от домика, с каждым шагом приближаясь к нему в его засаде. Конь с отпущенным поводом постоял, вывернув шею им вслед, а затем тоже тронул за ними, привычно, как это делал наверно не в первый раз.
Двое слитным силуэтом приближались к Альгису и он уже слышал сочное шуршание клевера, раздвигаемого ногами. Деваться было некуда, и Альгис остался сидеть, ниже пригнув голову.
На обоих плечах парня, попав в лунный свет, тускло блеснули две точки — медные пуговицы от споротыми погон, и хоть лицо его еще было в тени, Альгис узнал: это был Витас Адомайтис, любимец Оны Саулене, ночной объездчик. А девушка, ее Альгис узнал лишь, когда они прошли в нескольких шагах от него, была Дануте, та сама девчонка, что утром встречала на перроне поезд и тщетно пыталась продать пассажиров молоко и редиску.
В том, что он увидел, ничего необычного не было. Старый, как мир, сельский роман. Трогательный своей естественностью и простотой, не всегда доступной горожанам, и привкусом здоровой романтичности. Луна, туман, конь, свист в ночи, девчонка, бегущая на свидание по мокрому клеверу.
Юбчонка-то у нее наверно промокла, — почему-то подумал с улыбкой Альгис, человек женатый, хоть еще и молодой, но уже считавший себя вправе покровительственно, по-отцовски отнестись к тому, что видел. А то, что Витас ради этой встречи слегка нарушил свой служебный долг ночного объездчика, то с кем не бывает, не велик грех. Парень совмещает приятное с полезным. С Дануте или без Дануте — он ведь все равно в поле, где ему и положено быть. Луна уже светила им в спины, отражаясь на лоснящемся крупе лошади, покорно шагавшей позади. Альгис встал, счистил с брюк приставшие комья земли и пошел дальше, к станции, в сторону, обратную той, куда уходили они.
Возвращался он той же дорогой через час. Миновал темный домик, откуда прибежала на свидание Дануте, потом тот поворот, где паслась однорогая корова. Ее там уже не было. Действительно, уже было поздно, и он заторопился, вспомнив, что Она Саулене не ляжет спать, будет тревожиться, пока он не придет. Близость дома он определил по гортанному, резкому вскрику павлина, единственной живности во дворе Саулене. Окно светилось, и широкая полоса света ложилась из раскрытой двери на крыльцо. Кто-то был во дворе. Несколько человек. Альгис издали услышал их голоса и решил, что у Саулене гости. Он неслышно вышел из-за сарая и остановился в его тени. Во дворе перед крыльцом освещенная сзади из раскрытой двери сидела в старом кресле, оставшемся в доме после выселения хозяев, с резной спинкой и уже обветшалой, в углах рваной гобеленовой обивкой, Она Саулене. Сидела грузно, мешком, с непокрытой головой и устало-бесстрастным, отечным лицом.
Перед ней на коленях елозила сухонькая, вдвое меньше Саулене, старушка и заискивающе, просительно заглядывала ей в лицо, ловила ее взгляд, который она, хмуря брови, отводила. Поношенная холщовая юбка старушки распласталась на земле, и только ступни ног торчали из-под складок с глубоко и неровно потресканной кожей, кривыми, будто конвульсией сведенными пальцами.
Чуть позади, наполовину закрытый тенью от сарая, погромыхивал уздечкой, мотая головой, оседланный конь ночного объездчика и косил большим глазом на белую в черных пятнах корову, сонно и равнодушно жевавшую жвачку, протянув с мокрых губ длинную нить до земли. На единственный рог был накинут конец цепи, мерцавший в лунном свете. Витас Адомайтис, длинношеий, с выпирающим кадыком над стоячим воротником военной гимнастерки с медными пуговками от погон на плечах, по-солдатски вытянулся между коровой и лошадью, зажав в кулаке второй конец цепи, и не мигая, виновато смотрел на Ону Саулене. За горбатой спиной коровы виднелась взлохмаченная головка Дануте. Ее злые, непрощающие глазки бегали под сдвинутыми бровками, а под брюхом коровы нетерпеливо переминались ее босые ноги.
Картину довершали два павлина, в темноте похожих на индеек, сидевших, нахохлившись, на коньке крыши сарая и время от времени вскрикивавших чужим колючим клекотом.
Старушка плакала, шмыгая носом, сцепив перед грудью руки и мотая ими в такт всхлипам перед коленями Оны Саулене.
— Не погуби, Она… Прости меня, грех попутал..
— Прощала. Хватит. — Почти не разжимая губ, не взглянула на нее Саулене.
— С кем не бывает?.. Отдай корову.
— Не отдам.
— С голоду помру я… и дочка тоже… Пожалей.
— А кто меня пожалеет? — сипло, с затаенной болью спросила Саулене. — Ты? Нет у тебя совести, Петронеле… и никогда не будет. Кончено. Ты — мой враг.
— Я? Побойся Бога, Она. Какой я тебе враг? Все наши годы молодые подружками были. Забыла? Вот, как я сейчас перед тобой, обе спину гнули, коленки мозолили перед хозяином. Нешто забыла?
— Ничего не забыла. Не лезь ко мне в душу. Зачем убиваешь меня?
— Слушай, Петронеле, — тяжело уперлась в свои колени и слегка подалась вперед Она. — Ты меня на жалость не бери. Говорила с тобой… много раз, не послушала. Не пошла ты в колхоз — твоя воля. Но грабить нас, травить клевер по ночам не позволю.
— Так куда ж мне податься? — заломила руки Петронеле, — Землю, последний кусочек отняли. Где корову пасти? На крыше? Нам без коровы — смерть.
— Твоя забота. Клевер наш, не зарись на чужое Корову не отдам! Заплатишь штраф — запомнишь, не полезешь к чужому.
— Чем я платить буду? Нет у меня ничего — хоть шаром покати. Помрем мы с дочкой…
Петронеле завыла в голос, плюхнулась лицом в землю и поползла, вытянув губы, к ногам Саулене, чтоб поцеловать их.
— Пощади… Не убей…
Саулене болезненно поморщилась и, тяжело нагнувшись, оттолкнула голову Петронеле от своих ног.
— Все. Разговор окончен. С одышкой произнесла она, силясь подняться с кресла. — Витас! Сукин сын! Чего глазами хлопаешь? Загоняй корову и одень замок! Витас вздрогнул, повернулся к корове и, стараясь смотреть мимо Дануте, стал наматывать конец цепи на кулак. Дануте зверем сверкнула на него глазами, ухватилась двумя руками за рог, потянула к себе.
— Чего стал? — едко спросила Саулене. — Девки боишься?
Витас рванул цепь к себе, и корова мотнула голову к нему. Дануте выпустила рог, руками легла на шею корове и, подавшись вперед, плюнула Витасу в лицо.
— Вот тебе! Холуй колхозный!
Она выскочила к крыльцу, нагнулась над распростертой матерью.
— Вставай! Зачем, как собака, лижешь ей ноги? Отольются ей наши слезы, гадюке. Вставай. Не помрем. Они раньше передохнут.
С крыши в один голос вскрикнули оба павлина, а корова недоуменно замычала, когда Витас стал тянуть ее в сарай.
— Ой, убили, ой, ограбили, — запричитала Петронеле, вставая с земли. — Что ж это делается, люди добрые?
— Подавись, жаба! — как плевок, выпалила Дануте в лицо Саулене. — Сдохнешь! Одна, как ведьма! Никто воды не подаст!
Она подобрала с земли оброненный платок матери и, обняв ее за худые, трясущиеся плечи, повела со двора. И Альгис невольно отпрянул за угол, чтоб не столкнуться с ними.
Потом он вышел из тени, помог Саулене подняться из кресла, занес кресло в дом. Вошел Витас, виновато остановился у порога.
— Кавалер, — скривилась Саулене. — Я ему такую службу доверила, а его девчонка сопливая вокруг пальца водит. Солдат. Комсомолец! За юбку еле честь не променял.
— Так я ж… как увидел… — хрипло произнес Витас, глядя на свои сапоги, — сразу пригнал.
— Нашел себе пару, — изливала на него гнев Саулене. — Мало тебе девок в колхозе? Куда полез? К врагу классовому?
— Какой она враг? — несмело начал Витас, но Саулене его перебила.
— Враг! И тебе! И мне! И всем! Ты — дурак молодой. Коммунисту нельзя слюни распускать. Понял? Я бы сестру родную не пощадила!
Саулене отвалилась к стене, зажмурив глаза, будто свет лампы мешал, и с натугой потерла ладонью грудь.
— Давит, будь оно проклято.
И слабо махнула Витасу:
— Иди.
У Альгиса испортилось настроение. Ужинать не хотелось. Да и Саулене ничего не предложила, забыв о зайце, обещанном на ужин. Ушла за перегородку, ворочалась на скрипучей кровати, кряхтела. И он тоже спать не лег, хоть мог вздремнуть какое-то время до поезда. Посидел за выскобленным добела, рассохшимся столом, слушая натужное тиканье старых стенных часов с подвязанным к гирьке медным, позеленевшим пестиком от ступки, потом собрал свои вещи в маленький дорожный чемодан, решив подождать поезда на станции.
Его шаги по двору разбудили павлинов на крыше сарая, и они резко прокричали спросонья, заставив его вздрогнуть.
Песчаная дорога потемнела от росы, и туман уже низко стлался по клеверу, густой, как белый дым. Луна стояла высоко, и было видно хорошо, как днем. Еще издали он узнал темный, без единого огонька, домик на краю поля. Что там поделывали Дануте с матерью? Конечно, не спят. Лежат в темноте, проклиная Саулене.
Домик под завалившейся, скошенной крышей притягивал его взгляд помимо воли, и Альгис смутно чувствовал, что и он в чем-то виноват перед ними, затаившимися без огня, во тьме, наедине со своим горе, и Саулене он ни в чем упрекнуть не мог. Она была права своей правдой. Жестокой и трудной, отчего сама до утра глаз не сомкнет. Жизнь развела бывших подружек, поставила друг против друга, как кровных врагов. Двух несчастливых баб, с одинаковой вдовьей судьбой. Робкий, прерывистый свист отвлек его. В стороне от домика, утонув по грудь в пелене тумана, вырисовывались голова коня и объездчик Адомайтис. Витас напряженно глядел с коня на домик и посвистывал как-то жалобно, будто просил прощения.
В доме было тихо, только аист на крыше в плоском гнезде недовольно завозился и, встав, распрямил суставчатые тонкие ноги.
Всадник продолжал свистеть. Безнадежно, как щенячье поскуливание. Двери в домике вдруг с треском распахнулись, и полуодетая Петронеле выскочила на порог.
— А-а. Свистишь? Ты ей поди, своей хозяйке, в зад посвисти! А сюда нос не суй! Отгулялся! Ищи колхозных сук.
Конь объездчика затоптался на месте, звеня уздечкой, но Витас не собирался отъезжать. Покорно слушал брань, не отвечая ни слова. Потом снова свистнул протяжно и громко.
И тут Альгис увидел, как с другой стороны домика распахнулось окно, девчоночья фигурка выросла на подоконнике и спрыгнула вниз.
Объездчик свистел, не переставая, и старая Петронеле, задохнувшись от крика, умолкла. Ни слова не проронила она и тогда, когда в лунном сиянии поплыли над полосой тумана голова и плечи Дануте, бежавшей по мокрому клеверу к всаднику.
Альгис не стал смотреть дальше, а пошел своей дорогой к станции, глупо улыбаясь и мотая головой. На душе стало легко-легко и столько мыслей роилось в голове, что он не заметил, как пролетело время и подошел, свистя и шипя паром, мокрый от росы поезд с черным паровозом-кукушкой в голове.
Так получилось потом, что больше он в эти края не заглядывал. Став известным поэтом после второй книги, ушел из газеты и ехать сюда никакой надобности не было. От прежних приятелей по редакции он спустя долгое время узнал о дальнейшей судьбе Оны Саулене, Витаса Адомайтиса и Дануте, Петронеле.
Саулене не удержалась у власти. С ее непокладистым характером, ее понятием о справедливости иначе и быть не могло. Столкнулась с уездным начальством, как наседка, защищая интересы своих колхозников, и ее убрали, как ненужную использованную вещь.
Дело в том, что от природы хозяйский и по-своему справедливый ум этой крестьянской бабы поневоле должен был войти в противоречие с твердыми и нерушимыми установками советской власти. Она Саулене выбивалась из сил, копя богатство, наращивая его в колхозе, думая, что старается для своих людей. Выполняла все поставки государству, какие причитались с колхоза, раньше всех в уезде, а остальное делила по трудодням и откладывала, мечтая всем новые дома построить, клуб, школу.
Но государству всегда не хватало. За отстающие, бедные колхозы должны были расплачиваться те, что покрепче, и таким образом, разоряться и быть, как все. С Оны Саулене потребовали втрое больше положенного по плану сдать государству, намекнув, что у нее не колхоз, а кулацкое гнездо и не худо бы его раскулачить. Саулене набила морду секретарю укома за такие слова и наотрез отказалась платить за других, пьяниц и лентяев. Ее для острастки подержали за хулиганство в тюрьме, отобрали партийный билет и прогнали с должности председателя колхоза.
Вывезли из амбаров все, что она берегла годами, поставили нового хозяина, пьющего, дурного мужика, послушного начальству и разорили все, чему она отдала свою жизнь. Молодые стали убегать в город, с ними подались Витас Адомайтис с Дануте. Люди работали без охоты, стали поворовывать, мужички снова запили. Бывший кулацкий дом у Оны Саулене отобрали, и она подалась на станцию, без всего, как стояла, думая уехать, куда глаза глядят. Но не уехала. Никого на всем свете близких у нее не было.
Приютила Ону Саулене в своем домике у станции Петронеле, мать Дануте. Помирились они под старость и живут вдвоем, ни с кем не видаясь, как прокаженные. Гонят тайком от милиции самогонку, сбывают на станции пассажирам в бидонах из-под молока и сами пьют, не помногу, но пьют, сидя долгими вечерами без огня в темном домике, и оттуда до станции доносятся песни, тягучие и грустные, в два голоса.
И еще говорят, выгоняют они по ночам в колхозный клевер все ту же однорогую корову, но их ни разу не поймали, потому что ночного объездчика нет, а кому окота связываться со старыми бабами, благо, эта корова кормит их обеих, не дает помереть раньше сроку. И вот перед ним с верхней полки купе свешивается лохматая нечесаная головка той же самой Дануте с чуть широковатым вздернутым носиком, с серыми, как небо в Литве глазами. Только зовут ее не Дануте, а Сигита. И прошло с той поры, дай Бог памяти, почти двадцать. У той Дануте с реки Шешупе уже давно есть дети и, возможно, дочь — сверстница этой Сигиты. А может быть, Сигита и есть дочь Дануте и Витаса Адомайтиса? Надо спросить фамилию. Ведь жизнь богаче фантазии. И то, что подстроит жизнь, не придумает самое воспаленное воображение… А этот комсомольский значок на лацкане старенького дешевого пиджачка? И девочку с этим значком везут, как преступницу под таким усиленным конвоем из двух офицеров милиции в Литву, чтоб судить и надолго упрятать за колючую проволоку концентрационного лагеря. Где-нибудь в Сибири, на крайнем Севере, где от одной стужи можно отдать Богу душу, не дождавшись положенного срока. И это происходит сейчас, в наши дни. Когда Литва уж давно усмирена, и новое поколение, поколение Сигиты, ничего не знает о прошлом, о том, как два десятка лет тому назад, население Литвы было уменьшено наполовину, а Красноярский край в Сибири именовали Малой Литвой.
Тогда сотни и тысячи таких девочек с серыми глазами умирали от пули в затылок, захлебывались на виселице в петле и шли за колючую проволоку. А теперь? За что теперь угрожают этой девочке лагерем? Что она совершила?
Альгису мучительно хотелось обо всем расспросить конвоиров и ее, Сигиту. Он так взволновался, что забыл, зачем пришел в свое купе из ресторана и с кем пришел. Только увидев в коридоре у окна дожидавшуюся его Джоан, он спохватился, что был отчаянно невежлив с заокеанской гостьей, и, выскочив из купе, стал горячо извиняться, огорошив обоих милиционеров тем, что американка говорит по-литовски, и увел ее назад в ресторан, понимая, что уединиться с Джоан в поезде ему уже не удастся и не особенно сожалея об этом.
В мыслях у него прочно засела Сигита, и здоровое любопытство художника полностью овладело им. Но для приличия посидел с Джоан в ресторане, они выпили еще несколько рюмок коньяку. Альгис отвечал на ее вопросы, как на интервью, нес казенную ахинею, не очень беспокоясь, поверит ему Джоан или нет. И она скоро сообразила, что Альгис совершенно изменился после того, как вошел в свое купе и что он ищет повода отделаться от нее и вернуться туда. Джоан не обиделась, приписав такие резкие перемены эмоциональности и непоследовательности художнических натур. Улучив момент, она встала, попрощалась с ним, сославшись на усталость, и попросила не провожать ее, чтоб не вызвать излишнего любопытства гидессы «Интуриста».
Альгис вернулся в свой вагон. Оба милиционера, будто поджидая его, стояли в коридоре у распахнутой двери купе и изредка то один, то другой бросал туда взгляд. На верхней левой полке, спиной к ним лежала Сигита, не сняв обуви, а свесив через край у двери подошвы мальчиковых полуботинок. Оба милиционера представились Альгису, крепко тряхнув ладонь и при этом отодвинулись от двери купе. Старший тот, что пониже ростом, Гайдялис был по званию старшим лейтенантом каунасской милиции. У него было крестьянское озабоченное лицо с нездоровой желтизной и ранними морщинами, что свидетельствовало о нелегко прожитой жизни и застарелой желудочной болезни, возможно, язве. Другой, Дауса, лет на десять его моложе, оказался по званию капитаном, был явно грамотней и развязно-общительней первого. Возможно, оттого, что большую часть жизни провел в городе и сделал быструю карьеру в милиции. А это прибавляло уверенности в себе и отработало эдакий покровительственно-снисходительный взгляд на окружающих. Был он крепок и сухопар. Веселого, неунывающего нрава, и с первого взгляда было ясно, что любая командировка, отлучка от дому, от семьи не тяготили его, а, наоборот, доставляли нескрываемое удовольствие.
Он-то и взял на себя миссию проинформировать Пожеру о загадочной пассажирке, которую они сопровождали в Каунас.
— Обыкновенная воровка, — объяснил Дауса, пальцем поманив Альгиса к себе, подальше от двери. Деревенщина. Работала в Каунасе домашней работницей. У вполне приличных людей. Они, по нашим сведениям, как о дочери, заботились о ней. Что касается еды или одежды, — не обижали. Но сколько волка ни корми, он смотрит, известно куда, — в лес! Однажды она украла у них деньги на общую сумму в пятьсот рублей и скрылась из города, Вот теперь везем обратно. Судить. Так что уж вы, раз в одном купе нам ехать, будьте в курсе дела, и если что, — общими силами.
— Она может пытаться бежать, — удивился Альгис.
— От нас никуда не уйдет, — рассмеялся Дауса, похлопав себя по ягодицам, где под пиджаком глухо стукнуло — очевидно, пистолет.
— Вы вот что, дорогой товарищ, — вмешался Гайдялис, болезненно морщась от дыма своей сигареты, — не пугайтесь. Все будет в порядке. Но на всякий. случай… Всякое может быть… Девица-то она с характером. Уже имеет на счету попытку к самоубийству. Травилась. Мы ее из больницы взяли. Так что надо с ней полегче на поворотах… А то еще что-нибудь учудит. Мозги-то еще совсем ребячьи. Семнадцати не исполнилось. Моей дочери ровесница.
Кабинет до тоски напоминал десятки таких же в других уездных центрах, что повидал Альгис в своих скитаниях по Литве. Большой письменный стол, накрытый стеклом и в перпендикуляр к нему другой под зеленым сукном, для заседаний. Портрет Сталина на стене. В углу железный несгораемый шкаф и деревянный книжный, плотно набитый одинаковыми красными обложками томов Сталина и Ленина, посеревших от пыли, потому что их никто в руки не брал, и они были просто обязательным атрибутом каждого кабинета. Альгис сидел в кресле за письменным столом, а сам хозяин кабинета и его сотрудники на стульях вокруг второго стола. Дела уже были кончены. В блокноте у Альгиса пестрели цифры и фамилии, которые ему здесь дали в укоме. Он собирал материал об учете в сети политического просвещения. Цифры, которые ему, не моргнув, дал секретарь по пропаганде, были дутыми, завышенными. Альгис это понимал, и они догадывались, что он понимает, и были рады, что он не дотошный службист, а хороший славный парень, который предпочитает верить им на слово, а не ездить проверять по мокрым дорогам, в холодные сырые хутора, откуда нет гарантии вернуться живым.
Вся система политического просвещения сводилась к кружкам по изучению краткой биографии Сталина, и по сводке, какую ему показали, в этих кружках обучалось почти все взрослое население уезда, весьма поредевшее после недавней депортации в Сибирь. Это было абсолютно нереально, но здесь все казалось нереальным и вдумываться ни во что не хотелось. хотелось одного, поспать и поскорей унести отсюда ноги. Теперь они болтали, коротая время, радуясь тому, что гость не ушел в гостиницу и пробудет с ними здесь до утра, и поэтому будет не так скучно, а, главное, можно услышать что-нибудь новенькое. Говорили они на каком-то странном языке, очень отдаленно похожее на литовский, куцые мысли выражали газетными формулировками, почерпнутыми из передовых статей, составляющих их основное чтение, а эти формулировки были дословным переводом с русского, заимствованными из центральных газет, и Альгис с грустью думал о том, что будет с этими людьми через пять-десять лет, если их не убьют. Они совершенно разучатся говорить по-человечески и общаться с ними станет невыносимо. Первый секретарь похвалил стихи Альгиса, опубликованные недавно в газете, назвав их «актуальными» с высоким идейно-художественным уровнем и что они помогают в «борьбе за коллективизацию сельского хозяйства» и еще добавил, что его собственный сынишка по его указанию выучил их наизусть, и Альгис мог бы послушать его декламацию, если б не уезжал утром, а остался еще на денек. Секретарь по пропаганде тоже польстил Альгису, сказав, что он распорядится разучить его стихи в местной школе, к празднику, и пусть Альгис обязательно приедет послушать, а заодно напишет об учителях, очень активно участвующих в сети партийно-политического просвещения.
Альгису почудилось в его голосе несомненное сочувствие и жалость к этой девочке, обычно не свойственные конвоирам, и уж во всяком случае не проявляемые внешне, и это расположило его к Гайдялису.
— Пойдемте в купе, — рассмеялся Дауса. — А то она едет с комфортом, а мы, как бедные родственники, топчемся в коридоре.
Они вошли в купе, закрыли за собой дверь и уселись, на нижних полках, аккуратно сдвинув вбок постели. Сигита то ли спала, то ли притворялась спящей, продолжала лежать спиной к ним, и также свешивались с полки мальчиковые полуботинки на ее ногах. Путешествие с таким соседом, как Альгирдас Пожера, явно льстило самолюбию милиционеров, и они уж не упустили случай потолковать с известным поэтом о литературе, высказать свое мнение, которое они считали мнением народа, а народ, учила их партийная печать, является самым взыскательным критиком искусства. Альгис выслушал несколько банальностей, без которых не обходилась ни одна читательская конференция. Говорил Дауса. Гайдялис молчал, посапывая прокуренными легкими и безостановочно дымя.
Чтоб отвязаться от нагловатого и назойливого Даусы, Альгис спросил Гайдялиса, не служил ли он в конце сороковых годов в истребительном батальоне по борьбе с бандитизмом, и Гайдялис утвердительно кивнул, Это изменило направление беседы. Альгис и Гайдялис предались воспоминаниям о тех годах, а Дауса был, вынужден молчать и ревниво слушать, потому что в тех событиях он по возрасту принимать участия не мог.
Оказалось, что их пути, Альгиса и Гайдялиса, не раз пересекались в те годы, и они вспомнили, не одну операцию, в которой участвовали вместе, не будучи друг с другом знакомы. Гайдялис оживился, глаза его, до того тусклые и озабоченные, заблестели по молодому.
— Эх, было время, — закачал он головой с поредевшими, с обильной сединой волосами, — хоть и жуткое, не приведи Господь, а что-то в душе светлое оставило. Даже тоскую порой…
— Не по страху же вы тоскуете, — улыбнулся Альгис, — а по молодости своей. И вам и мне тогда было. по двадцать.
— Верно, — согласился Гайдялис. — Крепким я был… а как две пули проглотил… и мне половину желудка отсекли… сразу в старики записался. Хоть на печь полезай да внуков нянчи. А какие у меня внуки? Я своим детям, как дедушка.
Он с грустной застенчивой улыбкой глянул на Альгиса.
— Вам повезло больше, чем мне, Стали писателем, всему народу известны… А мы свою лямку до самой смерти тянуть будем. Тогда бандит не добил, сейчас уголовник нож всадит под ребро.
— А скажите, Гайдялис, — поинтересовался Альгис, — сколько у вас в истребительном батальоне было народу?
— Как когда, — затянулся дымом Гайдялис. — По полтыщи, а когда и тысяча. После больших операций большая убыль была.
— Нет, когда кончились бои. Сколько в батальоне в ту пору штыков осталось?
— Это вы про пятьдесят первый год? Дай Бог памяти.
— Я уж тогда другими делами был занят и плохо знаю, как все было, — подзадорил его Альгис, и это польстило Гайдялису, развязало язык.
— А все было, как положено. Побили мы их, лесных братьев, видимо-невидимо. Да чего рассказывать, небось, сами помните — целые уезды, стояли пустыми, без жителей. И нас, истребителей, полегло без счету. Уж сам не чаял живым выползти. Одним словом, горела Литва и еще немного — совсем бы обезлюдела. Но нашелся умный человек, всех перехитрил. Помните, кто был тогда председателем Совета Министров?
— Гедвилас, — сказал Дауса, не задумываясь.
— Правильно, — одобрительно кивнул Гайдялис своему начальнику. — Именно Гедвилас. Тонко все придумал. Объявил амнистию. Самолеты пустил над лесами, листовками закидал всю Литву. Так, мол, и так. Кто выйдет на сборные пункты с оружием в руках и без сопротивления сложит оружие, — тому амнистия. Получай, мол, паспорт и гуляй на все четыре стороны полноправным гражданином. Родина-мать, мол, простила все грехи и никогда о них не напомнит.
Мы, литовцы, народ доверчивый. И пошли мужички из бункеров выползать, потащили оружие, целые арсеналы, даже пушки. Двадцать тысяч человек вышло из лесу все, что осталось живого к пятьдесят первому году. Ну, конечно, кроме главарей. Те упрятались. Их и по сей день не слышно.
Сложили они оружие, получают паспорта. Ну, думают сейчас и по домам можно. Кончили воевать. А им говорят домой рано. Как же так? Нам обещано, что мы — равноправные граждане. Точно, обещано. А почему домой не пускаете? А потому, отвечают им, что как равноправным гражданам вам сейчас самый срок пойти на службу в Советскую армию. И так многие срок свой оттянули, пока в лесах сидели. Вот и настала пора наверстывать, исполнять свой гражданский долг. Забрали их, как миленьких, в солдатики, но оружия не дали. Стройбат — это называется. Может, слыхали? Строительный батальон. И поехали прямиком — в Сибирь. На стройки коммунизма. Я чего-то не встречал, кто оттуда назад вернулся.
Даусе, который, несомненно, считал себя политически более зрелым, нежели Гайдялис, слова его показались неосторожными. Он приложил палец к губам и скосил глаза наверх, где лежала Сигита. Альгис тоже поднял глаза. Сигита лежала спиной к ним, но Альгис мог поклясться, что она не спала, а, напрягши слух, ловила каждое слово, доносившееся снизу. Альгису очень хотелось поговорить с ней. Все, что сказал о ней Дауса, как-то не вязалось с ее обликом, и хотелось выслушать ее, вызвать на исповедь, понять, что могло толкнуть это существо, абсолютно невинное по первому впечатлению, на уголовное преступление. Да еще попытка к самоубийству…
Он решил, что обязательно улучит момент и поговорит с ней с глазу на глаз, без свидетелей. А Гайдялис тем временем продолжал ровным дремотным голосом, ничуть не обратив внимания на предупреждение Даусы. Ему льстило, что известный писатель со вниманием, и притом неподдельным, слушает его.
— В общем, кончилось все. Наступил мир в Литве. Как раз в мае 1951 года. Лесных братьев околпачили, спровадили в Сибирь. Парочку человек для близиру оставили, дали выдвинуться в люди. Один, помню, из бывших бандитов на тракторе в колхозе работал. Кажется, Пасвалисе, что ли? Его даже орденом Ленина наградили. Вот смех-то. Ясное дело, для пропаганды. А других и след простыл в Сибири.
Начальство наше думало: все, проблема решена. можно отдыхать. Но не тут-то было. Партизан не стало. Однако, остались те, кто с ними воевал — истребители. Куда им деваться? Народ молодой, профессий никаких. Привыкли жить вольготно, не работать, все, что нужно — выпить, закусить — брали с населения бесплатно. В случае чего — пугнут автоматом или гранатой. Тот же грабеж. И такой жизнью ребятки жили пять-шесть лет. Уже не люди — уголовный элемент. Хоть и числятся коммунистами и комсомольцами. А тут их расформировывают и оружие отбирают. Они не согласны. Разбежались с оружием. И в те же леса, где раньше бандиты от них прятались. Стали промышлять. Грабить склады, магазины. Снова зашумела Литва. Пришлось войска направить. Как собак отстреляли. Похлеще, чем лесных братьев. Когда уж истребителей доконали, вот тогда и стало тихо на Литве.
Гайдялис окутался дымом сигареты и улыбнулся своим мыслям.
— Вам интересно, как я, уцелел? Очень просто. В госпитале лежал. По ранению.
От слов Гайдялиса остро пахло тем страшным, горячим временем, и Пожера, слушая его, отчетливо видел себя в ту пору…
…Уездный комитет партии — уком размещался в двухэтажном каменном доме сразу за оградой костела, вокруг которого росли старые кряжистые липы, и их тяжелые кроны нависали над черепичной крышей укома. Прежде в этой уютной вилле жил настоятель костела, но его сослали в Сибирь сразу после войны, а заменивший его ксендз, испуганный, забитый человечек, безропотно согласился поселиться в маленькой пристройке за костелом.
Днем в укоме стучали пишущие машинки, ржали у коновязи, которой служил массивный, из гранита, крест перед домом, оседланные лошади укомовских инструкторов, с автоматами и гранатами в кармане объезжавших бесчисленные хутора этого лесного уезда, и глубокие вздохи органа, проникавшие из костела, робко плыли над мокрой землей, усыпанной желтыми листьями кленов и, как оспой, исколотой следами конских копыт.
Сеял холодный мелкий дождь, прохожие рано исчезали с улиц маленького городишки, в низких отсыревших домиках в редком окошке брезжил огонек — их обитатели засыпали рано, беспокойным, тяжелым сном людей, не знающих, что им принесет пробуждение, то ли приход милиционера, ищущего самогонный аппарат, то ли грохот сапог вооруженных людей, приказывающих за один час собрать все пожитки, но не больше шестидесяти кило на человека, и следовать на станцию, к холодным товарным вагонам, знающим один путь — в Сибирь.
Иногда по ночам с сухим треском гремели одиночные револьверные выстрелы и захлебывающиеся автоматные очереди, отчего начинали жалобно звенеть стекла в окошках, кто-то, хлюпая, пробегал по улице, доносился простуженный русский мат, потом становилось тихо, был слышен только шорох дождя в голых сучьях деревьев и нервозное поскуливание собак в мокрых конурах. Люди в своих домишках глубже укрывались под перинами и с бьющимися сердцами впадали в зыбкую дрему. Ночью светились окна лишь в одном доме — в укоме партии. На обоих этажах горел свет — его полосы ложились в мокрый сад, и часовой с автоматом, в дождевике с поднятым капюшоном, расхаживал по этим полосам, то исчезая во тьме, то снова выныривая в тусклом свете, цедящемся из окна.
Партийные работники засиживались в укоме до рассвета. Делать обычно было нечего, но уходить никто не решался. А вдруг телефонный звонок из центра? Все знали, что Сталин в Москве страдал бессонницей и свои решения обычно принимал по ночам, и поэтому по всей огромной стране, не спал партийный аппарат, люди зевали, мучительно борясь с дремотой в своих кабинетах, где с больших портретов строго смотрел на них вождь, и днем у них у всех были красные глаза и серые вялые лица.
Альгис сидел в кабинете первого, секретаря. В комнате собралось человек пять, И второй секретарь, и третий, по пропаганде, и начальник уездного МВД, которому тоже интересно было поглядеть на столичного гостя. Сюда редко, кто заезжал, уезд считался опасным, и однодневный наскок корреспондента, в Вильнюсе воспринимался как событие.
Альгис был здесь моложе всех, но на него смотрели с почтением, как на какого-нибудь артиста, человека из другого мира, и в разговоре старательно подбирали слова, чтоб не прослыть в его глазах уж совсем провинциалами. Тут собралась вся уездная власть, люди, от которых зависела судьба любого человека в этой лесной глухомани, но сейчас ночью они не производили грозного впечатления. Они напоминали скучных одинаковых больных, собранных в одну палату. Лица, припухшие от самогона, тусклые бездумные взгляды и одинаковые костюмы зеленоватого цвета, в подражание Сталину, полувоенного покроя. Альгису стало не по себе. Он уже хотел было с ними попрощаться и уйти в соседний кабинет прикорнуть на диване до утра, как в дверь. постучали, а потом на пороге появился в намокшем дождевике часовой с каплями дождя на стволе автомата. Все недовольно повернули к нему головы.
— Разрешите доложить, — просипел часовой с виноватой усмешкой. — Тут одна… женщина… с, детишками… рвется к вам в кабинет. Я говорю, нельзя, а она ругается…
— Гони ее в шею, — отрезал первый секретарь. На то тебе оружие дано… И не беспокой по пустякам.
— Так ведь с детишками… — замялся часовой. В дождь… издалека, видать.
— Ты вот что, — вмешался начальник МВД. Устав забыл. Часовой на посту в разговоры не вступает. Закрой дверь.
— Постойте, — сказал Альгис. — Ведь, действительно, дождь. Возможно, что-нибудь важное. Не станет она с детьми таскаться в ночь просто так. Первый секретарь недовольно поморщился, бросил на часового строгий взгляд.
— Кто такая? Спросил?
— Браткаускене, — виновато ответил часовой. Из Гегучяй.
Знакомая пташка, — хмыкнул начальник МВД, потирая широкой ладонью бритую голову, и подмигнул Альгису. Может раскололись? Приведи.
Часовой закрыл дверь и все наперебой стали, объяснять Альгису, что за особа Браткаускене, которую ему предстояло сейчас, увидеть. С их слов выходило, что она — чудовище, один из злейших врагов советской власти. Живет она на хуторе, в десяти километрах от уездного центра. В колхоз не идет. Земли, правда, мало. Одна глина. Можно считать, бедствует, Да ее еще налогами поприжали. Но дело не в ней, а в ее муже. За ним уже третий год охотятся, и все безуспешно. Пранас Браткаускас прячется в лесах, командир роты у лесных братьев. Лютый, страшный зверь. Не один зарезанный активист на его счету. Из всех облав уходит невредимым.
— Я теперь с ним повел другую тактику, — с охотничьей хитрецой в глазах доверительно сказал Альгину начальник МВД. — Нам доподлинно известно, что раз в два-три месяца он заглядывает домой на хутор. Все же живая тварь, хоть и бандит. Бельишко сменить, детей поглядеть да с женушкой попотеть, Не обойдешься без этого. Он жену, гад такой, любит. Это нам доподлинно известно. Значит, на этом его и надо брать. Расположили мы засаду на хуторе, человек десять наших орлов. Неделями живут — она их кормить обязана и… все прочее…
Увидев, что Альгис не понял намека, он, заиграв глазами, пояснил:
— Народ молодой, и баба она в соку. В очередь ее пускают каждую ночь. Это они умеют. А потом, чего жалеть? Враг — он враг и есть. Пусть познает гнев народа.
Он захохотал. Но встретив недовольный взгляд первого секретаря, стал оправдываться:
— Это же не для газеты. А от своего человека зачем скрывать. Мужское дело. Значит, постоит у нее засада, пока не понадобятся в другом месте. Он тогда на хутор проберется. От нас не скроешь. Пусть порадуется за свою жену. А потом — новая засада. Так и играем. Уже год. У кого терпения хватит.
Он обернулся к двери, за которой послышались шаги. Браткаускене оказалась совсем не красивой молодой бабой с рано увядшим лицом. Альгис пристально вглядывался в нее и понимал, что прежде она, видать, была неплоха собой, но сейчас она производила неприятное, отталкивающее впечатление.
Космы мокрых, лепящихся к лицу волос, бесцветные, застывшие и круглые, как пятаки, глаза, до нитки пропитанная дождем одежда казалась темным тряпьем. Двое испуганных и тоже мокрых детей держались с обоих боков за юбку, с которой текли на пол вода. Что-то во всем облике этой женщины и ее детей было такое, что заставило всех в кабинете насторожиться. Вначале никто не обратил внимания на мокрый темный сверток, какой она держала, прижав локтем к боку.
Она не произнесла ни слова, а стояла глядя в одну точку поверх головы Альгиса, и от ее застывшего жуткого взгляда всем становилось не по себе. И никто не нарушил молчания. Только неприятно заскрипел стул под кем-то.
Этот звук словно вывел из оцепенения ночную гостью. Она переложила на ладони мокрый сверток, оказавшийся мешком, в который было завернуто что-то круглое, вроде кочана капусты, и держа сверток, на весу, двинулась к столу, и дети засеменили за ней, не отпуская юбки. Направлялась она к Альгису, приняв его за главного, потому что он сидел за письменным столом в кресле, и Альгис весь напрягся, кожей чувствуя, что сейчас произойдет нечто страшное и не зная, как это предотвратить. С каким-то странным спокойствием, более того, равнодушием, женщина стала разворачивать над столом мешок, и вода, беззвучно закапавшая на толстое стекло, почему то была красноватого цвета. Потом она встряхнула мешок двумя руками, и на стекло с громким стуком вывалились человеческая голова с давно не стриженными волосами и небритой щетиной на синих щеках.
Альгис отпрянул. Голова, стукнувшись затылком о стекло, повернулась по оси, скатываясь к краю стола, и неровный кровавый обрубок шеи мотнул торчавшей из него белой трубчатой жилой.
— Возьмите, — спокойно сказала женщина, и лицо ее выражало только усталость. — Это мой муж и их отец. Дети, не отрываясь, смотрели на косматую голову с неестественно белыми хрящами ушей и не плакали, а лишь простуженно сопели.
— Браткаускас! — закричал начальник МВД, склонившись над головой и даже тронув ее рукой. — Пранас Браткаускас в наших руках?
— А нас увезите… куда-нибудь. — сказала Браткаускене. — Иначе зарежут.
— Поможем. Браткаускене, — с просиявшим, лицом обернулся к ней начальник МВД, и блики от лампы засияли на его бритом черепе. — Спрячем и концы не найдут. Все сделаем. Отблагодарим, как надо.
— Дети спать хотят, — прикрыла глаза Браткаускене.
— Сейчас устроим. Часовой, отведи их в другой кабинет… Там диваны. До утра. Спокойной ночи. Ну молодец, баба.
Она двинулась с детьми к двери, почтительно раскрытой перед ними часовым, и уже у порога, мальчик, что был, справа, обернулся, глянул на отрубленную голову, темневшую на стекле стола, и робко всхлипнул. Мать дернула его за руку, и часовой, пятясь задом, прикрыл дверь.
— С победой, товарищи! — воскликнул начальник МВД. — Ну и будет завтра, шуму. Надо составить телефонограмму. А вещественное доказательство сюда!
Он высыпал на сиденье стула. бумаги из своего объемистого портфеля и без тени брезгливости поднял. голову со стола, аккуратно завернул ее в газету, на сломе листа Альгис успел машинально прочесть крупный заголовок: «Да здравствует коммунистич…» и весь сверток деловито сунул вглубь портфеля, после, чего защелкнул замок на его топорщащемся боку.
— А Браткаускене — в Сибирь. — Отдышавшись, сел он на диван, поставив у ног портфель. — Здесь ей больше делать нечего.
И все возбужденно заговорили, стали поздравлять его, будто не было у его ног страшного портфеля, и забыли об Альгисе, неподвижно сидевшем, откинувшись в кресле, и тупо смотревшем на красноватую лужицу, стекавшую со стекла ему на колени.
За окном вагона уже бежала морозная ночь, когда поезд остановился и по радио сказали, что в Смоленске они простоят двадцать минут. Милиционеры вскочили, стали одеваться, чтоб успеть купить что-нибудь на ужин в станционном буфере. О том, что вагон-ресторан закрыт из-за иностранных туристов, они уже знали. Уходя, оба знаками дали понять Альгису, чтоб он проследил за Сигитой и не отлучался из купе, пока они не вернутся.
Альгис дал им денег и попросил купить для него бутылку коньяку.
Они ушли, прикрыв двери, и сразу на верхней полке повернулась Сигита, лежавшая до того недвижно, спиной к ним. Повернулась, строго посмотрела на Альгиса серыми глазами, протянула вниз руку и бросила Альгису на колени сложенный вчетверо листок бумаги. Убедившись, что он взял записку, она тотчас повернулась лицом к стене и замерла в прежней позе.
Альгис оторопело подержал в руках записку, затем развернул ее. Еще не устоявшимся школярским почерком Сигита писала ему. Грамотно, без ошибок, лишь путаясь в знаках препинания.
«Здравствуйте мой любимый поэт! Я решила написать Вам, потому что сказать постесняюсь. Можете надо мной посмеяться, но я пишу правду, от чистого сердца. Я Вас люблю. Уже давно. Когда только научилась читать и впервые увидела Ваш портрет. И чем старше становилась, тем больше убеждалась, что Вы мой идеал. Мужчины и гражданина.
Я знаю, читая это письмецо, Вы будете смеяться. Пусть! Теперь, когда моя жизнь сломана, мне ничего не страшно. А признаться в любви — не позор. Я уверена, что они Вам рассказали про меня. Это все неправда. Я — честный человек. Никогда в жизни чужого не брала. Можете мне поверить. А если не верите — поезжайте в наш колхоз и вам все люди скажут.
Теперь моя жизнь пропала во цвете лет. Но я рада, что встретила Вас и смогла сказать, что люблю Вас. Зовут меня не Сигита, а Алдона. Это я для них придумала, другое имя, а Вам говорю правду.
Прощайте. Желаю Вам успехов в Вашей личной жизни и творчестве на благо, нашего советского народа.»
Альгис непроизвольно смял бумажку в кулаке и почувствовал, что у него защипало. в глазах. От этой неуклюжей, и наивной детской записки повеяло удивительной чистотой и какой-то ужасающей несправедливостью, свалившейся на голову простодушного существа, неспособного защищаться и смиренно принимающего свою судьбу. Чего стоило это трогательное объяснение в любви? Альгис готов был зареветь. Нужно было что-то срочно предпринимать. Что-то сказать ей, спросить, побольше узнать, а потом уж думать, что делать. А в том, что он непременно что-то сделает для этой девочки, Альгис уже не сомневался. Надо позвать ее вниз и расспросить обо всем подробно. Но как окликнуть ее? Алдона или Сигита?
— Ну-ка, спустись сюда, Алдона-Сигита, — позвал он, стараясь умерить волнение и улыбаясь оттого, что, назвал ее сразу обоими именами.
Она резко, как на пружине, обернулась, будто ждала, затаившись его оклика, спрыгнула вниз и села напротив, оттянув и разгладив на коленях юбку. Потом подняла глаза. Полные слез.
— Только не смейтесь.
— Что ты, что ты. Кто же над тобой смеется? Альгис протянул руку к ее плечу, желая погладить и этим как-то смягчить ее, но она отпрянула, прижалась спиной к стенке, и злые огоньки заблестели в ее глазах.
— Ну, вот, видишь, я даже не знаю, как себя вести с тобой. Я тебе в отцы гожусь, чего ты меня боишься? Пока их нет, расскажи мне все, как на духу. Мне это очень важно. Я постараюсь тебе помочь… Все, что будет в моих силах. Поэтому говори… все… начистоту. Говори. Я тебя слушаю.
Вот, что она рассказала Альгису, торопясь и захлебываясь, будто боясь, что ему надоест слушать и он не поймет главного, что словами не объяснишь, а надо прочувствовать.
Она родилась и, прожила всю свою коротенькую жизнь вплоть до недавнего времени в маленькой деревне под Зарасаем, в краю бесчисленных озер и песчаных холмов. Сколько себя помнит, мать работала в колхозе, доила коров, а Сигита, как и ее деревенские сверстницы, жила в мирке, ограниченном дальними холмами, и только когда научилась читать узнала, что мир большой и в нем есть города и моря, каких никто в деревне не видывал. Большие дороги, не похожие на сельские пыльные проселки, а широкие, покрытые черным асфальтом, опоясывают землю. По ним бегут автомобили во все края света, и быть шофером, водителем автомобиля стало навязчивой мечтой сельской девчушки. Она училась в школе, была дома за хозяйку, пока мать пропадала на ферме и читала, читала, читала. Каждый свободный миг. Ночами — до первых петухов. Читала все, что попадалось под руку. Но особенно любила стихи Альгирдаса Пожеры — романтичного поэта боевой комсомольской юности, звавшего быть смелым, настойчивым в достижении цели, идти навстречу подвигу, не склоняя головы.
Сигита знала наизусть целые поэмы Пожеры. Его портрет с волевым, романтическим профилем, вырезанный из книжки, висел над ее кроватью. Его книги, все, что было издано в Литве, стояли стопкой на самодельной полке.
Читая горячие, обжигающие стихи, девочка переносилась в то время, что описывал поэт, и дралась вместе с героем против кулаков, умирала от бандитской. пули, строила колхозы — предвестник счастливой жизни. А когда отрывалась от книги, приходила немножко в себя, видела вокруг серые скучные будни и до слез жалела, что родилась так поздно, уже после того, как отгремели бои. Оставалась одна надежда — ветер странствий, заманчивый путь в неизвестное, романтика дальних дорог.
Сигита убежала из деревни в Каунас, чтоб поступить на курсы автомобильных шоферов, но принимали учиться с семнадцати лет, а ей недоставало полугода. Надо было ждать. Домой она не хотела возвращаться, и чтоб скоротать это время пока ей исполнится семнадцать, нанялась по объявлению прислугой в состоятельный дом на одной из центральных каунасских улиц. Хозяева ее работали в магазине и жили на широкую ногу, явно приворовывая. Но к ней относились хорошо, купили немножко из одежды и ничего из еды от нее не прятали. Прожить бы ей эти полгода, нянчить ребеночка, к которому привязалась и не знала бы беды. Но беда поджидала ее.
Сигита никогда не брала чужого. Так воспитывала ее мать, так учили книги. Воровство для. нее было равноценно гибели. За свои неполных семнадцать лет ей никогда в голову не приходила мысль украсть что-нибудь, хоть жили в нужде и берегли каждую копейку. А тут судьба устроила искушение.
Как-то утром, когда хозяева ушли на работу, а ребеночек был накормлен и спал, Сигита убирала спальню. Трясла перины, взбивала подушки и неожиданно увидела посыпавшиеся из наволочки на ковер денежные купюры. По сто рублей каждая. Пять купюр. Сигита поспешно подобрала их с ковра, сложила стопкой, и они будто огнем жгли ей руки. Таких больших денег она не только никогда не держала в руках, но даже не видела.
С бьющимся от волнения-сердцем стояла она посреди комнаты с прижатыми к груди деньгами и перед ее взором рисовались диковинные загадочные края, куда она может поехать хоть сегодня, хоть сейчас, купив на станции билет. И денег еще останется много для других дорог и новых путешествий. Все ее мечты, вся ее судьба были заключены в этих пяти бумажках. И Сигита плохо помнит, как она вышла из дому, даже не взяв ничего из своих вещей, а только заперев квартиру и положив ключ в условленное с хозяевами место, как купила билет на первый попавшийся поезд, и он нес ее целый. день и ночь, и вышла она где-то на Украине, в чужом и шумном городе, где никто не понимал по-литовски, а она говорила по-русски плохо и с акцентом. Она еще не думала о последствиях, своего поступка, что ее будут искать. Она хотела ездить и открывать для себя новый мир.
Но мир этот не принял деревенскую девочку с украденными деньгами. Где ночевать? В гостинице? Но там надо показать документы. А их у Сигиты не было — все справки, что привезла с собой из деревни, хранили хозяева и у них они и остались.
Ночевать на скамейке в парке? Здесь не заграница, где безработные спят. на скамейках, укрывшись газетами, как не раз показывали в кино. Милиция заинтересуется, почему это советский человек не имеет, где ночевать, и потребует документы. Сигита бродила до утра по незнакомому городу, устала и купила билет на поезд. Там можно было прилечь и отдохнуть. А в другом городе повторилось то же самое. И снова только поезд мог ее приютить.
Понесло девочку по рельсам. Страшно ей стало, что милиция ищет ее. По улицам пробегала, косынкой прикрыв лицо, и только в вагоне, на своей полке, отвернувшись от соседей по купе, находила на какое-то время успокоение. Проносились города и станции, менялись люди в вагонах, а ее носило по огромной и незнакомой стране, одинокую и затравленную, без всякой надежды остановиться и спастись. Все ее будущее измерялось количеством оставшихся денег, а их должно было хватить еще надолго.
У Сигиты украли деньги. На какой-то станции она вышла купить себе еды в буфере. Взяла с собой рублей двадцать, остальные деньги оставила в сумочке под подушкой. Когда вернулась в вагон, не нашла ни сумочки, ни денег. А сосед, что ехал с ней до этого, такой приличный с виду, исчез и больше не появлялся.
Она даже не заплакала. Поняла только, что ее безостановочный бег пришел к концу. Поезд, где ее обокрали, направлялся в Москву. Оставшихся денег должно было хватить лишь на билет до Литвы.
И Сигита приняла решение — умереть. Она и в мыслях не могла себе представить, как ее возьмут под арест и будут судить, как воровку. Лучше смерть. Но не здесь, в чужой России, а поближе к Литве. Может быть, тогда ее мертвую привезут к маме и похоронят на деревенском кладбище возле озера.
Последним пунктом ее путешествия была Москва. Как она прежде мечтала увидеть ее хоть одним глазом, пройтись по Красной площади, услышать не по радио, а наяву мелодичный бой кремлевских курантов, благоговейно затаив дыхание, в нескончаемой скорбной очереди пройти через гранитный мавзолей и увидеть лицо мертвого Ленина, чей силуэт на комсомольском значке она с. гордостью носила на груди.
Полдня, проведенные в Москве, от поезда до поездах Сигита посвятила совсем иному, начисто, забыв о своих прежних мечтах. Москва стала тем городом, где она вынесла себе смертный приговор и мучительно. и бестолково искала способа привести его в исполнение, Из всех понаслышке известных ей еще детскому умишку возможностей насильственной смерти она облюбовала самый простой и распространенный, воспетый в бесчисленных деревенских песнях. о несчастной любви. Она решила принять яд, отравиться.
Это больше всего устраивало ее. Не будет больно, она и не заметит, как умрет. Ведь принявшие яд чаще всего умирают во сне, и у них даже в гробу сохраняется не обезображенное муками, а, наоборот, спокойное умиротворенное лицо. «Как живая,» — будут вздыхать соседи, когда ее привезут хоронить в деревню, и сельский фотограф сделает ее последний портрет перед тем, как забьют крышку гроба, и этот портрет, где она будет, как живая, только с закрытыми глазами, будто сладко спит, мать повесит на стенку возле этажерки с ее любимыми книгами и будет смотреть каждый день, год за годом, пока, карточка не пожелтеет и на ней уж ничего нельзя будет разобрать.
Но как достать яд в чужом городе литовской девчонке, плохо говорящей по-русски? В аптеке нужен рецепт от врача или чтоб там кто-нибудь работал знакомый. Сигита вспомнила, что ее хозяева в Каунасе как-то купили в аптеке дуста, чтоб вывести клопов в квартире и предупредили Сигиту, чтоб она была осторожна с этим порошком, потому что даже небольшая доза его, попавшая внутрь, смертельна.
Она купила в аптеке пакетик дуста, ни у кого не вызвав подозрений. Затем пошла за билетом на Белорусский вокзал, оттуда все поезда шли в сторону Литвы. Подсчитала остаток денег — хватало лишь на билет до Смоленска, то есть на половину дороги. Это не смутило Сигиту. Главное — умереть по дороге в Литву, а уж мертвую ее бесплатно довезут до дому. Там же, на вокзале, она купила почтовую открытку и послала ее своим бывшим хозяевам в Каунас, которых обворовала, с просьбой простить ее, потому что она никогда воровкой не была, и это первый и последний бесчестный поступок в ее жизни. Она сама себя накажет за него и поэтому умоляет не судить ее строго.
В кармане у нее осталось немного мелочи, на которую можно было купить, пожалуй, лишь бутылку лимонада. В вагоне-ресторане, куда она с побледневшим строгим лицом пришла, чтоб принять яд, она села за свободный столик, заказала бутылку лимонада, заплатила официанту, отдав последние пять копеек «на чай», налила полстакана, высыпала туда весь порошок из пакетика, залпом выпила все до дна и тут же свалилась со стула на пол, потеряв от страха сознание.
Это и спасло ее. На первой же остановке ее вынесли из вагона и на поджидавшей машине «скорой помощи» доставили в больницу. Там быстро очистили желудок и уложили в постель в отдельную палату под неослабным вниманием медсестер и санитарок. Сигита очухалась, пришла в себя, плакала, путая русские слова с литовскими, рассказала все, и весь медицинский персонал больницы сочувствовал ей и старался утешить, что ее не будут судить и не пошлют в тюрьму. Сигита из больницы написала письмо в Каунас своим бывшим хозяевам и просила их не злиться на нее, потому что, как только выйдет из больницы, согласится на любую работу, лишь бы можно было понемногу выплатить им долг.
И в Литве, так считала Сигита, нашлись добрые люди, которые вникли в ее беду. Вот эти двое, Гайдялис и Дауса, специально приехали за ней, даже привезли гостинцы, успокоили, утешили, сказали, что ничего ей не грозит и теперь везут домой, чтоб устроить на курсы шоферов, а когда она пойдет работать, выплатит своим хозяевам все деньги, которые она так необдуманно взяла.
Одно смущало Сигиту, что у Гайдялиса и Даусы одинаковые брюки-галифе из темно-синей диагонали с голубыми кантами по краям. Такие обычно носят милиционеры, но они убедили ее, что никакого отношения к милиции не имеют, а просто литовцы и их послали в Россию за ней, потому что литовец литовцу должен помочь в беде.
— Если они меня обманули, — заключила Сигита и взгляд ее серых доверчивых глаз сразу посуровел и бровки резко сошлись на переносице, — и меня посадят в тюрьму, то я ни дня там в живых не буду. Не знаю чем, найду что-нибудь… Об колючую проволоку порву себе горло. Но жить в бесчестии не буду.
У Альгиса болезненно заныло в груди от предчувствия страшной беды, ожидавшей Сигиту впереди. Ее, конечно, обманули, чтоб не сделала что-нибудь с собой в пути. А как только привезут в Каунас, захлопнется за ней дверь тюрьмы, и небо она увидит только через решетку. Альгису стало душно, не хватало воздуху для дыхания, и он со скрежетом опустил вниз примерзшую раму окна. В купе клубясь хлынул морозный воздух и вместе с ним шум голосов с перрона и паровозные гудки.
— Закройте окно, — рассмеялась Сигита, — а то они вернутся и будут сердиться, что мы без них холоду напустили.
Альгис с тем же скрежетом поднял раму и обессиленный сел на диван. Сигита поднялась наверх, на свою полку, но уже не отвернулась, а немного смущенно после своей исповеди улыбалась ему оттуда.
— Что делать? Что делать? — сверлило в возбужденном мозгу Альгиса. — Как ей помочь? Как спасти? Никакая она не преступница. Наконец, он, Альгирдас Пожера, в долгу перед ней. Ведь его стихи, его книги в немалой степени сделали ее такой, пробудили романтический взгляд на жизнь, и эта жизнь, которая была совсем не такой, какая рисовалась в его стихах, при первом же столкновении ударила ее по голове и если не предотвратить, то удар будет смертельным.
Он, Альгирдас Пожера, должен что-то сделать. Он не может ее оставить одну, он не даст ей погибнуть. Боже мой, пора и ему очнуться, выйти из той спячки, в какую ввергла его сытая хрюкающая жизнь советского вельможи. Он не поэт, он — злой и бессовестный обманщик. Среди грязи и лжи он убаюкивал своими стихами, уводил от трезвых размышлений над жизнью. Это он породил такую Сигиту, совершенно беззащитную перед тем потоком лицемерия и обмана, именуемым советской жизнью. В этом повинны и школа и газеты, и радио, и фильмы. И он. Альгирдас Пожера. При жизни уже зачисленный в классики, осыпанный сверх меры всеми благами, которые недоступны рядовому советскому человеку. Потому что он, сначала веря, а потом уже по инерции, страшась сойти с той скользкой дорожки воспевал эту ложь. И прав, тысячу раз прав Ионас Шимкус, старый паук, выживший в сибирских лагерях, что стихи его от года к году становятся все слабее, потому что они пусты, не одухотворены верой, и от них, как от трупа, начинает смердить сухой газетной статьей. Он, Альгирдас Пожера, уже давно мертв, как поэт. Во что превратилась его жизнь? Пьянство, неумеренная пища. И женщины. Много женщин. Со стершимися в памяти лицами. Все на одно лицо. И он ищет их, как наркоман опиум. Потому что в душе его пусто и нужно чем-то заглушить тревожный голос совести. Ведь был он когда-то честен и прям. Шел на смерть, не задумываясь. Потому что верил, и эта вера породила первые его стихи, замеченные всеми. Это был крик его души, романтичной и честной. А чем кончил? Сытым бесчувственным барином, которому и дела нет, что все, чему он поклонялся — ложь. Те, что были чувствительнее его, кончили плохо. В Сибири. Или дома, изгнанные отовсюду, спились в кабаках. Он уцелел. Но какой ценой? И уцелел ли он, если душу свою погубил безвозвратно? Безвозвратно ли? Разве нельзя остановиться, что-то сделать, спастись? Начать с малого. Спасти эту девочку. И пусть это будет первым шагом на его пути к очищению, попробовать вернуться к истокам своей жизни. Начать новую жизнь, как некогда пытались проститутки, согретые чьей-нибудь бескорыстной, без грязи, любовью.
— Вы любите свою жену? — как сквозь сон, услышал он голос Сигиты. Она улыбалась ему сверху, со своей полки, и ждала ответа.
— Зачем тебе это знать?
— Потому что я люблю вас и мне это очень важно. Я откажусь от своей любви, если у вас с ней настоящая любовь. Я не хочу обмана.
Жена. Любит ли ее Альгис? И любил ли с самого начала? Попытаемся. разобраться. Если ковырять рану — уж до конца. С чего это все началось Альгис отчетливо сейчас припомнить не может. Уездный центр, где он работал в комитете комсомола инструктором, лепился кучами серых домишек меж песчаных холмов, поросших сосновым лесом, изреченным, вырубленным в войну. Но если отойти от городка за два-три километра, леса становились густыми, дремучими, как в сказке, и уводили в такую глухомань, куда не отваживались забрести охотники до грибов и ягод не только теперь, но и в мирные покойные годы.
Там, в этих дебрях, в редких лесных деревушках, советской власти и в помине не было. Никакой власти. Это было царство лесных братьев, их вотчина, но укрывались они глубоко в лесах, жили в тайных бункерах, а в деревни совершали набеги, чтоб поживиться продовольствием, переспать с женой или поймать и всенародно повесить забредшего в глушь советского активиста. И советская власть появлялась там редко, внезапными, без предупреждения, наскоками, под конвоем вечно пьяных истребителей, вооруженных гранатами и автоматами. Это были уполномоченные финансового отдела, собиравшие быстро, без церемоний, налоги, государственные заготовители картофеля и мяса, или лекторы, часто городские интеллигенты, нервный суетливый народ, с трясущимися от страха губами, наспех, по конспекту, полученному в комитете партии, читали мужикам, согнанным в одну избу, скучную казенную лекцию о всех благах, что сулит им советская власть. А вокруг избы топталась непротрезвевшая охрана и порой от скуки постреливала из автоматов короткими очередями в мглистое небо, а то и вдоль улиц, что убедительности словам лектора не придавало.
Советская власть держалась только в уездном центре, где были МВД и истребительный батальон в несколько сот человек, набранных отовсюду отчаянных голов, вечно пьяных, так как самогон и закуска доставались им бесплатно — они попросту реквизировали все это у населения и готовы были служить кому угодно и повесить или застрелить отца родного за такую вольготную и бесшабашную жизнь. Там же, в центре, жили все, сколько их было в уезде, коммунисты и комсомольцы.
Почти вся комсомольская ячейка состояла из гимназистов. Одни вступили в коммунистическую молодежную организацию из романтического порыва, свойственного юности во все времена, начитавшись беспокойных горячих советских книг, переведенных на литовский язык. Другие уже в эти годы быстро сообразили, какой корыстный интерес представляет серая книжечка члена комсомола с черным ленинским профилем на твердой хрустящей обложке, и готовились выбиться из низов в хозяев жизни, путь куда безошибочно открывала эта книжечка.
Они не ошиблись, и многие годы спустя Альгис встречал своих бывших питомцев в министерствах в Вильнюсе важными владельцами роскошных кабинетов и персональных автомобилей, пополневшими и самоуверенными представителями партийной и государственной элиты. Некоторые из них с трудом узнавали Альгиса, того, кто их породил и выдал им путевку в эту сытую обеспеченную жизнь, потому что Альгис был к тому времени поэтом, неизвестным, но все же поэтом, а это занятие ими не воспринималось всерьез, они говорили с ним в покровительственном барском тоне, не скрывая, что их положение выше и прочней, и не он, а они могут теперь решать его судьбу в ту или иную сторону, в зависимости от того, какие указания спустят свыше. Но была еще одна категория комсомольцев в уезде, тоже в гимназии, с которыми у Альгиса были отношения неуверенные и подозрительные. Но зато они были самыми послушными и исполнительными. Это были мальчики и девочки из состоятельных семейств бывших чиновников, лавочников, владельцев лесных участков. Эта прослойка населения жила в вечном страхе конфискации остатков имущества и высылки в Сибирь, и потому дети из этих семейств, робкие и неуверенные, чаще всего подталкиваемые запуганными родителями, безропотно вступали в гимназии в комсомол, понимая, что членская книжка может стать охранной грамотой для всей семьи.
Они не задавали лишних вопросов, аккуратно выполняли любое поручение и первыми поднимали руку, когда требовались добровольцы для какого-нибудь дела. Но сделав его, снова замыкались в себе, укрывшись за ставнями родительского дома, ночами запоем читали вместо советской литературы истрепанные книжки из папиной библиотеки, где возникал мир необычной, им неведомой и всегда красивой жизни, без комсомольских собраний, казенных одинаковых речей и неуправляемого оскорбительного страха, которым они пропитывались уже в эти годы, и он, этот вечный страх за себя, за родных, отравлял лучшую пору жизни — детство. Ниеле Кудиркайте была из таких. Пухлая, с нежной белой кожей и ямочками на щеках, с льняными, почти белыми волосами, которые она уже завивала по краям, с серыми, вопрошающими глазами — она была типичной уездной барышней и училась в старших классах гимназии. Училась прилежно, оправдывая надежды родителей поступить со временем в учительскую семинарию и уехать отсюда в большой город, где жить не так опасно и хоть что-нибудь от прежней культуры со хранилось. Отец ее некогда владел магазином, который был, естественно, национализирован и превращен в кооператив, где безропотно, за мизерное жалованье служил продавцом. Мать в той жизни давала частные уроки игры на фортепьяно, теперь, за отсутствием учеников, исчезнувших вместе со своими богатыми папашами далеко-далеко, в неизвестной и страшной Сибири, вела домашнее хозяйство, скудное по сравнению с тем, что было, но не такое уж нищее, потому что кое-что из накопленного в прошлом удалось утаить, и это поддерживало семейный бюджет на пристойном, скрытом от чужих глаз, уровне. Ниеле была одной из многих, кого Альгис принял в комсомол с напутственной, каждый раз одной и той же, но вдохновенной речью, вручил членский билет и пожелал успехов в борьбе за святое дело Ленина и Сталина. Единственное, что запомнил Альгис, это громкий смех, почти лошадиное ржанье, которым наполнилась неопрятная комната в укоме комсомола, где торжественно вручались новичкам членские билеты, когда Ниеле, вся пунцовая от волнения, взяв из рук Альгиса кончиками белых пальцев серую книжечку и не зная, как подобает вести себя в подобном случае, сделала книксен, чуть присев и шаркнув ножкой. По этому нелепому и смешному случаю Альгис и запомнил ее. Потом на собраниях в гимназии, которую он опекал, потому что был грамотней других во всем укоме, неплохо знал литературу и даже сам делал первые попытки сочинять стихи на этих собраниях, где его любили и слушались. Он несколько раз замечал Ниеле, рано созревшую, с полной, выпирающей грудью под гимназическим платьицем и с ямочками на белых сахарных щеках, всегда алевших, когда Альгис ненароком взглядывал на нее. Она была аккуратной и прилежной комсомолкой, без жеманства и робости согласилась вести литературный кружок в гимназии, знала наизусть много стихов Майрониса, Саломеи Нерис и неплохо, с чувством читала их, когда гимназисты-комсомольцы давали концерты после уездных собраний, проводившихся в большом зале гимназии. Альгис как-то дал ей свои собственные стихи почитать и сказать свое мнение. Дал, смущаясь, прося никому не показывать. И Ниеле тогда поразило, как этот длинный худой юноша, старше ее на два года, такой суровый и самоуверенный на собраниях, перед которым она и другие девочки испытывали трепет, граничащий со страхом, стал вдруг простым и застенчивым парнем, как все начинающие поэты, неуверенные в ценности сочиненного ими. Она унесла тетрадку со стихами домой и как-то, после уроков, сама пришла к нему в уездный комитет со свернутой трубочкой тетрадью, в руке. Альгис сразу узнал свою тетрадь, поспешно выпроводил из комнаты всех, кто там был, запер изнутри дверь и сел перед Ниеле на стул, заложив ногу, за ногу, вначале еще самоуверенный, каким он всегда здесь был, а по мере того, как тянулось молчание, и Ниеле все не находила с чего начать разговор, быстро присмирел и как ученик, ждущий оценки педагога, стал волноваться и хлопать глазами, чем вызвал сочувственную улыбку у Ниеле.
Почуяв свою власть над ним, она заговорила уверенно, но тактично, стараясь не задеть авторское самолюбие, кое-что похвалила, сказала, что на ее вкус, не получилось, показала, неверные, звучащие совсем не по-литовски строки, а в завершение, уважительно улыбаясь ему, сказала, что у него есть несомненный поэтический дар и что она ему завидует, потому что сама она так написать никогда не сможет, хотя обожает поэзию и посоветовала больше читать классиков. У них все богатство литовского языка, и это оградит его от злоупотребления новыми, на ее взгляд, вульгарными и безвкусными выражениями. Альгис, забыв, кто он, горячо благодарил ее, несмело, спорил и пошел провожать домой. Но в дом она его не пригласила. Они постояли у калитки, Альгис читал ей свои, совсем свежие стихи и видел за сдвинутыми занавесками в окнах дома удивленные физиономии родителей Ниеле, встревоженно приникшие к стеклу.
Никаких чувств Ниеле у него не вызывала. Он в ту пору и не задумывался об этом. Было некогда — работа поглощала все время. Женщины как женщины его еще не интересовали. А такую барышню, чужую ему по классу, он воспринимал лишь как возможный материал для формирования будущего советского человека. Но ценил в ней ум и довольно большие знания, которых ему недоставало. Потом среди комсомольцев проводилась мобилизация гимназистов старших классов, направляемых по заданию укома в дальние деревни библиотекарями. Внешне совсем не связанная с политикой, эта должность была опасной. Там, в деревнях, надо было жить среди чужих грубых людей и исподволь, подбором книг для чтения, агитировать за советскую власть, как говорили в укоме «вправлять» мужикам мозги. И осторожно подбирать на месте молодежь, тайком беседовать и готовить их против воли родителей к вступлению в комсомол. Должность, что и говорить, не завидная, особенно для девушки из городской культурной семьи, и чем такая работа могла кончиться, ведал один Бог. Альгис записал и Ниеле. Просто так, подвернулась по памяти, когда наспех подбирал кандидаток. К его удивлению, Ниеле не воспротивилась, когда на собрании назвали ее имя, хотя на том же собрании другие, даже парни, в чьей преданности Альгис не сомневался, находили сотни причин увильнуть, ссылаясь на болезни сразу ставших немощными родителей, хилость собственного здоровья и на то, что, уехав в деревню, они останутся недоучками, не кончив гимназии, а советской власти нужны образованные строители коммунизма.
Ниеле поехала в деревню. В далекую, лесную, откуда весной и осенью ни пройти, ни проехать из-за раскисших дорог и разлившихся болот. Поехала безропотно, не понадобилось никакого давления. Обрекла себя на тяжкую долю при керосиновой лампе, тараканах в чужом, дурно пахнущем углу, на полное одиночество вреди совсем чуждых ей и враждебных людей, на тревожные ночи, под выстрелы, грубую брань и вечную тоску по отцу и матери, не посмевших, из страха за свою судьбу, остановить дочь, ушедшую в неизвестность и тьму, откуда, их сердце чуяло, возврата нет.
Свой комсомольский билет она оставила в уездном комитете и Альгис запер его в сейф. В деревне никто не должен был знать, что она комсомолка. Тогда несдобровать ей. А так — просто городская барышня из приличной семьи, а ее отца мужики из окрестных деревень знали по довоенным годам, когда брали у него в кредит, приезжая на ярмарку. Дочь такого человека могла рассчитывать на грубоватое деревенское гостеприимство и уважение и на защиту от чьих-либо посягательств. Тем более, выдача книг деревенским ребятишкам — дело безобидное, даже поощряемое мужиками, втайне надеявшимися через книги и науку, благо это не стоит денег, вывести свои босоногие оравы в люди.
По долгу службы Альгис навещал библиотекарей в деревнях, привозил новые книги, давал инструкции, утешал и подбадривал. В такие поездки отправлялся он один, без охраны, чтобы не навлечь на себя засаду лесных братьев и не выдать своих подопечных в деревнях, открыв мужикам, кто на самом деле ведает библиотеками, и тем самым обречь их на верную гибель. Он одевался попроще, в поношенную деревенскую одежонку, подальше запрятав личное оружие, и на попутной лошади, подобранный на дороге проезжим мужичком добирался до нужной ему деревни.
Так было и в тот раз. Свинцовые, набухшие сыростью тучи ползли низко, чуть не цепляясь за гудящие вершины сосен. Колеса телеги переваливались через корневища деревьев, как ребра пересекавшие узкую петлистую дорогу в лесу, незаметно для глаза погружавшуюся в холодную темень.
Возница, нелюдимый мужичок, в потертом стареньком кожушке, хоть еще было лето, холодное, правда, и дождливое, молчал всю дорогу, и только когда Альгис угостил, его фабричной сигаретой, поинтересовался, к кому это он собрался в такую даль. Альгис назвал Ниеле. Оказалось, что мужичок ее знал.
— Пропадает девка, — простуженно сказал он. Самая пора замуж. В нашей дыре ей пары не найти. И мельком глянув на Альгиса из-под кустистых серых бровей, равнодушно, безо всякого любопытства, спросил; — Ты к ней по делу? Начальство уездное послало?. Раскрывать свои карты первому встречному не входило в планы Альгиса, и он ответил, не задумываясь:
— Жених.
Мужичок. снова покосился на него, словно, проверяя правдивость его слов, и вздохнул:
— Значит, жизнь не кончилась совсем… Другие вот помирать собираются…
Он довез Альгиса до деревни, постучал кнутовищем; в окно и впервые за всю дорогу улыбнулся:
— Эй, библиотека, принимай жениха!
Потом Альгис сидел с Ниеле и пил чай в пустом просторном доме, отведенном под библиотеку, где у одной бревенчатой стены были, сделаны самодельные полки для книг, а все остальное убранство ничем не отличалось от других деревенских изб. Большая. закопченная печь, домотканые коврики. на стенах и даже киот с лампадой в углу, правда, без трепетного огонька свечи, но железная керосиновая лампа над столом высвечивала издали тусклое распятие с поникшим на кресте худым великомучеником.
Ниеле несказанно обрадовалась гостю. И громко и заливисто смеялась, когда он рассказал ей, как ловко надул мужичка, представившись ее женихом.
Она уложила его на свою кровать за печью отдохнуть с дороги, а сама, накинув платок, побежала в деревню оповестить молодежь, что сегодня будут танцы. Альгису нужно было познакомиться с этими парнями и девчатами, незаметно прощупать, кого уже можно. вызвать в уезд и там втайне, чтоб никто здесь не знал, принять в комсомол. Ниеле должна была ему показать с кем стоит об этом пошептаться в углу. Ложась отдыхать, он вынул из-за пазухи гранату — зеленую яйцевидную «лимонку» с рубчатой поверхностью и спрятал за печью. Револьвер он с собой в дорогу не брал. Ненадежная штука. Да и воспользоваться им при случае вряд ли хватит времени. А «лимонка» подходила по всем статьям. Ее удобно прятать в одежде, а при нужде сорвал кольцо и все готово. Живым в руки лесным братьям он не думал даваться. Взрыв гранаты был лучшим исходом. Мгновенная смерть да еще впридачу парочку врагов с собой прихватишь на тот свет. Библиотека наполнялась людьми довольно скоро — Ниеле имела в деревне авторитет. Пришли и сельские музыканты, ничем не отличимые от других мужиков. Худой чахоточный старик с немецким аккордеоном «Хоннер», который он, достав из футляра, поставил на колени и тщательно протер перламутровые бока чистой тряпицей. Одноногий, одутловатый с лицом пьяницы инвалид, отставив костыль, затренькал ногтями по струнам банджо и баба в платочке с провалившимся ртом внесла большой барабан.
Музыканты расселись вокруг обеденного стола под лампой. Мебели в комнате больше не было и потому хватало места для танцев.
Альгис рассматривал набившихся сюда парней и девчат, румяных, пышущих, здоровьем лесных жителей. И те и другие принарядились в мужские пиджаки, что было в ту пору модно, перешептывались, кидая смешливые взгляды на Альгиса и Ниеле, и это окончательно успокоило его. То, что он ее жених, ни у кого не вызвало сомнения. Музыканты заиграли польку. Деревенская застенчивость, поначалу сковывавшая гостей, быстро улетучилась, когда Альгис, взяв Ниеле за руку, вывел ее на середину неровного, со щелями, пола, и они заплясали так слаженно и ловко, будто проделывали это вместе не первый раз. Вокруг них закружились, запрыгали другие пары с притопом, лихими подскоками, ревниво поглядывая на Альгиса и Ниеле, и ни в чем не собираясь им уступать.
Стало весело и душно. Открыли окна. По скамьям загуляла бутылка самогона, и парни, отворачиваясь, чтоб Ниеле не заметила, прикладывались к горлышку. Поплыл табачный дым, растворяя, заволакивая желтый свет керосиновой лампы. Уже девчата повизгивали в углах от мужских щипков. Альгису подмигивали как своему, и он умудрился несколько раз приложиться а горлышку бутылки, чем, совсем расположил к себе парней.
Музыканты играли не переставая, останавливаясь лишь затем, чтобы тоже глотнуть немного самогона и вытереть рукавом вспотевшие лбы. В тот момент, когда они умолкали, а вместе с музыкой кончался топот ног, изба наполнялась тонким, совсем домашним, попискиванием сверчка, и Альгису, слегка охмелевшему, становилось хорошо на душе, и он понимал, что вечер пройдет удачно и в уком он вернется не с пустыми руками.
За гомоном и музыкой никто не заметил, хотя были открыты окна, как на улицу деревни втянулся длинный обоз и незнакомые люди, небритые и грязные, обступили дом. У многих, подвешенные ремнями на шее, тускло поблескивали стволы автоматов.
Лесные братья передвигались одними лишь им ведомыми путями, и в этот вечер их путь пролег здесь. Они бы прошли не останавливаясь, цель их была поважнее, но музыка и голоса привлекли внимание.
Без стука, ногой толкнув дверь, ввалились трое. На одном был плащ с капюшоном и две немецкие, с деревянными ручками, гранаты на советском армейском ремне, стянувшем у талии плащ. Все трое были с автоматами, советскими ППШ, с круглыми черными патронными дисками.
Гости молча стояли у двери, насупившись и явно наслаждаясь впечатлением, какое произвело их внезапное появления. Музыка оборвалась, музыканты, раскрыв рты, смотрели на пришельцев. Танцующие отступили к стенам, напряженно, неестественно замерли, чуя недоброе. Стало тихо-тихо, и эту зловещую тишину назойливо подчеркивал безмятежный писк сверчка, да всхрапывание и ржанье лошадей за окном.
— Зачем перестали? — спросил тот, что в плаще, ухмыльнувшись, и под небритой губой блеснул металлический зуб. — Танцуйте. А мы посмотрим.
Никто не шевельнулся. Альгис бросил взгляд на печь, где он спрятал гранату, но она была недосягаема, туда не проберешься незамеченным. Он глянул на Ниеле. Она сохраняла внешнее спокойствие и даже улыбнулась ему слабой вымученной улыбкой, словно стараясь подбодрить.
— Выдадут или не выдадут? — стучало в голове. Все думают, что я жених. Зачем им меня выдавать. Я как все. Что в этом подозрительного.
— Ну, танцуйте же, — с нажимом сказал тот, что в плаще. — Не то мы подумаем, что вы нам не рады. А вы же литовцы, такие, как мы… Верно? Никто не ответил. Лишь аккордеонист заискивающе кивнул лысеющей головой.
Продолжайте веселиться. Самое время. Литва кровью истекает. Чужой сапог топчет нашу душу. Он уже не улыбался и ронял каждое слово, как камень, в густую, затаившую тишину. — А вы? Сукины дети! Радуетесь, жабы? Хотите быть в стороне? Так пляшите!
Альгис отступив за чью-то спину, украдкой разглядывал лицо говорившего. Это не был крестьянин. У него было тонкое нервное лицо, покрытое трехдневной щетиной, под которой проступала желтоватая, нездоровая от усталости и бессонницы кожа.
— Должно быть, из Каунаса, лихорадочно думал Альгис, пытаясь угадать, может ли знать этот человек его. — Из недобитых интеллигентов. Он у них главный… И орудует в этих краях… А я выступал на митингах… Мой портрет был в газете… Не нужно смотреть на него… Вспомнит, узнает…
— Итак, танцы продолжаются! — властным тоном приказал тот. Оркестр, музыку!
Музыканты, растерянно и глупо ухмыляясь, нестройно заиграли польку. Одна пара несмело вышла на середину и запрыгала на месте, боясь. приблизиться к тем троим, у двери;
— Стой! — взмахом руки остановил музыку и танцующих человек в плаще, — Не вижу веселья. — Кривая ухмылка поползла по его синим, с запекшимися в углах белыми пятнами, губам. Танцуют все! И нагишом! Как мать родила!
Вначале его словам не поверили, приняли за шутку и даже заулыбались в ответ, но он тронул рукой ствол автомата, а те, что стаяли по бокам от него, направили тусклые стволы над черными дисками прямо на людей.
— Считаю до трех. Кто не разденется, умрет одетым! Ну, живее! Плясать на кладбище, на наших костях — не стыдитесь, чего же стесняетесь показать, что штанами прикрыто? Нет у вас стыда, собачьи дети! Раз!.
Все, кто жались по стенам, вдруг вышли из оцепенения. Парни, не сводя глаз с направленных на них стволов, зашарили руками по ремням; стали, путаясь, расстегивать штаны. И девчата, помертвев, тоже стали раздеваться, повернувшись лицом к стене.
Ниеле не отвернулась. Она спокойно сняла кофточку, аккуратно сложила ее на спинку стула, затем отстегнув на боку пуговицу, стряхнула с бедер на пол юбку, переступила через нее и тоже повесила на стул. Села, сняла туфли, чулки с поясом и осталась в белых полупрозрачных трусиках и лифчике.
— Два! Снимать до конца! Ниеле, закинув красивые полные руки за спину, отстегнула лифчик; и он сполз ей на колени, открыв две белых упругих груди с синими жилками вен, проступивших сквозь нежную кожу, и темными кружками торчащих сосков.
Альгис разделся машинально, даже не успев. подумать о том, что он делает. И лишь оставшись нагишом, почувствовал холод, идущий из окна и обхватил плечи руками; как бы силясь согреться.
— Большая комната напоминала предбанник с белыми пятнами голых тел и кучками одежды, брошенной на пол.
— Танцы продолжаются! Оркестр, прошу! Оркестр заиграл ту же польку. Заныл, как нищий, аккордеон, забухал в самое сердце барабан. Как неживые, задвигались несколько голых фигур.
— Идемте танцевать, — услышал Альгис у самого уха голос Ниеле. Она стояла. перед ним с отсутствующим взглядом, будто не видела его, сама положила ему холодную руку на голое плечо, и он кожей почувствовал прикосновение к своей груди ее колких сосков, а затем — мягкую упругость полушарий.
Как во сне запрыгали они босыми ногами, чуя ступнями неровный щелястый пол и уставившись один на одного поверх глаз, на лоб, на волосы.
— Танцуйте, — шептали ее губы, бессмысленно повторяя, — танцуйте, танцуйте, танцуйте…
Чахоточный аккордеонист, уже освоившись, старательно растягивал меха, качал в такт лысеющей головой и, глядя во все глаза на мелькавших перед ним голых людей.
— Стой! — закричал человек в плаще. — Музыкантам тоже раздеться!
Из всего, что было дальше, Альгису назойливо врезалось в память одно — одноногий инвалид с рыхлым, в складках животом, игравший на банджо. Инструмент покоился на голом обрубке ноги, напоминавшем протухший окорок, с рубцами швов, синих и розовых, на тупом бугристом конце. И этот обрубок подрагивал в такт польке, вызывая у Альгиса тошноту.
Они танцевали так долго, без перерыва, пока не сбились с ног, покрылись испариной, но не гревшей, а сжимавшей кожу липким холодом.
Потом их погнали на улицу, в сырую темень, и они шлепали босыми ногами по раскисшей, колючей от холода грязи. Бежали подгоняемые гогочущими конвоирами, смутно белея во тьме телами, мимо наглухо закрытых домов с неживыми, без единого огонька, окнами. Так они протрусили мимо всего обоза, растянувшегося по улице на километр, и с каждой телеги им неслись вслед улюлюканье, хохот, жгучие бесстыдные слова. Бежали молча, только слышалось шлепанье ног в лужах, тяжелое прерывистое дыхание и изредка безнадежный девичий стон — мамочка, мама.
За деревней был мокрый луг, упиравшийся в темную стену леса, шумевшего глухо, как на кладбище. Их поставили неровной шеренгой спинами к конвою, лицом к лесу. И снова Ниеле была рядом с Альгисом, вцепившись холодными пальцами в его руку, но не смея взглянуть на него. Он тоже не смотрел. Да не думал ни о чем — в голове было пусто и гулко, будто остался один череп, без всего внутри, и там, в пустоте был один лишь холод.
За их спинами слышалось щелканье затворов, глухой, обрывками, разговор конвоиров. Потом знакомый голос того, что в плаще, ударил в затылки:
— Слушайте меня, жабы. Вас всех, как собак, прикончить надо. Но вы — литовцы, жабы, а нас и так мало, русские скоро всех перебьют. Поэтому кровь литовскую мы проливать не будем. Но проучим так, чтоб десятому заказали. По моей команде открываем огонь. Кто добежит до леса, пусть свечку в костеле поставит, а кто не успеет, сам виноват.
— Предатели, суки, подонки! Бегом! Марш! Шеренгу, как ветром, сдуло, понесло к лесу неровной, зигзагами, линией белых пятен. Вслед разорвались, рассыпались дробью автоматные очереди. Альгис прыгал по кочкам, скользил, не выпуская руки Ниеле, а она, задыхаясь, не поспевала за ним. Пули с ноющим свистом рвали темень у самой головы, и он дергал головой, не понимая, что этим спастись нельзя.
Ниеле рванула его руку, и он обернулся на ходу, увидел ее широко распахнутые глаза, захлебывающийся в крике открытый рот и темную струйку, ползущую со щеки на шею и дальше на грудь. Но она не падала и все еще бежала, все тяжелей и медленней, до боли оттягивая его руку.
Не помня, что делает, Альгис остановился, обхватил ее руками за спину оторвал от земли, поднял перед собой и понес, как во сне, оступаясь, слыша чавканье воды и замирающие последние выстрелы.
Он нес ее и тогда, когда мимо мелькали шершавые стволы сосен, а прелая хвоя гибко пружинила под босыми бесчувственными ногами. Видел мелькнувшую среди деревьев голую фигуру, хотел позвать на помощь, но она исчезла, и только верхушки сосен гудели над головой, нагоняя сонливость и беспамятство.
Под утро Альгис набрел на одинокий хутор, напугав до смерти хозяина, когда тот увидел двух голых посиневших людей, перемазанных кровью.
Рана у Ниеле оказалась неопасной. Пуля касательно порвала кожу на щеке у подбородка, и в уездной больнице она пробыла недолго, выйдя оттуда с извилистым шрамом, который с годами стал почти незаметным и только в минуты волнения вновь возникал, краснея неровной полоской.
Пока она лежала в больнице, Альгис навещал ее, и она каждый раз просила его ничего не говорить родителям, не пугать их. Потом, когда выздоровеет, сама расскажет. И Альгис соглашался, отводя глаза, и мучительно искал слов, как объяснить ей, что произошло в ее доме.
В эти дни из уездного центра отправили в Сибирь очередную партию неугодных, и родители Ниеле попали в их число. Альгиса не было, когда составляли списки, и остановить выселение этой семьи он не успел. Узнал лишь несколько дней спустя, когда решил навестить их, подготовить к неприятному известию о случившемся с дочерью и наткнулся на заколоченные окна и опечатанную знакомым оттиском на сургуче дверь.
Через уездное начальство он сделал попытку исправить ошибку — депортацию семьи активной комсомолки, пролившей кровь за советскую власть, — телеграммой нагнать эшелон, извлечь из него и вернуть домой семью Ниеле Кудиркайте. Но то ли телеграммы не дошли, то ли в общем хаосе бесчисленных маршрутов с вывозимыми в Сибирь литовцами, латышами, эстонцами, не смогли разыскать тот эшелон, но только его хлопоты ни к чему не привели. И начальство отмахнулось от него, даже заподозрив в беспринципности и стремлении поставить личное выше общественного, что по тем временам считалось опасным грехом для коммуниста.
Ниеле осталась совсем одна. Кроме Альгиса, никого не было из близких людей. И он, проникшись состраданием к ней и понимая свою ответственность за судьбу этой девушки, уже связанной с ним никому невидимыми, но нерасторжимыми нитями привел ее из больницы к себе, и она тихо, замкнуто, днями не разговаривая с ним, прожила там неделю и ничего не сказала в ответ, когда он предложил ей оформить законный брак. Так они стали мужем и женой, и Альгис потом никогда не жалел, что так случайно и долго не раздумывая, сделал свой выбор. Уже известным поэтом, живя в столице в почете и достатке, он не без гордости видел, насколько она лучше всех жен его новых друзей, как понимает его, зная все слабости и недостатки, разумно и деликатно прикрывает их от чужого глаза, оставаясь требовательной и неуступчивой наедине. Своим успехом и положением Альгис во многом был обязан ей, ее безошибочному вкусу и той атмосфере, которую создала она в доме.
Она не могла винить Альгиса в тяжкой судьбе своей семьи. Ведь вслед за мужем она тоже приняла этот строй и служила ему, сначала против своей воли, а потом смирившись, как и вся Литва. Они оба годами хлопотали, используя высокие связи и знакомства, пытаясь разыскать в необъятной Сибири затерявшиеся следы, даже ездили туда, и все, что увидели, надолго отравило им жизнь. И отец, и мать, и две сестрички, младше ее, затерялись, исчезли в таежных дебрях, среди проволоки бесчисленных концлагерей, в серых избах и землянках спецпоселений, покрывших, словно оспа, дикую и чужую красоту берегов Енисея. Альгис, правда, потом издал цикл стихов под названием «Песни Енисея», но были они посвящены описаниям природы, поразившей его, и гидроэлектростанциям, возникшим на берегах реки по воле партии коммунистов. Эти стихи Ниеле не любила и на книжной полке дома их не держала. После смерти Сталина, когда стали возвращать из ссылки уцелевших мучеников, внезапно объявился отец Ниеле. Без детей и жены. Их могилы остались в Сибири.
Альгис и Ниеле приютили его у себя, окружили лаской и заботой, каких старик, больной и полубезумный, не чаял увидеть на склоне жизни, лечили у лучших докторов, возили на курорты, но он протянул полгода и скончался, так и не рассказав даже дочери, что пережил там, за Полярным кругом, потому что боялся всех, не доверял никому и ей не отважился открыть душу.
Похоронили его, исполнив последнюю волю, в уездном центре, где прошла вся жизнь семьи. Дочь и зять поставили на могиле дорогое надгробие из темно-красного гранита, и местное кладбище до сих пор кичится этим памятником, которое, по мнению ценителей, является подлинным произведением искусства.
Каждый год Ниеле с детьми навещает могилу, и власти городка принимают ее с почетом, как жену знаменитого поэта, и по указанию этих властей к ее приезду памятник украшают венками и букетами цветов за казенный счет.
Уже, когда поезд тронулся, ввалились со свертками и бутылкой коньяка Дауса и Гайдялис, застывшие на морозе, с инеем на бровях и ресницах и стали топать сапогами, согреваясь в вагонном тепле. В купе стало шумно. Сигита снова отвернулась к стене.
— Эй, дама, — хмельно позвал ее Дауса, явно успевший хлебнуть спиртного на вокзале. — Составь нам компанию поужинать. Не побрезгуй.
— Я не хочу есть, — огрызнулась, не повернув головы Сигита.
— Грубишь старшим. Нехорошо, — заметил Гайдялис.
— Оставьте ее в покое, — вмешался Альгис. Сигита, я прошу тебя. Садись с нами поужинать. Вот что, товарищи, мужчины, выйдем из купе, не будем ей мешать. Пусть она все расставит, приготовит. Наведет уют женской рукой. Согласна, Сигита.
Она повернула лицо к нам и улыбнулась.
— Вот что значит писатель, — воскликнул Дауса. — Имеет подход к женщинам… А мы темные да серые…
— Пошли, — стал подталкивать их к выходу Альгис.
Ему не терпелось очутиться с ними без Сигиты и поговорить всерьез о ее судьбе. Они, хоть и милиционеры, но все же люди. Особенно этот Гайдялис внушает доверие. Они должны знать, как можно помочь ей, вернее, — как спасти ее от гибели. А уж узнав, как это сделать, Альгис остальное возьмет на себя.
Они уже вышли из купе и прикрыли за собой дверь, как оттуда послышался голосок Сигиты.
— А ножик? Что, я пальцем буду колбасу нарезать?
— Ишь чего захотела! Ножик? — хмыкнул Дауса. А пистолет не нужен?
— Дайте ей нож, — сказал Альгис.
— Нельзя. Опасно, — покачал головой Гайдялис. За ней нужен глаз да глаз.
— Дайте ей, — повторил Альгис. — Я ручаюсь. Беру всю ответственность на себя.
— Если что, отвечать нам, — угрюмо сказал Дауса, но ножик достал из кармана, расправил лезвие и протянул Сигите в купе, потом иронически покосился на Альгиса. Гуманизм… пустые штучки…
Альгис не стал с ним спорить, отвел обоих подальше от дверей купе в тамбур и там, оставшись наедине, рассказал им все, что узнал от Сигиты в их отсутствие. К его удивлению, это произвело впечатление не только на Гайдялиса, но и на Даусу.
Что делать? Как ее спасти? — взволнованно спрашивал Альгис. — Дайте совет.
— А какой совет? — задумчиво протянул Дауса с серьезным озабоченным выражением на своем длинном лице. — Взять на поруки. Хоть это вышло из моды. Но для вас, такого известного человека, сделают исключение.
— Вы знаете кого-нибудь из начальства в Каунасе? — спросил Гайдялис. — В горкоме партии… или в прокуратуре?
— Первый секретарь горкома — мой лучший друг. воскликнул Альгис.
— Тогда дело в шляпе, — хлопнул его по плечу Дауса. — Считайте, девка у вас… Одно ваше слово — и пустят ее, куда глаза глядят. Единственное, что надо сообразить, — как ее хозяевам вбить в башку, чтоб не подавали в суд за пятьсот рублей.
— Я им верну эти деньги! — закричал Альгис. У меня есть с собой! Аккредитив. Завтра в Каунасе получу и занесу им домой!
— Только расписку не забудьте взять с них, — деловито посоветовал Дауса.
Товарищи, вы себе не представляете, какое мы доброе дело сделаем с вами завтра! — обнял их обоих за плечи Альгис и по их лицам видел, что они, как и он, взволнованы и растроганы. Только чур! — ей пока ни слова. Пойдемте в купе и выпьем.
Это стоящее дело! — оживился Гайдялис. Совсем не грех, — поддержал Дауса. Как сказала бы моя мамаша, богоугодное дело не грех и смочить.
Они выпили все вчетвером. Даже Сигита. Правда, не до конца и закашлявшись. И оба милиционера хохотали и стучали ей по спине кулаками.
— Эх, Сигита, будь я помоложе на двадцать лет! шумел пьяный Дауса, любуясь ею. Вот пойдешь ты учиться на шофера, потом поедешь на машине по городу и сделаешь нарушение, тяжко мне будет, а придется тебя оштрафовать. Потому что служба прежде всего!
— Так вы из милиции? — сузила глаза до щелок Сигита.
— Что ты, что ты, спохватившись, замахал руками Дауса, а Гайдялис быстро вставил с хитрой ухмылочкой:
— Разве, детка, таких дураков в милицию берут?
— А почему на вас штаны с кантом, как у милиционеров?
— С кантом? С каким кантом? — стал дурачиться Дауса. Ах, это? Твоя правда, красавица. Милицейские это штаны. Видала, какие толстые, теплые? Мы же за тобой в Россию поехали. Тут какие морозы… Вот начальство и выдало нам эти штаны. Чтоб не замерзнуть. А то как же мы тебя домой привезем? Ясно?
Сигиту эти доводы убедили, и она успокоилась. Потом они сидели напротив Альгиса все трое: Дауса, Сигита и Гайдялис. Сигита — между ними. И вместе пели. Старую деревенскую песню. Она — высоким голоском, а они оба низко гудели:
— Куда бежишь тропинка милая? Куда ведешь? Куда зовешь?
— Кого ждала, кого любила я. Уж не воротишь, не вернешь.
Сигита доверчиво положила им обоим руки на плечи, а глаза ее были прикованы к лицу Альгиса. И она пела для него одного. А оба милиционера, раскисшие от коньяка и тепла, гудели, обрамляя ее голосок, и по лицам было видно, как хорошо и приятно им. Посмотреть со стороны, никогда не скажешь, что сидят два конвоира и арестантка… Просто трое деревенских литовцев распелись от души, позабыв все на свете, словно они не в поезде, стучащем по рельсам морозной России, а у себя на селе, за околицей теплым летним вечерком.
— Один народ, — растроганно думал Альгис. Маленький, битый всеми, кому не лень. А все же живой и неповторимый. И милее его нет ничего сердцу поэта. Альгис тоже стал вдохновенно подпевать. Пели они долго, до полуночи, пока не застучали в стены из соседних купе. Тогда умолкли, стали укладываться спать. Погасили свет, оставив синий огонек, залезли под одеяла и под стук колес со спокойной душой стали проваливаться в сон.
Вагон от резкого торможения толкнуло так, что Альгис съехал на самый край постели и вынужден был упереться руками, чтобы не удариться головой. Гремели железом буфера сталкивающихся вагонов. Поезд замедлил ход, и это было заметно в тронутое инеем окно по все медленней и медленней уплывающим назад низким неясным строением какой-то станции. Купе было залито мертвым синим светом. Сверху над Альгисом похрапывал Гайдялис, свесив вниз ногу в коричневом носке с заметной дыркой на большом пальце. Внизу напротив спал Дауса, укрывшись с головой под одеялом. В проходе на полу стояли друг против друга две пары грубых яловых сапог, покачиваясь в такт торможению лоснящимися голенищами со свисающими через верх концами несвежих портянок. Альгис уловил тяжелый дух, идущий от них, поморщился и перевел взгляд вверх напротив.
С полки свесила взлохмаченную голову Сигита и, улыбаясь смотрела на него. Вагон проходил мимо станционных фонарей, и желтый свет, пульсируя, заглядывал в купе, озаряя припухшее спросонья совсем детское лицо Сигиты и вспыхивая искорками в ее, казалось, смеющихся глазах.
Альгис улыбнулся ей в ответ и почему-то приложил палец к губам, как заговорщик, прося ее быть потише, чтоб не разбудить соседей. Сигита согласно кивнула и положила голову. на самый край своей полки, отчего щека свесилась, и это еще больше придало ей вид шаловливого ребенка, безмятежно уверенного, что мир хорош, и наблюдающего за ним, Альгисом, с дочерней доверчивостью.
Вагон остановился напротив серого, с грубыми бетонными колоннами, вокзала с холодными бельмами. замерзших окон.
Минск, — прочитал Альгис и машинально глянул на свои часы. Было сорок минут первого. Скрипучий деревянный голос станционного диктора проник в купе невнятными обрывками, из чего он лишь уяснил, что стоянка поезда здесь продлится двадцать минут.
В коридоре вагона уже толкались, глухо бубня, пассажиры, угол чьего-то чемодана стукнул по двери, и этот стук окончательно разбудил Альгиса. Он сел, натянул на себя брюки и рубашку, стал обуваться. Сигита сверху молча смотрела на него. Дауса и Гайдялис спали. Альгис одевался мягкими настороженными движениями, стараясь не разбудить спящих, и по мере того, как он одевался, решение окончательно прояснилось у него в голове.
— Поезд стоит двадцать минут. Они оба, Сигита и он, успеют выбраться и на первом такси укатить подальше от вокзала, пока не спохватились ее конвоиры. Главное — не разбудить их.
Что он предпримет дальше, Альгис еще ясно не сознавал. Надо спасти эту девочку. Это — главное. Все остальное — мелочь, труха. Он спасет не только ее, но и себя. Свою душу. Порвет с прошлым, начнет новую жизнь и, как бы она ни сложилась, все равно будет лучше, по крайней мере, чище прежней. Ведь он еще молод. Что такое сорок лет. Приличный англичанин, а уж англичане умеют красиво жить, только в этом возрасте женится. Он еще полон сил. Надо встряхнуться, собраться в пружину и тогда…
Что будет тогда, Альгису некогда было прикинуть. Секундная стрелка, фосфоресцируя, неумолимо двигалась по циферблату часов на его запястье. Медлить больше нельзя было.
Дауса пробормотал что-то во сне, заставив Альгиса замереть с поднятой ногой и руками на застежке ботинка, но не высунул лица из-под одеяла, а, наоборот, повернулся, кряхтя, лицом к стене.
Он поднял глаза к Сигите. Она уже не улыбалась, а смотрела напряженно, еще не догадываясь, но смутно чувствуя какую-то связь двух сообщников, возникшую между ними с той минуты, как Альгис. стал одеваться.
Легким кивком головы и движением глаз Альгис велел ей одеться, и она будто только ждала этой команды, мягко села на своей полке, согнув колени у подбородка, достала из сетки под потолком свой свитер и стала натягивать его через голову, плавно и вкрадчиво, словно загребая воду, двигая в воздухе руками.
Альгис снял с крючка свой пиджак, надел, даже застегнул на все пуговицы. Сигита, выпростав голову из ворота свитера, кивнула ему и протянула вниз свой чемоданчик с облупившимися углами. Альгис принял его беззвучно, поставил на свою постель. Затем надел пальто, шапку. Теперь нужно было поднять сиденье своей полки, чтоб вынуть из-под нее чемодан и саквояж.
Сверху, с полки Гайдялиса, оборвался храп. Альгис стоял в проходе, стараясь не дышать, и глаза его были на одном уровне с остроносым, неживым от синего света лицом Гайдялиса. Глаза милиционера были закрыты синеватыми, набрякшими веками, и рыжие ресницы подрагивали.
— Не нужно смотреть на него, он почувствует взгляд и проснется. Только бы не заскрипела полка, когда стану поднимать.
Он нагнулся, мягко, не шурша, сдвинул всю постель к ногам, обнажив серый дерматиновый верх полки, взялся обеими руками за ее край, напряг мышцы, до онемения.
Полка без скрипа плавно поднялась и Альгис левой рукой прижал ее к стене, а правой нащупал ручку чемодана, поднял и поставил на пол и то же самое проделал с саквояжем. Затем также плавно и беззвучно опустил полку на место, выровнял матрац, поправил подушку, натянув до середины ее простыню с одеялом.
Сдержанно, в три приема, перевел дыхание. Сигита тронула его рукой за плечо, и он посторонился. Она свесила вниз ногу в мужском ботинке со скошенным, сбитым каблуком, пошарила ею в воздухе, ища опоры, и задела чайный стакан на столике. Звякнула ложечка в стакане, задребезжал мельхиоровый подстаканник. Сигита рывком убрала ногу вверх.
Дауса заворочался на своей полке, выпростал из-под одеяла голову со слипшимися на лбу жидкими волосами, разлепил один глаз, мутно уставившись на одетого Альгиса. Альгис ничего другого не смог придумать, как нагнуться к нему, загораживая собой чемоданы, и успокаивающим жестом поводить ладонью перед его носом.
— Спите… Иду покупать сигареты, — произнес он свистящим шепотом.
— А-а, — сонно протянул Дауса и закрыл глаза. Альгис разогнулся.
Сигита сидела на углу, на своей полке, сжавшись в комок, и испуганно смотрела на него, затаив дыхание. Движением глаз Альгис велел ей проползти в другой конец полки, к дверям. Покосился вниз на Даусу. Глаза его были закрыты, и дышал он ровно, с булькающим хрипом в горле.
Сигита опустилась на пол гибким упругим движением всего тела, повиснув на руках. Альгис подхватил ее, бесшумно поставил на ноги. Она показывала глазами наверх. Он догадался, пошарил рукой на ее полке, нащупал плюшевую куртку и передал ей.
Сейчас нужно было выйти. Без промедления. Не стукнув дверью.
У двери стояла Сигита, он — за ней, в узком проходе, и меняться местами было неудобно, даже опасно. Был риск задеть спящего Даусу.
Сигита оказалась очень смышленой. Успокаивающе кивнув ему, взялась обеими руками за никель дверной ручки, прикусила от напряжения губу и нажала. Дверь медленно поползла, открыв щель в освещенный коридор и сразу впустив в купе шум голосов оттуда.
У Альгиса от боли онемела спина. Он не оглянулся. Стоя в проходе, он загораживал Сигиту от спящих и, протянув руку, помог ей оттянуть дверь наполовину. Сигита боком выскользнула в коридор с плюшевой курткой на согнутом локте. Альгис передал ей ее чемоданчик, затем свой и саквояж.
Она отошла вправо, скрывшись из виду. Тогда Альгис обернулся. Дауса сопел, снова натянув на лицо одеяло. Закрытые, как покойника, глаза Гайдялиса подавали признаки жизни подрагиванием рыжих ресниц. Взгляд Альгиса скользнул по столику со стаканами недопитого чая в подстаканниках, куском недоеденной колбасы на газетном обрывке и горкой цветных бумажных оберток от сахара-рафинада. Над его опустевшей постелью в сетке топорщилась оранжевая мыльница, тюбик зубной пасты и футляр со щеткой. И, как бы убеждая себя, что он абсолютно спокоен, вернее, проверяя себя, Альгис задержался еще на миг, пока не вынул все это из сетки и сунул в карман пальто. Лишь после этого он протиснулся в коридор и медленно, медленно потянул назад дверь, с легким щелчком захлопнувшуюся на замок.
В коридоре, ярко освещенном матовыми плафонами, теснились, проталкивая вперед чемоданы, севшие в Минске пассажиры, и вместе с ними в устоявшееся дремотное тепло вагона из тамбура наползал сырой морозный пар. Сигита застряла во встречном потоке пассажиров, пробивалась плечами и локтями, вызывая недоуменные взгляды и даже негодующее ворчание… Она беспомощно оглянулась на Альгиса, и он улыбнулся ей, даже подмигнул, чтоб приободрить, просунул свой чемодан, упер боком ей в спину и стал подталкивать, помогая добраться до тамбура. Нужно было спешить, во что бы то ни стало. В купе могут хватиться их любой момент.
Плакал на чьих-то руках сонный ребенок, и люди переговаривались отрывисто и нервно. Толстая, укутанная поверх теплого пальто огромным. платком, дама прижала Альгиса к стене, дыша ему в шею, и он рванулся движением всего тела, слыша сухой треск отрываемых пуговиц.
— Я с ума сошел, — мелькало в голове. — Что я делаю? Как мальчишка бегу, грубо толкаю людей. Зачем? Куда?
И вдруг ему стало смешно.
— Пардон, мадам, — оскалился он в улыбке толстой даме. — Моя пуговица зацепилась за ваш платок.
— Ненормальный, — зашипела она ему в спину, но он уходил от нее, отжимая встречных, и каждый раз смеясь, извиняясь:
— Пардон… пардон. У тамбура было немного свободней, и можно было отдышаться, запахнуть разъехавшееся в стороны пальто. Голова Сигиты мелькала уже в тамбуре.
Проводница в черной шинели удивленно вскинула на Альгиса глаза:
— У вас билет до Вильнюса. Здесь сходите? Тогда я отмечу освободившееся место.
У Альгиса холодком сжалось сердце. На их места пустят новых пассажиров, и конвоиры хватятся, поднимут тревогу.
— И девушка сходит?
— Нет, нет, — как можно беспечней улыбнулся Альгис. — Мы вернемся. Только эти вещи передадим, кивнул он на свой багаж. — Здесь нас люди встречают.
— А-а, — с сомнением в голосе протянула проводница. — Я думала, это ваш багаж. Только быстренько, не опоздайте. Осталось десять минут.
— Слушаюсь, товарищ начальник, — фамильярно рассмеялся Альгис и вызвал у нее ответную. улыбку..
— Давайте, давайте. Не загораживайте проход. Спускаясь со ступенек на заснеженную, продуваемую колючим ветром платформу, Альгис вспомнил, что он не рассчитался с проводницей за два стакана чая с лимоном и представил себе, как она будет честить его на весь вагон, когда станет ясно, что он скрылся. Да еще не один, А с преступницей, которую везли судить два несчастных конвоира из Литвы. Вот уж будут злорадствовать и потешаться все пассажиры. Потому что милицию одинаково не любят что в Литве, что в России.
Сигита, запахнув на шее свою куртку и подняв воротник, щурилась на ветру, поджидая его.
— Дайте, я понесу, — потянулась она к саквояжу и смотрела на него доверчиво и преданно блестя глазами.
— Ты дама, — локтем отвел ее руку Альгин. А я еще не такой старый.
Сигита рассмеялась.
— Давай темп, сказал Альгис, устремляясь вдоль платформы. — Подальше отсюда.
Они пересекли большой, отделанный гранитом зал ожидания, где на деревянных скамьях, поджав ноги, спало вповалку множество людей в окружении груд, котомок, чемоданов и узлов. Здесь было тепло, и воздух был густой и кислый.
Альгис с облегчением вышел на привокзальную площадь, темную, с редкими фонарями. Ветер усилился и сек лицо мелкими иголками. Зеленые огоньки на двух свободных такси зазывно мигали в конце площади. Они поспешно направились туда, обгоняя других людей, с чемоданами и узлами тоже торопившихся к автомобилям.
— Успеем первыми, — загадал Альгис, переходя на широкий спортивный шаг, — и Сигита спасена. Сигита почти бежала, стараясь не отстать от него. Уложив вещи в багажник, он пропустил Сигиту на заднее сидение, и сам подсел к ней, с силой захлопнув дверцу.
Шофер, молодой небритый парень в шапке-ушанке и меховом жилете поверх пиджака, окинул их равнодушным взглядом:
— Куда? Вопрос шофера застал Альгиса врасплох. Действительно, куда они поедут? Альгис сгоряча не подумал об этом. Главное, было уйти от возможной погони, а куда — надо было решать сейчас, без промедления, под устремленным на него скучающим взглядом шофера.
В Минске Альгис никогда не был и друзей не имел в этом городе. Гостиница исключалась. Там потребуют документы, а их у Сигиты нет. Потом с минуты на минуту их хватятся и начнут искать. Нужно как можно быстрее покинуть этот город, убраться подальше и замести следы.
— В аэропорт, — сказал Альгис. «Волга», взревев остывшим мотором, понеслась мимо вокзала, и Альгис, прильнув к стеклу, проследил, не видно ли там милиционеров. Развернувшись на площади, такси нырнуло под железнодорожный мост, и вверху, над их головами, прогрохотал пассажирский поезд, судя по времени, их поезд, который они недавно покинули.
Альгис облегченно вздохнул, откинулся на мягкую спинку сиденья и взглянул на Сигиту. У нее на лице было такое выражение, удивленное и выжидающее, будто она играет в какую-то увлекательную, захватывающую дух, игру, и с ликующим замиранием сердца ждет, какой новый ход предложит ей напарник по игре. То есть, он — Альгирдас Пожера известный поэт и лауреат нескольких премий, отец семейства, с висками, тронутыми первыми нитями седины.
Ты знаешь, куда мы едем? — спросил по-литовски Альгис, скосив глаз на шоферский затылок.
Нет, — простодушно и доверчиво улыбнулась Сигита.
— Эх, ты, Алдона-Сигита. Влипли мы с. тобой в историю… и чем она кончится, один Бог ведает…
— Зовите меня Сигита. Я свое имя не люблю.
— Хорошо, будешь Сигитой… А вот кем буду я?
— Моим товарищем. Старшим товарищем. А имя пусть остается ваше. Альгирдас очень красивое имя.
Альгис невесело усмехнулся и в задумчивости погладил ее ладонью по отсыревшим непричесанным волосам. Сигита втянула голову в плечи и отстранилась, недовольно взглянув на него.
— Да я тебе в отцы гожусь. Чего ты набычилась, глупенькая? Слушай меня внимательно и будем вместе решать, что делать дальше.
И он рассказал ей всю правду, скрытую от нее милиционерами, — и о том, что в Каунасе ее ожидает суд и, по крайней мере, год или два тюремного заключения. Она вдавилась в спинку сиденья и, замерев, слушала.
— Ах, собаки, — простонала она, когда он умолк. — А прикидывались добренькими, к маме везут… Чуяло мое сердце что-то неладное. Галифе эти с синим кантом… Конечно, милиция. Как я им поверила? И вы, всю дорогу знали… и мне ни слова?
— Поэтому я с тобой здесь.
— Куда же мы денемся? Нас будут искать.
— Будут. А мы спрячемся, улыбнулся ей Альгис.
— И вы тоже? — недоверчиво заглянула она ему в глаза.
— Не оставлять же тебя одну, такую глупенькую, — рассмеялся Альгис. — Пропадешь ни за грош. Будем оба скрываться. У меня для этого тоже есть веская причина.
— Вы тоже… кого-нибудь обворовали?
— Сам себя. Так тоже бывает, Сигита. И много лет подряд. А сейчас — баста. Нет больше Альгирдаса Пожеры. Родился новый человек. Ему семнадцать лет И он начинает новую жизнь, всю сначала.
Сигита с сомнением следила за его лицом, ожидая что он рассмеется. Но лицо было строгим и печальным, и складки у губ обозначились резко и горько. И Сигита поверила. Она нашла на его колене руку ткнулась в нее, стала беззвучно целовать, и Альгис почувствовал теплое и мокрое прикосновение слез на коже. Он положил другую ладонь на ее взлохмаченный мягким затылок, и она не стряхнула ее, а стала ласково и доверчиво тереться.
— Приехали, — не оборачиваясь, в смотровое зеркальце сказал шофер, и машина затормозила, мягко присев на рессорах.
Выгрузив вещи на край тротуара и получая с Альгиса плату, шофер полюбопытствовал.
— Иностранцы?
— Да, да, — ответил не задумываясь Альгис.
— Немцы?
— Да, немцы.
— Много сейчас ездит иностранцев. С другим никак не дотолкуешься. Вы-то по-русски хорошо говорите. Маленько акцент не наш.
Альгис щедро дал ему на чай, и он услужливо донес их вещи до вестибюля, распрощался с обоими за руку:
— Счастливого полета.
Альгис почувствовал приятное напряжение, какое бывает от избытка не растраченных сил в ранней юности. Как и тогда, а те годы его жизни пали на самый разгар войны в Литве, когда опасность подстерегала на каждом шагу, отчего он привык жить, как собранная пружина, в любой миг готовый упруго развернуться, Альгис ощутил давно уже позабытый прилив энергии, собранности, как перед боем.
Он и в самом деле вступал в бой, в бой со всем миром, в котором он доселе жил и преуспевал, в беспощадное сражение одного против всех, где путей к отступлению не будет. И все это ради одного — спасения своей души, вернее того, что еще сохранилось в глубоких ее закоулках.
С того момента, как он решился, все его прошлое зачеркивалось. Он, Альгирдас Пожера, должен отныне исчезнуть, растаять, как дым, не оставив следа, чтоб никто его не искал. Даже семья и друзья со временем примирятся с потерей, посчитав, что он погиб, стал жертвой несчастного случая или убийства с целью ограбления, а все улики убийцы предусмотрительно ликвидировали.
Он связал свою судьбу отныне с судьбой этой бесхитростной простой литовской девчонки, ждущей от него помощи и спасения, и он ее не обманет, не бросит в беде, разобьется, но даст ей уцелеть, уже хотя бы в благодарность за то, что встреча с ней всколыхнула, перевернула ему душу и толкнула на этот шаг, за который в дальнейшем он сможет уважать себя. А сейчас надо действовать. Осмотрительно, не допуская оплошностей. Их уже, по всей вероятности, стали искать. Поднята на ноги милиция в Минске, разосланы описания их примет со слов незадачливых конвоиров Даусы и Гайдялиса. Аэропорт, несомненно, возьмут под наблюдение. Если не сейчас, то через час, другой. В билетном зале, пустынном, с погашенными верхними люстрами и боковым светом от стенных канделябров, со скучающим видом прогуливался милиционер в черной шинели, стянутой ремнем с медной бляхой и пистолетом в кожаной кобуре. Он скользнул по вошедшим глазами, и Сигита отпрянула за спину Альгиса. Милиционер вразвалку направился к ним. Альгис остановился, опустил на плиточный пол чемодан и саквояж и стал лихорадочно искать в мозгу, какими словами рассеять его подозрения.
Милиционер поровнялся с ними, глядя куда-то за его спину прошел, и Альгис повернул ему вслед онемевшую шею. У стены стояла гипсовая, в виде распустившегося бутона, аляповатая урна для мусора. К ней и направлялся милиционер с догоревшим окурком сигареты, бросил, отряхнул ладони и зашагал в сторону к пустым кожаным диванам.
У Альгиса выступил на лбу пот.
— Никогда не смей так делать, — сквозь зубы процедил он Сигите. — Не шарахайся при виде милиционера, оставайся спокойной до конца. Иначе ты вызовешь подозрение. Запомнила?
— Да. Больше не буду.
— Теперь идем в кассу, возьмем билеты.
— Куда? В Литву?
— Ни в коем случае. Там через час уже будешь за решеткой. Мы улетим далеко-далеко, где нас искать не будут. А если будут, то пусть попробуют найти. Ты бывала в Крыму?
— Что вы? Я нигде не была… кроме последнего раза.
— Вот и будешь. Ты мечтала о путешествиях? Считай, твоя мечта исполнилась.
— Спасибо.
— В Крыму сейчас хорошо. Уже тепло, начинают цвести глицинии… А скоро уже можно будет купаться в море. Умеешь плавать?
— Немножко.
— Научу. И шашлык жарить научишься. И вино будешь пить… Мускат… Массандру…
— Ой, что вы, я не пью.
— Глупенькая. Крымское вино — это не водка и не самогон. Его пьют даже дети. И не пьянеют.
— Тогда и я попробую.
— Вот и договорились, — рассмеялся Альгис, поставив вещи у барьера кассы. — Стой тут… лучше спиной к залу. Вот так.
Он вскинул глаза к большому табло над кассой, отыскал рейс Минск-Симферополь. Самолет вылетал утром, в десять часов пятнадцать минут. Это Альгиса не устраивало, и, нагнувшись к овальному вырезу в стекле, он спросил, как можно, не дожидаясь утра, вылететь отсюда в Крым. Рыхлая девица, в форменной голубой тужурке с эмблемой Аэрофлота над высокой грудью, посоветовала ему лететь ночным рейсом в Москву, а там пересесть на Симферополь… Оттуда самолеты идут в Крым каждый час. Альгис поблагодарил, но не воспользовался ее советом. Ему не улыбалась перспектива очутиться даже на короткое время в многолюдном московском аэропорту. Шансов наскочить там на знакомых было хоть отбавляй, а это не входило теперь в его планы.
— Есть еще один рейс, — сказала кассирша, видя, что он колеблется. — С посадкой в Харькове. Через два часа отправится. Но это не турбовинтовой, а тихоход. Вам не понравится… Без комфорта.
Она, видать, по впечатляющей барственной внешности Альгиса безошибочно определила, что он принадлежит к верхам.
— Когда, говорите, отлетает? — заинтересованно переспросил Альгис.
— В три тридцать. Примерно через час объявим посадку.
— Превосходно, не смог скрыть своей радости.
Альгис и пояснил, чтоб не вызывать подозрений. Самый лучший вариант. В самолете можно выспаться, а здесь до утра изведешься, да и в Москве пересадка — не сахар. Пожалуйста, два билета. Я с дочерью. Кассирша мельком взглянула через стекло на Сигиту.
— Полагается взрослый билет, — кокетливо и дружелюбно улыбнулась она Альгису. — Уже большая.
— Почти невеста, — в тон ей с разыгранной гордостью сказал Альгис. — Скоро меня дедушкой сделает.
— Ну, какой вы дедушка, — взмахнула черными наклеенными ресницами кассирша, быстро и привычно бегая карандашом по билетным квитанциям. — Вы еще совсем молодой. Да такой видный… Любой девчонке голову закружите.
— Ну, куда уж нам.
— Скажите кому-нибудь, а не мне… У меня есть глаз…
— У вас не просто глаз, а два глаза и очень хорошеньких.
Этот грубоватый комплимент, заставивший кассиршу вспыхнуть румянцем, счастливо помог Альгису уберечься от большой неприятности, возможность которой он не предусмотрел.
Кассирша спросила фамилию, и Альгис, не сморгнув, назвал первую подвернувшуюся и не литовскую, а русскую — Иванов.
Она вписала в оба билета «Иванов» и «Иванова» и попросила показать паспорт. Альгис понял, что попался, но быстро совладал с собой.
— Паспорт в чемодане… в камере хранения, — озабоченно произнес он. — Придется пойти вниз… Где моя квитанция?
— Не надо, — остановила его кассирша, игриво поведя выщипанными жгуче-черными бровками.
Обойдемся. У Альгиса отлегло от сердца. Он заплатил, сложил билеты во внутренний карман, тепло и фамильярно попрощался и направился к Сигите, чувствуя спиной обожающий взгляд кассирши. К таким взглядам он в своей жизни давно привык, но этот был ему сейчас очень нужен, потому что полностью исключал возможность заподозрить его в чем-нибудь. Он повел Сигиту из билетного зала в общий, на второй этаж и там отыскал пустующий диван в дальнем конце за газетным киоском. Сев, они укрылись от чужих глаз, но сами свободно просматривали большую часть зала.
— Возьми мой шарф, — велел Альгис. — Положи голову мне на колени и прикройся шарфом. Надеюсь, ты понимаешь зачем? А я сделаю вид, что дремлю, шапку опущу на лицо. Ну, мой друг, Сигита, спокойной ночи, приятных сновидений.
Пока все шло хорошо. Еще немного, и гражданин Иванов с гражданкой Ивановой поднимутся в воздух, улетят в небо, а на грешной земле милиция будет тщетно искать таинственно исчезнувшие следы литовского поэта Альгирдаса Пожеры и некоей Сигиты, а точнее Алдоны, несовершеннолетней, колхозницы, бывшей комсомолки, рост 168 сантиметров, глаза серые, волосы светло-русые, особых примет нет, совершившей уголовное преступление, выразившееся в ограблении жителя города Каунаса гражданина Х на сумму 500 рублей и квалифицируемое по статье такой-то Уголовного кодекса Литовской Советской Социалистической республики.
С этого дня Альгис и Сигита — люди вне закона, без документов и без прошлого. У них только будущее. Неясное, без различимой перспективы, но манящее и притягательное своей жутковатой неопределенностью.
Но — стоп! Чтобы было это будущее, нужно в первую очередь иметь что жевать, то есть — кушать. Без документов, если еще можно скрыться, то уж ни он, ни она даже не смеют мечтать получить где-нибудь в этой огромной стране хоть какую-либо, пусть самую черную, работу. Паспортная система. Без документа, удостоверяющего личность, без милицейской отметки на право жительства советский человек не может ступить и шагу. Только не раз испытанное мужское обаяние Альгиса спасло их у окошка билетной кассы. Один раз. На одном обаянии далеко не уедешь.
Альгису не хотелось утруждать себя тягостными и бесполезными размышлениями о том, что будет дальше. Главное уже сделано. Рубикон перейден. С голоду они тоже не умрут. Какое это счастье, какая удача, что он, получив в Москве из издательства круглую сумму аванса, догадался утаить эти деньги от жены, положив их не на банковский счет, а на аккредитив, дающий ему право в любой точке Советского Союза без помех получить наличными. Он сделал это без всякого умысла, совершенно не предполагая, как эти деньги ему теперь пригодятся. Если жить экономно, хватит для обоих на полгода или даже на год. А за это время он что-нибудь придумает. Найдет единственно верный ход. Он не потерпит поражения. Не таков он, Альгирдас Пожера, которому всю жизнь везло, если верить многочисленным завистникам и так называемым друзьям дома, заискивавшим перед ним, добивавшимся его благосклонного внимания. Все, чего он добился в прежней, теперь уже перечеркнутой, жизни, сделано его руками, его талантом, без чьей-либо помощи и поддержки. И теперь он не пропадет. Наоборот, он полон сил, хоть совсем недавно полагал, что уж окончательно растратился и смиренно ждал наступающей старости, обеспеченной и сытой, с угасающей волей, желаниями, страстями. Теперь же — нет. Баста! Как будто свежей кровью наполнили его жилы, переродился весь организм, и он, сидя здесь, в этом сонном аэропорту под приглушенный рев самолетных турбин за стенами вокзала, снова, как некогда, осязаемо чувствует каждую мышцу под кожей, до истомы сладко пульсирующую кровь.
Ему показалось, что Сигита задремала у него на коленях, но из-под бахромы шарфа виднелся открытый глаз, устремленный снизу на него.
0 чем думаешь? — в его голосе пробилась ласковая отцовская нотка.
— О вашей жене.
— Тебе-то что до нее?
Жалко. Она будет страдать. А во всем виновата я.
— Ну уж, много на себя берешь, — грустно ухмыльнулся Альгис. Я ушел не от нее, а от всей своей прежней жизни, часть которой составляла и она. К сожалению, пришлось принести ее в жертву, хоть вины за ней никакой не вижу. Я должен был порвать, понимаешь, Сигита? А если рвут, то всегда по живому. И не будем этого больше касаться. Хорошо? У нас нет ничего в прошлом. Все — впереди.
Сигита прикрыла глаз веком с голубоватой чуть заметной жилкой, как бы давая этим понять, что согласна с ним. Светлые, не знавшие краски ресницы сомкнулись на гладкой коже щеки, не тронутой загаром и потому беззащитно бледной, с редкими точками проступающих веснушек.
Гулко отдаваясь в высоком зале заговорили сразу два репродуктора, неразборчиво покрывая один другой, и Альгис напряг слух, чтоб понять, что речь идет об их рейсе и объявляется посадка на самолет
…Симферополь еще с воздуха встретил их зелеными, как изумруд, пятнами полей вперемежку с чернотой свежевспаханных квадратов, снега уже после Харькова, не было и в помине, и белые крымские домики отражали точками-окнами блики яркого южного солнца. Ступив на нагретый бетон летного поля, они сразу окунулись в непривычное после севера сухое и ароматное тепло. Перед вокзалом за барьерами алели розы, и кучка неряшливых толстых женщин с темными от загара лицами крикливо предлагали пассажирам прямо из ведер охапки остро пахнущих цветов. Альгис не устоял и купил Сигите большой букет Потом они ждали под навесом багаж, и оба впервые за зиму обрадовались тени, потому что снаружи было по-летнему жарко, а они были в теплой и сразу ставшей тяжелой одежде.
Нужно было думать о смене одежды, и Альгис решил попытаться купить что-нибудь в Симферополе, потому что в Ялте ходить по магазинам было для него занятием небезопасным — в это время года к первому теплу слеталась в Ялту, как мухи на мед, вся литературная братия, и на знакомых там можно было наткнуться чаще, чем в Москве или в Вильнюсе. Ялта для него становилась запретным городом, хотя он очень любил этот уютный, непохожий на другие, курорт, прилепившийся нарядными старомодными домами-гнездами на скалах Южного берега Крыма, и ежегодно ранней весной с наслаждением проводил здесь по нескольку месяцев в Доме творчества Союза писателей — роскошном санатории для избранных, где хорошо писалось, а еще лучше отдыхалось. Как нигде в другом месте. Хоть для писателей его ранга были всегда открыты двери подобных Домов вблизи золотых пляжей Паланги и Дубулты на Балтике, в сосновых чащах Комарова на отнятом у Финляндии Карельском перешейке и в пряной духоте субтропической Гагры на Кавказе.
Ялта уже давно стала его вторым домом, он облазил пешком все ее окрестности и знал каждый закоулок, будто родился здесь и никогда не уезжал. И поэтому еще не вполне отдавая себе отчет в содеянном, он после бегства с поезда в Минске даже не раздумывал, куда направить дальше свой путь. Он будет жить теперь не в самой Ялте, а где-нибудь поблизости, где можно укрыться он ненужных глаз и в то же время не совсем отрываться, чувствовать возбуждающее соседство этого райского уголка. Там и прожить дешевле и, возможно, даже приятней.
Прогулка по симферопольским магазинам с пальто на руке и меховой шапкой в кармане не принесла ничего отрадного. Выбор товаров был настолько скуп, а то, что имелось в продаже, настолько неприглядно и безвкусно, что Альгис с горечью подумал о том, что он уже давно не знал подлинной жизни страны, потому что все последние годы вращался в замкнутом мирке советских вельмож, к чьим услугам было все, что душе угодно в закрытых от посторонних глаз специальных магазинах, так и именуемых закрытыми распределителями. А сейчас, имея деньги и готовый заплатить любую цену, он не мог найти ни в одном магазине элементарных вещей, без которых немыслима — так, по крайней мере, казалось ему — жизнь человека. Сигите и ему нужны были купальные костюмы. Дома, в Вильнюсе у него хранилась целая коллекция всевозможных импортных купальников японского, английского, югославского производства самых невообразимых расцветок и покроев. Здесь же им предложили какие-то сатиновые трусы и лифчики блеклого скучного цвета, и пришлось довольствоваться этим — не ходить же на пляж нагишом. Сигите он купил два простеньких летних платьица без рукавов, и для обоих по паре сандалий, тяжелых и неудобных. Еще прихватил ей косынку от солнца и себе кепку плоскую, как блин, но хоть пеструю и с длинным защитным козырьком. Остальное решил раздобыть, уже поселившись где-нибудь, когда совершат первые вылазки по побережью.
Сигита не выпускала из рук букет, купленный в аэропорту, то и дело нюхала цветы, как бы не в силах поверить, что в это время года, когда везде зима, можно держать в руках такую прелесть, и вид у нее был беспечно-счастливый, без какого-либо следа усталости после такой нелегкой ночи. Правда, в самолете, разместившись в кресле рядом с Альгисом, она скоро уснула, прислонившись головой к его плечу, и даже не проснулась в Харькове при посадке, когда менялись пассажиры, и в салоне было шумно от их голосов. А он не спал. Думал, прикидывал, как устроиться им в Крыму, подальше от любопытных глаз. И вспомнил, нашел такое место.
Года два назад его привела туда одна из его пассий, каунасская разбитная и многоопытная львица, жена какого-то партийного туза, случайно встреченная им на набережной в Ялте. Она отдыхала без мужа в партийном санатории, а он, как обычно, проводил раннюю весну в Доме творчества писателей. Он прежде ее не знал, возможно и сталкивались где-то на приемах, как она его уверяла, но он не мог вспомнить. Это не помешало ей, породистой и избалованной женщине, скучавшей среди партийных сухарей и их примитивных жен в своем санатории, отгороженном, как крепость, высоким забором от остального мира, ухватиться за него, как за якорь спасения и придать роману бурный, ошеломляющий темп. В тот же вечер она предложила ему скрыться из Ялты на несколько дней, чтоб не попадаться на глаза знакомым, и уже затемно привела его одной только ей ведомой дорогой к маленькому неказистому домику с плоской татарской крышей, сложенному из неровного дикого камня и обмазанному глиной. Домик одиноко торчал высоко на скале над морем. Позади начинались горы со старыми, шумящими по ночам, соснами, а впереди вилась круто вниз среди обломков камня, поросшего дроком, узкая тропинка, и она выводила к берегу; заваленному камнями и потому безлюдному. Здесь не было пляжа. Сюда не вела ни одна дорога. Прибой плескался и нежился среди мшистых зеленоватых камней, пучеглазые крабы без опаски грелись на их теплых боках, и только по приглушенным расстоянием визгам и воплям слева и справа угадывалась близость курортных пляжей.
Здесь провели они два дня и две ночи, изолированные от всего мира. если не принимать во внимание хозяев дома, которых они попросту не замечали, уплатив за ночлег и нехитрый обед вперед и не торгуясь. Как и все это место, диковатое и девственное, под боком у шумных курортов, так и хозяева домика, приютившие их оказались супружеской парой, настолько необычной и странной, что Альгис часто возвращался в памяти к ним.
Их звали Тася и Тимофей. Фамилия — Савченко, украинская. Обоим было за сорок. Детей не имели, жили бедно, вдали от людей, на скале, куда надо было с одышкой круто взбираться метров двести. Возможно, потому никто к ним не ходил в гости, а сами они спускались вниз только по крайней нужде — купить чего-нибудь в магазине или порыбачить на камнях. Он нигде не работал, ковырялся в крохотном огородике с тремя грядками позади домика, таскал в ведрах воду для полива из родника, бившего тонкой и очень холодной струйкой из трещины ниже жилья — туда вели двадцать выдолбленных в камне ступеней.
Таси весь день дома не было. Она рано уходила вниз, в самую Ореанду, где работала в гардеробе санатория и возвращалась на закате, волоча по крутой тропинке плетеную корзину и ведро с остатками обедов и ужинов, бесплатно достававшихся ей в санаторной столовой. Поднималась она долго, по многу раз отдыхая на крутом подъеме, и с середины тропинки громко звала Тимофея спуститься к ней и помочь.
Тася была инвалид, без правой ноги, которую ей заменял неуклюжий, угловатый протез, затянутый в плотный, телесного цвета чулок и обутый в туфлю без каблука. Потому в любую жару и вторая, здоровая нога тоже была в чулке.
Она осталась инвалидом с войны. Служила, как и многие девушки, на десантном корабле в Новороссийске, потеряла ногу при высадке здесь, на крымском берегу, летом 1944-го года, когда уже близился конец войны. Долго валялась в госпитале в Ялте, даже хотела руки на себя наложить в день Победы под ликующий фейерверк ракет, под слезы и радость обнимающихся вокруг людей. Кому, она нужна после такая? Родных никого в живых, нет дома, нет уголка на земле, где изувеченную ждали бы и были согласны приютить. И, наверно, бросилась бы в море, чтоб кончить все и людям глаза не мозолить, если б не Тимофей.
Тимофей тоже был военным моряком и лежал с ней в одном госпитале. Он был абсолютно здоров, без единой царапины, крепкий и довольно заметный парень, днями безучастно сидевший на веранде госпиталя лицом к морю, слушая шум волн. Сидел один, ни с кем не общался и все слушал, слушал, будто ждал услышать с моря что-то очень важное для себя.
Тимофей был слеп на оба глаза. Слеп безнадежно. Глаза вытекли и веки запали, слипшись красноватыми рубцами. А на щеках и лбу остались зеленые веснушки — отметины въевшегося пороха.
Ему тоже некуда было ехать. И они поженились. Здесь же, в госпитале. Свадьбу справили им за казенный счет. Начальство не поскупилось на водку и закуску, дым стоял коромыслом по всем палатам, так как многие гости были лежачими и им водку давали в кровать. Да и за столом, как потом вспоминала Тася, на каждых двоих было три ноги, а рук — и того меньше.
Тася была так счастлива, что и не вспомнила подумать тогда о жилье. В Крыму, да и в той же Ялте, пустых домов было полно. Татар выселили из Крыма в Сибирь, и их дома забирали все, кто понаехал сюда.
Они с Тимофеем жили сначала в госпитале, там и кормились за казенный счет, а когда госпиталь закрыли, снова он стал санаторием, как и до войны, стали искать они себе крышу и лучше вот этой, на самой скале, ничего не наши.
И остались они тут, закинутые под самое небо, далеко от людей, и жили на скудные пенсии, что им полагались как инвалидам войны, да на тасино жалованье в санатории. Даже на дачниках, каких в сезон здесь пруд пруди и люди кругом на них крепко наживались, им не удавалось заработать. Кто полезет в такую дыру, карабкаться двести метров вверх по неудобной каменной тропинке? И если кто просился приютить на пару дней, таких сумасшедших было мало, Тася и Тимофей несказанно радовались. Ведь им перепадали кое-какие деньги. Но главное было не в этом. Слепому Тимофею такие жильцы торчали из воды, оно пенилось кружевами, сильнее подчеркивая синеву своей глади. И никого кругом. Камни, деревья, уцепившиеся за них корнями, и море.
Ничего здесь не изменилось с тех пор, как Альгис некогда впервые обнаружил это место. И даже хозяин, слепой Тимофей, на лай собаки торопливо поднявшийся снизу от родника с двумя ведрами на коромысле, был в той же застиранной и полинявшей морской полосатой тельняшке, туго натянутой на мускулистые плечи, и брезентовых штанах на том же ремне с начищенной до блеска медной пряжкой с большим якорем.
Альгиса он узнал по голосу, будто вчера это было, и двигая белесыми бровями над запавшими веками, словно силясь их открыть и разглядеть гостя, он улыбался широко и радушно, открывая щербатые, но крепкие зубы, прокуренные до желтизны.
— Как же, как же. Помню, — певуче, как и все украинцы, протянул он. — Из Литвы. Стишки пишете.
И хоть Сигита ни единым звуком не выдала себя, он повернул к ней лицо с зелеными оспинами от въевшегося в кожу пороха.
— Здравствуйте. И вас помню.
— Нет, Тимофей, — поспешно сказал Альгис. — Это — моя дочь. Школьница.
— Чую, молоденькая, — протянул ей руку Тимофей. — Значит, на Черное море приехала? Погреться? У вас там, на Балтийском, еще холодно.
— Она не говорит по-русски, — вступился Альгис, видя, как растерялась Сигита.
— Значит, только по-своему? Не беда. Мы с ней бычков пойдем в море ловить. Пойдешь? А там какой разговор? Там надо тихо. Долго у нас поживете?
— Долго. До лета.
— О цэ дило! — обрадовался Тимофей. — Будет с кем побалакать. А то я скоро стану и слепой и немой. Полный инвалид.
Он рассмеялся и повел их в хату. Из двух комнатушек им уступил дальнюю, оставив себе проходную, и стал шумно и радостно хлопотать, переставляя мебель, перетаскивая железные, на сетках, койки и отказываясь от их помощи, безошибочно ориентируясь сам. Быстро и ловко сварил на мазаной печурке во дворе перед домом кулеш в черном задымленном чугуне, накормил их с дороги, а с Альгисом распил привезенную им бутылку коньяка. Пили из граненых стаканов. Тимофей опрокидывал в рот коньяк, как водку, не закусывал, а только причмокивал губами от наслаждения.
— О цэ гарно! Такого давно не пробовал! Армянский, говоришь, коньяк? Ого! Армяне толк понимают. Умеют жить.
В домике было бедно, но чисто. От побеленных известкой неровных стен веяло прохладой. Вышитые Тасей полотняные занавески пузырились на раскрытых окошках. Над койками висели коврики, тоже тасиной работы, вышитые крестиком с лебедями на пруду, казаком и дивчиной у плетня и серпом месяца среди белых, как гребешки волн, облаков.
Разморенный обедом и коньяком Тимофей уснул во дворе, а рыжий Тузик свернулся калачиком у него на животе. Альгис и Сигита тоже легли отдохнуть — каждый на своей койке, и хоть стояли они у разных стен, от одной до другой можно было дотянуться рукой. Сигита стеснялась раздеваться при нем и хотела было лечь в одежде, но Альгис уговорил ее и вышел в другую комнату. А когда вернулся, она уже спала, а юбка, чулки и кофточка висели на спинке стула у изголовья.
В сумерках, когда море потемнело и слилось с горизонтом, а справа и слева по побережью зажглись цепочки огней, пришла наверх Тася, волоча плетеную корзину и бидон. Заохала, запричитала от радости, завидев гостей. Альгиса она тоже узнала сразу и очень обрадовалась, что он приехал с дочкой, такой хорошенькой и ладненькой, копия отца. Только одно насторожило ее, как же она пропустит школу, дети еще три месяца будут учиться. Альгису пришлось выдумать, что Сигита зимой тяжело болела, и врачи велели отправить ее на юг.
— Понятно, понятно, — кивала Тася, не сводя с Сигиты ласковых, тоскующих по несбывшему материнству глаз. — Так, может, в санаторий надо? Сейчас места есть. Даже в нашем. Я могу спросить.
Альгис снова изворачивался, объясняя, что Сигите здесь будет хорошо, а ему нужно писать в тишине, очень много работать, и их домик как нельзя лучше подходит для этого. Он не хочет никого видеть и чтоб никто ему не мешал, не беспокоил.
— Ну, тогда вы попали в самую точку, — обрадованно всплеснула руками Тася. — Туточки, как в могиле, даже милиция не найдет. Вот хорошо-то! Будем жить, как одна семья. А то мой Тимофей совсем заскучал. Я вам снизу все продукты буду таскать. Для доченьки коза есть, самое полезное молоко. Поправится, будет красавицей.
Ужинали они вместе. Во дворе, под звездами. Тимофей засветил фонарь «летучая мышь», и бабочки тучами вились над стеклом. Было тихо, и только снизу докатывался успокаивающий рокот прибоя в прибрежных камнях. Тася допила остатки коньяка, раскраснелась, повеселела, вместе с Тимофеем затянула протяжную украинскую песню. Цикады в кустах вокруг дома сопровождали пение, как оркестр. Тимофей обнял ее, а она положила голову ему на плечо и пела высоким голосом, прикрыв глаза и сладко чему-то улыбаясь. А он сидел ровно и строго вторил ей густым сдержанным басом, не заглушая, а только оттеняя жену, и пустые ввалившиеся глазницы были устремлены в темноту, к морю, где далеко-далеко двигалось несколько огоньков — запоздалое судно пробиралось в ночи к Ялте.
Было так хорошо и умиротворенно на душе, Альгис вдруг почувствовал себя таким счастливым и беззаботным, каким он себя уже давно не помнил. И с признательностью за то, что она побудила его на этот шаг, такой отчаянный и единственно верный, любовался Сигитой, тоже завороженной тихой прелестью южной крымской ночи, этой песней, чужой и близкой ей, потому что пели добрые и несчастные люди и с ними было спокойно и просто, как со своими, очень родными людьми. У нее прошла скованность и неловкость, какая стесняла ее поначалу. Она уже освоилась и смотрела открыто на лица поющих, даже шевелила губами, беззвучно повторяя незнакомый напев.
— Все мы да мы поем, — спохватилась Тася. — Что, ваши песни разве хуже? Давай, Сигита, спой по-вашему, по-литовски. А мы с Тимофеем послушаем.
Сигита не смутилась, не стала упираться и, застенчиво улыбнувшись Альгису, запела тихим поначалу неуверенным, голосом ту песню, что он слышал в вагоне, когда пели вместе Сигита и милиционеры.
Куда бежишь, тропинка милая? Куда ведешь, куда зовешь? Кого ждала, кого любила я, Уж не воротишь, не вернешь.Тася, удивленно раскрыв глаза, слушала незнакомые слова, а потом вскрикнула радостно:
— Так то ж наша песня! Только слова другие! Выходит и по-литовски, и по-русски эта песня поется.
Сигита понимала по-русски, но говорила с трудом.
— Нет, — заупрямилась она, — песня наша, литовская.
— Как же так? — обернулась к Альгису за поддержкой Тася. — Наша песня. Помню до войны у нас в селе ее каждая девчонка пела. И слова такие хорошие… Теперь не услышишь.
И устремив глаза к звездам, стала припоминать слова, тихо напевая.
А там вдали, за синей рощицей, Где мы гуляли о ним вдвоем, Плыла луна — любви помощница, Напоминая мне о нем.— Ах, как душевно, — задумчиво произнесла Тася. Тимофей улыбался, покачивая головой.
— Что тут спорить, — примирительно сказал он и погладил Тасю по голове.
— Хорошая песня тем и знаменита, что везде поется… Что в Литве, что у нас в России. Душа-то у людей повсюду одна.
Сигита стала петь дальше. По-литовски. Тася, скрипя протезом, подтащила к ней табурет, уселась рядом, обняла, как подружку, и подтянула по-русски, тихим задушевным голосом. Тимофей, не знавший слов, баском подхватывал концы фраз. Альгис слушал, прикрыв глаза, как вились, переплетались в одной песне литовские и русские слова и с невольной завистью подумал о том, что ни одно из его стихотворений не стало такой песней, простой и трогательной, нужной человеку, как хлеб и вода. Для его стихов композиторы тоже писали музыку и их пели по радио и с эстрады. Пели месяц-другой и забывали. А эту помнят и любят, И никто не знает автора слов, музыканта, написавшего музыку. Народная песня. И живет в народе. А не пылится магнитофонными лентами в архиве Радиокомитета да пожелтевшими нотными тетрадями в чьем-нибудь чулане.
А ведь он умеет писать и умеет это делать добротно и искренне, как некогда в самом начале пути. Он напишет. Обязательно напишет. Здесь, в этом своем укрытии. Так, как не писал никогда. Будет писать без оглядки на редактора, без мысли о гонораре. Вот как эта песня. Пусть выльется из души. Ни для кого. Для этих звезд, для шумящего внизу моря. Для Сигиты с ее слабым неокрепшим голоском. Для Тимофея с Тасей, для которых хорошая песня, возможно, единственная отрада в их жалкой обездоленной жизни. Он напишет о них, о двух изувеченных войной душах, не нужных никому и ушедших от людей, нашедших пристанище на этой скале под южными звездами. Об их любви, тихой и человечной, что поддерживает в них жизнь.
В невидимом отсюда море, где-то внизу, как в бездне, простуженным басом прогудел пароход, мигнув двумя неяркими огоньками.
— На Керчь пошел, — сказал слепой Тимофей, и Тася, по пароходному гудку отмерив время, сказала, что поздно, надо спать, а то ей завтра рано на работу. Альгису не хотелось вставать из-за стола. Но слепой уже шарил по столу руками, собирая посуду, и Альгис поспешил ему помочь.
— Та не надо — с ухмылкой отмахнулся Тимофей. — Я привычный. Ночью мне подручней, чем вам. В потемках вы, что слепой. Для меня всегда одно. Ногами вижу да руками.
И понес горку тарелок на вытянутых руках, уверенно переставляя ноги по тропке до самой двери, коленом отворил ее и совсем исчез в темноте. Альгис напрягся, ожидая услышать звон разбитой посуды и, не посидев, пошел за ним. В темной кухоньке смутно различил Тимофея, на корточках присевшего над тазом с водой и мывшего невидимые тарелки.
— Тимофей, — попросил Альгис, — дайте, Сигита вымоет. Женское дело.
— И сразу скажешь — в моряках не служили, — угадал его улыбку Альгис. — Куда бабе в этом деле до матроса? А Сигите вашей дай посуду мыть — один убыток. Ей огонь зажигать надо, керосин переводить. Со мной экономия выходит.
Появилась Тася, поскрипывая протезом, шумно стала выпроваживать Альгиса:
— Вы — наши гости, вам отдыхать положено, марш — по койкам!
Альгис и Сигита закрылись в своей комнате, разделись, не зажигая света. Снаружи в маленькие оконца проникало сияние звезд, неясными пятнами ложась на глиняный, твердый, как камень, пол. Горько пахло полынью, высохшие серые метелки этой степной ядовитой травы висели под потолком на гвоздях, как средство от блох.
Даже в темноте Сигита разделась, повернувшись к нему спиной, и Альгис заметил, что, оставаясь с ним наедине, она настороженно затихала, вся как-то подбиралась, будто ждала, что сейчас что-то произойдет.
— Слушай, дочь, — позвал он, уже лежа под одеялом, — тебе неудобно со мной в одной комнате? Я могу в сарайчик на сено пойти.
— А я? — присела на своей койке Сигита, и Альгису показалось, что он в темноте различает блеск ее глаз. — Одна останусь?
— Тогда не стесняйся меня. Нам не один день вместе быть.
— А сколько?
— Не знаю. Как бы ты хотела?
— Я? Я бы… хотела всегда.
— Как ты это понимаешь?
— Без вас я теперь пропаду.
— Вот уж неправда. Ты — молодая. Еще все впереди.
— Ничего впереди. Кроме вас.
— Да я же старый.
— Нет… Вы самый лучший на земле. Только я вам не пара. Куда мне?
Альгис ничего не ответил, и Сигита молчала, все еще сидя на койке, подтянув под одеялом коленки к подбородку.
Потом он услышал тихое всхлипывание.
— Сигита, — шепотом позвал он.
Она не отозвалась, приглушила плач, только глубоко и горестно вздыхала.
— Ты действительно меня любишь?
— Очень, — донесся оттуда шелестящий шепот. Альгис спустил ноги, шагнул и склонился над ней.
Голова Сигиты уткнулась в колени. Он положил ладонь ей на затылок.
— Не трогайте меня, — злобно сказала она, не подняв головы. — Уходите.
За стеной завозилась, вздыхая Тася, гулко кашлянул Тимофей.
— Им все слышно, — подумал Альгис, — хотя… мы же говорим по-литовски. Они ни черта не поймут.
— Спи, дочь, — громче сказал он по-русски и на цыпочках отошел от Сигиты. — Спокойной ночи.
И уже засыпая, убеждал себя отныне не быть с ней фамильярным, постараться сохранять дистанцию, а то при ее неуравновешенной натуре, резких, неожиданных переходах от покорности и ласки к агрессивности и злобе, недалеко до беды. А уж на что способна такая девчонка в ее-то возрасте, с ее примитивными представлениями о чести и порядочности, при полном хаосе в глупой головке, совсем ошарашенная и сбитая с толку резким и непредвиденным поворотом всей ее жизни, один Бог ведает. Нужно с ней быть предупредительным и строгим, как отец. Ведь он ей только, в отцы и годится. Ей полезно пожить рядом с ним, немножко обтесаться, кое-что перенять. Потом с благодарностью вспомнит, и, возможно, это будет единственным добрым делом, которое он совершит на этой земле.
А стихи? Он еще сделает свое. Будет работать, как вол. Писать, писать. Пока он совсем еще не выдохся. Взять второе дыхание. Говорить правду. Без цензуры. Так, как он думает и считает нужным. Он поведает людям о своей Литве, какой не знает мир, о ее трагедии, о неслыханном и упрямом до бессмыслицы героизме, старательно замалчиваемом и предаваемом забвению. Пусть узнают люди и содрогнутся. Снимут шапки в благоговейном молчании перед этим маленьким, но великим народом. Никто об этом лучше не расскажет.
Но кому? Кто прочтет его? Кто издаст книгу? В этой стране — никто. Он обречен на немоту и безвестность. Писать в стол. Всю жизнь. А после смерти? Что-то может измениться в мире. Ничто не вечно. Вечна только красота. Его стихи найдут и они придут к людям. Когда его не будет. Ну и что? Таков удел истинного творца, перешагнувшего свое время. Дай Бог, Господи, чтоб так случилось, и он хоть что-нибудь оставит после себя.
Писать, пока хватит сил. И читать вслух Сигите, своей хорошенькой и диковатой «дочери». Это же прекрасно. Он не один. У него есть читатель. А что еще нужно поэту?
Проснулся Альгис поздно. В окошко слепило солнце, и Альгис распахнул обе створки, не поднимаясь с постели. Соседняя койка пустовала и была аккуратно застлана стареньким покрывалом, а две подушки в изголовье пухло взбиты, с вмятинами в углах и положены одна на другую. Не слышно было голосов, и лишь робкие вздохи моря доносились откуда-то снизу. Альгис вспомнил все. И где находится, и как он сюда попал. И рассмеялся. Счастливым беззаботным смехом. Рассмеялся вслух, потому что в другой комнате зашлепали босые ноги, приоткрылась дверь, и он увидел Сигиту в платьице без рукавов, что он купил в Симферополе. Платье было настолько коротко, что открывало голые ноги выше середины бедер, тонких, но уже крепких и очень женственных. Сигита улыбнулась ему, морща свой короткий носик, и улыбка ее была не застенчивой, как прежде, а открытой и по-детски доброй. В разрезе платья Альгис увидел выступающие выпуклости маленьких грудей — Сигита была без лифчика, и это тоже удивило, его. За ночь с ней произошли перемены. Она освоилась на новом месте, как у себя дома, и на Альгиса смотрела без прежней опасливой почтительности.
— Вставай. Завтрак ждет.
— Ты мне говоришь «ты»?
— А как же дочь должна говорить отцу?
— Верно, верно. Но ведь мы говорим по-литовски, и никто нас не понимает.
— Никого нет в доме. Тася на работе, Тимофей пошел рыбачить.
— Сейчас оденусь.
Альгис ожидал, что она выйдет из комнаты, но Сигита села на край своей постели и смотрела, как он одевается. Нисколько, не смущаясь, с нескрываемым любопытством. Ему даже стало неловко, и он повернулся к ней спиной.
Потом она из железной кружки ему сливала во дворе воду на подставленные ладони, когда он умывался, и Альгис каждый раз перехватывал ее взгляд, какой-то очень взрослый, ласковый и заботливый, бывающий только у матери, когда она помогает умыться своему сыну.
Позавтракав, он предложил Сигите пойти вниз искупаться. Она упрямо мотнула головой.
— Почему?
— Я никого не хочу видеть. А тут мы одни. Альгис глянул. ей в глаза, напряженно застывшие, ждущие ответа, и почувствовал, что его охватывает волнение, давно уже не испытанное им. И даже сердце сжалось в сладком предчувствии. Он отвел глаза. Встал из-за стола и пошел в комнату. Сигита вошла вслед за ним, прикрыла двери и, шагнув к нему, обняла, сцепив пальцы на затылке, неумело и сконфуженно тычась губами в щеку.
— Постой… Сигита… — горячо и прерывисто зашептал он, чувствуя теплый запах ее волос, шуршание ресниц на его носу. — Зачем? Я старше тебя… А ты еще ребенок…
— Я люблю тебя.
— А потом пожалеешь.
— Нет. Не говори больше. Лучше тебя у меня никого в жизни не будет. Я тебе не нравлюсь?
— Очень. Очень. Но…
— Тогда — все!
Она отстранилась от него. Обеими руками схватила низ платья, дернула наверх, обнажая голое тело, и через голову сбросила его на пол в самый угол. Потом, увидев его разгоревшиеся глаза, инстинктивно прикрыла маленькие груди ладонями крест-накрест, но спохватилась и уронила руки.
— Ну как? — почему-то охрипшим шепотом спросила она. — Очень худая, да? Еще не женщина? Тебе неприятно смотреть?
— Ты — богиня. Ты — сама прелесть. С тобой ни одной женщине не сравниться.
— Неправда, — покачала она головой, но так неуверенно, что Альгис почувствовал, как ей сейчас необходимы его слова, чтоб обрести уверенность. И он говорил много, без умолку, волнуясь и путаясь в пуговицах, пока раздевался. А Сигита стояла, белея не тронутым загаром, худеньким, с выступающими под кожей ребрышками, телом, и машинально поглаживая ладонями тонкие крепкие бедра.
Он сбросил на пол матрац со своей койки, потом потянул с ее койки.
— Зачем? — удивилась Сигита.
— Узко. Не поместимся.
— Верно, — согласилась она, опускаясь на колени и помогая ему сложить на полу постель. Маленькие груди с темными кружочками сосков повисли, вытянулись, упруго покачиваясь, и Альгис не выдержал, просунул ей под живот руку, зажал, смял их в ладони, как два мячика, и она упала набок, слабо охнув.
Потом он лежал и курил, стряхивая пепел вместо пепельницы в свою ладонь, а Сигиты уже не было рядом. Из кухни доносился плеск воды. Она застирывала там кровавое пятно на простыне, и Альгис слышал, как она, мурлыча, напевала. Его поразила выдержка и какая-то взрослая самостоятельность Сигиты. Он был первым мужчиной у нее. Она никого не знала, все ей было внове, но, отдавшись ему, не боялась, и инстинктом угадывала, как себя вести. Она не издала ни стона, не оттолкнула его, хотя он знал и видел, что ей больно и хочется кричать. Но вместо этого она с состраданием и жалостью следила за каждым его движением, стараясь помочь ему, и горячей вспотевшей ладошкой робко поглаживала по спине, словно желая приободрить и успокоить. А сейчас, как будто ей все это привычно, деловито застирывает простыню, убирая все следы свершившегося и еще напевает.
Он еще курил, когда она вернулась и, увидев пепел в его ладони, высыпала в свою ладонь и вытряхнула в окно. С удивительной простотой, непривычной ему деревенской обстоятельностью. Она не жеманилась, не ловила его взгляды, не искала сострадания к себе, как чаще всего бывало у него и с женщинами постарше. Она была естественна в каждом своем движении и, расхаживая перед ним нагишом, нисколько не казалась бесстыдной. Такая она и есть и не умеет притворяться. После той близости, что у них была, ее обнаженное тело принадлежало ему в такой же мере, как и ей, и закрываться, испытывать чувство стыда перед ним, казалось ей нелепым, так же, как до этого стесняться самой себя.
И Альгис почувствовал себя легко. Таким поведением Сигита сняла с него бремя ответственности, которое в другом случае тяготило бы его. Она как бы становилась равным партнером. И он был несказанно благодарен ей, что все сложилось так хорошо, и теперь они действительно вдвоем, связанные не только побегом, но и потребностью друг в друге.
— Вставай, — покровительственно, как младшему, сказала она. — Я уберу постель и можно пойти купаться.
Они спустились по тропинке к морю в сатиновых купальниках, купленных в Симферополе, и с полотенцами на плечах. Берег был завален большими камнями с теплыми, нагретыми боками. Камни торчали из воды с клочьями пены между ними, а дальше море было ровным и гладким, без единой морщины.
На одном из крайних камней сутулилась спина Тимофея в полосатой тельняшке, и бамбуковое удилище дугой выгнулось перед ним. Заслышав скрежет гальки под их ногами, он, не обернувшись, поздоровался с ними и сказал, что вода холодная, купаться рано. Можно на лодке покататься. Вон там она привязана к камню, его собственная. Надо лишь за веслами в сарай подняться. Альгис и Сигита поблагодарили. Им не хотелось кататься. Они выбрали большой камень с плоской широкой поверхностью в трех шагах от Тимофея и легли на его уже горячую шероховатую твердь.
Тимофей сидел к ним спиной и обрадовался возможности поговорить. Он достал из воды плетеную корзину и похвастал уловом — на дне корзины плескались и пучили красные глазки с десяток бычков и большой, в три ладони, судак. Сигита и Альгис похвалили, а Тимофей пообещал на обед уху, какой они еще не ели.
Солнце стояло высоко, но на воде зной не ощущался. Кругом ни души, даже чаек не было видно. Альгис положил ей руку на живот, и она сверху прикрыла ее своей ладонью. Он шевельнул пальцами, пополз выше к лифчику, приподнял края и ощутил гладкую податливую мягкость. Добрался до соска, слегка сдавил его концами пальцев и ощутил прилив желания, острого, не рассуждающего.
Он поспешно снял с себя трусы, нагнулся над нею и стал ее раздевать.
— А он? — спросила по-литовски Сигита.
— Он же не видит, — усмехнулся Альгис, скосив глаз на полосатую спину Тимофея.
— Зато слышит.
— А мы тихо.
И Сигита не стала противиться. Раскинула белые ноги на желтом теплом камне, руками прижала его голову к себе и затаила дыхание.
— А вот у вас, по-литовски, слово «хлеб» как говорят? — спросил Тимофей, и Альгис ответил ему, на миг замерев.
Через какое-то время Тимофей поинтересовался словом «вода», потом «небо».
— А чего вы смеетесь? — вдруг спросил он, обернувшись и уставившись на них слипшимися веками, и Альгис с Сигитой не выдержали, захохотали во весь голос.
Она спрыгнула с камня в холодную воду, вымылась по шею и, набирая в пригоршни, как ребенка стала мыть Альгиса, затем растерла полотенцем его ноги, живот.
Обед Сигита готовила с Тимофеем вдвоем во дворе. Альгис сидел в комнате и писал. Работалось легко и непривычно быстро, и он приписывал это своему состоянию, той приподнятости и бодрости, каким он был полон с утра. Сигита порой неслышно заходила, заглядывала через плечо в бумаги, придерживая дыхание, и он терся затылком об ее грудь и ловил губами руку.
— Пиши, пиши. Не буду мешать, — как маленького, гладила она его по голове и на цыпочках выходила.
Так прошла неделя. Альгис работал помногу, а каждое, утро они валялись на прибрежных камнях нагишом, и даже дома, наверху, до сумерек, когда приходила Тася, они разгуливали без одежды, стараясь только голым телом не столкнуться со слепым Тимофеем.
Они жили, как на необитаемом острове. Как два первобытных человека, как дикари. Тела их покрылись ровным мягким загаром, какой можно получить только в Крыму только в это время года, ранней весной. Загар одинаковый по всему телу, без единого светлого пятнышка, ничто не прикрывало их от солнечных лучей. Даже трусики, которые они неохотно натягивали к вечеру, когда ожидался приход Таси.
Сигита любила, присев перед ним на корточки и медленно распрямляясь, гладить ладонями его тело — от ступней, по бедрам и выше — легко, как бы боясь обжечься, касаясь пальцами и не смущаясь, разглядывала с удивленной улыбкой то, что отличало мужчину от женщины, и прежде, даже месяц назад, вызвало бы у нее жгучее чувство стыда.
А Тимофей ходил рядом, делал свои домашние дела и болтал без умолку, наверстывая долгую пору молчаливого одиночества. Присутствие постороннего человека, не догадывающегося, что они бродят бесстыдно голыми, и Альгис отвечая ему, держит при этом Сигиту за грудь, а она, опустив ладошку на низ его живота, расчесывает пальцами спутанные волосы на лобке, придавало их жизни на скале особую остроту, и постоянные приливы ненасытной чувственности, каждый раз бросавшие их друг другу по одному взгляду, независимо оттого, были ли они дома или во дворе, или внизу у моря. И почти всегда свидетелем их любовных утех был слепой Тимофей.
За домиком уходил вверх склон горы, поросшей лесом, и там сейчас цвело лилово-фиолетовыми гроздьями не на ветках, а прямо на корявом стволе иудино дерево — крымская достопримечательность, древняя, как ископаемое, еще с библейских времен, завезенная сюда греками-колонистами из Палестины.
Сигита с Альгисом уходили в лес. Голыми, как мать родила, сложив и связав ремнями одежду и забросив ее через плечо; Они поднимались далеко, переваливали через вершину, добирались до водопада Учан-су, на десятки метров низвергавшего со скользкой замшелой скалы тонкие холодные струи. Здесь они одевались и выходили на дорогу, где толпились туристы с рюкзаками на спинах и сигналили ялтинские такси. Съедали в кафе у водопада по остро пахнущему углями шашлыку и лесом, снова раздевшись, возвращались к себе.
Альгис перестал бриться, и его загорелые щеки покрылись мягкой светлой щетиной. Первые признаки бороды навели его на мысль, что его внешность достаточно изменилась и можно совершить вылазку на обитаемое побережье к Симеизу, Алупке. Ялты он пока избегал.
Они поехали на Алупку, где уже было много курортников. Зашли в сберегательную кассу, сняли с аккредитива денег на два месяца вперед, а потом гуляли по роскошным паркам, еще посаженным русскими царями, ходили по паркетам дворцов, превращенным в музеи, и Альгис, как добросовестный гид, объяснял ей, рассказывал, и она широко распахнутыми глазами вбирала в себя эту вызывающую щедрую красоту, восторгалась с такой непосредственностью, что и он как бы заново все это увидел.
На одной из лужаек Воронцовского дворца Альгис подвел ее к бронзовому бюсту на мраморном высоком постаменте. Бюст изображал военного в армейской фуражке, погонах и со множеством орденов и медалей на груди, поверх которых выступали две пятиконечные звездочки. У военного было скуластое восточное лицо, и Альгис объяснил Сигите, что это бюст дважды Героя Советского Союза летчика Султан Хана, уроженца Алупки. По советским законам человеку, удостоенному двух золотых звезд Героя, ставили памятник на родине. Вот почему крымский татарин Султан Хан, отлитый в бронзе, смотрит с пьедестала на курортников, по большей части, русских. Татар же в Крыму нет, их согнали с насиженных мест и выселили в Среднюю Азию по указанию Сталина, и единственный татарин теперь в Крыму — Султан Хан. И то не живой, а отлитый из бронзы. Ведь и домик, в котором их приютили Тася с Тимофеем, тоже татарский. В Крыму когда-то жили только татары. Это была их родина. Императрица Екатерина Вторая завоевала Крым, присоединила к России, как и Литву. А Сталин очистил Крым от татар. С Литвой он этого не доделал, смерть помешала.
Сигита нахмурилась, взяла его за руку:
— Пойдем отсюда. Не хочу смотреть. Это все украдено.
А месяц спустя, когда борода отросла, они съездили в Ялту, и Альгис повел Сигиту в ресторан «Ореанда», где обычно бывали одни иностранцы, и некогда Альгис любил там просиживать вечера.
В тот день в Ялту вошел огромный многопалубный красавец — французский теплоход «Ренессанс» и высадил тучи европейских туристов, сразу заполнивших многоязычным гамом и пестрым нездешним видом набережную, кафе, магазины сувениров.
Еще утром со своей скалы Альгис и Сигита видели белую громадину «Ренессанса» с трехцветным французским флагом над кормой. Ей захотелось посмотреть корабль вблизи, и Альгис, искавший повода чем-нибудь порадовать ее, хоть как-то вознаградить за то, что она вернула ему молодость, сделала счастливым, каким он никогда прежде не был, загорелся мальчишеским озорством и предложил поймать на шоссе такси и обогнать «Ренессанс».
Они его действительно обогнали и даже успели посидеть на стеклянной веранде «Ореанды», откуда открывался широкий обзор подходов к порту и, уписывая за обе щеки мороженое, любовались «Ренессансом», делавшим как бы специально для них сложные маневры, прежде чем буксиры подтащили его к молу.
Это кафе со сплошной стеклянной стеной на море когда-то было любимым местом Альгиса, да и других писателей, сползавших сюда с горы, из своего дома творчества после многочасового стука пишущей машинки, (чтоб освежить мозги, хлебнуть вина в приятной компании и поглазеть на женщин — курортных красоток, соблазнительных и доступных, если вас можно раскошелить да еще к тому же вы обладаете известным именем. Именно здесь Альгис завязал узелки знакомств — начало быстротечных и бездумных курортных романов, бесследно вычеркиваемых из памяти при покупке обратного билета домой.
В полупустом кафе с прохладным влажным полом он узнал несколько женских лиц и пытался припомнить, спал ли с ними когда-то или просто примелькались они ему здесь, но вспомнить не смог. И они, с интересом скользнув глазами по нему, тоже не узнали — мешала русая с желтоватым отливом бородка, изменившая его лицо, и большие солнечные очки, закрывавшие глаза. Потом заглянули два московских писателя. Альгис не стал искушать судьбу, пересел к ним спиной и уже не оборачивался.
Он провел Сигиту по шумной набережной к морскому вокзалу. По пути они встретили много знакомых, а среди них — и литовцев, даже слышали литовскую речь, приведшую их обоих в возбуждение, какой-то род ностальгии, и они особенно остро почувствовали себя изгоями, не смеющими никому открыться и даже заговорить. Одно утешало их, они прошли неузнанными, борода достаточно изменила его облик.
На морском вокзале, в связи с приходом иностранного судна, для советских граждан были перекрыты все выходы на причал, и увидеть «Ренессанс» вблизи оказалось невозможным. Сигита так огорчилась этому, что Альгис, махнув рукой на все меры предосторожности, решился на отчаянную в их положении авантюру. Он повел Сигиту за руку к массивным дверям, где два контролера оттесняли толпу зевак и, растолкав людей, небрежно бросил несколько фраз по-литовски, прозвучавших для уха ялтинских контролеров иностранной речью и их пропустили, приняв за туристов.
Сигита была в восторге от озорной выходки Альгиса и громко хохотала, пока они шли по причалу к высоким белым бокам «Ренессанса» со множеством зеркально надраенных окон, и этот ее смех делал их еще более похожими на иностранцев, потому что так свободно и непринужденно ведут себя в России только гости из-за рубежа, которым наплевать на советские порядки и даже на вездесущее око КГБ.
Увешанные фотоаппаратами и элегантными сумками, в шортах и мини-юбках густо спускались туристы по нескольким трапам беспечно-оживленные, с пресыщенным скучающим любопытством в глазах. У подножья трапов, как чугунные тумбы кнехтов, к которым канатами был пришвартован корабль, застыли парами пограничники в зеленых фуражках с непроницаемыми, служебно-окаменелыми лицами.
— Если б нам туда попасть? — шепнула Сигита
— Ну и что?
— Мы бы спаслись.
— А кому мы там нужны?
Сигита удивленно вскинула на него глаза.
— Ты — мне, а я — тебе. Что же еще нам нужно? До этого момента Альгису и в голову не приходила мысль о возможности побега за границу, чтоб раз и навсегда покончить с тем неопределенным и ничего доброго не предвещающим положением, в каком они очутились. Действительно, это был единственный выход. Только убежав отсюда, они становятся недосягаемыми для преследователей, обретут покой, какую-то точку опоры и смогут начать новую жизнь, открыто, ни от кого не прячась. И потом свобода… Свобода писать правду, не кривить больше душой. Свобода прокричаться во все горло, до того стиснутое железной рукой цензуры.
Альгис отмахнулся от этой мысли. Россию невозможно покинуть без согласия властей, а только по их решению. Из Советской России человек не едет за границу, его посылают. Бежать же отсюда могут пытаться только сумасшедшие. Граница на замке, как поется в известной песне, и мордастые пограничники у трапа символизировали этот замок.
Вечером Альгис повел Сигиту в ресторан, самый дорогой, с купеческим избытком бронзы и хрусталя, тусклых зеркал в витиеватых рамах. Он хотел кутнуть, разрядиться, а заодно показать Сигите доселе неведомую ей сторону жизни, где деньги без счета, где пьют и обжираются схватившие Бога за бороду счастливчики, которым правдами и неправдами удалось урвать свой кусок пожирнее от весьма скудного пирога, официально декларируемого всеобщим народным достоянием. Ведь Сигита верила всему, чему ее учили в школе, чем забивали голову и, кстати, не без помощи его стихов. Теперь она ошарашенно глазела по сторонам, как Золушка, допущенная в королевские покои. На жующие жирные рты, на сверкание драгоценностей вокруг блеклых женских шей, на похоть и пресыщенность в глазах на нагловатую угодливость официантов. И ей, колхозной девочке, вырванной из примитивной нищенский жизни, скрашенной лишь обильными посулами и надеждами на коммунизм, как на рай в загробной жизни, это безудержное пиршество казалось чем-то кощунственно-неправдоподобным. Она даже не могла есть, с трудом жевала, подавленная, прибитая, и Альгис пожалел, что привел ее сюда, подверг такому испытанию. Ему и самому было здесь тошно и противно, и Альгис понял, какие перемены произошли с ним с момента бегства, как изменились его вкусы и привычки.
Это было радостным открытием. Он становился другим человеком, сбрасывал с себя, как коросту, все то, что прежде ценил, как непременный атрибут ставшего нормой образа жизни. Возбужденный таким открытием, он совсем повеселел и потащил упирающуюся Сигиту танцевать в тесную сдавленную толпу, дергавшуюся в центре зала под визгливые стоны джаза.
Сигита робела, стеснялась, но здесь и танцевать не нужно было уметь, а лишь раскачиваться, переставляя ноги, и следить, чтоб тебе их не оттоптали. Кругом мелькали, расплывались пятна лиц, однообразные, с пустыми бездумными глазами и каплями пота на лбах и носах. Промелькнула чья-то багровая, с кроличьими глазами, рожа, но когда Альгис напряг внимание, он уже видел только затылок с двумя розовыми складками шеи над белизной нейлонового воротника. Складки показались знакомыми, особенно поросячий рыжий мысок волос, и Альгис даже ощутил неприятный холодок в груди. Снова выплыло это лицо из-за чьего-то плеча и вытаращило глаза на него. Его узнали, и узнал человек, слишком хорошо знакомый ему, для которого борода не могла послужить камуфляжем. Это был Шнюкас, директор книжного издательства в Вильнюсе, бессменный издатель книг Альгирдаса Пожеры, вхожий к нему в дом, непременный гость на всех семейных торжествах. Шнюкас обалдело глядел на него, не веря своим глазам и перестав танцевать. Было ясно, что он, как и многие в Литве, давно похоронил Пожеру, свыкся с тем, что тот исчез при загадочных обстоятельствах. И вдруг видит живого, обросшего, невесть откуда взявшейся, бородой, в Ялте, в ресторане, как ни в чем не бывало, танцующего с какой-то девчонкой, совсем девочкой. Их разделяло несколько качающихся пар, и это позволило Альгису рвануть в сторону, таща за собой Сигиту и невежливо, грубо расталкивая чьи-то плечи и спины. Сигите не надо было объяснять. Она догадалась, что Альгис обнаружил опасность и спешила за ним, не оглядываясь. Они даже не подошли к своему столику, а проскочили к выходу, будто за ними гнались. Не рассчитавшись с официантом. Потом бежали по аллее к стоянке такси. И немного успокоились, когда за поворотом шоссе в заднем окне автомобиля скрылись огни ночной Ялты.
Уже дома, у себя на скале, сидя у раскрытого окошка и под храп Тимофея за стеной, глядя на лунную дорожку, чешуйчатой полосой дробившую море до горизонта, Альгис подвел итог случившемуся. Шнюкас немедля, возможно сейчас, позвонит в Вильнюс и захлебываясь сообщит оглушающую новость. Альгирдас Пожера жив! Изменил свой облик бородой. Будучи опознан, поспешно бежал, скрывшись в неизвестном направлении. С ним замечена девица шестнадцати-семнадцати лет, по описанным приметам схожая с особой, бежавшей из-под стражи с поезда Москва — Калининград. Бежавшей при содействии Альгирдаса Пожеры.
Завтра будет поднята на ноги вся милиция Крыма. Бежать с полуострова куда-нибудь подальше — в Сибирь или Среднюю Азию — уже поздно. В Симферопольском аэропорту — единственных воздушных воротах Крыма их опознает первый же милиционер, даже мельком просмотревший опись отличительных примет беглецов в формуляре уголовного розыска.
Сюда непременно прилетит жена. В сопровождении ответственных товарищей из Союза Писателей. Для них это будет бесплатным путешествием на юг, подвернувшимся весьма кстати, а в глазах общественности прозвучит чуть ли не нравственным подвигом. Шутка ли, оторвать свои зады от писательских стульев, бросить на полуслове незаконченные рукописи и ринуться на поиск загадочно исчезнувшего коллеги.
Его обложат, как волка, и куда бы он ни метнулся, выскочить из Крыма, как из волчьей ямы, ему не удастся.
Выход один — затаиться, переждать тревогу здесь, на скале, где и в голову никому не взбредет искать их. Не спускаться вниз, даже на пляж. Для Тимофея и Таси найти благовидный предлог. Оба отравились чем-то, заболели, что угодно, но им необходим постельный режим.
Внезапная болезнь постояльцев не вызвала подозрений у Таси с Тимофеем. Слепой на все корки разругал ресторанную пищу, с обидой сказал, что это для них наука — не брезговать домашними харчами, а Тася натаскала из своего санатория желудочных порошков и пилюль и между делом заметила Альгису, что встретила внизу участкового милиционера, и он интересовался им и Сигитой, велел принести в отделение документы для прописки.
Только этого не доставало! Круг смыкался.
Альгис постарался не выдать своего смятения и спокойно, даже слишком спокойно, растолковал ей, почему не стоит сдавать в милицию документы. Тогда с нее, с Таси, именуемой отныне квартирохозяйкой, сдерут налог за сдачу в наем жилья, и от всей суммы, которую ей заплатит Альгис, у нее останется с гулькин нос. А они с Тимофеем не так уж богаты, чтоб отказываться от честного заработка. Поэтому Тасе следует заявить в милиции, что жильцов больше не держит, съехали, а они, никому не мозоля глаза, поживут здесь еще немного и действительно уедут, оставив все, до копейки, Тасе.
Такой аргумент убедил ее, и назавтра она, таинственно поигрывая глазами, со смехом рассказала Альгису, как в милиции ей поверили и налог платить не придется.
Несчастье приключилось поздно вечером. Тимофей с Тасей стряпали во дворе, готовя ужин, когда наверх, отдуваясь после крутого подъема, поднялся участковый милиционер. Альгис сидел в комнате и писал. Незадолго до этого Сигита пошла с коромыслом вниз, к роднику, за водой.
Альгис выключил свет и вылез в окошко, чтоб украдкой обойдя дом, перехватить Сигиту на полпути. Но не успел. Сигита уже поднималась с двумя полными ведрами на коромысле, в сумерках не различив человека возле Таси с Тимофеем. Участковый поинтересовался, кто такая, Тася и Тимофей сбивчиво и неумело стали врать, что это дочка знакомых, заглянула на денек проведать. Что-то ляпнула с перепугу Сигита, стараясь им помочь выпутаться, и ее литовский акцент совсем уж насторожил милиционера, и он потребовал документы.
Все! Капкан захлопнулся. Еще минута-другая и милиционер задержит Сигиту и отведет ее вниз для выяснения личности. А он, Альгис, еще может спастись. За пляжем к камню привязана лодка Тимофея. Весла в сарае. Сейчас нужно пробраться через окошко обратно в комнату, свернуть трубкой все рукописи, обмотать непромокаемым полиэтиленом, заранее запасенным им, сунуть за пазуху и бежать, прихватив весла.
Сигита? Погибнет в лагере. Таков ее удел. Альгис ничем уж больше помочь не сможет. Бог — свидетель, он сделал все, что было в силах, но она сама наступила на капкан. Спасая ее, он сам погибнет. Так уж пусть хоть один вырвется. Тем более, что он не шкуру свою уносит, а стихи, самое дорогое, что у него есть. Нужные людям стихи.
Прихватив из дома только рукописи и бросив все остальные вещи, пусть Тася с Тимофеем пользуются, Альгис прокрался к сараю, взвалил на плечо весла. По тропинке вниз уходил милиционер, ведя впереди Сигиту. Тася и Тимофей растерянные стояли у летней плиты во дворе. Сигита обернулась к ним, махнула рукой, и Альгис, разглядевший в сумраке ее лицо, улыбающееся и даже какое-то преувеличенно-равнодушное к тому, что с ней произошло, потерял контроль над собой и в несколько прыжков догнал милиционера. Шорох осыпающегося гравия под ногами Альгиса, его тяжелое дыхание привлекли внимание и Сигиты, и милиционера. Милиционер схватился правой рукой за кобуру пистолета, но Сигита вскрикнула и впилась зубами в его руку. Альгис, уже не размышляя, наотмашь отвел весла на вытянутых руках и, как топором рубя дрова, опустил их. Что-то хряснуло. Милиционер сел на камень, по глазам и носу побежала кровь, нестерпимо красная, и он мягко завалился на спину, выставив негнущиеся прямые ноги с головками гвоздей на подметках казенных сапог.
Альгис снова взвалил на плечи весла и запрыгал вниз по тропинке, Сигита козой устремилась за ним. Сверху орали в два голоса Тася и Тимофей.
— Убили! Убили! Держи их!
И Альгис, не оглядываясь, чувствовал по голосам, что они бегут за ними, пытаясь догнать. Тася — на одной ноге и на протезе и слепой Тимофей. Но голоса отстали, захлебнулись. Должно быть, упали оба.
Альгис, а за ним Сигита, прошлепали по воде, поднимая брызги меж камней, добрались до лодки. Он посадил туда Сигиту, передал ей весла, отвязал цепь и, оттолкнувшись ногами от камня, грудью налег на борт и перевалил тело к ногам Сигиты.
Весла уже сидели в гнездах уключин, Сигита посторонилась, дав ему место рядом на скамье, и они загребли вдвоем, каждый своим веслом, слаженно, ритмично, и лодка заскользила по темной гладкой воде к мерцающей лунной дорожке.
Сигита улыбалась благодарно и преданно, косясь на своего спасителя, а он был сосредоточен и угрюм, лихорадочно размышляя, как не сбиться в темноте, и уйти подальше от берега в открытое море, в нейтральные воды, где, если есть Бог в небесах, их подберет до утра иностранный пароход.
Они не разговаривали, а молча гребли, держа лодку носом к уходящей в облака лунной дорожке. Глаза обшаривали горизонт — не видно ли силуэта судна. А уши слышали рокот мотора. Воющий, сверлящий, вонзающийся в спины, а через их головы лег на воду ослепительный сноп света.
Все, что они увидели, в страхе обернувшись, был слепящий круг прожектора на носу пограничного катера, быстро нагонявшего их. Свет был настолько ярок, что больно жег глаза даже в зажмуренных веках.
Нос катера, вырастая в темноте, с треском боднул корму лодки, Альгиса резко качнуло к одному борту, Сигиту — к другому, и холодная вода хлынула на них.
Альгис сдавленно вскрикнул, словно от удушья, и проснулся. Синий покойницкий свет, лившийся сверху из лампиона, неясно озарял купе вагона. Вагон содрогался, покачивался, набирая скорость, и за скованным инеем окном уносились назад огни какого-то города. С бьющимся сердцем, все еще не совсем веря, что он в поезде и едет домой, а остальное: и побег с Сигитой, и Крым, и их гибель в море — лишь только сон, кошмарный, чудовищный сон, Альгис тупо смотрел на спящего соседа — каунасского милиционера Даусу, на покачивающиеся на полу голенища его яловых сапог с торчащими оттуда несвежими портянками и понемногу, словно остывая после быстрого, на последнем дыхании, бега, стал приходить в себя.
По всему телу, до кончиков пальцев, потекло, затопляя, сладкое чувство избавления, биологической неконтролируемой радости, и он понял, что спать уже больше не сможет. И лежать не хотелось. Возникла потребность в движении, в общении с кем-нибудь, чтоб дать выход бурно накоплявшейся в нем радости жизни, всегда вспыхивающей в человеке после пережитой смертельной опасности.
Он сбросил одеяло и сел на постели. На верхней полке, напротив, покачивался у самого края затылок Сигиты, и несколько колечек ее спутанных волос свешивались вниз. Она спала и Альгис был рад этому. Ему почему-то не хотелось сейчас видеть ее глаза, было как-то неловко, будто он своей радостью предал ее.
Гайдялис закряхтел над ним и свесил вниз всклокоченную голову с припухшим от сна лицом.
— Не спите?
Альгис показал головой и приложил палец к губам, призывая его говорить потише, чтоб не разбудить остальных.
— А мне показалось, кто-то кричал, — перешел на хриплый шепот Гайдялис, еще ниже свешивая голову. — Значит, все в порядке? Никаких происшествий?
— Никаких.
— Тогда перекурим это дело.
Гайдялис, покряхтывая, слез вниз в своих голубых несвежих кальсонах и, не спросив разрешения, сел рядом на постель Альгиса и стал натягивать на себя темно-синее милицейское галифе. В коридор он вышел босиком, в одном галифе, даже не надев рубашки. Альгис последовал за ним, одевшись почти полностью. Лишь без галстука и пиджака.
Длинный коридор покачивал занавесками на окнах, освещенный лишь двумя плафонами, остальные были погашены. И от этого было по-домашнему уютно, и сигарета показалась Альгису вкусной, хоть он не любил курить натощак и обычно ощущал тогда горечь во рту. Он уже почти совсем успокоился и стоял рядом с Гайдялисом у окна, попыхивая в два дымка, уставившись в непроницаемую, без огонька, ночную муть.
Коридор вагона с ковровой дорожкой и блеском никеля на дверях и окнах был наполнен дремотным теплом. Мимо них прошла проводница, с недоумением покосившись на двух полуночников, и Альгис спросил ее, не Минск ли был тот город, который они только что проехали.
— Какой Минск? — засмеялась проводница. — проспали вы все. Скоро Вильнюс. Вам уж ложиться не стоит.
И пошла к себе в служебное купе.
Гайдялис встревожился.
— Хорошо, что напомнила. У вас билет до Вильнюса, а надо продлить его до Каунаса. А то в Вильнюсе продадут ваше место. Пойду к ней, попрошу не трогать ваше место до самого Каунаса.
Он подтянул галифе и ушел в служебное купе. Альгис остался один в коридоре. Он вдруг ощутил раздражение от того, что этот милиционер уже распоряжается им, решает за него. А впрочем, ведь Альгис решил вступиться за Сигиту, поехать с ними для этого в Каунас по своей воле. И еще совсем недавно, до того, как уснул, испытывал такое волнение и подъем как перед боем. Что же теперь изменилось? Ах, этот сон? Но ведь это несерьезный повод для плохого настроения.
Милиционер вышел из служебного купе и уже издали фамильярно подмигнул Альгису.
— Полный порядок. Ваше место в купе сохраняется до Каунаса. Так что можно спокойно идти досыпать.
— Вы идите, а я здесь побуду, — сказал Альгис.
— Что? Беспокоитесь?
— Да нет…
— Ложитесь спать. Чтобы завтра свежим быть. Вам же к начальству идти. А ее, Сигиту, мы со станции ко мне домой повезем. Нельзя ее в милицию. Девка шальная, беды наделает. Лучше у меня побудет, вроде как в гостях. Дочка ей сверстница. И будем вас ждать. Вроде, как избавителя…
Он рассмеялся и опять подмигнул, запанибрата, как своему сообщнику, и Альгису это было неприятно.
— Так-то, товарищ Пожера, судьба человека в ваших руках. Большая сила у вас, даже завидно. — И вдруг, спохватившись, посерьезнел. — А что, если первого секретаря в городе нет? В отпуске или командировке… Совсем не подумал… А? Вы же с прокурором не знакомы?
— Нет. Но, надеюсь, он знает меня. — Альгису хотелось, чтоб Гайдялис ушел, и уже начинал злиться. — Конечно, я не так всесилен, как вам кажется.
— Нет, постойте, постойте, — встревожился милиционер. — Надо заранее все обдумать, подготовиться. Значит, если первого секретаря в городе нет, вам без него с прокурором не сладить. И девке нашей конец. Упекут в лагерь за милую душу. И там ей — крышка. Руки наложит. Это уж точно. Кого еще из начальства вы знаете в Каунасе?
— Это что? Допрос? — раздраженно усмехнулся Альгис. — Идите спать. Если не будет первого секретаря, найдем второго, или третьего, по пропаганде… У меня достаточно влияния, чтоб утрясти это дело. Идите, отдыхайте…
— Ну что ж, можно и отдохнуть, раз вы обещаете. Что нас касается, мы сделаем. Только бы у вас все удачно получилось. [
Он ушел в купе, не закрыв двери, и Альгис краем глаза видел, как он снимал галифе, потом взбирался на верхнюю полку, повертелся там, под одеялом, устраиваясь, и затих.
Альгис откинул боковое сиденье у окна и присел. Он был один во всем коридоре и ничто сейчас не отвлекало.
— Действительно, я, кажется, влипаю в неприятную историю, — размышлял он, закуривая вторую сигарету. — Ну, хорошо, мы приедем в Каунас. Уже будет позднее утро. Рабочий день начнется. Поеду в горком. Если нет первого секретаря, а это может случиться, вся проблема принимает официальный характер. — С первым они на короткой ноге. Стоит его попросить, и он все утрясет. Тут же, не выходя их кабинета. Одним звонком по телефону. Первый даже не станет спрашивать, зачем это Альгису все понадобилось. Посмеется, потащит домой к себе, и вечером они крепко выпьют, и сам отвезет его на вокзал, к ночному поезду.
Если его нет в городе, начнется бюрократическая волынка. Конечно, никто не откажет Альгису. Будут вежливы, предупредительны, но попросят написать заявление, объяснить мотивы, вместе поедут к прокурору и там придется объяснять. С ума сойти. Он потеряет целый день. А главное — будет выступать в рола просителя, и какие-то скучные серые партийные чинуши будут делать вид, что только из уважения к его имени идут на нарушения законности и делают ему одолжение. Чего он до омерзения не любит. Зачем ему все это нужно? Потом пойдут щепотки, намеки. Альгирдас Пожера берет на поруки воровку. Молоденькую. У него губа, не дура. Знает свое дело, кобель. И нужно будет оправдываться, сводить все к шутке. Черт знает что!
Через час поезд будет в Вильнюсе. Еще ночь. Дома его не ждут. Он не посылал телеграммы и не звонил. Альгис любил приезжать домой внезапно, без предупреждения. Не потому, что он жене не доверял. Боже упаси! А просто так, чтоб оставлять себе руки свободными. Ведь он мог в Вильнюсе прожить день-другой, укромненько укрывшись от любопытных глаз, а жена будет уверена, что он все еще в Москве. Совсем недавно он открыл в Вильнюсе настоящее сокровище — молоденькую актрисулю, Ирену, бойкую и разбитную, с отдельной маленькой квартиркой на Антоколе, совсем близко от его дома, но на той стороне реки, и оттуда вечерами Альгис видел освещенные окна своего дома. Актрисуля ни на что не претендовала, была удобна и безотказна, хотя Альгис не мог поручиться, что в его отсутствие ее постель пустовала. Но это его не беспокоило. Когда бы он к ней ни заезжал, разумеется, не во время спектакля или репетиций, она всегда была дома, в своем стеганом нейлоновом халатике и совершенно голая под ним. И с готовностью выполняла все его желания, будто только это и составляло смысл ее жизни ждать его и делать все, что он пожелает. Она много болтала, даже в самый интимный момент в постели. Но Альгис привык не вникать в смысл ее слов, а лишь слушать мелодичное журчание ее голоса, по-актерски неплохо поставленного.
У нее он отдыхал, выключался и появлялся снова, когда накоплялись раздражение и усталость.
Сейчас Альгис вспомнил ее. Теплые маленькие груди, худые бедрышки и впалый животик, белые мягкие пряди крашеных волос с темными концами у корней. Наверное спит, забившись в угол широкой тахты, и со стены под углом нависает длинное зеркало, в котором-хорошо видно все, что делается в постели. Альгис часто ловил ее любопытствующий глаз, устремленный в зеркало, в то время когда он пыхтел за ней.
Ему захотелось к Ирене. К глупенькой, безропотной актрисуле. Отоспаться на ее тахте. Дать ей денег, чтоб приготовила вкусный обед с коньяком. А ночью ввалиться в свой дом, как с вокзала. Нагнать на себя усталый, измученный вид. Пожаловаться на бессонницу в поезде. И домашние будут его жалеть, ухаживать за ним. Обрядят в свежую, пижаму и оставят одного в кабинете отдыхать после дороги.
Так, собственно, что мешало ему поступить так, как хочется? Эта история с Сигитой. Необходимость ехать в Каунас, терять там целый день, просить, уговаривать людей, общение с которыми никогда не доставляло ему удовольствия, А потом ведь еще надо позаботиться о ней, куда-то пристроить. Эта дурочка всерьез поверила, что ее судьба занимает его. И оба милиционера, два тупых сентиментальных истукана, возжелавших грошовым благодеянием искупить грехи своей черной жизни. Искупайте, ради Бога. Но при чем тут он, Альгис? А если б он ехал в другом вагоне? Или даже в соседнем купе? Подумали бы они помочь этой глупышке? Да ни в жизни. Привезли бы, сдали под расписку и даже не поинтересовались бы, как прошел суд и сколько лет лагерей ей присудили.
Она грозится, если ее осудят, наложить на себя руки. Врет. Не такие чистоплюйки попадали за колючую проволоку, скулили, выли и — ничего привыкали. Отсиживали свой срок, выходили на волю с запасом русских ругательств и неплохо потом устраивались в жизни. Сигите сейчас еще нет семнадцати. Ну, дадут ей три года. Не больше. Выйдет из лагеря в двадцать. Лучший возраст, чтоб начинать жизнь. И выйдет умудренной, без книжной шелухи в голове. Будет знать, что почем и уж больше не оступится на ровном месте. Выйдет замуж, нарожает кучу детей и будет рассказывать соседкам, как ездила в юности в одном купе с известным поэтом Альгирдасом Пожерой и даже писала ему любовное письмецо. И никто ей не поверит, а со временем ей и самой начнет казаться, что все это приснилось.
За окном замелькали редкие огоньки. Какая-то станция пронеслась мимо под усилившийся грохот колес на стыках раздваивающихся линий. И снова стало темно, и стук под полом стал ровнее, ритмичнее.
Скоро Вильнюс. Этот дурак Гайдялис предупредил проводника, что я не сойду. Кто его просил? Что за плебейская манера лезть с ненужными услугами? И вообще, кто дал ему право решать за него? А он возьмет и сойдет здесь, в Вильнюсе. Потому что так хочет он, Альгис Пожера, и никто, а тем более милиционер, не может ему указывать, как поступать.
Что для этого нужно сделать? Лучше сойти тихо, никем не замеченным. А то начнутся расспросы, уговоры, придется лгать, выдумывать нелепые причины. Значит, решено, он сходит в Вильнюсе. В купе все, кажется, крепко спят.
Альгис заглянул в щель неплотно прикрытой двери. Ему был виден Гайдялис на верхней полке, свесивший нос и подбородок через край. Гайдялис спал.
Альгис неслышно сдвинул дверь в сторону, и она без звука отъехала на роликах, слегка щелкнув в самом конце. Сигита забилась в самый угол у себя наверху, а Дауса спал на груди, уткнувшись лицом в подушку и сдавленно храпел, оттого что дышать было трудно.
Нужно было собрать свои вещи. Он приподнялся по приставной лесенке и снял сверху сначала чемодан, потом саквояж. Снял ловко, без единого скрипа, до боли напрягая мышцы на всем теле. Открыл саквояж, неслышно сунул туда со столика несессер, мыло, зубную щетку, пасту. По бумажным оберткам от сахара попытался прикинуть, на сколько денег он выпил вечером чаю, не смог подсчитать и положить на столик рубль — чуть больше, чем следовало.
Выглянув в коридор — там было пусто и справа и слева. Вынес на ковровую дорожку чемодан, затем — саквояж. Вернулся на цыпочках в купе. Снял с крючка свое велюровое пальто, нахлобучил на голову пыжиковую шапку, вышел и прикрыл за собой дверь. Медленно-медленно, до самого конца, пока не щелкнул замок. И вдруг ему стало не по себе. Он был один со своими вещами в пустом, длинном коридоре вагона, залитом желтым дремотным светом из двух плафонов. Стоит озираясь, как вор. С бьющимся сердцем. Что он скажет проводнице, если она выглянет из служебного купе? А это случится непременно и скоро. А еще хуже, если Гайдялис или Дауса обнаружат его отсутствие.
Нельзя торчать в коридоре на виду у всех. Нужно укрыться от ненужных глаз, отсидеться где-нибудь в укромном месте, пока поезд придет в Вильнюс. Альгиса осенило. Уборная. Но не та, что возле служебного купе, а на противоположном конце вагона. Он подхватил чемодан, саквояж и побежал по ковровой дорожке. На дверях уборной, под ручкой, было написано «Свободно», и он с облегчением перевел дух и открыл. Внес вещи, повесил на крючок пальто, и оставшись в пыжиковой шапке, закрыл двери, повернул до отказа рукоятку, чтоб снаружи появилась надпись «занято», защелкнул замок и сел, не снимая брюк, на черную пластмассовую крышку стульчака.
Окно в уборной было непрозрачным, матовым, поэтому увидеть по огонькам приближение города он не мог. Приходилось рассчитывать только на слух.
Он сидел на стульчаке и видел в нижнем конце зеркала, что на двери, свое отражение. Он выглядел нелепо в этой позе, да еще с меховой шапкой на голове. Сидеть было не очень удобно, некуда было откинуться, прислониться и скоро затекла спина.
— Господи, что со мной? — пытался насмешливо думать о себе Альгис и даже улыбнулся своему отражению в зеркале. — До чего дожил? Рассказать кому-нибудь — не поверят. А так тебе и надо. Нечего ездить в общих вагонах, вступать в разговоры с народом, с массами… Надо заранее беспокоиться о билете в мягкий вагон и уметь пользоваться благами, которые положены тебе, а другим только могут сниться. Вот и сиди в уборной, дрожи, как заяц. Будешь вперед умней и осмотрительней.
Он услышал за дверью шлепающие шаги, чье-то астматическое сопение. Перед его остановившимися от напряжения глазами, резко повернулась рукоятка. Но дверь была заперта и не сдвинулась с места. Тогда раздался нетерпеливый стук костяшками пальцев.
Альгис растерялся. Пассажиры просыпаются, скоро Вильнюс. Этот, что ломится в туалет, не уйдет и, если я буду молча отсиживаться, позовет проводника, чтоб тот своим ключом отпер дверь. Альгис нашарил ногой рычаг спуска воды, нажал и услышал под собой грохот водопада, рванувшегося из трубы. Эта хитрость должна была дать понять тому, кто в нетерпении мнется там, за дверью, что туалет действительно занят одушевленным существом.
За дверью послышались голоса. Не один, а сразу несколько. Значит, уже образовалась очередь перед дверью. У Альгиса на лбу выступила испарина. Надо выходить. Начнут стучать, шуметь. И тогда ему предстоит встреча и с проводницей, а возможно, и с Даусой, и Гайдялисом, и даже с Сигитой, которых разбудит скандал в коридоре.
Альгис преувеличенно громко закряхтел, закашлял и отпер дверь. Те, что ждали в тамбуре, — какие-то сонные, нечесаные субъекты — вежливо посторонились, давая ему выйти, и даже не среагировали на то, что он был в туалете с меховой шапкой на голове и вынес оттуда, из этой тесноты, чемодан и саквояж.
В вагон возвращаться было опасно. Там, в коридоре, уже теснились люди, одетые в пальто и шапки — готовились к выходу в Вильнюсе. Альгис потащил свои вещи в противоположную сторону, в загремевшую морозным стуком переходную площадку между вагонами и оттуда прошел в соседний вагон, в теплый, даже перегретый тамбур, где уже сгрудились пассажиры с вещами. Он втиснулся в их гущу, вызвав недовольные взгляды, и неловко, с поджатой ногой замер, качаясь вместе с чужими телами, и с нетерпением следя, как тормозит поезд, замедляя бег.
Сердце его стучало, как у нашкодившего мальчишки, спиной чующего возможную погоню, пот заливал лицо, шею, и он испытал крайнюю степень радости, когда вагон, дернувшись и сбив всех в тамбуре в кучу, замер, распахнулась дверь, и вместе с хлынувшим морозным паром — в легкие проник свежий воздух. Клубок тел и чемоданов вывалился на перрон. Альгис съехал на чьих-то плечах, но твердо встал на ноги, не растеряв вещи.
«Вильнюс» было написано на фронтоне вокзала по-литовски и по-русски.
— Вильнюс, — умиленно прошептал Альгис и почуял, что он уж давно так не радовался, приезжая домой.
И с толпой пассажиров устремился в распахнутые двери вокзала, намереваясь проскочить зал и там, на площади, схватить такси, пока не возникла очередь на стоянке.
— Товарищ Пожера, — услышал он по-русски чей-то знакомый женский голос и, обернувшись, увидел Тамару — гида из «Интуриста». Она интимно, со значением улыбалась ему из-за. стекол больших очков и снова, как в Москве на перроне, была аккуратно, как куколка, спеленута во все заграничное, подкрашена и напудрена, и волосы излучали матовый отблеск после изрядной дозы лака.
— Товарищ Пожера, я надеюсь встретить вас в Москве, когда в следующий раз там будете. Вот мой телефон служебный. Буду рада, — она протянула ему заранее написанную бумажку, и так как обе руки были заняты, сунула ему в карман пальто.
— Обязательно, обязательно, — пробормотал Альгис. — Будьте здоровы, до свидания.
Он хотел пойти дальше, куда устремился поток пассажиров, но не смог вырваться, оказался в окружении американских туристок, рослых, откормленных литовок из Америки, в своих шубах и теплых сапогах, со стандартными белозубыми улыбками. Увидел Джоан, кивнул ей.
— Мистер Пожера! — закричала она. — Хау ду ю ду? Будьте любезны, дайте мне автограф. Здесь, на вокзале, я купила ваш портрет.
— И я, и я, — загалдели американские литовки, потрясая открытками с его портретами, где он был изображен в полупрофиль, задумчивый и сосредоточенный, опершись подбородком на сжатую в кулак руку, как и подобает маститому поэту, мыслителю, инженеру человеческих душ.
— Грустный викинг, — с улыбкой разглядывая его портрет сказала Джоан.
Альгис поставил вещи на пол и стал подписывать открытки. Первой — Джоан, потом — остальным. Писал нервно, оглядываясь на двери вокзала и с вымученной улыбкой кивая туристкам.
Кончив подписывать, он снова схватил свои вещи.
— Прощайте, — тронула его за рукав Джоан. — Я рада, что с вами познакомилась.
— Я тоже… очень… До свидания…
Он выскочил из вокзала, когда у стоянки такси уже змеилась очередь, и чертыхнувшись, пошел пешком, чувствуя тяжесть чемодана и саквояжа в руках. Всей грудью вдыхал морозный воздух, и радость избавления охватила его.
Фонари ярко желтели в рассветной мгле. Знакомые очертания старых вильнюсских домов проступали в дымке.
Альгис Пожера, сильный, крепкий, красивый, как викинг, вступал в свой город быстрым тренированным шагом спортсмена и сам удивлялся тому, что так легко, почти бегом, несет свое тело и немалый груз в руках. Он забыл, что дорога от вильнюсского вокзала в город идет под уклон. Сначала незаметно. Потом все больше и больше.
Примечания
1
Клумпы (по-литовски, «клумпес») — деревянная обувь литовских крестьян, непременный атрибут народных танцев.
(обратно)2
Канклес — литовский народный музыкальный инструмент.
(обратно)3
Витаутас — литовский князь.
(обратно)4
Лайсввс алея — Аллея свободы, центральная улица в Каунасе. Поочередно переименовывалась в проспект Сталина, затем Ленина. Ныне улице возвращено прежнее название.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


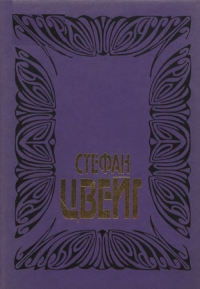
Комментарии к книге «Викинг», Эфраим Севела
Всего 0 комментариев