К. Ж. Гюисманс Геенна огненная
I
— Неужели ты настолько уверовал во все это, мой милый, что забросил такие давно прирученные современной беллетристикой темы, как адюльтер, любовь, тщеславие, ради того, чтобы написать роман о Жиле де Рэ!
Он немного помолчал, а затем добавил:
— Было бы несправедливо и даже глупо упрекать натурализм в том, что он увлекается специальной терминологией, лексикой подворотен и богаделен. Существуют сюжеты, которые напрашиваются на подобный тон изложения. Кроме того, и из словесного мусора, из шелухи, пропитанной смолой языка, можно создать выдающееся произведение. Вспомним хотя бы «Западню» Золя. Нет, дело совсем не в этом. Натурализм отталкивает меня не тем, что громоздкой кистью трудится над тяжеловесными полотнами, лишенными изящества стиля, а тем, что он стремится к непрерывному излиянию нечистот на голову читателю. Мне отвратительно внедрение материализма в литературу, упоение идеей демократичности искусства! Да, конечно, тебе есть что возразить, старина, но тем не менее это плод извращенного рассудка, жалкое, нищенское мировоззрение! Добровольно обречь себя на то, чтобы вдыхать пары грязного тела, отбросить все сверхчувственное, отрицать грезы, не понимать даже такой простой вещи, что тайна искусства начинается там, где рассудок отказывается служить! Пожимаешь плечами? Но, подумай сам, что сумел увидеть твой натурализм во всех тех обескураживающих тайнах, которые нас окружают повсюду? Ничего. Если речь заводит о человеческих страстях, о неизлечимых душевных ранах, о доброкачественной нравственной хвори, он все списывает на счет инстинктов и несварения желудка. Исступление, приступы ярости для него не больше, чем диатез. Его занимает лишь то, что расположено ниже пупка, и он становится все более развязным и разговорчивым по мере приближения к паху. Чувства он воспринимает как грыжевой отросток, душа, по его мнению, подлежит ампутации — и так решаются любые проблемы.
Видишь ли, Дюрталь, речь идет не о невежестве или тупости. В нем чувствуется зловоние, он воспевает жестокость современного мира, бахвалится новой волной американизации нравов, рассыпается похвалами грубой силе, умиляется крепости грудной клетки. Выказывая чудеса смирения, он благоговеет перед вкусами толпы, способными вызвать только тошноту, он вообще отрекается от стиля как такового, отворачивается от любой нетривиальной мысли, от любого прорыва в иную реальность, в потусторонний мир. Он настолько отражает буржуазное мировосприятие, что, честное слово, кажется плодом спаривания Лизы и Гомеса из «Чрева Парижа».
— Черт возьми, это уж слишком! — обиженно воскликнул Дюрталь. Он раскурил давно потухшую сигарету и продолжил: — Я не принимаю материализм точно так же, как и ты. Но это не основание для того, чтобы отрицать несомненные заслуги натурализма перед искусством. В конце концов именно натуралисты избавили нас от марионеток, которым поклонялся романтизм, истребили дешевый сентиментальный идеализм, восторг старых дев, упивающихся своим безбрачием. После Бальзака только им удалось создать живых героев и поместить их в те условия, которые им свойственны. То новое, что привнесли в язык романтики, нашло свое вполне закономерное развитие. Натуралисты знают цену искреннему смеху, а иногда им открывается и благодать слез. И вообще они никогда не были такими уж фанатичными приверженцами низостей, свойственных людям, как ты считаешь.
— Нет, они именно такие! Они любят свой век, и уже это одно выдает их с головой.
— Ну и что? Разве Флобер или братья Гонкуры не любят свой век?
— Я поясню тебе, что я хочу сказать. Да, те, кого ты только что упомянул, были честными художниками, мятежными и высокомерными. Поэтому они занимают совершенно особое место в литературе. Я даже готов признать без всяких просьб с твоей стороны, что Золя — великий пейзажист и знаток толпы, что он по праву владеет умами людей. Но не забывай, что, слава Богу, в своих романах он вовремя останавливается, отказываясь от полного воплощения в них тех идей, которые излагаются в статьях, призывающих внедрять позитивизм в искусство. Но уже его лучший ученик, Росни, единственный из последователей Золя, наделенный талантом, стал громоздкой выставкой самых разнообразных мирских знаний, хорошо обученным подрядчиком. Нет, что ни говори, а натурализм в таком Виде, как он существует, всего лишь отражение тайных вожделений нашего ужасного времени. Школа натурализма превратила искусство в род примитивного пресмыкающегося, так и напрашивается сравнение его с мокрицей. И потом… Перечитай его последние книги! И что? Как в дурном калейдоскопе, какие-то примитивные истории, разрозненные факты, почерпнутые из газет, растянутые утомительные рассказы сомнительного свойства — и ни одной общей мысли, которая поддерживала бы это сооружение. Невозможно, закончив чтение, припомнить ни одного из бесконечных описаний, ни одного из бесцветных рассуждений, которыми набиты тома. Остается только удивляться, что автору удалось настрочить триста — четыреста страниц, не имея ровным счетом ничего за душой, ничего, что он мог бы поведать миру.
— Послушай, де Герми, может, переменим тему? Ты впадаешь в бешенство при одном только слове «натурализм». Вряд ли мы придем к согласию, обсуждая эту тему. Ну а что с этим средством Маттея? Твои опыты с электричеством и твои пилюли, помогли ли они хоть кому-нибудь?
— Уф! Они дают несколько лучший результат, чем то, что приписывает фармакопея. Но неизвестно, будет ли достигнутый эффект стабильным и продолжительным. Впрочем, не это, так другое… Единственно, в чем я уверен, старина, так это в том, что мне нужно бежать. Уже десять, и консьержка вот-вот притушит свет на лестнице. Спокойной ночи и до скорого.
Хлопнула дверь. Дюрталь подбросил немного угля в огонь и погрузился в размышления.
Он был раздражен происшедшим спором. Его досада усиливалась еще оттого, что уже несколько месяцев в нем самом происходила мучительная борьба. Теории, которые он привык рассматривать как незыблемое кредо, пожухли, начали рассыпаться, загромождая его разум бесполезными обломками.
Суждения де Герми задели его, и он не чувствовал в себе прежней уверенности.
Конечно, натурализм, представленный в бесцветных набросках средней руки, жиреющий от бесконечных описаний светских гостиных и возделанных полей, в конце концов исчерпает себя, в лучшем случае он станет бесцельным переливанием из пустого в порожнее, набившим оскомину начетничеством. Но Дюрталь не видел другого пути для современного романа, кроме натурализма. Не возвращаться же к оглушительному вздору романтиков, к уютным произведениям Шербюлье или Фейе или, еще того хуже, к слезливым повестушкам Терье и Жорж Санд!
Что же остается? Дюрталь, загнанный в угол, изо всех сил сопротивлялся, упорствовал в своем неприятии идей, казавшихся ему смутными, размытых рассуждений, нечетких, протекающих сквозь пальцы, не имеющих границ. Им овладело странное состояние, которое он сам затруднялся определить. Ему казалось, что он обшаривает тупик в поисках выхода.
«Необходимо, — говорил он себе, — придерживаться принципа правдивости, точности деталей, насыщенного и нервного языка — всего того, что выработал реализм. Но необходимо также стать старателем человеческой души, отказаться от постоянного стремления объяснить любое таинство, происходящее в человеке, болезнью. Роман должен состоять из двух составляющих, переплетенных столь же тесно, как и в жизни, его тема — это душа и тело, их противостояние, борьба и сговор. Короче говоря, необходимо следовать пути, проложенному Золя, но в то же время трудиться над новой воздушной трассой, параллельной дорогой, обустраивать оба направления, создать духовный натурализм, благодаря которому вся школа в целом получит особую полноту и силу, и ею можно будет гордиться».
Кажется, еще никто не ставил перед собой подобной задачи. Разве только Достоевский подошел совсем близко к такому пониманию сути романа. Но можно ли его назвать реалистом? Скорее он христианский социалист, этот непревзойденный русский. Современная же Франция, недоверчивая, погрязшая в телесных пороках, разбита на два клана: либерально настроенный, приспосабливающий натурализм к вкусам салонов, выхолащивающий его, лишающий сюжеты дерзости, приглаживающий язык; и декадентский, более решительный, отказавшийся от изображения среды, реальных положений, от культа тела и сбивающийся, разглагольствуя о душе, на тарабарщину, напоминающую торопливый стиль телеграмм. По правде говоря, декаденты заняты тем, чтобы замаскировать свою идеологическую несостоятельность ошеломляющей новизной стиля. Что же касается орлеанистов, то Дюрталь не мог без смеха думать об их ученических топорных наборах фраз, претендующих на тонкий психологизм. Они оставили нетронутой загадочную область разума, не прикоснулись ни к одному потайному углу человеческих страстей. Они ограничиваются тем, что подсыпают в сладкую микстуру Фейе горькую соль Стендаля, изготовляя полузасахаренное-полупрогорклое снадобье. Такова литература Виши.
В таких романах чувствуется затхлость доморощенных сочинений на философские темы, в огромных количествах изготовляемых в колледжах, тогда как бывает довольно одной реплики персонажа, как, например, той, которую вкладывает Бальзак в уста старого Гюло в «Кузине Бетте»: «Могу я увести малышку?» — чтобы по-новому осветить закоулки души. И это перевешивает все труды, поданные на конкурс! И, конечно же, трудно ждать от подобных авторов попытки прорваться в иную реальность. Выдающийся психолог, считал Дюрталь, не их любимый Стендаль, а тот удивительный Гелло с его поразительной обреченностью на неуспех.
Он был готов признать, что де Герми прав. Литература пришла в полный упадок. Единственное, в чем она нуждалась, — так это в интересе к сверхъестественному, который, не будучи подчинен высшей идее, буксует на одном месте, как, например, спиритизм или оккультизм.
Так, в конце концов он пришел к тому идеалу, который можно было штурмовать. Мысль его, лавируя, перескакивая с одного на другое, вдруг натолкнулась на иной род искусства, на живопись. Именно в ней его идеал уже был воплощен — в наивной живописи, в первобытном искусстве.
В Италии, Германии и особенно во Фландрии кричит о себе необъятная глубина невинной души, в точных, терпеливо выведенных рисунках живут с удивительной наблюдательностью схваченные фрагменты реальности, подчиненные уверенной кисти, в этих людях, в чем-то похожих, в их лицах, часто уродливых, всегда запоминающихся, можно прочесть следы неземной радости, глубокой боли, гармонии разума, душевных смут. В каком-то смысле речь идет о превращении материи, о ее растяжении или сжатии, о бегстве за пределы человеческих чувств, в далекую бесконечность.
Этот род натурализма Дюрталь открыл для себя еще год назад. Тогда он еще не был до такой степени измучен тем постыдным зрелищем, которым стал конец века. Это произошло в Германии перед распятием работы Матиса Грюневальда.
Он вздрогнул в своем кресле и зажмурился, словно от боли. С удивительной отчетливостью изображение возникло перед его взором. Возглас восхищения, вырвавшийся у него тогда, как только он шагнул в небольшой зал музея в Касселе, эхом пронесся в его сознании. Величественная фигура Христа осенила его комнату. Поперечной перекладиной креста служила почти не обработанная ветка дерева, которая прогибалась, подобно дуге лука, под тяжестью тела.
Казалось, ветка, далекая от земных обид и преступлений, вот-вот распрямится, побежденная состраданием, и сбросит измученное тело, удерживаемое грубыми гвоздями, которыми пробиты ноги у самой земли.
Вывернутые руки Христа словно опутаны на всем их протяжении широкими лентами мускулов. Подмышечные впадины пересекают трещины, огромные ладони раскрыты, пальцы соединены в робком жесте, то ли благословляющем, то ли упрекающем, грудная клетка, залитая потом, вздымается, торс с полукруглыми следами времени, вздувшееся тело со следами селитры, отливающее синевой, проеденное насекомыми, которое поддерживают острые прутья, напоминающие булавки, протыкающие его, умножающие язвы.
Проступает сукровица, зияющая рана в боку источает густую кровь, которая стекает на бедро, напоминая сок переспелых фруктов, с розовыми подтеками, белесыми краями, влага, похожая на сероватое вино Мозеля, проступает на груди, омывает живот, стянутый волной материи, ноги сведены, коленные чашечки вдвинуты друг в друга, кривая линия голеней, сошедшиеся в одной точке ступни, зеленеющие в потоках крови. Его ужаснул вид этих скрюченных, пропитанных кровью ног, покрытого нарывами тела, пронзенного гвоздями. Сведенные пальцы так не соответствуют мольбе рук, они проклинают, голубоватые ногти царапают золотистую землю, похожую на утопающую в багрянце Тюрингию.
Над этим гниющим телом царит лицо. Голова увенчана терновым венцом, повисла в изнеможении, глаза в трудом смотрят на мир, в них светятся боль и тоска. Лицо неровно, лоб провален, щеки запали, в искаженных чертах прорывается плач, в то время как приоткрытые губы смеются, заставляя дрожать сведенную страшной судорогой челюсть.
Жуткая казнь, устрашающая агония оборвала ликование палачей, бежавших в панике.
На фоне синего ночного неба крест словно осел, почти слился с землей. С двух сторон от Христа застыли фигуры. Дева Мария в бледно-розовом капюшоне, ниспадающем на темно-голубые складки платья, неподвижная и бледная, с глазами, наполненными невыплаканными слезами, она смотрит прямо перед собой, ее ногти впиваются в ладони. Святой Иоанн, вечный скиталец с грубым, обветренным лицом, высокого роста, с мелкими завитками бороды, в просторных одеждах, словно обернутый в кору деревьев, в ярко-красном хитоне, желтом плаще, подкладка которого, виднеющаяся у рукава, имеет зеленоватый оттенок несозревших лимонов. Изнемогая от слез, он все-таки более суров, чем Мария, он соединил руки в порыве горя и, обратившись к Христу, созерцает его покрасневшими незрячими глазами, он беззвучно кричит, его горло перехвачено мукой.
Да! Это распятие, перепачканное кровью, омытое слезами, так далеко от привычного изображения Голгофы, признаваемого Церковью после Ренессанса. Христос, будто впавший в столбняк, ничем не напоминает Адониса из Галилеи, этакого здоровяка, красивого молодого мужчину с рыжими прядями волос, аккуратной бородкой, с бесцветными вытянутыми чертами лица, которому уже четыреста лет поклоняются верующие. Это Христос святого Юстина, святого Кирилла, Тертуллиана, Христос эпохи становления Церкви, обыкновенный, уродливый, так как он взял на себя все грехи и облек их из смирения в самые гнусные одеяния.
Это Христос не богатых, а бедных, тот, кто хотел максимально приблизиться к несчастным, вину которых он искупил, к обездоленным и попрошайкам, к тем, над чьей нуждой и уродством издеваются трусливые. И это был вместе с тем Христос-человек, Христос грустный и слабый, оставленный Отцом, снизошедшим до него лишь тогда, когда ничто уже не могло причинить ему страдания, с которым была рядом лишь мать, и именно ее он, должно быть, призывал совсем по-детски, как это бывает обычно с теми, кого подвергают мучениям, он обращался к матери, бессильной ему помочь.
Наверное, в своем смирении он согласился с тем, что страдания не столь уж непереносимы, подчиняясь неземным приказам, он согласился также обречь свое божественное тело на пощечины, удары, оскорбления, плевки вплоть до последней бездонной боли. Он мог бы метаться, выть, кричать по-звериному, изрыгать, словно разбойник, проклятия, грубости, пройти весь путь до конца, испить чашу бесчестья, унизиться, стать гнилью, прахом!
Несомненно, натурализм еще ни разу не отважился на подобный сюжет. Ни один художник не смешивал так дерзко божественное и телесное, не погружал так отважно в водоемы страданий и не омывал их в сосудах, наполненных кровью. Это производит величественное и одновременно страшное впечатление. Грюневальд был жестоким реалистом. Но стоит внимательно посмотреть на Искупителя, и все меняется. От его покрытого язвами лица исходят лучи, измученное тело осенено нездешним сиянием. Эта гниющая плоть божественна, над ней нет ореола, нет нимба, только колючий венец, в каплях крови, и все же Христос предстает как небожитель, между Девой, чье отчаяние тонет в слезах, и святым Иоанном, чьи обожженные глаза не может излечить влага.
Такие обычные на первый взгляд лица расплываются, меняются под внутренним натиском. Нет ни разбойника, ни нищенки, ни грубоватого путника, а только неземные существа, льнущие к Богу.
Грюневальд был отчаянным идеалистом. Ни один художник не сумел столь трепетно и вместе с тем решительно вознести душу к затерянным небесным пространствам. Он объял две крайности, он извлек из омерзительных отбросов благословенную возвышенную любовь, острую скорбь. В этом полотне скрыт шедевр, выводящий искусство из тупика, в нем так явственно предстают порывы плоти и бесконечная тоска души.
Нет, ни один другой язык искусства не создал ничего похожего. Нечто близкое можно найти на страницах Анны Эммерих, посвященных Страстям, но и они несут отсвет чисто реалистического идеала правдивости. Или Рюисбрек с его двойными языками огней, белым и черным, в каких-то деталях напоминает божественное падение, переданное Грюневальдом, но все-таки и это не то. Грюневальд уникален в своей приземленности и в своем парении.
«Что же получается, — подумал Дюрталь, очнувшись, — если рассуждать логично, то я пришел к средневековому католицизму, к мистическому натурализму, только этого недоставало!»
Он вновь оказался в тупике, в одно мгновение потеряв ощупью найденный выход. Напрасно он прислушивался к себе, он утратил веру. Бог не подавал ему никакого знака, а в самом себе он не ощущал импульса, который позволил бы ему забыться, окунуться в суровые непреложные догмы.
Иногда, захлопнув книгу, испытывая острое отвращение к жизни, он с тоской думал о медлительности монастырской жизни, о дремотных молитвах с душным запахом ладана, о том, как мысли уходят, растворяются под пение псалмов. Но, чтобы насладиться этим пьянящим забвением, нужно иметь неискушенную душу, безгрешную, чистую, а его душа была облеплена грязью, пропитана забродившим соком удобрений. Себе он мог признаться в том, что вспыхивавшее в нем желание верить, укрыться от времени часто сопутствовало целому рою самых низменных соображений, усталости от настойчиво повторявшихся мелочей, ничтожных пустяков, разочарования, настигающего душу, перешагнувшую через сорокалетие, бесконечных пререканий с прачкой и кухаркой, от безденежья, путаницы в отношениях. Он подумывал о том, чтобы обрести спасение в монастырских стенах; должно быть, подобные чувства движут женщинами, которые прячутся в обителях от преследований, от тягостных забот о еде и крове над головой.
У него не было состояния, он так и не женился. Его мало занимали плотские радости, но бывало, что он начинал роптать на сложившийся уклад жизни. Случалось, что он уставал сражаться с неподатливыми фразами, бросал перо и задумывался, неподвижно глядя перед собой. Ему казалось, что в будущем его ждут лишь тревоги и горечь, и тогда он искал утешения в мыслях о религии, способной врачевать любые раны, об этом целебном снадобье, заживляющем язвы. Но он понимал, что ему придется заплатить полным отречением от обыденности, потерей способности удивляться, и он отступал, снова занимал выжидательную позицию.
Тем не менее он плутал, не выпуская из виду религиозную мысль. Ее истоки были ему не ясны, но она опутывала душу цветущими побегами, гибкими стеблями и возносила ее в запредельные пространства, в иные миры, на недостижимые высоты, заставляла ее трепетать от восторга. Она завораживала Дюрталя исступленной глубиной порождаемого ею искусства, величественностью преданий, искрящейся наивностью житийной литературы.
Он не верил в нее, но охотно признавал существование потустороннего мира. Да и как отрицать тайны, обступившие землю, настигающие человека повсюду? Соблазнительная мысль списать все на счет случая, который сам по себе является загадкой, на непредвиденные события, на смену череды невезений и удач, казалась ему слишком простым выходом из положения. Разве та или иная встреча не может стать решающей, перевернуть всю жизнь человека? И что такое любовь, иррациональная, но доступная восприятию связь? А деньги — самая тупиковая из проблем?
Ведь именно в этом случае человек оказывается лицом к лицу с самым древним законом, изначально жестоким, царствующим с тех пор, как возник мир.
Его установления бесконечно растяжимы и тем не менее всегда четки. Деньги намагничиваются, они стремятся осесть в одни руки, выбирают негодяев и заурядных личностей. Если же чудесный случай бросает их во власть богача, в котором душа еще не поражена проказой, они теряют свою силу, оказываются неспособными послужить ни одной благородной цели, ни одной миссии милосердия. Можно подумать, что таким образом они мстят за свое ложное предназначение, что они по своей воле парализуют свои возможности, если ими распоряжается не хитрый пройдоха или отъявленный мерзавец.
Иногда деньги неожиданно попадают в дом бедняка, и, если он честен, тут же окунают его в грязь, они развращают самую целомудренную душу, внушают своему хозяину эгоцентризм весьма примитивного, низменного свойства, гордыню, подстрекают его быть щедрым лишь по отношению к себе, превращают вчерашних святош в надменных лакеев, из расточительных натур лепят скряг. В мгновение ока преображаются все привычки человека, его мысли, метаморфозам подлежат его увлечения, самые незыблемые устои.
Деньги представляют собой лучшую питательную среду греховности, ее бдительную стражу. Если их обладатель забудется, подаст милостыню, поможет бедному, они тотчас возбудят ненависть к облагодетельствованному, подменят жадность неблагодарностью и таким образом восстановят равновесие, позаботятся о том, чтобы общий счет не менялся, чтобы не стало одним грехом меньше.
Их влияние становится поистине чудовищным, когда они прикрываются черным покровом, торжественно именуемым капитал. Тогда они уже не ограничиваются подстрекательством одного человека, представляя ему в соблазнительном свете воровство и убийство, но захватывают все человечество. Капитал создает монополии, возводит банки, завоевывает мир, распоряжается жизнями, в его власти уморить голодом лучших из лучших!
Он жиреет, разбухает, мучается родами, запертый в ящик, и властители мира, поставленные на колени, поклоняются ему, словно Богу, умирают от вожделения, созерцая его.
Если деньги, подчиняющие души, — не порождение дьявола, то в чем их сила? И сколько еще существует загадок, перед которыми теряется человеческий ум?
«Однако, — рассуждал Дюрталь, — почему бы не поверить в Троицу, для чего отказываться от божественной сущности Христа, — и пускаться в неведомое! Конечно, легко принять „Верую, потому что абсурдно“ святого Августина или повторять вслед за Тертуллианом, что сверхъестественное доступно пониманию, но тем не менее только то, что превосходит возможности человека, претендует на божественность.
И потом, что ж! Самый простой выход — это вообще не думать об этом!» — И он уже в который раз отступил, не решаясь на прыжок, балансируя на самом краю разума, в пустоте.
Мысли его проделали немалый путь от первоначальной точки отправления — от натурализма, который так клеймил де Герми. Он вернулся с полдороги к Грюневальду и решил, что та картина и есть ярко выраженный прототип искусства. Совершенно необязательно впадать в крайность и в погоне за беспредельностью становиться яростным католиком. Достаточно быть немного спиритуалистом, чтобы дотянуться до нового уровня натурализма — супранатурализма — единственного метода, который был ему по душе.
Он поднялся, прошелся по комнате. При виде рукописей, которыми был завален стол, и груды выписок о маршале де Рэ, прозванном Синяя Борода, его лицо просветлело.
И все-таки, — радостно подумал он, — можно парить над временем и обрести счастье. Да! Забиться в прошлое, пережить далекую эпоху, не читать газет, забыть, что на свете существуют театры, — что может быть лучше! Синяя Борода занимает меня больше, чем лавочник с соседней улицы, чем все эти многочисленные статисты, занятые на главной сцене эпохи. И не лучшее ли воплощение этой эпохи — мальчишка-официант из кафе, который, наживаясь на свадьбах, изнасиловал дочь своего хозяина, «дуреху», как он ее называл!
«Пора в постель», — он улыбнулся, заметив кота, который, будучи одарен от природы умением определять время суток, с беспокойством поглядывал на него, призывая не отклоняться от традиции и готовиться ко сну. Он взбил подушки, откинул покрывало; кот вспрыгнул на кровать и устроился в ногах. Он не спешил улечься и сидел, укрыв лапы пушистым хвостом, глядя на хозяина. И только когда тот стал засыпать, он принялся крутиться на месте, подготавливая себе уютное местечко для ночлега.
II
Прошло уже два года с тех пор, как Дюрталь перестал посещать литературные круги. Книги, газетные сплетни, воспоминания одних, мемуары других изо всех сил стараются изобразить литературный мир как епархию интеллекта, наиболее духовный слой общества. Можно и вправду поверить, что в литературных салонах воздух дрожит от остроумных перепалок, вспыхивающих подобно фейерверку. Дюрталь не мог понять, как родился этот миф, повторяемый с такой настойчивостью. По собственному опыту он знал, что литераторы или мелочные скряги, или хамоватые, распущенные негодяи.
Одни обласканы толпой, развращены, подстегиваемые тщеславием, они во всем подражают богатым домам, чувствуют себя как рыба в воде на званых обедах, устраивают приемы, говорят исключительно об авторских правах и об издательских делах, хлопочут о театральных постановках, и в их карманах позвякивают деньги.
Другие сбиваются в стаи и мутят воду. Они завсегдатаи кафе, заядлые посетители пивных. Они полны ненависти ко всем, трезвонят повсюду о своих творческих планах, о своем гении, изливают душу в городских парках, а напившись, разражаются желчными речами.
И это все. Очень редко можно было наткнуться на узкий круг художников, в котором текли бы раскованные беседы, без оглядки на кабак или чопорный салон, без страха перед обманом или подлогом, где царило бы искусство под надежной защитой женщин.
Литературный мир никак нельзя было назвать аристократией духа. Ничто в нем не поражало взгляда, ни одна мысль не задевала за живое. Отголоски самых обыденных разговоров, звучащих на улицах Сантие или Кюжа.
Дюрталь убедился, что никакая дружба не возможна с этими пустозвонами, с этими хищниками, готовыми в любой момент растерзать на куски, и порвал с этим миром, способным превратить его в дурака или подонка.
По правде говоря, ничто не связывало его с собратьями по перу. Когда-то давно, когда он не обращал внимания на пороки натурализма, когда он серьезно относился к новым романам, не ощущал спертости воздуха в их пространстве, лишенном окон и дверей, он еще мог обсуждать с литераторами проблемы эстетики, но теперь все изменилось.
«По сути, — утверждал де Герми, — между тобой и другими реалистами всегда была заметна разница, идейное расхождение, которое рано или поздно должно было нарушить хрупкое согласие. Ты ненавидишь наше время, а они его обожают, вот и все. Ты изначально был обречен на бегство из этого американизированного мира искусства. Ты просто вынужден искать иные пространства, менее плоские и доступные ветрам.
В своих книгах ты, засучив рукава, обрабатываешь мотивы конца века. Но сколько можно замешивать это тесто, которое то поднимается, то оседает! Тебе необходимо перевести дух, осесть в какой-нибудь другой эпохе, подстеречь там совершенно новый сюжет. Твой душевный кризис легко объясним. Посмотри, насколько лучше ты стал себя чувствовать, когда набрел на этого Жиля де Рэ».
Наблюдения де Герми были верны. В тот день, когда Дюрталь погрузился в захватывающий, восхитительный мир средневековья, он почувствовал себя заново рожденным. Он ощутил острое презрение ко всему тому, что его окружало, окончательно отдалился от литературной шумихи, мысленно заточил себя в замок Тиффог и зажил в полном согласии с этим чудовищем, Синей Бородой.
История обрастала подробностями, нанизывалась на острие глав и, оставаясь в общих чертах банальной и хорошо известной, мучила его. Он не верил в историю как в науку, он полагал, что события как таковые могут послужить лишь трамплином для полета мысли и стиля. Масштаб любого происшествия меняется в зависимости от идеи, овладевшей писателем, или от его темперамента.
Что же касается документов, то все они не более чем открытый для интерпретации текст. По большей части это апокрифы, другие же, своим появлением внося изменения в общие представления, пылятся, пока не обесценятся в свою очередь открытием новых архивов, не менее надежных.
В то время, когда бумажный хлам упорными стараниями очищается от пыли веков, история способна лишь утолять жажду, мучащую современную литературу, или же поощрять мелкое тщеславие любителей размазни, которая вызывает обильное слюноотделение ученых мужей, присваивающих им медали и почетные премии.
Дюрталь воспринимал историю как величественную ложь, как наживку. Античная Клио представлялась ему с головой сфинкса, плавникообразными бакенбардами, в толстых младенческих складках. Все упирается в то, что точность недостижима, считал он. Как проникнуть в средние века? Никто не в состоянии осознать самые недавние события, то, что происходило за кулисами революции, суть Коммуны. Остается только возводить свое видение прошлого, воскрешать тех, кто жил в другие эпохи, перевоплощаться, натягивать на себя их рубище, подстраиваться под них, тщательно подбирать детали времени, в котором они жили, создавать обманку. Именно этим занимался Мишле. Его раздраженное воображение блуждало от эпизода к эпизоду, задерживаясь на пустяках, бредило анекдотами, возводило их в степень значительных событий. Но, несмотря на то что высказанные им предположения, многочисленные догадки подогревались на огне эмоций, часто разжигавшемся, вспыхивавшем шовинизмом, он был единственным во Франции, кто парил над веками и с высоты обозревал мрачную череду лет.
Созданная им история Франции, болтливая, истеричная, бесстыдная, выставляющая напоказ все самое сокровенное, все-таки овеяна ветрами беспредельности. Ее герои живут, поднимаются из тесных гробниц, куда их загнали другие авторы. Какое значение имеет то, что Мишле был самым лживым из историков, когда он был истинным художником, яркой личностью. Что же касается других, то они зарывались в бумаги, старательно выцарапывая на своих дощечках разрозненные сведения. Вслед за Тэном они уничтожали те или иные записи, склеивали их в определенной последовательности, берегли лишь те, которые были доступны их осмыслению и не нарушали повествования. Они боролись с фантазией, с вдохновением, твердо верили, что в их трудах нет места вымыслу, но разве не произвол двигал ими при отборе документов? Да, в созданных ими томах нет оглушительного вранья, но в них нет и истории. Их метод крайне прост. Они устанавливают, что такие-то события произошли в той или иной местности Франции, с теми или иными людьми, и тут же заявляют, что это было свойственно жителям всей страны, что именно так они думали и именно так поступали в таком-то году, в такой-то день, в такой-то час.
Они в не меньшей степени, чем Мишле, были дерзкими мистификаторами, но уступали ему в размахе, в умении видеть, история для них — мелочный товар, которым они бойко торгуют на улице. Они наносили отдельные точки на полотно, не заботясь о целостности, подобно многим современным художникам, играющим цветовыми пятнами, или декадентам, которые рубят слова на мелкие части. А составителя биографий? Целые тома посвящены доказательству того, что Теодора была невинна и что Жан Стин в рот не брал спиртного. Кто-то вычесывает блох из биографии Бийона, лезет из кожи вон, утверждает, что толстушка Марго из баллады не реальная женщина, а всего лишь вывеска над кабаком, делает из поэта ходячую добродетель, скромника, порядочного, рассудительного человека. Иногда кажется, что биографы боятся замараться, трудясь над монографиями о тех писателях и художниках, чей жизненный путь изрыт и ухабист. Им хочется, чтобы они были такими же посредственностями, как большинство из составителей жизнеописаний, занятыми исключительно своим творчеством, которое можно просеять сквозь сито, ощипать, извратить.
Эта школа всемогущих обелителей особенно раздражала Дюрталя. Он был уверен, что в книге о Жиле де Рэ не опустится до уровня этих маньяков благополучия, ожесточенных насаждателей благородства. Понимая историю именно так, Дюрталь менее чем кто-либо другой мог претендовать на то, что его образ Синей Бороды получится правдивым. Но он надеялся, что сумеет избежать слащавости, что его герой не будет плавать в теплой розовой водице стиля, что ему не будут навязаны пороки и достоинства, которые пришлись бы по вкусу толпе. Для начала в его руках были копия записки Синей Бороды наследному принцу, заметки, сделанные во время судебного процесса в Нанте, хранящиеся в Париже, где они были засвидетельствованы в свое время, фрагменты истории Карла VII, составленной Валле де Виривиллем, очерк Арманды Геро и биография, написанная аббатом Боссаром. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы живо представить дьявольский облик этого человека, поразившего своей утонченностью, изысканностью, жестокостью и коварством XV век.
Только де Герми был в курсе его замысла. Они встречались почти что ежедневно.
Они познакомились в очень странном доме, у Шантелува, католического историка, который гордился тем, что за его столом встречалась самая разношерстная публика. Зимой он устраивал приемы каждую неделю. Его дом на улице Банё посещали церковные сторожа, поэты, популярные в дешевых кофейнях, журналисты, актрисы, сторонники Наундорфа, коммивояжеры.
Клерикалы побаивались появляться в этом доме, пользовавшемся дурной репутацией. Обеды, несмотря на всю их несуразность, были не лишены изысканности. Шантелув был сама сердечность. Он обладал широкой эрудицией и удивительным задором. Его хитрый взгляд, пробивающийся сквозь дымчатые стекла пенсне, доставлял немало беспокойства ораторам, но всех обезоруживало его сокрушительное добродушие. Жену его трудно было назвать красивой, но ее внешность, довольно своеобразная, бросалась в глаза. Она всегда была окружена людьми, но по большей части молчала, не проявляя видимого интереса к навязчивой трескотне своих гостей. Она не была ханжой, как, впрочем, и ее муж, бесстрастно, невозмутимо, почти надменно она выслушивала самые смелые парадоксы и улыбалась с отсутствующим видом, глядя поверх голов.
В один из таких вечеров Дюрталь слушал, как Руссей, недавно обращенный в веру, восхваляет в виршах Христа, и курил, как вдруг наткнулся взглядом на де Герми, резко выделявшегося среди неряшливых расстриг и поэтов, набившихся в гостиную и библиотеку Шантелува.
На фоне этих лиц со специально заготовленной ханжеской улыбкой де Герми держался подчеркнуто доброжелательно, не скрывая, однако, своей настороженности. Он был высокого роста, строен, побледнев, он прищуривал близко посаженные темно-голубые глаза, скупо поблескивавшие, словно драгоценный камень, и морщил прямой хищный нос. В нем чувствовались скандинавский излом и чисто английская твердость, непреклонность. Казалось, он с трудом вмещается в клетчатый костюм мрачных тонов, сшитый из добротной английской материи, узкий в талии, застегнутый наглухо, так что почти скрывал воротничок и галстук. У него была особая манера стягивать перчатки и складывать их так, что они издавали странный скрипучий звук, садясь, он закидывал ногу на ногу и, слегка отклоняясь вправо, вытаскивал из левого кармана плоский японский кисет с выдавленным на нем рисунком, где он хранил папиросную бумагу и табак.
В нем была сдержанность и методичность. С незнакомыми он был холоден и высокомерен и вдобавок обладал неприятной манерой внезапно обрывать улыбку, даже смех его казался каким-то тусклым, словно обесцвеченным. При первом знакомстве он вызывал глубокую антипатию, усугублявшуюся ядовитыми репликами или презрительным молчанием, насмешливой улыбкой. К нему относились с уважением, но немного побаивались его. Но при более близком общении обнаруживалось, что под коркой льда скрыта самая искренняя доброта, участие, что на его скупую дружбу можно положиться, что он всегда готов на поступок, если этого требуют обстоятельства.
Как он жил в действительности? Был ли он богат или стеснен в средствах? Этого никто не знал. Он всегда был тактичен по отношению к другим, а о своих делах никогда не говорил. По профессии он был врачом, Дюрталь однажды случайно видел его диплом, но о медицине отзывался с неизменным отвращением. Он забросил терапию ради гомеопатии, которую в свою очередь променял на другую отрасль медицины, но и та вызывала в нем лишь негативные эмоции.
Иногда Дюрталь отказывался верить в то, что де Герми никак не связан с литературой. Он судил о ней как профессионал, легко разгадывал любой замысел, его не останавливали капризы стиля, он демонстрировал владение всеми тонкостями искусства. Однажды Дюрталь, смеясь, упрекнул его в том, что он скрывает свои литературные опыты. На это де Герми равнодушно ответил, что вовремя сумел уничтожить в себе склонность к плагиату. «Я мог бы не хуже, а может быть, и лучше других сбывать с рук краденый товар, но зачем? — сказал он. — Я уж буду составлять рецепты, основанные на оккультных правилах сочетаний веществ. Конечно, и от этого пользы мало, но все же не так подло».
Его эрудиция была поистине поразительна. Он знал все, изучил самые диковинные книги, старинные обычаи, был в курсе новейших открытий. Все странное притягивало его. Он увлекался самыми разными науками, чаще всего его можно было встретить в обществе астрологов, знатоков каббалы, специалистов по демонологии, алхимиков, теологов и изобретателей.
Дюрталь, уставший от богемы, с легкостью и простодушием рассыпающей ни к чему не обязывающие авансы, был покорен этим человеком, умеющим держаться строго, порою жестко.
Эта тяга переросла в дружбу, оправдавшую себя даже на самом первом, поверхностном уровне. Удивительно было то, что де Герми, склонный скорее к эксцентрическим знакомствам, с симпатией отнесся к Дюрталю, несмотря на то, что в его душе не было и следа первобытного хаоса и внутренне он был далек от мятежного пристрастия к крайностям. Возможно, де Герми нуждался иногда в более разреженной атмосфере, да и вряд ли он мог вести дискуссии на литературные темы со своими обычными собеседниками, способными взахлеб обсуждать лишь свои изобретения, свой гений и свою науку.
Подобно Дюрталю, почувствовавшему себя одиноко среди своих собратьев, де Герми ничего не ждал ни от медицины, к которой он относился с пренебрежением, ни от многочисленных специалистов, которых он усердно посещал.
Это была встреча двух людей, оказавшихся на одном и том же рубеже. Эта связь носила сначала оборонительный характер, но потом окрепла. Они перешли на «ты», окончательно убедившись в прочности отношений. Дюрталь был очень одинок. Его родные умерли, друзья юности переженились или просто канули куда-то. Вступив на литературное поприще, он жил в полном уединении. Де Герми вдохнул свежие силы в его повседневность, растормошил закостеневший уклад жизни. Он завалил его обильным уловом сенсаций, возродил его способность дружить, привел к нему одного из своих приятелей.
Де Герми много говорил об этом человеке, который, по его представлениям, должен был понравиться Дюрталю. В конце концов де Герми заявил, что хочет познакомить с ним Дюрталя: «Он любит твои книги и будет рад встретиться с тобой. Ты упрекаешь меня за то, что я общаюсь исключительно с темными личностями. Тебе придется признать, что Карекс в своем роде уникален. Он умный, искренний католик, не знающий ни зависти, ни ненависти».
III
Дюрталь принадлежал к тому легиону одиноких мужчин, которые приглашают консьержа для уборки комнат. Ему самому приходилось вникать в то, сколько масла пожирают лампы, чтобы тусклым светом освещать помещение; только он знал, сколько бутылок коньяка понапрасну пылится в шкафу, теряя свой аромат и вкус. Подобно другим холостякам, он привык к тому, что приветливый уют постели очень скоро оборачивается сварливостью смятого белья, к которому благоговейно не прикасается консьерж. Он приспособился к необходимости самому позаботиться о чистоте стакана, в который он наливает воду, о том, чтобы не гас огонь, у которого можно согреться в холодную погоду.
Консьерж, к помощи которого прибегал Дюрталь, был уже далеко не молод. Его горячее дыхание, оседавшее на усах, было пропитано устойчивым, крепким винным запахом. Он отвечал полной невозмутимостью и благодушием инертности на требования Дюрталя, настаивавшего на том, чтобы комнаты убирались каждое утро в одно и то же время.
Его бесстрастие не могли поколебать ни угрозы, ни оскорбления, ни мольбы, ни отмена чаевых. Папаша Рато снимал фуражку, чесал в затылке, дрогнувшим голосом признавал свою вину и на другой день заявлялся в совершенно неурочное время.
«Вот скотина», — кипел Дюрталь. Он посмотрел на часы и в ту же секунду услышал, что ключ поворачивается в замке. В этот раз консьерж надумал нанести ему визит в три часа дня.
Этот человек, вяло и сонно взиравший на мир из своей каморки, становился воинственным и агрессивным, как только брал в руки метлу. Мгновенно преобразившись, он стряхивал с себя апатию, в которой он нежился по утрам, вдыхая запахи жаркого. С достойным всяческого восхищения пылом он набрасывался на постель, переворачивал стулья, столы, жонглировал предметами, опрокидывал ведро с водой, гремел тазами, перетаскивал с места на место ботинки Дюрталя, держа их за шнурки, подобно тому, как победители волочат пленных за волосы, штурмовал возведенные им баррикады из мебели, потрясая, словно знаменем, своим фонариком.
Дюрталь укрывался в одной из комнат. В этот раз он вынужден был отступить из кабинета, ставшего полем сражения, развязанного папашей Рато, и отсиживался в спальне. Сквозь приоткрытую дверь он мог вести наблюдение за своим врагом, обвешанным метелками, приступившим, подобно индейцу из племени могикан, к ритуальному танцу вокруг стола, с которого он собирался снять скальп.
«Если бы я мог предугадывать, в какое время начнется этот кошмар! Я бы исчезал из дома», — стискивая зубы, мечтал он. Тем временем Рато, балансируя на одной ноге, размахивая щеткой, исступленно натирал паркет, издавая зловещее рычание.
Он появился в дверях, в поту, торжествующий, и начал наступление на комнату, где скрывался Дюрталь. Дюрталь побрел в усмиренный кабинет. Его сопровождал кот, который тоже не выносил шума и ни на шаг не отступал от своего хозяина, перебираясь вместе с ним из комнаты в комнату, прижимаясь к его ногам.
В разгар уборки появился де Герми.
— Я только обуюсь, и бежим отсюда, — воскликнул Дюрталь. — Посмотри, — он провел рукой по столу, натянув на пальцы, как перчатку, толстый слой серой пыли, — этот мерзавец переворачивает все вверх дном, устраивает настоящую баталию, и вот, пожалуйста, — пыли становится еще больше!
— Ну, — откликнулся де Герми, — пыль — это не так уж плохо. В ней есть привкус залежавшегося печенья, она пахнет старинными фолиантами, кроме того, благодаря ей предметы становятся бархатистыми, а агрессивные, кричащие тона линяют под ее мелким сухим дождем. Это платье, в которое рядится забвение, покров одиночества. Кто ее по-настоящему ненавидит, так это те, чья участь поистине плачевна. Ты понимаешь, кого я имею в виду? Представь себе несчастного, вынужденного ютиться под крышей застекленной галереи. Какого-нибудь чахоточного, харкающего кровью. Он задыхается в своей каморке, расположенной на втором этаже, придавленной горбатым стеклом крыши, например, в пассаже Панорам. Окно открыто, в него просачивается пыль, пропитанная табачными испарениями и влажным потом. Бедняга мечтает о глотке воздуха, он тянется к окну и… захлопывает его. Он может дышать, только оградив себя от поднимающихся столбов пыли, перекрыв им доступ.
Да, это пыль, заставляющая кашлять и плеваться кровью, не столь привлекательна, как та, на которую ты жалуешься. Так ты готов? Тогда в путь!
— И куда же мы отправимся? — поинтересовался Дюрталь.
Де Герми не ответил. Они свернули с улицы де Регар, где жил Дюрталь, и по улице Шешр-Миди дошли до Круа-Руж.
— Пойдем на площадь Сан-Сюльпис, — предложил де Герми.
Помолчав, он добавил:
— Что же касается пыли, то она зовет к истокам и напоминает о конце. Знаешь ли ты, что в зависимости от того, тучен или худощав был человек, его останки становятся добычей разных видов червей. Трупы полных людей пожирают личинки ризофагов, а сухопарые кишат форасами. О, это самый аристократичный клан паразитов, черви-аскеты, презирающие обильную пищу, равнодушные к сочным грудям и добротным жирным животам. Подумать только, что и личинки умудряются вносить разнообразие в кропотливый труд по превращению нас в прах!
Кстати, вот мы и пришли, дружище.
Они остановились на углу улицы Феру. Дюрталь задрал голову и прочел надпись, прикрепленную сбоку от паперти церкви Сан-Сюльпис: «Разрешен осмотр башен».
— Поднимемся? — предложил де Герми.
— Стоит ли? В такую погоду!
И Дюрталь указал на черные тучи, расползающиеся по серому небосклону, подобно дыму, который изрыгают заводы. Они проплывали так низко, что жестяные трубы, высящиеся над крышами, вонзались в них белесыми занозами.
— У меня нет ни малейшего желания карабкаться по перекосившимся ступеням, не вызывающим доверия. Что ты там забыл? Уже темнеет, вот-вот начнется дождь. Нет уж, уволь меня от этого мероприятия!
— Какая тебе разница, где именно дышать воздухом? Пойдем, уверяю тебя, это будет небесполезно.
— Так у тебя есть определенная цель?
— Да.
— Так бы сразу и сказал.
Вслед за де Герми он нырнул под паперть. Тусклая лампа, висящая на гвозде, освещала дверь, расположенную в глубине склепа. За ней находилась лестница, ведущая на башню.
В полутьме они одолевали винтовую лестницу. Дюрталь начал уже подозревать, что сторож куда-то отлучился, как вдруг красноватый луч света упал на полукруг стены, и они наткнулись на дверь.
Де Герми дернул шнур звонка, и дверь исчезла, как по волшебству. Им открылись уходящие вверх ступеньки. Лампа осветила чьи-то башмаки, расположенные на уровне их глаз, в то время как сама фигура оставалась невидимой.
— Да никак это месье де Герми!
Над ними нависла пожилая женщина. Ее тело прочертило дугу на залитом светом пространстве.
— Боже мой, вот Луи обрадуется!
— А он здесь? — спросил де Герми, пожимая ей руку.
— Он на башне. Не хотите ли передохнуть немного?
— Нет. Если позволите, то на обратном пути.
— Ну, тогда поднимайтесь. Там будет дверь, вся в щелях… господи, совсем забыла, вы и так все знаете не хуже, чем я!
— Да, да… до скорого. Кстати, позвольте вам представить моего друга Дюрталя.
Дюрталь машинально поклонился куда-то в темноту.
— О, месье, Луи так хотел познакомиться с вами!
«Куда он меня завел?» — подумал Дюрталь, плетясь за своим другом в кромешной темноте, перешагивая через толстые снопы света, проникавшие сквозь бойницы, погружаясь в черноту, плутая, натыкаясь на робкие дневные лучи.
Казалось, их восхождению не будет конца. Впереди замаячила рассохшаяся дверь. Де Герми толкнул ее, и они очутились на деревянном помосте, парившем над пустотой, на краю двух смыкавшихся колодцев: один раскинулся у их ног, другой навис над ними.
Де Герми чувствовал себя здесь как дома. Жестом он призвал Дюрталя оценить открывшееся зрелище.
Дюрталь огляделся.
Он стоял на середине башни. Ее внутреннее пространство пересекали два толстых бруса, расположенных наподобие буквы X, балки, соединенные поперечинами, надежно закрепленные, сцепленные между собой болтами величиной с кулак. Ничто не выдавало присутствия человека. Дюрталь сделал несколько шагов, держась стены, по направлению к свету, выбивающемуся из-под навесов звукоотражающих устройств.
Заглянув в пропасть, он различил колокола, висящие на дубовых перекладинах, обшитых железом, величественные, отлитые из тусклого металла, упитанные, намасленные, поглощающие световые лучи.
Он взглянул наверх и невольно попятился, зачарованный новой серией колоколов, зависшей в воздухе. На них было выбито рельефное изображение епископа, их внутренняя поверхность, отшлифованная мерными ударами языка, золотисто пламенела.
Повсюду царила неподвижность. Только ветер позвякивал пластинками звукоотражателей, неистовствовал в деревянной клетке, завывал на лестнице, забирался в опрокинутые чаши колоколов. Внезапно он почувствовал на лице осторожную, молчаливую ласку легкого ветерка. Подняв глаза, он увидел, что один из колоколов пришел в движение. Он раскачивался все сильнее, его язык, похожий на исполинский пестик, извлекал из литой бронзы мощные звуки. Башня сотрясалась, настил, на котором стоял Дюрталь, вибрировал, словно пол в вагоне мчащегося поезда, непрерывно нараставший гул рассекали тяжелые удары.
Напрасно Дюрталь вглядывался вверх, изучал своды башни — ему никак не удавалось обнаружить хозяина этих мест. В конце концов он заметил нависшую над пустотой ногу, которая надавливала на одну из деревянных педалей, расположенных под колоколами, и, припав к брусу, он рассмотрел наконец звонаря. Ухватившись за две железные скобы, тот раскачивался над пропастью, неподвижно уставившись в небо.
Дюрталь никогда не видел такого бледного лица и такого странного взгляда. Цвет лица этого человека не был того воскового оттенка, какой проступает на щеках выздоравливающего больного, долго пролежавшего в постели, нельзя было назвать его и матовым, встречающимся у продавщиц парфюмерных изделий, чья кожа обесцвечивается ядовитыми едкими запахами. Он не напоминал и сероватую с забитыми пылью порами кожу изготовителей нюхательного табака, нет, Дюрталь видел перед собой обескровленное, мучнисто-бледное лицо, несущее на себе печать средневековья, лицо приговоренного к пожизненному заключению в сырых застенках, в черном спертом воздухе монастырских тюрем.
Его круглые пронзительные голубые глаза, казалось, созданы для заклятья слезами, но это впечатление сглаживалось, как только взгляд падал на торчащие в разные стороны кустистые усы, вызывающие ассоциации с кайзером. В этом человеке было что-то скорбное и одновременно воинственное.
В последний раз надавив на педаль, он откинулся назад и замер. Затем он отер пот со лба и улыбнулся де Герми.
— А! — воскликнул он, — так вы здесь!
Он спустился вниз. Услышав имя Дюрталя, он просиял и пожал ему руку.
— Вы желанный гость, месье. Де Герми часто говорил о вас, но при этом умудрился столько времени скрывать вас от меня. Пойдемте же, — радостно проговорил он, — я покажу вам свои владения. Я читал ваши книги и уверен, что такой человек, как вы, не может не любить колокола. Но лучше всего осматривать их сверху.
Одним прыжком он оказался на лестнице. Де Герми подтолкнул Дюрталя. Сам он замыкал шествие.
На очередном витке лестницы Дюрталь обратился к де Герми:
— Почему ты не сказал мне, что твой друг Карекс — а это он, не так ли, звонарь?
Де Герми не успел ответить, так как они уже были у цели. Лестница привела их под каменные своды башни. Карекс, прижавшись к стене, пропустил своих гостей вперед. Они оказались в овальном помещении, посередине которого зияла пропасть, обнесенная железной оградой с причудливым орнаментом разъедающей ее ржавчины.
Подойдя вплотную к ограде, можно было заглянуть на самое дно пропасти, и тогда ощущение того, что находишься на краю колодца, опоясанного песчаником, становилось особенно отчетливым. Правда, казалось, что колодец неисправен и что косые кресты перекладин, на которых были подвешены колокола, нагроможденные на разных уровнях раструба, подпирают пришедшие в негодность стены.
— Идите сюда, не бойтесь, — сказал Карекс. — Полюбуйтесь, господа, на моих подопечных.
Слова Карекса плохо доходили до Дюрталя. Ему было не по себе. Пустота, из глубины которой доносился скорбный звон колокола, еще не обретшего покоя, притягивала его.
Он отступил от края бездны.
— Хотите подняться на самый верх башни? — предложил Карекс, кивнув в сторону железной лестницы, почти сливающейся со стеной.
— Нет, лучше в другой раз.
Они начали спускаться. Карекс, вдруг став молчаливым, открыл какую-то дверь. Они двигались по узкому проходу, забитому огромными поврежденными статуями святых, среди рябых искалеченных апостолов, безногих и безруких скульптур святого Матфея, святого Луки в сопровождении обезглавленного быка, одноглазого святого Марка со снесенной частью бороды, святого Петра, лишенного ключей, с обрубленными кистями.
— Когда-то, — заговорил Карекс, — здесь были подвешены качели, и малышня собиралась целой гурьбой. Но, конечно, начались злоупотребления, достаточно было нескольких су, чтобы проникнуть сюда поздним вечером, и чего только не повидали эти стены! В конце концов кюре распорядился снять качели и запереть помещение.
— Что это? — спросил Дюрталь, заметив в углу полукруглую гигантскую глыбу из металла, напоминающую часть купола, в чехле пыли, под грудой дырявой ткани, похожей на рыболовные сети, усыпанные шариками грузил, опутанную черной паутиной.
— А, это! — Блуждающий взгляд Карекса прояснился, в его глазах затеплился огонь. — Это, месье, все, что осталось от старинного колокола. Его звучание было неподражаемо, его голос лился прямо с небес!
Он заметно воодушевился.
— Вы, может быть, уже слышали от де Герми… С колоколами — увы! — покончено. На свете больше нет звонарей. Кто сейчас звонит в колокола? Мальчишки-угольщики, кровельщики, строители, пожарники в отставке, которых нанимают за один франк! О — видели бы вы их! Более того, появились кюре, которые, нисколько не смущаясь, могут сказать: «Отыщите парочку солдат, за десять су они сделают все, как надо». Дошло до того, что один такой умелец в Нотр-Дам, если мне не изменяет память, вовремя не убрал ногу, и колокол со всего размаху ударил по нему и перерезал его, словно бритва.
Все эти безумцы, готовые платить тридцать тысяч франков за какие-то балдахины, разоряющиеся на музыку, занятые тем, чтобы провести газ в церкви или еще чем-нибудь в этом роде! Когда же речь заходит о колоколах, они пожимают плечами. Знаете ли вы, месье Дюрталь, что в Париже нас осталось всего двое, я и старина Мишель. Он не женат, и его образ жизни не позволяет сделать из него верного служителя церкви. Но никто не может сравниться с этим человеком в умении строить звон. Он тоже теряет интерес к колоколам. Он пьет, работает, часто под хмельком, потом снова пьет, а затем спит.
Да, с колоколами покончено. Не далее как сегодня утром монсеньор совершал положенный ему как пастырю обход. В восемь часов колокольный звон должен был ознаменовать его появление. Звонили шесть колоколов, те, что вы видели. Нас собралось шестнадцать человек наверху. И что? Эти люди являли собой жалкое зрелище, они беспорядочно раскачивали колокола, вступали не вовремя, настоящая какофония!
В глубоком молчании они продолжали спускаться по лестнице.
— Колокольный звон, — внезапно произнес Карекс, обернувшись и пристально глядя на Дюрталя, захлестывая его плещущей через край голубизной глаз, — это единственно истинная церковная музыка!
Они вышли в просторную галерею, расположенную над папертью, служившую основанием для башен. Карекс с улыбкой продемонстрировал им, как звучат крохотные колокольчики, которые были прикреплены к дощечке, прибитой к двум столбам. Он дергал за веревочки, высвобождая хрупкий медный перезвон, и прислушивался к нему, вытаращив глаза от восхищения, посасывая усы. Стремительная гамма растворялась в воздухе.
Неожиданно он оборвал игру.
— Когда-то, — сказал он, — я мечтал об учениках. Но никто не хочет осваивать ремесло, доходы от которого столь мизерны. Редко кто забредает на колокольню. Теперь не принято даже звонить во время венчания.
— На свою судьбу я не жалуюсь, — продолжал он. — Улицы Парижа наводят на меня тоску, и я с трудом ориентируюсь в них. Я спускаюсь с колокольни только по утрам, чтобы набрать воды. Но моя жена боится высоты. И потом, порой бывает очень неуютно… снег проникает сквозь бойницы, ложится толстым слоем, иногда я оказываюсь заживо замурованным, и до меня доносятся только гулкие порывы ветра.
Они подошли к жилищу Карекса.
— Входите же, месье, — пригласила их женщина, ожидавшая гостей у дверей. — По-моему, вы заслужили отдых.
Она указала на стол, где уже красовались четыре стакана.
Звонарь принялся раскуривать короткую вересковую трубку, а де Герми и Дюрталь занялись изготовлением самокруток.
— У вас очень славно здесь, — произнес Дюрталь, чтобы завязать разговор.
Комната была довольно просторной, каменные стены упирались в сводчатый потолок. Свет проникал в нее через полукруглое окошко, почти прилепившееся к потолку. Скверный ковер покрывал большую часть аккуратного квадрата пола. Комната была обставлена весьма скромно: круглый обеденный стол, старинные кресла, обитые знаменитым темно-синим утрехтским бархатом, небольшой буфет, на котором громоздились кувшинчики, блюда и прочая фаянсовая посуда, изготовленная в Бретани. Напротив отполированного орехового буфета стоял книжный шкаф черного дерева, в котором хранилось не более пятидесяти книг.
— Вас интересуют мои книги? — спросил Карекс, проследив за взглядом Дюрталя. — О, месье, вы можете посмотреть, но не будьте слишком строги ко мне, здесь только то, что относится к моему ремеслу.
Дюрталь подошел к книжным полкам. Библиотека состояла из трудов, посвященных колоколам.
На небольшой старинной пергаментной книге он разобрал надпись, сделанную от руки рыжими чернилами: Жером Магиусс «О колокольчиках» (1664). Далее следовали «Собрание занимательных и полезных сведений о церковных колоколах» Дома Реми Карре, какой-то анонимный труд, «Трактат о колоколах» Жана-Батиста Тьера, кюре Шампрона и Вибрайа, увесистый том какого-то архитектора по имени де Блавиньяк, издание поскромнее, озаглавленное «Очерк символики колоколов», священника одного из приходов в Пуатье, «Заметки» аббата Барро, целая серия брошюр, обернутых в серую бумагу, без переплетов и титульных листов.
— Все это пустячное собрание, — вздохнул Карекс. — В нем не хватает лучших исследований: «Комментарий о колоколах» Анжело Рокки и «О колокольчике» Персикеллиуса. Но это раритеты, и к тому же они баснословно дороги.
Дюрталь бегло осмотрел другие книги. По большей части это была религиозная литература: библия на латинском и французском языках, Подражание Иисусу Христу, история и теория религиозной символики аббата Обера, энциклопедия еретических учений Плюке, жития святых.
— Да, у меня совсем нет в доме беллетристики, но де Герми снабжает меня книгами, которые, по его мнению, заслуживают внимания.
— Ты заговорил нашего гостя, — упрекнула Карекса жена. — Дай же ему наконец сесть.
Она протянула Дюрталю наполненный до краев бокал, и он пригубил отменного сидра, душистого и искристого.
Он рассыпался в комплиментах по поводу вкуса напитка, и хозяйка пояснила, что сидр прислан им родственниками из Бретани, из Ландевенека, где он и изготовляется и откуда родом она сама.
Дюрталь вспомнил, что когда-то провел целый день в этой деревне, чем очень обрадовал хозяйку.
— Так мы давние знакомые, — заключила она, пожимая ему руку.
Труба от печи прочерчивала в воздухе зигзаг и устремлялась к квадрату из жести, вставленному вместо одного из стекол в оконную раму. Дюрталь, разнеженный теплом, поддался расслабляющей атмосфере, которую создавали Карекс и его славная жена, обладавшая таким открытым, хотя и несколько простоватым лицом, прямо смотревшая на собеседника жалостливыми глазами, и, отрешившись от всего, мысленно пустился в странствия. Разглядывая комнату и ее обитателей, он думал: «Вот если бы можно было устроить здесь, над крышами Парижа, гавань покоя! Тихую одинокую жизнь среди облаков! Затворившись на долгие годы, я бы работал над книгой. Какое немыслимое счастье — отстраниться от времени и листать старинные книги, устроившись в ярком круге света, не обращая внимания на приливы и отливы человеческой глупости, разбивающейся о подножие башни!»
Он поймал себя на том, что улыбается наивности своей мечты.
— Впрочем, здесь и так хорошо, — проговорил он, словно подводя итог своим размышлениям.
— О, не так уж и хорошо, — откликнулась хозяйка. — Правда, места много, у нас две спальни, почти такие же просторные, как эта комната, и несколько чуланов. Но все это расположено не самым удачным образом, а кроме того, здесь очень холодно. И нет кухни, — она махнула рукой в сторону лестничной площадки, где была установлена плита. — Я старею, и мне уже трудно подниматься по лестнице, перетаскивая на себе запасы провизии.
— Никакими усилиями невозможно вбить гвоздь в эти стены, — подхватил Карекс. — Камень сопротивляется, гнет их, и они отскакивают. Но я уже привык к этому жилью, а вот она мечтает провести последние годы жизни в Ландевенеке!
Де Герми поднялся. Они попрощались с хозяевами, и Карекс заставил Дюрталя пообещать, что вскоре навестит их еще раз.
— Какие замечательные люди! — воскликнул Дюрталь, когда они очутились на площади.
— Карекс незаменимый консультант, он прямо-таки кладезь премудрости.
— Но скажи мне, как же, черт побери, получилось, что столь образованный человек, отнюдь не из последних, занят такой черной работой?
— Если бы он тебя слышал! Но, друг мой, те, кому доверялось звонить в колокола в средние века, могли вызывать какие угодно чувства, но не презрение. Конечно, современные звонари утратили свой былой статус. Что же касается причин, по которым Карекс связал свою жизнь с колоколами, то они мне не известны. Кажется, какое-то время он учился в семинарии, в Бретани, но его одолевали сомнения, и он счел себя недостойным сана священника. Он переехал в Париж и долгое время состоял при отце Жильбере, умном и образованном человеке, настоящем знатоке колокольного звона. В своей келье, в Нотр-Дам, тот собрал редкостные старинные планы Парижа. Его тоже нельзя было назвать ремесленником. Скорее он был самозабвенным коллекционером документов, относящихся к истории Парижа, Нотр-Дам. Карекс обосновался в Сан-Сюльпис и прожил тут уже более пятнадцати лет.
— А как ты с ним познакомился?
— Я пришел к нему как врач, и вот уже десять лет как мы дружны.
— Странно, в нем совсем нет той скрытности, подозрительности, которая бывает свойственна слушателям семинарии.
— В распоряжении Карекса всего несколько лет, — произнес де Герми, словно обращаясь к самому себе. — А потом ему не останется ничего другого, как умереть. Церковь, которая позволила провести газ в часовни, в конце концов заменит колокола мощными звонками. Это будет прелестно: механизмы будут соединены электрическими проводами, отрывистые сигналы, властные приказы — как у протестантов.
— Ну что же, по крайней мере у жены Карекса появится повод вернуться в Финистер.
— Вряд ли это им удастся, они слишком бедны. И потом, Карекс не переживет разлуки с колоколами. Удивительно, как люди привязываются к предметам. Так, например, механик любит свои железки, да и вообще человек с нежностью относится к вещи, которая ему послушна и за которой он ухаживает. Он любуется ею, как живым существом. Но колокол — это нечто особенное. Он принимает крещение, как ребенок, освящается елеем, согласно установлению епископа, на нем с самого начала его существования лежит благословение — семь мазков священным маслом, образующих крест, — он несет утешение умирающим, поддерживает их в минуты смертельной тоски.
Колокол — глашатай Церкви, ее внутренний голос и одновременно обращение к миру, в этом, пожалуй, его можно сравнить со священником. Колокол — не просто кусок бронзы, перевернутая ступка, которую дергают за веревку. Прибавь к этому тот факт, что колокола, как и вина, красит возраст, их звучание становится с годами все более сильным и глубоким, утрачивает привкус незрелости и робости. Можно понять тех, кто всей душой прикипает к ним!
— Черт возьми, ты неплохо подкован в области колоколов!
— Я, — засмеялся де Герми, — полный профан в этом деле. Я только повторяю то, что слышал от Карекса. Если ты увлечен этой темой, то обратись к нему, он растолкует тебе символику колоколов, он неисчерпаем — настоящий дока.
— Я живу в двух шагах от монастыря, — задумчиво произнес Дюрталь, — и ранним утром воздух рябит волнами колокольного перезвона. Когда я был болен, то ночи напролет ждал этого звона, как спасения. Эти звуки баюкали меня, их ласка, далекая и отстраненная, освежала и врачевала. В эти минуты я знал, что кто-то молится за всех, в том числе и за меня, и мне было не так одиноко. Да, колокольный звон необходим измученным бессонницей больным.
— Ну, не только больным. На воинствующие души он действует как бром. На одном из колоколов была надпись: «Утишаю страсти», и если вдуматься, то так оно и есть.
Дюрталь все время думал об этом разговоре. Вечером, уже лежа в постели, он снова и снова возвращался к нему. Его преследовала высказанная звонарем мысль о том, что колокольный звон и есть, собственно, церковная музыка. Незаметно для себя он погрузился в далекое прошлое, в средние века, из длинной процессии монахов вдруг отделилась коленопреклоненная группа, внимающая голосам ангелов, вкушающая по капле густой бальзам белого нежного звона.
На него нахлынули знакомые картины, из которых складывалось устоявшееся представление о литургии: утренние песнопения, мелодичный строй колокольного перезвона, доносящийся с башен и стремительно обрушивающийся на узкие кривые улочки, на зубчатые стены в желобках, оповещающий о часах молений — первом, третьем, шестом, девятом, — о начале вечерни, о переходе к малому повечерью, приветствующий городское веселье заливистым смехом колокольчиков, а в минуты тревоги и горя истекающий слезами.
Они не были выдающимися звонарями, эти люди, призванные внимать живой душе города, вторить его радостям и его бедам. Колокола, к которым они были приставлены и которым они прислуживали покорно и преданно, были признаны и вместе с тем принижены, как, впрочем, и сама Церковь. Иногда они позволяли себе раскрепоститься, подобно тому как священник отдыхает порою от своей рясы, и звучали отнюдь не набожно. В базарные дни, во время ярмарок они болтали с детишками, в дождливую пору предлагали им провести досуг, играя в нефах, навязывали им самой святостью помещения порядочность, утерянную, кажется, навсегда, взамен споров, неизбежно возникавших вокруг торговых сделок.
Теперь язык колоколов истерся, они способны лишь на невнятные звуки, лишенные всякого смысла. Карекс был прав. Следовательно, этому человеку, отвергнувшему человечество, укрывшемуся в воздушной гробнице, больше не для чего жить. Он прозябал, устаревший и никчемный, среди людей, которые смеются, заслышав звуки ригодона. В нем можно видеть отсталого ретрограда, обломок, вынесенный на берег рекой времени, наблюдателя, равнодушного к презренным носителям сутаны конца века. Чтобы привлечь разряженные толпы в салоны, которыми стали церкви, они, не дрогнув, могли бы пропеть каватину или вальс в сопровождении органа, который, как последняя жертва, отдан на растерзание чернорабочим светской музыки, устроителям балетных представлений, сочинителям опер-буфф.
«Бедняга Карекс, — думал Дюрталь, задувая свечу, — и он любит эту эпоху, как де Герми и как я. Но он опекает свои колокола, и наверняка у него есть любимчики среди них. Вообще-то не стоит так уж его жалеть, и у него, как и у нас, есть заветная блажь, а значит, и силы, чтобы жить».
IV
— Ну, и как продвигается твоя работа, Дюрталь?
— Я закончил первую часть жизнеописания Жиля де Рэ. В ней я перечислил его подвиги и бегло отметил его достоинства.
— Что совсем не интересно, — заметил де Герми.
— Пожалуй, ведь это имя пережило четыре века благодаря тому, что этот человек стал воплощением многочисленных пороков. Теперь я собираюсь перейти к его преступлениям. Видишь ли, я затрудняюсь объяснить, как отважный военачальник, добрый христианин оказался жестоким садистом, трусом, вероотступником.
— Причем, насколько мне известно, переворот произошел внезапно!
— Именно поэтому все его биографы оказывались в тупике, разводя руками перед этой феерией духа, изумляясь перерождению души, происходящему по мановению волшебной палочки, как в театре. Должно быть, пороки были заложены в нем, но первоначальные свидетельства этого утеряны. Он постепенно увязал в грехах, но они оставались невидимыми и не попали в хроники. Мы располагаем следующими дошедшими до нас сведениями: «Жиль де Рэ родился около 1404 года, в замке Машекуль, на границе Бретани и Анжу. О его детстве нам ничего не известно. Отец его умер в конце октября 1415 года, и мать почти сразу же вышла замуж вторично за некоего Эстувиля, оставив своих детей Жиля и Рене де Рэ. Опеку над ним принял его дед, Жан де Краон, сеньор Шантосе и Ла Сузы, „человек старый“, проживший „зело много лет“, как утверждается в хрониках. Этот добродушный и рассеянный старик совсем не занимался его воспитанием и поспешил избавиться от него, женив его 30 ноября 1430 года на Екатерине де Труар.
В 1435 году он находился при дворе дофина. По свидетельствам современников, он был крепкого телосложения, поразительно красив, изысканно элегантен, но несколько нервен. Нам неизвестно, какую роль он играл при дворе, но не следует забывать, что он был самым богатым бароном во Франции, а король — беден.
В это время Карл VII пребывал в самом отчаянном положении: без денег он утратил свое влияние и авторитет. Ему с трудом удавалось удерживать в повиновении только города, расположенные в долине Луары. Несколькими годами ранее во Франции свирепствовала чума, новые бедствия окончательно истощили ее. Она была обескровлена Англией, вскрывшей ей вены, взрезавшей ее до самой сердцевины. Англия, подобно легендарному спруту Кракену, появлялась на поверхности моря, совершив бросок через пролив, нападала на Бретань, Нормандию, часть Пикардии, на Иль-де-Франс, на северные провинции, на центральную часть, вплоть до Орлеана, ее щупальца намертво присасывались к городам, оставляя после себя опустошенные, мертвые земли.
Напрасно Карл добивался ссуд, изощрялся в вымогательстве, увеличивал налоги. Разграбленные города, опустошенные поля, по которым рыскали волки, отвечали молчанием на призывы короля, чье право на престол становилось все более сомнительным. Окончательно пав духом, он клянчил деньги у всех подряд. Его небольшой двор в Шиноне был опутан сетью интриг, в которую попадали все новые и новые жертвы. Карл и его сторонники, затравленные, понимавшие, как ненадежно их пристанище, отгороженное полоской Луары, стали искать утешения в буйных оргиях, которые позволяли им забыть о близящейся катастрофе. Они жили сегодняшним днем, разбойничьи набеги и заемы обеспечивали им роскошную жизнь. Они предпочитали не вспоминать о набивших оскомину окриках „Кто идет?“, о зыбкости своего положения, с презрением смотрели в будущее, предаваясь пьянству в окружении женщин.
Да и на что еще был способен этот король, апатичный, безвольный, родившийся от матери-чудовища и отца-безумца?»
— О! О Карле VII лучше всего говорит его портрет кисти Фуке, выставленный в Лувре. Я часто останавливался перед этой образиной, разглядывал его поросячье рыло, глаза провинциального ростовщика, лицемерно жалобный изгиб губ, схваченные рукой художника. Кажется, что Фуке изобразил недостойного священника, чувствующего себя отвратительно после попойки и вдобавок подхватившего насморк. Этот характер, только лишенный сальных наростов, прокаленный на огне, и породил менее похотливого, но более жестокого и упрямого короля Людовика XI, сына и наследника Карла VII. Кроме того, этот человек приказал убить Иоанна Неустрашимого и предал Жанну дʼАрк и уже этим заслужил самого строгого суда.
— Так вот. Жиль де Рэ, взявший на себя военные расходы, конечно же, был с радостью встречен при дворе. Он оплачивал турниры и балы, снабжал короля крупными суммами и постоянно одалживал деньги придворным. Но, несмотря на свой успех при дворе, он не разделял свойственного Карлу VII упоения распутством. Он отправляется в Анжу и в область Мэн, где дерется с англичанами. Он оказался «умным и смелым» военачальником, как утверждают хроники, но тем не менее вынужден был бежать, так как войско противника превосходило его армию числом. Части английского войска воссоединились, расползлись по стране, забираясь все дальше и дальше, в их руках уже был Париж. Король подумывал о том, чтобы, бросив Францию на произвол судьбы, укрыться на Юге, и в этот момент появилась Жанна дʼАрк.
Жиль возвратился ко двору Карла, и тот поручил ему охранять и защищать Орлеанскую Деву. Он следовал за ней повсюду, участвовал в сражениях, побывал вместе с ней у стен Парижа, присутствовал при коронации дофина в Реймсе и, по сведениям Монстреле, за свои заслуги в двадцать пять лет был назначен маршалом Франции!
— Черт возьми, — прервал его де Герми, — вот так скорость! Наверное, поэтому в ту эпоху люди не были неповоротливыми разинями, ни на что не годными размалеванными развалинами, как в наше время!
— О, не стоит сравнивать. К тому же титул маршала Франции приобрел блеск позже, во времена Франциска I и особенно в посленаполеоновскую эпоху.
Как относился Жиль де Рэ к Жанне дʼАрк? Об этом нет прямых сведений. Валле де Вервиль обвиняет его в предательстве, но не приводит никаких доказательств этому. Аббат Боссар, напротив, утверждает, что он был предан ей и всячески опекал ее, и его мнение кажется вполне правдоподобным.
По крайней мере ясно, что его душа окунулась в пучину мистики. Он находился рядом с этой странной девушкой, в вихре событий, носивших отпечаток Божественного вмешательства.
Он был свидетелем чуда. Какая-то простушка укротила сборище подонков и лодырей, привела в чувство трусливого короля, готового к бегству. Он наблюдал, как она пасла, словно домашний скот, хищников в овечьем обличье, всех этих Иров, Ксентрайлей, Бомануаров, Шабаннов, Дюнуа и Гокуров. Должно быть, и сам он щипал, подобно другим, белую травку проповедей, причащался перед началом сражений и поклонялся Жанне, как святой.
Он убедился, что Орлеанская Дева умеет держать слово. Она сняла осаду Орлеана, провела коронацию в Реймсе и после этого объявила, что ее миссия окончена и что она просит отпустить ее домой.
Держу пари, что мистицизм Жиля неимоверно возрос в это время. Перед нами человек, готовый стать и наемным убийцей, и монахом…
— Прости, что я тебя перебиваю, но я не уверен, что вмешательство Жанны дʼАрк было таким уж благом для Франции.
— То есть?
— Вот что я имею в виду. Тебе, должно быть, известно, что большую часть защитников Карла VII составляли уроженцы Юга, отчаянные и жестокие мародеры, грабившие население, которое им приходилось охранять. По сути, Столетняя война была войной между Севером и Югом. В это время Англия была той же Нормандией. Когда-то нормандцы завоевали Англию, в жилах англичан текла их кровь, они переняли у французов обычаи и даже язык. Если бы Жанна дʼАрк продолжала заниматься шитьем под крылышком у матери, Карл VII был бы низложен, и войне пришел бы конец. Плантагенеты владели Англией и Францией, которые в доисторические времена, когда еще не было Ла-Манша, были единой территорией, одним куском суши. Здесь было могущественное Северное королевство, простиравшееся до самого Лангедока. Его подданные обладали схожими привычками и различались совсем немногим.
Коронация Валуа в Реймсе расколола Францию, лишила королевство какой бы то ни было логики. Из-за нее оказались рассеянными те, у кого были общие интересы, и соединенными самые строптивые и враждебно настроенные круги населения. Мы заполучили — увы! — надолго людей с коричневатым цветом кожи, блестящими глазами, этих любителей шоколада и чеснока, которых трудно назвать французами. Скорее они приближаются к испанцам или итальянцам. Если бы не Жанна дʼАрк, Франция была бы свободна от этих оглушительных фанфаронов, легкомысленных и вероломных, от этой пресловутой латинской расы, черт бы ее побрал!
Дюрталь пожал плечами.
— Смотри-ка, — смеясь, заметил он, — я всегда подозревал, что тебя волнует судьба отечества, и твоя речь — лучшее подтверждение этому.
— Пусть так, — пробормотал де Герми, раскуривая потухшую сигарету. — Я разделяю мнение старинного поэта Эстернода: «Моя родина там, где мне хорошо». Что же до меня, то мне хорошо только среди жителей Севера. Но я перебил тебя. Вернемся же к нашим баранам. На чем мы остановились?
— Я уже не помню. Кажется, речь шла о том, что Орлеанская Дева выполнила свою миссию. Встает вопрос: чем был занят Жиль после ее казни? Об этом ничего не известно. Существует упоминание о том, что его видели в окрестностях Руана в то время, когда шел процесс, но мне думается, предполагать на основании этого, что он собирался освободить Жанну дʼАрк, как это делают некоторые его биографы, было бы слишком смело.
Его следы теряются, но в возрасте двадцати шести лет он затворяется в замке Тиффог.
Он уже не тот солдафон в доспехах. Он на пороге преступлений, и в это время в нем просыпается художник, эрудит. Его натура прорывается наружу, провоцирует его, подстрекаемая мистицизмом, склоняет его к изощренной жестокости, к самым изуверским преступлениям.
Барон де Рэ выпадает из своего времени. Окружавшие его пэры были неотесанными невеждами. Он же упивался искусством, грезил пронзительными фантазиями, даже написал трактат о таинстве заклинания демонов, обожал церковную музыку, окружал себя разного рода раритетами.
Он был хорошо начитан в латинской литературе, слыл великолепным собеседником, надежным и великодушным другом. Он собрал прекрасную для своего времени библиотеку, выходившую за привычный круг чтения, ограниченный богословской литературой и житиями святых. До нас дошли фрагменты описи его книг: Светоний, Валерий Максим, Овидий — пергаментные рукописи, переплетенные в красную кожу, с алыми застежками, запирающимися на ключ.
Он страстно любил свои книги, возил их повсюду с собой. Некий художник по имени Томас украсил их буквенным орнаментом и миниатюрами, он собственноручно подновлял их, а мастер, найденный им с большим трудом, снабдил их дорогими переплетами. Он ценил пышную и причудливую обстановку, замирал перед материями, сотканными в монастырях, млел от роскошных шелков, от старинной золотисто-сумрачной парчи. Он питал пристрастие к еде, сильно сдобренной пряностями, к крепким винам, темным от ароматических веществ, бредил необычными украшениями из металлов и необработанных камней. Настоящий Дез Эссент XV!
Его прихоти дорого стоили, но все же меньше, чем содержание огромной свиты в Тиффоге, ставшем совершенно уникальным уголком королевства.
Крепость охраняло более двухсот человек, при его дворе состояли шевалье, военачальники, оруженосцы, пажи, и у каждого из них были слуги, нанятые за счет Жиля. Его стремление придать больше роскоши часовне и церкви граничило с безумием. В Тиффоге обосновалось почти все духовенство метрополии; среди его гостей были настоятели, викарии, казначеи, каноники, прочие духовные лица, дьяконы, мальчики-певчие. До нас дошел счет, в котором числятся стихари, епитрахили, муфты, шапочки, подбитые беличьим мехом. Он жаждал изобилия церковной утвари, располагал напрестольной пеленой из алого сукна, изумрудными шелковыми пологами, мантиями: багровой бархатной, фиолетовой, расшитой золотом и из узорчатой розовой ткани, сатиновым облачением дьякона, балдахинами с рельефными золотыми изображениями птиц, доставленными с Кипра блюдами, потирами, дароносицами, молоточками, плитами кабошона в оправе из драгоценных камней, ковчегами, среди которых он особенно ценил один, святого Оноре, вырезанный в соответствии с его вкусами мастером, жившим в замке, отливающий серебром.
Двери были открыты для всех. Со всех уголков Франции в замок стекались художники, поэты, ученые, их ждал гостеприимный дом, они проводили время в различных удовольствиях и уезжали, увозя с собой щедрые подарки.
Его состоянию были нанесены кровавые увечья уже во время войны, новые расходы окончательно разорили его. Он ступил на опасный путь заемов, стал брать деньги в рост, заложил свои замки, продавал земли. В конце концов он был вынужден просить суммы под залог предметов культа, драгоценностей, книг.
— Испытываешь особое удовлетворение, убедившись в том, что в средние века способ разорения был примерно таким же, как и в наше время, — сказал де Герми. — Только теперь есть Монако, нотариусы и биржа.
— А тогда были колдовство и алхимия! Из записки, которую наследники Жиля составили для короля, следует, что его баснословное состояние растаяло меньше чем за восемь лет.
Ему пришлось за бесценок продать свои владения в Конфолан, Шабанн, Шатомуран, Ломбере капитану жандармов, затем наступила очередь Фонтэн-Милона, земли в Гратэкюиссе приобрел епископ анжерский, крепость Сен-Этьенн-де-Мер-Морт перешла к Гийому ле Феррон за кусок хлеба, замки в Блезоне и Шевийе занял Гийом де ля Жюмельер и не заплатил ни су. Взгляни. — Дюрталь развернул длинный свиток с перечнем всех сделок, — вот полный список, владения, леса, соляные копи, луга. Домашние маршала, напуганные его безрассудством, умоляли короля вмешаться. В 1436 году Карл VII, «убедившись, как он писал, — что сир де Рэ не справляется с управлением областями, принадлежащими ему», отправил Жилю письмо из Амбуаза, запрещающее продажу замков, крепостей, земель.
Этот приказ только ускорил окончательное разорение Жиля. Пэнс-Май, Жан V, герцог Бретани, один из самых крупных ростовщиков своего времени, втайне подписал указ, касающийся его подданных, которые имели дела с Жилем, при этом отказавшись его обнародовать. Никто не решался заключать сделки с маршалом из страха навлечь на себя гнев герцога и недовольство короля. Жан V стал фактически его единственным покупателем и установил твердые цены. Можешь себе представить, что это были за цены!
Жиль был в ярости. Он отвернулся от своей семьи, посмевшей искать защиты у короля, и впоследствии не обращал никакого внимания ни на жену, ни на дочь, которую он заточил в замке Пузог.
Так вот, этим, как мне кажется, объясняется, каким образом и по каким мотивам Жиль покинул двор Карла VII.
Очевидно, что Карла VII на протяжении долгого времени осаждали жалобами жена и другие родственники маршала. С другой стороны, придворные проводили все время у Жиля, пользуясь его богатством и щедростью. Король, так легко предавший Жанну дʼАрк, когда она перестала быть ему нужной, искал повода, чтобы отомстить Жилю за те услуги, которые тот ему оказал в свое время. Когда ему нужны были деньги, чтобы устроить попойку или снарядить армию, он не задумывался о расточительном характере маршала! Но теперь, когда тот был почти разорен, он принялся упрекать его в мотовстве, осыпал его угрозами и проклятиями, не подпускал к себе.
Жиль оставил двор без сожаления. Помимо всего прочего, он устал от кочевой жизни, стал испытывать отвращение к военным лагерям, мечтал отдышаться среди своих книг в атмосфере мира и покоя. Его захватила страсть к алхимии, и ради нее он бросил все. Должен заметить, что он питал пристрастие к этой науке еще в те времена, когда был богат. Теперь же, увлеченный демонологией, он был одержим идеей добыть золото и спастись от нищеты, замаячившей за спиной. Около 1426 года, когда его сундуки почти опустели, он впервые решился попытать счастья.
В замке Тиффог он колдовал над перегонным кубом. На этом месте я и остановился. Отсюда берет начало вереница преступлений, опутанных магией, сдобренных садизмом.
— Все, что ты мне рассказал, — произнес де Герми, — никак не объясняет, как этот набожный человек вдруг превратился в дьявола. Как получилось, что вполне мирно настроенный интеллектуал стал насиловать детей, перерезать горло младенцам?
— Как я уже говорил, мне не на что опереться, чтобы соединить две эпохи этой странно расколовшейся жизни. Документы молчат. Но отдельные ростки нового пробиваются уже в том, что я тебе поведал. Ты не мог их не заметить, но, если хочешь, я уточню, что я имею в виду. Этот человек, как я уже отмечал, имел большую склонность к мистицизму. Ему, кроме того, довелось стать свидетелем самых выдающихся событий, которые может предложить история. Общение с Жанной дʼАрк обострило его набожность, а от мистической экзальтации до яростного сатанизма — один шаг. В потустороннем мире все это смыкается. Он вывернул наизнанку исступление молитв, и к этому его подтолкнули священники-отступники, заклинатели металлов и посланники демонов, окружавшие его в Тиффоге.
— То есть Орлеанская Дева несет ответственность за сделки Жиля?
— Отчасти, если допустить, что она раздула огонь в этой душе, одинаково открытой и безграничной набожности, и пучине злодеяний.
И потом, переход был таким резким. Сразу после смерти Жанны он попал в руки колдунов, самых образованных и самых изощренных злодеев. Те, кто усиленно посещал его в Тиффоге, были подкованными латинистами, прекрасными ораторами, владели тайнами алхимии, давно утраченными знаниями. Жилю они были более близки, чем какой-нибудь Дюнуа или Ла Ир. Многие биографы стараются представить их как обыкновенных прихлебателей, банальных мошенников. Но я с этим не согласен. Они были патрициями духа XV века! Им не нашлось места в Церкви, а они претендовали бы на титул кардиналов или папы, не меньше, и в это смутное время они могли укрыться лишь при дворе какого-нибудь вельможи. Жиль оказался единственным, кто благодаря своему острому уму и образованности оценил их.
Итак, с одной стороны, природная склонность к мистицизму, а с другой стороны — ежедневное общение с фанатичными приверженцами демонологии. Приближающаяся нищета и надежда на то, что дьявол может своей волей предотвратить ее, жгучее любопытство, безумная тяга к запретным наукам, — все это, шаг за шагом укрепляло его связи с алхимиками и колдунами, он погрузился в оккультизм, который и привел его к невероятным злодеяниям.
Он не сразу принялся перерезать горло младенцам. Насиловать и убивать мальчиков он начал лишь после того, как разочаровался в алхимии. Впрочем, что касается крови младенцев, то он мало чем отличался от других баронов.
Он превзошел их только размахом бесчинств, обилием жертв. Это уж точно, почитай хотя бы Мишле. Ты увидишь, что в эту эпоху среди вельмож водились настоящие стервятники. Некий сир Жияк отравил свою беременную жену, посадил ее верхом на лошадь и пустил ее во весь опор. Другой, имя которого я забыл, схватил своего отца, выволок его полуодетым на мороз, бросил в темницу и стал преспокойно дожидаться, пока тот сдохнет. И таких примеров много! Я пытался отыскать какие-нибудь свидетельства того, что маршал совершал злодеяния во время военных действий или налетов, но тщетно. Разве что его пристрастие к виселицам: он с удовольствием вздергивал французов-перебежчиков, воевавших на стороне англичан, или тех, кто не был достаточно предан, по его мнению, королю.
Позже, в замке Тиффог, снова проявилась склонность именно к этому виду казни.
Не следует забывать к тому же, что ему была свойственна дьявольская гордыня. Именно она принудила его заявить во время процесса над ним: «Я родился под особой звездой, никто на свете не мог и не сможет никогда повторить мой путь».
Маркиз де Сад по сравнению с ним всего лишь скромный буржуа, жалкий фантазер!
— Как трудно быть святым, — усмехнулся де Герми, — того и гляди впадешь в сатанизм. Либо одна крайность, либо другая. Отвращение к беспомощности, ненависть к заурядности — это, наверное, еще самые мягкие определения того, что есть дьяволизм!
— Возможно. Стремиться преступлениями обрести то, что святой получает за свою добродетель! В этом весь Жиль де Рэ.
— Как бы то ни было, об этом очень трудно судить.
— Очевидно, что Сатана в средние века был страшен, тому есть много документальных свидетельств.
— А в наше время? — спросил де Герми, вставая.
— Что значит в наше время?
— Разве в наши дни сатанизм не свирепствует? И многие ниточки уходят в средние века.
— Неужели ты веришь, что и сейчас вызывают дьявола и справляют черные мессы?
— Да.
— Ты в этом уверен?
— Абсолютно.
— Поразительно. Но, черт возьми, надеюсь, ты понимаешь, старина, что, если бы я увидел что-нибудь подобное, это здорово помогло бы мне в моей работе! Нет, без шуток, у тебя есть фактические доказательства того, что существует чернокнижие?
— Да, но мы поговорим об этом в другой раз. Сейчас я спешу. Не забудь, завтра вечером мы обедаем у Карекса. Я зайду за тобой. До свидания, и подумай на досуге о том, как ты охарактеризовал только что колдунов: «Если бы они присоединились к Церкви, то потребовали бы себе титул кардинала или папы». Тебе будет полезно поразмыслить о том, во что превратилось духовенство в наше время.
Корни современного дьяволизма именно в этом. Приверженность Сатане порождается священниками-еретиками.
— Но чего добиваются такие священники?
— Всего, — коротко ответил де Герми.
— Жиль де Рэ просил у дьявола «Знаний, Власти, Богатства», всего того, что постоянно не хватает человечеству. Свой договор с дьяволом он подписал кровью!
V
— Входите же скорей, вы, должно быть, замерзли, — воскликнула мадам Карекс. И, увидев, что Дюрталь извлекает обернутые в бумагу бутылки, а де Герми выкладывает на стол аккуратно перевязанные свертки, добавила: — Ну зачем вы тратитесь! В конце концов мы поссоримся из-за этого!
— Но нам это доставляет удовольствие! А где ваш муж?
— Он наверху. С самого утра он еще не спускался.
— Сегодня чертовски холодно, — сказал Дюрталь. — На башне, должно быть, не очень-то уютно в такую погоду.
— Да, но он обычно брюзжит не из-за себя, а из-за колоколов. Но снимайте же пальто!
Скинув верхнюю одежду, они подошли к печке.
— Здесь довольно холодно, — заметила мадам Карекс, — чтобы обогреть это помещение, нужно день и ночь поддерживать огонь.
— Купите голландскую печь.
— Что вы, тогда мы задохнемся!
— К тому же, — вступил в разговор де Герми, — здесь нет дымохода. Эта труба, протянутая к окну, для тяги… кстати, Дюрталь, ты замечал, насколько эти уродливые произведения из жести отражают утилитаризм, свойственный нашему времени?
Подумай, инженера оскорбляет любой предмет, который не имеет омерзительных отталкивающих форм. Он считает так: «Вы хотите находиться в тепле, что ж, будет вам тепло, но не более. Никаких дополнительных благ! Побольше дров, чем громче их потрескивание, чем сильнее гудит печь, тем жарче и уютнее. Польза и только польза. А как же причудливые гладиолусы, расцветающие на тлеющих углях костров?»
— Но разве не поэтическому чувству мы обязаны тем, что можем видеть огонь? — спросила мадам Карекс.
— Уж лучше бы мы его не видели! Пламя, отгороженное слюдяным окошком, запертое в тюрьму, — что может быть печальнее! То ли дело хворост, тонкие прутья, ароматные, золотящие стены комнаты в загородном доме! У современного быта свои правила. Роскошь, доступная любому бедняку, недоступна обитателю Парижа, не имеющему больших доходов.
В комнату вошел звонарь. Его усы топорщились, на них налипли белые шарики, на нем были вязаный шлем, кожаное теплое пальто, меховые рукавицы, башмаки на толстой подошве, и он сильно смахивал на самоеда, спустившегося с Северного полюса.
— Не подаю вам руки, так как я перепачкан жиром и маслом, — проговорил он. — Ну и погодка! Представьте, с раннего утра я смазываю колокола и все-таки не могу быть за них спокоен.
— Почему?
— Как это почему? Разве вы не знаете, что мороз губит колокола, металл дает трещины и может расколоться. В по-настоящему холодные зимы, которых, славу Богу, теперь не бывает, колокола болеют, как и люди.
— Ты приготовила горячую воду? — обратился он к жене и прошел в другую комнату, чтобы умыться.
— Может быть, мы поможем вам накрыть на стол? — предложил де Герми.
Но мадам Карекс поспешила отказаться:
— Нет, нет, садитесь, все уже готово.
— Ну и благоухание, — воскликнул Дюрталь, вдыхая запах сельдерея и других овощей, запеченных в горшочке.
— К столу! — провозгласил Карекс. Он смыл с себя грязь и переоделся в чистую рубашку.
Они уселись за стол, раскаленная печка тихо потрескивала. Дюрталь почувствовал внезапное облегчение, его зябкая душа окунулась в теплые волны. Он у Карексов, вдали от Парижа, вдали от своего века!
В этом скромном жилище царила сердечность. Все ему нравилось и наполняло его нежностью: приборы, чистые стаканы, свежее сливочное масло, графин с сидром. На скатерть падал серебристый, с полустершейся позолотой свет от лампы.
«В следующий раз я обязательно куплю в английской лавке того апельсинового мармелада», — подумал Дюрталь. У него была договоренность с де Герми, что они поставляют часть провизии для обедов у Карекса.
Обычно Карекс ел жаркое, салат и запивал обед сидром. Чтобы не вводить его в дополнительные расходы, они приносили вино, кофе, водку, что-нибудь к десерту и старались, чтобы их покупки уравновесили затраты на мясо и другие продукты, которых Карексам одним хватило бы на несколько дней.
«На этот раз получилось удачно», — отметила про себя мадам Карекс, разливая по тарелкам коричневый бульон, золотисто-красный по краям с плавающими на поверхности пузырьками, напоминающими топаз.
Бульон был крепким, наваристым, маслянистым и вместе с тем легким, а куриные потроха придавали ему особый вкус.
Все сидели молча, уткнувшись носом в тарелки, раскрасневшиеся от пара, поднимающегося над ароматным бульоном.
— Ну как не припомнить знаменитую реплику, столь любимую Флобером: «В ресторане такого не подадут»! — простонал Дюрталь.
— Не стоит ругать рестораны, — откликнулся де Герми. — При некоторой искушенности от них можно получать удовольствие. Вот, к примеру, два дня назад я возвращался от больного и зашел в одно из тех заведений, где за три франка вы можете получить суп, одно из двух основных блюд на выбор, салат и десерт.
В этом ресторане я бываю примерно один раз в месяц. Многие посетители приходят туда регулярно. По большей части это хорошо воспитанные, состоятельные люди — офицеры, члены парламента, чиновники.
Ковыряясь в соусе, которым была полита вывалянная в сухарях устрашающая подошва, я разглядывал завсегдатаев этого места. Мне показалось, что все они изменились с тех пор, как я видел их в последний раз. Одни похудели, другие опухли, под запавшими глазами синяки, толстяки пожелтели, те, кто не отличался пышностью тела, позеленели.
Фирменные блюда действуют лучше старинных ядов, они медленно, но неотвратимо отравляют тех, кто постоянно обедает в этом ресторане.
Как вы понимаете, я заинтересовался всем этим. Я принялся изучать токсикологию, провел ряд наблюдений и обнаружил, что существуют ингредиенты, которые забивают привкус рыбы, которую продезинфицировали, словно труп, смесью угля и дубильной коры, или мяса, плавающего в маринаде, с пятнами соуса, напоминающего по цвету нечистоты, или вина, в которые добавлены красители и фурфурол, улучшенные при помощи патоки и гипса.
Я твердо решил каждый месяц являться в этот ресторан, чтобы следить за агонией всех этих людей…
— О! — вырвалось у мадам Карекс.
— Да ты не так уж далек от сатанизма! — воскликнул Дюрталь.
— Видите, Карекс, ему-таки удалось выйти на эту тему! Ему не терпится поговорить о сатанизме, он даже не хочет дать нам возможность перевести дух! Правда, я обещал ему дать кое-какие разъяснения. — Он перехватил удивленный взгляд звонаря и добавил: — Да, Дюрталь занят сейчас, как вы знаете, историей Жиля де Рэ, и вчера он хвастался, что собрал массу сведений о дьяволизме в средние века. Я спросил его, что он знает о современном сатанизме. В ответ он только хмыкнул и выразил свои сомнения в том, что подобная практика до сих пор существует.
— Тем не менее это так, — сказал Карекс, вдруг став серьезным.
— Перед тем, как вы перейдете к объяснениям, мне хотелось бы задать де Герми один вопрос, — произнес Дюрталь. — Итак, можешь ли ты, положа руку на сердце, без этих твоих ухмылок, прямо раз и навсегда ответить: веришь ли ты в католицизм? Да или нет?
— Он! — вскричал звонарь. — Да он хуже атеиста, он мог бы быть еретиком среди еретиков!
— На самом деле я скорее склоняюсь к манихейству, — заявил де Герми. — Это очень древняя религия, и ее принципы крайне просты. Она лучше всего объясняет, как образовалась эта отвратительная выгребная яма, в которой мы погрязли.
Добро и Зло, Бог Света и Бог Тьмы, вечные соперники, оспаривающие право на душу человека, — это по крайней мере всем понятно. Очевидно, что в наше время Бог добра побежден, и Зло царствует над миром. А все эти жалкие теории, дорогой мой Карекс, не способны захватить ум, они лишь сеют разочарование. Тут же в основе лежит великодушная и подлинная идея.
— Но у манихейства нет будущего! — вспылил звонарь. — Две бесконечности не могут существовать в одно и то же время!
— Ну, если вдуматься, то ничто не может существовать. Католические догмы рухнут в тот день, когда их начнут обсуждать всерьез. Две бесконечности могут сосуществовать, хотя бы потому, что сама эта идея превосходит человеческий разум и относится к тому разряду знаний, о котором сказано у Экклесиаста: «Много есть лукавства под солнцем, и много есть над человеком».
Манихейство, знаете ли, было благом, недаром его утопили в крови. В конце XII века сожгли лучших из альбигойцев, проповедовавших дуализм. Но я бы не осмелился утверждать, что манихейцы не переборщили с культом дьяволу. И тут мне с ними не по пути.
Последнюю фразу он проговорил совсем тихо и замолчал. Мадам Карекс поднялась из-за стола, собрала тарелки и вышла проверить, готово ли жаркое.
— Пользуясь тем, что мы одни, — снова заговорил он, дождавшись, когда она скроется на лестнице, — я расскажу вам, что они вытворяли. Некий человек по имени Пселл поведал об этом в книге, озаглавленной «О служении Дьяволу». Перед началом церемоний они отведывали экскременты, подмешивая к ним семя своих жертв.
— Какой ужас! — воскликнул Карекс.
— Поскольку им важна была дуальность, они поступали еще таким образом: убивали детей, смешивали их кровь с золой и полученную жижу разбавляли жидкостью, изготовленный напиток считался вином евхаристии.
— Ну уж это самый махровый сатанизм! — сказал Дюрталь.
— Видишь, дружище, мы снова вернулись к этой теме.
— Наверняка месье де Герми припас еще какие-нибудь жуткие истории, — пробормотала мадам Карекс, внося блюдо с овощами, посередине которого красовался увесистый кусок говядины.
— Что вы, мадам, — запротестовал де Герми.
Все рассмеялись, и Карекс принялся резать мясо, в то время как его жена разливала сидр. Дюрталь вскрыл банку с анчоусами.
— Боюсь, оно недостаточно прожарено, — проговорила мадам Карекс, которую судьба мяса занимала гораздо больше, чем перипетии, пережитые человечеством. И с беспокойством добавила: — Оно плохо режется.
Мужчины заверили ее, что мясо доведено до полной кондиции.
— Месье Дюрталь, возьмите же к мясу анчоус и масло.
— Ну-ка, женушка, передай мне твоей маринованной красной капусты, — попросил Карекс. Его бледное лицо порозовело, а большие добрые глаза увлажнились. Ему явно было хорошо здесь, в тепле, за одним столом с друзьями.
— Вы совсем не пьете, — заметил Карекс, поднимая свою кружку с сидром.
— Итак, де Герми, ты утверждал вчера, что традиция сатанизма не прерывалась со средних веков, — заговорил Дюрталь, настаивая на продолжении разговора.
— Да, об этом неопровержимо свидетельствуют документы. Я в любой момент готов доказать тебе это.
В конце XV века, то есть во времена, когда жил Жиль де Рэ, чтобы уж не забираться в более отдаленные эпохи, сатанизм принял уже известные тебе формы и размах. В XVI веке он расцвел еще сильнее. Думаю, тебе не нужно напоминать о договорах с дьяволом, которые заключали Екатерина де Медичи и Валуа, о процессах Спренгера и де Ланкра, об инквизиторах, отправивших на костер тысячи некромантов и колдунов. Все это более чем известно. Могу упомянуть лишь еще священника Бенедикта, о котором обычно почти нигде не говорится, он вызывал демона Армеллина и приносил жертвы, подвешивая удостоенных этой чести вниз головой. От этого века ниточки протянулись в наши дни. В XVII веке процессы ведьм продолжались, появились одержимые, черные мессы служились во многих местах, но уже втайне. Если хочешь, я приведу один пример.
Некий аббат Гюибург изобрел свой культ. На стол, который служил ему жертвенником, ложилась обнаженная женщина. На протяжении всей службы она держала в вытянутых руках две зажженные свечи.
Гюибург отслужил мессы на животах мадам де Монтеспан, мадам дʼАренсон и мадам де Сен-Пон. Подобный культ был очень распространен. Женщины посещали такие мессы очень охотно, подобно тому как в наше время полно страждущих узнать свою судьбу у гадалок.
Ритуал часто был ужасен. Бывало, что похищали детей и затем сжигали их в печи. Золу хранили, насыпали ее в сосуды с кровью другого зарезанного ребенка и получали, как и манихеи, своеобразную смесь. Аббат Гюибург, священнодействуя, забивал жертву, разрезал ее на куски и опускал в почерневшую от золы кровь, и эта субстанция служила причастием.
— Как это страшно! — возмутилась жена Карекса.
— Да уж… Но этот аббат служил и другие мессы… их название… черт, не так-то просто это выговорить…
— Говорите же, месье де Герми. Наша ненависть к подобного рода вещам настолько сильна, что мы готовы выслушать все, что угодно. Уж что-что, а это не помешает мне совершить вечерние молитвы.
— Да и мне тоже, — добавил Карекс.
— Так вот, эта церемония называлась месса спермы.
— Ах!
— Гюибург облачался ранним утром в епитрахиль и колдовал над изготовлением жертвенной смеси.
Архивы, хранившиеся в Бастилии, содержали указание на то, что он занимался подобным делом по заказу некой дамы, фигурирующей под именем де Эйет.
Эта женщина явилась к нему, испытывая естественное женское недомогание и дала свою кровь. Сопровождавший ее мужчина укрылся в глубине комнаты, где происходило таинство. Гюибург собрал его сперму в потир, добавил туда немного крови, муки, произвел ряд заклинаний и вручил полученное тесто заказчице.
— Господи, какая мерзость! — вздохнула мадам Карекс.
— Но в средние века мессы служились по-другому — отметил Дюрталь. — Жертвенником служил не живот, а спина женщины. А в наше время?
— Сейчас женщины редко используются в роли жертвенника. Но не будем забегать вперед.
В XVIII веке еще встречаются подобные священники. Один из них, каноник Дюре, занимался исключительно черной магией. Он был некромантом, общался с дьяволом и в конце концов был объявлен колдуном и казнен в 1718 году.
Другой, аббат Бекарелли, веривший в воплощение Святого Духа, основал в Ломбардии школу апостолов, куда входило двенадцать мужчин и двенадцать женщин. Они должны были проповедовать его учение. Он, как и другие священники, злоупотреблял своим положением, впрочем, он служил, не исповедуясь в своем сладострастии. Во время месс он раздавал присутствующим возбуждающие таблетки, приняв которые мужчины начинали считать себя женщинами, а женщины — мужчинами.
Рецепт этого средства утерян, — продолжал де Герми с грустной улыбкой. — Аббат Бекарелли кончил плохо. Он подвергался преследованиям и в 1708 году был приговорен к семи годам каторжных работ.
— Со всеми этими кошмарными историями вы забываете о еде, — сказала мадам Карекс. — Месье де Герми, еще немного салата?
— Нет, спасибо. Но я вижу сыр! Пора откупорить бутылочку вина, — и он принялся терзать горлышко бутылки, принесенной Дюрталем.
— Отменное вино, — провозгласил звонарь, причмокивая губами.
— Это легкое вино, из Шинона, я отыскал его в трактирчике рядом с мостом, — объяснил Дюрталь.
Он помолчал немного и сказал:
— Насколько я понимаю, после Жиля де Рэ традиция чудовищных преступлений не прерывалась. В каждом веке находились падшие священники, которые осмеливались совершать злодеяния. Но в наши времена? Не могу поверить. Резать детей, как в эпоху Синей Бороды или Гюибурга!
— Может быть, правосудие не особенно интересуется этим. Откровенных убийств нет, но жертвы приносятся различными способами, многие из которых не известны науке. Ах! Если бы не тайна исповеди! — взволнованно проговорил Карекс.
— Но кто эти люди, которые в наше время прибегают к помощи дьявола?
— Миссионеры, духовники, прелаты, аббаты, сановники. Центр современной магии находится в Риме, — ответил де Герми. — Если полиция нападает на след подобной практики, то скандалы всегда удается замять, так как в них оказываются замешанными слишком влиятельные и весьма богатые персоны.
Допустим даже, что служение дьяволу не предваряется убийством, возможно, в некоторых случаях так оно и есть, иногда используется зародыш, извлеченный из материнского лона в определенный срок. Все это тонкости. Суть дела состоит в том, что существует практика принесения жертвы, и это главное в культе Сатаны. Прочее может варьироваться, сейчас нет раз и навсегда установленного ритуала черных месс.
— Но необходимо участие священника?
— Конечно, только он владеет таинством пресуществления. Правда, некоторые оккультисты заявляют, что им был явлен Господь, как святому Павлу, и считают, что они могут служить, подобно священникам. Но это выглядит скорее как пародия. Но людей, одержимых дьяволоманией, не смущает отсутствие аббатов-садистов и регулярных служб. Они находят способ удовлетворить свои кощунственные мечты. Вот послушай: «В 1855 году в Париже существовала организация, состоявшая по большей части из женщин. Они собирались несколько раз в день. Святые дары, полученные в церкви, они хранили во рту, на своих сборищах выплевывали их, кромсали на куски и совершали над ними свои обряды».
— Ты знаешь это наверняка?
— Еще бы! Об этом писалось в одной религиозной газете, кажется, в «Анналах святости», и архиепископ Парижа не отрицал этого факта. Добавлю, что в 1874 году они открыли в Париже торговлю оскверненными святынями. Каждый день они посещали разные церкви и возвращались с добычей.
— Это еще что! — Карекс встал и, подойдя к книжному шкафу, достал голубую тетрадочку. — Вот обозрение за 1843 год. В нем говорится, что в Ажене на протяжении двадцати пяти лет действовало общество учеников Сатаны, они служили черные мессы, осквернили и растерзали три тысячи триста двадцать жертв! И епископ Ажена, добрый и честный пастырь, признал, что в его епархии действительно были совершены все эти злодеяния.
— Между нами, — снова заговорил де Герми, — XIX век изобилует аббатами-садистами. К сожалению, факты бывает очень трудно доказать. Ни одно духовное лицо не станет хвастаться подобными подвигами. Наоборот, те, кто практикует святотатство, обычно скрывают это и прикидываются верными слугами Господа. Они даже провозглашают себя борцами, искушенными в экзорсизме, врачевателями бесноватых.
Это обыкновенное надувательство. Ведь они сами создают одержимых, пестуют их, окружая себя, особенно в монастырях, рабами и сообщниками. Свои безумные фантазии они окутывают старинным почтенным плащом экзорсизма.
— Нельзя отказать им в виртуозном ханжестве, — заметил Карекс.
— Что ж, лицемерие и гордыня — основные пороки, свойственные дурным священнослужителям, — кивнул Дюрталь.
— Но, несмотря на все предосторожности, рано или поздно все всплывает на поверхность, — продолжил де Герми. — Я до сих пор упомянул только отдельные организации местного значения. Но есть и другие, более мощные, распространяющиеся по всем континентам. Дьяволомания — и это вполне в духе времени — обросла бюрократией, если можно так выразиться. Существуют комитеты, подкомитеты, нечто вроде курии, управляющей делами в Америке и в Европе, подобно папской курии.
Самая известная, «Новые Теурги», основана в 1855 году. Она представляет собой два лагеря, тесно связанных между собой. Один ставит перед собой задачу разрушить мир и царствовать затем на его обломках, другой стремится всего-навсего насадить повсюду культ Сатаны и поставить архипастырями членов своей организации. Их штаб находится в Америке. Когда-то во главе организации стоял Лонгфелло, который называл себя великим служителем Нового Магического Культа. Ее ответвления представлены во Франции, Италии, Германии, России, Австрии и даже в Турции.
Сейчас она отошла на второй план и медленно вымирает. Но совсем недавно появилась другая, ее цель — избрать анти-папу, который станет Антихристом — карателем. Это только два примера, а сколько их, многочисленных и не очень, в разной степени засекреченных, в десять часов утра, в день Пресуществления, по взаимному соглашению устраивающих черные мессы в Париже, Риме, Бругге, Константинополе, Нанте, Лионе, Экоссе!
Ну а помимо крупных организаций и местных объединений, по миру рассыпаны одиночки, и их тайны погружены во тьму. Несколько лет назад умер некий граф де Лотрек. Он отдал в дар церквам статуи, которые он использовал, чтобы обратить в сатанизм своих последователей. Я знавал одного священника в Бругге, который осквернил дароносицу, изготовляя в ней различные снадобья, в том числе для сглаза. Нельзя не упомянуть чистый случай одержимости: историю Кантьяниль, взволновавшую не только Оксер, но всю епархию Сена.
Эта Кантьяниль была помещена в монастырь Мон-Сен-Сюплис. Как только ей исполнилось пятнадцать лет, ее изнасиловал священник, облюбовавший ее для обращения в дьяволоманию. Этот священник был еще в детстве растлен одним духовным лицом, состоящим в секте бесноватых, основанной вечером того дня, когда был обезглавлен Людовик XVI.
То, что происходило в монастыре, где монахини во власти массовой истерии устраивали под предводительством Кантьянили безумные оргии, напоминает события давно минувших лет, историю Гофреди и Мадлены Палю, Урбэна Грандье и Мадлены Баван, иезуита Жирара и де ля Кадьер. Все это дает богатый материал для изучения феномена истерии, с одной стороны, и дьяволомании — с другой. Кантьяниль была выслана из монастыря, и один из аббатов епархии, по имени Торей, изгнал из нее злого духа. Но вскоре в Оксере стали происходить одна за другой скандальные сцены, в центре которых была Кантьяниль, переживавшая кризисы, во время которых в нее вселялся дьявол. Пришлось вмешаться самому епископу, и она была изгнана из этих мест. Аббат Торей получил взыскание, а дело было отослано в Рим.
Интересно, что епископ, потрясенный увиденным, ушел от дел, затворился в Фонтенбло, где и умер, так и не избавившись от ужаса, через два года.
— Друзья мои, — произнес Карекс, взглянув на часы — уже без четверти восемь. Мне пора наверх, звонить к вечерне. Пейте кофе, не ждите меня, минут через десять я к вам присоединюсь.
Он облачился в свои гренландские доспехи, зажег фонарь и открыл дверь, и тут же в комнату ворвался ледяной порыв ветра, белая крупа кружилась в темноте.
— Ветер проникает сквозь бойницы и выдувает снег с лестницы, — сказала его жена. — В это время года я всегда боюсь, что Луи подхватит воспаление легких. Месье де Герми, кофе готов. Пожалуйста, распорядитесь им сами. К сожалению, мои больные ноги дают о себе знать, и я должна прилечь.
— Увы! — вздохнул де Герми после того, как они пожелали хозяйке доброй ночи, и та вышла. — Она здорово сдала. Я пытался поддержать ее силы тонизирующими средствами, но ей ничего не помогает. Бедняжка, ее организм совершенно изношен, на ее долю пришлось слишком много лестниц.
— То, что ты рассказал, чрезвычайно интересно, — сказал Дюрталь. — Итак, ставка современного сатанизма — черная месса!
— Да, а также колдовство, вызывание демонов и дьяволиц. Но об этом я еще расскажу, или, лучше, я попрошу сделать это одного человека, который осведомлен гораздо больше, чем я. В этих актах сосредоточена вся суть культа Сатаны.
— А в чем состоит принесение жертвы, если оставить в стороне ритуальные убийства?
— Я уже говорил, что тут мы сталкиваемся с большим разнообразием. Вот послушай. — Де Герми вытащил из книжного шкафа пятый том «Мистики» Горра и принялся листать его. — Например: «Эти священники в своем злодействе доходят до того, что приносят во время месс большую жертву. Нанеся ритуальные знаки по центру, ее кладут на специально заготовленный пергамент, а затем оскверняют, удовлетворяя над ней свои гнусные страсти».
— Божественная содомия?
— Черт!
Колокол, приведенный в движение, зазвучал. Стены комнаты задрожали, и воздух наполнился гулом. Казалось, что звук исходит от стен, что камни испускают закрученные в спираль волны. Дюрталь почувствовал себя перенесенным, как по волшебству, на дно раковины, одной из тех, которые хранят в себе шум прибоя. Де Герми, привычный к этому грохоту, хлопотал над кофе, который он поставил подогреваться на печь.
Послышался новый удар, не такой резкий, гул стал затихать. Окно, стекла в книжном шкафу, стаканы на сто ле перестали дребезжать, и только в воздухе дрожало резкое устойчивое эхо.
На лестнице послышались шаги. Появился Карекс, облепленный снегом.
— Тьфу ты, ну и ветрище!
Он стряхнул с себя снег, сбросил одежду на стул, загасил фонарь.
— Еле пробрался через все эти устройства вокруг колоколов. Снег слепит глаза! Что за ужасная зима! Жена уже легла? Что ж, хорошо. Но вы еще не пили кофе?
Дюрталь пододвинул ему чашку. Он подошел к печке, помешал угли, отер слезы, выступившие на глазах от мороза и ветра, и отпил большой глоток из чашки.
— Ну вот, теперь все в порядке. На чем вы остановились, де Герми?
— Я закончил краткий обзор дьяволомании. Но я еще ни слова не сказал о том чудовище, нашем современнике, об аббате, лишенном сана…
— О! — закричал Карекс, — берегитесь, одно его имя приносит несчастье!
— Ну уж! Каноник Докр, назовем уж его по имени, вряд ли может нам навредить. Признаюсь, я не понимаю, почему он внушает всем такой ужас, впрочем, дело не в этом. Мне хотелось бы познакомить Дюрталя с вашим другом Гевэнгеем. Кажется, он хорошо знает этого человека.
Беседа с ним в значительной степени облегчит мне дальнейший рассказ о сатанизме. Быть может, вы пригласите его как-нибудь к обеду?
Карекс почесал в затылке, затем вытряхнул пепел из трубки.
— Дело в том, — произнес он, — что мы немного повздорили.
— Из-за чего же?
— О! Из-за пустяка. Как-то раз я помешал ему поставить опыты. Но налейте же себе еще стаканчик, месье Дюрталь! А вы, де Герми? Вы совсем не пьете!
Оба отпили по глотку вполне приличного коньяка и закурили.
— Гевэнгей, — продолжил Карекс, — несмотря на то что он астролог, честный христианин и славный малый. Я с удовольствием бы повидал его. Он хотел исследовать мои колокола. Не удивляйтесь, когда-то колокола играли немалую роль в оккультных науках. Искусство предсказывать будущее по их звучанию — одна из самых неизвестных и забытых областей тайного знания. Гевэнгей отыскал какие-то документы и хотел провести несколько опытов на колокольне.
— Каких?
— Не знаю. Он залезал под самые колокола — в его-то годы! — с риском сломать себе шею, пытался забраться внутрь, так что из-под них торчали его ноги, разговаривал сам с собой и слушал, как бронза отражает его голос.
Он рассказывал мне о толковании сновидений, в которых участвуют колокола. По его словам, тому, кто слышит во сне колокольный звон, грозит опасность. Если человеку снится раскачивающийся колокол, то это предупреждение о возможной клевете; если колокол падает, то это к болезни; если же он раскалывается, то это говорит о приближающейся беде и нищете. Кажется, он еще добавил, что если вокруг колокола, освещенного лунным светом, летают ночные птицы, то можно не сомневаться, что церковь лишится своих святынь или над кюре нависла смерть.
Не знаю, может быть, то, как он прикасался к колоколам, или то, что он залезал внутрь, или его стремление сделать из них оракулов или привлечь их к толкованию снов, к занятию запретному, — что-то мне не нравилось, и я попросил его довольно резко прекратить эти игры.
— И вы по-прежнему сердиты на него?
— Нет, я даже жалею о том, что произошло. Возможно, я поспешил.
— Ну, тогда я берусь уладить дело, — обрадовался де Герми. — Зайду к нему на днях. Так как, договорились?
— Договорились.
— В таком случае, не будем вам мешать отдыхать. Ведь на рассвете вы должны быть уже на ногах.
— О! Я встаю в половине шестого, так как в шесть я звоню к заутрене. Потом я могу еще немного поспать до без четверти восемь. И еще я оповещаю о начале мессы, — так что не очень-то много у меня работы.
— Гм! — хмыкнул Дюрталь. — Вставать в такую рань!
— Я привык. Но вы еще выпьете перед уходом? Нет? Правда, не хотите? Что ж, счастливого пути.
Он зажег фонарь и осветил им лестницу. Они стали спускаться гуськом по обледеневшим ступеням, исчезая в глубине черной спирали.
VI
Утром следующего дня Дюрталь проснулся позже обычного. Последнее, что он видел во сне, — это проплывающие в странном танце дьяволопоклонники, о которых говорил де Герми. «Сколько их, этих клоунесс, которые умудряются стоять на голове и при этом молитвенно складывать ноги!» — подумал он, потягиваясь и зевая. Он посмотрел на окно: на стеклах среди папоротников из инея расцвели хрупкие снежные лилии. Он быстро спрятал руки под одеяло, устраиваясь в постели поудобнее.
«В такую погоду лучше всего будет остаться дома и поработать, — решил он. — Сейчас я встану, разожгу огонь. Ну же, соберись с духом…» — подбодрил он себя. Но вместо того, чтобы решительно отбросить одеяло, он натянул его до самого носа.
— А! ты не одобряешь, когда я долго валяюсь в постели, — проговорил он, обращаясь к коту, который развалился на стеганом одеяле у него в ногах и пристально смотрел на него зелеными глазищами.
Это преданное и ласковое животное могло быть хитрым и настойчивым. Кот не допускал никакой самодеятельности, никаких отступлений от установленных правил, терпеть не мог, когда сбивался режим и Дюрталь вставал или ложился позже обычного, и тогда он с мрачной раздраженностью гипнотизировал своего хозяина, у которого не оставалось никаких сомнений о причинах его недовольства.
Если Дюрталь возвращался домой около одиннадцати вечера, кот ждал его в прихожей, у двери, царапая пол и мяукая. Когда он входил, тот томно прикрывал темные золотисто-зеленые глаза, терся о его брюки, вспрыгивал на мебель, выгибался, напоминая заартачившегося жеребенка, и в ответ на проявления дружеского расположения со стороны Дюрталя тыкался головой в его руки. Если же Дюрталь появлялся позже одиннадцати, он уже не встречал его у дверей и только привставал с места, когда хозяин подходил к нему, потягивался, но не ласкался и еще долго жаловался и ворчал, отвергая любую попытку погладить его или почесать ему за ухом.
Этим утром лень хозяина вывела его из себя. Он сел, немного помедлил, а затем с самым мрачным видом переместился на грудь к Дюрталю и воззрился на него, намекая, что тому уже давно пора убраться из постели и уступить ему теплое местечко.
Дюрталя забавляли его маневры. Не двигаясь, он смотрел на кота. Это был самый заурядный откормленный кот, наполовину рыжий, как прогоревший кокс, а наполовину серый, как щетина у новенькой метелки, с белыми вкраплениями. Как и у других домашних котов, у него были длинные лапы, в черных браслетах, большая голова с кляксами вокруг глаз.
— Ты, конечно, брюзга, старый упрямец, и терпения у тебя ни на грош, но, несмотря на это, ты очень славное животное, — попытался задобрить его Дюрталь. — Я привык рассказывать тебе то, о чем обычно люди молчат. Ты — сточная яма моей души, мой невнимательный и снисходительный исповедник. Тебя не удивляют падения духа, все то, что я изливаю на тебя, чтобы облегчить свое сердце. По сути, ты для этого и создан, чтобы морально поддерживать одиноких холостяков вроде меня. Ты не можешь отрицать того, что я забочусь о тебе, окружаю тебя вниманием. И все-таки, позволь тебе заметить, что с твоими постоянными обидами и претензиями ты часто бываешь невыносим!
Кот по-прежнему не сводил с него глаз, навострив уши, стараясь по интонации уловить смысл обращенных к нему слов. Ему было ясно, что Дюрталь не собирается покинуть свое лежбище, и он с неудовольствием вернулся на свое прежнее место и лег, повернувшись к хозяину спиной.
— Ну, — обреченно вздохнул Дюрталь, взглянув на часы, — пора уделить внимание Жилю де Рэ.
Он выпрыгнул из кровати и поспешно стал натягивать брюки. Кот вскочил, нырнул под одеяло и тут же свернулся клубочком на теплой простыне.
— Ну и холод!
Дюрталь надел вязаную фуфайку и перешел в другую комнату, чтобы разжечь огонь.
— Зуб на зуб не попадает! — пробормотал он.
К счастью, его жилье было легко обогреть. Оно состояло из прихожей, крохотной гостиной, спальни, довольно просторной ванной комнаты. Эту квартиру на шестом этаже, выходящую окнами на широкий светлый двор, Дюрталь снимал за восемьсот франков.
Она была обставлена весьма скромно. Гостиную Дюрталь использовал как кабинет. Вдоль стен стояли этажерки из черного дерева, заваленные книгами. Около окна поместился стол, рядом с ним — кожаное кресло и несколько стульев. От камина до потолка стена была обтянута ветхой тканью, и вместо традиционного зеркала ее украшала картина в деревянной раме, на которой на фоне пейзажа, отливающего голубым, серым, белым, оранжевым, зеленым и черным, был изображен отшельник, преклонивший колени под кроной деревьев, рядом с кардинальской шапочкой и пурпурным плащом.
По краям картины, колорит которой напоминал оттенки прожаренного лука, теснились пестрые миниатюры, карликовые дома лепились к черной раме, выведенные фигурки лилипутов наезжали друг на друга. Святой, имя которого Дюрталю так и не удалось установить, пересекал в лодке бурлящую реку, чьи серовато-стальные воды покрывали белые барашки, брел через селения величиной с ноготь, исчезал в сумраке картины, вновь возникал, на этот раз на фоне восточного пейзажа, рядом с пещерой в окружении верблюдов и разных чудищ, растворялся в полотне, играл в прятки со зрителем, его одинокая фигурка с посохом в руке, еще сильнее уменьшенная в размерах, всплывала из глубины, с мешком за плечами он направлялся к собору, странно деформированному под кистью художника.
Это была работа неизвестного художника, по всей видимости, голландца, перенявшего основные приемы и колоритную гамму у итальянцев, на родине которых он, вероятно, побывал.
В спальне стояли кровать, пузатый комод, кресла. На камине старинные часы с маятником и медные подсвечники, стены украшала удачная репродукция одной из картин Боттичелли, хранящейся в музее в Берлине: скорбящая Дева Мария, сокрушенная и суровая, среди ангелов, томных, не лишенных кокетства, желтоватых фигур, с длинными волосами, убранными цветами, держащих крученый воск свечей, этих пажей, с вожделением смотрящих на младенца Христа, благословляющего мир.
Рядом висел эстамп с картины Брейгеля, сделанный Коком, — «Мудрые Девы и Девы неразумные». С двух сторон от завитка облака изображены трубящие ангелы с надутыми щеками, а по центру — еще один ангел в небрежном одеянии, не закрывающем его пупка. В руках у этой странной фигуры — свиток, на котором начертана строка из Евангелия: «Се грядет жених, идите же во сретенье ему».
Ниже сидят добропорядочные фламандки, они заняты пряжей, распевая гимны, сматывают клубки при ярком свете. С другой стороны — пышный луг, на котором порочные девы, четыре кумушки, весело кружатся в хороводе, взявшись за руки, а пятая играет на волынке, отбивая такт ногой. Над ними не струится свет. Над облаком пятеро мудрых дев, обнаженные, потрясая горящими факелами, плывут к готической церкви, где их ждет Христос, в то время как также обнаженные светловолосые порочные девы, устало опустив потухшие светильники, стучат в запертые двери.
Дюрталь любил эту старинную гравюру. Сцены, изображенные внизу, были пронизаны домашним духом, а верхняя часть картины излучала блаженную наивность примитивистов. В ней было что-то от Остаде и что-то от Тьерри Бу.
Огонь уже начал потрескивать в камине, решетка накалялась все сильнее. Дюрталь сел к столу и разложил свои записи.
«Итак, — Дюрталь принялся сворачивать сигарету, — я остановился на том, что блистательный Жиль занялся алхимией. Легко представить себе, кто были его помощники в деле переплавки металлов в золото».
Алхимия процветала уже за столетие до его рождения. Посвященные располагали трудами Альберта Великого, Арно Вилленефа, Раймонда Люллия. По рукам ходили рукописи Николаса Фламеля. Конечно, все это не ускользнуло от внимания Жиля, живо интересовавшегося стариной и обожавшего все необычное. К этому нужно добавить, что во времена де Рэ существовал эдикт Карла V, запрещавший под страхом тюремного заключения и даже виселицы занятия черной магией, и что оставалась в силе специальная булла Папы Иоанна XXII, предававшая анафеме всех алхимиков. Чернокнижие находилось под запретом и поэтому было особенно притягательно. Жиль прилежно изучал руководства, но разобраться в них было не так-то просто.
Эти книги были набиты галиматьей, невразумительной тарабарщиной. Сложные аллегории перемешивались с метафорами, двусмысленными и неясными, с бесконечными символами, туманными притчами, загадками и цифрами. Дюрталь взял с полки рукопись Аш-Мезареф, сочинение иудея Абрагама и Николаса Фламеля, реконструированное, переведенное и прокомментированное Элифасом Леви.
Эту книгу одолжил ему де Герми, отыскавший ее среди каких-то старых документов.
В ней был записан рецепт изготовления философского камня, эликсира мудрости. «Весьма смутно», — подумал Дюрталь, разглядывая картинки, выполненные пером и затем раскрашенные. Под надписью «Химический процесс» были нарисованы склянки. В одной из них оказался помещен зеленый лев, уткнувшийся головой в полумесяц, внутри другой находились голуби, одни из них смотрели наверх, другие склонили голову вниз. В черной жидкости, среди красноватых и золотых волн, белых пятен и клякс барахталась лягушка. На поверхности виднелись смутные очертания иногда молочной, а иногда пламенеюще-красной звезды.
Элифас Леви пытался объяснить, что символизируют эти птицы, помещенные в сосуд, но обошел молчанием собственно рецепт чудодейственного снадобья. Как и в других своих книгах, он сначала торжественно обещал сорвать покров с тайны, а затем отнекивался, ссылаясь на то, что в случае, если он будет недостаточно скромен и выдаст секрет, его ждет смерть.
К этому приему прибегали многие современные оккультисты, прикрывая им, как фиговым листом, свою полную беспомощность. «По сути, все очень просто», — решил Дюрталь, захлопывая труд Николаса Фламеля.
Философами-алхимиками было открыто — и современная наука, пофыркав, признала это открытие, — что металлы имеют сложную структуру и что они устроены одинаковым образом. Между собой они различаются лишь разной пропорцией составляющих их веществ. Воздействуя на них определенным способом, можно изменять эти пропорции, получая из одной субстанции другую, например, из ртути серебро, а из олова золото.
Для этой переплавки необходим философский камень, ртуть — но не та обычная ртуть, которую алхимисты рассматривали как изъятую металлическую сперму, — а особая, называвшаяся зеленым львом, змеей, молоком Девы, связующей влагой.
Но способ получения этой ртути, этого камня мудрости, был неизвестен, и над ним бились из века в век: в средние века, в эпоху Возрождения, в более поздние времена.
«Чего только они не перепробовали!» — думал Дюрталь, пробегая свои записи. Мышьяк, обыкновенная ртуть, олово, купорос, селитра, ртутная жидкость, сок чистотела и портулака, внутренности голодной жабы, человеческая моча, кровь, выделяющаяся при менструациях, женское молоко!
Должно быть, Жиль де Рэ экспериментировал в этом духе. Очевидно, что ему, жившему в Тиффоге в полном уединении, были не под силу подобные изыскания. В это время центр тайных знаний находился в Париже. Алхимики собирались под сводами Нотр-Дам и изучали иероглифы на оссарии Инносан и портал Сен-Жак-де-ля-Бушри, на котором Николас Фламель начертил незадолго до смерти кабалистические знаки, скрывающие формулу знаменитого камня.
Маршал не мог попасть в Париж, так как дороги и подступы к нему были заняты английскими войсками. Он выбрал более простой путь: пригласил наиболее известных алхимиков Юга и, потратив уйму денег, в конце концов заполучил их в свой замок Тиффог.
Судя по документам, он заказал специальную печь, которой пользовались обычно алхимики, купил весы, тигель и реторту. Одну часть замка он переоборудовал под лабораторию, — затворился там с Антуаном де Палерм, Франсуа Ломбардом, Жаном Пети, парижским ювелиром, и целые сутки напролет колдовал над варевом.
У него ничего не получалось. Все средства были испробованы, и чернокнижники стали покидать замок. На смену им в Тиффог прибыли другие: из всех уголков Бретани, посланцы Пуату, с берегов Мэна, — в одиночку или со свитой колдунов и ведьм. Кузены и друзья маршала, Жиль де Сийе, Роже де Брикевилль, рыскали в окрестностях в поисках дичи, а священник Евстахий Бланше отбыл в Италию, которая кишела знатоками в области металлов.
Жиль де Рэ не терял надежды и продолжал опыты, но все они оказывались неудачными. В конце концов он поверил в то, что чернокнижники были правы, утверждая, что нельзя обойтись без помощи сатаны.
Однажды ночью он в сопровождении Жана де Ривьера, колдуна из Пуатье, отправился в лес, расположенный неподалеку от замка Тиффог. Он с двумя слугами остался на опушке, а колдун ушел в чащу. Ночь была безлунная. Жиль, нервничая, вглядывался во мрак, вслушивался в тяжелое молчание леса. Его напуганные спутники жались друг к другу, вздыхали и перешептывались, вздрагивая от малейшего дуновения ветерка. Внезапно раздался страшный крик. После некоторого колебания они ощупью двинулись вперед в темноту и вскоре увидели в мерцающем свете фонаря Жана де Ривьера. Он был явно не в себе, дрожал и испуганно озирался по сторонам. Прерывающимся шепотом он поведал, что дьявол явился ему в облике леопарда и прошел в двух шагах от него, но ничего не сказал и даже не взглянул на него.
На следующий день колдун сбежал, и на его место водворился другой. Он носил громкое имя Дю Месниль. Вскоре он настоял на том, чтобы Жиль письменно обратился к дьяволу, и обещал ему все, что тот захочет, «кроме жизни и души», и подписался кровью. Жиль согласился и на то, что в праздник Всех Святых в церкви при замке была пропета служба оглашенным. Но Сатана не появился.
Маршал стал сомневаться в могуществе своих колдунов. Но последующие события убедили его в том, что иногда дьявол дает о себе знать.
Некий колдун, имя которого до нас не дошло, заперся в одной из комнат замка вместе с Жилем и Сийе. Он начертил круг на полу и предложил им войти в него.
Сийе отказался. Его охватил ужас, он задрожал, бросился к окну, распахнул его и принялся бормотать заклинания, изгоняющие дьявола.
Жиль оказался более смелым и встал в центр круга. Но, как только колдун приступил к делу, он в свою очередь дрогнул и попытался осенить себя крестным знамением. Колдун приказал ему замереть. В какой-то момент он почувствовал, что кто-то коснулся его затылка. Он зашатался и принялся молить Пресвятую Деву Марию о спасении. Колдун, рассвирепев, вытолкнул его из круга. Он бросился к дверям, Сийе выпрыгнул в окно, они встретились внизу и стали прислушиваться к вою, доносящемуся из комнаты, где остался колдун. До них доносились удары, звон шпаг, стоны, жалобные крики, призыв на помощь.
Скованные страхом, они боялись двинуться с места. Когда шум стих, они подкрались к двери, распахнули ее и наткнулись на распростертое тело колдуна, израненного, с размозженной головой. Вся комната была залита кровью.
Они подняли его, Жиль, которого переполняла жалость, уложил его в собственную постель, перевязал его раны, послал за священником, опасаясь, что он умрет без исповеди. Несколько дней он находился между жизнью и смертью, но потом дело пошло на поправку, и он покинул замок.
Жиль отчаялся выведать заветную тайну у Сатаны, но в это время он получил известие о том, что Евстахий Бланше возвращается из Италии. Вместе с ним прибыл знаменитый флорентийский маг, славившийся тем, что он умеет призывать дьявола и злых духов, Франсуа Прелати.
Жиль был поражен. Франсуа не было и двадцати трех лет, но его отличали удивительная начитанность и изысканность манер. Чем он занимался до того, как попал в Тиффог, где вместе с маршалом совершил множество неслыханных злодеяний? Записи допросов, которые велись во время процесса Жиля, говорят об этом крайне скупо. Он родился в епархии Люк, в Пистре и был посвящен в сан епископом Ареццо. Вскоре после этого он стал учеником флорентийского чудотворца Иоанна де Фонтенелля. Он подписал договор с дьяволом по имени Баррон, и с этого момента обходительный, образованный и красноречивый аббат посвятил себя страшным ритуалам черной магии.
Жиль поверил в него, и печи вновь запылали. Прелати видел философский камень, податливый, хрупкий, красный, пахнущий морской солью. Вдвоем они с жаром принялись за дело, призывая на помощь преисподнюю.
Но все их усилия были тщетны. Жиль был разочарован и просил пустить в ход более сильные заклинания. Это чуть было не стоило Прелати жизни.
Однажды после полудня Евстахий Бланше заметил на галерее замка Жиля, заливавшегося слезами. Из комнаты, где Прелати вызывал дьявола, доносились крики и мольбы.
— Сатана убьет моего бедного Франсуа, — воскликнул Жиль, — умоляю тебя, помоги ему!
Но испуганный Бланше отказался войти в комнату. Тогда Жиль, поборов свой страх, хотел было выломать дверь, но в эту минуту она распахнулась и истекающий кровью Прелати упал ему на руки. Его отвели в комнату маршала и уложили, раны, полученные им, были серьезны, он метался в жару и бредил. Жиль сидел у его постели, выхаживал его и был вне себя от радости, когда смертельная опасность миновала.
«Довольно странно, что тот безымянный колдун и этот Прелати, оба тяжело раненные, выздоравливают, отлеживаясь в комнате де Рэ», — заметил про себя Дюрталь.
Документы, рассказывающие об этих двух случаях, представляют собой фрагменты процесса по делу Жиля. Есть собственные признания обвиняемых, есть показания свидетелей, и все сходится. Трудно заподозрить, что Жиль и Прелата лгали, говоря о своих сношениях с Сатаной; ведь тем самым они приговаривали себя к костру.
Если бы они утверждали, что их посетил лукавый или дьяволица, что они слышали голоса, чувствовали странные запахи, прикосновения, можно было бы подумать, что это всего-навсего галлюцинации, какие бывают у многих пациентов, содержащихся в психиатрической лечебнице Бисетр. Но речь идет о телесных повреждениях, о видимых следах от ударов!
Естественно, что столь склонный к мистицизму Жиль де Рэ не мог не поверить в существование дьявола после всего происшедшего.
Ни он, ни тем более Прелата, чудом оставшийся в живых, несмотря на постигшие их неудачи, не сомневались, что они сумеют добыть камень, если Сатана отнесется к ним благосклонно. Они мечтали не только о богатстве, но еще и о бессмертии. Считалось, что философский камень не только переплавляет олово и медь в серебро и золото, но еще и лечит любые болезни и дарует возможность достигнуть возраста патриархов, избегнуть немощной старости и смерти.
«Да уж, поистине удивительная наука!» — пробурчал Дюрталь. Он пододвинулся поближе к камину и вытянул нота. Чернокнижие принесло свои плоды. Современная наука часто подсовывает в качестве новейших достижений открытия, уже успевшие покрыться пылью веков.
Выдающийся химик Дюма признает, что в изомерии проступают очертания теорий, выдвинутых алхимиками, а Бертело заявил, что «нельзя отрицать возможности получения так называемых простых тел, хотя бы априори».
Кроме того, существуют засвидетельствованные факты. По всей вероятности, получил-таки искомое Николас Фламель, в XVII веке химик Ван Гельмонт переплавил восемь унций ртути в золото при помощи крохотного осколка философского камня, переданного ему человеком, оставшимся неизвестным.
Примерно в это же время Гельвеций, боровшийся с предрассудками, получил от неизвестного крошку, и ему удалось отлить из олова слиток золота. Гельвеция не так-то просто обвести вокруг пальца, да и Спинозу, который выступил в качестве эксперта и подтвердил, что получено действительно золото, никак нельзя назвать наивным простаком.
А тот загадочный человек, Александр Сетон по прозвищу Космополит, который разъезжал по Европе, демонстрируя перед вельможами и их свитой превращение различных металлов в золото? Он был заточен в тюрьму Христианом II. Известно, что этот алхимик презирал богатство, не прикасался к добытому им золоту и жил, как нищий, милостыней. Он стоически перенес выпавшие на его долю мучения, уподобившись святым. Его избивали, протыкали тело гвоздями, но он так и не выдал секрета, утверждая, как и Николас Фламель, что он был ему явлен свыше.
Над философским камнем бьются и сейчас! Правда, большинство чернокнижников отрицают его божественные целительные свойства. По их мнению, это всего лишь фермент, который, если добавить его в плавящийся металл, вызывает перестройку их структуры, подобно тому, как дрожжи заставляют бродить органические вещества.
Де Герми, знавший этот мир не понаслышке, утверждал, что во Франции существует более сорока алхимических лабораторий и что особенно много адептов этого учения в Ганновере и в Бавьере.
Удалось ли им приоткрыть завесу тайны? Маловероятно, хотя многие претендуют на это. Еще не нашлось мастера, который бы сумел создать этот камень, чье происхождение весьма сомнительно и более чем необычно. В ноябре 1886 года в Париже состоялось судебное разбирательство между господином Поппом, изобретателем пневматических часов, и его финансистами, на котором химики из Школы горнодобытчиков, инженеры, заявили, что можно извлекать золото из строительного камня, что оно замуровано в стены, а мансарды выложены буквально слитками!
«И все-таки не очень-то выгодное дело», — улыбнулся Дюрталь. Он представил себе старца, оборудовавшего лабораторию на шестом этаже в доме по улице Сен-Жак.
Этот человек, Огюст Редутэ, каждый вечер приходил в Национальную библиотеку и просиживал часами над опусами Николаса Фламеля. Большую часть дня он проводил у своих печей.
16 марта прошлого года он вышел из библиотеки вместе со своим случайным соседом по столу в читальном зале и сообщил ему, что владеет великой тайной. Они пришли в его кабинет, алхимик бросил в реторту кусочек железа, и вскоре появились кристаллы кроваво-красного цвета. Его спутник изучил их, а затем высмеял старика. Тот, вне себя от ярости, подскочил к нему и изо всех сил ударил его молотком, после чего алхимика скрутили и тут же отвезли в больницу Сент-Анн.
В XVI веке в Люксембурге чернокнижников поджаривали в железных клетках; веком позже в Германии их вешали на золоченых столбах. Теперь их оставили в покое, но они теряют разум! Как бы то ни было, их участь всегда печальна. Дюрталь вздохнул, придя к этому заключению.
Из-за входной двери донеслось робкое позвякивание. Дюрталь вышел в прихожую и тут же вернулся с письмом, которое принес консьерж.
Он вскрыл конверт. «Что бы это могло быть?» — удивился он.
Он погрузился в чтение.
«Месье, я не искательница приключений, не сумасбродка, не эмансипированная особа, предпочитающая болтовню ликерам и духам. И я никак уж не из тех любопытствующих, сгорающих от желания вызнать, похож ли автор на своих героев. Все эти, а также множество других предположений, которые могут прийти вам в голову, далеки от истины. Только что я кончила читать ваш последний роман…»
— Однако она не очень спешила с этим, мой последний роман вышел год назад, — пробурчал Дюрталь.
«…мучительный, как биение плененного сердца…»
«А, к черту комплименты, они вечно мешают главному!»
«…Конечно, месье, я понимаю, что было бы наивно и глупо мечтать об исполнении своих тайных желаний, но все-таки, может быть, вы решитесь на встречу с одной из ваших сестер, уставшей, как и вы. Место выберите сами, мы проведем вместе вечер, а затем разойдемся по домам и снова станем обреченными одиночками, не желающими занять место в общем строю. Всего доброго, месье, и примите мои заверения в том, что я считаю вас личностью, какую редко можно встретить в наш ничтожный век.
Не знаю, ответите ли вы мне, и предпочитаю пока не открывать своего имени. Сегодня вечером горничная зайдет к вашему консьержу узнать, не будет ли записки на имя мадам Мобель».
«Мда! — Дюрталь сложил письмо. — Представляю себе! Какая-нибудь престарелая дама, обделенная вниманием, с невостребованной душой! Ей лет сорок пять, не меньше. Проводит время в окружении юнцов, довольных уже тем, что им не нужно платить за угощение, или литераторов, расплодившихся в последнее время. Уродство возлюбленных, которых они себе заводят, уже вошло в поговорку. Не исключено, что это просто-напросто мистификация. Но кто за этим стоит? И для чего все это затеяно? Я почти ни с кем не общаюсь. Ну да ладно, не отвечать же на эту галиматью!»
Но он невольно снова потянулся к письму. «В конце концов чем я рискую?» — подумал он.
«Если эта дама предложит мне свое одряхлевшее сердце, то никто не заставляет меня принять этот дар. Я отделаюсь одним свиданием. Да, но мне поручено выбрать место… Только не у меня дома! Пусти ее один раз — и все… Не так-то просто выставить женщину за дверь. Уж лучше сбежать от нее где-нибудь на улице. А что, если назначить ей свидание на углу де Севр и де ля Шез, у стен Аббей-о-Буа? Там довольно пустынно, и к тому же это совсем близко от моего дома. Ладно, для начала я набросаю ответное послание, но не буду указывать точного места встречи. С этим мы разберемся позже, если завяжется переписка». И он сочинил письмо, в котором рассуждал о душевной усталости, говорил о том, что считает их встречу бессмысленной, так как он уже ничего не ждет от жизни.
«Пожалуй, стоит добавить, что я страдаю, это всегда производит хорошее впечатление и, кроме того, может послужить в дальнейшем оправданием, если возникнут какие-нибудь сложности».
Он закурил.
«Ну вот, готово. В целом не очень-то обнадеживающий ответ. Что еще? Да, чтобы избежать неприятностей, намекну-ка я на то, что серьезная и прочная связь со мной невозможна, так как я обременен семьей. На первый раз, пожалуй, хватит…»
Он запечатал письмо и надписал конверт.
Некоторое время он пребывал в нерешительности. «А не совершаю ли я глупость? Кто знает, в какую ловушку заведет меня этот поступок?» Он был твердо убежден, что любая женщина привносит в жизнь целый сонм проблем и горестей. Порядочные женщины часто глупы, или болезненны, или слишком плодовиты, чуть только до них дотронься. Если же женщина обладает скверным характером, то тут уж готовься ко всему! И в том и в другом случае того и гляди нарвешься на неприятности.
Он с отвращением вспомнил опыт своей молодости, бесконечные ожидания, ложь, уловки, измены, грязь, в которой барахтались души совсем юных особ. «Нет, все это мне уже не по силам. И потом, я не нуждаюсь в женском обществе!»
Но что-то в этой незнакомке заинтересовало его. «Кто знает? Возможно, она не такая уж дурнушка. И, по чистой случайности, незлая. Мне не составит большого труда проверить все это самому». Он еще раз перечитал письмо, «Пишет без ошибок. И почерк не вульгарный. Рассуждения о моей книге самые примитивные, но, черт побери, нельзя требовать многого. О, пахнет гелиотропами», — заметил он, взяв в руки конверт.
«Ну, с Богом!» Отправляясь в город позавтракать, он оставил свой ответ у консьержа.
VII
— Если это будет продолжаться в том же духе, я сойду с ума! — в отчаянии пробормотал Дюрталь.
Он перебирал письма, которыми вот уже неделю осыпала его незнакомая женщина. Она была поистине неутомима в своем стремлении завоевать его доверие.
«Черт побери, — подумал он, — пора разобраться в этом потоке. В ответ на мое весьма холодное послание она немедленно передала мне вот эту эпистолу»:
«Месье, это письмо — последнее. Я не хочу поддаваться слабости и лепить одно за другим однообразные послания, выплескивая в них свою тоску. К тому же у меня теперь есть ваша записка, и она, пусть на мгновение, но пробудила меня от летаргии. Увы! Я, как и вы, месье, не питаю напрасных надежд и знаю, что все наши радости, какими бы очевидными они ни казались, не более чем сон. Поэтому, несмотря на свое искреннее и горячее желание познакомиться с вами, я склонна согласиться с тем, что скорее всего мы оба пожалеем о нашей встрече, и незачем подвергать себя подобному испытанию».
«Да, но последние строки письма лишают это вступление всякого смысла».
«Если вдруг вам придет в голову ответить мне, то следует адресовать письмо мадам Г. Мобель, до востребования, улица Литтре. По понедельникам я захожу на почту. Если же сочтете, что нам следует остановиться, то напишите об этом прямо. Конечно, я буду огорчена, но искренность прежде всего, не правда ли?»
«И я-то, дурак, сочинил ответ, так, ни рыба ни мясо, беспомощный и слащаво-напыщенный, в духе моего первого послания. По моим неуклюжим попыткам взять назад прорвавшиеся в спешке авансы, она поняла, что я заглотил наживку».
Вот отрывок из ее третьего письма:
«Зачем понапрасну обвинять себя, месье (с моих губ чуть было не сорвалось более нежное обращение), в том, что вы не способны утешить меня. Мы оба устали, чувствуем себя разочарованными, отставшими от века, так давайте же дадим нашим душам возможность поговорить, хотя бы вполголоса, совсем тихо… именно так сегодня ночью я беседовала с вами… мысли о вас преследуют меня…»
«И еще четыре страницы подобных излияний. — Он пропустил несколько листов. — Да, вот это уже лучше».
«Сегодня вечером, мой далекий друг, всего несколько строчек. У меня был тяжелый день, мои нервы взвинчены, и все это из-за бесконечной череды мелочей: то скрипнет дверь, то долетит с улицы грубый окрик или просто голос неприятного тембра. Обычно я настолько безразлична ко всему, что кажется, загорись мой дом, я не двинусь с места. Решусь ли я отослать вам свои смешные жалобы?! Ах! Лучше умолчать о своих страданиях, если не обладаешь даром облачить их в пышные одеяния, переплавить в слово, в ноты, уж они-то умеют плакать!
Я тихонько желаю вам доброй ночи. Мне очень хочется познакомиться с вами, но я боюсь и мечтать об этом: вдруг спугну неясные надежды. Вы написали в последнем письме „бедные, бедные мы!“, — правда, наши несчастные отверженные души пугаются встречи с реальностью. Они даже не осмеливаются обнаружить свою симпатию к другому человеку. Несмотря на все разумные доводы, я должна вам признаться… нет, нет, я замолкаю. Попробуйте догадаться сами и простите меня за это пустое письмо. Вы умеете читать между строк? Возможно, там вы отыщете кусочек моего сердца и многое из того, о чем я не написала.
Видите, я все о себе да о себе. Разве можно догадаться, что, выводя эти строчки, я думала только о вас?»
«Ну, это еще куда ни шло». Дюрталь рассматривал сильно разбавленные бледно-зеленые, словно мирта, чернила и ковырнул ногтем присохшую к сгибам письма рисовую пудру с запахом гелиотропа. «Все это, по меньшей мере, забавно. Она, наверное, блондинка, — подумал он, присматриваясь к пудре. — Брюнетки предпочитают более резкие тона. Да, вот с этого момента и началась путаница. Не знаю, что на меня нашло, но я настрочил ей эмоциональное, хотя и несколько вычурное послание. Я был взбудоражен, подлил масла в огонь — и вот результат»:
«Что делать? Я не хочу видеть вас и вместе с тем страстно мечтаю о встрече с вами. Я не в силах справиться с безумием, растущим лень ото дня. Вчера вечером я произнесла вслух ваше имя, которое жгло мои губы. Мой муж, вообще-то поклонник вашего таланта, был несколько задет моим беспокойством о вас. Но оно снедает меня, и я так страдаю! К нам зашел один из наших общих друзей — а ведь мы с вами давно знакомы, если можно так назвать несколько случайных встреч на людях, — и заявил, что он буквально без ума от вас. Я была так возбуждена, что совсем утратила контроль над собой. Меня спасло только то, что в этот момент один из гостей упомянул некоего весьма забавного типа, имя которого я не могу слышать без смеха. Прощайте. Вы правы, я даю себе зарок не писать больше и тут же его нарушаю.
Боюсь, что мое молчание погубит нас обоих».
Последовал пламенный ответ, и вот наконец последнее письмо, которое принесла горничная:
«Ах! если бы не мой панический страх — признайтесь, что и вы ему подвержены — я бы примчалась к вам! Нет, до вас не доносятся долгие беседы, которыми моя душа осаждает вашу. Знаете, иногда в моей грустной жизни случались минуты, когда мне казалось, что я теряю рассудок. Судите сами. Всю ночь я звала вас и плакала от беспомощности и разочарования. Утром ко мне в спальню зашел мой муж. Глаза мои покраснели и опухли, и вдруг я стала смеяться как безумная и, когда обрела способность говорить, спросила его: „Что вы подумаете о женщине, которая на вопрос о том, чем она занимается, ответит: „Я домашняя суккуба“?“ — „Моя дорогая, — сказал мне муж, — вы нездоровы!“ — „И в гораздо большей степени, чем вам кажется“, — парировала я. Но к чему описывать вам, дорогой мой страдалец, состояние, которое вам и так хорошо известно. Ваше письмо не могло оставить меня равнодушной, хотя та резкость, с которой вы пишете о себе, о своей боли, отзывается прежде всего в моем теле, а только потом находит отклик в душе. Но ведь то, о чем мы мечтаем, возможно! Или нет?
Одно слово, всего только одно слово из ваших уст! Никто не прочтет ваших писем, кроме меня».
«Это уже серьезно, — заключил Дюрталь, складывая письмо. — Эта женщина замужем за человеком, который, судя по всему, меня знает. Этого только не хватало! Но кто бы это мог быть?» Он тщетно рылся в памяти, перебирая дома, которые он когда-то посещал. Ни одна женщина, способная адресовать ему подобные признания, не приходила ему на память. «А тот общий друг? Но у меня только один друг, де Герми. Нужно порасспросить его, у кого он бывал в последнее время. Но ведь он врач, и у него бездна знакомств. И потом, как я объясню ему причину своего любопытства? Рассказать ему обо всем? Но он только посмеется надо мной и постарается разрушить все иллюзии».
Дюрталь был крайне раздражен. С ним происходило что-то непонятное. Образ незнакомки преследовал его. Он, давным-давно отказавшийся от физической близости, привыкший гнать ободранное стадо своих греховных помыслов из хлева, где они зарождались, на бойню под не знающий промаха нож мясников, внезапно поверил, наперекор опыту, в обход здравого смысла, что с этой женщиной, письма которой выдавали страстность натуры, он испытает восторг обновления. В своем воображении он видел ее, светловолосую, с упругим телом, гибкую, с вкрадчивыми движениями, в исступлении или в тихой печали. Он так ясно видел ее, что нервы его не выдерживали, и он только сильнее стискивал зубы.
Всю неделю он провел в полном одиночестве, погруженный в грезы. Он не мог работать, книги падали у него из рук, так как на каждой странице неизбежно проступал ее образ.
Ему хотелось отогнать от себя это видение, он представлял себе незнакомку во всей неприглядности телесных недугов, пытался вызвать омерзительные непристойные галлюцинации, но все эти ухищрения, удававшиеся ему в былые времена, когда он хотел обладать женщиной, не принадлежащей ему, в этот раз ни к чему не привели. Незнакомка просто не могла рыскать по городу в поисках какой-нибудь ткани или белья. Она рисовалась ему страдающей, томимой желанием, она окидывала его взглядом, прикосновения ее тонких рук будоражили его.
В это трудно было поверить. Его душа была уже на подступах к празднику Всех Святых, да и тела коснулось дыхание ноября, и вдруг его опалил жар знойного лета. Обрюзгший, утомленный, он жил спокойно, не испытывал никаких сильных желаний, целыми месяцами не вспоминал о том, что вокруг бурлит мир, и неожиданно воспрянул, подстегиваемый загадочными, странными письмами.
— Все, хватит, — воскликнул он и стукнул кулаком по столу.
Он нахлобучил шляпу и вышел, громко хлопнув дверью.
«Пора покончить с этим и успокоиться!» Быстрым шагом он направился к знакомой проститутке, жившей в Латинском квартале.
«Я слишком долго вел праведный образ жизни и поэтому слегка спятил», — бормотал он на ходу.
Он застал проститутку дома. Все было из рук вон плохо. Она была довольно красивой брюнеткой. Но вся ее привлекательность исчезла, как только глаза ее загорелись плотоядным огнем и она оскалила в улыбке острые хищные зубы.
Она была высокой, сильной, парализовывала способность мыслить, дышать, ее поцелуи действовали разрушительно.
Она принялась упрекать его за то, что он долго не появлялся, осыпала ласками, поцелуями. Ему стало грустно, он задыхался от невозможности ответить на ее пыл. В конце концов он рухнул на ложе, взвинченный, готовый кричать от отчаяния, и претерпел до конца всю пытку надрывных вымученных усилий исчерпать свое вожделение.
Никогда еще он не чувствовал себя таким обессиленным. Он ушел, переполненный отвращением и ненавистью к своему телу. Он брел наугад по улицам, и незнакомка повсюду следовала за ним, еще более соблазнительная, чем прежде.
«Кажется, я начинаю понимать, что испытывают люди, которых преследуют демоны в женском обличье. Что ж, не прибегнуть ли к брому в качестве формы экзорсизма? Нужно выпить на ночь несколько капель разведенного бромистого калия, это приведет меня в чувство». Но он отдавал себе отчет в том, что бунт его плоти был вторичен, что это всего лишь следствие необычного душевного состояния.
Да, взыгравшая чувственность, инстинкт воспроизводства — все это не главное. Стремление пробиться к чему-то неотчетливому, потустороннему обычно заставляло его обращаться к искусству, но теперь желание отряхнуть от своих ног прах обыденности, земных забот нашло свое воплощение в образе женщины. «Все дело в этих проклятых изысканиях, в том, что мои мысли постоянно заняты чертовщиной, таинственными культами, они повергли меня в это состояние», — решил он. И был по-своему прав, так как упорный труд, которому он предавался, усилия проникнуть в тайны мистицизма, к которым никто не прикасался до сих пор, толкали его смятенную душу на поиски иной реальности, к новым наслаждениям и горестям.
Плетясь по улице Суфло, он пытался собрать воедино все, что он знал об этой женщине. Она замужем, блондинка, богата, раз у нее есть своя спальня и она держит горничную, живет где-то в этом квартале, так как часто заходит на почту, расположенную на улице Литтре, носит фамилию Мобель. Как ее зовут? Генриетта? Гортензия? Онорина? Элен?
Что еще? Она вращается среди художников, где они и встречались. Светское общество он давным-давно забросил. Она католичка и имеет некоторое представление о демонах, которое выдает ее, возможно, искушенную душу. Вот, пожалуй, и все. Да, еще есть муж, который что-то подозревает, потому что она, по собственным ее признаниям, не могла скрыть того, что ее мысли заняты другим.
«А я-то закусил удила! Ведь сначала я развлекался, сочиняя письма, затхлые, пахнущие пылью, жучками, засиженные мухами, и неожиданно включился во все это. Мы оба раздули потухшие угли. Да, обоюдное желание добиться своего всегда плохо кончается. Ведь если судить по ее страстным посланиям, и ей сейчас не сладко».
«Что делать? Барахтаться в этом тумане? Нет, только не это. Я должен увидеть ее. Если она действительно хороша собой, то пересплю с ней, по крайней мере тогда я успокоюсь до некоторой степени. Нужно написать ей и хотя бы один раз быть до конца откровенным и искренним. Что, если я назначу ей свидание?»
Он огляделся по сторонам. Сам того не замечая, он забрел в Ботанический сад. Подумав немного, он припомнил, что ближе к набережной есть кафе, и отправился туда.
Ему хотелось, чтобы его послание было страстным и исполненным решимости, но перо дрожало в его руке. Он торопливо написал, что жалеет о том, что отказал ей в свидании, и, не в силах сдержаться, буквально взмолился: «Мы должны увидеться! Ведь то, что мы прячемся друг от друга, боясь разочарований, дурно! Заклинаю вас, бедный мой друг, подумайте, ведь все в наших руках…»
Он назначил ей место и время встречи. Это оказалось не таким уж простым делом. «Мне не хотелось бы приглашать ее к себе, — размышлял он, — это слишком опасно. Лучше всего было бы пригласить ее к Лавеню и угостить вином и пирожными. Это недурное кафе, и, кроме того, при нем есть комнаты. Я обо всем договорюсь, все-таки это не так пошло, как какая-нибудь частная услуга или меблированная комната, нанятая на несколько часов. Но тогда удобнее всего встретиться не на углу улицы де ля Шез, а в зале ожидания на вокзале Монпарнас, там обычно бывает мало народу. Вот, готово».
Он заклеил конверт и почувствовал облегчение.
— Да, чуть было не забыл! Гарсон, принесите «Боттен».
Он принялся искать в справочнике фамилию Мобель, опасаясь, что она может быть вымышленной. «Вряд ли она получает корреспонденцию на свое настоящее имя. Но с ее темпераментом можно ожидать от нее подобной неосторожности. Я мог сталкиваться с ней, но не знать ее имени».
Он обнаружил одного Мобэ и одного Мобэка, но фамилия Мобель отсутствовала. «Ну, это еще ни о чем не говорит», — он пожал плечами и захлопнул книгу. Выйдя из кафе, он бросил письмо в почтовый ящик. «Больше всего меня заботит муж. Ну да ладно, я не собираюсь надолго похищать его жену».
Он хотел было идти домой, но понял, что все равно не сможет работать и, чего доброго, снова погрязнет в своих фантазиях. «Кажется, сегодня де Герми принимает больных у себя, не отправиться ли мне к нему?»
Он ускорил шаг. На улице Мадам он позвонил в знакомую дверь. Ему открыла экономка.
— А, месье Дюрталь, он вышел, но должен с минуты на минуту вернуться. Подождете его?
— А вы уверены, что он отлучился ненадолго?
— Конечно. Я даже удивлена, что его до сих пор нет.
Она удостоверилась, что огонь горит в камине, и вышла.
Дюрталь сел, но вскоре ему стало скучно, и он подошел к книжным полкам и начал перебирать тома, громоздящиеся на них. Книги, как и в кабинете Дюрталя, занимали целую стену.
«Удивительный человек этот де Герми, — хмыкнул он, извлекая какой-то талмуд. — О, вот то, что мне подходит: „Руководство по экзорсизму“. Живи я несколькими веками ранее, я бы этим воспользовался. О, да никак это Плантэн! И чему же учит это пособие, как же следует обращаться с одержимыми? Да здесь целая пропасть заговоров. Против бесноватых, от сглаза… а вот от любовного зелья, от порчи съестных припасов, ого! молитвы, чтобы не стухло масло и чтобы молоко не свернулось!
Во что только не впутывали дьявола! А это что такое?»
Дюрталь держал в руках два небольших томика с темно-красными обрезами, переплетенных в кожу темно-коричневого цвета. Он открыл титульный лист, на котором значилось «Анатомия мессы», сочинение Пьера дю Мулэна. Книги были изданы в Женеве в 1624 году.
«Это, должно быть, интересно. — Он сел поближе к камину и пролистал один из томов. — Гм, любопытно».
Он наткнулся на страницу, где речь шла о духовенстве. Автор утверждал, что сан священника полагается только людям с безупречным здоровьем, ни в коем случае не калекам. На вопрос о том, может ли получить приход кастрат, он отвечает: «Нет. Любое уродство недопустимо, если человек не обладает искусственными заменителями недостающих частей тела».
Это мнение стало всеобщим, хотя кардинал Толе и возражал против этой установки.
Повеселев, Дюрталь стал читать дальше. Дю Мулэн перешел к рассмотрению вопроса о том, случалось ли, что аббаты временно отлучались от церкви за свое сладострастие. Тут он цитировал комментарий, приведенный в Каноне Максимиана: «Обычно считается, что никто не может быть лишен сана за блуд, так как только немногие способны избежать этого греха».
— А, ты здесь, — воскликнул де Герми, войдя в комнату, — что ты читаешь? «Анатомию мессы»? Это скверное сочинение в духе протестантства. Я страшно устал, — он бросил шляпу на стол. — О, дружище, человечество не заслужило ничего, кроме презрения!
Он казался сильно рассерженным и дал волю своим чувствам.
— Только что я присутствовал на консилиуме, где собрались так называемые «светила науки». Битый час я выслушивал самые противоречивые мнения. Наконец все согласились с тем, что мой больной обречен. И что же? Они хором обрекли беднягу на новые истязания, порекомендовав сеанс прижиганий.
Я робко заметил, что гораздо полезнее послать за священником и облегчить страдания умирающего регулярными впрыскиваниями морфия. Если бы ты их видел! Они готовы были надавать мне оплеух!
Да уж, современная наука очень гуманна! То и дело открывают новые болезни или всплывают старые, о которых уже успели забыть. Все трубят о новых методах лечения, изо всех сил усовершенствуют уже известные средства, но никто ничего, в сущности, не знает. Но даже если оставить в стороне повальное невежество, врач совершенно беспомощен, потому что фармацевтика живет по своим правилам, и вряд ли можно рассчитывать, что лекарство будет в точности соответствовать рецепту. Возьмем, к примеру, сироп из белого мака. В прежних фармакопеях он существует под названием диакодион. Так вот, теперь его изготовляют из опиума и сахарного сиропа!
Рецепт выписывается на то или иное лекарство, и нет необходимости больше тщательно дозировать на бумаге составляющие его вещества. Рекламы патентованных средств красуются на четвертой странице всех газет. Медицина на все случаи, применимая к любым недугам, — это находка для болезней. Какая глупость! И какой позор!
Нет уж, старая терапия, исходившая из опыта, куда лучше! Ей было известно, что лекарства в таблетках, гранулах, шариках не очень-то надежны, и она прописывала их только в жидком виде. И потом, теперь каждый врач специализируется в одной области, окулисты заняты глазами и, борясь за зрение, часто отравляют организм пациента. Их дурацкий пилокарпин многим стоил здоровья. Другие лечат кожные заболевания. И сколько стариков, избавившихся от экзем, получают взамен атеросклероз мозга и впадают в маразм! Все разлажено, одно лечится, другое калечится. Мои достопочтенные коллеги плутают во тьме, увлекаются средствами, то одним, то другим, не умея толком применить их на практике. Вот, скажем, антипирин. Это одно из немногих эффективных соединений, полученных химиками за последнее время. Но кому из врачей известно, что компресс из антипирина с добавлением охлажденных йодистых вод из Бондоно помогает при заболевании, которое считается неизлечимым: при раке. Это кажется невероятным, но это так!
— Так ты полагаешь, — спросил Дюрталь, — что раньше терапевты лечили лучше?
— Да, потому что они были уверены в результатах применения снадобий, состав которых был неизменен и не допускал подлогов. Очевидно тем не менее, что тот Парэ, который предписывал лекарственные средства в особых мешочках, наказывая пациентам хранить сухие порошки в небольших сумочках, причем их форма менялась в зависимости от природы заболевания: при головной боли она напоминала чепчик, при желудочных расстройствах — волынку, при недугах, связанных с селезенкой, — язык быка, не мог похвастаться достигнутыми результатами. Он уверял, что излечивает от боли в желудке толчеными лепестками красной розы, кораллами, смолой, полынью, мятой, мускатным орехом и анисом, но в это трудно поверить. И все-таки он часто возвращал людям здоровье, потому что умел лечить травами.
Современная медицина пожимает плечами, когда слышит об Амбруазе Парэ, в свое время она также высмеяла достижения алхимиков, доказывавших, что золото подавляет болезни. Но это не помешало ей со временем использовать золото в разных видах и пропорциях. Оно помогает при хлорозе, хлористое золото применяют при сифилисе, цианистое золото — при аменорее и золотухе, в соединении с хлористым натрием — при застарелых язвах желудка.
Нет, уверяю тебя, ничего не может быть хуже, чем профессия врача. Да будь я трижды доктором наук, проведи я большую часть жизни в больнице, — и все равно мне не дотянуться до травника, отшельника, живущего на природе. Не сомневаюсь, что он превосходит меня своими знаниями!
— А гомеопатия?
— О, в ней есть и хорошие и плохие стороны. Иногда она замедляет развитие болезни, дает временное улучшение состояния, но не устраняет причину недуга. В тяжелых случаях она бессильна, подобно тому, как учение Маттея не может совладать с жестокими кризисами.
Но гомеопатия очень полезна в качестве промежуточного средства, позволяющего оттянуть время, выждать. Ее препараты очищают кровь и лимфу, все эти антизолотушные, противоангинные и противораковые снадобья иногда бывают более эффективными, чем традиционные методы лечения, и влияют на ход даже смертельных заболеваний. Гомеопатия помогает, например, пациенту, изнуренному йодистым калием, продержаться, выиграть время, собраться с силами, чтобы продолжить без опаски пить это соединение.
Скажу еще, что острая боль, не снимающаяся ни хлороформом, ни морфием, может сниматься при помощи электричества. Ты хочешь знать, из чего получают это жидкое электричество? Отвечу прямо: я не знаю. Маттей утверждал, что в его таблетках и специально приготовленной воде содержатся электрические заряды, полученные из разных растений, но он никому не передал своего секрета, позволявшего ему осуществить этот процесс. Кто знает, владел ли он им в действительности. Любопытно, что эта наука, придуманная графом-католиком, распространена пасторами-протестантами, чьи проповеди кишат самыми поразительными глупостями. Вообще же, при зрелом размышлении приходишь к выводу, что все эти теории — ничто. На самом деле терапия всегда несколько авантюрна. Конечно, при некотором опыте и большой доле везения удается не слишком уж опустошать города… Ну вот, а что ты поделываешь?
— Я? Ничего особенного. Меня больше интересует, чем ты был занят все это время, ты не показывался целую неделю!
— Да, я все больше в бегах, больных все прибавляется. Кстати, я заходил к Шантелуву, у него был приступ подагры, и он жалуется, что ты совсем пропал, а его жена, оказывается, твоя поклонница, прожужжала мне уши о твоих книгах и в особенности о последнем романе. Речь шла и о тебе. Обычно-то она довольно сдержанна, и мне показалось, что она неравнодушна к тебе. Что с тобой? — прервал свой отчет де Герми, удивленно глядя на сильно покрасневшего Дюрталя.
— Ничего. Ну, мне надо бежать: дела. До свидания.
— Что-нибудь не в порядке?
— Да нет, уверяю тебя, все хорошо.
— Ну смотри.
Де Герми не стал настаивать. Провожая Дюрталя до дверей, он затащил его по пути на кухню и продемонстрировал великолепную баранью ляжку, подвешенную рядом с окном.
— Здесь ей самое место. Завтра мы съедим ее вместе с астрологом Гевэнгеем у Карексов. Но так как я один знаю рецепт бараньей ляжки по-английски, то приготовлю ее сам. Поэтому я не смогу завтра зайти за тобой. Ты найдешь меня у плиты на башне.
Оказавшись на улице, Дюрталь облегченно вздохнул. «А, незнакомка — жена Шантелува! Не может быть! Она никогда не обращала внимания на меня, держалась холодно, чаще всего молчала. Но ее беседа с де Герми… Но ведь она могла пригласить меня к себе, если хотела меня видеть, мы хорошо знакомы. Зачем эта переписка, псевдоним?
Да, — припомнил он вдруг, — мадам Шантелув зовут Гиацинта, и это имя ей очень идет. Как же я забыл инициалы незнакомки: Г. Мобель! И она живет на улице де Банё, совсем недалеко от почты… Она блондинка, у нее есть горничная, она рьяная католичка… Все сходится, это она!»
Самые противоречивые чувства охватили его.
Он был разочарован, так как его незнакомка нравилась ему больше, чем мадам Шантелув. Ей далеко до идеала, который он создал, жгучего и неясного, в ее лице не было той живости и грусти. Нет, не такой рисовалась ему незнакомка, пристань его надежд и мечты.
Но то, что он узнал имя незнакомки, сам этот факт сделал ее менее желанной, придал ей банальности. Возможность увидеть ее в любой момент развеяла чары.
И вместе с тем он обрадовался. Он мог столкнуться со старой и уродливой женщиной, а Гиацинта — про себя он уже звал ее просто по имени — была завидной красоты. Ей от силы можно было дать тридцать три, ее трудно было назвать очаровательной, но в ней была своя изюминка. Это была хрупкая блондинка, тонкокостная, с узкими бедрами. Ее лицо немного портил нос, пожалуй, слишком длинный, но губы рдели, скрывая безупречные зубы, и цвет кожи был совершенно особый, розовато-молочный, с голубизной, чуть мутноватый, как рисовый отвар.
Ее неоспоримым украшением были глаза, печально-загадочные, подернутые дымкой, в ее неуверенном взгляде, свойственном близоруким людям, проскальзывала едва сдерживаемая скука. Иногда ее зрачки мутнели, приобретали сероватый оттенок водной глади, и искрились серебристыми отсветами. В них были печаль и безразличие, томность и высокомерие. Дюрталь вспоминал, как он часто забывал обо всем, заглядывая в их бездонную глубину.
Но порывистые, страстные письма никак не отвечали спокойному, уравновешенному характеру этой женщины. Он воскрешал в своей памяти вечера, проведенные в ее доме. Она была внимательна к гостям, встречала их с приветливой улыбкой, редко вмешивалась в разговоры.
«Получается какое-то странное раздвоение. С одной стороны, светская дама, хозяйка салона, осторожная и сдержанная, с другой стороны — незнакомка, романтичная, охваченная безумной страстью, с бунтующей плотью, погруженная в свои переживания. Нет, не может быть. Я, должно быть, на ложном пути. Мадам Шантелув говорила с де Герми о моих книгах. Но делать из этого вывод, что она влюблена в меня и что именно она посылала мне письма, было бы слишком смело. Нет, это не она, но тогда кто та незнакомка?»
Он путался в рассуждениях и не мог продвинуться ни на шаг. Он еще раз представил себе ту женщину, ее мальчишескую фигуру, гибкую, складную, ее сосредоточенный, загадочный взгляд, исполненный напускной или же искренней холодности.
Ему было кое-что известно о ней, впрочем, очень немногое. Шантелув был ее вторым мужем. Ее первый муж был фабрикантом, изготавливал ризы. По непонятным причинам он покончил жизнь самоубийством. Детей у нее не было. Зато о Шантелуве ходило множество сплетен.
Он написал историю Польши и северных государств, биографию Бонифация VIII, в которой воссоздал эпоху XIII–XIV веков, жизнеописание Жанны де Валуа Блаженной, основательницы Аннонсиады, а также достопочтенной матери Анны де Ксентонг, наставницы из круга Святой Урсулы, а также ряд других книг, опубликованных издательствами Лекофр, Пальмэ, Пуссильг, — все они относились к тому типу изданий, которые невозможно себе представить без переплета из шагреневой кожи и черного сафьяна. Он стремился стать членом Академии надписей и изящной словесности и надеялся на поддержку со стороны герцогов. Раз в неделю он устраивал прием для влиятельных лиц, мелкой аристократии и священников. Он тяготился этими вечерами, так как вопреки своему робкому, смиренному виду обожал веселье и смех.
С другой стороны, ему хотелось числиться среди самых престижных писателей Парижа, поэтому он заманивал к себе на вечера литературную богему, желая заручиться поддержкой и с этой стороны, которая могла бы сыграть свою роль, когда его кандидатура будет выдвинута. Для того чтобы переманить врагов на свою сторону, он и придумал эти посиделки, вполне в барочном стиле, приглашая на них самую разношерстную публику. К тому же это его забавляло.
Возможно, были и другие причины, о которых обычно умалчивалось. О нем говорили как о человеке весьма бесцеремонном, умеющем вымогать деньги, как о мошеннике. Дюрталь заметил, что на каждом обеде, устроенном Шантелувом, присутствует какой-нибудь незнакомец, ходили слухи, что хозяин дома приглашает иностранцев под предлогом ублажить их обществом оживших восковых фигур из пантеона французской литературы и берет у них довольно крупные суммы денег.
«У него нет никакой ренты, но живет он на широкую ногу. А ведь католические издательства и газеты платят еще меньше, чем светские. Несмотря на то, что он хорошо известен в церковных кругах, вряд ли его гонораров достаточно, чтобы содержать дом на таком уровне.
Что-то здесь не чисто. Положим, эта женщина чувствует себя несчастной в этой атмосфере, не любит своего проходимца мужа, но какова ее роль во всем этом? В курсе ли она денежных махинаций Шантелува? Как бы то ни было, я не понимаю, что могло толкнуть ее ко мне. Если она в сговоре с мужем, то здравый смысл подсказывает, что она должна была бы искать богатого или влиятельного любовника, а ей хорошо известно, что я не отвечаю этим требованиям. Шантелув не может не понимать, что я не в состоянии оплачивать ее туалеты и содействовать успеху его предприятий. Рента приносит мне доход в три тысячи фунтов, и я едва свожу концы с концами, живя один.
Значит, дело не в этом. В любом случае, этой женщине нельзя доверять, — заключил он. Все эти размышления весьма охладили его пыл. — Все это глупости! Моя незнакомка вовсе не жена Шантелува, по крайней мере, хотелось бы, чтобы на этот раз я оказался прав!»
VIII
Прошел день, и все тревожные мысли улеглись. Незнакомка по-прежнему была рядом, но стала позволять себе иногда отлучаться и порой держалась на расстоянии. Ее черты расплылись, побледнели, и он снова был одинок.
Мысль, проросшая из слов де Герми, о том, что незнакомка — мадам Шантелув, остудила его пыл. Если это действительно она — а еще раз перебрав один за другим все доводы, Дюрталь, в который раз противореча себе, все-таки остановился на ней, — то за этой связью таилось что-то неясное, даже опасное, и он насторожился, решив не поддаваться течению событий.
Но было еще и нечто другое. Он никогда прежде не думал о Гиацинте Шантелув, не был в нее влюблен. Ее характер и ее жизнь представлялись ему загадкой, но он мучился над ней, только когда она была перед его глазами, и совершенно выбрасывал ее из головы, выйдя из дома Шантелува. Теперь же его мысли то и дело возвращались к ней, и он стал мечтать об обладании ею.
Она выглядывала из-за плеча незнакомки, которая все более походила на нее. Дюрталь уже не мог восстановить первоначальный облик придуманной им женщины, он ускользал, растворялся в тумане.
Двусмысленное поведение ее мужа не мешало ему считать роман с ней очень привлекательным. Несмотря на недоверие, для которого были все основания, он предполагал, что она должна быть прекрасной любовницей, умеющей маскировать свои пороки, прикрывать их светской обходительностью. Это уже совсем не то, что думать о каком-то фантоме, вырвавшемся на свободу под влиянием минуты.
Но даже если письма посылала ему не мадам Шантелув, все равно незнакомка скомпрометировала себя, позволив этой женщине перевоплотиться в нее. Она приобрела земные черты, оставаясь по-прежнему далекой. Если мадам Шантелув похорошела в обличье незнакомки, то та поблекла из-за путаницы, царившей в голове Дюрталя.
Но все равно, будь это мадам Шантелув или другая женщина, Дюрталь стал спокойнее. Снова и снова пережевывая всю эту историю, он уже не мог разобраться, что бы он предпочел: иметь дело с незнакомкой, пусть даже не столь привлекательной, как прежде, или с Гиацинтой, которая уж никак не оборотень, вдруг преображающийся в фею Карабоссу со сморщенным, старческим лицом.
Он воспользовался передышкой и засел за работу. Но оказалось, что он переоценил свои силы. Он взялся было за главу о преступлениях Жиля де Рэ, но тут же убедился, что не в состоянии связать и двух слов. Он пустился вдогонку за маршалом, схватил его за рукав, но фразы, в которые он хотел замуровать его, жались в стороне, выдохшиеся, в прорехах.
Он отбросил перо, устроился поудобней в кресле и мысленно перенесся в Тиффог, в замок, где Сатана, упорно отказываясь явиться маршалу, уже готовился поселиться в душе Жиля, ни о чем не подозревавшего, чтобы втолкнуть его в мир кровавых игр.
«Это и есть сатанизм, — думал Дюрталь. — Видения, призраки, все то, что волнует мир с тех пор, как он существует. Но дьяволу совершенно не обязательно принимать человеческий или звериный облик, чтобы дать о себе знать. Он может избрать душу и обосноваться в ней, нашептывая соблазны, толкая на необъяснимые поступки, на преступления. Иногда он внушает человеку, не знающему, что в его душу вселился дьявол, мысль о том, что тот должен повиноваться являющемуся ему Сатане, и тут же показывается своей жертве и начинает педантично перечислять все выгоды, которые можно получить в обмен на злодеяния. Желание заключить договор с дьяволом иногда становится причиной его вселения в душу».
Все эти теории Ломброзо и Модслея не объясняют поступков маршала. Конечно, можно назвать его маньяком, если под этим словом понимать человека, одержимого одной навязчивой идеей. Но в таком случае каждый из нас в большей или меньшей степени маньяк, начиная от торговца, все помыслы которого вращаются вокруг прибыли, и кончая художниками, вынашивающими свое произведение. Но почему маршал стал маньяком, как это произошло? И тут все Ломброзо, вместе взятые, молчат. Повреждения головного мозга, воспаление мягкой мозговой оболочки тут ни при чем. Все это производно от каких-то неясных причин, постичь которые материалист не может. Легче всего заявить, что повреждение долей мозга превращает людей в убийц и буйнопомешанных. Современные психиатры установили, что серое вещество у одной пациентки, чей мозг был обследован, сильно деформировано. И что? Остается только выяснить, произошла ли эта деформация, например, у женщины, одержимой дьяволом, из-за того, что она дьяволоманка, или же она стала дьяволоманкой, потому что ее серое вещество деформировано. Да и деформирован ли ее мозг? Нечистая сила пока еще не прибегает к хирургии, она не занимается трепанацией черепа и последующим извлечением частей головного мозга, она всего лишь скромно сеет злые помыслы, пестует все дурное в человеке, толкает на путь порока — и это куда более надежно. Если эти ораторские упражнения вызывают нарушение тканей, следовательно, деформированный мозг — не причина, а следствие определенного состояния души.
И потом… потом… бессмысленно ставить в один ряд преступников и душевнобольных, одержимых дьяволом и сумасшедших. Девять лет назад четырнадцатилетний мальчик, Феликс Лемэтр, убил незнакомого ему ребенка и упивался его страданиями и криками. Он взрезал ему живот ножом, снова и снова втыкал лезвие в зияющую рану, а потом медленно отпилил ему голову. Он не испытывал ни малейшего раскаяния и на допросах демонстрировал ум и жестокость. Доктор Легран дю Соль и другие специалисты наблюдали за ним в течение нескольких месяцев, и ни разу им не удалось столкнуться с симптомами душевного заболевания, ни одного, хотя бы отдаленного намека на манию не было выявлено. А этот мальчик получил неплохое воспитание и не был растлен взрослыми!
Так и те, кто сознательно или невольно попадает в руки Сатане, совершают зло ради зла, они не более безумны, чем другие, чем монах, предающийся исступленным молитвам, или тот, кто творит добро ради добра. И это не имеет ничего общего с медициной, просто они живут на разных полюсах души, вот и все.
В XV веке эти две крайности воплотились в Жанне д’Арк и маршале де Рэ. Какие основания у нас считать, что Жиль страдал душевным расстройством, а поразительные подвиги Орлеанской Девы не имеют никакого отношения к умопомешательству?
«Однако в этой крепости, должно быть, случались весьма беспокойные ночи!» Дюрталь представил себе замок, который он посетил год назад. Тогда он решил, что для его работы будет полезно, если он побывает в местах, где жил де Рэ, и наберется воздуха, которым дышат оставшиеся руины. Он остановился в небольшой деревушке, расположенной у подножия главной башни замка. Он убедился, что легенды о Синей Бороде по-прежнему живы в Вандее, на бретонской земле. Молодые женщины говорили: «Это был юноша, который плохо кончил», более пугливые старушки истово крестились, проходя вечером мимо стен замка, еще хранились воспоминания о зарезанных младенцах, имя маршала внушало ужас.
Каждый день Дюрталь совершал прогулку от гостиницы, где он жил, к замку, возвышавшемуся над долинами де ля Крюм и де ля Севр. На склонах возвышенностей росли роскошные дубы, и их корни, вырвавшиеся из земли, напоминали клубки гигантских змей.
Он очутился в Бретани. То же небо и та же земля, небо унылое и торжественное, и солнце здесь выглядело более древним, оно устало золотило лишь вершины траурных лесов и пряди столетних мхов, а земля, насколько хватало взгляда, представляла собой бесплодные песчаные равнины с рыжими пятнами болот, вздыбленными камнями, осыпанные розовыми колокольчиками цветущего вереска, с желтыми прожилками стручков, в зарослях утесника, поросшие пучками дрока.
Этот серый небосвод, скудная почва, местами обагренная кровавой гречихой, дороги, окаймленные камнями, наваленными друг на друга без связующего цемента или штукатурки, тропинки, оплетенные изгородями, природная аскеза, заброшенные поля, калеки-нищие, чьи тела изъедены насекомыми и покрыты слоем грязи, скот, выродившийся, мелкий, приземистые коровы, черные бараны с холодным взглядом прозрачных голубых глаз, какие встречаются иногда у лесбиянок и славян, — все это было устоявшимся, прочным и не менялось, как казалось Дюрталю, на протяжении многих веков.
Места вокруг Тиффога портила лишь фабричная труба, торчавшая вдалеке, у самой реки Севр. Но в целом местность очень гармонировала с разрушенным замком. По всей видимости, этот замок был когда-то огромным. Обширное пространство, занятое жалкими огородами, было обнесено обломками укреплений и башен. Ряды голубоватой капусты, переродившейся моркови, ростки чахлой репы расползлись по полю, где когда-то гарцевали всадники, бряцая оружием, и устраивались шествия, в дымке ладана, под пение псалмов.
В углу была построена избушка. В ней обитали почти совсем одичавшие крестьяне. Казалось, они разучились понимать человеческую речь; оживление появлялось на их лицах только при виде серебряной монеты, которую они выхватывали из рук, вручая ответным жестом ключи.
Дюрталь часами бродил по руинам, вглядываясь в них, мечтая, курил, и никто не нарушал его покоя. К сожалению, к отдельным частям замка трудно было подступиться. Главная башня со стороны Тиффога была окружена глубоким рвом, поросшим могучими деревьями. Чтобы перебраться на другую сторону рва, пришлось бы идти по верхушкам и кронам деревьев, так как подъемные мосты были разрушены.
Но другая часть замка, окаймленная рекой Севр, была легкодоступной. Это крыло, обвитое ростками калины с белыми листами и плющом, уцелело. Рассохшиеся, пористые, как пемза, башни, посеребренные лишайниками и позолоченные мхом, хорошо сохранились, вплоть до зубцов, расшатанных ночными ветрами.
Внутри череда залов, сумрачных и холодных, отделанных камнем, с высокими сводчатыми потолками, напоминавшими днище лодки. Винтовая лестница вела наверх и вниз, в комнаты, соединенные переходами с неизвестно для чего предназначавшимися чуланами и глубокими нишами.
В нижней части коридор был таким узким, что в нем с трудом могли разойтись двое. Он постепенно накренялся, разветвлялся и заканчивался в настоящем тюремном помещении, неровные стены рябили, освещенные фонарями, отражали лучи, словно слюдяная пленка, пенились, словно сахарное кружево. И в верхних кельях, и в подземной тюрьме посетитель то и дело спотыкался об окаменевшие комья земли. Каменные мешки и колодцы зияли посередине или по углам комнат.
Наверху одной из башен, той, которая располагалась слева от входа, была крытая галерея, внутри ее кругом тянулась скамья, выдолбленная из камня. Здесь, наверное, размещались стражники, которые в случае нападения стреляли из бойниц, устроенных почему-то очень низко, на уровне ног. На этой галерее слова, произнесенные даже вполголоса, обтекали закругляющуюся стену и эхом отзывались на противоположной стороне.
Замок был хорошо укреплен снаружи и, по всей видимости, мог выдерживать продолжительную осаду. Изнутри он походил на тюрьму, где пленники гнили месяцами по колено в воде. Выйдя на воздух, Дюрталь чувствовал облегчение, почти блаженство. Но когда, пройдя сквозь грядки с капустой, он натыкался на развалины часовни или через подвальную ее дверь проникал в склеп, тоска снова охватывала его.
Часовня была выстроена в XI веке. Она выглядела маленькой, приземистой, массивные колонны с капителями, украшенными лепкой, ромбами и завитками, подпирали своды. Сохранился каменный алтарь. В пасмурные дни свет, словно просеянный сквозь роговую пластинку, проходил через отверстия, оседал на стенах, спугивая мрак, соскальзывая на серо-черную землю, падая в каменный мешок или колодец.
После обеда Дюрталь часто поднимался на холм и бродил среди потрескавшихся, полуразвалившихся стен. В ясные ночи часть замка становилась невидимой, а часть, наоборот, высвечивалась, серебристо-голубая, словно облитая ртутью, над Севром, и на поверхности реки всплывали, как рыбешки, россыпи лунного света.
Угнетающая тишина царила над замком. После девяти часов вечера не доносилось ни лая собак, ни человеческих голосов. Он возвращался в свою комнатенку, в гостиницу, где его ждала при свете свечей пожилая женщина, одетая в черное, в капоре, покрой которого нисколько не изменился со средних веков, чтобы запереть за ним дверь.
«Главная башня умерла, остался лишь ее скелет, — думал Дюрталь, — чтобы восстановить ее плоть, нужно возродить души, способные оживить мертвые песчаники».
Судя по документам, этот каменный каркас был пышно разодет. Оставалось лишь припомнить торжественное убранство покоев XV века, чтобы тень Жиля показалась на пороге замка.
Стены обшивались деревом, вывезенным из Ирландии, и украшались гобеленами, шитыми золотом и нитками, изготовленными в Аррасе. Такие гобелены теперь большая редкость. Зеленые и желтые кирпичи или белые и черные плиты устилали пол. Своды наверняка были расписаны золотыми звездами, на лазоревом фоне красовались арбалеты, посверкивали золоченые вкрапления на коричневатых распятиях.
В спальнях Жиля и его друзей стояли кресла с высокими спинками, табуреты, стулья, у стен — резные горки с рельефными изображениями Благовещения и Поклонения волхвов, со скрывающимися под коричневым кружевом раскрашенными и золочеными фигурками святой Анны, святой Маргариты и святой Екатерины, излюбленными персонажами средневековых мастеров. В кованых сундуках, обтянутых свиной кожей, хранились мундиры, белье. Лари украшала резьба из металла, они были оклеены кожей или материей с изображениями летящих ангелов. Наконец, кровати были застелены полотняными покрывалами, наволочки благоухали, мягкие подушки лежали поверх стеганых одеял, над ними был натянут балдахин, на пологе были вышиты небесные светила и герб.
Можно было мысленно восстановить и убранство других комнат. Среди голых стен сохранились лишь камины с вытяжными колпаками, очаги, лишенные больших таганов, но прокаленные пылавшим когда-то в них огнем. В столовой происходили пиры, о которых с тоской Жиль вспоминал во время следствия в Нанте. Со слезами на глазах он признавался, что они разжигали таившееся в нем пламя. Какие блюда он предпочитал? Жиль садился за стол, в центре которого стояли кувшины с розовой водой, настойкой из мушмулы и донника для мытья рук, со своими сотрапезниками — Евстахием Бланше, Прелати, Жилем де Сийе — и заглатывал говяжий паштет, рыбные паштеты, из лосося и леща, нежное мясо молодых кроликов, дичь, поданную под горячим соусом, пироги, цаплей, лебедей, журавлей, голубей, выпей, аистов — жаренных на вертеле, мясо крупной дичи, смоченное кислым вином, миноги из Нанта, салаты из хмеля, мальвы, острые блюда, приправленные майораном и кожурой мускатного ореха, кориандром и шалфеем, лепестками пиона и розмарина, базиликом и иссопом, имбирем. Чуть горьковатые ароматные кушанья, оседая в желудке, вызывали жажду. Пирожные, торты с начинкой из цветков бузины и из репы, рис в ореховом молоке, присыпанный корицей, — все это требовало обильных возлияний, чему также способствовала и духота. Пиво, фруктовые соки, немного забродившие, коричневатые сухие вина, хмельные тонизирующие напитки с корицей, миндальным орехом и мускатом, ликеры в бутылках с золотыми наклейками лились потоками, возбуждали, подстегивали сладострастные беседы, пришпоривали их, так что к концу пира все погружались в самые извращенные мечтания.
«Ну, теперь пора уделить немного времени одежде», — решил Дюрталь. Перед его глазами возникли Жиль и его друзья, но не в серебристой военной сбруе, а в обычных костюмах, которые они надевали, находясь дома. Они, должно быть, гармонировали с пышной роскошью замка, их одежды переливались, скорее всего они носили нечто вроде приталенных жакетов в складку, расширявшихся книзу наподобие юбки, темные чулки, а на голову водружали шапочки, похожие на слоеный пирожок или на лист артишока. Кажется, что-то подобное украшает голову Карла VII на портрете, выставленном в Лувре. Обычно основа шляпы перетягивалась материей с золотыми и серебряными ромбами или шелковой узорчатой тканью, отороченной мехом куницы.
Дюрталь подумал о дамах в платьях из дорогой цветастой материи с узкими рукавами и корсетом, с отложными воротниками, прикрывающими плечи, в длинных юбках, перехваченных на животе, со шлейфом, отделанным белым мехом. Дюрталь примерял одежды на некий идеальный манекен, осыпал его от выреза корсажа до кончиков ног тяжелыми колье, фиолетовыми и молочно-белыми кристаллами, мутными необработанными драгоценными камнями, испускавшими волнами неясный свет. Манекен вдруг ожил, женщина вздохнула, поправила чепец, выбившиеся из-под него пряди волос и улыбнулась. Незнакомка? Мадам Шантелув? Он восхищенно смотрел на нее, но в это время кот вспрыгнул ему на колени, и он очнулся от мечтаний.
«Ловко, ничего не скажешь!» И он рассмеялся при мысли, что своими домогательствами загнал незнакомку в замок Тиффог. Он потянулся. «Конечно, глупо просиживать часами, мысленно странствуя с места на место, но это так приятно! Вся эта обыденность лишена всякого смысла».
Да, средние века — весьма своеобразная эпоха. Дюрталь закурил. «Она представляется или в ослепительном, или в черном цвете, и никаких полутонов. Сумеречное, невежественное время, когда повсюду шныряли школяры и атеисты, болезненная, изощренная эпоха, если верить свидетельствам богословов и художников».
Но не приходится сомневаться в том, что представители всех классов — аристократии, духовенства, буржуазии, простого народа — обладали куда более возвышенной душой. Можно смело сказать: за последующие четыре века общество только деградировало.
Да, конечно, в то время сеньоры были тупыми невеждами, похотливыми бандитами, пьяницами, кровавыми тиранами, и все из-за своего инфантилизма и малодушия. Церковь обуздывала нравы. Чтобы коснуться Гроба Господня, многие жертвовали своим богатством, бросали дома, детей, жен; обессиленные, измученные, они подвергали себя постоянной опасности и лишениям.
Своим героическим рвением они искупали греховность. Теперь же все изменилось. Резня и насилие приняли более скромные размеры, а кое-где и вовсе прекратились, но зато люди стали одержимы деловитостью, страстью к обогащению. Хуже того, они настолько пали, что низости стали притягательными для них. Аристократия рядится баядеркой, примеряет балетные пачки и клоунское трико, раскачивается на трапеции на потеху публике, прыгает сквозь обруч, поднимает гири на заплеванных цирковых подмостках. Духовенство, за исключением обитателей нескольких монастырей, снедаемых сладострастием и предававшихся сатанизму, было достойно восхищения. Многие познали религиозный экстаз и узрили Бога. В те годы было множество святых, которые творили чудеса. Церковь не забывала об униженных, утешала скорбящих, защищала обездоленных, веселилась вместе с простым народом. А сейчас она ненавидит бедных, мистицизм постепенно умирает в душах духовных лиц, не чуждых человеческим страстям, проповедующих душевную скудость, умеренность, практицизм, мещанство. Но вдали от этих бесцветных священнослужителей то там, то здесь, в уединенных монастырских кельях, проливаются слезы настоящих святых, монахов, готовых до последнего вздоха молиться за нас. Они и сатанисты — вот те звенья, которые связывают средние века с нашим временем.
Самодовольство и склонность к назиданиям были характерны для буржуазии уже во времена Карла VII. Но ее алчность сурово осуждалась духовенством, к тому же существовали корпорации, которые разоблачали мошенничество и подлоги, не допускали торговли сомнительными и негодными товарами, устанавливали твердые цены на добротные изделия. Ремесленники и буржуа передавали свое дело от отца к сыну, корпорации обеспечивали им работу и заработок, им не приходилось страдать от колебаний рынка, их не давил капитал, они не обладали большим состоянием, но им хватало на жизнь. Они были уверены в завтрашнем дне и, не торопясь, создавали шедевры, и тайны своего ремесла они унесли с собой.
Те, кто умел работать, проходили период ученичества, становились компаньонами, а затем и самостоятельными хозяевами. Их мастерство усовершенствовалось и поднималось до уровня искусства. Им удавалось придать благородство даже простейшим металлическим изделиям, самой грубой фаянсовой посуде, непритязательным ларям и коробам. Корпорации выбирали себе в патроны святых и украшали их изображениями цеховой стяг. Этим корпорациям удавалось из века в век блюсти чистоту и возвышенность душ тех, кого они объединяли.
Со всем этим покончено. Буржуа утопили былое благородство в нечистотах, облили его помоями. Они содействовали распространению бесконечных гимнастических обществ, пьянству, увлечению тотализатором и бегами. Негоцианты эксплуатируют рабочих, сбывают недоброкачественный товар, надувают покупателей, подсовывая им третьесортные изделия, нещадно обвешивая их.
У народа отняли столь необходимый страх перед адом и одновременно надежду на то, что после смерти наступит отдохновение от земных тягот и страданий. Люди нехотя выполняют работу, за которую им платят гроши, и пьют. Иногда выпивка горячит их, и они восстают. Почувствовав освобождение, они становятся тупыми и жестокими, и тогда их убивают.
Боже! А еще говорят, что XIX век достоин восхищения! У всех на устах лишь одно слово — прогресс. Но в чем заключается этот прогресс? Кто ему подвержен? Не очень-то много изобрел этот жалкий век.
Он ничего не создал, но все разрушил. Он чванится тем, что открыл электричество. Но его знали и использовали уже очень давно, хотя в древности не могли объяснить его природу, понять суть явления. Но и сейчас кто в состоянии толково разъяснить, откуда берется эта сила, которая подхватывает звук и, придавая ему некоторую гнусавость, несет его по проводам? XIX век также воображает, что создал гипноз, но еще в Древнем Египте и в Индии жрецы и брамины прибегали к его помощи. Нет, этот век может похвалиться лишь подделкой продуктов питания и всяческого рода фальсификациями. Здесь он непревзойденный умелец. Кажется, ему удалось подделать даже экскременты, так что в 1888 году Палате пришлось принять закон против подмены удобрений…
«Кажется, кто-то позвонил». Он открыл дверь и невольно отступил.
Перед ним стояла мадам Шантелув.
Он поклонился, и она, не говоря ни слова, проскользнула в его кабинет. Дюрталь последовал за ней.
— Прошу вас, садитесь.
Он пододвинул кресло, попытавшись при этом расправить ногой ковер, сбитый котом. Он извинился за беспорядок. Она неопределенным жестом отмахнулась и осталась стоять. Спокойным грудным голосом она произнесла:
— Это я посылала вам письма… я пришла, чтобы положить конец этой горячке. Вы сами писали… связь между нами невозможна… забудем об этом… но перед тем, как уйти, мне хотелось бы убедиться, что вы не сердитесь на меня.
— О, конечно же, нет! — вскричал он. Но он не мог смириться с ее словами. Он был в здравом рассудке, когда писал ей страстные письма, он был искренен, он любит ее…
— Вы меня любите! Но вы не знали, что это я затеяла переписку. Вы полюбили незнакомку, фантом. Но его больше не существует, потому что я здесь.
— Ошибаетесь, я прекрасно знал, что под псевдонимом мадам Мобель скрывается мадам Шантелув.
И он вкратце поведал ей, как ему удалось раскрыть ее тайну, не обмолвившись при этом ни словом о своих сомнениях.
— А! — Она задумалась, ее ресницы едва заметно дрожали. — Как бы то ни было, — заговорила она, прямо глядя ему в глаза, — первые письма были все-таки от незнакомки. И вы ответили на них воплями страсти. Но они предназначались не мне!
Он стал спорить, приводить даты, перечислять письма и скоро совершенно запутал ее. Это выглядело настолько комично, что оба замолчали. Она села и расхохоталась.
Ему был неприятен ее резкий смех, обнажающий маленькие острые зубы под насмешливо искривленной губой. «Она пришла посмеяться надо мной», — подумал он. Он был недоволен тем, какой оборот принял разговор, и злился на эту женщину, спокойную, не похожую на ту, писавшую пламенные послания.
— Могу ли осведомиться о причинах вашего веселья? — с досадой спросил он.
— Извините, это нервы. Со мной часто случается нечто подобное в омнибусах. Давайте все обсудим. Вы говорите, что любите меня…
— Да.
— Хорошо. Допустим, что и вы мне не безразличны. И что из того? Насколько я помню, мой друг, вы отказали мне в свидании — и очень логично обосновали свой отказ, — о котором я просила вас в минуту безумия.
— Но я отказался от встречи с вами, потому что не знал, что пишу вам! Я уже говорил, что только позднее де Герми невольно выдал вас. И как только я все узнал, я, не колеблясь ни минуты, отправил вам письмо, в котором умолял о встрече с вами.
— Пусть так, но вы еще раз подтвердили, что ваши первые письма были обращены не ко мне.
Она снова задумалась. Дюрталь уже начал уставать от этой дискуссии и счел разумным промолчать. Он лихорадочно искал путь, который вывел бы их из тупика.
Неожиданно она сама положила конец спору. Улыбнувшись, она сказала:
— Хватит об этом. Итак, ситуация такова: я замужем за очень хорошим человеком, который меня любит и который повинен лишь в том, что недооценивает счастье, которое само просится в руки. Я первая написала вам и, представьте себе, чувствую себя виноватой перед ним. У вас есть ваша работа, ваши книги, зачем нужно, чтобы какая-то ветреная женщина врывалась в вашу жизнь. Лучше нам остаться друзьями.
— И эти рассуждения о разумности, о необходимости я слышу из уст женщины, присылавшей мне такие живые письма!
— Но, признайтесь, ведь вы не любите меня!
— Я? Не люблю вас?
Он дотронулся до ее руки. Она пристально смотрела на него.
— Если бы вы любили меня, вы бы пришли меня навестить. Но вы не пытались даже узнать, что со мной, жива я или нет…
— Но поймите, я не надеялся, что вы примете меня… и у вас всегда полно гостей… ваш муж… вы всегда держались так отстранений…
Он все сильнее сжимал ее руки. В ее взгляде снова появилось грустное, почти болезненное выражение, от которого у него сжималось сердце. Он пододвинулся ближе, но она решительным жестом высвободила руки.
— Сядьте, и давайте поговорим о чем-нибудь другом. Знаете, у вас очень мило. — Она остановила взгляд на картине, висящей над камином. — Кто этот святой?
— Не знаю.
— Попробую отыскать его имя. У меня есть жития святых, наверное, нетрудно обнаружить этого кардинала, отказавшегося от сана ради уединенной жизни в хижине. Послушайте, а святой Пьер Дамиан? Впрочем, я не уверена. У меня такая плохая память. Ну же, помогите мне.
— Но я не знаю!
Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.
— Вы раздражены… вы сердитесь на меня?
— Черт побери! Вот уже неделю я думаю только о вас, мечтаю о встрече с вами! А вы приходите, объясняете мне, что все кончено и что вы меня не любите…
— Но если бы я вас не любила, — ласково сказала она, — я бы не пришла сюда. Поймите же, реальность разрушит наши мечты! Не будем искушать судьбу. Ведь мы уже не дети. Нет, пустите меня!
Побледнев, она отчаянно вырывалась из его рук.
— Обещаю, что я сейчас же уйду и вы больше никогда меня не увидите, если вы не прекратите!
Ее голос стал сухим и свистящим. Он отпустил ее.
— Сядьте сюда, за стол, я вас прошу.
Легонько постукивая ногой по полу, она задумчиво проговорила:
— Наверное, действительно, дружба между мужчиной и женщиной невозможна. А как было бы хорошо, если бы я могла, ничего не опасаясь, приходить сюда, — она помолчала, а потом добавила: — Просто чтобы повидаться. Если бы нам нечего было сказать друг другу, мы бы молчали, это так прекрасно — просто помолчать.
Она вздохнула.
— Время бежит. Мне пора.
— И вы уйдете, не оставив мне никакой надежды? — спросил он, целуя ее руку в перчатке. — Вы придете ко мне еще?
Она молча покачала головой, но, встретив его умоляющий взгляд, проронила:
— Обещайте мне, что будете благоразумны и что ни о чем меня не будете спрашивать! Послезавтра, в девять, здесь.
Он заверил ее в том, что выполнит все условия. Его дыхание коснулось руки чуть выше перчатки. Сжав зубы, он старался не думать о ее декольте. Он выпрямился. Она позволила ему поцеловать ее в шею и выскользнула за дверь.
— Уф! — он запер дверь. Он был разочарован, но вместе с тем доволен.
Дюрталь был доволен, потому что находил ее загадочной, непредсказуемой и очаровательной. Оставшись один, он еще видел ее перед глазами, в черном платье, меховой шубке, воротник которой щекотал его лицо, когда он целовал ее шею. На ней не было украшений, но в ушах сверкали голубые капельки сапфира. Темно-зеленая шляпа немного странно смотрелась на ее светлой головке. Ее длинные замшевые перчатки и вуаль источали чуть слышный запах корицы, обычно совершенно пропадающий в более резких духах. Далекий и нежный запах исходил от ее рук. В серых глазах переливались искры, влажными острыми зубами она покусывала нижнюю губу. «О! послезавтра! — подумал он. — Как бы мне хотелось целовать это тело!»
Он решил, что очень глупо повел себя. Он держался угрюмо, был грустным и понурым. Нужно быть более непринужденным, не таким скованным. Но в его поведении виновата она! Она ошеломила его! Слишком сильным оказался контраст между раздавленной тоской и желанием женщиной, представавшей в письмах, и кокетливой, уверенной в себе светской дамой, явившейся к нему.
«Да уж, женщины очень странные существа, — вздохнул Дюрталь. — Она совершила невозможное, сама пришла к тому, кому посылала весьма недвусмысленные письма. Я чувствую себя полным идиотом, держусь неестественно, не знаю, что сказать. А она ведет себя свободно, как будто она у себя дома или в светском салоне. Никакой натянутости, она расхаживает по комнате, разговаривает, а ее глаза столь выразительны! У нее непростой характер, — он вспомнил, как она вырывалась из его объятий. — Но в ней есть и что-то детское». Отдельные интонации ее голоса, обиженный, но вместе с тем и ласковый взгляд пришли ему на память. «Послезавтра я буду осторожнее», — пообещал он коту, который забился под кровать от испуга. Он никогда не видел женщины и спрятался от мадам Шантелув. После ее ухода он крадучись приблизился к креслу, где она сидела, и стал настороженно обнюхивать его.
«Что ж, она проницательна, эта мадам Гиацинта. Она не захотела встретиться со мной в кафе или на улице. Издалека почуяла перспективу отдельного кабинета или комнаты в гостинице. Несмотря на то что я ясно дал ей понять, что не хочу приглашать ее к себе, она преспокойно заявилась сюда. Если поразмыслить хладнокровно, вся эта сцена с самого начала — одно сплошное притворство. Зачем приходить ко мне, если она не собирается поддерживать со мной близких отношений? Ей просто хотелось, чтобы я просил, умолял ее о том, что является предметом ее собственных желаний. Такова уж натура женщин! Она обхитрила меня, своим визитом смешала все мои карты. Но все это не делает ее менее желанной». Он отогнал от себя неприятные мысли. «Послезавтра все будет лучше». Она стояла перед его глазами и смотрела на него обманчиво-печально. Он мысленно снял с нее меха, узкое платье, и белое, стройное, теплое и гибкое тело предстало его восхищенному взору. «У нее не было детей, она и в тридцать лет, должно быть, по-девичьи свежа».
Опьяняющее чувство молодости охватило его. Дюрталь подошел к зеркалу. Его усталые глаза прояснились, лицо не казалось обрюзгшим, усы стали более благообразными, а волосы потемнели. «Хорошо, что я сегодня побрился». Но чем больше он вглядывался в зеркало, которое обычно игнорировал, тем яснее проступали его прежние черты. Его фигура, выросшая, подчиняясь душевному взлету, снова осела, и грусть осенила его задумчивое лицо. «Да, это не та внешность, которая нравится женщинам. Почему она выбрала меня? Ей бы не составило труда соблазнить кого угодно. Ну ладно, хватит пережевывать одно и то же. По правде говоря, моя любовь носит скорее головной характер. Все это ненадолго, и я уверен, что справлюсь с этим и не впаду в безумство».
IX
Он лег спать с мыслями о ней и, проснувшись, первым делом подумал о мадам Шантелув. Он перебирал, словно четки, различные соображения, терялся в догадках, устанавливал причинно-следственные отношения между фактами. Он снова спрашивал себя, почему она ни разу прежде не дала ему понять, что он ей нравится. Ни одного обнадеживающего взгляда, ни одного слова! И вдруг эта переписка! Куда проще было бы пригласить его к обеду или найти какую-нибудь другую возможность встретиться с ним у нее или на нейтральной территории.
Видимо, все дело в том, что это выглядело бы слишком банально. Она, должно быть, искушена в подобных вопросах. Она понимает, что лучше действовать инкогнито. Неизвестность разжигает воображение, воспаляет ум, подготавливает душу. Она хотела внести смятение в мое сердце и только после этого предпринять атаку, открыв свое имя.
Если это действительно так, то нельзя отказать ей в хитрости. Но, может быть, она просто слишком романтична? Или актриса по натуре? Ей нравятся интриги и она предваряет банальное блюдо пикантными аперитивами!
А ее муж, Шантелув? Дюрталь внезапно подумал о нем. Она так неосторожна, что ему легко выследить ее. Она назначает свидание в девять вечера, а ведь куда проще встречаться с любовником утром или днем, уйдя из дома якобы за покупками.
На этот новый вопрос он не мог найти ответа. Все это показалось ему неважным. Он снова впал в состояние, которое испытывал, гоняясь за незнакомкой, придуманной им во время чтения писем.
Ее образ окончательно изгладился из его памяти. Реальная, живая мадам Шантелув бередила его воображение, накаляла его разум и чувства. Он страстно желал ее и возлагал большие надежды на следующую встречу. А если она не придет? При мысли об этом он похолодел. Сумеет ли она ускользнуть из дома? А может быть, ей захочется подразнить его, подогреть тем самым его чувства?
«Пора кончать со всем этим бредом». Душевная лихорадка вот-вот окончательно парализует силы! Он беспокоился, как бы тревожное волнение не сказалось потом, в самый решительный момент, и не сделало из него посмешище.
«Лучше всего будет не думать больше об этом». И он отправился к Карексам, где его ждал обед в компании астролога Гевэнгея и де Герми.
«Это отвлечет меня от навязчивых мыслей», — пробормотал он, ощупью продвигаясь в кромешной темноте башни. Де Герми услышал его шаги и открыл дверь. Мазок дневного света лег на черную спираль ночи.
Достигнув лестничной клетки, Дюрталь увидел своего друга, в одной рубашке, без пиджака, одетого в фартук.
— Как видишь, дело идет полным ходом!
Он стоял над кастрюлей, в которой что-то бурлило, то и дело поглядывая на часы, которые он подвесил на гвоздь рядом с плитой. В его быстрых взглядах чувствовалась уверенность механика, наблюдающего за ходом своих машин.
— Посмотри! — он приподнял крышку.
Дюрталь наклонился и сквозь облако пара разглядел в кипящей жидкости какую-то мокрую тряпку.
— Это и есть та самая ляжка?
— Да, друг мой. Она завернута в материю, и воздух не имеет к ней доступа. Она должна тушиться в этом бульоне, согласись, довольно наваристом. Я бросил туда щепотку сухой травы, несколько долек чеснока, нарезанную кружочками морковь, лук, добавил мускатный орех, лавровый листок и чебрец. Пальчики оближешь… надеюсь, Гевэнгей не заставит себя ждать, так как это блюдо ни в коем случае нельзя передерживать на огне.
Откуда-то вынырнула мадам Карекс.
— Входите же, муж ждет вас.
Дюрталь застал его за разборкой книг. Они пожали друг другу руки. Дюрталь подошел к протертым от пыли книгам, разложенным на столе.
— Это что за исследования? О технике литья колоколов? Или о связи колоколов с богослужением? — спросил он.
— О литье? Нет. Хотя в них можно найти отдельные сведения о мастерах прежних лет или о сплавах красной меди и олова. Искусство литья колоколов за последние три века пришло в упадок. Оно процветало в средние века. В плавящиеся массы часто бросали драгоценности и добавляли благородные металлы. А может быть, дело в том, что теперь во время плавки никто не молится святому Антуану Эрмиту. Не знаю. Почему-то теперешние колокола все на один голос, безразлично покорный. А когда-то они походили немного на старых слуг, которые воспринимались уже как члены семьи и разделяли все выпавшие на ее долю радости и горести. А теперь что они могут дать духовенству и пастве? Они отошли на второй план, и за ними ничего больше не стоит.
Вы спросили, не идет ли речь в этих книгах о роли колоколов в литургии. Да, в большинстве из них кратко описывается смысл колокольного звона в те или другие моменты богослужения. Тут почти нет разночтений.
— Расскажите об этом.
— Что ж, если вас это интересует, попробую. Согласно Гийому Дюрану, твердость металла символизирует силу проповеди, соприкосновение языка колокола с его стенками выражает идею необходимости для проповедника побороть собственные пороки, а не заниматься обличениями других. Колокол держится на перекладинах, имеющих форму креста, а веревка, к которой раньше прибегали, чтобы звонить, воплощает мудрость Святого Писания, берущую начало от этого креста.
Более древние авторы трактуют символику колоколов почти так же. Жан Белеф, живший на рубеже XII и XIII веков, тоже считал, что колокол соотносится с образом проповедника. По его мнению, маятникообразное движение колоколов обозначает, что проповеднику следует возвышать и понижать голос, чтобы донести свою речь до сердец тех, кто его слушает. Гюг де Сен-Виктор называл ударную часть колокола языком богослужения. Сталкиваясь со стенками колокола, он проповедует истинность Ветхого и Нового Завета. А один из первых литургистов, Фортунат Амалер, сравнивал основную часть колокола со ртом, а ударник с языком проповедника.
— Но, — растерянно произнес Дюрталь, — в этом нет… как бы это сказать… особой глубины.
Дверь распахнулась.
Карекс поприветствовал Гевэнгея и представил его Дюрталю.
Мадам Карекс хлопотала вокруг стола, а Дюрталь приглядывался к новому гостю.
Он был небольшого роста, носил мягкую фетровую шляпу и был закутан, как водитель омнибуса, в синий плащ с капюшоном.
Его голова имела яйцевидную форму, череп просвечивал сквозь падающие на шею волосы, напоминавшие волокна высохшего кокосового ореха, его нос был с горбинкой, постоянно раздутые ноздри походили на гигантские трюмы, над беззубым ртом топорщились пепельные усы, бородка удлиняла энергичный подбородок. При первом взгляде его можно было принять за резчика по дереву или за художника-миниатюриста, специализирующегося на изображении святых. Но, более пристально вглядевшись в его близко посаженные глаза, серые, круглые, немного косящие, вслушавшись в его голос, присмотревшись к его заискивающей манере держаться, наблюдатель невольно задавался вопросом: из какой ризницы выскочил этот человечек?
Он снял дождевик и оказался в черном сюртуке, какой носят плотники. Его шею обвивала золотая цепь, выползавшая из оттянутого кармана старого жилета. Гевэнгей сел и положил руки на колени. На какое-то мгновение Дюрталь потерял дар речи.
Они были огромные, вздувшиеся, усыпанные оранжевыми пятнами. Пальцы, заканчивавшиеся белесыми, коротко остриженными ногтями, были унизаны массивными кольцами, оправа которых закрывала всю фалангу, и перстнями.
Он перехватил взгляд Дюрталя, устремленный на его руки, и улыбнулся.
— Вас заинтересовали мои кольца? Они сделаны из трех металлов — золота, серебра и платины. На этом изображен скорпион — это знак, под которым я родился; это два сцепленных треугольника, видите, один расположен вершиной вверх, а другой вершиной вниз — это символ вселенной, так называемое кольцо Соломона; а вот это, небольшое, — он указал на кольцо, которое было бы более уместно на женской руке, с крохотным сапфиром и двумя розами по краям, — память об одной особе, которой я составлял гороскоп.
— А! — только и смог ответить Дюрталь.
— Обед готов, — объявила мадам Карекс.
Дюрталь посмотрел на де Герми. Он уже избавился от фартука и в плотно облегавшем его костюме из шевиота, раскрасневшийся от плиты, придвигал к столу стулья.
Мадам Карекс разлила суп, и все замолчали, понемногу зачерпывая кушанье у самого края тарелки, где оно не было таким горячим. Затем жена звонаря внесла баранью ногу и поставила ее перед де Герми, чтобы тот разрезал ее.
Она была восхитительного красного цвета и истекала соком под ножом. Все застонали от наслаждения, отведав этого мяса, подслащенного белым соусом из каперсов, с ароматным пюре из вареной репы.
Де Герми раскланялся, принимая комплименты. Карекс наполнил бокалы. Он уделял особое внимание Гевэнгею, так как был несколько смущен ссорой и хотел загладить эту старую историю. Де Герми перевел разговор на гороскопы. Тут уж Гевэнгей развернулся. Он самодовольным голосом повествовал о своих изысканиях, о том, что составление гороскопа требует не меньше шести месяцев, об изумлении, которое испытывают люди, когда слышат, что пятисот франков мало, чтобы оплатить его труд.
— Не могу же я работать за гроши, — пояснил он, а затем продолжил. — Но многие сейчас недооценивают астрологию, а ведь к этой науке в древности относились с большим почтением. Особенно ей поклонялись в средние века. Вспомните хотя бы портал в Нотр-Дам, археологи, не осведомленные в христианской и оккультной символике, называют его части вратами Страшного Суда, вратами Девы Марии и вратами святой Анны и святого Маркела. Но на самом деле в нем представлена триада: Мистика, Астрология и Алхимия. Ведь это основные науки средних веков. Сейчас меня часто спрашивают: «А правда ли, что звезды влияют на судьбу человека?» Не буду вдаваться в детали, интересные лишь посвященным, но это влияние на характер человека не менее очевидно, чем воздействие некоторых планет, ну, например, луны, на состояние организма мужчин и женщин.
Вам, месье де Герми, как врачу, наверное, известно, что медики Гиллеспан и Джексон на Ямайке и другие специалисты из Восточной Индии, тот же Бальфур, доказали, что созвездия могут влиять на здоровье человека. Обычно в начале лунной фазы число больных возрастает, начинаются эпидемии. Кроме того, существует лунатизм, порасспрашивайте-ка, в какое время происходят обострения? Но к чему разубеждать невежд? — проговорил он удрученно, разглядывая свои кольца.
— Но мне кажется, что астрология уже начала привлекать внимание широкой публики, — заметил де Герми. — Какие-то два астролога печатают гороскопы на четвертой странице газет, рядом с объявлениями о новых лекарственных средствах.
— Позор! Они не освоили даже азов этой науки. Обычные мошенники, выколачивающие деньги. Тут даже не о чем и говорить. Теперь только в Англии и в Америке умеют составлять гороскопы по всем правилам.
— Боюсь, — откликнулся де Герми, — что не только эти лжеастрологи, но также и большинство теософов, оккультистов и толкователей каббалы, расплодившихся в наше время, знает ничтожно мало. Те, с кем я лично знаком, поразительно невежественны и глупы.
— Истинная правда, господа! По большей части это неудавшиеся писаки или же юноши, старающиеся угодить вкусам публики, уставшей от позитивизма. Они заимствуют куски у Элифаса Леви, подворовывают что-то у Фабра д’Оливэ и стряпают свои опусы, что-то невнятное, что они сами не в состоянии толком понять. Весьма жалкое зрелище!
— А ведь тем самым они компрометируют эти науки, выхолащивают их, — вставил Дюрталь.
— К сожалению, — сказал де Герми, — среди них есть не только простофили и глупцы, но и откровенные шарлатаны и хвастуны.
— Например, Пеладан! Кто не слышал этого имени! Этакий игрок в бильбоке! — воскликнул Дюрталь.
— О! уж этот…
— Все эти господа, — заговорил Гевэнгей, — не способны ни к какой практической деятельности. В нашем веке только один человек проник в тайны мистики, не будучи при этом ни святым, ни сатанистом. Это Уильям Крукс.
Дюрталь усомнился в том, что видения, о которых поведал этот англичанин, действительно имели место, и заявил, что ни одна теория не может их объяснить. Гевэнгей взвился:
— Нет, позвольте, существует множество теорий, и, осмелюсь утверждать, все они вполне определенно и ясно дают ответ на этот вопрос. Или видения — это флюиды, исходящие от медиума в состоянии транса и смешивающиеся с флюидами других присутствующих, или же вокруг нас существуют некие бестелесные создания, их можно назвать элементоидами, которые материализуются при некоторых условиях. Есть еще одно мнение, вот уж чистый идеализм, что это вернувшиеся на землю души умерших.
— Все это мне известно, — кивнул Дюрталь, — и внушает ужас. Индусы считают, что существует перевоплощение душ. По их мнению, бесплотные души блуждают по земле до тех пор, пока не воплощаются в новом теле, и так, постепенно, с каждым следующим превращением достигают абсолютной чистоты. Мне же кажется, что одной жизни вполне достаточно. Я предпочитаю небытие, пустоту всем этим метаморфозам, это выглядит более утешительно. Что же касается призывания душ умерших, то одна мысль о том, что какой-нибудь плотник может заставить души Гюго, Бодлера, Бальзака беседовать с ним, приводит меня в неистовство. Нет, как ни гнусен материализм, все-таки до такой мерзости он не опускается.
— Спиритизм — это та же некромантия, проклятая церковью, — произнес Карекс.
Гевэнгей снова бросил взгляд на кольца и допил вино.
— Но вы не можете отрицать, что все эти теории правдоподобны, — сказал он. — Особенно теория элементоидов. Пространство населено микробами, так почему бы ему не изобиловать также добрыми и злыми духами? В воде, в уксусе плодятся организмы, это хорошо видно под микроскопом. Почему же в воздухе не могут существовать наряду с другими элементами некие существа, эмбрионы, которые недоступны зрению человека, даже обостренному при помощи разных приспособлений?
— А ведь коты часто вглядываются с любопытством в пустоту и следят глазами за чем-то, невидимым для нас, — неожиданно вмешалась мадам Карекс.
— Нет, спасибо, — Гевэнгей отказался от салата из одуванчиков с яйцами, предложенного де Герми.
— Друзья мои, — сказал звонарь, — вы забыли еще об одной теории. Церковь приписывает Сатане подобные необъяснимые факты. Католицизм издавна сталкивается с этой проблемой. Вовсе не обязательно ссылаться на якобы первую манифестацию духа, которая произошла, насколько я помню, в Америке в 1847 году в семье Фокс. Призраки умерших являются испокон веков. Святой Августин вынужден был послать священника в епархию Гиппон, где приходили время от времени в движение различные предметы, мебель, ведь, согласитесь, это сильно смахивает на спиритизм. И во времена Теодориха некий святой избавил один дом от нашествия душ усопших. Существуют только два града, град божественный и град Сатаны. И поскольку Бог вне подозрений, то следует признать, что оккультисты и спириты, хотят они того или нет, в какой-то степени служат дьяволу.
— Тем не менее у спиритизма есть свои заслуги, — заметил Гевэнгей. — Он переступил порог неизвестности, снял запреты. В области сверхъестественного он совершил революцию, равную по масштабам той, что произошла в земных условиях в 1789 году во Франции. Благодаря ему общение с потусторонним миром стало более демократичным занятием. Был открыт совершенно новый путь в неизвестное. Но спиритам всегда не хватало настоящих предводителей, у них не было никакой системы, они просто наугад тревожили добрых и злых духов. Чего только не намешано в спиритизме, какая-то болтанка из разных таинств, если можно так выразиться.
— Самое грустное состоит в том, — усмехнулся де Герми, — что практически ничего невозможно увидеть. Я знаю, что многие сеансы проходят успешно, но те, на которых я присутствовал, так ничем и не кончились.
— Это неудивительно, — астролог принялся намазывать на кусок хлеба кисловатый апельсиновый конфитюр, — ведь первая заповедь магии и спиритизма гласит, что в помещении не должно быть скептиков, так как своими флюидами они мешают ясновидцам и медиумам.
— А как же тогда убедиться в существовании этого феномена?
Карекс встал из-за стола.
— С вашего позволения я отлучусь на десять минут.
Он закутался в плащ, и вскоре его шаги затихли.
— Да, уже без четверти восемь, — пробормотал Дюрталь, взглянув на часы.
Некоторое время все молчали. После того как гости решительно отказались от дополнительной порции десерта, мадам Карекс сняла со стола скатерть и постелила клеенку. Астролог теребил свои кольца. Дюрталь скатывал шарики из хлебного мякиша, де Герми, привычно изогнувшись, доставал из кармана японский кисет.
Жена звонаря пожелала всем доброй ночи и ушла в свою комнату. Де Герми взялся за кофейник.
— Помочь тебе? — спросил Дюрталь.
— О, если ты возьмешь на себя труд достать рюмки и откупорить бутылочку ликера, буду тебе благодарен.
Дюрталь открыл дверцы буфета, и в этот момент стены задрожали от ударов в колокола, и комната наполнилась гулом.
— Если в этой комнате живут духи, то им приходится несладко, — сказал Дюрталь, расставляя рюмки.
— Колокольный звон разгоняет призраков и демонов, — наставительно произнес Гевэнгей, набивая трубку.
— Послушай, сюда нужно медленно сливать горячую воду, не займешься ли ты этим? — обратился де Герми к Дюрталю. — А я подброшу топлива в печь, здесь становится холодно, у меня уже мерзнут ноги.
Вернулся Карекс.
— Сегодня довольно сухая погода, и голос колокола звучал внушительно, — Карекс задул фонарь, стянул шапку и снял плащ.
— Ну как он тебе? — шепотом спросил де Герми Дюрталя, кивнув в сторону астролога, утонувшего в клубах табачного дыма.
— Когда он молчит, он похож на сову. А когда начинает говорить, становится слишком авторитарен.
— Один кусочек! — кивнул де Герми Карексу, который взял в руки сахарницу и вопросительно взглянул на него.
— Насколько мне известно, — обратился Гевэнгей к Дюрталю, — вы пишете историю жизни Жиля де Рэ?
— Да. Сейчас я вместе с этим человеком погружаюсь на самое дно сатанизма.
— И поэтому, — оживился де Герми, — нам бы хотелось кое о чем расспросить вас. Только вы в состоянии пролить свет на самую таинственную область сатанизма.
— Что вы имеете в виду?
— Я говорю о злых духах мужского и женского пола, являющихся по ночам.
Гевэнгей помолчал.
— О, это довольно опасный сюжет. Месье в курсе этой проблемы?
— Он знает только то, что по этому поводу существуют разные мнения. Например, дель Рио, Бодэн считают, что эти духи совокупляются по ночам с мужчинами и женщинами.
По их мнению, духи мужского пола похищают семя у спящих мужчин и потом используют его для оплодотворения. Возникают в связи с этим два вопроса. Первый: может ли родиться ребенок от этого духа? Ученые богословы пришли к выводу, что женщина может зачать от злого духа, и утверждают даже, что дети в этом случае рождаются более крупными, чем обычно, и они не насыщаются молоком и трех кормилиц. Второй вопрос состоит в том, кого считать отцом ребенка: демона, совокупившегося с женщиной, или того человека, чье семя он похитил. Существуют некоторые аргументы в пользу того, что настоящий отец — человек, а не дух.
— Синистрарий д’Амено полагал, — заметил Дюрталь, — что речь идет не о демонах, но о существах, занимающих промежуточную позицию между ангелами и демонами, однотипных с сатирами, фавнами и тому подобными языческими персоналками. Они схожи с домовыми, которых всячески ублажали в средние века. Синистрарий писал о том, что они вызывают поллюции у спящих мужчин и наделены большими способностями к воспроизводству.
— Да, об этом известно немного, — согласился Гевэнгей. — Даже Горр, уж на что знаток, изучивший досконально мистику и, в частности сатанизм, только бегло касается этих вопросов. А Церковь вообще молчит и весьма неприязненно относится к тем священникам, которые пытаются разобраться в этом.
— Прошу прощения, — вмешался Карекс, который всегда вставал на защиту Церкви. — Церковь достаточно однозначно высказалась по этому поводу. Об этих духах писали святой Августин, святой Фома, святой Бонавентура, Дени ле Шартрё, Папа Иннокентий VIII и многие другие. Этот вопрос давно разрешен. Католики верят в существование злых духов. Упоминания о них встречаются в житиях святых, если я ничего не путаю, в предании о святом Ипполите. Жак де Воражин рассказывал об одном священнике, которого по ночам искушала являвшаяся ему обнаженная женщина. Он запустил ей в голову епитрахилью и увидел перед собой распростертый труп женщины, которым воспользовался дьявол, чтобы соблазнить этого священника.
— Да, — глаза Гевэнгея блестели. — Церковь признает существование злых демонов. Но если вы разрешите мне договорить, то вам станет понятно, что мое замечание основывается не на пустом месте.
— Вы, месье, — обратился он к де Герми и Дюрталю, — ознакомились с тем, что написано в старинных книгах. Но за последние сто лет многое изменилось. Те факты, о которых я вам расскажу, хорошо известны папской курии, но большинство духовенства о них не знает, и ни в одной книге о них не упоминается.
В настоящее время сон людей чаще нарушают вызванные души усопших, чем демоны. Иначе говоря, раньше злые духи пытались совокупиться с людьми. Теперь же речь идет о чем-то более страшном. В призывании душ умерших наряду со служением дьяволу кроется опасность вампиризма. Церковь находится в нерешительности: хранить ли ей молчание или же признать, что души умерших можно вызвать. Но это признание таит в себе большую опасность, так как оно может способствовать вульгаризации этого процесса, уже и так сильно облегченного спиритизмом.
И Церковь предпочитает держать язык за зубами. Но в Риме не является тайной то, что подобные явления невероятно распространены в монастырях.
— Это доказывает, что их обитатели тяготятся своим одиночеством, — сказал де Герми.
— Это доказывает лишь то, что их души не окрепли и разучились молиться, — возразил Карекс.
— Как бы то ни было, месье, я хотел бы, чтобы у вас сложилась целостная картина. Всех людей, подвергнувшихся нападению злых духов, можно разделить на две группы.
Во-первых, это те, кто сам предался в руки демонов. Их не так уж много. Все они кончают самоубийством или же умирают насильственной смертью.
Во-вторых, это люди, на которых колдовством наслали злых духов. Таких очень много, особенно в монастырях, которые часто осаждаются сатанистами. Обычно жертвы сходят с ума. Психиатрические больницы забиты ими. Врачи и большинство священников не сомневаются в причинах их безумия, и в принципе это заболевание излечимо. Я знал одного чудотворца, который спас многих несчастных. Если бы не он, они бы вопили и корчились по-прежнему под бичами водных струй в душевых. Иногда прибегают к окуриванию, к заклятиям, заговорам, которые пишутся на девственном листе пергамента, троекратно благословленном, к амулетам — и все это помогает избавиться от болезни.
— Разрешите задать вам один вопрос, — прервал его де Герми. — Злой дух чаще является к спящей женщине или к бодрствующей?
— Если эта женщина добровольно решила отдаться нечистой силе, то она обычно бодрствует во время совокупления.
Если же она лишь жертва колдовства, то она грешит во сне или же на нее нападает ступор, лишающий ее возможности сопротивляться. Один из самых известных экзорсистов, доктор богословия Иоханнес, долгое время исследовавший эти явления, говорил мне, что ему приходилось спасать монахинь, которых духи не отпускали по два, три, даже четыре дня без перерыва.
— О, я знаю этого священника, — сказал де Герми.
— А сам акт отличается чем-нибудь от обычного? — поинтересовался Дюрталь.
— И да, и нет. Я несколько теряюсь перед обилием подробностей… — Гевэнгей немного покраснел. — Все то, о чем я могу вам поведать, более чем странно. Злой дух обладает половым органом, который раздваивается и может погружаться сразу в две полости, в два сосуда.
Иногда один отросток движется проторенным путем, а другой удлиняется и доходит до самого подбородка. Представьте себе это удвоенное воздействие! Как оно укорачивает жизнь!
— А вы уверены, что это действительно так?
— Абсолютно уверен.
— И у вас есть доказательства? — отважился спросить Дюрталь.
Гевэнгей помолчал, а потом сказал:
— Я уже столько поведал, что было бы глупо не высказаться до конца. Я не сумасшедший, и у меня не бывает галлюцинаций. Однажды я ночевал в комнате самого ярого сатаниста современности…
— Каноника Докра, — подсказал де Герми.
— Да. Я не спал. Явилась суккуба, злой дух в женском обличье. Она была соблазнительна и очень настойчива. К счастью, я вспомнил заклятие… В тот же день я побежал к доктору Иоханнесу, о котором я уже упоминал. Он сразу же и, надеюсь, навсегда освободил меня от злых чар.
— Боюсь показаться нескромным, но не могли бы вы рассказать, как выглядела эта суккуба.
— Как любая обнаженная женщина, — поколебавшись, ответил астролог.
«Было бы забавно, если бы он попросил у нее какой-нибудь подарок на память, например, ее перчатки», — Дюрталь прикусил губу.
— А знаете ли вы, чем теперь занят этот ужасный Докр? — спросил де Герми.
— Нет, слава Богу. Кажется, он сейчас где-то на Юге, в предместьях Нима, там раньше была его резиденция.
— И что же поделывает этот аббат? — полюбопытствовал Дюрталь.
— Что он поделывает! Он призывает дьявола, откармливает белых мышек содержимым своих жертвенников. У него настолько сильна страсть к кощунствам, что он приказал нанести на подошвы его ног татуировку, изображающую крест, чтобы иметь возможность постоянно попирать ногами Спасителя!
— Ну, — пробурчал Карекс, — если бы этот, так сказать, священник оказался бы в этой комнате, клянусь, я с уважением отнесся бы к его ногам и спустил бы его с лестницы вниз головой.
Его пышные усы топорщились, глаза сверкали.
— А черная месса? — продолжил разговор де Герми. — Он служит ее в присутствии каких-то подонков и недостойных женщин. Его обвиняют в том, что он обманом завладел чужими наследствами, что он замешан в таинственных смертях. К сожалению, не существует закона против святотатства. Да и как в юридическом порядке преследовать человека, который насылает болезни на расстоянии и медленно убивает свои жертвы, и никаких следов яда на вскрытии обнаружить нельзя?
— Да это современный Жиль де Рэ! — воскликнул Дюрталь.
— Но менее дикий, менее прямодушный и более извращенный и жестокий. Он никого не режет. Он ограничивается тем, что колдует, внушает людям мысль о самоубийстве — кажется, это самая сильная идея из тех, которые могут быть внушены человеку, — сказал де Герми.
— А может ли он заставить свою жертву понемногу пить ядовитые составы, которые приводят к разрушению организма, к болезни? — спросил Дюрталь.
— Конечно. Современные врачи, которые вечно ломятся в открытую дверь, признают, что такие случаи возможны. Опыты Бони, Льежуа, Льебо и Бернхайма показали: можно заставить человека убить любого другого, и при этом он не сможет объяснить, как родилась мысль о преступлении.
— А я сейчас думаю об инквизиции, — рассеянно сказал Карекс. Дискуссию о гипнозе он слушал вполуха. — Она одна могла бы покарать этого падшего священника.
— Тем более, — с кривой ухмылкой откликнулся де Герми, — что инквизиторы не были такими жестокими, как их обычно изображают. Да, добрейший Бодэн советует загонять под ногти колдунов длинные иглы, чтобы они имели представление об адских муках, он также восхвалял костер как самую изысканную смертную казнь. Но все это единственно для того, чтобы отвратить колдунов от их недостойной жизни, спасти их души. Дель Рио предупреждает о том, что нельзя допрашивать сатанистов сразу после того, как им дали поесть, потому что их может вырвать. Он заботился об их желудках, этот славный человек. И кажется, это он же запрещал подвергать колдунов пыткам по два раза в день, так как считал, что страх и боль должны успокоиться. Согласитесь, он был не таким уж злым, этот иезуит!
— Докр, — продолжил Гевэнгей, не обращая никакого внимания на слова де Герми, — единственный, кому удалось найти ключи ко многим секретам прошлого и добиться некоторых результатов на практике. Уж поверьте, он не то, что те ловкачи и мошенники, о которых мы говорили. Впрочем, они неплохо знают этого ужасного каноника, потому что на многих из них он наслал глазные заболевания, не поддающиеся лечению. И они содрогаются, когда слышат это имя!
— Но как он стал таким?
— Не знаю. Но если вы хотите получить более подробные сведения о нем, — сказал Гевэнгей, повернувшись к де Герми, — обратитесь к вашему другу Шантелуву.
— К Шантелуву! — вскричал Дюрталь.
— Да, он часто навещал его с женой, но надеюсь, что у них хватило благоразумия порвать отношения с этим чудовищем.
Но Дюрталь уже не слушал его. Мадам Шантелув знакома с каноником Докром! Неужели она сатанистка? Но она не похожа на одержимую! Нет, этот астролог явно тронутый! Она! Мадам Шантелув промелькнула перед ним, и он подумал, что завтра она наверняка сдастся.
А! Ее глаза напоминают тяжелые темные тучи, которые вот-вот прорежут молнии.
Она снова завладела его воображением. «Если бы я вас не любила, разве я пришла бы сюда?» — послышался ему ее ласковый голос, и он представил себе ее лицо, насмешливое и трогательное.
— Да ты совсем погрузился в мечты! — де Герми похлопал его по плечу. — Уже десять, мы уходим.
Выйдя на улицу, они обменялись рукопожатиями с Гевэнгеем, который жил на другом берегу реки, и двинулись в противоположную сторону.
— Как мой астролог? Тебе было интересно с ним побеседовать? — спросил де Герми.
— Он немного двинутый, тебе не кажется?
— Двинутый! И что ж с того?
— Но все эти истории малоправдоподобны.
— О, в этой жизни все малоправдоподобно, — благодушно заметил де Герми, поднимая воротник своего пальто.
— Признаюсь, — заговорил он снова, — Гевэнгей удивил меня своим признанием, что его навестила суккуба. Он, может быть, тщеславен и самоуверен, но в искренности его веры трудно усомниться. Я знаю, что в парижском приюте для душевнобольных, в Сальпетриере, никого не удивишь подобным рассказом. Женщины, подверженные истерическим припадкам, среди бела дня видят призраков, входят в сношение с ними, засыпают в объятиях этих странных существ, удивительно напоминающих бесплотных инкуб. Но Гевэнгей не истеричная женщина!
Но можно ли верить всему этому? Или нужно искать доказательств? Материалисты и не пытались разобраться в магии. Они увидели в одержимости урсулинок из Лудена, монахинь из Пуатье, даже в истории чудесного исцеления Сен-Медара лишь симптомы тяжелой истерии, подверженности судорожным припадкам, мышечной расслабленности, летаргии.
И что это объясняет? Что одержимость связана с эпилепсией? Конечно же, это так. Выводы доктора Рише звучат вполне убедительно, но что это меняет? Если многие пациентки Сальпетриера всего-навсего банальные истерички, то из этого совсем не следует, что в других случаях мы тоже не имеем дела с одержимостью. Было бы неправильным полагать, что все одержимые по натуре истеричны, среди них встречаются вполне уравновешенные женщины, обладающие трезвым рассудком, даже не подозревающие о своей бесноватости.
Но даже если не принимать во внимание этих соображений, все равно повисает в воздухе все тот же вопрос: они одержимы из-за того, что истеричны, или же истеричны, потому что одержимы? Ответить на этот вопрос наука не может. Тут слово за Церковью.
Нет, если вдуматься, апломб позитивистов просто выводит из себя! Они заявляют, что сатанизма не существует, все списывают на нервические припадки и даже не удосуживаются задуматься над сутью и причинами этого зла. Да, наверное, Шарко прекрасно разбирается в фазах припадков, фиксирует все нелогичное и болезненное в поведении, нарушения движений, он открыл зоны, ответственные за истерию, может, воздействуя на них, затормозить или спровоцировать приступ. Но это совсем не то, что исследовать истинные причины и мотивы странностей в поведении и способствовать полному излечению. Эта болезнь по-прежнему не разгадана, существует огромное количество гипотез, но ни одна из них не может претендовать на истину в последней инстанции. Здесь замешана душа, она конфликтует с телом, приводит в расстройство нервную систему.
Все это, старина, напоминает пузырек с чернилами: тайна скрывается где-то на дне и артачится, когда ее пытаются выловить из глубины.
— Да ладно, — Дюрталь остановился перед своим домом, — раз уж любое объяснение приемлемо и все они ложны, то пусть будут инкубы и суккубы. Это по крайней мере более-менее понятно и овеяно литературной традицией.
X
Время тянулось невыносимо медленно. Мысль о мадам Шантелув заставила Дюрталя пробудиться очень рано, и весь день он не находил себе места и придумывал дела, которые потребовали бы длительной отлучки из дома. Он решил, что совершенно не готов к встрече: в доме не было ни напитков, ни пирожных, ни конфет. Кружным путем он не спеша дошел до улицы де л’Опера, где купил изысканные цитрусовые сласти и алкермес. Этот ликер своим вкусом навевал воспоминания о восточных кондитерских. «Речь идет не о том, чтобы на славу угостить Гиацинту, — рассуждал он, — а о том, чтобы удивить ее экзотическим лакомством».
Он вернулся домой, нагруженный покупками, но не смог усидеть дома и снова вышел на улицу. На него внезапно навалилась тоска.
Он долго бродил по набережным и в конце концов заглянул в пивную. Рухнув на табурет, он развернул газету.
Он бессмысленно смотрел на перечень самых разнообразных фактов. О чем он думал? Ни о чем. Его разум, устав топтаться на одном месте, замер на мертвой точке. Дюрталь чувствовал себя разбитым, его тело затекло, ему казалось, что он после тяжелого ночного путешествия погрузился в теплую ванну.
«Я должен вернуться засветло, — подумал он, очнувшись, — папаша Рато наверняка не убрался как следует, несмотря на то что я настоятельно просил его об этом. Нужно проверить, нет ли пыли на мебели. Уже шесть. Где бы мне перекусить?»
Он припомнил, что неподалеку есть ресторанчик, в котором он однажды обедал. Там он нехотя съел немного рыбы, выловил кусок холодного мяса из соуса, в котором брюхом вверх плавала чечевица, попробовал чернослив, водянистый, отдающий плесенью.
Придя домой, он позаботился о том, чтобы в спальне и кабинете горел камин, и придирчиво осмотрел комнаты.
Да, так и есть, консьерж с обычным пылом расправился с квартирой Дюрталя, не затратив на уборку много времени. Впрочем, он, видимо, предпринял попытку протереть стекла картин, так как на них отпечатались его пальцы.
Дюрталь влажной тряпкой стер жирные следы, расправил ковер, который сбился и стал напоминать по конфигурации органные трубы, задернул занавески, расставил безделушки и щеткой смахнул с них пыль. Взгляд его то и дело натыкался на раздавленный пепел от сигарет, крошки табака, мусор, оставшийся после точки карандашей, сломанные заржавевшие перья. Он обнаружил также комья кошачьей шерсти, разорванные черновики, клочки бумаги, загнанные метлой в разные углы комнаты.
Он спрашивал себя, как мог он так долго выносить эту мебель, потемневшую от грязи, втертой в ее поверхность. Сражаясь с беспорядком, он закипал ненавистью к папаше Рато. «Господи, еще и это!» — воскликнул он, заметив, что свечи успели пожелтеть. Он достал новые и вставил их в подсвечники. «Так-то лучше!» Он попытался придать видимость порядка царившему в кабинете хаосу, сложил в стопку блокноты, книги с торчащими из них разрезными ножами, положил на стул раскрытую старинную книгу инфолио. «Деталь, свидетельствующая о том, что я работаю», — усмехнулся он. Потом он перешел в спальню, протер влажной губкой мрамор комода, поправил покрывало на постели, уделил внимание фотографиям и гравюрам, которые, по его мнению, висели криво. После этого он заглянул в ванную комнату. И тут мужество покинуло его. Над умывальником нависали полки из бамбука, и все они были завалены разными склянками и пузырьками. Он решительно взялся за флаконы с духами, отмыл их, очистил стеклянные пробки, долго тер ярлычки ластиком и мякишем хлеба, затем мыльной пеной ополоснул таз, протер гребенки и щетки нашатырным спиртом, опрыскал ванную комнату жидкостью с запахом персидской сирени, освежил клеенку, прикрывавшую пол и стены, отдраил биде, спинку и ручки низенького стульчика. Изголодавшись по чистоте, он вошел во вкус, выбрасывал все лишнее, ненужное, изливал потоки воды, размахивал тряпками. Он больше не сердился на консьержа, он даже был разочарован тем, что ему перепало не так уж много предметов, требующих обновления.
Потом он побрился, смазал бриллиантином усы, тщательно вымылся. Одеваясь, он ломал голову над тем, надеть ли ему ботинки или остаться в домашних тапочках. В конце концов он решил, что ботинки смотрятся нейтральнее и более подходят к ситуации. Он придал своему костюму некоторую небрежность, не затянув до конца узел галстука поверх рубашки, подумав, что именно таким должна представлять себе эта женщина литератора.
«Ну вот». Он в последний раз провел щеткой по волосам. Он еще раз обошел комнаты, помешал угли в камине, накормил кота, который в растерянности бродил по квартире, принюхиваясь к преобразившимся предметам, принимая их, по всей видимости, за новые, не те, к которым он давно привык.
Но он совсем забыл об угощении! Дюрталь поставил рядом с камином чайник, разместил на старинном подносе чашки, сахарницу, пирожные, конфеты, а рюмки пододвинул к краю, чтобы они оказались под рукой, когда он сочтет, что настало время ими воспользоваться.
Теперь все было готово. «Кажется, я справился со всеми колтунами и вшами, она может уже приходить, — с удовлетворением подумал он, поправляя книги на полках. — Все в порядке… но моя лампа! На уровне фитиля красно-коричневые пятна, черные подтеки… Но тут уж я бессилен, и, кроме того, у меня нет никакого желания получить ожоги. Пожалуй, если я опущу немного абажур, это будет не так заметно.
Ну, так как мне себя вести, когда она придет? — спросил он себя, устраиваясь в кресле. — Итак, она появляется, я целую ей руки, затем провожу ее сюда, в эту комнату. Я усаживаю ее поближе к огню, в это кресло, а сам занимаю место напротив нее. Я пододвигаю стул к ней, касаюсь ее колен, завладеваю ее руками. Теперь уже совсем просто заставить ее наклониться ко мне. Я целую ее в губы — и победа за мной!
Но это только прелюдия. Дальше начинается самое сложное. Не представляю, как я заманю ее в спальню. Раздевание, постель… одно дело, когда люди уже хорошо знакомы… В первый раз это выглядит крайне уродливо и приземленно. Перед этим хорошо бы поужинать наедине, выпить немного вина, которое ударяет в голову. Женщина должна чувствовать легкое опьянение, быть словно в забытьи и очнуться уже в постели, под градом недозволенных поцелуев, в темноте. Но сегодня ужина не будет, поэтому нам будет трудно избежать замешательства. Нужно компенсировать неприглядность этого акта страстью, душевной бурей. Значит, я должен овладеть ею прямо здесь. Она решит, что я потерял голову, и уступит.
Конечно, комната для этого не приспособлена. Здесь нет ни канапе, ни дивана. Мне придется опрокинуть ее прямо на ковер. Она, наверное, прикроет лицо руками, как это делают все женщины, а я постараюсь раньше, чем она попытается подняться, погасить лампу.
Ну ладно. Все-таки я приготовлю подушечку, чтобы подложить ее ей под голову». Он принес подушку и засунул ее под кресло. «А что, если я немного ослаблю подтяжки? С ними всегда возня…» Подумав, он совсем отстегнул их и затянул потуже ремень, чтобы не сваливались брюки. «Да, но эти проклятые юбки! Я всегда восхищаюсь тем, как это романистам удается в мгновение ока лишать девственности своих героинь, затянутых в корсеты, в бастионах платьев! Это так утомительно — сражаться со всеми этими финтифлюшками, путаться в складках накрахмаленного белья! Мне останется только надеяться, что мадам Шантелув в своих же собственных интересах, предвидя развязку, позаботится о том, чтобы избавить меня от смешных затруднений».
Он взглянул на часы: половина девятого. «Она вряд ли придет раньше чем через час, женщины всегда опаздывают. Что она наплела Шантелуву, чтобы уйти из дома в эти вечерние часы? Впрочем, это меня не касается. Гм! Этот чайник у камина выглядит как приглашение к омовению. Нет, пожалуй, слишком грубая идея. Просто чай — и рядом кипяток для заварки.
А если Гиацинта не придет? — он заволновался. — Нет, она должна прийти! Какой ей смысл уклоняться от встречи? Она прекрасно знает, что второй раз я не попадусь на крючок!» Его мысли перескакивали с одного на другое, но не выходили из привычного круга. «Наверное, все кончится полной катастрофой. Сразу за утолением жажды нас ждет разочарование. Ну что ж, тем лучше. Я снова обрету свободу! А то со всеми этими переживаниями я совсем перестал работать!
Ну и ну! Я опять — увы! только душой — двадцатилетний юнец. И это я жду женщину! Я, который многие годы жил, презирая влюбленных, не думая о любовницах! И это я каждую минуту смотрю на часы, невольно прислушиваюсь, не застучат ли ее каблучки на лестнице!
Да уж, нечего сказать! Этот пырей, голубой цветок, прорастающий в душе, невозможно выкорчевать. Так пусть он цветет! Двадцать лет тишины и покоя — и вдруг, ни с того ни с сего, он наливается силой и разрастается новыми и новыми побегами. Боже, какая глупость с моей стороны!»
Он вздрогнул от едва слышного звонка. «Еще нет девяти, это не она», — думал он, идя к двери.
Но это была она.
Он сжал ее руки и поблагодарил за точность.
У нее был несчастный вид.
— Я пришла, потому что знала, что вы будете ждать…
Он забеспокоился.
— У меня ужасная головная боль, — она провела рукой в перчатке по лбу.
Он помог снять ей меховое пальто и, проведя в комнату, указал на кресло. Он уже собирался устроиться напротив нее на стуле, как он и задумал, но она отказалась от кресла и выбрала место далеко от камина, у стола.
Он подошел к ней, наклонился и взял ее руки в свои.
— Какие у вас горячие руки! — проговорила она.
— Да, небольшая лихорадка. Я перестал спать по ночам. Если бы вы знали, как много я думаю о вас! Но вот вы здесь, со мной… — и он заговорил о том, что его преследует запах корицы и еще чего-то, менее различимого, который источают ее перчатки. — Вот этот, — он вдохнул аромат ее пальцев, — когда вы уйдете, это благоухание останется со мной.
Она вздохнула и встала.
— О, у вас есть кот. Как его зовут?
— Муш.
Она позвала кота. Но тот поспешно скрылся.
— Муш! Муш! — воззвал к нему Дюрталь.
Но кот забился под кровать и не показывался.
— Он немного дикий… и он никогда не видел женщин.
— Вы хотите, чтобы я поверила в то, что ни одна женщина не приходила сюда до меня?
Он заверил ее, что все именно так, как она сказала. Она — первая.
— Но, признайтесь, вы не очень-то расстраивались из-за отсутствия посетительниц?
Он покраснел.
— Почему вы так решили?
Она пожала плечами.
— Меня так и тянет вас подразнить, — призналась она, снова усаживаясь, на этот раз в кресло. — Иначе я не знаю, чем объяснить то, что я позволяю себе задавать вам такие нескромные вопросы.
Он сел вблизи от нее. Наконец-то он добился задуманной им мизансцены. Он решил предпринять атаку.
Их колени соприкасались.
— Вы просто не можете быть нескромной. Отныне вы обладаете всеми правами…
— Да нет, никакими особыми правами я не обладаю, да и не стремлюсь к этому.
— Но почему?
— Потому что… Послушайте, — в ее голосе появились сила и уверенность, — чем больше я думаю обо всем, тем отчетливее я понимаю, что мы не должны губить нашу мечту. Прошу вас! И потом… хотите, я буду откровенна, откровенна до такой степени, что наверняка покажусь вам монстром эгоизма… так вот, мне лично не хотелось бы расстаться с тем ощущением счастья, которое дает мне наша связь, оно настолько… как бы это сказать… полное, настолько самодостаточное… Я, наверное, очень неясно выражаюсь, не знаю, понимаете ли вы меня… Я привыкла к тому, что вы принадлежите мне в любое время, так же как долгое время мне принадлежали Байрон, Бодлер, Жерар де Нерваль, все те, кого я любила…
— То есть?
— Я хочу сказать, что мне стоит всего лишь подумать о вас, засыпая…
— И?
— И вы превращаетесь в моего Дюрталя, того, которого я обожаю и чьи ласки сводят меня с ума по ночам.
Он в изумлении смотрел на нее. Ее взгляд стал рассеянным, казалось, она его не замечает и говорит в пустоту. Внезапно в его сознании всплыли слова Гевэнгея об инкубах. «Ладно, с этим разберемся позже», — в замешательстве подумал он. А пока… Он легонько притянул ее за руку к себе, наклонился и поцеловал ее в губы.
Она вздрогнула, словно от удара электрического тока, и вскочила. Он обнял ее и страстно впился в ее губы. Она издала какой-то горловой звук и с тихим стоном запрокинула голову, прижимаясь к нему.
Он почувствовал, что теряет контроль над собой. Он вдруг понял, что она оберегала свое вожделение, как сквалыга, что она пред почитала молчаливое одинокое наслаждение.
Он оттолкнул ее. Бледная, задыхающаяся, она продолжала стоять, вытянув руки вперед, словно напуганный ребенок. Вся ярость Дюрталя улетучилась, он снова обнял ее, но она вырвалась.
— Нет, умоляю вас, пустите! — кричала она.
Он еще крепче прижал ее к себе.
— О! Прошу вас, позвольте мне уйти!
В ее голосе прозвучала такая безнадежность, что он отпустил ее. Позже он спрашивал себя, не лучше ли было тогда грубо повалить ее на ковер и прибегнуть к силе. Но он испугался безумия, таившегося в ее глазах.
Ее руки безвольно упали, побелев, она оперлась на книжные полки.
— А! — он принялся расхаживать по комнате, ударяя ребром ладони по мебели, — я, должно быть, действительно люблю вас, если, несмотря на ваши мольбы, несмотря на то, что вы отталкиваете меня…
Она подняла руки, как бы защищаясь от него.
— Господи, — он окончательно вышел из себя, — да из какого непробиваемого состава вы сделаны?
Словно очнувшись, она поежилась и сказала:
— Месье, я так страдаю, избавьте меня от всего этого.
Перескакивая с одного на другое, она стала говорить о муже, о своем духовнике, речь ее была бессвязной, и ему было не по себе. Она замолчала и через некоторое время спросила напевным тягучим голосом:
— Ведь вы придете завтра вечером ко мне?
— Но и я страдаю не меньше, чем вы.
Ее глаза подернулись дымкой, где-то в глубине мерцали слабые огоньки. Казалось, она его не слышит. Едва различимо она пропела:
— Скажите же, мой друг, ведь вы придете, правда?
— Да, — решился он наконец.
Она привела в порядок свое платье и, ни слова не говоря, вышла из комнаты. Он молча проводил ее до двери. На пороге она обернулась, взяла его руку и коснулась ее губами.
Некоторое время он в полном недоумении стоял в прихожей, затем вернулся в комнату. «Что все это значит?» — силился понять он. Расставив все по обычным местам, он пнул ногой ковер. «Да, попробую навести порядок в своих мыслях. Итак. Чего она хочет? У нее есть какая-то цель. Она не дает мне перейти границу. Действительно ли она боится разочарования? Понимает ли она, насколько смешны все эти любовные прыжки и ужимки? Или я был прав, решив, что она просто кокетка, думающая только о себе? Это уж верх эгоизма, один из тех запутанных грехов, разобраться в которых могут лишь духовники. И в этом случае она — лукавая соблазнительница!
Теперь сюда же еще вклинивается этот вопрос об инкубах. Она совершенно безмятежно призналась, что во сне совокупляется с теми, кого сама выбирает, живыми и мертвыми. А может быть, она и вправду сатанистка и на этот путь ее толкнул каноник Докр, которого она хорошо знала?
Голова пухнет от всех этих вопросов, на которые я не в состоянии ответить. И еще это ее неожиданное приглашение… Может быть, она уступит, когда мы встретимся у нее? Она, возможно, чувствует себя дома более раскованно. Или же ей доставит особое наслаждение то, что она согрешит под боком у мужа? Испытывает ли она ненависть к мужу? Что это, продуманная месть или же способ пощекотать себе нервы, подстегнуть свою чувствительность атмосферой страха?
А может, и это всего лишь кокетство, род предобеденного аперитива, бессовестный обман? Но женщины так непредсказуемы! Что, если она прибегла к этой уловке, тянет время только для того, чтобы подчеркнуть свое отличие от других особ женского пола? Возможно, на то есть и физиологические причины, чисто объективная необходимость переждать день-другой».
Тут его фантазия иссякла, и он не смог отыскать иных причин ее поведения.
Поражение, которое он потерпел, задело его самолюбие.
«Я полный идиот, — думал он. — Нужно было действовать, презирая ее мольбы и хитрости, впиться ей в губы, обнажить ее грудь. Все было бы уже позади! А теперь придется начинать сначала, а у меня и так, черт подери, хватает забот!
Кто знает, может, она сейчас смеется надо мной? И я представлялся ей более смелым, более решительным? Да нет, вряд ли. Ее надломленный голос, потерянный взгляд… это не было притворством. А этот поцелуй, благодарно-почтительный, скользнувший по руке!
Голова идет кругом. Со всеми этими перипетиями я совсем забыл о ликере и чае. Уф! Теперь я могу снять ботинки, ноги гудят. Немудрено, столько отшагать из угла в угол!
Правильнее всего будет спать, все равно я не в состоянии ни работать, ни читать».
Он откинул покрывало. «Да, всегда все происходит не так, как это мыслится заранее. А замысел был не так уж плох». Он лег, вздохнув, потушил лампу. Кот, окончательно успокоившись, легкой, словно дыхание, походкой проскользнул мимо него и бесшумно улегся на свое место.
XI
Вопреки своим опасениям он крепко спал всю ночь и, проснувшись, почувствовал себя свежим и бодрым, повеселевшим и спокойным.
Казалось бы, сцена, происшедшая накануне, должна была обострить его чувство, но этого не случилось. Дюрталь был не из тех, кому нравится преодолевать препятствия. Он делал только одну попытку прорваться сквозь них и, если это оказывалось ему не по силам, отступал, не испытывая ни малейшего желания возобновить борьбу. Мадам Шантелув ошиблась, если считала, что, лавируя, придерживая его, она зацепит Дюрталя сильнее. Новизна ситуации уже притупилась для него, он устал ждать, и ее жеманство наводило на него скуку.
К его размышлениям стала примешиваться толика досады. Он был раздражен тем, что эта женщина водит его за нос, и тем, что он сам позволяет себя дурачить. Ему вспомнились ее отдельные довольно бесцеремонные фразы, колкости, которые он в свое время пропустил мимо ушей. Так, желая объяснить свой нервический смех, мадам Шантелув небрежно бросила: «Со мной это часто случается в омнибусах». И еще ее утверждение, что, для того чтобы обладать им, она не нуждается ни в нем самом, ни в его согласии. Ему казалось по меньшей мере непристойным, что она заявила это прямо в лицо человеку, который уж никак не преследовал ее и не завлекал щедрыми авансами.
«Ну ничего, придет время, я поставлю тебя на место».
Навязчивый образ этой женщины отступил, и к нему вернулась трезвость рассудка.
Он подвел итог: «Еще два свидания, не больше. Одно сегодня вечером, у нее. Это пустая трата времени, так как я не собираюсь ни штурмовать крепость, ни подвергаться осаде. Еще не хватало, чтобы Шантелув застал меня на месте преступления. Нет, ни полиция нравов, ни револьвер меня не прельщают. Так что, в сущности, это свидание не в счет. Еще одно, последнее, должно произойти здесь же. Если она так и не уступит, что ж, ее дело. Пусть соблазняет кого-нибудь еще!»
Он с аппетитом позавтракал, сел за письменный стол и разложил разрозненные материалы к своей книге.
Я остановился на том, — вспомнил он, просматривая последнюю написанную им главу, — что его алхимические опыты ни к чему не привели, и Дьявол так и не пришел ему на помощь. Прелати, Бланше, колдуны, все те, кто собрался вокруг маршала, твердили, что, для того чтобы привлечь внимание Сатаны, нужно пообещать ему свою душу и даже жизнь или же встать на путь кровавых преступлений.
Жиль отказывался продавать свою жизнь и уступить душу Дьяволу, но мысль об убийствах не внушала ему ужаса. Этот человек, отважно сражавшийся с англичанами, бесстрашно сопровождавший повсюду Жанну д’Арк и защищавший ее, дрожал перед Сатаной и испытывал испуг, стоило ему подумать о Христе и о вечной жизни. Он боялся, что его сообщники проболтаются о том, что происходит в замке, и заставил их поклясться на Святом Евангелии, что они не выдадут тайны. А в средние века даже самые дерзкие преступники не отваживались нарушить клятву, данную Богу.
Заброшенные печи остывали, опыты не возобновлялись, и в это время Жиль предавался кутежам. Он пил, ел, и вскоре внутреннее пламя опалило его.
В замке не было женщин. Кажется, в этот период жизни в Тиффоге Жиль презирал занятия сексом. После того, как он долгое время вращался в обществе распутниц и вместе с Ксентрайлем, Ла Иром и им подобными, посещал придворных проституток, которых держал при себе Карл VII, Жиль стал испытывать отвращение к женщинам. Как и многие другие, он пресытился женскими прелестями, и часто его мутило при виде нежной кожи. Он ненавидел запах, исходящий от женщины, что, впрочем, было свойственно всем содомитам.
Он развращал мальчиков-певчих, которых сам отбирал для церковного хора, «красивых, как ангелы». Только их он и любил, только их и щадил, когда превращался в кровавого убийцу.
Но вскоре его душе наскучила пресная пища детских поллюций. Закон сатанизма требовал, чтобы избранник Зла прошел всю лестницу греховности, ступенька за ступенькой, спускался все ниже и ниже по спирали в бездну. Душа Жиля должна была сгнить, чтобы в ее нарывающей оболочке, чудесной дароносительнице, поселился ад.
Повеяло духом скотобоен, непристойные молебны поднимались к небесам. Первой жертвой Жиля стал совсем маленький мальчик, имя которого не сохранилось в источниках. Жиль зарезал его, отрубил ему руки, вырвал сердце, глаза и отнес все эти части в комнату Прелати. Это был дар Сатане, и оба усердно взывали к нему. Но дьявол хранил молчание. Не выдержав, Жиль сбежал. Прелати завернул останки в простыню и ночью, дрожа от страха, зарыл их в святую землю рядом с часовней святого Винсента.
Жиль собрал кровь этого ребенка и переписывал ею формулы призывания дьявола и колдовские книги. Эта кровь оросила семена греховности, которые проросли бурными побегами. Уже скоро де Рэ мог складывать в амбары обильный урожай преступлений.
С 1432 по 1440 год, то есть в течение восьми лет, протекших с того момента, когда Жиль получил отставку, до его смерти, жители Анжу, Пуату, Бретани оглашали окрестности плачем. Дети бесследно исчезали, пастухи уходили в поля и не возвращались, девочки пропадали на пути из школы домой, и сколько мальчиков, беззаботно игравших в мяч на улице или резвившихся на опушках, сгинуло в неизвестности!
Герцог Бретани приказал начать следствие, и писари, состоявшие при Жане Тушеронде, уполномоченном по уголовным вопросам, вели бесконечный список детей, которых оплакивали родные.
Сын женщины по имени Перонь, «посещавший школу и выказавший отличные способности», пропал в Рошебернаре.
Сын Гийома Брис, «нищий, живший подаяниями», пропал в Сент-Этьен-де-Монтлюке.
Сын Жеорже де Барбье, «которого в последний раз видели за постоялым двором Рондо, где он собирал яблоки», пропал в Машекуле.
Сын Мателин Туар, «ребенок лет двенадцати», пропал в Тонайе, «и люди слышали, как он плакал и звал на помощь».
В Машекуле же муж и жена Сержан на Троицын день оставили своего восьмилетнего ребенка дома одного и, вернувшись с поля, «не нашли упомянутого выше отрока восьми лет, чему удивились и впали в великую печаль».
Пьер Бадье, торговец из Шантелу, заявил, что примерно год назад он видел во владениях де Рэ двух девятилетних детей, сыновей Робэна Паво. «Никто больше их не встречал, и их судьба неизвестна».
Жанна Дарель показала в Нанте, что она в праздничный день была в городе со своим сыном по имени Оливер, мальчиком семи лет, «и с того дня больше не видела его и ничего о нем не слышала».
Следствие разрасталось, в списках были уже сотни имен, от исписанных страниц дела исходит боль матерей, расспрашивавших прохожих на улицах о своих детях, вопль семей, у которых были похищены чада в то время, как взрослые возделывали поля и сеяли коноплю. После каждого абзаца повторяются одни и те же тоскливые фразы, словно навязчивый припев: «они в страшном горе», «в доме слышатся плач и многие сетования». Повсюду, где появлялся Жиль, стенали женщины.
Поначалу напуганные люди поговаривали, что, видимо, злые феи воруют детей, но постепенно в души начали закрадываться страшные подозрения. Стоило Жилю подняться с места и отправиться из Тиффога в замок Шантосе, а оттуда в небольшую крепость де ля Суз или в Нант, как за ним тянулся шлейф родительских слез. На следующий день после того, как он проезжал ту или иную деревню, обнаруживались пропажи детей. Крестьяне заметили, что маленькие мальчики исчезают и после краткого пребывания в тех или других местах приближенных Жиля — Прелати, Роже де Брикевиля, Жиля де Сийе. Наконец они с ужасом обнаружили, что некая старуха, Перрин Мартэн, бродит по дорогам, одетая в серое платье, прикрыв, как и Жиль де Сийе, лицо черной кисеей, подманивая к себе детей, она ласково заговаривает с ними, приподнимает вуаль, и ее добродушная внешность внушает им доверие. Они охотно идут за ней, она заводит их в лес, где они попадают в лапы здоровенных мужчин, которые связывают их и уносят куда-то в мешках. Люди прозвали эту ведьму, поставляющую детей для кровавых обрядов, Гарпией.
Посланники Жиля охотились за детьми по деревням и городам под предводительством главного ловчего, де Брикевиля. Жиль не всегда был ими доволен. Иногда он усаживался у окна замка и, завидев юношу, который надеялся получить милостыню, прослышав о щедрости владельца этих мест, гипнотизировал его, заманивал внутрь, и, если его внешность будила в нем злобные инстинкты, нищего бросали на дно каменного мешка, где он и находился до тех пор, пока, почуяв голод, маршал не требовал человечины.
Скольких детей он зарезал, изнасиловав их перед этим? Даже он этого не знал, потеряв счет своим злодеяниям и убийствам. Источники называют от семисот до восьмисот имен жертв. Но эти цифры неточны, они учитывают далеко не все преступления. Опустошительным набегам подвергались целые области, в деревнях вокруг Тиффога не осталось ни одного юноши, около ля Сузы все семьи лишились сыновей, в Шантосе подвал одной из башен был забит трупами. Один из свидетелей, показания которого приведены в деле, Гийом Гилере, заявил, что «некто по имени Дю Жарден, по слухам, обнаружил в замке огромную бочку, заполненную телами убитых детей».
И до сих пор находят следы злодеяний. Два года назад один врач набрел на тайник, заваленный черепами и костями.
Жиль признался в том, что приносил человеческие жертвы, а его друзья поведали о чудовищных подробностях ритуалов.
В сумерки Жиль и его ближайшее окружение, отяжелев от сочного мяса крупной дичи, переходили к возбуждающим пряным напиткам, а затем укрывались в одной из отдаленных комнат замка. Из подвала туда приводили мальчиков. Их раздевали, затыкали рот кляпом. Жиль ощупывал их, осматривал, удовлетворял свою похоть, а потом наносил удары кинжалом, расчленяя тела на части.
Иногда он вскрывал живот, принюхивался к внутренностям, руками расширял рану и садился в нее. Купаясь в теплой кашице, он поглядывал через плечо, стараясь не пропустить последний спазм своей жертвы. Он заявил позже, что «ничто не доставляло такой радости, как человеческие муки, слезы, страх и кровь».
Но и эти забавы ему наскучили. В еще не опубликованной части дела де Рэ говорится о том, что «вышеупомянутый сир тешил себя маленькими мальчиками, а иногда и девочками, которых при сношении клал на живот, так как, по его словам, в этом случае ему было проще достигнуть желаемого и он испытывал большее удовольствие». Затем он медленно перерезал им горло. Трупы, одежду, белье бросали в костер из сухих веток и трав, пепел частично ссыпали в отхожие места, частично развеивали по ветру с высокой башни, а частично выбрасывали в канавы и рвы, заполненные водой.
Постепенно приступы зверства приобрели еще более мрачный оттенок. Первоначально он вымещал скапливающуюся в нем злую энергию на живых или же умирающих людях, но ему надоело усмирять бьющихся в конвульсиях тела, и он обратил свой взор на мертвых.
Со всей страстью своей натуры он, издавая восторженные крики, целовал тела своих жертв, учредил конкурс на звание самого красивого мертвеца. Он придирчиво разглядывал отрезанные головы и, отобрав ту, которая, по его мнению, могла быть достойна приза, поднимал ее за волосы и приникал к холодным губам.
В течение нескольких месяцев он находил удовольствие в вампиризме. Он осквернял тела мертвых детей, остужал свою горячку холодом залитых кровью могил, а однажды, когда его подвалы опустели, взрезал живот беременной женщине и воспользовался извлеченным из ее утробы зародышем. После каждого приступа он чувствовал себя совершенно обессиленным и впадал в тяжелый сон, в кому, состояние, напоминающее летаргию, которая наваливалась на сержанта Бертрана, совершавшего налеты на места погребений. Возможно, этот беспробудный сон — одна из фаз вампиризма, который изучен очень плохо. Но даже если признать, что Жиль де Рэ — ошибка природы, виртуоз во всем, что касается страданий и насильственной смерти, превосходящий самых знаменитых преступников, самых фанатичных садистов, все равно человеческий разум не в силах понять замыслы Жиля, настолько они бывали жутки.
Переходя от одного злодеяния к другому, он быстро пресыщался ими. И тогда он изобрел редкостную приправу к ним. Ему стало мало одной холодной жестокости дикого зверя, играющего со своей жертвой. Он захотел, чтобы его добычей было не только тело, но и душа его пленников, чтобы ребенок страдал не только от физической, но и от душевной боли. Он манипулировал человеческой благодарностью, привязанностью, любовью. Он легко и быстро освоил все пороки, в которых может отличиться человек, и уверенно шагнул в бездонный мрак Зла.
Вот что он придумал.
Несчастного ребенка приводили в комнату, и Брикевиль, Прелати, Сийе подвешивали его на крюк, вбитый в стену. Когда он уже терял сознание, Жиль приказывал опустить его на землю и развязать веревки. Он осторожно сажал ребенка на колени, ласкал его, баюкал, утирал слезы, указывая на своих сообщников, говорил: эти люди плохие, но, ты видишь, они слушаются меня, не бойся, я спасу тебя от них, ты вернешься домой, к матери. Ребенок, вне себя от радости, обнимал, целовал его, и тогда он вдруг надрезал его шею сзади, так что голова частично отделялась от туловища и повисала, как выражался сам де Рэ, «бессильно», а затем терзал тело, распаляясь все больше и больше.
После этого он решил, что выжал все возможное из искусства забойщика скота, и гордо заявил: «На всей планете не найдется человека, который осмелился бы замахнуться на то, что сделал я!»
Избранным душам открывается райское блаженство царства Добра и Любви, но обитель Зла скрыта от глаз человека. Путь насилия и убийств был пройден маршалом до конца. Он задумывал новые преступления, изобретал новые медленные пытки, но его воображение уже стало иссякать, он и так превзошел масштабы фантазии, отпущенной человеку. Он вдруг оказался перед пустотой и, задыхаясь, признал правоту сатанистов, утверждавших, что лукавый часто обманывает людей, добивающихся его внимания.
Он стоял на последней ступени, и дальше пути не было. Тогда он попытался двинуться назад, и тут угрызения совести подстерегли его, обступили со всех сторон и принялись терзать его, не давая передышки.
По ночам ему являлись призраки, и он каялся, выл, словно смертельно раненное животное. Он в одиночестве метался по замку, плакал, бросался на колени, клялся, что готов нести какую угодно епитимью, обещал Богу, что посвятит себя благотворительности. Он выстроил в Машекуле коллегиальную церковь и посвятил ее невинноубиенным, поговаривал о том, что уйдет в монастырь, собирался отправиться пешком в Иерусалим.
Он был порывист, склонен к экзальтации, и мысли вихрем проносились у него в голове, противоречили друг другу, наползали одна на другую, таяли, снова проступали, откладывая свой отпечаток на общий ход внутренней борьбы. Вдруг, невзирая на тоску и уныние, он кинулся в разгул, впал в такое бешенство, что набросился на ребенка, которого ему привели, вырвал ему глаза, погрузил пальцы в сочившуюся белую жидкость, затем схватил палку с шипами и ударил его по голове с такой силой, что расколол ему череп.
И когда брызнула кровь, он, созерцая размозженную голову, заскрипел зубами и захохотал. Словно затравленное животное, он скрылся в лесу, а его сообщники мыли пол, избавлялись от трупа и тряпья.
Он рыскал по лесам, окружавшим Тиффог, в дремучей густой черноте, которая до сих пор таится в глубине Бретани.
Сотрясаясь от рыданий, он блуждал по лесу, отгоняя от себя призраков, и внезапно заметил, сколь непристойно выглядят старые деревья.
Казалось, природа перерождается в его присутствии, приобретает порочность, впервые он задумался о вечной похоти лесов, разглядел в высоких деревьях души сыновей Вакха и Венеры.
Ему почудилось, что вокруг него живые существа. Они стоят, наклонив голову, уткнувшись в пышную шевелюру своих корней, выбросив ноги в воздух, раскорячив их, двоятся, уменьшаются в размерах по мере удаления от ствола. Между их ног прорастают другие ветки, и непристойно-блудливые цепочки поднимаются к вершине, которая, словно фаллос, скрывается под юбкой листвы или, если посмотреть в обратном направлении, прорастает из зеленой гривы и утыкается в бархатистый живот земли.
На него наплывали страшные образы. Он опять видел перед собой кожу убитых мальчиков, белую, словно пергамент, она светилась в бледных гладких стволах высоких буков, грубая эпидерма нищих-попрошаек обернулась черной шероховатой корой дубов. Под вилами веток зияли отверстия, лохмотья коры образовывали узлы вокруг овальных ран, щели в морщинах складок, похожие на выводные каналы, исходящие из глубины живого организма. Вглядевшись в согнутые руки ветвей, он различил впадины, подмышки в завитках серого лишайника, деформирующие ствол, с длинными расходящимися краями, поросшие рыжими бархатистыми пучками и мхом.
Все вызывало у него непристойные ассоциации, земля, небесный свод изобиловали двусмысленными формами и символами. Облака надувались, как груди, раскачивались, словно бедра, опадая, походили на тощий круп, округлялись, будто плодоносящие бурдюки, тая, превращались в вытянутые ребристые молоки. Они гармонично сочетались с мрачным разгулом деревьев, этим нагромождением гигантских и карликовых ягодиц, с бесчисленными заветными женскими треугольниками, резко прочерченными линиями буквы V, ртами Содома, косыми вершинами, влажными корнями. Но и этот тошнотворный пейзаж вдруг изменился. Теперь Жиль лицезрел злокачественные наросты, язвы, продольные раны, бугры, червоточины, жуткие пробоины. Он находился в лепрозории, в венерической больнице для деревьев, посередине которой, на повороте, торчал красноватый бук.
Его пурпурные листья осыпались, образуя кровавые подтеки. Он чувствовал, как в нем закипает бешенство, ему грезилось, что где-то под корой прячется лесная нимфа, он хотел впиться в тело языческой богини, убить эту дриаду, надругаться над ней, здесь, в этих местах, неподвластных человеческим страстям.
Он позавидовал дровосекам, которые могут убить, растерзать эти деревья, в исступлении он что-то выкрикивал, выжидал, вслушивался в шорохи, лес отвечал на его призывы гулким уханьем ветра. Вконец обессиленный, он заплакал и побрел назад, вернулся в замок и рухнул на кровать.
Но и во сне призраки толпились вокруг него. Похотливые движения веток, уродливые объятия лесных существ, рваные, расползающиеся раны, бесстыдно приоткрытые заросли исчезли, умолкли рыдания листвы, которую нещадно стегал ветер, белые нарывы облаков растворились в сером небе, и во внезапно наступившей тишине перед ним явились инкубы и суккубы.
Тела растерзанных им жертв, превращенные в пепел, устилающие глубокие рвы, вновь обрели целостность. Со всех сторон его атаковали злые ларвы. Он отбивался, захлебывался в крови, сполз с постели и, встав на четвереньки, приблизился, подобно волку, к распятию и вцепился зубами в подножие Христа.
И тут все в нем перевернулось. Он содрогнулся перед искаженным лицом Христа, который смотрел на него с распятия. Он взмолился о пощаде, рыдания сотрясали его тело, силы покинули его, и он мог только едва слышно стонать, и тогда он с ужасом различил в своем плаче слезные голоса убитых детей, которые звали матерей и просили о помощи.
Дюрталь, очнувшись от привидевшихся ему сцен, захлопнул тетрадь с записями. Он пожал плечами, подумав, что все его душевные метания из-за какой-то женщины просто смешны, потому что речь идет всего-навсего о банальном грехе, вполне в духе буржуа.
XII
«Нужно как-то объяснить мой визит, — думал Дюрталь, направляясь на улицу Банё. — Уже несколько месяцев я не появлялся у Шантелува, и его, наверное, удивит мой неожиданный приход. Впрочем, повод найти легко. Если он окажется дома, что маловероятно, потому что зачем тогда было назначать мне это свидание? Да, в таком случае я скажу ему, что узнал от де Герми о его приступе подагры и решил зайти осведомиться о его здоровье».
Он вошел в дом, где жил Шантелув, и поднялся по лестнице. Это была очень старая лестница, с железными перилами, широкими ступеньками из красных кирпичиков, отделанных по краям деревом. Ее освещали благородные лампы, увенчанные шлемами из зеленой материи.
Стены дома пахли могильной сыростью, от них исходил какой-то церковный дух, уютный и вместе с тем приподнятый, который начисто отсутствует в зданиях современной кладки, сделанных будто из папье-маше. Невозможно представить себе, чтобы под этой крышей теснилось множество квартир, в которых содержанки соседствуют с чинными буржуазными семьями. Этот дом ему нравился, и он нашел, что в этих величественных стенах Гиацинта будет особенно желанна.
На втором этаже он остановился и позвонил. Горничная провела его по длинному коридору в гостиную. Оглядевшись, Дюрталь отметил, что здесь ничего не изменились со времени его последнего визита.
Это была просторная комната с высоким потолком, окнами во всю стену, с камином, украшенным скульптурным портретом Жанны дʼАрк из бронзы, по бокам которого висели две лампы под колпаками из японского фарфора. Пианино с длинным шлейфом покрывала, стол, заваленный альбомами, диван, кресла в стиле Людовика XV в расшитых чехлах — все стояло на прежних местах. По углам — японские синие вазы с чахлыми пальмами. По стенам развешаны картины, по большей части на религиозные сюжеты, среди них — портрет молодого Шантелува в три четверти, опирающегося на стопку собственных сочинений. Старинный русский иконостас из черненого серебра, деревянная скульптура Христа XVII века, вырезанная Богаром де Нанси, на фоне бархата в золоченой благородной раме немного скрадывали банальность обстановки, среди которой буржуа привыкли отмечать Пасху, принимать священников и дам, занимающихся благотворительностью.
В камине пылал огонь, высоко подвешенная лампа в розовом кружевном абажуре освещала комнату.
«Попахивает ризницей!» — поморщился Дюрталь, и в этот момент открылась дверь.
Вошла мадам Шантелув, пеньюар из белого мольтона плотно облегал ее фигуру, от нее исходил запах итальянских духов. Она пожала руку Дюрталю и села напротив него. Он разглядел под складками пеньюара шелковые чулки и лакированные туфельки с пряжками.
Они поговорили о погоде, мадам Шантелув жаловалась на затяжную зиму, говорила, что, несмотря на пылающие печи, все время мерзнет, в доказательство протянула ему руку, ледяную на ощупь, поинтересовалась, здоров ли он, отметила, что он очень бледен.
— У вас грустный вид, — сказала она.
— На то есть причины, — немного рисуясь, протянул Дюрталь.
Она немного помолчала, потом произнесла:
— Я видела вчера, как сильно вы желали обладать мною. Но зачем, зачем сводить наши отношения к этому!
Дюрталь с досадой пожал плечами.
— Вы странный человек, — продолжала она. — Сегодня я перечитала одну из ваших книг и нашла там весьма оригинальное утверждение: «Прекрасны лишь те женщины, которые нам не принадлежат». Признайтесь, ведь вы и вправду так считаете!
— Трудно сказать. Когда я писал эти строки, я не был влюблен.
Она покачала головой, недоверчиво глядя на него.
— Что ж, пойду предупрежу мужа о том, что вы здесь.
Дюрталь промолчал. Он силился понять, какая роль уготована ему этой четой.
Мадам Шантелув вернулась в гостиную вместе с мужем. Он был одет по-домашнему, поигрывая зажатой в зубах ручкой.
Он извлек изо рта ручку, положил ее на стол и заверил Дюрталя в том, что уже совершенно выздоровел. Затем он посетовал на свою занятость, вздохнул о непосильной ноше, которую сам взвалил себе на плечи.
— Мне пришлось отказаться от званых обедов, я перестал устраивать приемы и сам не бываю в свете. С утра до вечера я прикован к столу.
Дюрталь поинтересовался, над чем он работает. Шантелув ответил, что составляет жития святых по заказу торгового дома де Тур. Предполагается целая серия из многих томов.
— Да, — засмеялась его жена, — эти святые получаются довольно-таки большими неряхами.
Дюрталь вопросительно посмотрел на Шантелува, и тот кивнул, вторя смеху жены.
— Она права, судя по предложенным мне сюжетам, издателю хочется, чтобы я сложил гимн грязи. Я должен описывать блаженных, которые по большей части оказываются ужасно неряшливы. Лавр, по телу которого ползали паразиты и который так вонял, что его пугались даже свиньи в хлеву; святая Кюнегонда, из смирения оставлявшая свое тело без всякого внимания; святая Оппортюна, которая никогда не пользовалась водой и умывалась исключительно слезами, орошая этой влагой и свою постель; святая Сильвия, которая вообще никогда не протирала лица; святая Радегонда, не снимавшая с себя власяницы и спавшая в золе, и многие другие, чьи нечесаные головы мне приходится окунать в золотое сияние.
— Ну, встречаются святые, начисто лишенные брезгливости, — заметил Дюрталь, — прочитайте хотя бы житие святой Марии-Маргариты. — Чтобы умерщвлять свою плоть, она лизала испражнения одной больной и высасывала нарыв с пальца ноги какого-то калеки.
— Да, я знаю, но, должен сказать, все это меня нисколько не умиляет, наоборот, внушает отвращение.
— Мне больше нравится святой мученик Лука, — сказала мадам Шантелув. — Его тело было таким прозрачным, что он видел нечистоты, в которых погрязло его сердце. С нашей точки зрения, у него не было повода так уж сокрушаться.
Некоторое время все молчали. Потом она добавила:
— По правде говоря, я не люблю монастыри из-за этой нечистоплотности, а средние века вообще внушают мне ужас по этой же причине!
— Извините, дорогая, — возразил ее муж, — но вы сильно ошибаетесь. В средние века все посещали, и довольно усердно, бани, так что с гигиеной дела обстояли не так уж плохо. В Париже, например, было множество бань, и служители обходили кварталы, оповещая жителей, что вода нагрелась. Во Франции грязь расплодилась в эпоху Возрождения. Подумать только, восхитительная королева Марго вымачивала в духах свое тело, прокопченное, черное, словно днище печи. А Генрих IV, который хвастался тем, что от его ног воняет и что карманы его жилета прохудились!
— Друг мой, умоляю, избавьте нас от подробностей, — попросила мадам Шантелув.
Дюрталь наблюдал за Шантелувом. Маленького роста, кругленький, он заметно поправился и уже с трудом сводил руки на животе. У него были красные щеки, длинные напомаженные волосы сзади завиты локонами. Клочки розовой ваты торчали из ушей, он был тщательно выбрит и походил на нотариуса, добродушного и набожного. Но живой, лукавый взгляд разрушили этот слащавый образ весельчака. В нем сквозила железная воля интригана, человека себе на уме, способного, источая мед, совершать подлости.
«Его, наверное, так и подмывает выставить меня за дверь, — подумал Дюрталь. — Не может быть, чтобы он не знал о происках своей жены!»
Но даже если Шантелув и мечтал поскорее избавиться от присутствия Дюрталя, он ничем себя не выдавал. Скрестив ноги, сложив руки на животе так, как это делают обычно священники, он с самым заинтересованным видом принялся расспрашивать Дюрталя о его изысканиях.
Наклонившись немного вперед, он внимательно слушал Дюрталя, которому казалось, что он очутился вдруг на подмостках сцены, затем заметил:
— Да, я знаком с этим материалом. Когда-то я держал в руках неплохую книгу о Жиле де Рэ, кажется, аббата Боссара…
— Это самое полное и самое достоверное жизнеописание маршала.
— Однако, — продолжил Шантелув, — одного я так и не понял. Почему Жиля де Рэ прозвали Синей Бородой, я не вижу ничего, что в его жизни напоминало бы сказку старого Перро.
— На самом деле Синей Бородой был не Жиль де Рэ, а бретонский король по имени Комор. Его дворец, выстроенный в VI веке, частично сохранился. Он располагался вблизи карноэтских лесов. По преданию, этот король попросил у Гверока, графа де Ванн, руки его дочери Трифины. Гверок отказал ему, так как до него дошли слухи, что этот король, недавно овдовевший, убивал своих жен. Но святой Жильдас пообещал ему, что его дочь вернется к нему живой и здоровой, и тот решился расстаться с наследницей. Отпраздновали свадьбу, а через несколько месяцев Трифине стало известно, что Комор убивает своих жен, как только те забеременеют. И так как она уже ждала ребенка, ей ничего не оставалось, как бежать. Но муж отыскал ее и отрубил ей голову. Безутешный отец призвал святого Жильдаса и напомнил ему об обещании, и тот воскресил Трифину.
Как видите, эта легенда куда ближе к старинной сказке, обработанной Перро, чем история Жиля де Рэ. Но когда и при каких обстоятельствах прозвище Синяя Борода перекочевало от короля Комора к маршалу, я не знаю. Эта тайна погребена во мраке веков.
— Но с этим вашим Жилем де Рэ вы, должно быть, с головой ушли в сатанизм? — после некоторого молчания спросил Шантелув.
— Да, но я занят давно забытым прошлым. Куда заманчивее было бы описать современный сатанизм!
— Наверное, — добродушно кивнул Шантелув.
— Я наслышан об удивительных вещах, — продолжал Дюрталь, не сводя глаз с Шантелува, — о священниках-отступниках, например, о каком-то канонике, устраивающем шабаши вполне в духе средневековья…
Шантелув хранил прежнюю невозмутимость. Вытянув ноги и подняв глаза к потолку, он произнес:
— Случается, что паршивые овцы отбиваются от стада, но это происходит так редко, что не стоит и говорить об этом.
И, уклонившись от продолжения этого разговора, он пустился в рассуждения о Фронде и стал излагать основные положения недавно прочитанной им книги на эту тему.
Дюрталь понял, что Шантелув избегает говорить о своих связях с каноником Докром. Ему стало неловко, и он молча слушал Шантелува.
— Друг мой, — обратилась к мужу мадам Шантелув, — а ваша лампа… она коптит. Несмотря на закрытую дверь, я чувствую запах гари.
Она его отсылала! Едва заметно усмехнувшись, Шантелув поднялся, извинился перед Дюрталем за то, что ему пора возвращаться к письменному столу, пожал ему руку, попенял на то, что тот стал таким редким гостем, поплотнее запахнул на животе полы халата и удалился.
Она взглядом проследила за ним, затем в свою очередь встала с места, подошла к двери, убедилась, что та плотно закрыта, и, остановившись перед Дюрталем, который прислонился к камину, молча взяла его голову в свои руки и поцеловала в губы.
Он застонал.
Серебристые искорки засверкали в ее безжизненных, подернутых дымкой глазах. Он обнял ее, податливую и настороженную. Вздохнув, она высвободилась из его рук, и он в замешательстве забился в дальний угол и сел, судорожно сжимая кулаки.
Они заговорили о пустяках. Мадам Шантелув похвасталась преданностью своей горничной, готовой по ее приказу броситься в огонь. Дюрталь выказал свое удивление и восхищение.
Внезапно она поднесла руку ко лбу.
— А! — проговорила она, — одна мысль о том, что он рядом, заставляет меня страдать! Нет, боюсь, меня замучают угрызения совести. Я понимаю, что то, что я говорю сейчас, глупо, но, если бы он был другим человеком, проводил время в светских салонах, ухаживал бы за женщинами… все было бы иначе.
Ее лицемерные жалобы наскучили ему. Окончательно успокоившись, он приблизился к ней и сказал:
— Грех — он и есть грех. Что меняется от того, пустимся ли мы в плавание или останемся на берегу? К чему эти разговоры об угрызениях совести?
— Да, конечно, то же самое, только в более резкой форме, говорит мой духовник. Но все равно есть некоторая разница…
Дюрталь рассмеялся, подумав, что угрызения совести — отменное средство для возбуждения аппетита пресыщенных страстями натур, и пошутил:
— Если бы я был духовником и вдобавок был казуистом, то занялся бы изобретением новых грехов. Но на своем месте я готов удовлетвориться тем, который мне удалось отыскать, не прилагая особых усилий.
— Да? — Она заразилась его смехом. — А я могла бы совершить этот грех?
Он взглянул на нее. В ней промелькнуло что-то от ребенка, которому посулили лакомство.
— Только вы и можете ответить на этот вопрос. Впрочем, этот грех не так уж и нов, он лежит в хорошо известной области Сладострастия. Но со времен язычества его успели позабыть, во всяком случае он остается в тени.
Она поглубже уселась в кресло и внимательно посмотрела на него.
— Не томите меня, — взмолилась она, — все вокруг да около, объясните, в чем состоит этот грех.
— Это не так-то просто сделать. Ну да ладно, попробую. В области Сладострастия хорошо известен обычный плотский грех, кроме того, существуют различные извращения, граничащие с сатанизмом. Так вот, к этому следует прибавить то, что я назвал бы пигмалионизмом, в котором есть что-то от нарциссизма, онанизма и инцеста.
Представьте себе художника, который влюбляется в свое детище, в плод своих творческих усилий, в Иродиаду, или Юдифь, или прекрасную Елену, или в Жанну дʼАрк, словом, в тот образ, который вдохновил его на труд. Он все время думает о ней, и она начинает приходить к нему во сне. Так вот, такой род любви хуже обычного инцеста. В этом случае отец виновен лишь наполовину, так как его дочь рождена не только от него, но также и от плоти матери. Рассуждая логически, следует признать, что при инцесте соблазнитель отчасти имеет дело с чужеродной натурой, так что этот акт почти естествен и законен. При пигмалионизме же отец овладевает дочерью, которую он сам выносил в своей душе, которая принадлежит только ему и больше никому, в которой течет только его кровь. Вот это действительно грех. В нем есть что-то и от святотатства, так как речь идет о бесплотных, нереальных существах, подаренных миру талантом, почти небесных созданиях, приобретающих благодаря гению художника бессмертие!
Если хотите, можно пойти еще дальше. Вообразите художника, который изобразил святого и вдруг воспылал страстью к этому персонажу. Насколько это отягощает его грех против человеческой натуры и против Бога!
— Восхитительно!
Он осекся, пораженный прозвучавшей оценкой. Она поднялась, приоткрыла дверь и позвала мужа.
— Друг мой, — выпалила она, — Дюрталь открыл совершенно неизученный грех!
— Не может быть, — откликнулся Шантелув, появляясь в дверном проеме. — Список грехов и пороков не подлежит ревизии. Нельзя ничего ни прибавить, ни отнять. О чем идет речь?
Дюрталь изложил ему свою теорию.
— Но это всего лишь более изысканный вид соития с инкубами или суккубами. Дело совсем не в том, что оживает творение художника. Просто суккуба принимает облик, занимающий воображение художника.
— Но признайте, что этот порок, не имеющий под собой никаких реальных оснований, отличается от остальных хотя бы тем, что является привилегией творческих натур, присущ избранным и недоступен толпе!
— Аристократы порока! — засмеялся Шантелув. — Но мне пора к моим святым, рядом с ними легче дышится. Я не прощаюсь, Дюрталь. Оставляю вас любезничать с моей женой и кружить ей голову маленькими тайнами сатанизма.
Он сказал это с самым невинным видом, скорее даже добродушно, но ирония все-таки проскользнула в его словах.
Дюрталь уловил скрытую насмешку. «Уже, наверное, поздно», — подумал он и взглянул на часы. Было почти одиннадцать.
Дверь за Шантелувом захлопнулась. Он встал, чтобы откланяться.
— Когда я увижу вас? — тихо спросил он.
— Завтра я буду у вас в девять вечера.
Он умоляюще взглянул на нее. Она прекрасно поняла значение этого взгляда, но решила немного помучить его.
С истинно материнской лаской она поцеловала его в лоб и снова заглянула ему в глаза.
Видимо, довольная их выражением, выпрашивающим более ощутимую ласку, мадам Шантелув, коснувшись губами его ресниц, приникла к его устам, чуть дрожащим от волнения.
Потом она позвонила и попросила горничную посветить Дюрталю. Спускаясь по лестнице, он с удовлетворением подумал, что завтра она наверняка уступит его домогательствам.
XIII
На следующий день он снова посвятил часть времени уборке. Беспорядок приобрел более оформленный вид, подушка заняла свое место под креслом, и старательно поддерживаемый огонь согревал комнаты.
Но Дюрталь не чувствовал в себе прежнего нетерпения. Ему удалось вырвать у мадам Шантелув молчаливое обещание, и он успокоился. В душе поселилась уверенность, лишившая его болезненного, лихорадочного томления, с которым он еще недавно ожидал прихода этой женщины, притупившая остроту переживаний… Он помешал угли в камине. Мысли его по-прежнему были заняты мадам Шантелув, но она представлялась ему молчаливой и неподвижной. Он прикидывал, как лучше взяться за дело, чтобы не осталось неприятного осадка, но все эти соображения, столь мучившие его два дня назад, потеряли свою свежесть. Он решил положиться на случай, так как убедился на собственном опыте, что даже безупречный план, составленный по всем правилам стратегии, легко может быть разрушен.
В конце концов он взбунтовался против охватившей его вялости и, чтобы сбросить с себя оцепенение, исходившее, как ему казалось, от обволакивавшего тепла, принялся ходить из угла в угол. Может быть, слишком долгое ожидание остудило его пыл? Да нет, он все еще жаждал объятий этой женщины. Все-таки причины своей сдержанности он склонен был видеть в отвращении, которое он испытывал к затруднениям, подстерегавшим его при первом опыте близости с женщиной. «Этот вечер вряд ли доставит настоящее удовольствие, — думал он, — а вот потом… наши тела уже будут знать друг друга, и нам не придется опасаться дурацких и нелепых ситуаций. Гиацинта станет моей, я привыкну к изгибам ее тела, смогу не заботиться больше о том, как я выгляжу, не обдумывать каждый свой жест. О, как бы мне хотелось перепрыгнуть сразу на эту ступень!»
Кот, восседавший на столе, вдруг навострил уши и уставился зелеными глазищами на дверь, готовясь шмыгнуть в укромный уголок. Раздался звонок, и Дюрталь отворил дверь.
Ему понравилось, как она одета. Она освободилась от мехового пальто и осталась в платье, темно-лиловом, почти черном, из плотной мягкой ткани. Оно подчеркивало фигуру, плотно облегало руки, обхватывало тонкую талию, облегало бедра, корсет стягивал грудь.
— Вы обворожительны, — пробормотал он, страстно целуя ее запястья, и радостно заметил, что его губы оказали должное воздействие на ее пульс.
Она была взволнована и бледна.
Не произнеся ни слова, она села, он устроился напротив нее. Он снова чувствовал на себе ее загадочный взгляд полусонных глаз. Он был пленником, забыл все свои сомнения и страхи, горел от нетерпения броситься с головой в волны, покачивающиеся на дне ее зрачков, приникнуть к слабой улыбке болезненно искривленного рта. Их пальцы переплелись, и он впервые назвал ее по имени. «Гиацинта», — чуть слышно шепнул он.
Ее руки горели и чуть дрожали, грудь вздымалась. Умоляющим голосом она произнесла:
— Прошу вас, остановимся на этом. Давайте будем ценить охвативший нас восторг. Я знаю, что говорю, по дороге сюда я все обдумала. Я оставила его таким грустным. Если бы вы могли понять меня! Сегодня я была в церкви, и мне стало страшно, я спряталась, увидев своего духовника…
Все ее жалобы он уже зазубрил наизусть. «Давай, городи свой огород, — думал он, — сегодня вечером тебе не удастся увильнуть!» На ее монолог он отвечал более чем краткими репликами.
Он встал, прикинув, что так будет удобнее поцеловать ее.
— Ваши губы! Помните, вчера… — Он нагнулся, и она, взвившись с места, припала к нему. Они стояли, обнявшись, но она, почувствовав, что его руки смелеют, отступила на несколько шагов.
— Подумайте о том, — тихо сказала она, — как мы будем смешны и жалки. Придется раздеваться, и мы, в одних рубашках, вынуждены будем взбираться на кровать… так глупо!
Он не отвечал, стараясь, не прибегая к словам, дать ей понять, что всех этих затруднений можно избежать. Но он ощутил всю неподатливость ее тела и понял, что она вовсе не собирается изменить мужу прямо здесь, в гостиной, у камина.
— Ну что ж, — обреченно проговорила она, высвобождаясь, — потом пеняйте на себя.
Он посторонился, пропуская ее в двери спальни. Собственно, дверей как таковых не было, их заменяла занавеска, отделявшая одну комнату от другой. Она дала ему понять, что хотела бы остаться одна, и он задернул занавеску.
Он вернулся на свое прежнее место в углу камина и задумался. Наверное, ему следовало бы самому постелить постель и не обременять ее этим, но, пожалуй, так он только грубо подчеркнул бы откровенность своих намерений. А! еще этот кувшин! Он взял его и, минуя спальню, прошел к ванной комнате. Там он поставил его на столик, поспешно выстроил в ряд на полке коробки с рисовой пудрой, флаконы, поправил небрежно брошенные гребенки и щетки. Затем он вернулся в кабинет и прислушался.
Она передвигалась по комнате на цыпочках, стараясь не шуметь, словно рядом лежал покойник. Видимо, ей было достаточно света розоватых углей в камине, потому что она задула свечи.
Он оказался лишен возбуждающей близости глаз и губ Гиацинты и чувствовал себя подавленно. Обычная женщина, раздевающаяся в спальне своего любовника… Он помрачнел, припомнив похожие сцены. Сколько других женщин так же, как она, крадучись ступали по ковру, боясь быть услышанными, испуганно замирали, заливаясь краской, если нечаянно задевали кувшин для воды или таз. К чему все это? Теперь, когда она была в его власти, он готов был отказаться от нее. Разочарование настигло его раньше, чем обычно, когда страсть его еще не была удовлетворена. Его тоска была столь сильна, что он едва сдерживался, чтобы не заплакать.
Кот в отчаянии метался из комнаты в комнату, проползая под занавеской, наконец прыгнул на колени к своему хозяину. Дюрталь приласкал его и сказал ему на ухо:
— Она сопротивлялась и была права. Все это чудовищно. Мне не нужно было настаивать, хотя нет, у нее тоже рыльце в пушку. Ведь она пришла, значит, тоже втайне хотела этого. И что за привычка все время тянуть душу, давить любой порыв! Какая бесчувственность! Только что я обнимал ее, я так страстно желал обладать ею… а теперь! Все насмарку! И в какое положение она меня поставила? Что я, юнец? Вряд ли я гожусь на роль молодого мужа, которого заставляют ждать! Боже, как все это глупо! — из комнаты не доносилось больше ни звука. — Кажется, она легла. Как бы то ни было, хватит тут сидеть.
Наверное, ей доставил много неприятностей корсет. Тем хуже для нее, не надо было его надевать!
Он отодвинул занавеску и вошел в спальню.
Мадам Шантелув съежилась под шерстяным одеялом. Она закрыла глаза, но Дюрталь заметил, что она наблюдала за ним сквозь опущенные ресницы. Он сел на край постели, она еще больше сжалась и натянула покрывало до самого подбородка.
— Вам холодно?
— Нет.
Она открыла глаза, и в них сверкнула молния. Он начал раздеваться, то и дело поглядывая на Гиацинту, стараясь оставаться в темноте, но иногда угли перед тем, как превратиться в золу, озаряли его яркими красными сполохами. Он быстро скользнул под простыню.
Он прижал к себе безжизненное, ледяное тело, но ее губы пылали и обжигали его лицо. У него перехватило дыхание, ее тело, гибкое и пружинистое, как лиана, обвилось вокруг него. Он потерял способность двигаться, утратил дар речи. Поцелуи струились по его коже. Он высвободил руку, почувствовал себя более раскованно. Она набросилась на его губы, кусала их, и вдруг он понял, что не выдержал нервного напряжения и что копившаяся в нем энергия ушла в пустоту.
— Я вас ненавижу, — прошипела она.
— За что?
— Я вас ненавижу!
Ему хотелось сказать, что и он испытывает к ней такое же чувство, он был раздражен до предела и отдал бы все, только бы она поскорее оделась и ушла.
Огонь в камине погас, комната погрузилась во тьму. Он вглядывался в темноту, надеясь отыскать свою ночную сорочку, рубашка, которая была на нем, излишне накрахмаленная, топорщилась. Но, должно быть, на ней лежала Гиацинта. Он с грустью констатировал, что его постель сбилась, а он привык с вечера обустраивать свое ложе, так как знал, что ночью у него не хватит мужества вылезать из-под одеяла на холод и поправлять матрас.
Вдруг его снова нестерпимо потянуло к этой женщине, и на этот раз он ласково и уверенно подчинил ее себе. Ее голос изменился, стал более низким, грудным. Его смущали нечленораздельные фразы и крики, почти звериные, срывавшиеся с ее губ.
— Дорогой мой… милый… нет, правда, это уж слишком…
Ощутив внезапный подъем, он укротил извивающееся тело. Ему показалось, будто набухший нарыв прижгли ледяной примочкой.
Обессиленный, он откинулся на спину, с трудом переводя дух. Сердце загнанно билось, и он с испугом подумал, что ему не по силам подобные развлечения. Он перелез через свою возлюбленную, соскочил на пол, зажег свечи. Кот занял позицию на комоде и, застыв, переводил взгляд с Дюрталя на мадам Шантелув, с мадам Шантелув на Дюрталя. В черных зрачках притаилась насмешка, по крайней мере, Дюрталю так показалось, и он сердито прогнал кота.
Он подбросил топлива в камин, оделся и оставил мадам Шантелув в одиночестве. Но Гиацинта тихо позвала его. Он приблизился к постели, она обняла его за шею и поцеловала, руки ее разжались и бессильно упали на покрывало.
— Ну вот, свершилось… Теперь вы будете сильнее любить меня?
Он был не в силах ответить ей. Да, она разочарована! Что ж, поделом! Тошнота свидетельствует о том, что организм не приемлет этой пищи. Она презирает его, а он испытывает отвращение к себе. Стоит ли так стремиться обладать женщиной, чтобы потом дойти до подобного состояния! Он хотел приподняться над обыденностью, в ее глазах ему чудилось бог знает что! Он мечтал испытать неземной восторг, прорвать оболочку бренного мира, захлебнуться удивительной, почти нечеловеческой радостью! Но трамплин разбит, комья грязи налипли на ноги и держат на земле, словно гири. И ничто не может помочь обрести беспредельность, очиститься, достичь пространства, где душа воспрянет, ликуя!
Да! Пусть это послужит уроком. Он позволил себе увлечься и пожал лишь сожаления, горечь падения. Действительность не прощает пренебрежительного отношения к себе, она мстит, сокрушает мечты, топчет их, смешивает их ошметья с грязью.
— Я так долго копаюсь, не сердитесь, друг мой, — послышался из-за занавески голос мадам Шантелув.
«Скорее бы ты выметалась», — нелюбезно парировал Дюрталь про себя.
Он вежливо спросил, не нуждается ли она в его помощи.
Она выглядела такой привлекательной, загадочной… В ее глазах дремали зыбкие дали, попеременно отражались пустынность кладбищ и упоение праздничных шествий. «Не прошло и часа, и все изменилось. Я узнал другую Гиацинту, развязную, болтающую глупости, непристойности, будто самая обыкновенная проститутка, модистка, захлебывающаяся от плотского удовольствия. Господи, все они одинаковы, эти женщины, и их выкрутасы могут довести до белого каления!»
И, поразмыслив еще немного, удрученно вздохнул: «И надо же, чтобы я поддался, неистовствовал, словно мальчишка!»
Казалось, мадам Шантелув угадала его мысли. Выйдя из-за занавески, она нервно рассмеялась и смущенно пробормотала:
— В моем возрасте стыдно впадать в такое безумие…
Она посмотрела на него. Он силился улыбнуться, но она обо всем догадалась.
— Этой ночью вы будете спать спокойно, — грустно сказала она, припомнив жалобы Дюрталя на то, что из-за нее его мучает бессонница.
Он суетливо стал усаживать ее, предложил ей место поближе к камину. Но она возразила, что ей не холодно.
— Но, несмотря на то, что в спальне было тепло, вы выглядели такой замерзшей.
— Я всегда такая, зябну и зимой и летом.
Он подумал, что жарким августом, должно быть, приятно обнимать прохладное тело, но в эту пору…
Он открыл коробку конфет, но она отказалась и пригубила алкермеса из крохотного серебряного стаканчика. Они обсудили вкус этого напитка. Ей показалось, что он отдает гвоздикой, смягченной настоянной на корице розовой водой. Потом наступило молчание.
— Мой бедный друг, — проговорила она, — как бы я вас любила, если бы вы не были таким недоверчивым, настороженным!
Он удивленно вскинул брови.
— Я хочу сказать, что вы не в состоянии просто любить, забыться этим чувством. Увы! Ваша рассудочность всегда с вами.
— Да нет, вы ошибаетесь!
Она с нежностью поцеловала его.
— Но я люблю вас и таким.
Его поразила печаль, струившаяся в ее взгляде. Он прочел в ее глазах смятение и благодарность. «Немного же ей нужно…» — подумал он.
— О чем вы думаете?
— О вас.
Она вздохнула.
— Который час?
— Половина одиннадцатого.
— Мне пора, он ждет меня. Нет, молчите, не надо…
Она прижала ладони к щекам. Он обнял ее, поцеловал, и так, прижавшись друг к другу, они дошли до двери.
— Мы ведь скоро увидимся, правда?
— Да… да…
Он вернулся в кабинет.
— Уф! гора с плеч.
Смутные чувства нахлынули на него. Его самолюбие было удовлетворено и больше не кровоточило, он добился своего, эта женщина стала его любовницей. Ее образ больше не будет преследовать его, отныне он свободен, и воображение не властно над ним. Но кто знает, какой отпечаток наложило на него пережитое? Его ожесточение внезапно улеглось.
В конце концов, в чем он ее упрекает? Она любит как может. Она оказалась страстной и вместе с тем плаксивой. Эта двойственность придает ей пикантности. В постели она ничем не отличалась от распутной девки, агрессивной, со своими претензиями и причудами, но стоило ей одеться, и она превращалась в салонную кошечку, правда, надо отдать ей должное, превосходящую по уму обычных светских дам. Чего же ему еще надо?
Он стал обвинять во всем себя, да, все рухнуло по его вине. Его голод был исключительно рассудочным. Он не способен любить, его душа изношена, тело немощно. Он заранее устал от ласк, и они внушают ему только отвращение. Его сердце бесплодно, истощено, семя пало в сухую, растрескавшуюся почву. Это стремление заранее перемолоть радость жерновами воображения, захватать мечту грязными руками — сродни болезни. Все, к чему он прикасается, рассыпается в пепел. Все набивает оскомину, все усилия оказываются тщетными. У него ничего нет за душой, ничего, кроме искусства. «Несчастная женщина, боюсь, со мной ее ждут одни горести. Хорошо бы, она забыла обо мне! Нет, она не заслуживает такого обращения!» Он почувствовал острую жалость и поклялся, что при первой же встрече приласкает ее и уверит, что нисколько не разочарован.
Он кое-как поправил постель, расправил простыни, взбил подушки и лег.
Он потушил лампу. Тоска душила его. В наступившей темноте он ощущал себя приговоренным к смертельным мукам. Он подумал: «Да, я был прав, когда написал, что прекрасны лишь те женщины, которые нам не принадлежат».
Какое, должно быть, счастье неожиданно узнать, что женщина, казавшаяся недоступной, чужой, связанная узами брака, чистая, давно покинувшая Париж, Францию или умершая несколько лет назад, любила меня, тогда как я не осмеливался поднять на нее глаз! Только такая любовь, которая прошла стороной, неосязаемая, оставившая грустный шлейф далеких сожалений, чего-то стоит. Только в ней нет кислого запаха плотской грязи.
Любить издалека, не надеясь на взаимность, не мечтая об обладании, целомудренно, забыть о женских прелестях, жаждать лишь единственной ласки — возможности коснуться губами бесстрастного мертвого лба! В этом есть истинное безумие и безвозвратность. Все остальное недостойная тщета и маета. Но этим прозрачным, аскетичным счастьем небо одаривает лишь изверившиеся души, не приемлющие неизбывных нечистот жизни, чье существование в этом мире исполнено мук и страданий.
XIV
Памятливое тело сохранило тревогу и страх, которые испытало накануне, и держало в плену душу, не выпускало ее из своих тисков. Оно еще не понимало, что с ним произошло, и молчало, опасаясь новых неисполнимых желаний. Дюрталь с гадливостью припомнил подробности вчерашних событий и впервые в жизни в полной мере осознал смысл понятия «целомудрие», слизнув с губ это полновесное, отдающее древностью слово.
Подобно тому, как человек, который слишком много выпил вечером, наутро подумывает о воздержании и не зарится на крепкие напитки, Дюрталь размышлял о платонических радостях.
В это время появился де Герми.
Они заговорили о разочаровании в любви. Удивленный странным состоянием Дюрталя, апатичным и нервическим одновременно, де Герми воскликнул:
— Вчера, дружище, вы, должно быть, пережили тяжелый приступ этой болезни?
С самым мрачным видом Дюрталь покачал головой.
— Да, — продолжил де Герми, — любить, ни на что не надеясь, вхолостую, — в этом есть что-то нечеловеческое. Ведь нельзя не считаться с перепадами настроения. Воздержание, если оно не следствие набожности, бессмысленно. Конечно, речь может идти о тех или иных расстройствах в организме, но с этим лекари более или менее справляются. Все упирается в тот акт, который ты так сурово осуждаешь. А ведь сердце, которое принято считать самой благородной частью человека, имеет такую же форму, как пенис, низменный, презираемый орган. И это очень символично, потому что любовь, зарождающаяся в сердце, в конце концов взывает к столь похожему на него органу. Человек, высшее создание, способен лишь имитировать движения животных, озабоченных воспроизводством популяции. Этим ограничиваются и возможности его воображения. Взять хотя бы механизмы, игру поршней в цилиндре, ведь это Джульетты плавятся в стальных Ромео, и чисто механическое движение лишь одно из выражений человеческой натуры. Только больные или святые игнорируют всеобщий закон. Но ты, насколько я понимаю, не принадлежишь ни к тем, ни к другим. Если же у тебя есть веские причины на то, чтобы жить, глухо застегнувшись на все пуговицы, то советую тебе воспользоваться предписанием одного оккультиста XVI века, Наполитэна Пиперно. Он утверждает, что тот, кто питается вербеной, неделями не испытывает никакого желания вступать в тесный контакт с женщинами. Купи себе немного вербены, глодай ее, и посмотрим, каков будет результат.
Дюрталь расхохотался.
— Есть одно замечательное правило: никогда не занимайся любовью с женщиной, к которой испытываешь сильное чувство, а при необходимости, чтобы поддерживать душевное равновесие, посещай тех, к кому ты равнодушен. Это позволяет в какой-то степени избежать возможных неприятностей.
— Ну нет, разве можно сравнить наслаждение от близости со страстно любимой женщиной с каким-то суррогатом! Ни к чему хорошему это правило не приведет. И потом, вряд ли женщины способны оценить мудрость подобного эгоизма, на это у них не хватит ни великодушия, ни широты взглядов. Но что, если ты все-таки сподвигнешься надеть ботинки? Уже шесть, и нас ждет жаркое мадам Карекс.
Когда они вошли, жаркое уже было на столе. Оно возлежало на пышной перине овощей в глубоком блюде. Карекс, сидя в кресле, читал требник.
— Что нового? — спросил он, захлопывая книгу.
— Пожалуй, ничего. Политикой вы не увлекаетесь, впрочем, как и мы, поэтому вряд ли вас заинтересует шумиха вокруг генерала Буланже. И вообще, газеты, как никогда, забиты пустой трескотней. Эй, осторожнее, обожжешься! — предупредил де Герми Дюрталя, который задумчиво подносил ко рту полную ложку супа.
— Бульон из мозговой косточки, сдобренный желтком, должен быть раскаленным. Кстати о новостях, кое-что все-таки происходит. Слышали ли вы об аббате Буле, дело которого принято к слушанию судом в Авероне? Он пытался отравить кюре, подсыпав яд в вино, приготовленное для причастия. После этого он совершил множество других преступлений. На его счету аборты, изнасилования, развращение малолетних, подлоги, кражи, ростовщичество. В конце концов он присвоил содержимое ящика для пожертвований, узурпировал дароносицу, потир и другие предметы, необходимые при богослужении. По-моему, неплохо!
Карекс возвел глаза к небу.
— Если он ускользнет от суда, то в Париже станет одним священником больше, — заметил де Герми.
— Почему?
— Почему? Да потому, что все духовные лица, имевшие серьезные неприятности на местах или неугодные епархиальному начальству, высылаются сюда. В Париже они перестают быть на виду, теряются в толпе, вливаются в корпорацию так называемых «прикрепленных» священников.
— А кто это такие? — спросил Дюрталь.
— Это священники, имеющие свой приход. Как тебе известно, при каждой церкви состоят кюре, викарий, служки и, кроме того, еще как бы внештатный священник. Вот об этой должности и идет речь. На них взваливают самые тяжелые обязанности. Они служат заутрени, когда все спят, или поздние мессы, когда все отдыхают после плотного ужина. Они встают по ночам, чтобы причастить нищих, бдят около отошедших в мир иной благочестивых богачей, страдают вечным насморком из-за сквозняков на паперти, присутствуют на похоронах, на кладбище, стоя у могил, зарабатывают солнечные удары, снег и дождь испытывают их терпение. Все это они несут на своих плечах и зарабатывают пять или десять франков. Им приходится заменять недостаточно прилежных коллег, которых тяготят возложенные на них обязанности. По большей части те, кто находится в опале. Чтобы избавиться от них, их прикрепляют к какой-нибудь церкви и наблюдают за ними, взвешивая, стоит ли лишать их сана или нет. Провинциальные приходы поставляют в Париж тех священников, которые по тем или иным причинам перестали их устраивать.
— Ну хорошо, а викарии и прочие духовные лица тоже облегчают свою жизнь за счет других?
— Их обязанности легки и приятны, они не требуют милосердия, не связаны ни с какими усилиями. Они исповедуют расфуфыренных прихожан, дают уроки катехизиса опрятным детишкам, произносят проповеди, красуются во время богослужений и, чтобы поразить воображение паствы и привлечь верующих, прибегают к чисто театральным эффектам, стараются, чтобы церемонии выглядели по возможности помпезно. Вообще же, если исключить «прикрепленных» священников, духовенство в Париже делится на две категории: те, кто наделен особым светским лоском — и их назначают в богатые приходы, в церковь Святой Мадлены, в Сен-Рош — они крайне любезны, обедают в городе, проводят время в салонах, утешают души, утонувшие в кружевах; и прочие, честные чиновники, не очень-то образованные, не обладающие состоянием, которое позволило бы им толочься среди изнывающих бездельников, они держатся в стороне и посещают дома скромных буржуа, отводят душу за карточной игрой, сыплют общеизвестными истинами и припасают к десерту несколько скабрезных шуток.
— Ну, вы немного преувеличиваете, — сказал Карекс. — Я тоже неплохо знаю духовенство, позволю себе заметить, что в Париже много священников, которые стараются выполнить свой долг перед людьми. Их позорят, смешивают с грязью, подонки, погрязшие в пороках, издеваются над ними! Но все-таки, признайте, аббаты Буде, каноники Докры, слава Богу, исключение. Да и в провинции среди духовенства можно встретить настоящих святых!
— Священники-сатанисты, по всей видимости, относительно редкое явление, да и пороки духовенства несколько преувеличены прессой, обожающей пикантные сенсации. Но я говорю не об этом. Бог с ним, с распутством, с пристрастием к азартным играм. Но ведь большинство священников — равнодушные, невнимательные, глупые посредственности! Они грешат против Святого Духа!
— Таково наше время, — произнес Дюрталь. — Ты не можешь требовать, чтобы в семинариях процветал дух средневековья!
— И к тому же, — подхватил Карекс, — наш друг, кажется не учитывает, что существуют различные монашеские ордены, например, картезианство…
— Да, францисканцы, трапписты… но все это затворники, которых приютил наш бесславный век. Есть еще доминиканцы, их орден весьма светский. Взять хотя бы то, что им мы обязаны появлением всяких Монсабре или Дидонов!
— Ну, это своего рода гусарство от религии. Этакие веселые уланы, элегантное и шикарное воинство на службе у Папы. Настоящие капуцины плетутся в обозе, — заметил Дюрталь.
— Если бы они еще с должным почтением относились бы к колоколам… — Карекс покачал головой. — Принеси-ка нам куломье, — обратился он к жене, которая убирала со стола тарелки.
Де Герми разлил вино. Все молча принялись за сыр.
— Послушай, — снова заговорил Дюрталь, повернувшись к де Герми, — а правда ли, что женщина, принимающая по ночам инкуб, обязательно мерзлячка? Иначе говоря, является ли постоянно холодное тело своеобразной уликой? Когда-то инквизиция считала, что колдуны не способны проливать слезы, и это качество служило серьезным основанием для обвинения в совершении злодеяний, связанных с магией.
— На этот вопрос я могу ответить. Когда-то женщины, имевшие дело с инкубами, действительно обладали ледяным телом, неподвластным даже августовской жаре, во многих книгах обращается на это внимание. Но теперь все наоборот. Большинство людей, которых искушают злые духи, имеют горячую, сухую кожу. Эта метаморфоза еще не приняла всеобщий характер, но все к тому идет. Помню, что доктор Иоханнес, о котором упоминал Гевэнгей, рассказывал, что ему приходилось снижать температуру своих пациентов компрессами.
— А! Дюрталь думал о мадам Шантелув.
— А где сейчас доктор Иоханнес? — поинтересовался Карекс.
— Он живет в уединении, в Лионе. Думаю, он не оставил свою деятельность и проповедует блаженство, исходящее от Святого Духа.
— А вообще-то что представляет собой этот доктор? — спросил Карекс.
— Это очень умный и образованный священник. Он достиг довольно высокого положения в общине и даже возглавлял в Париже единственный журнал, имевший мистическое направление. К нему обращались за консультациями по вопросам теологии, он получил признание как специалист по каноническому праву. У него были напряженные отношения с папской курией и с архиепископом Парижа. Его погубили сеансы экзорсизма и борьба с инкубами, которую он вел в женских монастырях.
Я помню нашу последнюю встречу так отчетливо, словно она произошла вчера. Я столкнулся с ним на улице де Гренель. Он выходил из епископата. В этот день он покинул лоно Церкви. Я так и вижу, как мы брели с ним по пустынному бульвару, расположенному в двух шагах от Дома инвалидов. Он был очень бледен, расстроен, его голос заметно дрожал.
Он был вызван к архиепископу, и у него потребовали объяснений по поводу одной больной, страдавшей эпилепсией, которую ему, по его словам, удалось вылечить при помощи одной реликвии, плащаницы Христа, хранившейся в Аржантёе. Кардинал и два викария стоя выслушали его.
Когда он закончил, ему задали еще несколько вопросов, касавшихся его практики, связанной с магией, а затем кардинал Гибер произнес «Вам следовало бы отправиться в аббатство Трапп!» Его ответ я запомнил дословно: «Если я посягнул на законы Церкви, то готов нести наказание. Раз вы считаете, что я виновен, предайте меня церковному суду, клянусь честью своего сана, что я подчинюсь его приговору. Но я настаиваю на том, чтобы меня судили по всем каноническим правилам, ибо, согласно своду церковных законов, не подобает человеку самому вершить суд над собой».
На столе лежал один из номеров его журнала. Кардинал, указав перстом на раскрытую страницу, спросил: «Вы автор этой писанины?» — «Да, Ваше Преосвященство». — «Это взгляды безбожника!» И он удалился из кабинета, выкрикнув с порога: «Вон отсюда!» И тогда Иоханнес пошел за ним, упал на колени и сказал: «Ваше Преосвященство, если я невольно оскорбил вас, простите меня». Но кардинал лишь еще сильнее распалился: «Убирайтесь вон, или вас выведут силой!»
Иоханнес поднялся с колен и молча удалился. «Я порываю с прошлым», — сказал он мне на прощание. Он был так мрачен, что я не решился на дальнейшие расспросы.
Все помолчали. Карекс ушел на башню, так как настало время звонить, его жена убрала остатки десерта и свернула скатерть, де Герми готовил кофе, а Дюрталь задумчиво сворачивал сигарету.
Вскоре вернулся Карекс в отзвуках колокольного звона и воскликнул:
— Де Герми, вы упомянули францисканцев. А знаете ли вы, что этот орден пришел в такой упадок, что не мог позволить себе иметь даже один-единственный колокол? Правда, их устав, когда-то очень суровый, превосходивший человеческие возможности, теперь не соблюдается так уж строго. Сейчас у них есть колокол, но всего один.
— Так же дело обстоит в большинстве аббатств.
— Нет, обычно монастыри располагают хотя бы тремя колоколами, что символизирует Троицу.
— А что, количество колоколов в церквах и монастырях как-то регламентируется?
— Да, некоторые правила раньше соблюдались. Существовала определенная иерархия. Так, монастырские колокола оставались неподвижными, когда звонили колокола в церквах. Они, словно вассалы, почтительно замирали и молча слушали, как властелин обращается к народу. Это установление было освящено в 1590 году решением церковного собора в Тулузе и затем подтверждено двумя декретами Конгрегации по обрядам, но теперь оно забыто. Святой Карл Борроме предписывал кафедральному собору иметь от пяти до семи колоколов, коллегиальной церкви — три колокола, приходскому храму — два. В наши дни количество колоколов зависит от того, насколько богата церковь.
Но мы совсем заболтались. Где наши стаканчики?
Мадам Карекс поставила стаканы на стол, пожала руки гостям и скрылась в своей комнате. Карекс разлил коньяк. Де Герми сказал, понизив голос:
— Мне не хотелось говорить при ней, это довольно неприятная тема, которая могла бы ее напугать, но сегодня утром мне нанес весьма странный визит Гевэнгей. Он едет к доктору Иоханнесу в Лион. Он утверждает, что на него напустил порчу каноник Докр, который проездом был в Париже. Не знаю, что произошло между ними, но вид у Гевэнгея весьма болезненный.
— Но что с ним? — спросил Дюрталь.
— Мне абсолютно ничего не известно. Я его осмотрел самым тщательным образом. Он жаловался на колющую боль в сердце. На мой взгляд, всего лишь нервное расстройство, но меня беспокоит его крайне подавленное настроение, которое было бы оправданно, если бы у него был обнаружен рак или же запущенный диабет.
— Мне думается, — промолвил Карекс, — что современные колдуны больше не пользуются восковыми фигурками и булавками, как это было в добрые старые времена.
— Нет, подобная практика давно оставлена. Гевэнгей раскрыл мне сегодня некоторые секреты зловещего каноника. Видимо, эти способы характерны для современной магии.
— Это, должно быть, очень интересно, — оживился Дюрталь.
— Я могу повторить то, что услышал от Гевэнгея, — де Герми закурил. — Так вот. Докр повсюду возит с собой клетки с белыми мышами. Он откармливает их жертвенными приношениями, пропитанными тщательно дозированным ядом. Когда они достаточно насыщаются этой снедью, он берет этих несчастных зверьков, подносит их к потиру, острым инструментом протыкает их тельце в нескольких местах. Собранную таким образом кровь он использует, чтобы насылать на своих врагов смерть. Иногда он проделывает то же самое с цыплятами или молодыми индюками, только в этом случае он копит не кровь, а жир, так что эти птицы выполняют функцию дароносительницы, наполненной мерзким ядовитым составом.
Кроме того, он пользуется рецептом, составленным обществом сатанистов «Новые Теурги», о котором я уже как-то говорил. Он изготовляет смесь из муки, мяса, жертвенного хлеба, ртути, спермы животных, человеческой крови, уксуснокислой соли морфия и лавандового масла.
Гевэнгей утверждает, что Докр запасается еще более страшным зельем. Он кормит рыбок жертвенными хлебом и вином, а также дает им в определенных дозах ядовитые составы, выбирая их из той группы сильнодействующих средств, которые, проникая через поры кожного покрова, разрушают мозг или вызывают столбняк. Затем он вытаскивает их из воды, ждет, пока они сгниют, дистиллирует и выжимает масло, одной капли которого достаточно, чтобы превратить человека в безумца.
Это масло, насколько я понял, применяется наружно. Одно прикосновение к волосам, как это описано в «Истории тринадцати» Бальзака, и отрава начинает действовать.
— Черт побери! Неужели капля этого масла пролилась на волосы бедняги Гевэнгея? — взволновался Дюрталь.
— Больше всего меня поражает не своеобразие дьявольских снадобий, а состояние души того, кто их изобретает и изготовляет. Ведь все это происходит в настоящее время и в двух шагах от нас, и, подумать только, священникам мы обязаны новшествами в колдовской практике!
— Священникам? Нет, только одному священнику! — поправил его Карекс.
— Ну, Гевэнгей довольно прозрачно намекнул, что не одному Докру известны все эти приемы. Правда, каноник состоял членом кружка сатанистов, который в 1879 году действовал в Шалон-сюр-Марн и насылал порчу при помощи отравленной крови мышей. Но в 1883 году группа аббатов была занята добычей масла, о котором я говорил. Так что Докр не одинок, подобными досугами грешат обитатели отдельных монастырей, кое-что известно и светским лицам.
— Ну что ж, предположим, что такая практика действительно распространена. Но все это не объясняет самого механизма воздействия на человека.
— Это уже другой вопрос. Существуют два способа поразить намеченную жертву. Первый, к которому прибегают не так уж часто, состоит в следующем: колдун привлекает ясновидящую, женщину, наделенную, как принято говорить, «крылатым духом». Это сомнамбула, способная под гипнозом перемещаться на любое расстояние. Ее можно заставить дать яд человеку, который находится за сотни лье от колдуна. При этом жертва ничего не замечает, сходит с ума или умирает, даже не заподозрив постороннего вмешательства в его судьбу. Но такие ясновидящие встречаются редко. Кроме того, возникает опасность, что кто-то может проследить за ее состоянием и в момент транса скорректировать первоначальное задание. Поэтому обычно пользуются более верным способом. Вызывается дух умершего, так же, как это происходит на спиритических сеансах, ему вручается приготовленное зелье, и он настигает жертву. Результат тот же, меняется лишь посредник.
Де Герми очень точно пересказал то, что поведал ему утром Гевэнгей.
— А доктор Иоханнес может излечить того, кто стал жертвой колдуна? — спросил Карекс.
— Да, этот человек творит чудеса.
— Но как это ему удается?
— Гевэнгей связывает это с культом короля Мельхиседека. Я не знаю, в чем он состоит, надеюсь, что Гевэнгей вернется совершенно здоровым и расскажет нам об этом поподробнее.
— Как бы то ни было, мне бы хотелось хоть одним глазком посмотреть на этого каноника Докра, — мечтательно произнес Дюрталь.
— Нет уж, меня увольте от созерцания земного воплощения Зла, — пробурчал Карекс, помогая друзьям облачиться в теплые пальто.
Он зажег фонарь и осветил лестницу. Дюрталь посетовал на холодную погоду. Де Герми рассмеялся:
— Если бы твоим родителям были известны магические свойства растений, ты бы чувствовал себя гораздо лучше. В XVI веке считалось, что ребенок никогда не будет страдать ни от холода, ни от жары, если натереть ему руки соком Польши до того, как ему исполнится тринадцать лет. Как видишь, это средство приятно и неопасно в отличие от тех, над которыми колдует каноник Докр.
Карекс запер за ними ворота, и они прибавили шагу, так как ледяной ветер свирепствовал на площади.
— Сатанизм — это своего рода религия, но заметь, что, даже за вычетом этой тематики, мы ведем разговоры исключительно о вере. Надеюсь, это зачтется двум таким нечестивцам, как мы.
— В этом нет нашей особой заслуги, — возразил Дюрталь. — Что еще достойно обсуждения, кроме религии и искусства?
XV
На следующий день Дюрталь курил, сидя у камина, перебирая в уме то, что он узнал накануне. Он подумал о схватке Докра и Иоханнеса, этих двух священников, вооруженных злыми чарами и заклятиями, изгоняющими дьявола, которая разгорелась за спиной Гевэнгея.
«В христианской символике рыба служит условным изображением Христа. Наверное, поэтому каноник пичкает рыбок облатками, что усугубляет кощунство. В средние века хлеб, символизирующий тело Христа, бросали на съедение нечистым животным, принадлежащим к свите дьявола, например жабам, а здесь сущность этого акта выворачивается наизнанку.
Неужели эти химики-богоубийцы так сильны? Что за безумная идея насылать злых духов, источающих гнилое масло и ядовитую кровь, на жертву? Во все это трудно поверить.
И все-таки… если вдуматься, и в наше время можно столкнуться с тайнами, которые легко списываются на легковерность средневекового человека, только они меняют внешний облик. В больнице де ля Шарите доктор Люис сумел передать болезни одной пациентки, погруженной в гипнотический сон, другой женщине. Разве это менее удивительно, чем колдовские чары, чем выпавший кому-то жребий, брошенный рукой мага или пастуха? Крылатый злой дух столь же необычен, как какой-нибудь микроб, отравляющий организм человека, ведь и он проникает извне и действует незаметно. Воздушная среда переносит и ларвов, и бациллы. Она безразлично служит разного рода испарениям, энергиям, например электричеству, или флюидам гипнотизера, который заставляет покорного его воле человека идти к нему через весь Париж. Наука не может отрицать того, что такие феномены имеют место. Доктор Браун-Секвар возвращает молодость старикам-калекам, лечит немощь, впрыскивая растворы тканей кролика и морской свинки. Кто знает, из чего состояли эликсиры жизни и любовные напитки, которые колдуны продавали истощенным, отчаявшимся людям? Известно, что в средние века обязательным компонентом всех этих смесей была человеческая сперма. И доктор Браун-Секвар после многочисленных опытов признал, что эта субстанция обладает удивительными возможностями как целебное средство.
В древности видения, призраки внушали ужас. И они по-прежнему тревожат покой людей. Трудно заподозрить в обмане доктора Крукса, множество свидетелей подтверждают результаты его экспериментов, проводившихся на протяжении трех лет. На сделанных им фотографиях хорошо видны очертания привидений, так что нет оснований не доверять свидетельствам средневековья. Все это кажется невероятным, но десять лет назад люди сомневались в том, что существует гипноз, позволяющий одному человеку распоряжаться волей другого.
Мы плутаем во мраке, это правда. И потом, де Герми правильно заметил, дело совсем не в том, обладают ли силой средства, к которым прибегают сатанисты, гораздо важнее тот факт, что в наше время есть целая сеть таких обществ, и многие священники, отпавшие от Церкви, заняты изготовлением магических снадобий.
Ах, если бы была возможность встретиться с каноником Докром, втереться к нему в доверие! Во всем этом столько неясностей!
И вообще, имеет смысл общаться только со святыми, отпетыми мерзавцами и сумасшедшими, только они-то и интересны. У здравомыслящих людей нечего почерпнуть, они пережевывают вечную жвачку повседневной скуки. Что ни говори, а это люди толпы, пусть даже и наделенные умом, все равно, во мне они вызывают лишь досаду. Да, но как подступиться к этому чудовищу?» Дюрталь разворошил угли в камине. «Мне мог бы помочь Шантелув, но он явно не хочет этого делать. Остается его жена. Вероятно, она навещает каноника. Нужно расспросить ее хорошенько, я должен знать, поддерживает ли она с ним какие-нибудь связи, видит ли она его».
Вспомнив о мадам Шантелув, Дюрталь помрачнел. Он вынул часы, взглянул на них и поморщился. «Какая тоска! Сейчас она явится, и придется опять… как бы ее убедить в том, что все эти плотские утехи ни к чему? Впрочем, вряд ли она в хорошем расположении духа. На ее более чем страстное послание, в котором она умоляла о свидании, я ответил через три дня сухой запиской, содержащей приглашение прийти ко мне сегодня вечером. Всяческий лиризм в ней отсутствовал начисто. Возможно, я немного перегнул палку».
Он поднялся, проверил, горит ли огонь в камине в соседней комнате. Затем он вернулся на прежнее место, даже не подумав убраться в спальне. Он больше не зависел от этой женщины, и желание показать себя с лучшей стороны исчезло. В нем не было и следа прежнего нетерпения. Он спокойно ждал ее, сидя у огня, скрестив ноги в домашних туфлях.
«Самые приятные минуты с Гиацинтой я пережил в доме Шантелува, целуясь с ней в двух шагах от мужа. Ее губы горели! А поцелуи, которыми она одаривала меня здесь, слишком пресны».
Мадам Шантелув позвонила немного раньше назначенного срока.
— Хорошенькое письмо я от вас получила! — заметила она, усаживаясь.
— Что вы хотите этим сказать?
— Признайтесь, друг мой, вам не терпится от меня отделаться!
Он возмутился, но она в сомнении покачала головой.
— В чем вы меня упрекаете? — горячился он. — В том, что я послал вам всего лишь краткую записку? Но я был занят, кто-то пришел ко мне, у меня не было времени собраться с мыслями. Или в том, что я отложил нашу встречу на несколько дней? Но я вынужден был это сделать. Я уже говорил, нам следует проявлять осторожность! Мы не можем видеться слишком часто. По-моему, я достаточно ясно объяснил причины…
— Я настолько бестолкова, что так и не поняла, в чем они состоят, эти причины, кажется, речь шла о каких-то семейных обстоятельствах…
— Именно.
— Все это как-то туманно…
— Но я не мог сразу поставить все точки над i, рассказать вам…
Он запнулся, раздумывая, не настал ли удобный момент, чтобы раз и навсегда порвать с этой женщиной, но вспомнил о том, что она располагает сведениями о канонике Докре.
— О чем же? Ну, я слушаю!
Он в нерешительности покачал головой, удерживая себя от слишком дерзкой и гнусной лжи.
— Раз вы настаиваете… признаюсь, хотя мне очень трудно это сделать… уже много лет я связан с одной женщиной… добавлю сразу, что сейчас наши отношения носят чисто дружеский характер.
— Очень хорошо, — прервала его мадам Шантелув, — ваши семейные обстоятельства прояснились.
— И если уж вы хотите знать всю правду… — Дюрталь понизил голос, — у меня есть ребенок от нее.
— У вас есть ребенок! О, бедный мой друг!
Она порывисто встала.
— Что ж, мне остается только удалиться. Прощайте, больше вы меня никогда не увидите.
Он схватил ее за руки, довольный своей выдумкой и немного смущенный ее грубой примитивностью, и стал умолять мадам Шантелув остаться хоть ненадолго.
Она не соглашалась. Тогда он притянул ее к себе, принялся ласкать и целовать ей волосы. Ее взгляд утонул на дне его глаз.
— Ну же, — сказала она, — идем, — она кивнула в сторону спальни. — Или нет, подожди здесь, пока я разденусь.
— Нет, нет…
— Да!
«Ну вот, все начинается сначала», — он безвольно опустился на стул. Его терзала мучительная тоска.
Он разделся и, согреваясь у камина, ждал, пока она ляжет.
И снова он почувствовал холодные прикосновения ее гуттаперчевого тела.
— Мне действительно не стоит больше приходить сюда?
Он не ответил. Ему было ясно, что она не собирается расставаться с ним, и в его душу закралось опасение, что не так-то просто будет отделаться от нее.
— Ответь мне!
Чтобы избежать ответа, он уткнулся лицом в ее шею.
— Шепни мне ответ в уши!
Он удвоил свои усилия, чтобы заставить ее замолчать. Наконец он перевел дух, усталый, разочарованный, но счастливый тем, что все позади. Она обняла его за шею и впилась ему в губы. Но он был грустен, расслаблен и не обращал внимания на ее ласки. Она изогнулась в порыве страсти и добилась своего — он застонал.
— Ага! — ликовала она, — ты кричишь!
Он чувствовал себя изнуренным, разбитым, у него тяжело стучало в висках, он не в силах был собраться с мыслями.
Кое-как склеив себя по частям, он встал и поплелся в кабинет одеваться, оставив в ее распоряжении спальню.
Пламя свечи горело за занавеской, разделявшей комнаты.
Время от времени оно исчезало, оттесненное силуэтом Гиацинты, но тут же снова выныривало из небытия.
— Ах, мой бедный друг, так, значит, у вас есть ребенок!
«Все-таки сработало», — отметил он про себя.
— Да, девочка.
— И сколько же ей лет?
— Скоро шесть.
И он опустился в описание: она блондинка, очень умненькая, живая, но, к сожалению, часто болеет и требует постоянного внимания и забот.
— Должно быть, вы часто переживаете поистине мучительные минуты, — ее голос дрогнул.
— О, еще бы! Кто позаботится об этих несчастных, если я завтра умру!
«Она клюнула!» Мадам Шантелув поверила в существование ребенка. Ее сердце сжалось от сострадания к девочке и ее матери, к глазам подступили слезы.
«Он несчастлив, — думала она, — даже улыбка не может скрыть его постоянную грусть».
Она отодвинула занавеску и вошла в кабинет.
Он взглянул на нее и вдруг понял, что ее чувства не притворны, что она действительно привязана к нему. Если бы не ее посягательства на его тело! Если бы не ее претензии! Они могли бы быть друзьями, умеренно грешить, ни на что особенное не замахиваясь… Но нет, это невозможно. В ее глазах отрава, в очертаниях рта проступает страшный оскал хищника.
Она села за его письменный стол и рассеянно вертела в руках перо.
— Вы работали до моего прихода? Как продвигается история Жиля де Рэ?
— Не так быстро, как мне хотелось бы. Чтобы иметь полное представление о средневековом сатанизме, нужно вжиться в эту эпоху. Мне не хватает общения с сатанистами, а ведь их полно среди нас. Наверное, их практика изменилась, но душевный склад, я уверен, остался прежним, да и цели не тронуло время.
Он прямо посмотрел ей в глаза и, сочтя, что история о ребенке оказала на нее благотворное действие, поднял паруса и пошел на абордаж.
— Вот если бы ваш муж рассказал мне о том, что ему известно о канонике Докре!
Ее глаза затуманились, но она молчала.
— Конечно, Шантелув подозревает нас…
Она оборвала его:
— При чем здесь мой муж! Наши отношения касаются только нас. Когда я ухожу из дома, он страдает, так было и сегодня, тем более, что он прекрасно знал, куда я направляюсь. Но я считаю, что никто не имеет права контролировать поступки другого человека. Он точно так же, как и я, свободен распоряжаться своим временем, как ему заблагорассудится, и может идти, куда ему вздумается. В мои обязанности входит следить за домом, заботиться о нем и о том, чтобы никто не ущемлял его интересов, любить его, как полагается преданной жене, — и я с радостью все это выполняю. Что ж до меня, то мои поступки не касаются ни его, ни кого бы то ни было еще!
Она говорила резко и решительно.
— Черт! у вас своеобразные взгляды на роль мужа в семейной жизни!
— Да, я знаю, в том мире, в котором я живу, не приняты такие отношения. Вы, должно быть, тоже не разделяете мое мнение. Мои принципы причиняли много горя моему первому мужу. Но у меня железная воля, и я умею подчинить себе тех, кто меня любит. Я ненавижу вранье, и поэтому, когда через несколько лет замужества я влюбилась, то сразу же сказала об этом мужу и открыто призналась в том, что изменила ему.
— Могу ли я спросить, как он принял эту новость?
— За одну ночь он поседел, настолько сильным было его горе. Он не мог принять этого предательства с моей стороны и покончил с собой.
— Ну и ну! — спокойный, уверенный тон этой женщины поразил Дюрталя. — А если бы он решил убить вас?
Она пожала плечами и смахнула клочок кошачьей шерсти, прилипший к ее платью.
— Но теперь-то вы обладаете большей свободой. Ваш второй муж…
— Прошу вас, оставьте в покое моего второго мужа. Это прекрасный человек, заслуживающий лучшей жены, чем я. Мне остается только восхищаться им, и я люблю его в тех границах, которые он сам возвел. И давайте поговорим о чем-нибудь другом, с меня вполне достаточно неприятных бесед с моим духовником, который запрещает мне приближаться к алтарю.
Он в изумлении смотрел на нее. Перед ним была совершенно новая Гиацинта — суровая и непреклонная, о существовании которой он и не подозревал. Совершенно бесстрастно она рассказала о самоубийстве ее первого мужа, казалось, она считает, что ей не в чем себя упрекнуть. Она выглядела безжалостной, а ведь только что она искренне сочувствовала Дюрталю, поверив в его отцовство. Дюрталь содрогнулся. Но, быть может, она, как и он, просто-напросто ломает комедию!
Разговор принял неожиданный для него оборот, он мучительно обдумывал, как бы ему вернуться к сатанисту Докру.
— Забудем обо всем этом, — сказала Гиацинта, подходя к нему. Она улыбнулась и снова стала прежней Гиацинтой.
— Но если из-за меня вы лишены причастия…
— Теперь вы не сможете жаловаться, что я вас не люблю, — прервала она его и поцеловала.
Он вежливо обнял ее, она тихонько застонала, и он счел благоразумным отстраниться.
— Ваш духовник так строг?
— Да, он старой закалки. Совершенно неподкупен. Но я специально выбрала себе в духовники именно такого человека.
— Если бы я был женщиной, то обратился бы, наоборот, к ласковому, снисходительному священнику, который не стал бы ворошить мои грешки. Он смазывал бы маслом пружинки моих признаний, мягкими движениями извлекал на свет мои проступки. Говорят, в духовников часто влюбляются, возможно, не у всех хватает выдержки и тогда…
— О, и тогда происходит инцест, потому что священник является духовным отцом, к тому же это преступление отягощается святотатством, ведь сан налагает определенные обязательства перед Богом! Это безумие! — нервно проговорила она, обращаясь больше к самой себе.
Он наблюдал за ней. Знакомое сияние мерцало в ее близоруких глазах. Ему показалось, что он невольно попал в больное место.
— Ну, — он улыбнулся, — вы по-прежнему изменяете мне с моим двойником?
— Не понимаю…
— Приходит ли к вам по ночам инкуб в моем облике?
— Нет. Теперь вы мой, и нет необходимости прибегать к воображению.
— Да вы настоящая сатанистка, догадываетесь ли вы об этом?
— Возможно, я так много общалась со священниками!
— Неплохой ответ! — Он слегка поклонился ей. — Дорогая моя Гиацинта, окажите мне услугу, ответьте на один вопрос. Вы знакомы с каноником Докром?
— Да.
— Что он собой представляет? Я так часто слышу о нем.
— От кого?
— От Гевэнгея и от де Герми.
— А! Так вы общаетесь с астрологом. Да, он когда-то встречался с каноником в нашем доме. Но я не знала, что Докр как-то связан с де Герми, который в те времена был у нас редким гостем.
— Да нет, между ними нет никаких отношений. Де Герми даже никогда не видел Докра, он просто тоже много слышал о нем от Гевэнгея. Неужели то, в чем обвиняют каноника, правда?
— Ну, не знаю. Докр очень учтивый человек, он хорошо воспитан и прекрасно образован. Одно время он состоял духовником при королевской фамилии и, несомненно, стал бы епископом, если бы не сложил с себя сан. О нем говорят много плохого, но духовенство так любит сплетни.
— Но ведь вы лично знаете его!
— Да, он даже был моим духовным отцом.
— Тем более вам должно быть многое известно о нем.
— Допустим, что вы правы. Вы весь вечер ходите вокруг да около. Скажите прямо, что вас так интересует?
— О, любые сведения о нем! Хорош ли он собой, богат ли?
— Ему сорок лет, у него приятная внешность, и он тратит большие суммы денег.
— А вы верите в то, что он занимается колдовством и служит черные мессы?
— Это очень может быть.
— Простите мою настойчивость… мне не следует допытываться, тянуть жилы… могу ли я задать вам нескромный вопрос? Эта ваша способность вызывать инкуб…
— Да, я научилась этому от него. Надеюсь, теперь вы удовлетворены.
— И да, и нет. Спасибо, что вы были так добры и ответили на мои вопросы. Боюсь, я злоупотребляю вашим доверием… но не подскажете ли вы мне способа увидеть каноника Докра?
— Он в Ниме.
— Прошу прощения, в данный момент он в Париже.
— А! Вы в курсе! Что ж, даже если я и знаю такой способ, будьте уверены, я не скажу вам о нем. Вам не следует общаться с ним.
— Вы полагаете, что он опасен?
— Мне хотелось бы воздержаться от комментариев. Но у вас с ним не может быть ничего общего.
— Но мне необходимо расспросить его о сатанизме. Моя книга…
— Вам придется прибегнуть к другим источникам. И вообще, — она подошла к зеркалу и надела шляпку, — муж порвал с этим страшным человеком, он больше не бывает у нас.
— Но это не основание для того, чтобы…
— Чтобы что?
— Чтобы… впрочем, ладно, — у него чуть было не сорвалось: «чтобы вы отказались от общения с ним».
Она не настаивала. Поправив волосы под вуалью, она улыбнулась своему отражению. Он взял ее за руки и поцеловал.
— Когда я снова увижу вас?
— Насколько я поняла, мне не следует больше появляться здесь.
— О, вы прекрасно знаете, что я люблю вас, вижу в вас друга… скажите, когда вы сможете прийти?
— Послезавтра, если это не нарушит ваши планы.
— О, конечно же, нет!
— Ну, тогда до встречи!
Они поцеловались.
— И забудьте о канонике Докре! — Она погрозила ему пальцем и исчезла.
«Провались ты со своими недомолвками!» — возмутился он, запирая за ней дверь.
XVI
Если вдуматься, все выглядит очень странно, — размышлял Дюрталь. — Я выстоял в самый трудный момент, когда, по идее, моя воля должна была ослабнуть, я не уступил Гиацинте, явно намеревавшейся надолго обосноваться здесь, но потом, пребывая в совершенно здравом рассудке, я сам стал умолять ее бывать у меня! Правда, у меня не было твердого намерения порвать с ней окончательно, нельзя же ее спровадить, как какую-нибудь девку, — он прикинул, является ли этот довод оправданием его непоследовательности. — И потом, я надеялся выведать у нее что-нибудь о канонике Докре. Да, но в этом мне не повезло. Как бы мне разговорить ее? Вчера она держалась настороженно и отвечала по возможности односложно.
Что связывает ее с этим аббатом? Он был ее духовником и, по ее собственному признанию, научил ее обращаться к инкубам. Наверняка она была его любовницей. Она постоянно вращается среди духовенства, и кто знает, скольких еще она околдовала своими чарами. Ведь именно священники пользуются ее особым расположением. Эх! Если бы я был вхож в эти круги, то наверняка узнал бы массу занятных подробностей о ней и о ее муже. Странно, Шантелув снискал себе довольно плачевную репутацию, но ее тень не коснулась мадам Шантелув. Я не слышал, чтобы кто-нибудь рассказывал о ее похождениях… хотя это не так уж удивительно, ведь Шантелув известен не только среди духовенства и в светском обществе, он подвизается и в кругах литераторов и, естественно, является объектом всяческих пересудов, но в тех домах, где я бываю, не принято приглашать религиозных деятелей, и потом, аббаты — весьма скрытные натуры, а ее избранники — именно те, кто облечен саном. Но как объяснить ее визиты ко мне? Разве что сутаны стали вызывать у нее тошноту, и она решила отдохнуть от черночулочников. Так сказать, каникулы на мирском островке.
Как бы то ни было, она очень странная женщина. Чем больше я ее узнаю, тем меньше понимаю. Я наблюдал ее в трех ипостасях.
Сначала передо мной была светская дама, сдержанная, даже высокомерная, а в более интимной обстановке — сердечная, даже ласковая.
Затем я лицезрел ее в постели, все в ней было другим: и манера держаться, и тембр голоса, отбросив всякий стыд, она, словно гулящая девка, изрыгала какие-то сальности.
Наконец вчера она показала себя настоящей бестией, сатанисткой, циничной и угрюмой.
И все это сплавлено воедино? Каким образом? Не знаю… Уж не лицемерие ли цементирует эти противоречивые облики? Хотя нет, иногда она настолько откровенна, что это даже обескураживает. Возможно, в такие минуты она просто позволяет себе расслабиться, забыться. Впрочем, к чему пытаться понять характер этой похотливой ханжи! Мои опасения не подтвердились, она не требует, чтобы я развлекал ее, не настаивает на том, чтобы я обедал в ее доме, не ищет каких-нибудь выгод, не заманивает меня в ловушку, опасную, двусмысленную ситуацию. Чего же еще? Лучшую возлюбленную мне не найти. Да, но я и не настроен кого-нибудь искать, я предпочел бы вверять свое тело в продажные руки, за двадцать франков ко мне бы отнеслись с должным вниманием. Да и вообще, только проститутки умеют стряпать пикантные кушанья из чувств.
Странно, вдруг пришло ему в голову, как соблюдаются определенные пропорции. Жиль де Рэ тоже имеет три облика.
Сначала смелый и набожный вояка.
Затем творец, натура изысканная, хотя и преступная.
Под конец — кающийся грешник, мистик.
Эти перемены происходили резко, одним рывком. Если взять всю его жизнь в целом, то на каждый порок приходится добродетель в противовес, но между ними пропасть.
Он был гордецом, болезненно-самолюбивым, но в порыве раскаяния пал на колени перед толпой, униженный, в слезах, которые могли бы течь по щекам святого.
Его жестокость была нечеловеческой, и тем не менее он знал, что такое милосердие, был предан своим друзьям, ухаживал за ними, как за кровными братьями, когда они попадали в лапы дьяволу и оказывались между жизнью и смертью.
Он был нетерпелив, но умел ждать, был смел перед лицом врага, но трепетал перед могуществом зверя из бездны, имел деспотичный, не знавший пощады характер, но слабел, заслышав лесть, которую источали его прихлебатели. Он пережил и взлеты и падения, но его душа никогда не паслась на равнинах, в пампасах. Где та тропинка, которая соединила бы эти противоречия? Когда его спросили, кто внушил ему мысль о подобных преступлениях, он ответил: «Никто, меня толкнуло на это мое воображение, во всем виноваты мои тайные помыслы, мои привычки, склонность к распутству и оргиям».
Он обвинял себя в праздности, утверждал, что изысканная кухня и излишества, которые он себе позволял, выпустили дремавшего хищника на свободу.
Он был далек от минутных, преходящих страстей, изведал глубины добра и зла, душа его билась в пучинах этих двух крайностей. Он умер в возрасте тридцати шести лет, испив до дна стихию необузданных радостей и неутолимых печалей. Он любил на краю смерти, прикасался губами к неподдельным мукам и ужасу, задыхался в объятиях неумолимого раскаяния, ненасытная тоска пожирала его. Он все испробовал, и ему нечего было ждать от земной жизни.
Дюрталь перелистал свои записи. Итак, близилось возмездие. В предыдущих главах он писал о том, что жители прилегавших к замкам маршала мест дознались, кто то чудовище, которое похищает и убивает их детей. Но никто не осмеливался вслух заговорить об этом. Едва завидев хищника, все бросались врассыпную, укрывались в своих домах, за высокими изгородями.
Мрачный и надменный, Жиль проезжал по опустевшим деревням, мимо запертых дверей. Он бы уверен в своей безнаказанности, ибо любой крестьянин счел бы безумием выступить против господина, одного слова которого было бы достаточно, чтобы вздернуть его на ближайшем дереве.
Простой люд боялся его, а пэры не желали связываться с ним из-за каких-то мужланов, сам же герцог Бретани, Жан V, был к нему милостив, потому что стремился за бесценок скупить у него все земли.
Была только одна сила, способная возвыситься над феодальной иерархией, над интересами отдельных людей, отомстить за слабых и обездоленных, — Церковь. И она в лице Иоанна де Малеструа преградила путь чудовищу и поразила его.
Иоанн де Малеструа, епископ Нанта, происходил из знатного рода. Он состоял в близком родстве в Жаном V, и его набожность, глубокая ученость, милосердие весьма почитались герцогом.
Стоны обезлюдевших деревень достигли его слуха, и он втайне начал следствие, следил за маршалом, выжидая удобного момента для того, чтобы вступить в ним в открытую борьбу.
Вскоре Жиль совершил набег, позволивший епископу расправиться с ним.
Чтобы заделать образовавшиеся в его состоянии бреши, Жиль продал свое поместье Сент-Этьен-де-Мер-Морт одному из подданных Жана V, Гийому ле Феррон, который отправил своего брата Иоанна осмотреть его новые владения.
Спустя несколько дней маршал во главе войска из двухсот человек двинулся на Сент-Этьен. Была Троица, и люди собрались на праздничную мессу. Жиль ворвался в церковь, разметал ряды верующих и перед онемевшим священником подступил с угрозами к молившемуся Иоанну ле Феррону. Ход богослужения был нарушен, и толпа хлынула из церкви. Жиль проволок Иоанна, просившего пощадить его, до самого замка, приказал опустить подъемный мост и силой оккупировал крепость, а своего пленника отправил в Тиффог, где он был брошен в тюрьму.
Он нарушил закон Бретани, запрещавший баронам снаряжать войско без согласия герцога, и дважды провинился перед Церковью, осквернив предел храма и учинив расправу над Иоанном ле Ферронном, духовным лицом.
Епископ узнал о нападении и уговорил колебавшегося Жана V выступить против маршала. Часть войска двинулась на Сент-Этьен, другая осадила Тиффог, Жиль же с небольшим отрядом укрылся в замке Машекуль.
Одновременно прелат торопился с расследованием преступлений Жиля. Он развил невероятно бурную деятельность, разослал по деревня своих уполномоченных и доверенных лиц. Покинув свою резиденцию в Нанте, он сам занялся сбором показаний потерпевших. Плотину молчания прорвало, люди на коленях умоляли его защитить их, и, потрясенный услышанным, епископ принял твердое решение добиться справедливости.
Через месяц следствие было закончено. Иоанн де Малеструа огласил грамоту, в которой Жиль обвинялся во многих преступлениях, и после того, как все формальности были соблюдены, появилось предписание об аресте.
В этой бумаге, выдержанной в форме указа и подписанной 13 сентября 1440 года от Рождества Христова в Нанте, перечислялись все бесчинства маршала, а заканчивалась она энергичным призывом ко всей епархии подняться против убийцы и покарать его.
«Итак, мы приказываем всем и каждому в отдельности, согласно этому предписанию, сообразуясь с собственной совестью, не перекладывая долга на чужие плечи, предстать, не колеблясь, перед нами или официальным церковным судом в первый понедельник после Воздвижения, 19 сентября для дачи показаний по делу Жиля, барона де Рэ, которое вверено нашей юрисдикции, а также настоящим повелеваем вышеназванному Жилю, барону де Рэ, явиться в суд и держать ответ по поводу злодеяний, в которых он обвиняется.
Повинуйтесь этому приказу и призывайте других повиноваться ему».
На следующий день гвардейский капитан Жан Лабо, действовавший по поручению герцога, и Робин Гийоме, нотариус, выступавший от имени епископа, в сопровождении небольшого отряда подошли к замку Машекуль.
Что творилось в душе маршала? Вряд ли он смог бы оказать сопротивление на открытой местности, но крепостные стены надежно укрывали его. И несмотря на это, он сдался!
Его ближайшие приспешники, Роже де Брикевиль и Жиль де Сийе, бежали. Он остался с Прелати, которому не удалось спастись, хотя он и пытался.
Жиль и Прелати были закованы в цепи. Робин Гийоме обыскал весь замок, от подвалов до верхних этажей. Он обнаружил окровавленные рубашки, обугленные кости, пепел — все то, что Прелати не успел сбросить в канавы и сточные ямы.
Под проклятия и крики ужаса Жиль и его помощники были препровождены в Нант, где их заточили в замок де ля Тур Нёв.
«Все это не совсем понятно, — думал Дюрталь. — Вопреки своему отчаянному характеру маршал без единого выстрела позволяет занять замок, покорно подставляет свою шею!»
Быть может, ночные оргии, гнусные забавы посеяли в нем угрызения совести, которые сокрушили, переломили его? Или он устал от своих злодеяний и, подобно многим убийцам, чувствовал потребность в каре? Никому не известно. А возможно, он уповал на свой титул, поднявший его надо всеми, сделавший неуязвимым? Надеялся ли он смягчить герцога, пообещав ему щедрый выкуп, замки, земли?
Можно строить самые разные предположения. Известно ли ему было, что Жан V долго не решался уступить мольбам епископа и не спешил поднимать войско и начать травлю маршала из боязни вызвать неудовольствие у знати его герцогства?
Ни в одном из документов обо всем этом не сказано ни слова. «Худо или бедно, но в книге все встанет на свои места. Но и в самом деле с точки зрения уголовной процессуальности возникают не менее навязчивые вопросы».
Сразу после того как Жиль и его сообщники были взяты под стражу, были созданы два трибунала. Один, церковный, должен был рассматривать преступления против Церкви, другому, гражданскому, подлежали прочие злодеяния.
По правде говоря, гражданский трибунал, члены которого присутствовали на публичных церковных судебных разбирательствах, отошел на второй план, масштабы его дознаний были довольно скромны. Однако именно он вынес смертный приговор, который не признавала Церковь, так как придерживалась древнего правила — да отречется Церковь от кровопролития.
Заседания церковного суда продолжались месяц и еще неделю, гражданский суд завершил процесс за два дня. Создается впечатление, что герцог Бретани предпочел спрятаться за спину епископа и сознательно принизил роль гражданского трибунала, который обычно противился вмешательству Церкви.
Вел заседание Иоанн де Малеструа. Судьями он выбрал епископов Мана, Сен-Брийока и Сен-Ло, кроме высшего духовенства, в процессе принимали участие законоведы. Их имена фигурируют в протоколах заседаний: Гийом де Монтинье, адвокат, Жан Бланше, бакалавр правовед, Гийом Гроиге де Роберт де ля Ривьер, лиценциаты «обоих прав», Эрве Леви, сенешаль Квимпера. Пьер де л’Оспиталь, канцлер Бретани, который в соответствии с законодательством должен был возглавлять гражданское судебное разбирательство, помогал Иоанну де Малеструа.
Прокурорский надзор в церковном трибунале был поручен Гийому Шапейрону, кюре Сен-Никола, человеку красноречивому и изворотливому. К нему были приставлены помощники: Гоффрой Пипрер, настоятель Сант-Мари, и Жак де Пенткетдик, член церковного суда Нанта.
Кроме того, Церковь учредила инквизиторский трибунал, компетентный в вопросах ереси — отступничества, святотатства, колдовства и черной магии.
Инквизиторский надзор осуществлял грозный и опытный Иоанн Блуин из ордена доминиканцев. Он был послан главным инквизитором Франции Гийомом Мереси и исполнял должность вице-инквизитора епархии и города Нанта.
Заседания начинались утром, судьи и свидетели должны были являться натощак. В первый день были заслушаны рассказы родителей, потерявших своих детей, затем Робин Гийом, тот самый нотариус, принимавший участие в захвате Машекуля, а во время процесса назначенный судебным исполнителем, зачитал указ о вызове в суд Жиля де Рэ. Маршала тотчас же привели, и он презрительно заявил, что сомневается в компетенции трибунала, тогда в соответствии с процедурой суда прокурор отклонил его отвод как безосновательный и «пустой», сочтя его «способом вызвать затруднения и отсрочить наказание за совершенные преступления», и призвал трибунал Продолжить заседание. Он огласил обвинения, выдвинутые против Жиля, в ответ маршал выкрикнул, что прокурор — лжец и предатель. Тогда Гийом Шапейрон протянул руку к распятию и поклялся в том, что говорит истинную правду, а потом призвал маршала сделать то же самое. Но этот человек, не отступавший ни перед каким святотатством, дрогнул и отказался принести клятву перед Богом, и заседание перешло к следующему вопросу под вопли Жиля и оскорбления в адрес прокурора.
Через несколько дней начались публичные дебаты. Обвинительное заключение прокурора было зачитано в присутствии Жиля при большом стечении народа. Шапейрон медленно, пункт за пунктом, перечислял все преступления де Рэ, предъявил ему обвинение в совершении ряда убийств, отягощенных издевательствами и насилием, в колдовстве и чернокнижии, в том, что он нарушил неприкосновенность Святой Церкви разбойничьим нападением на Сент-Этьен-де-Мер-Морт. Народ, содрогаясь, выслушал Шапейрона.
После некоторого молчания, воцарившегося по окончании чтения, прокурор снова взял слово. Оставив в стороне убийства, он перешел к тем преступлениям, рассмотрение которых лежало в ведении церковного суда. Он потребовал отлучить Жиля от Церкви, во-первых, как еретика, сатаниста, отступника и, во-вторых, как содомита.
Жиль пришел в бешенство от этого обвинительного заключения, сжатого, но исчерпывающего. Он осыпал ругательствами судей и отказался отвечать на вопросы. Прокурор и судебные заседатели предложили ему прибегнуть к защите. Но он снова уклонился, предпочитая поносить членов трибунала, и замолк, как только речь зашла об опровержении обвинений.
Тогда епископ и вице-инквизитор объявили его виновным и вынесли приговор об отлучении его от Церкви, который тотчас же был обнародован.
Судебное разбирательство должно было продолжиться на следующий день.
Раздавшийся звонок в дверь оторвал Дюрталя от записей. Вошел де Герми.
— Я только что от Карекса, он заболел, — сказал де Герми.
— А что с ним?
— Ничего серьезного, немного простудился, через два дня он будет на ногах, если согласится сохранять благоразумие.
— Пожалуй, завтра зайду навестить его, — решил Дюрталь.
— А как твои дела? Работаешь?
— Да, корплю над процессом по делу барона де Рэ. Довольно утомительное занятие.
— И что, по-прежнему не предвидится конца твоему сочинению?
— Да, — Дюрталь потянулся, — впрочем, я и не хочу спешить. Что я буду делать, когда окончу книгу? Придется искать новый сюжет, вымучить первые главы, которые всегда даются с большим трудом. Меня ждет период мучительной праздности. Нет, правда, иногда мне кажется, что литература существует только для того, чтобы излечивать тех, кто ее создает, от отвращения к жизни.
— Ну и заодно утишать тоску немногочисленных поклонников искусства.
— Да, таких людей горстка.
— Их становится все меньше и меньше. Новое поколение интересуется лишь азартными играми да жокеями.
— Это точно, никто не читает, все делают ставки. Кажется, только так называемые «светские дамы» покупают книги, в их руках успех и фиаско литератора. И вот этакой Даме, как выражается Шопенгауэр, а я скажу — этой глупой гусыне — мы обязаны тем, что книжные лавки завалены какой-то слизистой теплой размазней!
Да уж, литературу ждет хорошенькое будущее! Чтобы угодить дамскому вкусу, нужно, сюсюкая, излагать давным-давно усвоенные истины и незамысловатые идеи.
Впрочем, все к лучшему. Тем немногим настоящим художникам, которые еще остались, нет дела до публики. Они забиваются подальше от светских гостиных и работают, не соприкасаясь с толпой законодателей мод в литературе. Единственное огорчение состоит в том, что, как только книга напечатана, к ней тут же липнет сальное любопытство профанов.
— К сожалению, нельзя не признать, что это род проституции, торговля собой, готовность переносить любые фривольности первого встречного, насилие по договоренности, за плату.
— Да, непомерное тщеславие и зависимость от презренного металла не позволяют укрыть свое детище от невежд. Искусство, как и любимая женщина, должно быть недосягаемым, далеким, только молитвенное отношение дарует чистоту семени, извергаемому душой. Поэтому я испытываю лишь отвращение к своим опубликованным книгам. Я всячески стараюсь обходить те места, где они открыто предлагают себя. И только через несколько лет, когда они покидают витрины, в каком-то смысле умирают, я примиряюсь с ними. Так что я сожалею, что история Жиля де Рэ все-таки близится к концу, я равнодушен к судьбе, которая ждет мою книгу, и знаю, что потеряю к ней всякий интерес, как только она будет напечатана.
— Послушай, а что ты делаешь сегодня вечером?
— Еще не знаю. А что?
— Может быть, поужинаем вместе?
— С удовольствием!
Дюрталь взялся за ботинки, а де Герми вернулся к оставленной теме:
— В пресловутом литературном мире меня поражает тот размах, который ханжество и нечистоплотность приняли в наше время. Например, все может быть оправдано словом «дилетант».
— Конечно, оно весьма плодотворно. Поразительно, что критики, использующие его в качестве похвалы, не задумываются о том, что этим сами себе наносят пощечину, уличают себя в нелогичности. Дилетант лишен индивидуальности, он никого не любит и ни к кому не питает ненависти, а тот, кто ничем не отличается от многих других, не может быть талантлив.
— Иначе говоря, — подхватил де Герми, нахлобучивая шляпу, — писатель, который хвастается своим дилетантизмом, тем самым признается в своей бездарности!
— Именно, черт побери!
XVII
На следующий день ближе к вечеру Дюрталь прервал свою работу и отправился на башню Сен-Сюльпис.
Карекс лежал в своей комнате, прилегавшей к импровизированной гостиной, где они обычно обедали. И здесь тоже были ничем не затянутые каменные стены, сводчатые потолки. Но в спальне было еще более сумрачно, чем в соседней комнате, узкое полукруглое окошко выходило не на площадь Сен-Сюльпис, а на задворки церкви, и свет через него почти не проникал, так как путь ему преграждала крыша. В каморке стояла железная кровать со скрипучим пружинным матрацем и тюфяком, теснились два стула и стол, покрытый старым ковром. На стене — простое распятие, украшенное сухим самшитом.
Карекс полусидел в постели, вокруг него были разложены газеты и книги. Его глаза стали еще более прозрачными, он был бледнее, чем обычно. И так как он уже несколько дней не брился, его провалившиеся щеки поросли густой серой щетиной. Но улыбка скрадывала изможденность черт и делала его лицо даже привлекательным.
На расспросы Дюрталя он ответил:
— Все это пустяки, де Герми разрешил мне вставать с завтрашнего дня… Если бы еще не эта гадость, — и он указал на микстуру, которую ему приходилось пить по одной столовой ложке каждый час.
— А что это?
Но Карекс толком не знал, что за лекарство он поглощает в таком количестве. Де Герми принес ему бутылочку, наверное, чтобы избавить звонаря от затрат на лечение.
— Вы, должно быть, скучаете?
— Еще бы! И мне пришлось доверить мои колокола помощнику. О! Как звонарь он не стоит и ломаного гроша! Если бы вы слышали, какие звуки он извлекает из колоколов! Меня всего передергивает…
— Ну, стоит ли так портить себе кровь, — принялась увещевать его жена, — через два дня ты сможешь сам звонить в свои колокола.
Но он продолжал жаловаться:
— Нет, вы все не хотите понять… Ведь колокола привыкают к хорошему обращению, они, как животные, слушаются только своего хозяина. И теперь они вытворяют бог знает что, полный разнобой, я же слышу!
— А что вы читаете?
Дюрталь пытался увести Карекса от столь болезненной для него темы.
— О, все, что имеет отношение к колоколам. Вот, например, месье Дюрталь, я напал на описания, от которых захватывает дух. Послушайте, — и он открыл книгу с множеством закладок, — вот какая фраза была выбита на большом бронзовом колоколе в Шаффхоузене: «Зову живых, оплакиваю мертвых, утишаю гнев». А вот еще, на колоколе старой башни в Генте: «Мое имя — Роланд, слушайте мой голос — пожар и гроза над Фландрией».
— Да, хорошо сказано.
— Теперь уж ничего подобного не встретишь. Богачи выцарапывают свои имена И титулы на колоколах, которыми они одаривают церкви, и на них уже не остается места даже для краткого девиза. Нашему времени так не хватает смиренности.
— Если бы только этого! — вздохнул Дюрталь.
— Да что говорить, — Карекс по-прежнему был занят мыслями о колоколах. — Колокола ржавеют, металл каменеет и перестает звучать, когда-то эти верные помощники богослужения заливались звоном, пробуждались еще до восхода солнца, на рассвете оповещали о первом часе, затем напоминали о третьем часе в девять утра, в полдень били шестой час, в три часа дня девятый, созывали к вечерне и к полунощной службе. А теперь их голос можно услышать только перед началом мессы, и три раза в день — утром, в полдень и вечером, они оповещают о времени произнесения молитвы «Анжелус», в редких случаях они поют чаще. Только в монастырях они не впадают в дрему, там, по крайней мере, существуют ночные службы.
— Ну хватит уже об этом, — мадам Карекс подсунула ему под спину подушку, — тебе нельзя так волноваться, иначе ты никогда не выздоровеешь!
— Да, ты права, — покорно проговорил Карекс, — но я, старый грешник, никак не могу смириться со всем происходящим.
Он улыбнулся жене, и та наполнила ложку микстурой.
Раздался звонок. Мадам Карекс скрылась и через минуту ввела в комнату краснощекого веселого священника, который закричал с порога громовым голосом:
— Эта лестница ведет, должно быть, прямо в рай! Боже, я едва дышу!
Он рухнул в кресло, отдуваясь.
— Уф! Я узнал от церковного сторожа, — заговорил он, придя в себя, — что вы больны, и решил навестить вас.
Дюрталь с интересом разглядывал его. Его круглое лицо, выбритое самым тщательным образом, источало веселье. Карекс представил гостей друг другу, они поклонились, священник немного недоверчиво, а Дюрталь крайне холодно. Звонарь и его жена усиленно благодарили аббата за то, что он счел нужным подняться к ним. Дюрталь почувствовал себя неловко. Хотя Карексы и знали о том, что встречаются отступники и злодеи среди духовенства, все-таки священник представлялся им высшим существом, избранником, и рядом с ним другие словно переставали существовать для них.
Он откланялся. Спускаясь по лестнице, он думал: «Этот весельчак чем-то очень неприятен. Вообще, ликующий священник, врач или писатель внушает серьезные подозрения. Ведь они больше всех сталкиваются с человеческим горем, утешают людей, ухаживают за ними в болезни, изучают их. Только тот, в ком душа порочна, может после этого гоготать и резвиться. А ведь многие недовольны, если прочитанная ими книга столь же грустна, как сама жизнь. Им подавай приукрашенные занятные картинки, которые помогли бы им забыть о тяготах, замкнуться в собственном эгоизме.
Да, Карексы странные люди. Их прельщает слащавая опека священников, а это не так-то просто выносить, — они почитают их, преклоняются перед ними. Вот уж чистые души, искренние и кроткие! Я ничего не знаю об этом аббате, но он такой толстый, прямо лопается от жира, лицо пунцовое, такое впечатление, что он едва удерживается от распирающего его смеха. Сомневаюсь, что в нем есть нечто неземное. Правда, святой Франциск Ассизский весело смотрел на все, что его окружало… но это-то его и портит. Впрочем, священнику лучше быть посредственностью, иначе ему трудно будет понять души вверенной ему паствы. Кроме того, неординарность сразу же порождает ненависть духовенства и обрекает на гонения со стороны епископа».
Мысли Дюрталя перескакивали с одного предмета на другой. Оказавшись внизу, он несколько минут постоял, не зная, на что решиться. «Сейчас только половина шестого, я рассчитывал дольше пробыть наверху, до обеда остается еще как минимум полчаса».
Погода была теплой, снег расчистили. Дюрталь закурил и побрел через площадь.
Задрав голову, он отыскал окно гостиной Карексов. Его было очень легко узнать, в отличие от всех других застекленных проемов, оно было снабжено занавесками. «Довольно отвратительное сооружение! — решил он, окидывая взглядом церковь. — И этот квадрат, зажатый между двумя башнями, претендует на слепок с фасада Нотр-Дам! Ну и ну! — он пригляделся повнимательнее. — От паперти вверх тянутся дорические колонны, на втором этаже их сменяют ионические колонны с завитками, с ними мирно соседствуют коринфские колонны с акантовыми листьями. Что это за безбожная мешанина? И все это со стороны колокольни, вторая башня имеет незаконченный вид, она напоминает надломленную трубу, но все-таки выглядит не так уродливо.
Подумать только, потребовалось пятеро или даже шестеро архитекторов, чтобы возвести эту беспорядочную груду камней! Хотя какой-нибудь Сервандони или Оппенорд были своего рода Иезекиилями архитектуры, настоящими пророками, их творения опережали XVIII век, они поражают предвидением будущего. В ту эпоху, когда еще не существовало железных дорог, в известняковых громадах божественным откровением проглянули станционные строения. Сен-Сюльпис не церковь, а настоящий вокзал.
Да и внутри здание не выглядит ни более религиозно, ни более изысканно, чем снаружи. Единственное, что мне нравится в этом сооружении, так это висящая в воздухе каморка Карекса. Вообще, вся площадь не блещет красотой, но в ней есть чисто провинциальный уют. Ничто не может уравновесить уродство конструкции, наполняющей воздух прогорклым запахом богадельни. Никак не назовешь шедевром фонтан с многоугольным бассейном, грубыми вазами, которые подпирают львы, с изображениями прелатов в специальных нишах, и уж тем более здание мэрии, суконный стиль которого ест глаза. На этой площади, так же как и на соседних улицах — Сервандони, Гарансьер, Феру, — обволакивает влажная благодатная тишина. Пахнет затхлостью и отчасти ладаном. Площадь прекрасно гармонирует с прилегающими к ней улицами, столь же обветшалыми, пропитанными ханжеским духом, с рассыпанными по кварталу мастерскими по изготовлению икон и дароносиц, лавками, торгующими религиозными книгами в мрачных обложках, унылых, словно мощенная щебенкой мостовая, линяло-синих, черных.
Да, укромное, всеми забытое место».
Площадь была пустынна. Какие-то женщины поднимались по ступеням церкви, нищие бубнили под нос «Отче наш», потряхивая монетами в жестянках, священник, с книгой, обтянутой черной материей, под мышкой, столкнулся с дамами и поклонился им, резвились собаки, дети бегали друг за другом, прыгали через веревочку. Два вместительных омнибуса, один шоколадно-коричневый, другой — медово-желтый, отошли полупустые. На тротуаре рядом с общественным туалетом толпились водители. Малолюдно, тихо, и деревья напоминали молчаливые аллеи провинции.
Дюрталь еще раз взглянул на церковь. «Все-таки, когда будет не так холодно и темно, я поднимусь на самую вершину башни». Он в задумчивости покачал головой. «Хотя зачем? Вот в средние века Париж с птичьего полета представлял интерес, а сейчас… ну, увижу наползающие друг на друга серые улицы, белесые шрамы бульваров, зеленые пятна парков и скверов, линии домов, напоминающие ряды поставленных вертикально костяшек домино с белыми точками окон.
И потом прорывающие трясину крыш строения — Нотр-Дам, Сент-Шапель, Сен-Северин, Сент-Этьен-дю-Мон, Сен-Жак — теряются среди уродливого нагромождения новейших конструкций. Разве можно сравнить их благородную стать с таким образчиком искусства во вкусе мелких торговцев, каким является здание Опера, или с повисшей в воздухе дугой Триумфальной арки, или с дырявым подсвечником, известным под названием Эйфелевой башни.
Лучше лицезреть архитектуру Парижа снизу, с мостовой, натыкаясь взглядом на здания, открывающиеся при каждом новом повороте улицы.
Что ж, пора пообедать. Вечером придет Гиацинта, и я должен до восьми успеть вернуться домой».
Он зашел в ближайший винный погребок. В эти часы здесь почти никогда не бывало много посетителей, и Дюрталь мог спокойно продолжить беседу с самим собой, поглощая солидный кусок мяса и запивая его вином сочного оттенка. Он думал о мадам Шантелув и канонике Докре. Этот таинственный священник не выходил у него из головы. Что творится в душе человека, попирающего Христа, изображенного на подошвах его ног?
Какая сильная ненависть живет в нем! Винит ли он Христа в том, что он не даровал ему блаженства святости или его претензии более ограничены, и он страдает от того, что не достиг высших степеней церковной иерархии? Очевидно, что его претензии огромны и гордыня непомерна. Его не пугает даже то, что он внушает ужас и отвращение. Ведь это служит доказательством тому, что он личность. И потом, человеку с окончательно сгнившей душой, каким он, по всей видимости, является, доставляет наслаждение власть над врагами, которых он может безнаказанно повергнуть в пучину страданий. Сладострастие и упоение вседозволенностью, порождаемые связью с темными силами, поистине превосходят всякое воображение. Это удел наиболее трусливых преступников, ведь они не подлежат человеческому суду, но для верующего человека это предел падения, а Докр, несомненно, верует в Христа, раз он так его ненавидит.
Какой страшный человек! И эта связь с мадам Шантелув… Как бы заставить ее заговорить? Она решительно отказалась от каких бы то ни было объяснений по этому поводу. Ну что ж, надо выждать какое-то время. Но у меня нет никакого желания претерпевать приступы ее игривого настроения, поэтому мне придется намекнуть ей, что я нездоров и нуждаюсь в полном покое.
И он так и сделал, когда она появилась спустя час после его возвращения домой.
Она предложила ему чашку чая, он отказался. Она обняла его, а потом, слегка отстранившись, сказала:
— Вы слишком много работаете. Вам следовало бы немного развеяться, почему бы вам не поухаживать за мной? Ведь пока что роль пылкого влюбленного доставалась мне. Нет? Эта идея вам не кажется удачной? Что ж, придумаем что-нибудь другое. Не хотите ли сыграть в прятки с вашим котом? Пожимаете плечами? Ну, раз вы такой брюзга, давайте поговорим о вашем друге де Герми. Как он поживает?
— Да как обычно.
— А его опыты?
— Даже не знаю, продолжает ли он их.
— Ну, я вижу, что эта тема исчерпана. Должна заметить, мой дорогой, что ваши ответы слегка обескураживают.
— Случается, что нет настроения подробно отвечать на вопросы. Некоторые известные мне лица становятся удивительно лаконичными, стоит лишь затронуть определенную тему.
— Например, заговорить о канонике?
— Хотя бы.
Она устроилась поудобнее.
— Но, может быть, у известных вам лиц есть основания для того, чтобы держать язык за зубами? Или дело в том, что они хотят оказать услугу тому, кто их расспрашивает, и не препятствует ли откровенности этот любопытствующий кто-то?
— Гиацинта, дорогая, я ничего не понимаю! — Его лицо оживилось, он с силой сжал ее руки.
— Признайте, что мне все-таки удалось немного растормошить вас. Невозможно смотреть на ваше надутое ЛИЦО.
— Да. В ближайшую неделю Докр покинет Париж. Я дам вам возможности увидеть его в первый и последний раз. Не занимайте ничем ваши вечера в течение семи-восьми дней. В нужное время я свяжусь с вами. Но имейте в виду, друг мой, что из желания быть вам полезной я нарушаю приказ моего духовника, которому не осмелюсь больше показаться на глаза, и навлекаю на себя проклятие.
Он приласкал ее, вежливо поцеловал и спросил:
— Вы верите в то, что с ним что-то не то? И к какому же средству он прибегает? К мышиной крови? специальной смеси? или к маслу?
— Вы хорошо осведомлены. Да, он пользуется всем этим. Он — единственный, кто умеет обращаться с подобными препаратами, ведь ими очень легко отравиться, и они, представляют угрозу для того, кто их изготовляет. Но если Докр нападает на беззащитную жертву, он выбирает более простые способы. Он дистиллирует экстракт из яда, добавляет серной кислоты, которая должна разъедать пораженное место, окунает в этот состав кончик ланцета, которым ларв наносит жертве укол. Это самый обычный прием, известный всем начинающим сатанистам.
Дюрталь засмеялся.
— Послушать вас, так получится, что смерть отсылается по почте, как письмо.
— Между прочим, некоторые болезни, например холера, передаются через письма. Во время эпидемий санитарные кордоны обрабатывают всю почту.
— Это так, но речь идет не об этом.
— Почему же? Ведь вас удивляет возможность невидимого перемещения опасности на расстояние.
— Мне странно, что в подобных вещах замешаны и розенкрейцеры. Мне они всегда казались простоватыми, этакими мрачноватыми шутниками.
— Ну, все тайные общества состоят по большей части из простофиль, а во главе всегда шутники, которые ими управляют. По крайней мере, так обстоит дело с розенкрейцерами. Тем не менее их предводители тайком вершат преступления. Для многих злодейских ритуалов не требуется ни особой эрудиции, ни острого ума. Но я точно знаю, что среди них есть один бывший литератор. Он состоит в близких отношениях с замужней женщиной, и они проводят все свои досуги, пытаясь наслать порчу на ее мужа.
— Надо же, это гораздо удобнее, чем требовать развода!
Она посмотрела на него и состроила недовольную гримаску.
— Я вижу, что вы смеетесь над моими словами. Вы ничему не верите. Раз так, я замолкаю.
— Да нет, уверяю вас, я совершенно серьезен. Просто все это не укладывается в моей голове. Признаюсь, на первый взгляд то, что вы рассказываете, кажется по меньшей мере неправдоподобным. Но факт остается фактом: современная наука лишь подтверждает открытия древней магии. Вот, например, все смеялись над средневековым представлением о том, что женщина может превратиться в кошку. А совсем недавно к месье Шарко привели маленькую девочку, которая бегала на четвереньках, прыгала по-кошачьи, мяукала, царапалась и играла, как котенок. Значит, такое превращение возможно! Нет, эту истину стоит повторить лишний раз: мы так ничтожно мало знаем, что не имеем права отрицать что бы то ни было. Но, возвращаясь к розенкрейцерам, они предпочитают колдовству чистую химию?
— Я только могу сказать, что их эликсиры, даже если предположить, что они умеют их изготовлять, во что лично я не очень-то верю, не представляют большой опасности. Но из этого совсем не следует, что отдельные группы, возглавляемые священником, не прибегают в случае надобности к осквернению евхаристии.
— Представляю себе этого священника! Вы так сведущи в этих вопросах, может быть, вам известно также, как предотвратить воздействие эликсиров?
— Я лишь знаю, что, если яды скреплены колдовскими чарами, не так-то просто подобрать антидот. Бороться с таким врагом, как каноник Докр или какой-нибудь другой знаменитый чернокнижник, чрезвычайно трудно. Тем не менее я слышала об одном аббате из Лиона, который оказался достойным противником и сумел справиться с весьма тяжелыми случаями порчи.
— Доктор Иоханнес!
— Вы с ним знакомы?
— Нет, но о нем говорил Гевэнгей. К нему-то он и отправился за помощью. Не представляю, как ему удается спасать людей. Ведь если действие зелья не усилено колдовством, то опасность можно отвести, следуя правилу обратной посылки. Удар падает на того, кто попытался его нанести. И сейчас еще существуют две церкви, одна в Бельгии, другая во Франции, где достаточно помолиться перед статуей Девы Марии, и порча тотчас покидает жертву и настигает ее врага.
— Да ну?
— Да. Одна церковь находится в Тонгре, в восемнадцати километрах от Льежа, и носит имя Нотр-Дам де Ретур, а другая, де л’Эпинь, — в небольшой деревушке недалеко от Шалона. Когда-то ее построили специально, чтобы предотвращать чары, которые напускались при помощи колючек терновника, растения, представленного в этих местах в изобилии, ими протыкались изображения, вырезанные в форме сердца.
— Под Шалоном? — Дюрталь напряг свою память. — По-моему, де Герми упоминал о каких-то сектах сатанистов, осевших в этом городе, когда рассказывал о том, как можно воздействовать на жертву посредством крови белых мышей.
— Да, эти места издавна известны как рассадник сатанизма.
— Вы прекрасно подкованы в области чернокнижия. Вас научил этому Докр?
— О, ему я обязана лишь немногими знаниями. Хотя он привязался ко мне и даже хотел, чтобы я стала его ученицей. Я отказалась и теперь особенно радуюсь этому, потому что в гораздо большей степени, чем раньше, озабочена проблемой смертного греха..
— А вы когда-нибудь уже присутствовали на Черной Мессе?
— Да, и заранее предупреждаю Вас, что вы пожалеете о том, что стали свидетелем столь ужасного зрелища. Об этом нельзя забыть, это вечный кошмар, который преследует, даже… особенно, когда вы лично не принимаете участия в ритуале.
Он пристально посмотрел на нее. Она побледнела, ее дымчатые глаза блестели.
Потом не жалуйтесь, если спектакль заставит вас содрогнуться от ужаса, вы сами захотели, стать зрителем…
Он смешался, задетый ее глухим, тоскливым голосом.
— А кто этот Докр? Откуда он взялся? Как Получилось, что он достиг такой известности как чернокнижник и сатанист?
— Не знаю. Я познакомилась с ним, когда он был священником в Париже. Затем он стал духовником опальной королевы. Он оказался замешан в жутких событиях, но благодаря, протекции их удалось замять. Его сослали в аббатство Трапп, затем лишили сана и решением Рима отлучили от Церкви. Много раз он обвинялся в убийстве, но его всегда отпускали, потому что суду не удавалось представить, веских доказательств. Не знаю, как ему удается, но он живет в достатке, много путешествует, повсюду возит с собой одну женщину, ясновидящую. Он, конечно, преступник, извращенец, но он очень образован и притом невероятно обаятелен.
— О! Ваш голос, ваши глаза выдают вас. Признайтесь, вы любите его!
— Нет, я не люблю его. Но когда-то мы были без ума друг от друга.
— А теперь?
— Клянусь вам, с этим покончено. Мы друзья, не больше того.
— Вы, наверное, часто бывали у него. Любопытно, отличался ли его дом, интерьеры от других?
— Пожалуй, нет. Разве что удобством и чистотой. У него была химическая лаборатория, огромная библиотека. Однажды он показал мне старинную книгу с описанием Черной Мессы. В ней были восхитительные миниатюры, а переплетена она была в кожу ребенка, умершего некрещенным. Одна из сторон была украшена, как виньеткой, большой облаткой, освященной во время Черной Мессы.
— И что было написано в этой книге?
— Я ее не читала.
Они замолчали. Мадам Шантелув дотронулась до его руки.
— Ну вот, вы и приободрились. Я знала, что сумею разогнать ваше мрачное настроение. Согласитесь, я заслуживаю похвалы за то, что не рассердилась на вас.
— А разве на то были причины?
— Ну, не очень-то приятно видеть, что моя персона не вызывает у вас такого энтузиазма, как совершенно посторонние люди.
— Это не так, — поспешно проговорил он и поцеловал ее в глаза.
— Не надо, — тихо сказала она. — Уже поздно, мне пора.
Она вздохнула и выпорхнула за дверь. Ошеломленный услышанным, он в который раз задавался вопросом: из какой тины выплыла вдруг эта женщина?
XVIII
На следующий день после того как Жиль де Рэ изрыгал проклятия на членов Трибунала, его снова привели в суд.
Он предстал перед судьями с низко опущенной головой, молитвенно сложив руки. Из одной крайности он, по своему обыкновению, впал в другую. За несколько часов его ярость стихла, он образумился, признал полномочия Трибунала и попросил прощения за нанесенные оскорбления.
Ему было объявлено, что об инциденте, происшедшем накануне, будет забыто ради любви к Господу, затем по просьбе маршала епископ и инквизитор повторили приговор о его отлучении от Церкви. Начиная с этого дня суд занялся также Прелати и другими сообщниками Жиля. Прокурор, опираясь на церковное постановление, согласно которому исповедь обвиняемого признается недостаточной в случае ее «сомнительности, путаности, слишком общего характера, умозрительности, несерьезности», провозгласил, что Жиль должен подвергнуться испытанию, выявляющему, насколько он был чистосердечен, то есть пыткам.
Маршал умолял епископа подождать еще один день, ссылался на свое право сначала дать показания суду, клялся, что поведает обо всем перед трибуналом и публикой.
Иоанн де Малеструа согласился на отсрочку, и епископу Сен-Бриока и Пьеру де л’Оспиталь, канцлеру Бретани, было поручено выслушать Жиля. Когда он закончил рассказ о своих злодеяниях и убийствах, они приказали привести Прелати.
Увидев Прелати, Жиль залился слезами и, когда после допроса итальянца уже собирались увести, обнял его со словами: «Прощай, Франсуа, друг мой, это наша последняя встреча в этом мире. Молю Бога, чтобы он ниспослал нам терпение и мужество. Не отчаивайтесь, надейтесь на милость Божию, она позволит нам возликовать на небесах. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас».
Его оставили одного, чтобы он поразмыслил о злодеяниях, в которых ему предстояло на следующий день признаться перед судом.
В тот день все происходило с особой торжественностью. Зал заседаний Трибунала был набит, толпа заполонила лестницы, двор, прилегающие к зданию улочки, преградила дороги. Со всей округи пришли крестьяне, чтобы посмотреть на чудовище, одного имени которого было достаточно, чтобы задвигались тяжелые запоры, укрывая в домах трепещущих, плачущих женщин.
Трибунал собрался в полном составе. Даже те, кто обычно искал себе замену, не выдерживая долгих заседаний, были на своих местах.
Зал был просторный, мрачный, стрельчатые колонны, обновленные понизу, упирались в арки сводов, соединяясь в одной точке, образуя нечто, напоминающее митру. Через узкие ячейки сеток просачивался хмурый день. Лазурный потолок словно потемнел, и рассыпанные по нему звезды, мерцавшие с высоты, казались крохотными булавочными головками. В сумеречном свете выделялся силуэт судьи в горностаевой мантии, украшенной нашивками, похожими на большие белые игральные кости, усыпанные темными крапинками.
Внезапно раздались резкие звуки труб, зал осветился, и вошли епископы. Вспыхнуло золото митр, пламя рубинов лизало накидки. Они молча прошествовали по залу, закованные в тяжелое облачение. Широкие мантии напоминали колокола, подтаявшие спереди. Перевязь из зеленоватой ткани крепилась с посохом.
От них исходило свечение, словно от углей, на которые дуют, чахлое октябрьское солнце оживало в огненных лучах, и искры разлетались по залу, замирали над молчаливой толпой.
На фоне струящегося мерцания камней, золота и серебра одеяние других судей выглядело менее эффектно и не так бросалось в глаза. Судьи были в черном, Иоанн Блуин носил черно-белое платье. Шелковые сутаны, красные шерстяные плащи, алые капюшоны, отороченные мехом, — все казалось грубоватым и нескладным.
Епископы заняли свои места рядом с Иоанном де Малеструа и застыли. Иоанн де Малеструа восседал на высоком кресле, возвышаясь над всеми.
Ввели Жиля.
За одну ночь он постарел лет на двадцать. Он был бледен, щеки нервно подергивались, глаза сверкали из-под красных век.
Повинуясь приказу, он начал свою исповедь.
Глухим голосом, севшим от слез, он поведал о похищениях детей, о возбуждающих средствах, которые он использовал, об убийствах, насилиях. Его жертвы стояли у него перед глазами, он описывал их медленную или мгновенную агонию, их хрипы и стоны, признался в том, что погружал свои члены в теплый разверстый кишечник, вырывал сердце из раны лопнувшего, словно зрелый плод, тела.
Он встряхивал руками, будто пытался смахнуть капли крови, его невидящий взгляд скользил по пальцам.
В зале царило гробовое молчание, только изредка его прорезали короткие резкие крики, обезумевших, потерявших от ужаса сознание женщин, их тут же подхватывали и быстро выносили под открытое небо.
Казалось, он ничего не видит и не слышит, и никакие силы не смогли бы прервать страшный перечень преступлений.
Его голос стал зловещим. Он сорвал покров с самых гнусных злодеяний и приступил к рассказу о том, как ласкал детей перед тем, как перерезать им горло в момент доверчивого поцелуя.
Он не утаил ни малейшей подробности этих жутких сцен. Это произвело настолько сильное впечатление, что увенчанные золотом епископы побелели. Священники, закаленные жаркими исповедями, судьи, которых в эту эпоху сатанизма трудно было удивить даже самыми страшными признаниями, прелаты, уставшие изумляться злодеяниям, глубинам человеческого падения, перерождению души, осеняли себя крестным знамением, а Иоанн Малеструа встал и целомудренно прикрыл распятие.
Опустив головы, стиснув зубы, присутствующие слушали маршала. По его перекошенному лицу струился пот, он вперился взглядом в распятие с топорщившимся на мученическом венце покрывалом.
Жиль замолчал. Он исповедовался стоя, словно в тумане, он вспоминал, как бы обращаясь к самому себе, весь свой путь в бездну.
Но, когда он закончил, силы покинули его. Сотрясаясь от рыданий, он рухнул на колени и возопил: «Боже, смилуйся надо мной, даруй мне прощение!» В этом свирепом своенравном бароне, первом среди равных, не осталось и тени былого высокомерия. Он повернулся к народу и с плачем обратился к людям: «Я взываю к вам, к тем, кого я лишил детей! Помогите мне! Молитесь за меня!»
И тогда незапятнанный, светлый дух средневековья осенил зал.
Иоанн де Малеструа поднялся, приблизился к обвиняемому, в отчаянии бившемуся лбом о плиты, и поднял его. Сбросив с себя облик судьи, он остался священником, готовым обнять раскаявшегося грешника.
Стон пронесся по залу, когда Иоанн де Малеструа, прижав голову Жиля к своей груди, произнес: «Молись, дабы утих справедливый гнев Всевышнего! Плачь, и да омоют твои слезы грязь и безумием твоей души!»
И в едином порыве все опустились на колени и молились за убийцу.
Когда гул голосов затих, присутствующих охватило смятение. Толпа, измученная ужасом и жалостью, пришла в движение. Молчаливые члены Трибунала спешили закончить заседание.
Властным жестом прокурор призвал всех к тишине, остановил слезы.
Он заявил, что состав преступлений ясен, выслушаны свидетельства и вина доказана. Теперь суд готов вынести приговор в тот день, который будет назначен. Трибунал постановил собраться через два дня.
В указанный час Жак де Пенткетдик, член церковного суда Нанта, зачитал два приговора. Первый был представлен епископом и инквизитором. Он начинался так:
«Во имя Спасителя нашего Христа мы, Иоанн, епископ Нанта, и брат Иоанн Блуин, бакалавр богословия, принадлежащий к ордену доминиканцев, инквизитор епархии Нанта, на заседании Трибунала, перед ликом Господа нашего…»
Затем перечислялись преступления, подлежавшие церковному суду, и в заключение было сказано:
«Мы считаем, постановляем и объявляем, что ты, Жиль де Рэ, представший перед нашим Трибуналом, постыдно виновен в ереси, отступничестве, призывании демонов, и за твои преступления ты приговариваешься к отлучению от Церкви и другим карам, предусмотренным каноном».
Второй приговор подготовил епископ без чьей-либо помощи, он касался содомии, колдовства и осквернения церкви. В нем были использованы почти идентичные формулировки, и назначалось такое же наказание.
Жиль выслушал все, низко склонив голову. По окончании чтения епископ и инквизитор обратились к нему со словами: «Теперь, когда вы питаете отвращение к вашим злодеяниям, хотели бы вы вновь быть допущены в лоно нашей матери Церкви?»
Маршал принялся горячо молить их об этом, и они отменили наказание отлучением от Церкви и разрешили ему причащаться. Этим закончился церковный суд. Обвиняемый был уличен в свершенных преступлениях, приговор объявлен, но смягчен благодаря раскаянию маршала. Теперь дело было за светским судом.
Епископ и инквизитор передали дело гражданскому суду, и тот, исходя из числа зверских убийств, приговорил Жиля к смертной казни и к конфискации всего имущества. Виселица и костер ждали также Прелати и других его сообщников.
— Поблагодарите Господа нашего, — призвал Пьер де л’Оспиталь, который председательствовал на гражданском судебном разбирательстве, — и готовьтесь умереть с миром в душе, раскаявшись в столь тяжких преступлениях!
Но это увещевание было излишним.
Жиль без страха смотрел в лицо смерти. Он жадно, униженно надеялся на милосердие Спасителя, он стремился искупить земными страданиями свою вину и в огне костра избавиться от посмертных вечных мук.
Вдали от своих замков, в заключении он углубился в себя и ужаснулся скопищам грязи, которые на протяжении столь долгого времени питали сточные воды, омывавшие Тиффог и Машекуль, ставшие настоящими бойнями. Рыдая, он склонился над собой, не надеясь разгрести горы гнусных наслоений. И вдруг его душа, пораженная явленной ему милостью, содрогнувшаяся от омерзения, возродилась. Он омыл ее слезами, осушил огнем молитв, жаром безумных порывов. Кровавый содомит умер, и сподвижник Жанны д’Арк воскрес, его открытая мистицизму душа потянулась к Богу, прославляя его, изливаясь потоками слез.
Потом он вспомнил о своих друзьях, ему хотелось, чтобы и они умерли в просветленном состоянии души. Он обратился к епископу Нанта с просьбой, чтобы их казнили одновременно с ним, не раньше и не позже. Он заявил, что считает себя наиболее виновным из всех, осужденных на смерть, и что он должен ободрить других перед тем, как они взойдут на костер, и уверить их в том, что они будут спасены.
Иоанн де Малеструа обещал ему выполнить его просьбу.
«И вот что любопытно, — Дюрталь отложил перо, чтобы закурить, — ведь…»
Едва слышно звякнул звонок. Вошла мадам Шантелув.
Она объяснила, что поднялась всего на минутку, что ее ждет экипаж.
— Сегодня вечером будьте готовы, — сказала она. — Я зайду за вами в девять. А сейчас мне нужно, чтобы вы составили бумагу, примерно такую, как эта…
И она протянула ему сложенный лист.
Он развернул записку и прочел:
«Заявляю, что все написанное и сказанное мной о Черной Мессе, о священнике, отслужившем ее, о месте, в котором она якобы состоялась, о людях, встреченных мной там, — чистая выдумка. Я настаиваю на том, что все мои рассказы всего лишь плод фантазии и что в них нет ни слова правды».
— Это сочинил Докр? — спросил Дюрталь, разглядывая мелкий, угловатый, немного вычурный агрессивный почерк.
— Да. Он требует, чтобы это заявление было облечено в форму письма и обращено к тому лицу, которое согласилось вам помочь. Дату ставить не нужно.
— Неужели этот ваш каноник боится меня?
— Но, черт побери, вы пишете книги!
— Что-то мне это не очень нравится, — пробурчал Дюрталь. — А если я откажусь?
— Вы не увидите Черной Мессы.
Любопытство помогло преодолеть омерзение, и Дюрталь сочинил письмо, подписал его и отдал мадам Шантелув.
— И где же все будет происходить?
— На улице Оливье-де-Сер.
— А где это?
— Недалеко от улицы де Вожирар.
— Докр остановился там?
— Нет. Мы пойдем в дом, принадлежащий друзьям Докра. Если можно, продолжим допрос немного позже, я очень спешу. Не забудьте, в девять…
Он едва успел поцеловать ее, как она скрылась.
«Ну, — подумал он, оставшись один, — у меня есть кое-какие сведения об инкубах, об основных приемах колдовства, остается только Черная Месса, — и я буду в полной мере знаком с современным сатанизмом. Пусть меня повесят, если я подозревал о том, что таит в себе Париж! И как все взаимосвязано в этом мире: стоило мне заняться Жилем де Рэ — и тут же выплыл откуда-то из глубины современный сатанизм!»
Его мысли вернулись к Докру. «Ну и хитер же этот мерзавец! Но из всех оккультистов, которые копошатся вокруг забытых идей, меня интересует только он.
Все прочие — маги, теософы, каббалисты, спириты, алхимики, розенкрейцеры, — если они не откровенные мошенники, напоминают мне детей, которые забрались в подвал и затеяли шумные игры и перебранку. А эти гадалки, ясновидящие, ведьмы? Если разобраться в их кухне, то в основе лежат проституция и шантаж. Так называемые прорицатели будущего, как правило, нечисты на руку. Уж в этом можно не сомневаться!»
Пришедший де Герми прервал ход его мыслей. Он сообщил Дюрталю, что вернулся Гевэнгей и что через два дня все они обедают у Карексов.
— Его бронхит прошел?
— О да, он совершенно здоров.
Не в силах отвлечься от размышлений о Черной Мессе, Дюрталь не устоял и намекнул, что этим вечером увидит ритуал своими глазами. Видя изумление де Герми, он поспешил добавить, что не может рассказать об этом подробнее, так как дал слово держать все в секрете.
— Черт, везет же тебе! — вздохнул де Герми. — А кто же будет служить? Или об этом нельзя спрашивать?
— Ну почему же, можно. Каноник Докр.
— А!
Де Герми задумался, видимо, пытаясь понять, каким образом его друг добрался до этого священника.
— Когда-то ты говорил мне, — прервал молчание Дюрталь, — что в средние века Черная Месса произносилась над оголенной нижней частью спины женщины, а в XVII веке — над животом. А как обстоит дело сейчас?
— Думаю, что ритуал происходит, как и в церкви, перед алтарем. В конце XV века в Бискайе иногда делали именно так. Тогда дьявол принимал человеческий облик. Он напяливал разодранное и вывалянное в грязи епископское облачение и причащал обломками сношенных башмаков, выкрикивая: «Это мое тело!» Эту отвратительную ветошь он давал жевать своей пастве. Каждый должен был поцеловать его левую руку и кобчик. Надеюсь, тебе не придется таким образом выказывать свое почтение канонику.
Дюрталь рассмеялся.
— Нет, вряд ли ему оказываются такие почести. Но, послушай, тебе не кажется, что те, кто серьезно относится к службе сатане, не в своем уме?
— Не в своем уме? Почему же? Культ дьявола не более нелеп, чем культ Бога. Только первый сочится гноем, а второй осенен сиянием, вот и вся разница. Иначе придется признать, что все люди, верующие в некое высшее начало, безумны. Конечно, сторонники сатанизма проповедуют дурно пахнущий мистицизм, но все-таки мистицизм остается мистицизмом. Возможно, к запредельному злу их подталкивает бунтующая чувственность, ведь сладострастие — лучшая кормилица сатанизма. Медицина склонна расценивать тягу к разного рода гнусностям как один из видов невроза, и тут нечего возразить, потому что никто толком не знает, что это за род недуга, поразивший почти все население земного шара. Бесспорно, в наш век нервы не выдерживают малейшего потрясения. Вспомни хотя бы газетные статьи, посвященные проблеме смертной казни. В них часто говорится о том, что палачи робеют, теряют сознание, что у них расшатана нервная система, они не в состоянии привести приговор в исполнение. То ли дело палачи старой закваски! Они натягивали на ногу своему подопечному сапожок из мокрой кожи, который, высыхая над огнем, спаливал мясо до самой кости, или вбивали клин в задний проход, ломали кости, зажимали пальцы тисками, вырезали лоскуты кожи со спины, кроили фартук из брюшины, распинали, поджаривали, крошили на части, обваривали кипящей водкой — и все это с невозмутимым видом, и никакие крики и мольбы не давили на их нервную систему. Конечно, все эти хлопоты были довольно утомительны, но, закончив дело, исполнители приговоров с аппетитом принимались за еду и вино. Они были по уши в крови, но сохраняли душевное равновесие. А теперь… Но, возвращаясь к тем, кого ты увидишь сегодня вечером, повторю, что они отнюдь не сумасшедшие, просто-напросто крайне развращенные люди. Понаблюдай за ними. Я уверен, что, вызывая Вельзевула, они помышляют лишь о плотском грехе. Иди и ничего не бойся. Вряд ли среди тех, кто соберется, найдутся желающие повторить поступок одного святого, о котором пишет Жак де Воражинь в жизнеописании святого Павла Отшельника. Помнишь эту легенду?
— Нет.
— Тогда напомню ее тебе, чтобы освежить твою душу. Когда этот святой был еще совсем молод, его связали по ногам и рукам и уложили на кровать, а затем привели прекрасную женщину, которая сгорала от желания заняться с ним любовью. Он почувствовал страсть и был близок к падению, и тогда он отгрыз зубами свой язык и выплюнул его прямо в лицо соблазнительнице, «таким образом боль прогнала искушение», заключает Жак де Воражинь.
— Пожалуй, надо признать, что мой героизм вряд ли простирается до таких размеров… ты уже уходишь?
— Да, меня ждут.
— В какое нелепое время мы живем! — заметил Дюрталь, провожая де Герми до двери. — В тот момент, когда процветает позитивизм, вдруг поднимает голову мистицизм с безумными выходками оккультистов.
— Но так было всегда, каждый век завершается одним и тем же. Все устои содрогаются, и воцаряется смута. В эпоху, когда свирепствует материализм, магия набирает силу. Конец века — особый феномен, повторяющийся всякое столетие. Чтобы не забираться в далекое прошлое, можно обратиться к последним десятилетиям XVIII века. Наряду с рационалистами и атеистами ты найдешь там Сен-Жермена, Калиостро, Казотта, Габали, розенкрейцеров, общества сатанистов! Все возвращается на каждом витке истории. Ну, прощай, удачи тебе.
«Да, — покачал головой Дюрталь, запирая дверь, — прежние Калиостро по крайней мере держались с достоинством и кое-что умели, а сейчас приходится иметь дело с болванами и выскочками, которые выдают себя за знатоков магии!»
XIX
Фиакр, покачиваясь, преодолевал улицу де Вожирар. Мадам Шантелув забилась в угол и хранила молчание. Дюрталь смотрел на нее. Уличный фонарь, мимо которого проехал фиакр, на мгновение осветил ее вуаль. Ему показалось, что за ее безмолвной оболочкой скрывается нервозность, какое-то странное возбуждение. Он взял ее за руки, она не отняла их, и он сквозь перчатки почувствовал холод ее пальцев. Ее светлые волосы разметались по плечам, и этим вечером Дюрталь вдруг заметил, что они не столь уж тонки и ломки.
— Мы, наверное, уже подъезжаем, дорогая?
— Нет еще. Молчите! — ответила она тревожным шепотом.
Он затосковал, недовольный напряженной, почти враждебной тишиной, и уставился на дорогу, проплывающую в квадратном окошке фиакра.
Вокруг было пустынно. Уходящая в бесконечность дорога была плохо вымощена, и фиакр жалобно скрипел, подпрыгивая на булыжниках. По мере продвижения газовые фонари попадались все реже и реже, так что мостовая была едва освещена. «Зачем я ввязался в эту авантюру?» — подумал Дюрталь, встревоженный холодным, отрешенным лицом своей спутницы.
Наконец экипаж свернул в темную улицу и остановился.
Гиацинта вышла из фиакра. В ожидании, пока возница отсчитает положенную сдачу, Дюрталь осмотрелся. Видимо, они находились в каком-то тупике. Низкие угрюмые домики теснились у самого края проезжей части. Тротуаров не было. Фиакр отъехал, и Дюрталь, обернувшись, уперся взглядом в длинную высокую стену, над которой шумели во тьме кроны деревьев. Дюрталь заметил в стене с налепленными заплатами белой штукатурки, прикрывающими бреши и щели, дверь с прорезанным в ней окошком. В одном из домов зажегся свет, и какой-то человек в черном фартуке, какой надевают обычно торговцы вином, вышел из своей лавки, видимо, привлеченный шумом фиакра, и застыл на пороге.
— Это здесь, — проронила мадам Шантелув.
Она позвонила. Окошко открылось, мадам Шантелув приподняла вуаль, луч от фонаря ударил ей в лицо. Дверь бесшумно отворилась, и они оказались в саду.
— Здравствуйте, мадам.
— Добрый вечер, Мари.
— Куда нам пройти? В часовню?
— Да. Мадам угодно, чтобы я вас проводила?
— Нет, спасибо.
Женщина, державшая фонарь, окинула внимательным взглядом Дюрталя. Из-под капора на него смотрела старуха с неправильными, сморщенными чертами лица. Серые пряди волос беспорядочно торчали, примятые у основания головным убором. Не дав ему времени хорошенько разглядеть ее, она скрылась в маленьком домике, прилегавшем к стене.
Он двинулся вслед за Гиацинтой. Они шли по темным аллеям, в воздухе чувствовался запах самшита. Наконец показалось крыльцо какого-то строения. Мадам Шантелув уверенно толкнула дверь, словно находилась у себя дома, ее каблучки стучали по плитам.
— Осторожно, — предупредила она, когда они миновали прихожую, — здесь три ступеньки.
Они вышли во двор и остановились перед старинным фасадом. Она позвонила. Появился какой-то коротышка, посторонился, пропуская их, жеманным поющим голосом спросил у мадам Шантелув, как она поживает. Поприветствовав его, мадам Шантелув прошла вперед, взгляд Дюрталя скользнул по его неприятному лицу, водянистым глазам, немного подведенным, щекам с толстым слоем румян, накрашенным губам, и он подумал, что попал в самое логово сатанистов и содомитов.
— Вы не предупредили меня, что здесь собираются подобные типы, — упрекнул он Гиацинту, нагнав ее в том месте, где коридор, освещенный лампой, поворачивал.
— А вы надеялись повстречать здесь святых?
Она пожала плечами и дернула за ручку двери. Они шагнули в часовню. Низкий потолок перерезали балки, вымазанные дегтем, окна прятались под тяжелыми занавесками, стены выцвели и покрылись трещинами. Дюрталь невольно отступил назад. Зев обогревательного устройства изрыгал скрученные струи воздуха. От острого запаха сырости, плесени, угара, едких испарений, щелочи, смолы, жженой травы ломило в висках и першило в горле.
Он ощупью стал пробираться вперед, привыкая к мраку, царившему в часовне. Светильники из бронзы и розового стекла, свисавшие С потолка, давали лишь весьма скудное освещение. Гиацинта знаками предложила ему сесть и направилась к группе людей, устроившихся в темном углу на диване. Дюрталь, слегка смущенный положением изгоя, все-таки заметил, что среди присутствующих очень мало мужчин. Но напрасно он пытался разглядеть лица женщин и немногих собратьев. В луче света, падавшего с потолка, мелькнула темная шевелюра толстой дамы, затем гладко выбритая грустная физиономия какого-то мужчины. Он обратил внимание на то, что не было слышно женского кудахтанья, казалось, они вели важную беседу, боязливо избегая смеха и громких реплик. Они перешептывались нерешительно, пугливо, опасаясь лишних движений.
«Черт возьми! По всей видимости, Сатана не очень-то стремится сделать своих овечек счастливыми».
Певчий, в красном одеянии, отошел в глубину часовни и стал зажигать свечи. Из темноты выплыл алтарь, точно такой же, как и в обычном храме, с дарохранительницей, над которой возвышалось распятие с поруганным Христом. Его голова была отделена от тела, на щеках прорисованы складки, превратившие маску страдания в гнусную шутовскую гримасу. Его тело представало полностью обнаженным, материя, опоясывающая его бедра, отсутствовала, и взору открывалась плоть, возбужденно вознесенная над пуком конских волос. Перед дарохранительницей стоял потир, накрытый покровом. Мальчик-певчий скользил руками по поверхности алтаря, поводил бедрами, становился на цыпочки, как если бы он был херувимом, готовящимся взлететь, стараясь дотянуться до черных свечей, источавших запах смолы и вара, усиливавший зловоние.
Красное одеяние Исусика не обмануло Дюрталя, он узнал существо, отворившее им дверь, и понял, какая роль отведена этому человечку, чья извращенность заменяла младенческую непорочность, столь почитаемую Церковью.
Откуда-то вынырнул еще более безобразный певчий. Жирные, красные и белые пятна расползались по его лицу, он захлебывался кашлем, напевая что-то. Припадая на одну ногу, он приблизился к треножнику, расположенному рядом с алтарем, помешал в тагане угли, зарытые в пепел и золу, и подбросил смолы и травы.
Дюрталь уже начал томиться, и тут к нему подошла Гиацинта. Она извинилась за то, что бросила его одного, и предложила перебраться на другое место. Она отвела его в самый дальний угол, они оказались на отшибе, позади рядов стульев.
— А это и вправду часовня? — спросил Дюрталь.
— Да, эта церковь, а также дом и сад, через которые мы шли, — это то, что осталось от монастыря урсулинок. В часовне долгое время хранили фураж, дом же принадлежал одному человеку, сдававшему внаем экипажи. Потом он продал его вон той даме, — и она указала ему на толстую брюнетку.
Дюрталь уже раньше обратил внимание на эту даму.
— А она замужем?
— Нет, когда-то она была монахиней, ее сбил с пути каноник Докр.
— А! А кто те господа, которые предпочитают держаться дальше от света?
— Сатанисты… один из них преподавал в Школе медицины, был профессором… у себя дома он оборудовал молельню, поставил на престол статую Венеры Астарты и поклоняется ей.
— Ну и ну!
— Да, он стареет, и эти молитвы укрепляют его силы, которые он растрачивает с такими вот типами, — она кивнула в сторону певчего.
— Неужели это правда?
— О, я ничего не придумала. Его история изложена во всех подробностях в религиозной газете «Анналы святости». Так вот, этот господин не осмелился подать в суд за клевету! Что это с вами? — встревожилась она, взглянув на него.
— Я… я задыхаюсь… что за отвратительный запах!
— Вы скоро привыкнете к нему.
— Что может так вонять?
— Самые обычные растения: листья белены, дурмана, мирт, сухие пасленовые. Это излюбленные ароматы сатаны, нашего властелина.
Ее голос изменился, в нем послышались интонации, уже знакомые Дюрталю. Точно так же она разговаривала с ним, когда они занимались любовью.
Он всмотрелся в ее лицо. Она была бледна, плотно сжала губы, в глазах плыл туман.
— А вот и он, — шепнула она.
Какие-то женщины пробежали мимо них и поспешили преклонить колени.
Впереди шли двое певчих, а за ними — в пунцовом колпаке, увенчанном двумя рогами бизона, во всем красном шествовал каноник.
Дюрталь успел рассмотреть его, пока он преодолевал путь к алтарю. Он был высокого роста, но плохо сложен, открытый лоб перетекал в прямой нос, щеки поросли густой грубой щетиной, как у древних священнослужителей, не прикасавшихся к бритве, черты лица были неправильными, топорными, глаза напоминали семечки от яблока, маленькие, черные, посаженные у самого носа, глянцевито блестящие. Его облик был зловещим и отталкивающим, но он казался переполненным энергией, и его твердый, неподвижный взгляд ничуть не был таинственным и бегающим, как это представлялось Дюрталю.
Он торжественно склонил голову перед алтарем, поднялся по ступенькам, и месса началась.
Дюрталь увидел, что каноник облачился в свое одеяние поверх голого тела. Оно выпирало из-под подвязок и нависало над черными чулками. Его самая обычная риза была цвета засохшей крови, посередине был начертан треугольник, оплетенный ветками бессмертника, можжевельника, барбариса, молочая, внутри которого угрожающе накренил рога черный козел.
Дюрталь преклонил колени, согнул поясницу в глубоком поклоне, как это полагалось по ритуалу. Певчие, стоя на коленях, чистыми голосами нараспев читали молитвы, растягивая последние слоги слов.
— Да это самая обычная месса, — шепнул Дюрталь мадам Шантелув.
Она покачала головой. В этот момент певчие скрылись за алтарем и вынесли оттуда медные нагревательные приборы и кадила, которые раздали присутствующим. Часовню заволокло дымом, женщины полной грудью вдыхали запах, быстро распространявшийся по рядам, а затем с расслабленными стонами начали расстегивать платья.
Священник, пятясь, стал спускаться по ступенькам и, остановившись на последней, пал на колени и резким, прерывающимся голосом возопил:
«Устроитель оргий, ниспосылающий благодать преступлений, Хранитель грехов и пороков, Сатана, тебе поклоняемся, Бог истинный!
Несравненный медиум, ты собираешь милостыню наших слез, ты спасаешь честь семей, благословляя очищение плодоносящего чрева, даруя забвение, ты побуждаешь матерей извергнуть выкидыш, твоя акушерская помощь избавляет их от тягот материнства, а нерожденных детей оберегает от боли поражений, горестей зрелости!
Опора отчаявшихся неимущих, надежда побеждённых, ты оделяешь их лицемерием, неблагодарностью, гордыней, дабы они могли противостоять исчадиям Бога, богатым и благополучным!
Пестун застарелой ненависти, Держатель презрения, Казначей унижений, ты один исцеляешь человека, раздавленного несправедливостью, ты нашептываешь ему мысль о мести, заносишь его руку для удара, толкаешь его на убийство, открываешь ему радость расправы, упоение свершившейся казнью, слезами, пролитыми по его вине!
Гений возмужалости, ты тревожишься о непорочной матке, ты, Сатана, не нуждаешься в бессмысленных знаках целомудрия, не кичишься безумием постничества, ты принимаешь приношения плотью от нищих и алчных семей. Ты подстрекаешь матерей продавать дочерей, соблазнять сыновей, ты покровительствуешь бесплодной, недостойной любви, вынянчиваешь, острые неврозы, служишь столпом истерик, сосудом, омываемым кровью насилия!
Владыка, мы, твои верные слуги, возносим тебе молитвы, преклонив колени. Пошли нам веселый дух злодеяний, укрытых от глаз правосудия, помоги нам познать пути колдовства, неподвластные человеческому разуму, услышь наши молитвы, накажи тех, кто нас любит и служит нам, даруй нам славу, богатство, могущество, ты, Король обездоленных, грозный Сын, изгнавший непреклонного Отца!»
Докр поднялся, протянул вперед руки и звонким, злобным голосом продолжил:
«А ты, ты, Иисус, Ремесленник мошенничества, Вор почестей, Лжекумир, призываю тебя, хочешь ты того или нет, спуститься и воплотиться в этом хлебе! Слушай же голос священника! С того дня, как ты вышел из чрева Девы, ты лишь нарушал свои обязательства, отрекался от своих обещаний, века сотрясались от рыданий, ожидая твоего пришествия, Бог беглец, Бог безмолвный! Ты назвался Искупителем, но никого не спас, ты должен явиться в лучах славы, а ты дремлешь! Продолжай же лгать, тверди тем, кто призывает тебя: „Надейтесь, терпите, страдайте, ваши души излечатся на небесах, когда вострубят ангелы“! Самозванец! Ты знаешь, что ангелы, недовольные твоим равнодушием, давно отлетели! К тебе устремлены жалобы, ты объявил себя слугой людских слез, готовым стать посредником между человеком и Отцом, но ты бездействуешь, ведь заступничество нарушит твой вечный покой, пресытившийся лицемер!
Ты забыл о том, что проповедовал бедность, приверженец банков! На твоих глазах пресс финансовых операций давит с хрустом слабых, до тебя доносятся хрипы несчастных, обессилевших от голода, женщин, продающих свое лоно за кусок хлеба, но ты лишь передаешь через своих канцелярских крыс, через фарисеев, торгующих твоим именем, через твоих наместников невнятные извинения, уклончивые обещания, Заседатель ризниц, Бог деловитости!
Чудовище, ты плодишь жизнь и навязываешь ее невинным, которых ты осмеливаешься осуждать в силу какого-то первородного греха, которых ты наказываешь, исходя из неких никому не понятных условий договора, мы заставим тебя признаться в бесстыдной лжи, в преступлениях, которым нет искупления! Ты достоин того, чтобы гвозди вновь вонзились в тебя, шипы оставили свежие язвы на теле, чтобы кровь брызнула из твоих зарубцевавшихся ран!
И мы сделаем это, разбередим твое тело, познавшее покой! Ты, Осквернитель пороков, любитель бессмысленной непорочности, проклятый Назареянин, Король безделья, Бог предатель!»
— Аминь, — пропели кристально-чистые голоса.
Дюрталь внимательно выслушал поток проклятий и оскорблений. После того как недостойный священник замолк, на некоторое время воцарилось молчание. Дым от кадил поднимался к сводам часовни. Женщины, молча внимавшие священнику, пришли в движение. Каноник обернулся к своей пастве и широким жестом благословил всех левой рукой.
Внезапно певчие зазвонили в колокольчики.
Вероятно, это был сигнал, заслышав его, женщины стали кататься по ковру, устилавшему пол. Одна из них, словно подброшенная невидимой пружиной, бросилась на живот, колотя ногами, другая, пораженная внезапным косоглазием, закудахтала, потом, онемев, так и стояла с отвисшей челюстью, высунув язык. Третья, мертвенно-бледная, раздувшаяся, с расширенными зрачками, уронила голову на грудь, затем рывком выпрямилась и принялась царапать ногтями свою шею; четвертая легла на спину, задрала юбку, оголила живот, вспухший, огромный, гримасничая, высунула белый язык, рваный по краям, да так и не смогла убрать его обратно в залитый кровью рот, пропаханный окрасившимися в красный цвет зубами.
Дюрталь привстал, чтобы лучше видеть происходящее. Его взгляд упал на каноника Докра, стоявшего в отдалении.
Скрестив руки на груди, он созерцал Христа и извергал на него оскорбления, надрываясь, осыпал его изощренными ругательствами, уместными лишь в устах пьяного возницы. Один из певчих стоял перед ним на коленях спиной к алтарю. Дрожь прошла по телу священника. Он торжественно произнес чуть прерывающимся голосом: «Воистину это тело мое!», затем вместо того, чтобы пасть на колени перед священным телом, повернулся к своей аудитории. Его лицо налилось кровью, по нему струился пот, взгляд потерянно шарил в пустоте.
Он пошатнулся. Двое певчих подняли полы его рясы, открывая взорам его живот. Облатки, которые он держал перед собой, поруганные и оскверненные, посыпались на ступеньки.
Дюрталь содрогнулся. Ветер безумия ворвался в часовню. Истерика скручивала женщин одну за другой. Певчие курили фимиам вокруг нагого жреца, женщины набросились на облатки и, рухнув на живот, тут же, у подножия алтаря, рвали на части Божественную Плоть, царапали и кусали ее.
Одна женщина опустилась на корточки над распятием с раздирающим душу смехом и закричала: «Мой священник! мой священник!» Какая-то старуха рвала на себе волосы, прыгала, выделывала пируэты, крутилась вокруг себя на одной ноге, в конце концов плюхнулась рядом с девушкой, которая билась в конвульсиях у стены, из ее рта вырывались проклятия в фонтанах пенистой слюны, по лицу текли слезы. Сквозь дымку Дюрталь разглядел рога, торчащие из головного убора Докра. Каноник, сидя на полу, брызгая слюной, пережевывал пресный хлеб и, выплюнув его, протирал им свое тело, а затем раздавал женщинам, которые, громко голося, накидывались на мякиш, падая друг на друга, толкаясь.
Вокруг облаток вырастали шалаши из тел. В этой парилке бесновались проститутки и сумасшедшие. Певчие совокуплялись с мужчинами, хозяйка дома, растерзанная, поднялась к алтарю, одной рукой отодрала часть фигуры Христа от распятия, а другой схватила потир и попрала его босыми ногами. В глубине часовни до сих пор неподвижно стоявший ребенок вдруг наклонился вперед и взвыл, точно взбесившаяся собака.
Задохнувшись, почувствовав подступившую дурноту, Дюрталь решил спастись бегством. Он поискал глазами Гиацинту, но ее не было рядом. В конце концов он приметил ее рядом с каноником. Перешагивая через тела, он пробрался к ней. Ее ноздри раздувались, она жадно вдыхала испарения, исходившие от тел.
— Пахнет шабашем! — сквозь зубы едва слышно проговорила она.
— Так вы идете или нет?
Она очнулась и после некоторого колебания молча последовала за ним.
Ему пришлось поработать локтями, расшвыривая ощерившихся женщин. Он вытолкнул мадам Шантелув за дверь, они пересекли двор, еще один коридор, прихожую; закуток консьержки был пуст. Дюрталь дернул за веревку и очутился на улице.
Он глотал воздух, заполняя им легкие. Гиацинта застыла поодаль, прислонившись к стене.
Он взглянул на нее.
— Признайтесь, вам хочется вернуться туда? — В его голосе проскользнуло презрение.
— Нет, — с усилием выговорила она. — Я чувствую себя разбитой. Я словно в дурмане. Мне нужен глоток воды, чтобы прийти в себя.
Она двинулась вверх по улице, опираясь на Дюрталя, направляясь к лавке торговца вином.
Это было весьма сомнительное заведение. В крохотном помещении стояли деревянные столы и скамьи, рядом с цинковым прилавком оборудовано место для игры в кости, в глубине расставлены фиолетовые жбаны и кувшины. У самого потолка мигал газовый рожок. Землекопы играли в карты, заслышав шаги, они обернулись, странно ухмыляясь. Хозяин лавки вынул изо рта трубку и сплюнул на землю. Казалось, его нисколько не удивляет появление элегантной дамы в его логове. Дюрталь готов был поклясться, что заметил, как тот перемигнулся с мадам Шантелув.
Хозяин лавки зажег свечу и шепнул на ухо Дюрталю:
— Месье, вам не стоит оставаться здесь, с этими людьми. Я провожу вас в комнату, где никто вас не потревожит.
— Ну вот, — проворчал Дюрталь, поднимаясь по лестнице, — столько суеты ради стакана воды.
Но она уже переступила порог комнаты, заваленной разорванной, покрывшейся плесенью бумагой; к стенам были прикреплены шпильками вырезанные из иллюстрированных журналов картинки, неплотно прилегавшие выщербленные плитки покрывали пол. Меблировка состояла из прогнутой кровати без полога, стола и двух стульев. Картину дополняли таз и кувшин с отбитым горлышком.
Хозяин принес графин с водкой, два стакана, сахар. Затем он спустился вниз. В ее глазах вспыхнуло безумие, она обвила руками Дюрталя.
— А! Нет, — прорычал он, поняв, что попал в западню, — с меня хватит! И потом, уже поздно, вас ждет муж, вам пора домой!
Она не слушала его.
— Я хочу тебя, — сказала она, не обращая внимания на его протесты.
Она поспешно разделась, бросила свое платье на пол, сорвала покрывало с устрашающего ложа, задрала рубашку и, упав на спину, потерлась о грубую шершавую простыню, млея от удовольствия.
Он понял, что значит попасть в плен. Она притянула его к себе. Ему и в голову не приходило, что она способна выделывать в постели такие мерзости, сдабривая их припадками вампиризма. Вырвавшись из ее рук, он заметил на простыне куски облаток и застонал.
— О, это ужасно! Ну же, одевайтесь, нам пора!
Она послушно взялась за одежду, рассеянно глядя перед собой. Дюрталь опустился на стул, его затошнило от этой зловонной комнаты. Он не верил в пресуществление, в то, что Спаситель воплотился в хлебе, над которым учинено кощунство, но, несмотря на это, ему было не по себе, и мысль о том, что он помимо своей воли все-таки участвовал в надругательстве, повергла его в уныние. «А что, если этот мерзкий священник и Гиацинта правы, и чудо действительно свершилось? Нет, я сыт помоями по горло! Хватит, кажется, все происшедшее — прекрасный повод, чтобы порвать с этой особой, которую я, по правде говоря, с самой первой встречи терпел с большим трудом. Решено!»
Они спустились вниз, и он почувствовал на себе липкие, нахальные взгляды рабочих, расплывшихся в двусмысленных усмешках. Он расплатился и, не дожидаясь сдачи, торопливо вышел. Они добрались до улицы Вожирар, и он остановил экипаж. Они избегали смотреть друг на друга, и каждый думал о своем.
— До встречи, — робко проговорила мадам Шантелув, когда он подвел ее к двери ее дома.
— Нам не стоит больше встречаться, — ответил он. — Вряд ли мы поймем друг друга. У вас слишком большие претензии, которые я не смогу удовлетворить. Лучше расстаться сейчас, иначе наши отношения увязнут в затверженных назубок повторах, набивающих оскомину. И к тому же после всего того, что было в этот вечер… О, нет, поймите меня, нет!
И он нырнул в фиакр и назвал свой адрес.
XX
— Он не скучает, этот каноник, — заметил де Герми, когда Дюрталь во всех подробностях живописал ему Черную Мессу. — Он сколотил настоящий гарем из истеричек и гомосексуалистов. Но все-таки он не развернулся как следует. Конечно, что касается богохульства, кощунства, рагу из чувственности, — тут он на высоте, можно сказать, настоящий виртуоз. Но утерян дух крови и инцеста, свойственный шабашам былых времен. Докр во многом уступает Жилю де Рэ, его поведение не так своеобразно, в нем есть что-то безвольное, какая-то недоделанность, если можно так выразиться.
— Тебе хорошо говорить! Не так-то просто раздобыть детей, которых можно было бы безнаказанно зарезать, не опасаясь хныканья родителей и любопытства полиции.
— Наверное, именно по этой причине он смиряется с тем, что ему приходится служить весьма скромные мессы. Но вернемся к тем женщинам, о которых ты говорил. Ты описывал, как они спешат надышаться парами горящей смолы и растений; точно так же те, кто хочет вызвать ритуальную каталепсию, почти ложатся лицом на жаровню. Что ж до других симптомов, о которых ты упоминал, то они известны, и их можно наблюдать в больницах. Интересно лишь то, что их появление связано с контактом с Сатаной. Теперь вот что. Ни слова об этом в присутствии Карекса. Если он узнает, что ты участвовал в величании дьявола, он запросто выставит тебя за дверь.
Они вышли из дома, где жил Дюрталь, и пешком отправились на площадь Сен-Сюльпис.
— Я не позаботился о провизии, так как ты все взял на себя, — сказал Дюрталь. — Но утром я отправил мадам Карекс кое-что к десерту, вино, голландские пряники, а кроме того, изумительные ликеры — настоящие эликсиры жизни. Мы отведаем их перед обедом вместо аперитива. Ну и еще баночку протертого сельдерея. Я обнаружил сии восхитительные напитки у одного весьма почтенного человека в винокурне.
— О!
— Да, весьма почтенного и честного. Он соблюдает в точности старинные рецепты, использует алоэ, кардамон, шафран, ароматическую смолу и еще кучу разных приправ. Горечь невероятная, но в целом вкус отменный!
— Прекрасно, хотя бы так отпразднуем выздоровление Гевэнгея.
— Давно ты его видел?
— Сразу после его возвращения. Он замечательно выглядит. Хотелось бы услышать подробный рассказ о его исцелении.
— А на какие средства он вообще-то живет?
— Ну, его кормит астрология.
— Неужели находятся богатые люди, готовые оплатить составление гороскопа?
— Наверное. По правде говоря, мне кажется, что дела Гевэнгея не так уж хороши. Во времена Империи он был придворным астрологом. Императрица была очень суеверна, она, как и Наполеон, с большим вниманием относилась к предсказаниям. Но после падения Империи все изменилось для него. Тем не менее считается, что во Франции он один владеет секретами Корнелия Агриппы и Кремона, Руджери и де Горик, Синибальда Дерзкого и Тритема.
Так, за беседой, они добрались до церкви, поднялись по лестнице и оказались у двери, ведущей в жилище звонаря.
Астролог опередил их. Все сели за стол, и Дюрталь наполнил рюмки ликером. Пригубив черной жидкости, друзья не удержались от легкой гримасы.
Мадам Карекс принесла суп. Она радовалась тому, что все снова в сборе. Разлив суп по тарелкам, она подала блюдо с овощами. Дюрталь нацелился на стрелку лука.
— Берегись, — засмеялся де Герми, — Порта, живший в конце XVI века, предупреждает, что лук-порей, на протяжении долгого времени служивший символом мужской силы, нарушает покой самых целомудренных душ.
— Не слушайте его, — махнула рукой жена звонаря. — А вы, месье Гевэнгей? Может быть, морковку?
Дюрталь посмотрел на астролога. Его голова по-прежнему походила на сахарную глыбу, темные волосы, смазанные целебными жидкостями, выглядели сальными, в его птичьих глазах застыло обычное выражение, на толстых пальцах сверкали кольца и перстни, он был верен своей манере держаться, величественно и вместе с тем заискивающе, говорил уверенным, безапелляционным тоном, но его лицо заметно посвежело, кожа разгладилась, глаза посветлели, утратили глянцевитость.
Дюрталь поздравил его с возвращением из Лиона в добром здравии.
— Да, месье, мне пришлось ввериться заботам доктора Иоханнеса, так как состояние мое было весьма плачевным. Я не обладаю даром ясновидения и не знаком ни с одной женщиной, наделенной этой способностью, поэтому не знал о том, что втайне замышлял каноник Докр. Я также по этой же причине был лишен возможности защититься, используя заклятья и право обратной посылки.
— Но, — прервал его де Герми, — даже если бы вы сумели, прибегнув к помощи крылатого духа, разузнать о приготовлениях этого священника, разве под силу было бы вам обезвредить его?
— Кое-что можно сделать. Встречное заклятье состоит в том, что человек, зная день и точное время нападения, заранее бежит из дома, путая следы и тем самым отводя от себя удар, или же в том, что он за полчаса до назначенного часа призывает ларва: «Вот я, порази же меня». В этом случае флюиды выдыхаются раньше срока, и могущество атакующего нейтрализуется. В магии заранее известная акция всегда обречена на провал. Что же касается ответного удара, то тут тоже необходимо иметь некие предварительные сведения, чтобы успеть переслать обратно отправителю то, что предназначается первоначальной жертве.
Итак, я был уверен, что погибну в считанные дни. Прошел день после того, как Докр напустил на меня порчу, я понимал, что еще сутки — и от меня останется груда костей.
— Но откуда вы взяли этот срок?
— Каждый, кто становится жертвой магии, имеет в своем распоряжении три дня. По их истечении зло уже не поддается изгнанию. Поэтому, зная, что Докр приговорил меня к смертной казни, и почувствовав себя плохо, я, не теряя ни минуты, упаковал чемодан и отправился в Лион.
— И что же?
— Там я пошел к доктору Иоханнесу и рассказал ему об угрозах Докра и о своем недомогании. Он сказал: «Этот священник умеет преподнести самые опасные яды в оболочке самых коварных чар. Борьба предстоит тяжелая, но я уверен в победе». Он тут же позвал ясновидящую, которая живет в его доме.
Он усыпил ее, и она, повинуясь его приказу, описала то, что произошло со мной. Она восстановила сцены приготовлений к нападению на меня. По ее словам, я был отравлен менструальной кровью женщины, питавшейся порубленными кинжалом облатками и принимавшей наркотики, тщательно дозированные и смешанные с ее обычной едой и напитками. Это средство настолько сильно, что ни один чудотворец во Франции, кроме доктора Иоханнеса, не осмеливается и пытаться излечить жертву!
В конце концов доктор сказал мне: «Вы сможете излечиться, только если вмешается несокрушимая сила. Некогда прохлаждаться, мы должны призвать на помощь Мельхиседека».
И он соорудил алтарь из стола, деревянной дарохранительницы в форме домика, с крестом наверху, а на его передней части, по кругу, похожему на циферблат часов, тянулась тетраграмма. Он приказал принести серебряный потир, пресный хлеб и вино. Сам же он сменил свое платье на облачение священника, надел кольцо, осененное благословлением свыше, и начал читать молитвы по специальному требнику.
И тут же ясновидящая воскликнула: «Я вижу духов, призванных для совершения злодеяния, это они принесли яд, повинуясь приказу заклинателя, каноника Докра!»
Я сидел рядом с алтарем. Доктор Иоханнес положил левую руку мне на голову и, подняв правую руку к небу, умолял архангела Михаила прийти ему на помощь. Он призывал верховного военачальника, небесное воинство обуздать силы Зла.
Мне стало лучше, жжение, мучившее меня в Париже, ослабло.
Доктор Иоханнес продолжал читать молитвы, затем наступил решительный момент. Он взял мою руку, возложил на алтарь и трижды возгласил: «Да разрушатся козни слуг беззакония, что были замыслены против вас, да падут оковы проклятий Сатаны к вашим ногам, да лишится силы удар, нанесенный вам, и да останется он без последствий, да претворится злодеяние вашего врага в благословение, ниспосылаемое с высочайших вершин холмов вечности, да обернется дух смерти животворящей манной… и да решат архангелы судьбу презренного священника, посвятившего себя служению Мраку и Злу!»
Потом он обратился ко мне: «Небеса смилостивились над вами, возблагодарите же всем сердцем Бога живого и Иисуса Христа и заступницу Деву Марию!»
Он дал мне немного пресного хлеба и вина. Я был спасен. Вы врач, месье де Герми, вы можете подтвердить, что медицина была бессильна против недуга. Но теперь я здоров.
— Да, — смущенно сказал де Герми, — должен признать, что, каковы бы ни были средства, использованные доктором Иоханнесом, результат налицо. И это не первый случай на моей памяти! Нет, спасибо, — отказался он от дополнительной порции горохового пюре и сосисок с хреном.
— Позвольте мне задать вам несколько вопросов, — вмешался Дюрталь. — Меня интересуют некоторые детали. Как выглядело облачение доктора Иоханнеса?
— На нем была длинная ряса из темно-красного кашемира, перетянутая витым красно-белым поясом. Поверх он накинул белый плащ из той же материи, с вырезанным впереди крестом вершиной вниз.
— Вершиной вниз?! — изумился Карекс.
— Да, крест был перевернут, как изображения на гадательных картах, и это означает, что Мельхиседек умирает стариком, чтобы возродиться в Христе и обогатиться могуществом Сына Божьего, положившего жизнь за нас.
Карекс заерзал. Его католицизм, подозрительный, неуступчивый, отказывался принять эту непредусмотренную форму ритуала. Он замолчал и перестал участвовать в разговоре, ограничиваясь только тем, что подливал вино, передавал блюда и заправлял салат.
— А что за кольцо он надел на палец? — поинтересовался де Герми.
— Оно сделано из чистого золота. На нем изображена змея, выпуклое сердце проколото рубином, и от него тянется цепочка к кольцу, запечатывающему уста гада.
— Все-таки мне непонятны истоки и цели подобных ритуалов, — признался Дюрталь. — Как все это связано с Мельхиседеком?
— А! Мельхиседек — один из самых загадочных персонажей библейских книг. Он был царем Салимским, священником Бога Всевышнего. Он благословил Авраама, и тот даровал ему десятую часть отнятого у побежденных царей Содома и Гоморры. Об этом рассказано в книге Бытия. О нем упоминает и святой Павел. Он считает, что Мельхиседек не имел ни отца, ни матери, вообще никакой генеалогии, что его бытие безначально и бесконечно, что он ветхозаветный Сын Божий.
С другой стороны, в Писании Христос назван не только «священником вовек», но и «по чину Мельхиседека».
Все это, как видите, довольно туманно. Одни истолкователи видят в нем пророчество о Христе, другие видят в нем святого Иосифа, но все признают, что хлеб и вино, которые он поднес Аврааму, перед тем освятив приношения, есть предтеча того, что Исидор назвал божественной мистерией, иначе говоря, мессы.
— Все это так, — задумчиво произнес де Герми, — но почему ритуал, совершаемый доктором Иоханнесом, имеет силу противоядия?
— Ну, вы слишком многого от меня хотите! — воскликнул Гевэнгей. — Об этом нужно спросить самого доктора. Могу дать лишь самые общие пояснения.
Теология учит, что месса в таком виде, как она сложилась, есть повторение искупительной жертвы Христа, принесенной на Голгофе. Но Месса Славы — это нечто другое, в какой-то степени это литургия будущего, воспевающая Царствие Святого Духа, обновление человека силой Любви. Когда душа человека очистится и преисполнится благодати, он станет неуязвим, и силы ада будут не властны над ним. Месса разгонит злых духов, обезвредит их. Возможно, с этим связаны целительные способности доктора Иоханнеса, его душа в момент церемонии сливается с божественной душой Иисуса.
— Довольно туманное объяснение, — спокойно заметил звонарь.
— Тогда нужно признать, — вновь заговорил де Герми, — что Иоханнес стоит ступенью выше остальных людей, что он опережает время, является апостолом Святого Духа.
— Это так и есть, — согласился астролог.
— Не могли бы вы передать мне пряник? — попросил Карекс.
— Сейчас я объясню, как с ним нужно обращаться, — сказал Дюрталь. — Отрежьте тоненький ломтик, намажьте его маслом, сверху положите столь же воздушный кусочек хлеба, — получится сэндвич. Вкус удивительный! Напоминает зрелые лесные орехи.
— Ну, — продолжил расспросы де Герми, — а как вообще поживает доктор Иоханнес? Я так давно его не видел!
— Его существование одновременно и весьма приятно, и тягостно. Он живет в доме своих друзей, которые почитают и любят его. Рядом с ними он отдыхает душой после всех неприятностей, которые ему пришлось пережить. Все это было бы замечательно, если бы не одно обстоятельство. Каждый день ему приходится опасаться покушений со стороны титулованных сатанистов Рима.
— Но что они имеют против него?
— Это слишком длинная история. Иоханнес послан самим небом, чтобы разорвать сети сатанизма и проповедовать пришествие Христа и Святого Духа. Дьявольская курия, находящаяся в Ватикане, конечно же, заинтересована в том, чтобы избавиться от человека, чьи молитвы нарушают все планы и сводят к нулю их усилия.
— А позволительно ли спросить, как этот бывший священник предвидит нападения и защищается от них? — воскликнул Дюрталь.
— Конечно. Доктор узнает о готовящемся ударе по полету и крику птиц. Соколы и ястребы — его часовые. В зависимости от того, летят ли они ему навстречу или удаляются на восток или на запад, по тому, прокричали ли они один раз или издали несколько звуков, он вычисляет час нападения и принимает необходимые меры. По его словам, ястребы хорошо чувствуют духов, и он прибегает к их помощи, как заклинатель использует сомнамбулу, а спириты запасаются грифельной доской и считают основным орудием стол.
— Получается что-то вроде телеграфных проводов для магических депеш, — усмехнулся де Герми.
— Да, впрочем, подобная практика восходит к глубокой древности. Гадание по птицам насчитывает столетия, следы этого обычая можно отыскать в Священном Писании, и Захарий замечает, что многое открывается тому, кто умеет наблюдать поведение птиц.
— А почему отдается такое предпочтение ястребу?
— Эта птица с давних пор считалась вестником потустороннего мира. В Египте бог иероглифики изображался с головой ястреба, и жрецы питались сердцем и кровью ястреба перед мистическими обрядами. И сейчас колдуньи, обитающие в Африке, вдевают в волосы ястребиное перо, напомню также, что эта птица почитается в Индии как священная.
— А как же ваш друг вскармливает и содержит этих птиц? — подала голос мадам Карекс. — Ведь они хищники!
— Да он вовсе не содержит их у себя. Ястребы вьют гнезда в высоких отвесных скалах по берегам Соны, недалеко от Лиона. Когда нужно, они сами прилетают к нему.
«Да, — в который раз подумал Дюрталь, окидывая взглядом гостиную и улыбаясь при мысли о том, сколь удивительные разговоры подслушивают стены башни, какими далекими кажутся отсюда нравы и язык современного Парижа!»
— И все это окунает нас в атмосферу средневековья, — сказал он вслух.
— Да уж! — Карекс поднялся, чтобы идти на колокольню.
— Действительно, — кивнул де Герми, — в нашу грубую эпоху, признающую лишь факты, трудно поверить в битвы, которые ведут в пустоте, над миром, священник из Лиона и прелаты из Рима.
— А на территории Франции — этот священник, розенкрейцеры и каноник Докр.
Дюрталь вспомнил, что мадам Шантелув уверяла его, что те, кто стоит во главе розенкрейцеров, пытаются заручиться помощью дьявола и владеют приемами магии.
— Вы верите в то, что среди розенкрейцеров есть сатанисты? — обратился он к Гевэнгею.
— Многие из них хотят быть сатанистами, но они очень несведущи. Они лишь механически воспроизводят отдельные манипуляции с газами и ядами, которым обучили их трое посвященных, приехавших в Париж три года назад.
— Что до меня, — заявила мадам Карекс, прощаясь с гостями перед тем, как отправиться спать, — то я испытываю большое удовлетворение от того, что не имею никакого отношения ко всем этим ужасным авантюрам и могу жить спокойно и молиться с чистым сердцем.
Де Герми, как обычно, занялся приготовлением кофе, Дюрталь извлек из буфета маленькие рюмочки, Гевэнгей набил трубку. Когда гул колоколов осел, впитался в поры стен, Гевэнгей выпустил первый клуб дыма и произнес:
— Я провел несколько восхитительных дней в доме, где живет доктор Иоханнес. После той встряски, которую я получил, было ни с чем не сравнимым блаженством укрепить свои силы в атмосфере любви и покоя. К тому же доктор Иоханнес осведомлен в теологии и в оккультных науках лучше кого бы то ни было. Никто, за исключением разве что проклятого Докра, не проник так глубоко в тайны сатанизма. Во Франции лишь эти двое сумели перешагнуть порог сверхъестественного и, каждый в своей области, добиться некоторых результатов. Разговоры с ним доставляли мне огромное удовольствие, и я вынес массу нового даже из бесед о судебной астрологии, знакомой мне до мельчайших деталей. Но меня особенно поразили его суждения о будущем перерождении народов.
Уверяю вас, он — пророк, посланный ради страдания и славы на землю Всевышним!
— Мне кажется, — улыбнулся Дюрталь, — что учение о Параклете, Духе-Утешителе, проповедь мессии официально осуждены Церковью как ересь монтанистов.
— Да, но все упирается в вопрос о том, каким представляется явление миру Параклета, — парировал вошедший в эту минуту звонарь. — Это и вполне ортодоксальная доктрина, развивавшаяся святым Иринеем, святым Юстинианом, Скоттом Эригеном, Амори де Шартром, и таким выдающимся мистиком, как Иоахим де Флор! В средние века верили в Духа-Утешителя, и, признаюсь, меня преследуют мысли о нем, они греют мою душу, отвечают моим самым горячим чаяниям.
Он сел и сложил руки на коленях.
— Возможно, все это лишь иллюзия, — продолжил он, — но она дарует утешение христианам, затерянным в этом хаотическом мире, который так трудно не возненавидеть!
— Каюсь, что, несмотря на пролитую на Голгофе кровь, я не чувствую, что искупление коснулось меня, — сказал де Герми.
— Существуют три царства, — заговорил астролог, приминая пальцем табак в трубке, — и первое — царство Ветхого Завета, Бога Отца, это царство страха. Второе — царство Нового Завета, Сына Божьего, царство искупления. А третье — это царство Евангелия от Иоанна, Параклита, царство любви. Это прошлое, настоящее и будущее человечества, его зима, весна и лето. Иоахим де Флор говорит: из ростков взойдут колосья, и колосья дадут пшеницу. Отец и Сын явились миру, так что очередь за Святым Духом, это логически вытекает из самого понятия Троицы.
— Да, и об этом настойчиво и авторитетно твердят многие тексты Библии, — подхватил Карекс. — Все пророки — Исайя, Иезекииль, Даниил, Захарий, Малахий — подтверждают это. В Деяниях святых апостолов, в первой главе, сказано достаточно ясно: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Откройте эту книгу, почитайте! И Иоанн Богослов объявляет в Апокалипсисе, этом Евангелии второго пришествия: «Христос грядет, и продлится царствие Его тысячу лет». Подобные откровения встречаются и у святого Павла. В Послании к Тимофею он призывает Спасителя, «который будет судить живых и мертвых в явление Его и царствие Его». А во втором Послании к фессалоникийцам, говоря о мессии, он пишет: «И когда явится беззаконник, его же Иисус упразднит явлением пришествия своего». Он считает, что Антихрист еще не открылся миру, следовательно, в этом фрагменте речь идет о втором пришествии, а не о первом, ознаменованном рождением Спасителя в Вифлееме. Святой евангелист Матфей передает ответ Христа первосвященнику Каиафе, спросившему его, он ли Христос, Сын Божий: «Ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». И в другом стихе апостол добавляет: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь наш приидет!»
И еще множество тому подобных упоминаний, которые легко отыскать в Священном Писании. Бесспорно, те, кто ждет царства славы, опираются на богодухновенные тексты и могут смело, не боясь впасть в ересь, проповедовать доктрину, которая, по свидетельству святого Иеронима, в IV веке была принята всеми. А что, если мы отведаем напитка, которым так восхищается месье Дюрталь?
Это был густой сладкий ликер, пары нежного сиропа оседали где-то в глубине утробы.
— Недурно, — оценил астролог, — но действует усыпляюще.
И он налил себе добрую порцию живительного рома.
— Если вдуматься, — вернулся к прежней теме Дюрталь, — третье царство предрекается и словами молитвы «Отче наш»: «да приидет Царствие Твое».
— Конечно, — кивнул звонарь.
— Дело в том, — вступил в разговор Гевэнгей, — что ересь будет процветать в своей абсурдной и безумной сущности, если допустить, как это делают параклетисты, возможность аутентичного телесного воплощения. Вспомните фарейнизм, свирепствовавший в XVIII веке в Фарейне, небольшом городке департамента Ду, где укрылся янсенизм, изгнанный из Парижа после закрытия кладбища Сен-Медар. Некий священник, Франсуа Бонжур, предлагал распинать чудом исцеленных, вокруг могилы диакона Франсуа де Пари в Сен-Медаре начались беспорядки. Потом этот аббат увлекся одной женщиной, утверждавшей, что она беременна от пророка Илии, который, как следует из Апокалипсиса, предвещает второе пришествие Христа. Родился ребенок, за ним второй, объявленный не больше не меньше как Параклетом. Потом он торговал изделиями из шерсти в Париже, а во времена Людовика-Филиппа стал полковником Национальной гвардии и умер в достатке в 1866 году. Это был Параклет торговли, Спаситель в эполетах!
Затем в 1866 году дама по имени Брошар, из Вуври, уверяла всех, кто хотел ее слушать, что Христос воплотился в ней. В 1889 году сумасшедший по имени Давид издал в Анжере брошюрку под названием «Глас Божий», в которой скромно именовал себя «Мессией Параклета Создателя» и о себе сообщал, что он агент по изданию книг и что его борода достигает одного метра десяти сантиметров. И сейчас не перевелись претенденты: один инженер, Пьер Жан, недавно объехал верхом на лошади провинции Юга, возвещая, что он Святой Дух; в Париже Берар, водитель омнибуса, работающий на линии Пантеон — Курсель, уверяет, что его тело — оболочка Параклета, а в одной журнальной статье доказывается, что благодаря поэту Джунейю забрезжила надежда на спасение. Наконец, в Америке то и дело объявляются женщины, провозглашающие себя Мессией и активно вербующие приверженцев.
— Некоторые путают божественную сущность и сущность Божьего Творения, — сказал Карекс. — Бог присутствует в своих творениях, он — опора их жизни, источник развития, основа существования. Так говорит святой Павел. Но Бог пребывает сам по себе, отдельно от жизни, от ее движения, от человеческой души. Он обладает своим «Я», он тот, кто есть, говорит Моисей.
И Святой Дух благодаря Христу в славе воцарится в людях. Он станет источником возрождения и обновления, но это совсем не значит, что грядет его телесное воплощение. Святой Дух через Сына восходит к Отцу, он призван действовать, но он не может материализоваться. Утверждать обратное — чистое безумие! Это значит впасть в гностицизм, повторить ошибки Дюльсинаде Новара и его жены Маргариты, заблуждения аббата Бекарелли, вернуться к гнусностям Сегарелли Пармского, который, желая вернуться в состояние младенчества, чтобы обрести простую и наивную любовь Параклета, приказывал пеленать себя, ложился на колени кормилице, сосал ее грудь, а потом окончательно погряз в пороке.
— Мне все-таки не все понятно, — признался Дюрталь. — Если я правильно уловил, Святой Дух проникает в нас и толкает к перерождению, обновляет душу, подвергает пассивному очищению, как принято говорить у теологов.
— Да, он очистит душу и тело человека.
— И тело?
— Параклет, — пояснил астролог, — должен воздействовать на обновление поколений. Благодать освятит тела, и они будут рождать избранников, избавленных от грязи первородного греха, которых не ждет испытание огнем унижений, как сказано в Библии. Так считал Винтрас, этот удивительный неученый муж, оставивший торжественные пламенные строки. После его смерти его доктрина была развита и расширена последователем, доктором Иоханнесом.
— Но ведь это земной рай! — воскликнул де Герми.
— Да, царство свободы, добра и любви!
— Стоп, стоп! — запротестовал Дюрталь. — Я совсем запутался. С одной стороны, вы говорите о пришествии Святого Духа, а с другой стороны — упоминаете второе явление Христа. Эти два царства сольются в одно или же одно сменит другое?
— Нужно разделять воцарение Параклета и победное возвращение Христа, — ответил Гевэнгей. — Одно предшествует другому. Сначала человечество переплавится в третьей ипостасию, Любовью, а потом Христос спустится с небес, как он и обещал, и будет править народами.
— А куда вы денете папу?
— О! Это весьма существенная часть доктрины. Вся история начиная с первого пришествия Мессии делится, как вы знаете, на два периода: период принесения искупительной жертвы, в котором мы и живем, и период Христа, омытого от плевков, воссиявшего во всем своем величии, который наступит в будущем. Так вот, для каждой из этих эр предназначаются свои посредники между небом и землей. В Священном Писании содержится указание на этих двух верховных понтификатов. Это подтверждают и мои гороскопы.
Согласно аксиоме, принятой в теологии, дух Петра живет в его наследниках. В той или иной степени он будет сохраняться в них, пока не наступит долгожданное царство Параклета. И тогда Иоанн, остававшийся в тени, как посланник Любви, вселится в души новых пап.
— Но я не понимаю, какая польза от папы, если Иисус станет зримым? — удивился де Герми.
— Никакой, он нужен лишь на время, отведенное для преобразований силой Параклета. В тот день, когда в ореоле славы появится Христос, понтификат в Риме перестанет существовать.
— Не вдаваясь в суть вопросов, о которых можно спорить веками, признаюсь, что я восхищен благодушием этой утопии, подразумевающей, что человеческая натура поддается исправлению! — воскликнул Дюрталь. — Но это не так! Человек создан эгоистом, порочным и циничным. Посмотрите вокруг! Идет беспрерывная война, жестокая, беспощадная. Бедные, обездоленные ошиканы, растоптаны разбогатевшими буржуа! Подонки и жалкие посредственности повсеместно торжествуют, прохвосты политики и банкиры процветают! И вы верите, что все это можно преодолеть? Нет, человека ничто не изменит, его душа гнила в ветхозаветные времена, и сейчас она покрыта теми же зловонными опухолями. Правда, греховность щеголяет в обновках, прогресс придает изысканность порокам.
— Тем более, — возразил Карекс, — если общество таково, как вы его живописали, то пусть оно сгинет! Да, я тоже считаю, что душа человека гноится, покрывается струпьями, отмирает. Ей уже не помогут ни перевязки, ни лечение. Так, значит, ее нужно отсечь, расчистить место новому побегу. Такое чудо способен совершить только Бог!
— Даже если предположить, что царящее в наше время беззаконие преходяще, — произнес де Герми, — все равно оно сгинет лишь благодаря Божьему промыслу. Только на него есть смысл уповать. Ни социализм, ни прочая белиберда, выдуманная невежественными рабочими, переполненными ненавистью, не изменят натуру человека и не возродят народы. Это не человеческого разума дело.
— Долгожданная эпоха уже не за горами, — изрек Гевэнгей. — Тому есть доказательства. Раймонд Люллий предупреждал, что знамением конца старого мира станет распространение учений Антихриста, и уточнял, что он под этим подразумевает: материализм и расцвет чернокнижия. Мне кажется, что это предсказание сбывается в наши дни. Благая весть будет послана, когда, по словам святого Матфея, «увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте». И это уже произошло! Посмотреть хотя бы на трусливого, недоверчивого, изворотливого, заурядного папу, продажный лицемерный епископат, жирующее изнеженное духовенство! И скольких прельстил сатанизм! Ну может ли Церковь скатиться ниже?
— Все это внешние признаки, Церковь не может погибнуть! — И звонарь, опершись на стол, подняв глаза к небу, шепотом взмолился: — «Отче Наш, да приидет Царствие Твое…»
— Уже поздно, пора по домам, — промолвил де Герми.
Пока все одевались, Карекс спросил Дюрталя:
— На что вы надеетесь, если не верите в пришествие Христа?
— О, я ни на что не надеюсь.
— В таком случае мне вас жаль. Нет, правда, вы не верите в будущее просветление?
— Увы! Мне кажется, что небеса отреклись от земли, изможденной и больной.
Звонарь воздел руки к потолку и грустно покачал головой.
Внизу, у башни, друзья простились с Гевэнгеем. Некоторое время они шли молча. Наконец де Герми произнес:
— А тебя не удивляет, что все те события, о которых шла речь сегодня вечером, произошли в Лионе?
Дюрталь недоуменно посмотрел на него.
— Я хорошо знаю Лион. Рассудок жителей подернут дымкой. Так туман обволакивает по утрам улицы города, поднимаясь от Роны. Этот город буквально создан для путешественников, обожающих длинные улицы, ухоженные лужайки, бульвары, тюремную архитектуру современных построек. Но Лион одновременно притон мистицизма, гавань сомнительных идей. Там умер Винтрас, в котором, казалось, была воплощена душа Илии, там держались последние соратники Наундорфа, там процветало колдовство и за один луидор продавалось здоровье и жизнь людей. Но в то же время, несмотря на обилие радикалов и анархистов, это выставка тяжеловесного католицизма, фабрика янсенизма, питомник лицемерных толстых буржуа.
Лион знаменит колбасным делом, каштанами и шелками, а кроме того, церквами. Часовни и монастыри обступили горбатые улочки, но все они ничтожны в сравнении с Нотр-Дам-де-Фурвьер. Издали собор похож на перевернутый комод XVIII века, его внутренняя отделка еще не закончена и выглядит довольно своеобразно. Стоит как-нибудь съездить туда посмотреть на это сооружение. Мешанина стилей — ассирийского, романского, готического, еще бог знает какого — что-то фантастическое, нагроможденное друг на друга, начищенное, с накладным золотом и серебром, есть от чего прийти в замешательство. Но Руссан — единственный архитектор, сумевший за последние сто лет оформить интерьер собора. Неф отливает эмалью, мрамором, бронзой, золотом; фигуры ангелов облепляют колонны с тяжеловесной грацией, порождая определенный архитектурный ритм. Чувствуется что-то азиатское, варварское, проступающее, например, в зданиях, которыми любил окружать своих персонажей Гюстав Моро.
Паломники не вылезают из этого собора. Под сводами слышатся самые пылкие молитвы о процветании торговли, о новых рынках сбыта колбасных изделий и шелков. Называются артикулы товаров, с Девой Марией советуются о том, как сбыть продукты не первой свежести и изделия из панбархата. В центре города, в церкви Сен-Бонифас я видел объявление, призывавшее прихожан не раздавать там милостыню нищим из уважения к святому месту. Конечно, негоже, чтобы молитвы коммерсантов прерывались нелепыми жалобами бедняков!
— Да, очень странно, но демократия действительно злейший враг неимущих. Казалось бы, революция должна была защитить их, но на деле она воздвигла режим, который стал еще сильнее давить на них. Как-нибудь я покажу тебе один декрет от II года, в нем предусматривается наказание не только для тех, кто протягивает руку, но и для тех, кто подает милостыню.
— Вот панацея от всех горестей! — и де Герми, смеясь, указал на плакаты, наклеенные на стены, в которых генерал Буланже призывал парижан голосовать на ближайших выборах за него.
Дюрталь пожал плечами.
— Все-таки этот мир болен, — вздохнул он. — Карекс и Гевэнгей, вероятно, правы, утверждая, что ни одному врачу не под силу его исцелить!
XXI
Дюрталь твердо решил не отвечать на письма мадам Шантелув. С тех пор, как он порвал с ней, каждое утро она присылала ему пылкие послания. Но вскоре он заметил, что энтузиазм этой менады поостыл, и тогда посыпались жалобы, упреки и сетования. Она обвиняла его в неблагодарности, раскаивалась в том, что пошла ему навстречу, что привела его на мессу, вовлекла в кощунственные ритуалы, умоляла хотя бы об одной встрече. Потом она замолчала на неделю, после чего он получил последнее письмо от нее, в котором она, видимо, устав ждать ответа от Дюрталя, объявила об окончательном разрыве.
Она признала, что Дюрталь прав, что они вправду не подходят друг другу ни по темпераменту, ни по образу мыслей, и в конце иронически добавляла:
«Спасибо вам за этот скромный роман, разыгранный как по нотам, но мое сердце, видимо, оказалось слишком просторным для него…»
«Ее сердце!» — ухмыльнулся Дюрталь и продолжил чтение:
«Я прекрасно понимаю, что вы находите утомительным заполнять все его закоулки, но, по крайней мере, вы могли предложить мне дружбу, которая позволила бы мне приходить к вам иногда поболтать, оставив свои притязания на большее за дверью. Но вы и это сочли невозможным. Прощайте навсегда. Мне остается лишь заключить новую сделку с одиночеством, которому я изменила…»
«С одиночеством! А как же этот слащавый рогоносец-муж? На самом деле уж кто достоин жалости, так это он! Ну что ж, я обеспечил его тихими вечерами, вернул ему сонную застывшую жену, этот мерзавец пожинает плоды моей усталости. О! Этот красноречивый ханжеский взгляд, устремленный на меня…
Теперь с этим романом покончено. Хорошо, когда сердце объявляет забастовку. Ничто не причиняет страдания — ни любовные неурядицы, ни разрыв! Всем заправляет мой мозг, а у него неважный аппетит. Иногда он воспламеняется, но пожарные постовые тут же гасят огонь.
Когда я был молод и пылок, женщины не обращали на меня внимания. Теперь я остепенился, и пришла моя очередь игнорировать их. И эта роль по мне, мой милый, — обратился он к коту, который, навострив уши, внимательно слушал этот монолог — Жиль де Рэ гораздо больше занимает меня, чем мадам Шантелув, к сожалению, скоро мне придется расстаться с ним. Еще несколько страниц — и книга будет закончена. О господи, вот и папаша Рато идет наводить беспорядок!»
Вошел консьерж, извинился за то, что опоздал, снял пиджак и с вызовом оглядел комнату.
Его первой жертвой стала кровать, словно заправский боксер, он принялся тузить матрас, схватил его в охапку, приподнял, покачнулся, затем снова повалил его, задыхаясь от усилий.
Дюрталь с котом в арьергарде перекочевал в соседнюю комнату. Неожиданно папаша Рато прервал схватку и присоединился к ним.
— Месье в курсе моего горя? — жалобно промямлил он.
— Нет.
— Мадам Рато ушла от меня.
— Ушла от вас? Но ведь ей по меньшей мере шестьдесят!
Рато возвел глаза к небу.
— И она оставила вас ради другого?
Метелка повисла в руках безутешного Рато.
— Черт! Ваша жена, несмотря на свой возраст, имела к вам претензии?
Консьерж огорченно покачал головой и в конце концов признался, что недовольство исходило от него.
— О! — Дюрталь уставился на сгорбившегося верзилу, закаленного душным воздухом каморок и работой в три смены. — Но если ваша жена хотела, чтобы вы оставили ее в покое, почему же она бежала с другим человеком?
Рато скривился, явно испытывая смешанное чувство презрения и жалости.
— Он ни на что не способен, этот ущербный тип, которого она выбрала!
— А!
— Это очень неприятно и из-за моей работы. Хозяин дома не хочет иметь консьержа, у которого нет жены.
«Господи! Какое счастье!» — подумал Дюрталь.
Папаша Рато оставил ключ в двери, и де Герми беспрепятственно проник в квартиру.
— О, я как раз собирался идти к тебе! — воскликнул Дюрталь, увидев друга.
— Ну, раз уборка в самом разгаре, тебе придется спуститься вниз на облаке пыли, уподобившись Всевышнему.
По дороге Дюрталь рассказал де Герми о семейных огорчениях, постигших консьержа.
— О, женщины были бы счастливы возложить венок на чело столь пылкого старика! Нет, все-таки это отвратительно, — он кивнул в сторону афиш, которыми пестрели стены домов.
Это была настоящая плакатная оргия, на разноцветных полотнищах было выведено гигантскими буквами имя генерала Буланже.
— Слава Богу, в воскресенье все это закончится!
— Существует единственный способ, — снова заговорил де Герми, — оградить себя от этой кошмарной жизни: напустить на себя вид застенчивого, робкого скромника и не отрывать глаз от земли. Когда созерцаешь одни тротуары, замечаешь лишь отпечатки электрических взглядов компании Попп. Идя по улице, можно рассматривать разные узоры, выпуклые алхимические символы, гербы, зубчатые колеса, загадочные письмена, пейзажи, солнца, молоточки, якори. Полное ощущение того, что ты живешь в средние века.
— Да, но тогда рискуешь попасть под ноги этому чудищу — толпе. Нужно запастись шорами, как у лошадей, или забралом, наподобие тех, которые украшают кепи в стиле покорителей Африки, в которых щеголяют школьники и офицеры.
Де Герми в ответ только вздохнул.
— Входи, — бросил он, отпирая дверь.
Они устроились в креслах и закурили.
— Я так и не переварил до конца тот разговор у Карексов, — со смехом признался Дюрталь. — Этот доктор Иоханнес — странная фигура. Я все время думаю о нем. Скажи, ты веришь в его чудесную медицинскую практику?
— Мне не остается ничего другого. Я тебе о многом не рассказал, но этот священник справляется с самыми безнадежными случаями. Наверное, странно выслушивать подобные истории из уст врача, но я, пожалуй, рискну своей репутацией.
Я познакомился с ним еще в те времена, когда он был священником в Париже. Поводом к нашему знакомству послужил один случай — избавление от недуга, так и оставшееся для меня загадкой.
У горничной моей матери была взрослая дочь. Ее руки и ноги потеряли способность двигаться, она страдала от болей в груди и начинала выть, как только до нее дотрагивались. Недуг поразил ее без всякой видимой причины однажды ночью, и уже два года она находилась в таком состоянии. Больницы Лиона отказались от нее, признав болезнь неизлечимой, и ее привезли в Париж и поместили в Сальпетриер. Но все усилия были тщетны, никто из врачей так и не понял, что же с ней произошло, и не смог облегчить ее муки. Однажды она рассказала мне об аббате Иоханнесе, который, как следовало из ее слов, вылечивал таких же тяжелобольных, как она. Я ей не поверил, но, поскольку священник не брал денег, не стал отговаривать ее от визита к нему и из любопытства вызвался сопровождать ее.
Ее усадили на стул, и священник, оказавшийся живым, подвижным человеком, взял ее за руку. Он вложил в ее ладонь один за другим три драгоценных камня и спокойно произнес: «Мадмуазель, вы стали жертвой одного из ваших родственников, сглазившего вас».
Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться.
«Вспомните, — продолжал он, — должно быть, два года назад, ведь с этого времени тянется ваша болезнь, вы поссорились с кем-то из кровных родственников». Действительно, тетка Мари обвинила несчастную девушку в краже часов, полученных ею в наследство. «Ваша тетка живет в Лионе?» Мари кивнула. «Все понятно, — продолжил священник, — в Лионе полно костоправов, которые умеют наводить порчу. Но успокойтесь, такой противник нам не страшен. Они делают лишь первые шаги в искусстве магии. Хотите ли вы излечиться?» И получив от нее положительный ответ, ласково проговорил: «Ну что ж, этого вполне достаточно. Вы можете идти домой». Он и пальцем не притронулся к ней, не порекомендовал никакого лекарства. Я вышел от него в полной уверенности, что этот знахарь — шарлатан или сумасшедший, но через три дня она смогла поднять руки, ее боли утихли, а через неделю она уже ходила. Я должен был смириться с очевидным фактом, и тогда я снова отправился к чудотворцу, затем мне представился случай оказать ему услугу, и с того времени мы стали общаться.
— Каковы же его методы?
— Ну, прежде всего он молится. Потом он призывает небесное воинство, нарушает целостность магических кругов, изгоняет или, как он выражается, ставит на место злых духов. Все это звучит неубедительно, и когда я говорю своим коллегам о возможностях этого человека, они снисходительно улыбаются или предлагают мне спасительные объяснения, придуманные толкования в рациональном ключе исцелений, совершенных Христом и Девой Марией. Речь идет о воздействии на подсознание больного, о том, что ему внушается мысль о выздоровлении, в какой-то степени о гипнозе, только наяву. Стоит только захотеть — и ноги начинают сгибаться, раны затягиваются, каверны в легких зарубцовываются, опухоли превращаются в безобидные болячки, и слепые прозревают. И на основании этого отрицается чудо! Остается только непонятным, почему же они сами не пользуются этими методами, раз все так просто!
— Но разве врачи не пытаются лечить отдельные болезни таким образом?
— Да, подобные опыты известны. Я даже однажды присутствовал на одном сеансе, который проводил доктор Люис. Это было весьма поучительное зрелище. В Шарите была одна девушка, парализованная на обе ноги. Ее усыпили, а затем доктор приказал ей встать. Она пыталась, но безуспешно. Тогда два ассистента взяли ее под руки, подняли, и она безвольно повисла, склонившись к своим мертвым ногам. Нужно ли говорить, что она так и не пошла и что, проволочив ее по комнате, ассистенты снова уложили больную на постель, и весь этот сеанс не имел никаких положительных последствий!
— Но доктор Иоханнес ведь не лечит всех тяжелобольных подряд?
— Нет, он занимается только пострадавшими от колдовства. Он считает себя бессильным перед лицом других заболеваний, требующих медицинского вмешательства. Его область — удары, нанесенные сатанистами, он уделяет много внимания душевнобольным, так как считает, что в большинстве случаев их одурманили злые духи, и поэтому они не поддаются лечению покоем и душами.
— А зачем ему те драгоценные камни, о которых ты говорил?
— Прежде чем ответить на твой вопрос, я должен растолковать тебе свойства этих камней. Вряд ли ты воспримешь как откровение тот факт, что Аристотель, Плиний и другие ученые язычники наделяли драгоценные камни божественными и целительными качествами. Они считали, что агат и сердолик рассеивают грусть, топаз утешает, яшма излечивает от апатии, гиацинт прогоняет бессонницу, бирюза предохраняет от падений, аметист предотвращает запои.
Католицизм тоже обратил внимание на эти камни и провозгласил их символами различных христианских добродетелей. Так, сапфир — эмблема возвышенного душевного порыва, халцедон — милосердия, оникс — простодушия, берилл — науки теологии, гиацинт — смирения. Рубин усмиряет гнев, изумруд укрепляет веру.
Магия же… — де Герми поднялся, взял с полки маленькую книжицу, похожую на молитвенник, и показал Дюрталю.
На первой странице Дюрталь прочел: «Естественная магия, содержащая секреты и чудеса природы, изложенная в четырех книгах Жаном Батистом Порта, неаполитанцем». И ниже: «в Париже, типограф Николас Бонфус, улица Нотр-Дам, под покровительством Святого Николая, 1584».
— Магия, — продолжил де Герми, листая книгу, — точнее, естественная магия, которая заменяла в прежние времена медицину, иначе толкует назначение камней. Вот послушай:
«Воздав хвалу неизвестному камню, „алекториусу“, который делает непобедимым того, кто им обладает, если тот извлечет его из желудка петуха, кастрированного за четыре года до этого времени, или из брюшной полости рябчика, Порта утверждает, что халцедон помогает выиграть процесс, сердолик останавливает кровотечение и „полезен женщинам, страдающим в период расцвета“, гиацинт защищает от удара молнии, отводит чуму и предохраняет от ядовитых гадов, топаз исцеляет от лунатизма, бирюза используется против меланхолии и сердечных горестей. По его мнению, сапфир дарует бесстрашие и силу, а изумруд, если его повесить на шею, оберегает от болезни святого Иоанна и раскалывается, когда его владелец не соблюдает обет целомудрия».
Как видишь, мнения античности, христианства и науки XVI века не совпадают. Описания, составленные для каждого из камней, забавные в той или иной степени, имеют мало сходства.
Доктор Иоханнес обратился к древним представлениям о свойствах камней, сравнил их между собой, часть принял, часть отбросил и добавил со своей стороны новые. Он считает, что аметист избавляет от алкоголизма, но еще более действен в борьбе с духовным пьянством, с гордыней, рубин удерживает от похоти, берилл укрепляет веру, сапфир обращает помыслы к Богу.
Он верит, что каждый камень соотносится с определенным типом заболеваний, а также разрядом грехов. Он убежден в том, что, когда удастся получить химическим путем основные составляющие пород, можно будет использовать их не только как противоядия, но и как профилактические средства против многих болезней. А в ожидании, пока эта мечта, кажущаяся на первый взгляд немного безумной, осуществится и специалисты по обработке драгоценных камней низвергнут медицину, он при помощи камней выявляет недуги, напущенные колдовством.
— А как он это делает?
— Он утверждает, что флюиды исходят от камня, приложенного к ладони или к больной части тела жертвы, и он прислушивается к информации, поступающей от него и воспринимаемой пальцами доктора. Однажды он рассказал мне, как к нему пришла незнакомая дама, с детства страдавшая от неизлечимой болезни. Но он никак не мог добиться от нее вразумительных ответов на свои вопросы. Ему не удалось найти признаков постороннего злого вмешательства, он перепробовал почти все свои камни. Тогда он взял лазурит, который, по его таблицам, соответствует инцесту, дотронулся им до ее ладони, а затем пощупал камень.
«Ваша болезнь, — сказал он, — последствия инцеста». — «Но, — ответила она, — я пришла сюда не для того, чтобы исповедоваться». В конце концов она призналась, что ее отец изнасиловал ее, когда она была еще совсем маленькой.
Все то, что я рассказал, противоречиво, не согласуется с общепринятыми идеями, кажется абсурдным, но факт остается фактом: этот священник сокрушает хвори, которые мы, врачи, признаем неизлечимыми.
— И единственный оставшийся в Париже астролог, несравненный Гевэнгей, умер бы, если не его помощь. Ну, теперь все позади. Но как, черт побери, получилось, что императрица Евгения заказывала гороскопы именно Гевэнгею?
— Но я уже как-то говорил тебе об этом. Во времена Империи в Тюильри весьма интересовались астрологией, а также магией. Американец Хом был почитаем там, как бог. Он проводил спиритические сеансы и вызывал инфернальных духов. Но все это плохо кончилось. Некий маркиз умолил его дать ему возможность увидеть его жену, которая умерла. Хом подвел его к постели в одной из спален и оставил одного. Что произошло дальше? Какие призраки вырвались из гробниц? Несчастный был найден мертвым, распростертый в ногах постели. Не так давно эта история была изложена в «Фигаро», и там приведены неопровержимые доказательства реальности этого события.
Да, не стоит заигрывать с загробным миром и отрицать существование ларвов. Я знавал когда-то одного богатого человека, помешанного на оккультных науках. Он был председателем теософского общества в Париже и даже написал книгу об эзотерике.
Он не захотел уподобляться разным Пеладанам и Папюсам, которых вполне устраивало собственное невежество, и отправился в Шотландию, где сатанизм процветал. Там он посещал одного человека, который за деньги посвятил его в тайны сатанизма, и после этого он решился испробовать свои силы. Видел ли он того, кого Бульвер Литтон называет «привратником тайны»? Не знаю, но он потерял сознание от ужаса и вернулся во Францию измученным, полуживым.
— Черт побери! Профессия не сахар! Но, послушай, если уж человек становится на этот путь, он вызывает только злых духов?
— А ты полагаешь, что ангелы, которые на земле покоряются лишь святым, явятся на зов первого встречного?
— Но между Духами Света и Духами Мрака должно быть нечто среднее, не связанное ни с небесами, ни с дьяволом, промежуточное. Взять хотя бы призраков, которые несут восхитительную ахинею на спиритических сеансах!
— Один священник как-то говорил мне, что равнодушные к Добру и Злу ларвы живут на ограниченной невидимой территории, как на острове, и их со всех сторон осаждают противостоящие друг другу духи. В конце концов им придется присоединиться к тому или другому лагерю, но до тех пор они лишь медленно отступают. Оккультисты, стараясь вызвать этих ларвов, скликают духов зла, так как ангелы им не подвластны, и, сами того не подозревая, скатываются в сатанизм. Таков путь спиритизма.
— Но если допустить то, что какой-нибудь гадкий медиум наловчился вызывать души мертвых, свидетельствует ли это о том, что Сатана вмешался в его практику?
— Конечно. Спиритизм, с какой стороны на него ни взглянуть, воняет.
— Так ты не веришь в теургию, в белую магию?
— Все это ерунда! Это мишура, в которую рядятся молодчики, такие, как розенкрейцеры, чтобы скрыть свои опыты в черной магии. Никто не осмеливается заявить открыто о своем сатанизме. В чем состоит белая магия, если отбросить громкие фразы, которыми прикрываются ханжи и которым верят только глупцы? К чему она приводит? И Церковь, которую не проведешь на мякине, одинаково осуждает и ту и другую магию.
— А! — Дюрталь свернул новую сигарету, — все эти разговоры куда приятнее, чем обсуждение политических событий и выигрышей на бегах, но и тут такая путаница! Во что верить? Большинство теорий безумны, некоторые настолько непонятны, что притягивают. Принять сатанизм? Черт побери, он все-таки реален. Но если уж быть до конца последовательным, нужно придерживаться католицизма, и тогда остается только молиться. Ни буддизм, ни другие религии не доросли до того, чтобы победить веру в Христа!
— Ну так и придерживайся католицизма!
— Я не могу. Многие догмы я не приемлю.
— Я тоже часто колеблюсь, но иногда мне кажется, что я вот-вот уверую. И это лишний раз доказывает, что сверхъестественные силы существуют, и неважно, христианин ты или нет. Нельзя отрицать очевидное, иначе будешь барахтаться в помоях материализма или хлебать из кормушки идиотского либерализма.
— Но эта нерешительность ужасно утомительна! Я так завидую несокрушимой вере Карекса!
— Тебя легко обработать! — заметил де Герми. — Вера — надежный корабль, единственный остров, на который можно высадиться без опаски!
XXII
— Подойдет ли вам такое меню? — спросила мадам Карекс. — Я еще вчера приготовила говядину, чтобы угостить вас бульоном с вермишелью, мясным салатом с копченой селедкой и сельдереем и картофельным пюре. К десерту будет сыр. И потом, вы сможете отведать сидра, который нам недавно прислали.
— О! — раздались одобрительные возгласы де Герми и Дюрталя. В ожидании обеда они потягивали тот самый эликсир долголетия.
— Мадам Карекс, вы подвергаете нас соблазну впасть в грех чревоугодия. Вы развращаете наши желудки!
— Вы смеетесь надо мной! Но куда же запропастился Луи!
— Кажется, он идет, — сказал Дюрталь, до которого донесся скрип подошв, тяжело опускающихся на каменные ступени лестницы.
— Нет, это не он, — покачала головой мадам Карекс.
Она открыла дверь.
— Судя по шагам, это должен быть Гевэнгей, — заметила она.
И действительно, в синем дождевике, в мягкой шляпе появился астролог. Поприветствовав всех театральным жестом, он приблизился к друзьям и по очереди вложил в их ладони царапающиеся кольца, торжественно восседающие на его пальцах.
Он поинтересовался, где хозяин дома.
— Он у плотника. Дубовые перекладины, к которым крепятся колокола, дали трещины, и Луи боится, как бы колокола не обрушились.
— Плохо дело!
— А что слышно о выборах? — спросил Гевэнгей, извлек свою трубку и продул ее.
— В нашем округе результаты будут известны только вечером, не раньше. Но Париж совершенно обезумел, и можно не сомневаться, что генерал Буланже пройдет и будет верховодить в этом городе.
— Средневековая пословица гласит, что стоит зацвести бобам, и безумцы поднимают голову. Но, кажется, сейчас не тот сезон.
Вошел Карекс, извинился за опоздание и стал стягивать галоши. Мадам Карекс внесла супницу. На расспросы друзей Карекс ответил:
— Да, влажность разъела железные кольца, и дерево прогнило. Балки треснули, и без вмешательства плотника не обойтись. Он обещал, что придет завтра и приведет рабочих. Ну, я рад, что наконец-то дома. В городе я плутаю, брожу в растерянности, как пьяный. Мне хорошо только здесь, в этой комнате, или на колокольне. Ну-ка, передай мне это, — обратился он к жене и вооружился ложкой, чтобы перемешать салат с мясом, селедкой и сельдереем.
— Ну и запах! — восхитился Дюрталь, раздувая ноздри. — Этот аромат будит воображение. Я так и вижу перед собой очаг, в котором потрескивают ветки можжевельника в низеньком домике с окнами, выходящими на гавань. Существует некий ореол из запаха дегтя и водорослей над этим дымчатым золотом селедки, ее сухой ржавчиной. Восхитительно! — добавил он, попробовав салат.
— О, месье Дюрталь, вам совсем нетрудно угодить! Я буду готовить вам это блюдо почаще! — откликнулась мадам Карекс.
— Увы! — улыбнулся ее муж. — Тело куда менее требовательно, чем душа. Я все вспоминаю те неутешительные выводы, к которым мы пришли в прошлый раз. Я молюсь, чтобы Бог просветил души. А что, — обратился он к жене, — если мы призовем на помощь святого Феодула, которого всегда изображают рядом с колоколами? Он все-таки причастен к колокольному делу и должен прислушаться к молитвам тех, кто почитает его и связанные с ним символы.
— Только чудо способно окончательно обратить Дюрталя, — сказал де Герми.
— Но ведь колокола породило чудо, — вмешался астролог. — Я где-то читал, что, когда умирал святой Исидор Мадридский, послышался похоронный звон, исходивший от ангелов.
— О, с колоколами связано много чудес, — оживился Карекс. — Колокола зазвонили сами по себе, когда святой Сигизбер пел «Из глубины…» над телом принявшего мученическую смерть христианина, а когда убитого святого Эннемона, епископа Лиона, палачи бросили в лодку без паруса и без гребцов пустили по воде, раздался тихий звон, сопровождавший суденышко.
— Знаете, о чем я подумал? — задумчиво спросил де Герми, глядя на Карекса. — Вы просто ходячая энциклопедия агиографии. Вам следует издать ученый труд инфолио!
— Зачем?
— Но ведь вы, слава Богу, сокровищница знаний, которые всеми забыты или прокляты! Вы и так сумели подняться над нашим временем, но это вознесет вас еще выше. Ваша жизнь недоступна пониманию современного поколения. Обожествлять колокола, упражняться в искусстве, давным-давно заброшенном, проводить время в трудах, которые были по плечу лишь святым, в подвижничестве — это было бы естественно в другие времена и не в Париже.
— Увы! — вздохнул Карекс. — Я обычный человек и мало что знаю, но такие люди, как вы описали, существуют. В Швейцарии живет один звонарь, который уже много лет изучает геральдику. Остается только выяснить, — усмехнулся он, — не мешает ли одно его дело другому.
— А профессия астролога? Разве она не в загоне? — с горечью произнес Гевэнгей.
— Ну, а как вам сидр? — спросила мадам Карекс. — Не кажется ли вам, что он немного кисловат?
— Нет, он немного терпкий, но пахнет свежими плодами.
— Жена, подавай пюре без меня. Я и так всех задержал со своими делами, а сейчас мне пора на колокольню. Угощайтесь, а я присоединюсь к вам позже.
Звонарь зажег фонарь и вышел. Мадам Карекс внесла блюдо, на котором лежало нечто вроде пирога с золотистой корочкой.
— О! Но это не картофельное пюре! — воскликнул Гевэнгей.
— Оно самое, но я запекла его с луком и сыром. Отведайте, мне кажется, получилось удачно.
Пюре пошло на «ура», но гул колоколов заглушил восторженные похвалы. Этим вечером звон колоколов был более сильным и более чистым. Дюрталь прислушался к звукам, сотрясавшим комнату. Они наплывали и отдалялись. Язык колокола ударялся о медные стены, и оглушительный звук рассыпался, расслаивался, его острота сглаживалась, но тут обрушивалась новая волна, брызгами разлетавшаяся по башне.
Паузы между ударами увеличились, с колокольни долетал шум, напоминающий звук работающей прялки. Последние капли звона упали на землю, и Карекс вернулся к столу.
— Что за несуразные времена! — задумчиво изрек Гевэнгей. — Полное безверие и удивительная доверчивость. Каждое утро новая наука заявляет о себе, царство прописных истин, демагогии! И никто не хочет читать Парацельса, которым все давным-давно сказано. Попробуйте объявить всем этим ученым собраниям, что жизнь — это капля звездного масла, что каждый из органов человека соотносится с той или иной планетой и зависит от нее, что мы — сгустки божественной сферы; скажите им — а это факт, доказанный опытом, — что человек, рожденный под знаком Сатурна, задумчив, молчалив, одинок, часто беден, потому что это тяжелая планета, склоняющая к суеверию и мошенничеству, вызывающая эпилепсию, геморрой, проказу, провоцирующая скупость, что она — поставщик душ в богадельни и тюрьмы, — они только пожмут плечами, посмеются, эти присяжные ослы, увенчанные болваны!
— Да, — согласился де Герми, — Парацельс — один из самых выдающихся знатоков оккультной медицины. Ему были известны утраченные теперь тайны крови, он умел применять в медицинских целях свет. Как и каббалисты, он считал, что человек образован из трех составляющих — тела, души и астрала — и имел дело в основном с третьей, воздействуя на телесную оболочку неизвестными нам приемами. Он заживлял раны, сосредоточив внимание не на тканях, а на крови, которая вытекала из нее. Считается, что он побеждал многие болезни.
— И это ему удавалось благодаря глубоким познаниям в астрологии, — заметил Гевэнгей.
— Но если так важно знать влияние, которое оказывают на нас звезды, почему бы вам не обзавестись учениками? — спросил Дюрталь.
— Учениками? Но где те люди, которые согласились бы трудиться годами, не получая ни выгоды, ни славы? Чтобы достичь уровня, позволяющего составлять гороскопы, нужно хорошо освоить математику и изрядно попотеть над темной латынью старых авторов. И потом, не обойтись без веры и убежденности в своем призвании…
— И профессия звонаря требует того же!
— Нет, месье, — продолжил Гевэнгей, — раз великая наука средневековья погрузилась в мрачное и враждебное равнодушие нечестивцев, душа Франции мертва. Нам остается только умыть руки и спокойно выслушать ругательства и смех толпы.
— Ну, не стоит так отчаиваться, когда-нибудь придут другие времена, — попыталась утешить его мадам Карекс и, пожав руки гостям, ушла к себе.
— Века, — сказал де Герми, наливая воду в кофейник, — вместо того, чтобы облагородить этот народ, окончательно его развратили и оглупили. Вспомните хотя бы Коммуну, бессмысленные порывы, бурлящую беспричинную ненависть, безумие, в которое впало полуголодное, отчаявшееся население, жаждавшее крови, потрясавшее оружием. В средние века толпа была наивна и милосердна. Дюрталь может рассказать, как вел себя народ, когда Жиля де Рэ вели на костер.
— Да, пожалуйста, — присоединился к просьбе Карекс, попыхивая трубкой.
— Ну что ж, я готов. Как вам известно, маршал де Рэ был приговорен к смерти через повешение и сожжению заживо. Когда его отвели в тюрьму после окончания суда, он в последний раз обратился к Иоанну Малеструа. Он просил его узнать у матерей и отцов, которых он лишил детей, не согласятся ли они присутствовать при его казни.
И народ, преисполненный жалости, рыдал. Они не видели в этом бароне сатаниста, чудовище, поглотившее сердца, но оплакивали раскаявшегося грешника, готовящегося предстать перед грозным Судией. В день казни в девять часов утра на улицах города появилась длинная процессия. Слышалось пение псалмов, люди входили в церкви и приносили обет поститься в течение трех дней, чтобы вымолить таким образом покой грешной душе маршала.
— Как видите, тут и не пахнет судом Линча, — отметил де Герми.
— Позже, — продолжил Дюрталь, — часов в одиннадцать, толпа подошла к тюрьме и затем сопровождала Жиля де Рэ до места казни. Над сложенным костром возвышалась виселица.
Маршал старался ободрить своих сообщников, обнял их, уговаривал «с сокрушенным сердцем покаяться в своих грехах», бия себя в грудь, молил Пресвятую Деву явить к ним милость. Духовенство, крестьяне — все пели торжественные мрачные строфы молитвенных стихов.
— Да здравствует Буланже!
Крики, подобные шуму морского прибоя, поднимались с площади Сан-Сюльпис на башню.
— Буланж! Ланж!
Гулкий, с хрипотцой голос, принадлежащий, должно быть, какому-нибудь лоточнику, торговцу устрицами, перекрыл гул:
— Да здравствует Буланже!
— Наверное, перед зданием мэрии уже оглашены результаты выборов, — с отвращением проговорил Карекс.
Друзья переглянулись.
— Вот нынешняя толпа! — пожал плечами де Герми.
— Да уж, таких оваций она не удостаивает ни ученых, ни художников, ни даже святых.
— В средние века все было по-другому.
— Да, люди были более наивны и не так глупы, как сейчас. А потом на свете перевелись святые, спасающие мир своими молитвами. Под покровом сутан скрываются ущербные сердца, расслабленные души. Разум оставил святош. И что еще хуже, их гниение перекидывается на паству, порученную их заботам. Каноники Докры, сатанисты!
— Подумать только, позитивизм и атеизм смели все со своего пути, кроме сатанизма, который не отступил ни на шаг перед их натиском.
— Это легко объяснимо, — воскликнул Карекс, — ведь сатанизм отрицается. Отец Равинан доказал, что вся сила дьявола заключается в том, что в него не верят.
— Боже мой! Приближается смерч нечистот, — грустно промолвил Дюрталь.
— Нет, не говорите так! — взмолился Карекс. — Здесь, на земле, все дисгармонично, все мертво, но там, на небесах! Ах! Я верю, что близится сошествие Святого Духа, явление Божественного Параклета! Об этом трубят богодухновенные тексты, взойдет светлая заря!
И, закрыв глаза, сложив руки на груди, он погрузился в молитвы.
Де Герми поднялся и прошелся по комнате.
— Все это, конечно, так, — проворчал он, — но этому веку совершенно наплевать на Христа, грядущего во славе. Он попирает все, превосходящее разум, и его тошнит от мысли о загробном мире. Как поверить в будущее, в то, что души сыновей зловонного, грязного мира очистятся? Что станется с ними, вскормленными своим временем? Что их ждет в этой жизни?
— Они возьмут пример со своих отцов и матерей, — откликнулся Дюрталь, — будут набивать себе утробу и ради того, чтобы ублажить ее, легко поступятся душой!

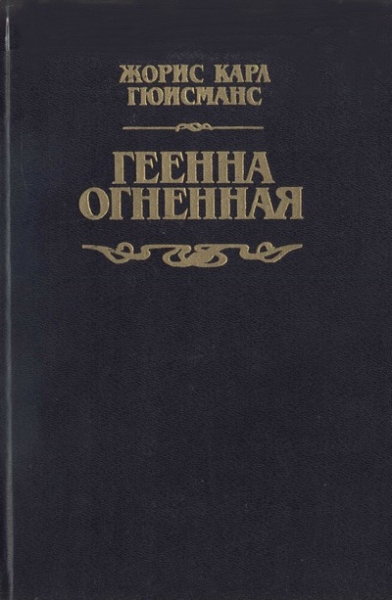

Комментарии к книге «Геенна огненная», Жорис-Карл Гюисманс
Всего 0 комментариев