Фронтиспис работы художника Г. Г. Филипповского
КРАСНАЯ ЛИЛИЯ (LE LYS ROUGE)[1]
I
Она окинула взглядом кресла, расставленные перед камином, чайный столик, блестевший в полумраке, и большие бледные снопы цветов, поднимавшиеся из китайских ваз. Она погрузила руку в цветущие ветви калины и раскачала ее серебристо-белые шары. Внезапно она с пристальным вниманием издали посмотрела на себя в зеркало. Изогнув стан, она стала боком, склонила голову на плечо, чтобы проследить тонкие очертания своей фигуры под покровом черного атласа, вокруг которого зыблилась легкая туника, усеянная бисером, сверкавшим темными трепещущими искрами. Она подошла ближе — посмотреть, хороша ли она сегодня. Взор, которым ответило ей зеркало, был спокоен, словно прелестная женщина, на которую она глядела не без удовольствия, не знала в жизни ни жгучей радости, ни глубокой печали.
По стенам обширной гостиной, безлюдной и безмолвной, персонажи гобеленов, тусклые, смутные как тени, пленяли предсмертной грацией своих старинных утех. Подобно им, терракотовые статуэтки на высоких консолях, группы старого саксонского фарфора и расписные севрские изделия под стеклом говорили о прошлом. На пьедестале, отделанном драгоценной бронзой, высился, вырываясь из складок каменной одежды, мраморный бюст некоей принцессы крови в обличии Дианы — с миловидным лицом, с горделивой грудью, а на потолке Ночь, напудренная, как маркиза, и окруженная амурами, сыпала цветы. Все дремало, и слышно лишь было, как потрескивает огонь в камине и легко шелестит материя, расшитая бисером.
Отвернувшись от зеркала, она подошла к окну, приподняла край портьеры и сквозь черные ветви деревьев набережной в тусклом свете дня увидела Сену, покрытую вялой желтой рябью. В светло-серых глазах отразилась скука, источаемая и небом и водой. Прошел пароход «Ласточка»: он появился из-под пролета моста Альмы и понес скромных своих пассажиров к Гренелю и Бильянкуру. Она проводила его взглядом, следя, как его увлекает мутное и грязное течение реки, потом опустила занавеску и, усевшись на диване, в привычном своем углу под кустами цветов, протянула руку за книгой, брошенной на столе. На соломенно-желтом холсте переплета золотыми буквами блестело заглавие: «Изольда белокурая, сочинение Вивиан Белл». То был сборник французских стихов, написанных англичанкой и напечатанных в Лондоне.
Она раскрыла книгу наугад и прочитала:
Когда колокольная медь, молясь, трепеща, торжествуя, Летит в потрясенную высь, приветствуя деву святую, Предчувствие первой любви, невинное сердце тревожа, Безгрешную девичью плоть пронзает неведомой дрожью. И грезится деве в тиши, в глуши потаенной, зеленой, Что красную лилию ей вручает гонец окрыленный, — И, страстно приникнув к цветку, смертельной истомой объята, Беспомощно тонет она в потоках его аромата; И в сумерках мягких к устам душа подступает несмело, И жизнь, как прозрачный ручей, уходит, уходит из тела.[2]Она читала, равнодушная, рассеянная, ожидая визитеров и думая не столько о поэзии, сколько о поэтессе, об этой мисс Белл, пожалуй, самой приятной среди всех ее знакомых, с которой ей почти никогда не приходилось видеться и которая при каждой из их встреч, столь редких, обнимала и называла ее «darling»[3], быстро клевала ее в щеку и начинала щебетать; некрасивая, но прелестная, чуть смешная и совершенно обворожительная, она вела во Фьезоле жизнь эстета и философа, меж тем как Англия прославляла в ее лице свою самую любимую поэтессу. Она так же, как Вернон Ли[4] и Мэри Робинсон[5], влюбилась в тосканское искусство и в тосканскую жизнь и, даже не окончив «Тристана», первая часть которого внушила Берн-Джонсу[6] замысел мечтательных акварелей, писала теперь французские и провансальские стихи на итальянские мотивы. Свою «Изольду белокурую» она послала darling вместе с письмом, приглашая провести месяц у нее во Фьезоле. Она писала: «Приезжайте, вы увидите самые прекрасные вещи в мире и еще украсите их».
A darling думала о том, что не поедет, что решительно все задерживает ее в Париже. Однако же мысль увидеть мисс Белл и Италию не оставляла ее равнодушной. Перелистывая книгу, она случайно обратила внимание на стих:
Любовь и сердце милое — едины.И она с легкой и очень мягкой иронией задала себе вопрос: любила ли мисс Белл и что это была за любовь? У поэтессы был во Фьезоле чичисбей, князь Альбертинелли. Хотя и очень красивый, он казался слишком пошлым и грубым, чтобы нравиться эстетке, которая с жаждой любви соединяла мистические грезы о благовещенье.
— Здравствуйте, Тереза. Я просто изнемогаю.
Это явилась княгиня Сенявина, гибкая, укутанная в меха, как бы неразрывно связанные с ее смуглым неистовым телом. Она порывистым движением опустилась в кресло и голосом резким, хотя и ласкающим, сочетавшим в себе нечто мужское и нечто птичье, сообщила:
— Сегодня утром я с генералом Ларивьером пешком прошла весь Булонский лес. Я встретила его в аллее Слухов и довела до Аржантейльского моста, где он непременно хотел в подарок мне купить у сторожа парка ученую сороку, которая проделывает упражнения с маленьким ружьем. Сил нет.
— Но почему же вы тащили генерала до самого Аржантейльского моста?
— Потому что подагра сводила ему пальцы на ноге.
Тереза пожала плечами, улыбнулась:
— Вы попусту растрачиваете вашу злость. Вы расточительны.
— А вы хотите, дорогая, чтобы я экономила и доброту и злость в надежде найти им достойное применение?
И она выпила токайского.
Генерал Ларивьер, о приближении которого мощным шумом возвещало его дыхание, подошел, тяжело ступая, поцеловал дамам руки и сел между ними с видом упрямым и довольным, закатив глаза, смеясь всеми морщинками, образовавшимися у него на висках.
— Как поживает господин Мартен-Беллем? Все по-прежнему занят?
Тереза ответила, что он, должно быть, в палате и даже выступает там с речью.
Княгиня Сенявина ела в это время сандвичи с икрой; она спросила г-жу Мартен, почему та не была вчера у г-жи Мейан. Там давали спектакль.
— Какую-то скандинавскую пьесу. И что же — удачно?
— Да. Впрочем, не знаю. Я сидела в маленькой зеленой гостиной под портретом герцога Орлеанского[7]. Ко мне подошел господин Ле Мениль и оказал мне одну из тех услуг, какие не забываешь. Он спас меня от господина Гарена.
Генерал, имевший привычку пользоваться разными справочниками и копить в своей большой голове всякого рода полезные сведения, при этом имени навострил уши.
— Гарен? — спросил он. — Министр, который входил в состав кабинета в период изгнания принцев?[8]
— Он самый. Я, видимо, чрезвычайно понравилась ему. Он рассказывал мне о потребностях своего сердца и смотрел на меня с устрашающей нежностью. А время от времени со вздохом взирал на портрет герцога Орлеанского. Я ему сказала: «Господин Гарен, вы ошибаетесь. Это моя свояченица — орлеанистка, а я — нисколько». В эту минуту явился господин Ле Мениль и проводил меня в столовую. Он говорил мне много лестного… но поводу моих лошадей. Еще он говорил, что нет ничего прекраснее, чем леса зимой, рассказывал о волках и волчатах. Это меня освежило.
Генерал, не любивший молодых людей, сказал, что накануне, в Булонском лесу, встретил Ле Мениля, который несся верхом сломя голову.
Он заявил, что только у старых наездников сохранились правильные традиции, что светским людям можно теперь поставить в упрек манеру ездить на жокейский лад.
— То же и с фехтованием, — прибавил он. — В прежние времена…
Княгиня Сенявина внезапно прервала его:
— Генерал, да вы взгляните, как хороша госпожа Мартен. Она всегда прелестна, но сейчас она прелестнее, чем когда бы то ни было. Это потому, что ей скучно. Ничто не идет ей так, как скука. Мы ей ужасно надоели. Вот посмотрите на нее: лоб нахмурен, взгляд блуждает, губы страдальчески сжаты. Жертва!
Она вскочила, бурно обняла Терезу и умчалась, оставив генерала в удивлении.
Госпожа Мартен-Беллем умоляла его не слушать эту сумасшедшую.
Он пришел в себя и спросил:
— А что ваши поэты, сударыня?
Он с трудом прощал г-же Мартен ее пристрастие к людям, которые что-то такое пишут и не принадлежат к ее кругу.
— Да, ваши поэты? Что сталось с господином Шулеттом, который приходит к вам с визитом в красном кашне?
— Мои поэты меня забывают, покидают. Ни на кого нельзя положиться. И люди и вещи — все ненадежно. Жизнь — непрерывная измена. Одна только милая мисс Белл не забывает меня. Она написала мне из Флоренции и прислала свою книгу.
— Мисс Белл — это ведь та молодая особа с вьющимися рыжими волосами, что похожа на комнатную собачку?
Он вычислил в уме и пришел к выводу, что в настоящее время ей наверно уже лет тридцать.
Друг за другом в комнату вошли старая дама, с достоинством, полным скромности, выступавшая в венце седых волос, и маленький живой человечек с хитрым взглядом: то были г-жа Марме и Поль Ванс. Затем, страшно прямой, с моноклем в глазу, появился Даниэль Саломон, законодатель моды. Генерал незаметно удалился.
Заговорили о романе, появившемся за последнюю неделю. Г-жа Марме, оказывается, несколько раз обедала вместе с его автором, человеком молодым и очень приятным. Поль Ванс находил книгу скучной.
— Все книги скучны, — вздохнула г-жа Мартен. — Но люди еще скучнее. И более требовательны.
Госпожа Марме сообщила, что муж ее, у которого был прекрасный литературный вкус, до конца своих дней с отвращением относился к натурализму.
Ее покойный муж был членом Академии надписей, и она появлялась в гостиных, гордая памятью знаменитого ученого, впрочем всегда кроткая и скромная, в черном платье, с красивыми седыми волосами.
Госпожа Мартен сказала Даниэлю Саломону, что хочет посоветоваться с ним по поводу фарфоровой вещицы — группы детей.
— Это сделано на заводе Сен-Клу. Вы мне скажете, нравится ли вам. И вы тоже, господин Ванс, откроете мне свое мнение, если только не презираете подобные пустяки.
Даниэль Саломон с угрюмым высокомерием посмотрел в монокль на Поля Ванса.
Поль Ванс оглядывал гостиную.
— У вас красивые вещи, сударыня, и в этом нет еще ничего особенного. Но у вас только красивые вещи, и они к вам идут.
Она не скрыла, какое удовольствие доставили ей его слова. Из всех, кого она принимала у себя, одного Поля Ванса она считала действительно умным человеком. Она оценила его еще до того, как его книги создали ему громкую известность. Слабое здоровье, хандра, усидчивость в работе отдаляли его от светского общества. Этот маленький желчный человечек не отличался приятностью. Но она старалась привлечь его к себе. Она очень высоко ставила его глубокую иронию, его нелюдимую гордость, его талант, созревший в одиночестве, — и справедливо восхищалась Полем Вансом, как превосходным писателем, автором прекрасных этюдов об искусстве и о нравах.
Гостиная понемногу наполнилась блестящей толпой гостей. В креслах, расставленных широким кругом, теперь сидели г-жа де Врессон, о которой рассказывали ужасающие истории и которая, после двадцати лет скандалов, еще не совсем забытых, сохранила детские глаза и девически чистое лицо; старуха де Морлен, пронзительным голосом бросавшая острые словечки, бесцеремонная, порывистая, похожая на пловца, окруженного пузырями, — так бурно колыхалось ее чудовищное, огромное тело; г-жа Ремон, жена академика; г-жа Гарен, жена бывшего министра, еще три дамы; прислонясь спиной к камину, стоял г-н Бертье д'Эзелль, редактор «Журналь де Деба»[9] и депутат; он с важным видом поглаживал седые бакенбарды, а г-жа де Морлен ему кричала:
— Ваша статья о биметаллизме[10] — это чудо, это прелесть. Особенно конец — сущий восторг.
В глубине гостиной молодые члены клубов, стоя, необычайно серьезные, сюсюкали между собой:
— И что же он сделал, чтобы получить доступ на охоту к принцу?
— Он — ничего. Зато его жена — все.
У них была своя философия. Ни один из них не верил в людские обещания:
— Терпеть не могу таких субъектов: душа нараспашку, — что на уме, то и на языке… «Вы выставляете в клубе свою кандидатуру? Обещаю вам, что опущу белый шар…» Да будет ли он белый? Как алебастр! Как снег! Приступают к баллотировке. Трах — все черняки! Жизнь, как подумаешь, скверная штука.
— Так ты и не думай, — сказал ему кто-то.
Даниэль Саломон, присоединившийся к ним, целомудренным голосом нашептывал им альковные тайны. И после каждого из диковинных разоблачений, касавшихся г-жи Ремон, г-жи д'Эзелль, княгини Сенявиной, он небрежно прибавлял:
— Это же всем известно.
Мало-помалу толпа гостей поредела. Оставались еще только г-жа Марме и Поль Ванс.
Он подошел к графине Мартен и спросил:
— Когда вам будет угодно, чтобы я представил вам Дешартра?
Он уже во второй раз спрашивал ее об этом. Она не любила видеть новые лица. И с полным равнодушием она ответила ему:
— Вашего скульптора? Да когда хотите. Я на Марсовом поле видела медальоны его работы, они превосходны. Но он мало работает. Он дилетант, не правда ли?
— Он — человек утонченный. Работать для денег ему не надо. Он любовно и медлительно ласкает свои изваяния. Но не поддавайтесь заблуждению, сударыня: он и знает и чувствует; это был бы мастер, если бы он не жил один. Я с ним знаком с детства. Его считают неблагожелательным и мрачным. А он — человек страстный и застенчивый. Чего ему недостает, чего ему всегда будет недоставать, чтобы достичь высшего совершенства в своем искусстве, — так это душевной простоты. Он тревожится, терзается и губит лучшие свои замыслы. На мой взгляд, ему больше подошло бы заниматься поэзией или философией, чем скульптурой. Он много знает, и вас поразит богатство его ума.
Госпожа Марме благосклонно подтвердила это.
Она пользовалась расположением света, сама выказывая ему расположение. Она много слушала и мало говорила. Держалась очень любезно и придавала еще большую цену своей любезности тем, что не слишком спешила с ее проявлениями. Потому ли, что ей действительно нравилась г-жа Мартен, потому ли, что она умела в сдержанной форме выразить свое предпочтение каждому дому, в котором бывала, но только она с довольным видом, словно какая-нибудь бабушка, грелась у этого камина в чистейшем стиле Людовика XVI, гармонировавшем с ее красотой — красотой благосклонной старой дамы. Ей недоставало здесь только ее болонки.
— Как поживает Тоби? — спросила ее г-жа Мартен. — Господин Ванс, вы знакомы с Тоби? У него длинная шелковая шерстка и восхитительный черный носик.
В то время как г-жа Марме наслаждалась похвалами по адресу Тоби, появился некий старик, румяный и белокурый, с вьющимися волосами, близорукий, почти слепой, в золотых очках и коротконогий; налетая на мебель, отвешивая поклоны пустым креслам, порывисто устремляясь к зеркалам, он, наконец, чуть не наткнулся крючковатым своим носом на г-жу Марме, взглянувшую на него с негодованием.
То был г-н Шмоль, член Академии надписей, пухленький и улыбающийся; он гримасничал; обращался к графине Мартен с мадригалами, произнося их тем грубым и густым голосом, каким евреи, его предки, требовали денег от своих должников, эльзасских, польских и крымских крестьян. Фразы его были тягучи и неповоротливы. Этот крупнейший филолог, член Французской академии, знал все языки, кроме французского. И г-жу Мартен забавляли его любезности, тяжелые и ржавые, как железный лом в лавке старьевщика; но порой среди них попадался какой-нибудь засохший цветок из Антологии[11]. Г-н Шмоль был ценитель поэзии и женщин и был неглуп.
Госпожа Марме сделала вид, что незнакома с ним, и вышла, не ответив на его поклон.
Исчерпав свои мадригалы, г-н Шмоль стал мрачен и жалок. Стонам его не было конца. Он сетовал на собственную участь: было у него и мало орденов и мало синекур, и недостаточно хороша была казенная квартира, в которой он жил с женой и пятью дочерьми. В жалобах его было некоторое величие. В нем жила душа Иезекииля и Иеремии[12].
По несчастью, склонившись к самому столу, он разглядел сквозь золотые очки книгу Вивиан Белл.
— А-а! «Изольда белокурая», — с горечью воскликнул он. — Вы читаете эту книгу, сударыня? Ну, так да будет вам известно, что мадемуазель Вивиан Белл украла у меня одну надпись и что к тому же она исказила ее, переложив стихами! Вы найдете ее на странице сто девятой.
— Минувшая любовь, не сетуй запоздало, — Ведь что ушло навек, того и не бывало. — О нет, пускай душа отчаянья не прячет, Пусть тень оплачет тень, мечта мечту оплачет![13]Обратите внимание, сударыня: «Пусть тень оплачет тень»! Так вот, эти слова — буквальный перевод надгробной надписи, которую я первый издал и прокомментировал. Как-то раз в прошлом году, во время обеда у вас, оказавшись за столом рядом с мадемуазель Белл, я процитировал ей эту фразу, и она ей очень понравилась. По ее просьбе я на другой же день перевел на французский язык всю эту надпись и послал ей. И вот я нахожу ее в сборнике стихов, изуродованную и искаженную, под заголовком: «На священном пути…» Священный путь — это же я!
И он с шутовской досадой повторил:
— Это я, сударыня, священный путь.
Он был недоволен, что поэтесса не упомянула о нем в связи с этой надписью. Ему хотелось бы видеть свое имя в заглавии стихотворения, в самих стихах, в рифме. Ему всегда везде хотелось видеть свое имя. И он искал его в газетах, которыми были набиты его карманы. Но он не был злопамятен. Он не сердился на мисс Белл. Он охотно согласился, что она — личность весьма выдающаяся и что сейчас как поэтесса она приносит Англии величайшую честь.
Когда он удалился, графиня Мартен с полным простодушием спросила у Поля Ванса, не знает ли он, почему милейшая г-жа Марме, всегда благожелательная, так гневно и не говоря ни слова поглядела на г-на Шмоля. Поль Ванс удивился, что она этого не знает.
— Я никогда ничего не знаю.
— Но ведь распря между Жозефом Шмолем и Луи Марме общеизвестна, и по поводу нее в Академии было столько шума. Конец ей положила только смерть Марме, которого его беспощадный собрат преследовал до самого кладбища Пер-Лашез.
В день, когда хоронили бедного Марме, шел мокрый снег. Мы промокли и продрогли до костей; было грязно, в воздухе — мгла. Над могилой, стоя под зонтиком, на ветру, Шмоль сказал речь, полную веселой жестокости и победоносной жалости, речь, которую потом в траурной карете он повез по редакциям. Один бестолковый знакомый показал ее добрейшей госпоже Марме, и та упала в обморок. Неужели же, сударыня, вы никогда не слышали об этой ученой и свирепой ссоре?
Причиной ее послужил этрусский язык. Марме только им и занимался. Его и прозвали Марме-этруск. Ни он, ни кто другой не знал ни одного слова этого языка, утраченного без остатка. Шмоль непрестанно твердил Марме: «Вы знаете, что вы не знаете этрусского языка, мой дорогой собрат; в этом отношении вы почтенный ученый и добросовестный человек». Уязвленный этими жестокими похвалами, Марме решил показать, что он немножко знает этрусский язык. Он прочел своим собратьям по Академии надписей доклад о роли флексий в древнетосканском наречии.
Госпожа Мартен спросила, что такое флексия.
— Ах, сударыня, если я начну разъяснять, вы совсем запутаетесь. Достаточно будет сказать, что в этом докладе бедный Марме приводил латинские тексты, и приводил их сплошь неверно. А Шмоль — очень крупный латинист и после Моммзена[14] лучший в мире эпиграфист.
Он упрекнул своего молодого собрата (Марме еще не было пятидесяти), что тот слишком хорошо толкует этрусские тексты и недостаточно хорошо латинские. С тех пор Марме уже не знал покоя. На каждом заседании он становился предметом таких свирепо веселых насмешек, таких издевательств, что, несмотря на свою мягкость, все же рассердился. Шмоль незлопамятен. Это — одна из добродетелей его нации. У него нет злобы против тех, кого он мучит. Однажды, подымаясь в обществе Ренана[15] и Опперта[16] по лестнице Академии, он встретился с Марме и протянул ему руку. Марме не взял ее и сказал: «Я вас не знаю». — «Не принимаете ли вы меня за латинскую надпись?» — возразил Шмоль. Вот эти-то слова отчасти причина того, что бедный Марме умер и похоронен. Теперь вы понимаете, что его вдова, которая свято чтит память мужа, с ужасом смотрит на его врага.
— А я-то пригласила их обедать вместе и еще посадила рядом, бок о бок.
— Это не было безнравственно, сударыня, отнюдь нет, но это было жестоко.
— Вас это, может быть, неприятно удивит, но если бы мне пришлось выбирать между безнравственностью и жестокостью, я предпочла бы сделать что-нибудь безнравственное.
Вошел высокий и худой молодой человек, смуглолицый, с длинными усами; он поклонился с порывистой грацией.
— Господин Ванс, вы, кажется, знакомы с господином Ле Менилем?
Они действительно уже бывали вместе у г-жи Мартен и встречались иногда на фехтовании, в котором Ле Мениль постоянно упражнялся. Еще накануне они виделись у г-жи Мейан.
— Вот у кого бывает скучно, — сказал Поль Ванс.
— Однако там принимают академиков, — заметил г-н Ле Мениль. — Я не преувеличиваю их достоинств, но в общем это избранный круг.
Госпожа Мартен улыбнулась:
— Нам известно, господин Ле Мениль, что у госпожи Мейан вы больше занимались дамами, чем академиками. Вы провожали княгиню Сенявину в столовую и рассказывали ей о волках.
— Что? о волках?
— О волках, волчихах и волчатах и о лесах, которые зимой становятся черными. Нам показалось, что это несколько мрачно для разговора с такой хорошенькой женщиной.
Поль Ванс встал.
— Итак, сударыня, вы мне разрешаете привести к вам моего друга Дешартра. Ему очень хочется познакомиться с вами, и я надеюсь, что он вам понравится. У него живой и гибкий ум. У него столько мыслей!
Госпожа Мартен перебила его:
— О! так много мне и не требуется. С людьми, которые держатся естественно и остаются самими собой, мне редко бывает скучно, а иногда они меня занимают.
Когда Поль Ванс вышел, Ле Мениль прислушался, как, удаляясь, глуше отдаются его шаги в передней, как захлопываются двери; потом он приблизился к ней:
— Завтра, в три часа, у нас — хорошо?
— Так вы еще любите меня?
Он стал торопить ее с ответом, пока они наедине; она же, не без желания подразнить, ответила, что время позднее, что визитов она больше не ждет и что прийти теперь может только ее муж.
Он стал умолять ее. Тогда, не заставляя себя слишком долго просить, она сказала:
— Тебе хочется? Так слушай: завтра я весь день буду свободна. Жди меня на улице Спонтини в три часа. Потом мы пойдем гулять.
Он взглядом поблагодарил ее. Затем, снова сев против нее, по другую сторону камина, спросил, кто такой этот Дешартр, с которым она собирается познакомиться.
— Не я собираюсь с ним знакомиться. Меня с ним знакомят. Это скульптор.
Он выразил сожаление, что у нее потребность видеть новые лица.
— Скульптор? Скульпторы обычно немного грубы.
— О! Этот мало занимается скульптурой. Но если вам неприятно, я не стану его принимать.
— Мне было бы неприятно, если бы общество стало отнимать у вас часть того времени, которое вы дарите мне.
— Друг мой, вы не можете пожаловаться, что я веду слишком светскую жизнь. Я даже не ездила к госпоже Мейан.
— Вы правильно поступаете, что появляетесь там как можно реже: этот дом не для вас.
Он объяснил: у всех дам, которые ездят туда, бывали какие-нибудь истории, о которых знают другие, о которых рассказывают. К тому же г-жа Мейан покровительствует романам. В подтверждение он привел несколько примеров.
Она между тем, полная чудесного спокойствия, вытянула руки и склонила голову набок, глядя на угасающее пламя. Мысли ее куда-то отлетали: ни единого их следа не хранило ни ее лицо, немного грустное, ни томное тело, более пленительное, чем когда бы то ни было в эту минуту душевной дремоты. Глубокая неподвижность сообщала ее прелестному облику нечто роднившее его с произведением искусства.
Он спросил, о чем она думает. Освобождаясь от власти меланхолических чар, навеянных созерцанием догорающих углей и пепла, она проговорила:
— Хотите, завтра мы поедем в какие-нибудь дальние кварталы, в те странные кварталы, где видишь, как живут бедные люди? Я люблю старые улицы, где царит нищета.
Он обещал исполнить ее желание, хоть и дал понять, что находит его нелепым. Эти прогулки, в которые она иногда вовлекала его, были ему неприятны, и он считал их опасными: кто-нибудь мог увидеть.
— А раз уж нам удалось до сих пор не дать повода к разговорам…
Она покачала головой:
— Вы думаете, что о нас никогда никто не говорил? Знают что-нибудь люди или не знают, а разговоры идут. Всего нельзя знать, но все можно сказать.
Она опять погрузилась в задумчивость. Он решил, что она недовольна, рассердилась и только не говорит — почему. Он наклонился и заглянул в ее красивые загадочные глаза, в которых отражались огни камина. Но она его успокоила:
— Я совершенно не знаю, говорят ли обо мне. Да и что мне в этом? Из ничего ничего и не будет.
Он расстался с ней, собираясь обедать в клубе, где его ждал Комон, его приятель, проездом оказавшийся в Париже. Она со спокойной приязнью проводила его глазами. Потом опять углубилась в созерцание тлеющих углей, подернутых пеплом.
И она увидела вновь дни своего детства, замок, в котором проводила долгое, печальное лето, подстриженные деревья, сырой и мрачный парк, бассейн с дремлющей зеленой водой, мраморных нимф под каштанами и скамейку, где она плакала, желая умереть. Ей и теперь оставалась непонятной причина девичьего отчаяния, охватывавшего ее в ту пору, когда пыл пробуждающегося воображения и таинственные силы плоти повергали ее в тревогу, полную и желаний и страхов. Когда она была ребенком, жизнь манила и пугала ее. А теперь она знала, что жизнь не стоит ни таких тревог, ни таких надежд, что в жизни все вполне обыкновенно. Так и надо было ожидать. Как она этого не предвидела? И она думала:
«Я жила возле мамы. Она была добрая женщина, очень простая и не очень счастливая. Я мечтала о судьбе, совсем непохожей на ее судьбу. Почему? Жизнь вокруг меня была пресная, и будущее я вдыхала, словно воздух, напоенный солью и благоуханиями. Почему? Чего я хотела и чего ждала? Разве я еще не знала, как грустно все на свете?»
Она родилась богатой, среди крикливого блеска только что сколоченного состояния. Дочь того самого Монтессюи, что вначале был мелким банковским служащим в Париже, потом основал два больших кредитных общества, управлял ими, а в трудные часы сумел их поддержать благодаря изобретательности ума, непоколебимой силе характера, неповторимому сочетанию хитрости и честности, и на равной ноге вел переговоры с правительством. Она выросла в историческом замке Жуэнвиле[17], который был куплен, реставрирован и роскошно обставлен ее отцом и за шесть лет своим великолепием, красотою парка и больших прудов сравнялся с Во-ле-Виконтом. Монтессюи брал от жизни все, что она может дать. Прирожденный заядлый атеист, он жаждал всех плотских благ, всех соблазнительных даров нашей земли. В галерее и в гостиных Жуэнвильского замка он собрал картины первоклассных мастеров и драгоценные мраморные изваяния. В пятьдесят лет он обладал самыми красивыми актрисами и несколькими светскими женщинами, которые благодаря ему заблистали еще ярче. Всем, что ценят в обществе, он наслаждался со всем неистовством бурного нрава и изощренностью ума.
А тем временем бедная г-жа Монтессюи, бережливая и домовитая, тщедушная и жалкая, изнывала в Жуэнвиле, в алькове с золочеными колоннами и под взглядом двенадцати исполинских кариатид, подпиравших плафон, на котором Лебрен изобразил титанов, сраженных громами Юпитера. Там-то, на железной койке, поставленной в ногах большой парадной кровати, она однажды вечером скончалась, истаяв от тоски и печали; во всем мире она любила только своего мужа и свою маленькую гостиную на улице Мобеж, обитую красным узорчатым шелком.
С дочерью она никогда не была близка, чувствуя, что они совсем разные, что у дочери слишком свободный ум, слишком отважное сердце, — мать угадывала в Терезе, пусть кроткой и доброй, ту бурную кровь Монтессюи, ту пылкость души и плоти, от которой сама так страдала и которую ей легче было простить мужу, чем дочери.
Но он, Монтессюи, видел в Терезе свою дочь и любил ее. У него, как у всех крупных хищников, бывали часы обаятельной веселости. Хотя он много времени проводил вне дома, все же успевал почти каждый день завтракать с нею, а иногда брал ее с собой на прогулку. Он знал толк в безделушках и в туалетах. С первого же взгляда он замечал и исправлял ущерб, который наносил платьям девушки убогий, грубый вкус г-жи Монтессюи. Он обучал, он воспитывал свою Терезу. Властный и очаровательный, он умел ее забавлять и привлекал к себе. Даже вблизи дочери его вдохновляла жажда побед. Он, вечно желавший покорять, покорил и свою дочь. Он отнимал ее у матери. Она восхищалась им, боготворила его.
Теперь, думая о прошлом, она видела в нем единственную радость своего детства. Она и теперь еще была убеждена, что нет на свете человека более обаятельного, чем ее отец.
Вступая в жизнь, она сразу же отчаялась найти в ком-либо такое же богатство даров природы, такую же силу ума и энергию. Это чувство безнадежности не оставляло ее и при выборе мужа, а быть может, и тогда, когда ей пришлось делать выбор тайный и более свободный.
Мужа она в сущности и не выбирала. Она ничего не знала тогда: выдать ее замуж она предоставила отцу; будучи уже вдовцом, он, среди деловой и бурной жизни, смущенный и обеспокоенный необходимостью сложных забот о дочери, решил, по своему обыкновению, сделать все быстро и хорошо. Он принял в расчет внешние преимущества, требования света, оценил восьмидесятилетнюю давность дворянства, приобретенного Мартенами в наполеоновские времена, и наследственную славу рода, дававшего министров Июльскому правительству и либеральной Империи[18]. Ему и в голову не приходило, что в браке Тереза могла бы найти любовь.
Он тешил себя надеждой, что она найдет удовлетворение тщеславию, которое он ей приписывал, познает радости светской жизни, то заурядное, но захватывающее наслаждение роскошью, ту банальную гордость, ту материальную власть, которую он только и ценил; не особенно четко представляя себе, что составляет счастье порядочной женщины в этом мире, он был вполне уверен, что дочь его останется порядочной женщиной, Этого он никогда не подвергал сомнению, был искони в этом убежден.
Думая о нелепом и все же естественном доверии к ней отца, которое так не вязалось с его жизненным опытом и с его взглядами на женщин, она улыбнулась с грустной иронией. И она еще больше восхищалась своим отцом, слишком мудрым, чтобы мудрость превратить в бремя.
В конце концов он не так уж плохо выдал ее замуж, если судить о замужестве с точки зрения светской. Муж ее был не хуже всякого другого. Он стал даже очень сносным. Среди всего, о чем ей говорили догорающие угли при затененном свете лампы, среди всех ее воспоминаний воспоминание о супружеской жизни было самым бледным. Она еще улавливала отдельные мучительно отчетливые отголоски этой жизни, какие-то нелепые образы, впечатление чего-то смутного и скучного. Это время было недолгим и не оставило никакого следа. Теперь, когда прошло шесть лет, она уже, собственно, даже не помнила, как вернула себе свободу, — настолько быстро и легко далась ей победа над этим холодным, болезненным, эгоистичным и учтивым мужем, над этим человеком, высохшим, пожелтевшим среди занятий делами и политикой, трудолюбивым, честолюбивым, ничтожным. Женщин он любил только из тщеславия, а своей жены не любил никогда. Отчуждение было откровенным и полным. С тех пор, друг другу посторонние, они были благодарны друг другу за это взаимное освобождение, и она питала бы к нему дружеские чувства, если бы не видела, что он хитер, скрытен и слишком ловко выманивает ее подпись, когда нуждается в деньгах для своих предприятий, в которых сказывается больше кичливость, чем жадность. Если же отвлечься от этого, то человек, с которым она обедала, разговаривала каждый день, жила в одном доме, путешествовала, ничего не значил для нее, не играл для нес никакой роли.
Съежившись, подперев щеку рукой, она, точно любопытная вопрошательница сибиллы, вспоминала подле угасшего камина годы своего одиночества, и перед ней вновь возник образ маркиза де Ре, возник такой отчетливый и яркий, что она удивилась. Маркиз де Ре, которого ввел к ней ее отец, превозносивший его, предстал перед ней во всем величии и блеске тридцатилетних любовных побед и светских успехов. Его похождения были неотделимы от него. Он обольстил три поколения женщин, и в сердцах всех, кого любил, оставил неизгладимую память о себе. Его мужское обаяние, строгая изысканность и привычка нравиться были причиной того, что молодость его продолжалась за положенными ей пределами. Молодую графиню Мартен он отметил вниманием совсем особым. Восхищение этого знатока польстило ей. Она и сейчас с удовольствием вспоминала об этом. У него была пленительная манера разговаривать. Он ее занимал; она дала ему это понять, и тогда он с героическим легкомыслием поклялся себе достойно завершить свою счастливую жизнь победой над этой молодой женщиной, которую он первый оценил и которой явно нравился. Чтобы завладеть ею, он пустил в ход самые тонкие уловки. Но она легко от него ускользнула.
Два года спустя она отдалась Роберу Ле Менилю, который желал ее страстно, со всем пылом молодости, со всей простотой своей души. Она говорила себе: «Я отдалась ему, потому что он меня любил». Это была правда. Но правда была и то, что глухой и могучий инстинкт проснулся в ней и что она покорилась силам, таившимся в глубине ее существа. Но сама она тут была ни при чем; она и ее сознание только поверили в подлинное чувство, согласились на него, пожелали его. Она уступила, как только увидела, что возбуждает любовь, близкую к страданию. Отдалась она скоро и просто. Он же счел, что это от легкомыслия. Но он ошибался. Она испытала гнет непоправимого и тот особый стыд, который вызывает в нас внезапная необходимость что-нибудь скрывать. Все, что при ней шептали насчет женщин, у которых есть любовники, звенело у нее в ушах. Но гордая и чуткая, руководясь своим безупречным вкусом, она постаралась скрыть цену дара, который принесла, и ничего не сказать такого, что могло бы связать ее друга помимо его чувств. Он и не подозревал об этой нравственной тревоге, продолжавшейся, впрочем, всего несколько дней и сменившейся совершенным спокойствием. Прошло три года, и теперь она считала свое поведение невинным и естественным. Никому не причинив зла, она не чувствовала и сожалений. Она была довольна. Эта связь была самое лучшее, что она знала в жизни. Она любила, была любима. Правда, она не узнала того опьянения, о котором мечтала. Но испытывает ли его кто-нибудь? Она была подругой хорошего и порядочного человека, которого весьма ценили женщины, который в обществе пользовался большим успехом, слыл презрительным и привередливым, а ей выказывал искреннее чувство. То удовольствие, которое она ему доставляла, и радость быть красивой ради него привязывали ее к другу. Он делал для нее жизнь если и не всегда пленительной, то все же весьма сносной, а порою и приятной.
Он открыл ей сущность ее характера, ее темперамент, ее истинное призвание — то, чего она не угадывала в своем одиночестве, несмотря на томившее ее смутное беспокойство и беспричинную печаль. Узнавая его, она узнавала себя. И для нее это было счастливым открытием. На их взаимную симпатию не влияли ни ум, ни душа. Она питала к нему спокойную и ясную привязанность, и это было прочное чувство. Вот и сейчас ее радовала мысль, что завтра она вновь увидит его в квартире на улице Спонтини, где они встречались в течение трех лет. Она порывисто тряхнула головой, пожала плечами более резко, чем можно было ожидать от этой очаровательной светской дамы, и, сидя у камина, теперь уже угасшего, сказала самой себе: «Да, мне нужна любовь!»
II
Начинались уже сумерки, когда они вышли из квартирки на улице Спонтини. Робер Ле Мениль знаком подозвал извозчика и, беспокойным взглядом окинув кучера и лошадь, вместе с Терезой сел в экипаж. Прижавшись друг к другу, они ехали среди смутных теней, прорезываемых порой внезапным лучом света, кругом был призрачный город, а душами их владели впечатления нежные и ускользающие, подобные огням, мелькавшим сквозь запотелые стекла. Все, что было вне их, казалось им неясным и неуловимым, и в сердце они ощущали сладостную пустоту. Экипаж остановился у Нового моста, на набережной Августинцев.
Они вышли. Сухой холодный воздух оживлял этот хмурый январский день. Тереза радостно вдыхала его сквозь вуалетку, а порывы ветра, дувшего с другой стороны реки, подымали над затвердевшей землей пыль едкую и белую, как соль. Терезе нравилось идти по незнакомым местам, чувствуя себя свободной. Она любила смотреть на этот каменный пейзаж, озаренный слабым и далеким светом, пронизывавшим воздух; идти быстрой и твердой походкой вдоль набережной, где на фоне неба, рыжеватого от городских дымов, деревья развесили черный тюль своих веток; глядеть, склонившись над парапетом, на узкий рукав Сены, катящей свои зловещие волны; впивать грусть реки, текущей меж плоских берегов и не окаймленной ивами или буками. В высоком небе уже мерцали первые звезды.
— Ветер словно хочет их погасить, — сказала она.
Он тоже заметил, что они часто мигают. Он, однако, не думал, чтобы это предвещало дождь, как считают крестьяне. Напротив, ему приходилось наблюдать, что в девяти случаях из десяти звезды мигают перед хорошей погодой.
Подходя к Малому мосту, они по правую руку увидали лавки старьевщиков, где торговля шла при свете коптящих ламп. Она поспешила туда, шаря взглядом в пыли и ржавчине. Страсть собирательницы заговорила в ней: она повернула за угол и даже рискнула зайти в барак с навесом, где под сырыми балками висели какие-то темные лохмотья. За грязными стеклами при огне горевшей свечи видны были кастрюли, фарфоровые вазы, кларнет и подвенечный убор.
Он не понимал, какое удовольствие она находит в этом.
— Вы наберетесь насекомых. Что тут может быть интересного для вас?
— Все. Я думаю о той бедной невесте, чей венок выставлен тут под стеклом. Свадебный обед происходил у ворот Майо. В числе гостей был республиканский гвардеец. Такой бывает почти на всякой свадьбе, которую по субботам видишь в Булонском лесу. Неужели вас не трогают, друг мой, эти бедные существа, смешные и жалкие, — ведь они в свое время тоже отойдут в величавый мир прошлого?
Среди надбитых и разрозненных чашек с узором из цветочков она обнаружила маленький ножик с ручкой из слоновой кости, изображающей фигуру женщины, плоскую и длинную, с прической а ля Ментенон. Тереза купила его за несколько су. Ее приводило в восторг, что у нее уже есть такая же вилка. Ле Мениль признался, что ничего не понимает в подобных безделушках. Но его тетка де Ланнуа — та великий знаток. В Каэне у антикваров только и речи, что о ней. Она в строго выдержанном стиле реставрировала и обставила свой замок. То был сельский дом Жана Ле Мениля, советника руанского парламента в 1779 году. Этот дом, существовавший и до него, упоминался под названием «дом бутылки» в некоем акте 1690 года. В одной из зал нижнего этажа в белых шкафах за решетчатыми дверцами еще и сейчас хранились книги, собранные Жаном Ле Менилем. Тетка де Ланнуа, рассказывал он, решила привести их в порядок. Но в числе их она нашла сочинения легкомысленные и украшенные столь нескромными гравюрами, что пришлось их сжечь.
— Так ваша тетка глупа? — сказала Тереза.
Уже давно ее сердили рассказы о г-же де Ланнуа.
У ее друга в провинции была мать, сестры, тетки, многочисленная родня, которой она не знала и которая раздражала ее. Он говорил о них с восхищением. Ее это возмущало. Сердило ее и то, что он подолгу гостит у этой родни, а возвращаясь, привозит с собой, как ей казалось, запах плесени, узкие взгляды, чувства, оскорбительные для нее. А он наивно удивлялся этой неприязни, страдал от нее.
Он замолчал. При виде кабачка, окна которого ярко пылали сквозь решетки, ему вспомнился поэт Шулетт, слывший пьяницей. Он чуть раздраженно спросил Терезу, встречается ли она с этим Шулеттом, который приезжает к ней в макфарлане, в красном кашне, намотанном до самых ушей.
Ей стало неприятно, что он разговаривает, как генерал Ларивьер. И она скрыла от него, что не видела Шулетта с осени и что он пренебрегает ею с бесцеремонностью человека занятого, капризного, отнюдь не светского.
— Он умен, оригинален, у него богатое воображение, — сказала она. — Он мне нравится.
А на его упрек, что у нее странный вкус, она с живостью возразила:
— У меня не вкус, а вкусы. Думаю, вы порицаете их не все.
Он не порицал ее. Он только опасался, как бы она не повредила себе, принимая этого пятидесятилетнего представителя богемы, которому не место в почтенном доме.
Она воскликнула:
— Не место в почтенном доме Шулетту? Так вам неизвестно, что он каждый год проводит месяц в Вандее у маркизы де Рие… да, у маркизы де Рие, католички, роялистки, старой шуанки, как она сама себя называет[19]. Но раз уж вас интересует Шулетт, выслушайте его последнюю историю. Вот как ее рассказывал мне Поль Ванс. И она мне делается более понятной на этой улице, где женщины ходят в широких кофтах, а на окнах стоят горшки с цветами.
Нынешней зимой, дождливым вечером, Шулетт в каком-то кабачке на улице, название которой я забыла, но которая своим жалким видом, наверно, похожа на эту, встретил одно несчастное создание. Эту женщину отвергли бы даже слуги в кабаке, но он полюбил ее за смирение. Ее зовут Мария. Да и самое это имя — не ее имя, она его прочла на дощечке, прибитой к двери меблированной комнаты под самой крышей, где она поселилась. Шулетта умилила эта беспредельная нищета, эта глубина падения. Он назвал ее своей сестрой и стал целовать ей руки. С тех пор он уже не покидает ее. Он водит ее, простоволосую, с косынкой на плечах, по разным кафе Латинского квартала, где богатые студенты читают журналы. Он говорит ей очень нежные речи. Он плачет, и она плачет. Они пьют, а когда выпьют, дерутся. Он любит ее. Он называет ее целомудреннейшей из женщин, своим крестом и своим спасением. Она ходила в башмаках на босу ногу; он ей подарил клубок грубой шерсти и спицы, чтоб она связала себе чулки, и сам огромными гвоздями подбивает ей башмаки. Он разучивает с ней стихи попроще. Он боится, что нарушит ее нравственную красоту, если вырвет из того позора, среди которого она живет в совершенной простоте и в восхитительной бедности.
Ле Мениль пожал плечами.
— Но он сумасшедший, этот Шулетт! Ну и милые истории рассказывает вам Поль Ванс. Я, разумеется, не аскет, но есть безнравственность, которая мне отвратительна.
Они шли куда глаза глядят. Она задумалась.
— Да, знаю, нравственность, долг… Но долг — кто скажет, что это такое? Уверяю вас, что я почти никогда не знаю, в чем заключается долг. Тут то же самое, что бывало с ежом нашей мисс в Жуэнвиле: целые вечера мы искали его под стульями и креслами, а когда находили, уже пора было идти спать.
По его мнению, в словах Терезы было много верного, больше даже, чем ей кажется. Он и сам размышляет о том же, когда бывает один.
— В этом смысле я иногда жалею, что не остался в армии. Предвижу, что вы мне скажете: от военной службы тупеешь. Пусть так, но зато знаешь в точности, что тебе делать, а в жизни это много значит. Я нахожу, что жизнь моего дяди генерала Ла Бриша — прекрасная жизнь, весьма почетная и довольно приятная. Но теперь, когда вся страна вливается в армию, нет больше ни офицеров, ни солдат. Это напоминает вокзал в воскресный день, когда кондукторы вталкивают в вагоны ошалевших пассажиров. Мой дядя Ла Бриш знал лично всех офицеров и всех солдат своей бригады. У него и сейчас в столовой висит их список. Время от времени он перечитывает его для развлечения. А теперь как прикажете офицеру знать своих солдат?
Она его больше не слушала. Она разглядывала продавщицу жареного картофеля, которая устроилась на углу улицы Галанд в застекленной будке; лицо ее, освещенное пламенем жаровни, выделялось в темноте. Женщина, опуская длинную ложку в шипящий жир, доставала из него золотистые серповидные ломтики картофеля и ссыпала их в желтый бумажный кулек, где словно поблескивали соломинки, а рыжеволосая девушка, внимательно следившая за ней, протягивала к ней красную руку с монетой в два су.
Когда девушка унесла свой кулек, Тереза, позавидовав ей, заметила, что проголодалась и непременно хочет попробовать жареного картофеля.
Он сперва воспротивился:
— Ведь неизвестно, как это приготовлено.
Но в конце концов ему пришлось спросить у продавщицы на два су картофеля и проследить, чтобы она его посолила.
Пока Тереза, приподняв вуалетку, ела подрумяненные ломтики, он увлекал ее в безлюдные улицы, подальше от газовых фонарей. Потом они снова оказались на набережной и увидели черную громаду собора, подымающуюся по ту сторону узкого рукава реки. Луна, повиснув над зубчатым гребнем крыши, серебрила ее скаты.
— Собор богоматери! — проговорила она. — Смотрите, он грузный, как слон, и хрупкий, как насекомое. Луна карабкается на его башни и смотрит на него с обезьяньим лукавством. Тут она не похожа на сельскую луну Жуэнвиля. В Жуэнвиле у меня есть своя дорожка, обыкновенная ровная дорожка, а в конце ее — луна. Она показывается не каждый вечер, но возвращается непременно, полная, красная, привычная. Это — наша соседка по имению, дама из окрестностей. Я в полном смысле слова иду к ней навстречу — из вежливости и из дружбы; а с этой парижской луной не хочется водить знакомство. Это — особа не из приличного общества. Чего она только не видела с тех пор, как бродит по крышам!
Он нежно улыбнулся.
— А! твоя дорожка… ты гуляла по ней одна и полюбила ее за то, что в конце ее — небо, не слишком высокое, не слишком далекое, — я как сейчас вижу эту дорожку.
В Жуэнвильском замке, куда его пригласил на охоту г-н де Монтессюи, он впервые увидел Терезу, сразу же ее полюбил, стал желать ее. Там, однажды вечером, на опушке рощи, он ей сказал, что любит ее, а она безмолвно выслушала его, с затуманенным взглядом, страдальчески сжав губы.
Воспоминание об этой дорожке, где она гуляла одна осенними вечерами, умилило, взволновало его, воскресило волшебные часы первых желаний и боязливых надежд. Он нашел ее руку под мехом муфты и пожал тонкую кисть.
Девочка, продававшая фиалки в плетеной корзинке, выложенной еловыми ветками, поняла, что перед ней влюбленные, и подошла предложить цветы. Он купил букетик за два су и поднес Терезе.
Она шла к собору и думала: «Это огромный зверь, зверь из Апокалипсиса…»
На противоположном конце моста другая цветочница, морщинистая, с усами, серая от старости и пыли, увязалась за ними с корзинкой, полной мимоз и роз из Ниццы. Тереза, которая в эту минуту держала фиалки в руке и старалась засунуть их за корсаж, весело сказала старухе:
— Благодарю, у меня все есть.
— Видать, что молодая, — нагло крикнула ей, удаляясь, старуха.
Тереза почти сразу же поняла, и в углах губ и в глазах ее промелькнула улыбка. Теперь они шли в тени, вдоль паперти, мимо расставленных в нишах каменных фигур со скипетрами в руках и с коронами на челе.
— Войдем, — предложила она.
Ему этого не хотелось. Ему было как-то неловко, почти страшно вместе с нею появиться в церкви. Он стал уверять, что сейчас закрыто. Он так думал, ему хотелось, чтобы так было. Но она толкнула дверь и проскользнула внутрь, в огромный храм, где безжизненные стволы колонн уходили в темную высь. В глубине, как призраки, двигались священники, мелькали огни свечей; замолкали последние стопы органа. В наступившей тишине она вздрогнула и проговорила:
— Грусть, которую навевает церковь ночью, всегда меня волнует; чувствуешь величие небытия.
Он ответил:
— Все-таки мы должны во что-то верить. Было бы слишком грустно, если бы не было бога, если бы душа наша не была бессмертна.
Под покровом мрака, ниспадавшего со сводов, она несколько мгновений стояла неподвижно, потом сказала:
— Ах, бедный друг мой, мы не знаем, на что нам и эта жизнь, такая короткая, а вам нужна еще другая, которой нет конца.
В экипаже, отвозившем их домой, он весело сказал, что отлично провел день. Он поцеловал ее, довольный и ею и собой. Но ей не передалось это расположение духа. Чаще всего так с ними и случалось. Последние минуты, проведенные вместе, бывали для нее испорчены предчувствием того, что, расставаясь, он не скажет того слова, которое надо сказать. Обычно он покидал ее как-то сразу, словно для него все пережитое не могло иметь продолжения. При каждом таком расставании ей чудилось, что это разрыв. Она заранее мучилась этим и становилась раздражительна.
Под деревьями аллеи Королевы он взял ее руку и стал покрывать ее короткими частыми поцелуями.
— Ведь правда, Тереза, редко бывает, чтобы двое любили друг друга так, как любим мы?
— Редко ли, не знаю, но мне кажется, что вы меня любите.
— А вы?
— Я тоже вас люблю.
— И всегда будете меня любить?
— Как можно знать?
И, видя, что лицо ее друга омрачилось, она прибавила:
— Вам было бы спокойнее с женщиной, которая поклялась бы любить всю жизнь вас одного?
Тревога его не проходила, вид у него был несчастный. Она смилостивилась и совершенно успокоила его:
— Вы же знаете, друг мой, я не легкомысленна. Я не так расточительна, как княгиня Сенявина.
Простились они почти в самом конце аллеи Королевы. Он удержал экипаж, чтобы ехать на Королевскую улицу. Он должен был обедать в клубе, а оттуда собирался в театр. Времени у него было в обрез.
Тереза вернулась домой пешком. Уже завидев Трокадеро, искрившийся огнями, точно бриллиантовый убор, она вспомнила цветочницу на Малом мосту. Слова, брошенные среди ветра и мрака: «Видать, что молодая» — приходили ей на память, уже не насмешливые, не двусмысленные, а угрожающие и печальные. «Видать, что молодая». Да, она была молода, она была любима — и скучала.
III
Посреди стола высилась целая чаща цветов в широкой корзине золоченой бронзы, а по краям ее, под массивными ручками в виде рогов изобилия, окруженные звездами и пчелами, расправляли крылья орлы. По бокам крылатые фигуры Победы поддерживали пылающие ветви канделябров. Эта ваза в стиле ампир была в 1812 году преподнесена Наполеоном графу Мартену де л'Эн, деду нынешнего графа Мартен-Беллема. Мартен де л'Эн, депутат Законодательного корпуса в 1809 году, был на следующий год назначен членом финансовой комиссии, занятия в которой, кропотливые и хранимые в тайне, соответствовали его характеру, трудолюбивому и робкому. Хоть и будучи либералом в силу наследственных традиций и по собственным склонностям, он понравился императору своим усердием и безупречной ненавязчивой честностью. Два года на него дождем сыпались милости. В 1813 году он вошел в состав умеренного большинства, которое одобрило доклад Лене[20], содержавший запоздалые наставления пошатнувшейся Империи и осудившей ее мощь, так же как ее невзгоды. 1 января 1814 года он вместе со своими коллегами явился в Тюильри. Император оказал им ужасающий прием. Он пошел на них в атаку. Неистовый и мрачный, в страшном сознании своей теперешней силы и близкой гибели, он излил на них весь свой гнев и все презрение.
Он шагал взад и вперед между их смущенными рядами и вдруг схватил за плечи графа Мартена, случайно попавшегося на его пути, стал трясти его, потащил за собою, восклицая: «Разве трон — это четыре доски, покрытые бархатом? Нет. Трон — это человек, и человек этот — я. Вы пожелали забросать меня грязью. А время ли нападать на меня, когда двести тысяч казаков переходят наши границы? Ваш господин Лене — ничтожество. Грязное белье стирают дома». Император исходил яростью, то величественной, то пошлой, и, не переставая, теребил расшитый воротник депутата от Эна. «Народ знает меня. Вас же он не знает. Я избранник нации. А вы неизвестные представители каких-то там департаментов». Он предрек им участь жирондистов. Звон его шпор сопровождал раскаты его голоса. С тех пор граф Мартен уже всю жизнь дрожал и заикался и, все так же дрожа, притаясь в своем доме в Лане, после поражения императора призывал Бурбонов. Вотще обе Реставрации, вотще Июльская монархия и Вторая империя усеивали крестами и лентами его грудь, по-прежнему не смевшую вздохнуть свободно. Достигнув самых высоких должностей, удостоившись всяких почестей, которыми его осыпали три короля и один император, он вечно чувствовал на своем плече руку корсиканца. Умер он сенатором при Наполеоне III, оставив сына, страдавшего наследственной дрожью.
Этот сын вступил в брак с м-ль Беллем, дочерью председателя судебной палаты в Бурже, и тем самым — в союз с политической славой рода, который во времена конституционной монархии дал трех министров. Беллемы, служившие при Людовике XV в суде, помогли облагородить якобинское происхождение Мартенов. Второй граф Мартен принимал участие во всех заседаниях палаты вплоть до самой своей смерти, последовавшей в 1881 году. Шарль Мартен-Беллем, его сын, без особого труда занял там его место. Женившись на м-ль Терезе Монтессюи, чье приданое явилось поддержкой для его политической карьеры, он скромно выделялся среди тех четырех-пяти богатых и титулованных буржуа, что, став на сторону демократии и республики, встречали не слишком дурной прием у истых республиканцев, которым льстила аристократичность их имен, а умственное их ничтожество казалось успокоительным.
В столовой, где над дверьми угадывалась в сумраке пятнистая шерсть собак кисти Удри[21], перед бронзовой корзиной, усеянной золотыми пчелами и звездами, между двумя Победами, несущими огни канделябров, граф Мартен-Беллем исполнял роль хозяина с той несколько хмурой любезностью, с той печальной учтивостью, с которой еще недавно в Елисейском дворце перед лицом двора великой северной державы надо было представлять Францию, одинокую и меланхоличную. Время от времени он обращался с бесцветными словами — направо к г-же Гарен, жене бывшего министра юстиции, налево — к княгине Сенявиной, увешанной бриллиантами и скучавшей до боли. Напротив него, по другую сторону корзины, сидя между генералом Ларивьером и г-ном Шмолем, членом Академии надписей, графиня Мартен обмахивала веером свои изящные, нежные плечи. По бокам, за полукружиями, которыми завершался стол, сидели г-н Монтессюи, рослый, голубоглазый, с прекрасным цветом лица, молодая родственница — г-жа Беллем де Сен-Ном, не знавшая, куда девать свои длинные худые руки, художник Дювике, Даниэль Саломон, Поль Ванс, депутат Гарен, г-н Беллем де Сен-Ном, какой-то сенатор и Дешартр, впервые обедавший в этом доме. Разговор, вначале дробный и вялый, оживился и перешел в смутный гул, над которым возвышался голос Гарена:
— Всякая ложная идея опасна. Считается, что мечтатели не приносят вреда; это заблуждение: они приносят большой вред. Утопии, самые безобидные на первый взгляд, оказывают самое пагубное действие. Они внушают отвращение к действительности.
— Но ведь и действительность, — сказал Поль Ванс, — тоже может быть нехороша.
Бывший министр юстиции начал уверять, что он сторонник любых усовершенствований. И, не напоминая о том, что в дни Империи он требовал упразднения постоянной армии, а в 1880 году отделения церкви от государства, заявил, что, верный своей программе, остается преданным слугою демократии. Его девиз, говорил он, — это порядок и прогресс. Ему и вправду казалось, что этот девиз изобретен им.
Монтессюи с обычным своим грубоватым добродушием возразил:
— Полно, господин Гарен, будьте искренни. Сознайтесь, что сейчас уже ни одной реформы не проведешь и что, самое большее, удастся изменить цвет почтовых марок. Худо ли, хорошо ли, но все идет так, как должно идти. Да, — прибавил он, — все идет так, как должно идти. Однако все непрерывно изменяется. С тысяча восемьсот семидесятого года промышленность и финансы страны пережили четыре или пять революций, которых экономисты не предвидели и до сих пор еще не могут понять. В обществе, как и в природе, превращения идут изнутри.
Относительно образа правления он держался простых и четких взглядов. Его, сильно привязанного к настоящему и мало заботящегося о будущем, социалисты нисколько не тревожили. Не беспокоясь о том, угаснут ли когда-нибудь солнце и капитал, он наслаждался тем и другим. По его мнению, надо было отдаться воле событий. Лишь глупцы борются с течением и лишь безумцы желают его опередить.
Но у графа Мартена, человека унылого от природы, были мрачные предчувствия. Он полунамеками предрекал близкие катастрофы.
Его опасения, перелетев через корзину с цветами, потрясли г-на Шмоля, и тот начал сокрушаться и пророчествовать. Он объяснил, что христианские народы сами по себе, без посторонней помощи, неспособны окончательно выйти из состояния варварства и, если бы не евреи и не арабы, Европа еще и сейчас, как во времена крестовых походов, погрязала бы в бездне невежества, нищеты, жестокости.
— Средневековье, — говорил он, — кончилось только в учебниках истории, которые дают школьникам, чтобы забить им головы. E действительности же варвары остаются варварами. Призвание Израиля — просвещать народы. Это Израиль в средние века принес Европе мудрость Азии. Социализм пугает вас. Это недуг христианский, так же как и монашество. А анархизм? Разве вы не узнаете в нем древнюю проказу альбигойцев[22] и вальденсов[23]? Евреи, которые просветили и цивилизовали Европу, одни только и могут спасти ее сейчас от евангельского недуга, снедающего ее. Но они изменили своему долгу. Они стали самыми ярыми христианами среди христиан. И бог наказывает их. Он позволяет, чтобы их изгоняли и грабили. Антисемитизм страшно развивается повсюду. В России моих единоверцев травят, как диких зверей. Во Франции гражданские и военные должности закрываются для евреев. Им больше нет доступа в аристократические клубы. Мой племянник, Исаак Кобленц, вынужден был отказаться от дипломатической карьеры, хотя блестяще сдал экзамен. Супруги некоторых моих коллег, когда моя жена приезжает к ним с визитом, нарочно кладут перед ней антисемитские газеты. И поверите ли, министр народного просвещения отказался представить меня к командорскому кресту, о котором я просил! Вот неблагодарность! Вот заблуждение! Антисемитизм — это смерть, слышите, смерть для европейской цивилизации.
Этот маленький человечек в своей непосредственности не считался ни с какими светскими условностями. Смешной и грозный, он смущал обедающих своей откровенностью. Г-жа Мартен, которую он забавлял, похвалила его:
— Вы по крайней мере защищаете ваших единоверцев; вы, господин Шмоль, не такой, как одна еврейская красавица, моя знакомая: прочитав в газете, что она принимает у себя цвет еврейского общества, она всюду стала вопить, что ее оскорбляют.
— Я уверен, что вы не знаете, сударыня, как прекрасна еврейская мораль, насколько она выше всякой другой морали. Знакома ли вам притча о трех кольцах?[24]
Но этот вопрос затерялся среди гула диалогов, в которых переплетались иностранная политика, выставки живописи, светские скандалы и толки об академических речах. Заговорили о новом романе, о предстоящей премьере. То была комедия. В эпизодической роли там был показан Наполеон.
Разговор теперь сосредоточился на Наполеоне, уже несколько раз выведенном на сцене, а за последнее время изображенном в нескольких весьма ходких книгах; это был модный персонаж, возбуждавший всеобщее внимание, уже больше не народный герой, не отечественный полубог в ботфортах, как в те дни, когда Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду[25], а любопытная личность, занимательный, живой человек, чей образ нравился артистам, чьи жесты приводили в восторг зрительный зал.
Гарен, построивший свою политическую карьеру на ненависти к Империи, искренно считал, что этот возврат к Наполеону — просто нелепое увлечение. Он не видел в этом никакой опасности, совсем не боялся этого. Страх загорался в нем всегда внезапно и свирепо, а сейчас он был спокоен; он не говорил ни о том, чтобы запретить представления, ни о том, чтобы конфисковать книги, ни о том, чтобы арестовать авторов, ни о том, чтобы вообще что-либо пресечь. Невозмутимый и строгий, он видел в Наполеоне только тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот[26].
Каждый попытался определить истинную сущность Наполеона. Граф Мартен, перед лицом императорского подарка, перед лицом крылатых Побед, подобающим образом высказался о Наполеоне, устроителе и правителе, и оценил его весьма высоко, как председателя Государственного совета, где слово его вносило ясность в самые темные вопросы.
Гарен утверждал, что на этих пресловутых заседаниях Наполеон под тем предлогом, будто просит понюшку табаку, брал у членов совета их золотые, украшенные миниатюрами, усеянные бриллиантами табакерки, которых они потом больше и не видели. Кончилось тем, что на заседания стали приходить с табакерками из бересты. Этот анекдот он слышал от самого Мунье-сына[27].
Монтессюи ценил в Наполеоне любовь к порядку.
— Ему нравилось, когда дело делали хорошо. Сейчас к этому потеряли вкус.
Художник Дювике, который и мыслил как художник, находился в затруднении. В маске Наполеона, привезенной с острова Св. Елены, он не видел знакомых черт прекрасного и властного лица, сохраненного благодаря медалям и бюстам. В разнице легко было убедиться теперь, когда бронзовые копии маски, извлеченные, наконец, с чердаков, висели у всех старьевщиков среди орлов и сфинксов из золоченого дерева. И, по его мнению, раз уж подлинное лицо Наполеона оказывается не наполеоновским, то и подлинная душа Наполеона может быть но наполеоновской. Пожалуй, это душа какого-нибудь доброго буржуа: кое-кто уже высказывается в этом смысле, и он склоняется к такому взгляду. Впрочем, Дювике, мнивший себя портретистом своего века, знал, что знаменитые люди не бывают похожи на сложившиеся о них представления.
Даниэль Саломон заметил, что маска, о которой говорил Дювике, — маска, снятая с безжизненного лица императора и привезенная в Европу доктором Антомарки[28], — впервые была отлита в бронзе и распространена по подписке в 1833 году, при Луи-Филиппе, и что тогда же она возбудила и удивление и недоверие. Этого итальянца, настоящего аптекаря из комедии, болтливого и жадного, подозревали в том, что он сыграл злую шутку. Ученики доктора Галля[29], система которого была тогда в чести, считали маску сомнительной. Они не находили в ней шишек гениальности, а лоб, исследованный согласно теории их учителя, не представлял по своему строению ничего замечательного.
— Вот именно, — сказала княгиня Сенявина, — Наполеон замечателен только тем, что ударил Вольнея ногой в живот и что он крал табакерки, украшенные бриллиантами. Господин Гарен сейчас открыл нам эту истину.
— И к тому же, — сказала г-жа Мартен, — еще не вполне установлено, ударил ли он его.
— Чего только со временем не узнаешь! — весело продолжала княгиня. — Наполеон вообще ничего не сделал: он даже не ударил Вольнея ногой в живот, и у него была голова кретина.
Генерал Ларивьер почувствовал, что пора выступать и ему. Он бросил такую фразу:
— Наполеоновский поход тысяча восемьсот тринадцатого года представляется очень спорным.
На уме у генерала было угодить Гарену, и ничего другого на ум не приходило, все же, после некоторого усилия, ему удалось высказать и более общее суждение:
— Наполеон совершал ошибки: при его положении ему не следовало их совершать.
И он умолк, сильно покраснев.
— А вы, господин Ванс, что вы думаете о Наполеоне?
— Сударыня, я не особенно люблю рубак и головорезов, а завоеватели представляются мне просто-напросто опасными безумцами. И все же образ императора занимает меня, как он занимает и публику. Я нахожу в нем своеобразие и жизненную правду. Нет поэмы, нет романа приключений, которые сравнились бы с «Мемориалом»[30], хотя он и написан довольно нелепо. О Наполеоне же, если хотите знать, я думаю, что, созданный для славы, он явился в блистательной простоте эпического героя. Герой должен быть человечен, а Наполеон и был человечен.
— О-о! — раздались голоса.
Но Поль Ванс продолжал:
— Он был резок и легкомыслен и тем самым глубоко человечен, то есть подобен всякому человеку. Он с необычайной силой желал того, что ценит, чего желает большинство людей. Он сам питал иллюзии, которые внушил народам. В этом была его сила и слабость, его красота. Он верил в славу. О жизни и о вселенной он думал приблизительно то же, что думал о ней какой-нибудь его гренадер. Он навсегда сохранил ту ребяческую серьезность, что тешится саблями и барабанами, и ту особую наивность, без которой не бывает настоящего военного. Он искренно уважал силу. Прежде всего он был человек, плоть от плоти человечества. Не бывало у него мысли, которая не становилась бы поступком, а все его поступки были велики и заурядны. Такое грубое величие и создает героев. И Наполеон — совершенный герой. Его мозг всегда был под стать его руке, этой маленькой и красивой руке, переворошившей весь мир. Он ни одной минуты не беспокоился о том, чего не мог бы достичь.
— Так по-вашему, — сказал Гарен, — это не интеллектуальный гений? Я с вами согласен.
— Он, разумеется, — продолжал Поль Ванс, — обладал тем гением, который нужен, чтобы блистать на гражданской и военной арене мира. Но у него не было гения философского. Этот вид гения — «совсем другая пара манжет», как говорит Бюффон[31]. Мы располагаем собранием его сочинений и речей. В стиле их есть и движение и образность. Но среди этой груды мыслей не встречается ничего философски примечательного, не видно никакого влечения к непостижимому, никакой тревоги о тайне, окутывающей нашу судьбу. Когда на острове Святой Елены он рассуждает о боге и о душе, то кажется, будто перед нами славный четырнадцатилетний школьник. Душа его, брошенная в мир, пришлась по мерке миру и охватила его целиком. Ни одна частица его души не затерялась в бесконечности. Поэт, он знал только поэзию действия. Свою могучую мечту о жизни он ограничил земным. В своем страшном и трогательном ребячестве он полагал, что человек может быть великим, и эта детская вера не покидала его даже наперекор годам и бедствиям. Его молодость, или, точнее, его божественная юность, продолжалась всю жизнь, ибо дни этой жизни так и не сложились вместе, чтобы образовать сознательную зрелость. Вот изумительное свойство людей действия. Они всецело во власти той минуты, которую переживают, и гений их сосредоточивается на чем-нибудь одном. Они сами обновляются непрестанно, и в их жизни ничто не длится. Часы их бытия не связаны цепью важных отвлеченных раздумий. Они не продолжают жить, они сменяют самих себя в ряде поступков. Зато у них и нет внутренней жизни. Этот недостаток особенно чувствуется в Наполеоне, который никогда не жил в себе самом. Отсюда — та легкость характера, которая помогла ему вынести огромное бремя бедствий и собственных ошибок. Его душа, вечно новая, возрождалась каждое утро. Он более чем кто бы то ни было обладал способностью развлекаться. В первый же раз, как он увидел восход солнца над траурным утесом Святой Елены, он соскочил с постели, насвистывая мотив какого-то романса. То было спокойствие сердца, возвышающееся над судьбой, главное же — то была легкость духа, всегда готового возродиться. Он жил во вне.
Гарен, которому не нравилась такая изощренность мысли и речи, поспешил подвести итог.
— Словом, — сказал он, — в этом человеке были черты чудовища.
— Чудовищ не существует, — возразил Поль Ванс. — А люди, которые слывут чудовищами, вызывают ужас. Наполеона же любил целый народ. Его сила и заключалась в том, что он всюду на своем пути возбуждал любовь. Для солдат было радостью умереть за него.
Графине Мартен хотелось, чтобы Дешартр тоже высказал свое суждение. Но он даже с некоторым испугом уклонился от этого.
— Знакома ли вам, — спросил Шмоль, — притча о трех кольцах, плод божественного вдохновения одного португальского еврея?
Гарен, хотя и делал Полю Вансу комплименты по поводу его блестящего парадокса, сожалел, что остроумие его проявляется в ущерб морали и справедливости.
— Есть правило, — сказал он, — что мужчин надо судить по их поступкам.
— А женщин? — живо спросила княгиня Сенявина. — Вы их тоже судите по поступкам? А почем вы знаете, что они делают?
Звуки голосов сливались со светлым звоном серебра. В комнате было жарко и душно. Лепестки отяжелевших роз сыпались на скатерть. В зарождавшихся мыслях было теперь больше остроты.
Генерал Ларивьер предался мечтам.
— Когда я выйду в отставку, — сказал он своей соседке, — я уеду жить в Тур. Я там буду разводить цветы.
И он похвастался, что он хороший садовод. Его именем назвали какой-то сорт роз. И это ему льстило.
Шмоль еще раз спросил, знакома ли кому-нибудь притча о трех кольцах.
Между тем княгиня дразнила депутата:
— Так вам неизвестно, господин Гарен, что одни и те же поступки совершаются по самым разным причинам?
Монтессюи был согласен с ней.
— Совершенно верно! Как вы и сказали, княгиня, поступки ничего не доказывают. Эта мысль поражает нас в связи с одним эпизодом из жизни Дон-Жуана, неизвестным ни Мольеру, ни Моцарту, но сохранившимся в английской легенде, которую я узнал от моего лондонского друга Джемса Лоуэлла. Там говорится, что великий соблазнитель лишь с тремя женщинами даром потерял время. Первая из них была простая горожанка — она любила своего мужа; вторая была монахиня — она не согласилась нарушить обет. Третья долго вела распутную жизнь, уже подурнела и просто была служанкой в притоне. После всего, что она делала, после всего, что она видела, любовь для нее уже не значила ничего. Эти три женщины повели себя совершенно одинаково в силу весьма различных причин. Поступок сам по себе ничего не доказывает. Лишь вся совокупность поступков, их вес, их сочетание определяют ценность человеческого существа.
— У некоторых наших поступков, — сказала г-жа Мартен, — тот же вид, то же лицо, что и у нас; они наши дети. Иные вовсе на нас не похожи.
Она встала и взяла генерала под руку. Княгиня, проходя в гостиную под руку с Гареном, сказала:
— Тереза права… Иные вовсе на нас не похожи. Как негритята, прижитые во время сна.
Поблекшие нимфы на гобеленах напрасно улыбались гостям, не замечавшим их.
Госпожа Мартен со своей молодой родственницей, г-жой Беллем де Сен-Ном, разливала кофе. Она сделала комплимент Полю Вансу по поводу того, что он сказал во время обеда.
— Вы судили о Наполеоне с независимостью мысли, какую редко приходится встречать в светских разговорах. Я замечала, что очень красивые дети, когда надуются, напоминают Наполеона в вечер Ватерлоо. Вы открыли мне глубокие причины этого сходства.
Потом, обратившись к Дешартру, спросила:
— А вы любите Наполеона?
— Сударыня, я не люблю революцию. А Наполеон — это революция в ботфортах.
— Отчего же вы, господин Дешартр, не сказали этого за столом? Впрочем, понимаю: вы только в укромных уголках согласны быть остроумным.
Граф Мартен-Беллем проводил мужчин в курительную, Поль Ванс один остался с дамами. Княгиня Сенявина спросила его, кончил ли он свой роман и каков его сюжет. Это было произведение, в котором он стремился достичь правдивости, основанной на целой логической цепи вероятностей, приводящих в совокупности своей к чему-либо бесспорному.
— Только таким путем, — сказал он, — роман может приобрести нравственную силу, которая вовсе не свойственна истории, грубо попирающей мораль.
Она спросила, для женщин ли эта книга. Он ответил, что нет.
— Вы, господин Ванс, не правы, что не пишете для женщин. Ведь это именно то, что может сделать для них человек незаурядный.
А на вопрос, чем вызвана у нее эта мысль, она ответила:
— Тем, что все умные женщины, как я вижу, выбирают дураков.
— С которыми им скучно?
— Разумеется. Но мужчины, стоящие выше общего уровня, наскучили бы им еще больше. У них для этого еще больше возможностей… Однако расскажите мне сюжет вашего романа.
— Вы этого хотите?
— Я ничего не хочу.
— Ну, так вот: это очерк народных нравов, история молодого рабочего, трезвого и целомудренного, красивого, как девушка, с нетронутой и замкнутой душой. Он резчик и работает хорошо. Вечера он проводит дома подле матери, которую очень любит. Он учится. Он читает. Мысли застревают в его простом, незащищенном уме, как пули в стене. Потребностей у него нет. Нет у него ни страстей, ни пороков, которые привязывают к жизни. Он одинок и чист. Одаренный высокими добродетелями, он начинает ими гордиться. Живет он среди жалких скотов. Он видит страдания. Он самоотвержен, но не человеколюбив; у него то холодное милосердие, которое называют альтруизмом. Человечности в нем нет, потому что нет чувственности.
— Вот как! Чтобы быть человечным, надо быть чувственным?
— Разумеется, княгиня. Жалость живет в недрах нашего тела, как жажда ласк — на поверхности кожи. Он же недостаточно умен, чтобы испытывать сомнения. Он верит в то, что читал. А читал он, что для создания всеобщего счастья стоит лишь разрушить общество. Его терзает жажда мученичества. Однажды утром, поцеловав мать, он уходит: он подстерегает депутата своего округа, социалиста, бросается на него и с возгласом: «Да здравствует анархия!» — вонзает ему долото в живот. Его арестовывают, измеряют, фотографируют, допрашивают, судят, приговаривают к смерти и гильотинируют. Вот вам мой роман.
— Он будет не слишком веселый, — сказала княгиня. — Но это не ваша вина: анархисты ваши так же робки и умеренны, как все прочие французы. Русские, когда принимаются за это дело, проявляют больше смелости и фантазии.
Графиня Мартен подошла к Полю Вансу и спросила, не знает ли он того кроткого господина, который еще не проронил ни слова, а только оглядывается по сторонам с видом заблудившейся собаки. Его пригласил ее муж. Она не знает его имени, вообще ничего не знает о нем.
Поль Ванс мог только сказать, что это сенатор. Он однажды случайно видел его в Люксембургском дворце[32], в галерее, где помещается библиотека.
— Мне хотелось взглянуть на купол, расписанный Делакруа, — на античных героев и мудрецов среди голубоватых миртовых рощ. Вид у этого господина был и тогда несчастный и жалкий; он грелся. От него пахло сырым сукном. Он беседовал со старыми коллегами и, потирая руки, говорил: «Доказательством того, что в нашей республике — наилучший образ правления, для меня служит тот факт, что в тысяча восемьсот семьдесят первом году она за неделю смогла расстрелять шестьдесят тысяч восставших и не утратила популярности. После подобной репрессии любой другой режим стал бы невозможным».
— Так он презлой человек, — заметила г-жа Мартен. — А я-то жалела его, потому что на вид он такой застенчивый и неловкий!
Госпожа Гарен, уронив голову на грудь, безмятежно дремала. Ее хозяйственную душу тешило сонное видение: огород на высоком берегу Луары, где ее приветствовали члены хорового общества.
Жозеф Шмоль и генерал Ларивьер вышли из курительной, и глаза у них еще искрились после тех скабрезностей, которыми они только что поделились. Генерал уселся между княгиней Сенявиной и г-жой Мартен.
— Сегодня утром в Булонском лесу мне повстречалась баронесса Варбург верхом на великолепной лошади. Она мне сказала: «Генерал, как это вы делаете, что у вас всегда прекрасные лошади?» Я ей ответил: «Сударыня, чтобы иметь прекрасных лошадей, надо быть или очень богатым, или очень хитрым».
Он был так доволен этим ответом, что дважды его повторил, подмигивая.
Поль Ванс подошел к графине Мартен:
— Я узнал, как зовут сенатора: его фамилия Луайе, он вице-президент одной политической группы и автор книги, написанной в целях пропаганды под заглавием: «Преступление 2 декабря»[33].
Генерал между тем продолжал:
— Погода была отчаянная. Я стал под навес. Там уже стоял Ле Мениль. Я был в скверном расположении духа. Он же про себя издевался надо мною; я это видел. Он воображает, что если уж я генерал, так должен любить ветер, град и мокрый снег. Какая нелепость! Он мне сказал, что дурная погода ему не мешает и что на будущей неделе он уедет с друзьями охотиться на лисиц.
Наступило молчание; генерал добавил:
— Желаю ему удовольствия, но не завидую. Охота на лисиц не так уж приятна.
— Но она приносит пользу, — сказал Монтессюи.
Генерал пожал плечами.
— Лисица опасна для курятников только весною, когда кормит детенышей.
— Лисица, — возразил Монтессюи, — предпочитает курам кроликов. Она — ловкий браконьер и меньше вредит фермерам, чем охотникам. Я в этом кое-что понимаю.
Тереза в рассеянности не слушала, что говорит ей княгиня. Она думала: «Он даже не предупредил меня, что уезжает».
— О чем вы задумались, дорогая?
— Ни о чем интересном.
IV
В маленькой комнате, темной и безмолвной, было душно от множества занавесей, портьер, подушек, медвежьих шкур и восточных ковров; на кретоновой обивке стен, среди мишеней для стрельбы и поблекших котильонных значков, накопившихся за три зимы, при ярких отсветах камина блестели лезвия шпаг. На шифоньерке розового дерева, увенчивая ее, стоял, серебряный кубок — приз, полученный от какого-то спортивного общества. На столике с расписной фарфоровой доской возвышался хрустальный бокал, обвитый плющом из золоченой бронзы, а в нем — букет белой сирени; всюду в теплом сумраке дрожали отблески огня. Тереза и Робер, привычные к этой темноте, без труда двигались среди знакомых им вещей. Он закурил папиросу, она же, став спиной к огню, приводила в порядок волосы перед высоким зеркалом, в котором почти не видела себя. Но ей не хотелось зажигать ни лампы, ни свечей. Шпильки она доставала из вазочки богемского хрусталя, уже три года стоявшей на столе, у нее под рукой. Он смотрел, как быстро погружаются в рыжевато-золотистый поток волос ее ярко освещенные пальцы, а лицо ее, ставшее в тени более резким и смуглым, принимает таинственное, почти тревожащее выражение. Она молчала.
Он спросил:
— Милая, ты больше не сердишься?
Ему не терпелось получить ответ, заставить ее произнести хоть слово, и она ему ответила:
— Что же мне вам сказать, друг мой? Я могу только повторить то, что сказала, когда пришла. Я нахожу странным, что о ваших намерениях мне пришлось узнать от генерала Ларивьера.
Он видел, что она еще сердится на него, что она держится с ним сухо и неестественно, без той непринужденности, которая обычно делала ее такой очаровательной. Но он притворился, будто считает все это капризом, который скоро пройдет.
— Дорогая моя, я уже объяснял вам. Я вам говорил и еще повторяю, что встретил Ларивьера, когда только что получил письмо от Комона, напоминавшего мне о моем обещании приехать истреблять лисиц в его лесах. Я тотчас же ответил ему. Я рассчитывал сообщить вам об этом сегодня. Шалею, что генерал Ларивьер меня опередил, но ведь это неважно.
Подняв и сомкнув руки над головой, она спокойно взглянула на него, но он не понял этого взгляда.
— Так вы уезжаете?
— На будущей неделе, во вторник или в среду. Пробуду дней десять самое большее.
Она надевала меховую: шапочку с прикрепленной к ней веткой омелы.
— И это никак нельзя отложить?
— О нет! Через месяц лисья шкура никуда не будет годиться. И кроме того, Комон пригласил приятелей, славных людей, которых огорчило бы мое отсутствие.
Прикалывая шапочку длинной булавкой, она хмурила брови:
— И такая интересная эта охота?
— Да, очень интересная: лисица пускается на всякие уловки, с которыми надо уметь бороться. Эти животные в самом деле замечательно умны. Я наблюдал ночью, как лисицы охотятся на кроликов. Они устроили настоящую облаву с загонщиками. Уверяю вас, что выгнать лисицу из ее норы вовсе нелегко. И на охоте бывает очень весело. У Комона превосходные вина. Для меня-то это не имеет значения, но другие очень это ценят. Можете себе представить, один из его арендаторов пришел и сообщил ему, что научился у колдуна останавливать лисицу с помощью заклинаний! Но я воспользуюсь не этим оружием и берусь привезти вам полдюжины прекрасных шкур.
— А что прикажете мне с ними делать?
— Из них делают очень красивые ковры.
— А-а… И вы будете охотиться целую неделю?
— Не совсем. Так как я буду очень близко от Семанвиля, то заеду дня на два к моей тетке де Ланнуа. Она меня ждет. В прошлом году в это же время там собралось очень приятное общество. У нее гостили обе ее дочери и три племянницы с мужьями; все эти пять женщин — красивые, веселые, безупречные. Я, наверно, встречу их там в начале будущего месяца — они все съедутся к именинам тетки, — и два дня проведу в Семанвиле.
— Да оставайтесь там, друг мой, сколько хотите. Я буду в отчаянии, если вы из-за меня сократите такое приятное времяпрепровождение.
— Но как же вы, Тереза?
— Я, друг мой, как-нибудь устроюсь.
Огонь угасал. Тень между ними сгущалась. Она сказала задумчиво и как бы чего-то ожидая:
— Правда, это всегда не очень осторожно — оставлять женщину одну.
Он подошел к ней, стараясь уловить в темноте ее взгляд. Он взял ее за руку:
— Вы любите меня?
— О! уверяю вас, что никого другого не люблю… Но…
— Что вы хотите сказать?
— Ничего… Я думаю… думаю о том, что все лето мы бываем врозь, что зимою вы половину времени проводите с вашей родней и с друзьями, и раз уж так мало приходится видеться, то видеться не стоит вообще.
Он зажег свечи. Его лицо выступило из мрака, серьезное и открытое. Он смотрел на нее с доверчивостью, проистекавшей не столько от самомнения — свойства всех влюбленных, сколько от чувства собственного достоинства и от стремления к постоянству, жившего в нем. Он верил в нее, повинуясь предрассудку, порожденному хорошим воспитанием и несложным умом.
— Тереза, я вас люблю, и вы меня любите, я это знаю. Почему вам хочется меня терзать? В вас порой — такая сухость, такая жестокость. Это мучительно.
Она резко тряхнула головкой.
— Что поделаешь? Я жестокая и своевольная. Это уж в крови. Я в отца. Вы знаете Жуэнвиль; вы видели замок, потолки, расписанные Лебреном, гобелены, ткавшиеся в Менси для Фуке[34], вы видели сады, разбитые по планам Ленотра[35], парк, охотничьи угодья, вы говорите, что во всей Франции нет лучших, — но вы не видели рабочего кабинета моего отца: там простой белый стол и шкаф красного дерева. Оттуда все и пошло. За этим столом, перед этим шкафом мой отец сорок лет считал и вычислял — сперва в комнатке на площади Бастилии, потом в квартире на улице Мобеж, где я родилась. Мы тогда еще не были так богаты. Я помню маленькую гостиную, обитую красным узорчатым шелком, — отец завел ее себе после женитьбы, а мама так ее любила. Я — дочь выскочки, или, может быть, завоевателя — это одно и то же. Мы — люди алчные. Мой отец хотел добиться богатства, обладать тем, что покупается, то есть всем. А я… я хочу завоевывать и хочу сохранять… что?.. сама не знаю… счастье, которое у меня есть… или которого у меня нет. Я жадна по-своему на мечты, на иллюзии. О! я знаю, они не стоят всех тревог, испытанных ради них, но одни только эти тревоги чего-нибудь да стоят, потому что мои тревоги — это я, это моя жизнь. Я жадна, когда хочу наслаждаться тем, что люблю, тем, что, мне кажется, я любила. Я не желаю терять. Я — как папа: требую то, что мне должны. И к тому же…
Она понизила голос:
— И к тому же я не лишена темперамента. Вот что, дорогой мой. Я вам надоедаю. Что прикажете делать? Не надо было любить меня.
Эта резкость речи, для него уже привычная, портила ему удовольствие. Но он не беспокоился. Чувствительный ко всему, что она делала, он не был чувствителен к тому, что она говорила, и не придавал значения словам — словам женщины. Сам будучи молчалив, он никак не мог понять, что слова — тоже поступки.
Хотя он ее любил, или, вернее, как раз потому, что он любил ее страстно и доверчиво, он считал своим долгом сопротивляться прихотям, которые казались ему нелепыми. Ему удавалось играть роль властелина, когда он не сердил Терезу, а он в своей наивности всегда разыгрывал эту роль.
— Вы же знаете, Тереза, что у меня лишь одно желание — быть приятным вам во всем. Так не капризничайте со мной.
— А почему бы мне с вами не капризничать? Если я позволила овладеть мною… или отдалась, то сделала это, конечно, не по расчету и не из чувства долга. Я это сделала… каприза ради.
Он взглянул на нее, удивленный и опечаленный.
— Вас сердит это слово, друг мой? Положим, что я это сделала из любви. И правда, это было от всего сердца и потому что я чувствовала: вы меня любите. Но любовь должна быть в радость, и если я не нахожу в ней удовлетворения того, что вы называете моими капризами и в чем все мои желания, вся моя жизнь, самая моя любовь, то мне это и не нужно, я предпочту быть одна. Вы меня удивляете. Мои капризы! Разве есть в жизни что-нибудь другое? А ваша охота на лисиц — это разве не каприз?
Он очень чистосердечно ответил:
— Если бы я не обещал, клянусь вам, Тереза, я бы с огромной радостью пожертвовал для вас этим маленьким удовольствием.
Она почувствовала, что он говорит правду. Она знала, как точно он выполняет свои обязательства, хотя бы и самые незначительные. Вечно связанный своим словом, он и в светские отношения вносил кропотливую добросовестность. Она увидела, что если будет настаивать, то сможет уговорить его не ехать. Но было уже слишком поздно: ей больше ничего не хотелось добиваться. Теперь она искала лишь острого наслаждения утраты. Она притворилась, будто принимает всерьез этот довод, казавшийся ей довольно глупым:
— Ах, вы обещали!
И она коварно уступила.
Сначала он удивился, но тут же обрадовался, что сумел ее убедить. Он был благодарен ей за то, что она не упрямится. Он обнял ее за талию, стал целовать в затылок и в глаза — поцелуями легкими и частыми, как бы в награду. Он выказал готовность посвятить ей все дни, пока он в Париже.
— Мы сможем, дорогая, увидеться еще раза три или четыре до моего отъезда, даже больше, если вы захотите. Я буду ждать вас здесь столько раз, сколько вы пожелаете. Хотите завтра?
Она доставила себе удовольствие сказать, что не может прийти ни завтра, ни послезавтра и ни в один из следующих дней. Она очень мягко объяснила, что именно ей мешает. Препятствия сперва казались незначительными: необходимость отдать визит, примерить платье, посетить благотворительный базар, выставку, посмотреть гобелены, может быть даже купить их. При ближайшем рассмотрении трудности возрастали, накапливались: визит нельзя было отложить; ехать надо было не на один, а на целых три благотворительных базара; выставки закрывались; гобелены должны были увезти в Америку. Словом, ей было невозможно повидаться с ним еще раз до его отъезда.
Считаться с такими доводами — это было вполне в его духе, и он не заметил, что выставлять их — вовсе не в характере Терезы. Запутавшись в этой легкой сети светских обязательств, он не оказал сопротивления, замолчал и почувствовал себя несчастным.
Подняв левую руку, Тереза откинула портьеру, а правой рукою коснулась ключа, и тут, среди широких сапфирных и рубиновых складок восточной ткани, обернувшись к своему другу, которого она покидала, проговорила тоном чуть насмешливым и почти трагическим:
— Прощайте, Робер! Веселитесь хорошенько. Мои визиты, мои покупки, ваши поездки — это все пустяки. Правда, из этих пустяков складывается судьба. Прощайте!
Она ушла. Ему хотелось бы проводить ее, но он из щепетильности не решался показываться с ней на улице, если она прямо не настаивала на этом.
На улице Тереза вдруг почувствовала, что она одна, одна в целом мире, и нет у ней ни радости, ни горя. Она как обычно пошла домой пешком. Настал уже вечер, воздух был морозный, ясный и спокойный. Но широкие улицы, по которым она шла в сумраке, усеянном огнями, окутывали ее тем городским теплом, которое так дорого именно горожанам и которое они ощущают даже зимой. Она шла между рядами лачуг, хижин и жалких домишек, остатков от сельских времен Отейля, между которыми то тут, то там вклинивались высокие дома, скучно выставлявшие напоказ зубчатые выступы стен. Маленькие лавчонки, однообразные окна ничего не говорили ей. Все же она чувствовала себя в таинственно дружелюбной власти окружающего, и ей казалось, что камни, что двери домов, что все эти огни, там наверху, за стеклами окон, благосклонны к ней. Она была одна и хотела быть одна.
Путь, который ей надо было пройти между двумя квартирами, почти одинаково привычными для нее, этот путь, который она проходила столько раз, представлялся ей отныне уже неповторимым. Почему? Что принес с собою этот день? Самое большее — легкую размолвку, даже не ссору. И все же он оставил после себя слабый, странный, упорный привкус, нечто незнакомое и непреходящее. Что же случилось? Ничего. И это ничто уничтожало все. У нее была смутная уверенность, что она больше никогда не вернется в эту комнату, которая еще недавно заключала самое сокровенное, самое дорогое в ее жизни. Ведь у нее была подлинная привязанность. Тереза серьезно относилась к ней, отчетливо сознавая, как необходима ей эта радость. Созданная для любви, но очень рассудительная, всецело отдавая себя, Тереза не теряла истинного благоразумия и стремления к безопасности, которые в ней были так сильны. Она не выбирала: тут выбора не бывает. Не дала она также настигнуть себя случайно, врасплох. Она сделала то, чего хотела — насколько в подобных делах возможно делать то, что хочешь. Ей ни о чем не приходилось жалеть. Он явился для нее тем, чем и должен был быть: следовало отдать справедливость этому человеку, который пользовался большим успехом в свете и, если бы пожелал, мог бы обладать любой женщиной. И тем не менее она чувствовала, что настал конец, настал сам собою. С холодной меланхолией она думала: «Вот три года моей жизни. Он — порядочный человек, любит меня, и я его любила — ведь я же любила его. Иначе и не могло быть — ведь я отдалась ему. А я не какая-нибудь развратница». Но она уже не в силах была воскресить чувства тех дней, тот порыв души и плоти, в котором отдалась ему. Ей вспоминались мелкие и совершенно незначительные подробности: цветы на обоях и картины, висевшие в комнате, в какой-то гостинице. Ей приходили на память те чуточку смешные и почти трогательные слова, которые он ей говорил. Но ей казалось, что все это случилось с какой-то другой совсем посторонней женщиной, которую она не особенно любила и не могла понять.
И то, что было сейчас, ласки, еще горевшие на ее теле, все это уже ушло вдаль. Постель, сирень в хрустальном бокале, вазочка из богемского хрусталя, где лежали ее шпильки, — все это она как будто видела мимоходом сквозь стекло чужого окна. Она не чувствовала ни горечи, ни даже грусти. Прощать ей — увы! — было нечего. Отлучка на неделю — ведь не измена, тут нет вины перед ней, это было ничто, и это было все. Это был конец. Она знала это. Она хотела порвать с ним, хотела, как падающий камень хочет упасть. Она подчинялась всем затаенным силам своего существа и самой природы. Она думала: «У меня нет причин любить его меньше. Но разве я уже не люблю его? Да и любила ли я его когда-нибудь?» Она не знала, но ей и неважно было знать.
В течение трех лет она приходила к нему на свидание по три-четыре раза в неделю. Были месяцы, когда они встречались каждый день. И все это ничего не значило? Но ведь и сама жизнь не многого стоит. А то, что вкладываешь в нее, какая это малость!
Как бы то ни было, ей не на что жаловаться. Но лучше кончать. Все ее раздумья приводили к этому. То было не решение — ведь решения можно менять. То было нечто более серьезное — особое состояние плоти и мысли.
Когда она дошла до площади, где посредине был бассейн, а с краю возвышалась церковь в сельском вкусе с открытой колокольней, ей вспомнился букет фиалок, ценою в два су, который он подарил ей однажды вечером на Малом мосту у Собора богоматери. В тот день они любили друг друга, быть может более бездумно, с большей свободой, чем обычно. Сердце ее смягчилось при этом воспоминании. Она стала перебирать прошлое в своей памяти, но ничего не находила. Вспоминался только букетик, жалкие останки цветов.
Она шла в раздумье, и прохожие, введенные в заблуждение простотой ее одежды, уже увязывались за ней. Один из них предложил ей пообедать в отдельном кабинете и поехать в театр. Это втайне позабавило ее и развлекло. Она нисколько не была потрясена; нет, тут не было никакого надрыва. Она подумала: «Как же поступают другие женщины? А я-то еще радовалась, что не гублю свою жизнь. Многого она стоит, эта жизнь!»
Дойдя до Музея религий с его фонарем в новогреческом стиле, она увидела, что улица разрыта из-за каких-то подземных работ. Над глубоким рвом, между кучами черной земли, грудами булыжника и каменных плит, была перекинута узкая шаткая доска. Она уже ступила на этот мостик, как вдруг увидала по другую ее сторону мужчину, — он остановился, ожидая, когда она пройдет. Мужчина узнал ее и поклонился. Это был Дешартр. Когда она поравнялась с ним, ей показалось, что он рад этой встрече; она улыбкой поблагодарила его. Он попросил у нее разрешения проводить ее. И они вдвоем вышли к тому месту, где улица становится шире: их обдало холодом. Дома здесь расступаются, стушевываются и уже не так заслоняют небо.
Он сказал, что издали узнал ее по ритму линий и движений, свойственных только ей.
— Красота в движениях, — прибавил он, — это музыка для глаз.
Она ответила, что очень любит ходить пешком: это доставляет ей удовольствие и полезно для здоровья.
Ему тоже нравились долгие прогулки пешком по многолюдным городам или среди живописной местности. Его манит таинственная прелесть больших дорог. Он любит путешествия: они, хоть и стали теперь доступными и легкими, все же сохранили для него свое могучее очарование. Ему знакомы и пронизанные золотом дни и прозрачные ночи, он видел Грецию, Египет и Босфор. Но он все вновь и вновь обращается к Италии, родине своей души.
— Я еду туда на будущей неделе, — сказал он. — Я опять хочу увидеть Равенну, дремлющую среди черных сосен на голом берегу. Бывали вы в Равенне, графиня? Это — зачарованная усыпальница, где витают блистательные призраки. Там царит волшебство смерти. При виде мозаик святого Виталия и двух святых Аполлинариев[36], с их варварскими ангелами и императрицами в ореолах, начинаешь чувствовать всю чудовищную прелесть Востока. Гробница Галлы Плацидии[37], лишенная теперь своих серебряных украшений, просто страшна под сводами сверкающего и все же мрачного склепа. Когда смотришь в щель саркофага, кажется, что видишь там дочь Феодосия: вот она сидит на золотом кресле прямо и строго, в одежде, усеянной драгоценными камнями, с шитьем, изображающим сцены из Ветхого Завета; видишь ее суровое и темное лицо, которое благодаря бальзамировке сохранилось в своей жестокой красоте, и руки, будто из черного дерева, неподвижно лежащие на коленях. Тринадцать столетий сохраняла она это могильное величие, пока однажды ребенок не просунул свечу в отверстие гробницы и не сжег тело вместе с одеянием.
Госпожа Мартен-Беллем спросила, что делала в жизни эта покойница, столь упорная в своей гордыне.
— Дважды была рабыней, — ответил Дешартр, — и дважды вновь становилась императрицей.
— Наверно, она была красивая, — сказала г-жа Мартен. — Вы слишком хорошо изобразили, как она покоится в склепе; мне даже стало страшно. А вы не поедете в Венецию, господин Дешартр? Или вы устали от гондол, от каналов, окаймленных дворцами, от голубей площади святого Марка? А я, признаюсь, до сих пор люблю Венецию, хоть и была уже там три раза.
Он был согласен с нею. Он тоже любил Венецию. Всякий раз, приезжая туда, он из скульптора превращался в живописца и занимался этюдами. Там ему хотелось перенести на полотно самый воздух.
— Всюду в других местах, — сказал он, — даже во Флоренции, небо так далеко, оно где-то в самой вышине, в самой глубине. А в Венеции оно везде; оно ласкает воду и землю, любовно окутывает свинцовые купола и мраморные фасады, бросает в радужное пространство свои жемчуга и хрустали. Красота Венеции — это ее небо и ее женщины. Как прелестны венецианки. И какая гордая красота! Под покровом черных шалей угадывается округлость их стройных и гибких тел. Если бы даже от всех этих женщин осталась одна какая-нибудь косточка, и то по ней можно было бы судить, как чудесно они были сложены. По воскресеньям в церкви они образуют веселые и подвижные группы, — это целое море женских фигур, несколько сухощавых иной раз, изящных головок, цветущих улыбок, жгучих взглядов. И все они с гибкостью молодых животных склоняются, когда выходит с дароносицей священник, а он всем своим видом напоминает Вителлия[38], подбородок его утопает в ризе, а впереди идут двое маленьких служек.
Дешартр шел неровным шагом, подчиняясь течению своих мыслей, то быстрых, то медленных. Тереза двигалась спокойной поступью и даже обгоняла его. Глядя на нее сбоку, он отмечал ту гибкость и твердость в ее походке, которая так нравилась ему. Он видел, как она время от времени слегка встряхивает головой, как от этого покачивается на ее шапочке веточка омелы.
Он невольно отдавался очарованию этой почти дружеской встречи с почти незнакомой женщиной.
Они дошли до того места, где посреди широкой улицы в четыре ряда насажены платаны. Они шли вдоль каменного парапета, над которым поднимается живая изгородь, к счастью скрывающая словно завесой уродство казарменных строений, расположенных внизу на набережной. А дальше, по молочно-белой дымке, какая в погожие дни висит над водой, угадывалась река. Небо было ясное. Огни города сливались со звездами. На юге блестели три золотых гвоздика — перевязь Ориона.
— В прошлом году в Венеции каждое утро, выходя из дома, я видел на пороге двери, возвышавшейся на три ступеньки над каналом, удивительную девушку с маленькой головкой, круглой и крепкой шеей, гибким станом. Она стояла там, в лучах солнца, среди всякой ветоши, чистая, как амфора, пьянящая, как цветок. Она улыбалась. Какие губы! Великолепнейшая драгоценность в ярчайшем блеске! Я вовремя заметил, что улыбается она мяснику, стоявшему за моей спиной с корзиной на голове.
На углу переулка, спускающегося к набережной, между двумя рядами палисадников, г-жа Мартен замедлила шаг.
— Да, — сказала она, — в Венеции женщины красивые.
— Они там, сударыня, почти все красивые. Я имею в виду девушек из простонародья, табачниц, молоденьких работниц со стеклянных заводов. Остальные — такие же, как везде.
— Остальные — вы хотите сказать: светские женщины? И этих женщин вы не любите?
— Светских женщин? О! есть среди них очаровательные. А вот любить их — дело не простое.
— Вы думаете?
Она протянула ему руку и быстро свернула за угол.
V
В тот вечер она обедала вдвоем с мужем. Стол не был раздвинут, на нем не стояло ни корзины с золотыми орлами, ни крылатых Побед. Канделябры не освещали над дверями собак кисти Удри. Он рассуждал о событиях дня, а она была погружена в мрачное раздумье. Ей казалось, будто, заблудившись, она идет в тумане, совсем одна. В душе было тихое и почти приятное чувство боли. Ей смутно, словно сквозь мглу, представлялась комнатка на улице Спонтини, перенесенная черными ангелами на одну из вершин Гималаев. А он исчезал в этом крушении мира и был такой обыкновенный, даже успел надеть перчатки. Она пощупала себе пульс, чтобы проверить, не лихорадит ли ее. Но вдруг ее пробудил резкий звон серебра на столике для посуды. Она услыхала слова:
— Дорогая, сегодня Гаво произнес в палате превосходную речь по поводу пенсионных касс. Поразительно, до чего здраво он теперь стал мыслить и как он метко бьет. Он сделал большие успехи.
Она не могла удержаться от улыбки:
— Но, друг мой, ведь Гаво — жалкий малый, он всегда только о том и думает, как бы ему вырваться из толпы всех этих бедняков и протиснуться вперед. Гаво действует преимущественно локтями. Неужели в политических кругах его принимают всерьез? Поверьте, что ни одной женщине он никогда не внушал иллюзий, даже собственной жене. А между тем немного требуется, чтобы внушать такие иллюзии, уверяю вас.
И она внезапно прибавила:
— Знаете, мисс Белл пригласила меня провести месяц у нее во Фьезоле. Я приняла приглашение, я поеду.
Скорее недовольный, чем удивленный, он спросил, с кем она поедет.
Она сразу же нашлась:
— С госпожой Марме.
Возразить было нечего. Г-жа Марме вполне могла сыграть роль почтенной компаньонки, она как будто специально была предназначена для Италии, где муж ее, Марме-этруск, производил раскопки античных некрополей. Он только спросил:
— Вы с ней уже говорили об этом? Когда же вы думаете ехать?
— На будущей неделе.
Он имел благоразумие ничего не возразить, ибо считал, что если станет сейчас противоречить, то ее мимолетный каприз укрепится; и он, опасаясь, как бы нелепая затея не воплотилась в жизнь, вскользь заметил:
— Разумеется, путешествия — приятное развлечение. Я думаю, мы могли бы этой весной посетить Кавказ, Туркестан, Закаспийские области. Места любопытные и мало известные. Генерал Анненков[39] предоставил бы в наше распоряжение вагоны, даже целые поезда на железной дороге, которую он построил. Он мой друг, вы ему очень нравитесь. Он даст нам конвой из казаков. Это будет довольно внушительно.
Он упорно старался подействовать на ее тщеславие, так как не представлял себе, что ей могут быть чужды светские склонности и что ею, в отличие от него, не движет честолюбие. Она небрежным тоном ответила, что это, пожалуй, было бы неплохое путешествие. Тогда он стал расписывать красоты Кавказских гор, древние города, базары, одежды, оружие. Он прибавил:
— Мы могли бы взять с собой и кое-кого из знакомых, княгиню Сенявину, генерала Ларивьера, может быть Ванса или Ле Мениля.
Сухо засмеявшись, Тереза ответила, что они еще успеют выбрать спутников.
Он стал внимателен, предупредителен:
— Вы ничего не едите. Так можно испортить себе желудок.
Не веря еще в этот неожиданный отъезд, он все же забеспокоился. Они предоставили друг другу полную свободу, но он не любил одиночества. Он чувствовал себя хорошо лишь тогда, когда жена была с ним вместе, и в доме все шло заведенным порядком. К тому же он решил дать во время парламентской сессии два-три больших политических обеда. Он видел, что партия его растет. Было самое время утвердиться, показаться во всем блеске. Он многозначительно сказал:
— Могут представиться такие обстоятельства, что нам понадобится содействие всех наших друзей. Вы следили за ходом событий, Тереза?
— Нет, друг мой.
— Очень жаль. Вы рассудительны, у вас широкий взгляд. Если бы вы следили за ходом политических событий, вы заметили бы, что страну влечет к умеренному образу мыслей. Страна устала от крайностей. Она отбрасывает людей, скомпрометированных радикальной политикой и гонениями на религию. Не сегодня-завтра надо будет составить правительство в духе Казимира-Перье[40], и тогда…
Он остановился: она слишком уж безразлично, слишком невнимательно слушала его.
Печальная и разочарованная, она размышляла. Ей казалось, что красивая женщина, там, в теплом сумраке укромного уголка, погружавшая босые ноги в бурый медвежий мех, женщина, которую возлюбленный целовал в затылок, пока она причесывалась перед зеркалом, была вовсе не она, Тереза, не какая-нибудь знакомая ей дама или женщина, с которой она хотела бы познакомиться, а особа, дела которой ее ничуть не касались. Плохо заколотая шпилька, одна из тех, что лежали в вазочке богемского хрусталя, скользнула ей за воротник. Она вздрогнула.
— Все-таки придется, — сказал граф Мартен-Беллем, — дать три или четыре обеда нашим политическим единомышленникам. Пусть прежние радикалы встретятся у нас с людьми нашего круга. Хорошо было бы также пригласить несколько хорошеньких женщин. Например, госпожу Берар де ла Малль: вот уже два года, как про нее ничего не рассказывают. Как вы думаете?
— Но, друг мой, ведь я на будущей неделе уезжаю… Он был совершенно подавлен этим.
Безмолвные и хмурые, они прошли в маленькую гостиную, где ждал уже Поль Ванс. Он часто запросто приходил по вечерам.
Тереза протянула ему руку:
— Очень рада видеть вас. Я хочу с вами проститься, правда ненадолго. В Париже холодно и мрачно. Такая погода утомляет меня и наводит тоску. Я собираюсь месяца полтора провести во Флоренции, у мисс Белл.
Господин Мартен-Беллем возвел глаза к небу. Ванс спросил, разве она прежде не бывала в Италии.
— Три раза, но я ничего не видела. А теперь я хочу видеть, хочу броситься в жизнь, окунуться в нее… Живя во Флоренции, я буду совершать прогулки по Умбрии, по Тоскане. А под конец поеду в Венецию.
— Прекрасно сделаете. Венеция — воскресный отдых после великих будней Италии, этой божественной созидательницы.
— Ваш друг Дешартр очень мило рассказывал мне про Венецию, про воздух Венеции, который сыплет жемчуга.
— Да, в Венеции небо играет красками. Во Флоренции оно более одухотворенное. Один старинный писатель сказал: «Небо Флоренции, легкое и нежное, питает прекрасные мысли человека». В Тоскане я провел очаровательные дни. Я был бы рад пережить их вновь.
— Приезжайте ко мне туда.
Он вздохнул:
— Газеты, журналы, наша поденщина… Господин Мартен-Беллем сказал, что перед такими доводами надо смириться, а читать статьи и книги господина Поля Ванса — слишком большое счастье, чтобы желать отвлечь его от таких трудов.
— Ну, мои книги!.. В книге никогда не скажешь того, что хотелось бы сказать. Выразить себя — невозможно! Ну, конечно, я не хуже другого умею пользоваться пером. Но говорить, писать — до чего все это жалко! Как подумаешь — что за убожество все эти маленькие значки, из которых составляются слоги, слова, предложения. Во что превращается мысль, прекрасная мысль, под сетью этих гадких иероглифов, и пошлых и странных? Чем становится для читателя страница, написанная мной? Цепью ошибок, противоречий и бессмыслиц. Читать, слушать — то же, что переводить. Бывают, пожалуй, прекрасные переводы. Но точных не бывает. Пусть восхищаются моими книгами — что мне до того, если читатели восхищаются тем, что сами вложили в них? Каждый читатель подменяет наше зрение своим. Мы даем только пищу его фантазии. И это ужасно — давать повод к таким упражнениям. Гнусная профессия.
— Вы шутите, — сказал г-н Мартен.
— Не думаю, — сказала Тереза. — Он просто сознает, что души непроницаемы друг для друга, и мучится этим. Он чувствует себя одиноким, когда думает, одиноким, когда пишет. Что бы мы ни делали, мы всегда одиноки. Вот что он имеет в виду. И он прав. Объясниться всегда можно, но понять друг друга — никогда.
— Есть язык жестов, — сказал Поль Ванс.
— Не думаете ли вы, господин Ванс, что это также своего рода иероглифы? Скажите, а что слышно о господине Шулетте? Я его совсем не вижу.
Ванс ответил, что Шулетт сейчас очень занят преобразованием мирской конгрегации святого Франциска.
— Эта мысль, сударыня, возникла у него чудесным образом, когда он собрался посетить Марию на той улице, где она живет, — за городской больницей, — на улице вечно сырой, с покосившимися домами. Вы ведь знаете, что Мария — это мученица и святая, искупающая грехи народа. Он дернул рукоятку звонка, засаленную посетителями в течение двух столетий. То ли мученица находилась в винном погребке, где она свой человек, то ли была занята у себя в комнате, но она ему не отворила. Шулетт звонил долго, и так рьяно, что рукоятка вместе с веревкой осталась у него в руках. Умея воспринимать символы и проникать в сокровенный смысл вещей, он сразу понял, что веревка оборвалась не без согласия божественных сил. Он стал об этом размышлять. Веревка была покрыта черной липкой грязью. Он препоясался этой веревкой, и тут его осенило, что он призван вернуть конгрегации святого Франциска ее первоначальную чистоту[41]. Шулетт отрекся от женской красоты, от утех поэзии, от блеска славы и начал изучать жизнь и учение блаженного Франциска. Все же он продал своему издателю книгу, озаглавленную «Коварные ласки» и, по его словам, заключающую в себе описание всех видов любви. Он гордится, что показал себя в ней греховным не без изящества. Но, отнюдь не препятствуя его мистическим начинаниям, эта книга даже способствует им в том смысле, что впоследствии, когда новый его труд послужит поправкой к ней, она станет весьма почтенным и даже поучительным сочинением; к тому же золото, — он предпочитает говорить «злато», — которое он получил за нее и которого ему бы не дали за вещь более целомудренную, послужит ему для паломничества в Ассизи.
Госпожу Мартен рассказ позабавил, и она спросила, что в этой истории соответствует действительности. Ванс ответил, что лучше в это не вникать.
Он наполовину признался, что как биограф идеализировал поэта и что похождения, о которых он рассказывает, не следует принимать в буквальном и узком смысле.
Во всяком случае, он утверждал, что Шулетт издает свои «Коварные ласки» и хочет посетить келью и могилу святого Франциска.
— Но если так, — воскликнула г-жа Мартен, — я повезу его в Италию. Господин Ванс, отыщите его и приведите ко мне. Я еду на будущей неделе.
Господин Мартен извинился, что вынужден их покинуть. Ему необходимо закончить доклад; он должен быть представлен завтра.
Госпожа Мартен сказала, что нет человека, который занимал бы ее более, чем Шулетт. Поль Ванс тоже считал его очень своеобразным существом.
— Он мало чем отличается от тех святых, необыкновенные жития которых нам приходилось читать. Он так же искренен, как они, одарен удивительной тонкостью чувств и неистовой силой души. Если от многих его поступков нас коробит, то это потому, что он слабее святых, что у него меньше выдержки, или, может быть, просто потому, что мы видим его вблизи. А к тому же есть ведь и грешные святые, как есть грешные ангелы: Шулетт — грешный святой, вот в чем дело. Но его стихи — подлинно духовные стихи, и они много прекраснее всего, что создали в этом роде придворные епископы и театральные поэты семнадцатого века[42].
Она перебила его:
— Пока я не забыла, хочу вам похвалить вашего друга Дешартра. Это обаятельный ум.
И она прибавила:
— Может быть, он только слишком замкнут в себе.
Ванс напомнил: он ведь говорил ей, что Дешартр ее заинтересует.
— Я его знаю как самого себя, мы друзья с детства.
— Вы были знакомы с его семьей?
— Да. Он — единственный сын Филиппа Дешартра.
— Архитектора?..
— Да, архитектора, который при Наполеоне Третьем реставрировал столько замков и церквей в Турени и в Орлеанской провинции. Это был человек со знаниями и вкусом. Он любил уединение и был очень мягким от природы, но имел неосторожность напасть на Виоле ле Дюка[43], в те времена всемогущего. Он упрекал Виоле ле Дюка в том, что он считает нужным восстанавливать здания по их первоначальному плану, в том виде, какими они были или должны были быть при их возникновении. А Филипп Дешартр требовал, напротив, чтобы считались со всем тем, что столетиями мало-помалу прибавлялось к какой-нибудь церкви, какому-нибудь аббатству или замку. Уничтожить все наслоения и вернуть зданию его исходное единство казалось ему ученым варварством, столь же опасным, как невежество. Он говорил, он беспрестанно повторял: «Преступление — стирать те последовательные отпечатки, которые оставляла на камне рука наших предков и их душа. Новые камни, обтесанные на старинный лад, — лжесвидетели». Он требовал, чтобы задача архитектора-археолога ограничивалась заботами о сохранности и прочности стен. Он был прав. С ним не согласились. Он окончательно повредил себе тем, что умер молодым, в момент торжества своего соперника. Но все же вдове и сыну он оставил приличное состояние. Жака Дешартра воспитывала его мать, обожавшая его. Кажется, такой страстной материнской нежности еще не бывало. Жак прелестный малый, но он — балованное дитя.
— А по виду он такой равнодушный ко всему, такой покладистый, так от всего далек!
— Не доверяйтесь этому. У него воображение тревожное и тревожащее.
— Любит он женщин?
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
— О, не для того, чтобы его женить.
— Да, любит. Я сказал, что он эгоист. А только эгоисты по-настоящему и любят женщин. После смерти матери у него долго была связь с известной актрисой — Жанной Танкред.
Госпожа Мартен немного помнила Жанну Танкред, не очень красивую, но прекрасно сложенную, исполнявшую с несколько вялой грацией роли светских героинь.
— Да, это та самая, — продолжал Поль Ванс. — Они поселились почти окончательно вместе в маленьком домике в Отейле, в квартале Жасминов. Я часто бывал у них. Он вечно был погружен в мечты, забывал докончить начатую работу, которая сохла под полотном, уходил в себя, занятый только своими мыслями, совершенно не в силах слушать кого бы то ни было; она же, с лицом, потускневшим от грима, с нежными глазами, умная и живая и только поэтому хорошенькая, зубрила свои роли. Она мне жаловалась, что он рассеян, угрюм, что у него тяжелый характер. Она его очень любила и изменяла ему только для того, чтобы получать новые роли. А когда изменяла, то делала это не раздумывая, и потом больше не вспоминала об этом. Женщина разумная. Но в надежде, что Жозеф Шпрингер устроит ее во Французскую Комедию, она стала показываться с ним; это бросилось в глаза. Дешартр рассердился и порвал с нею. Теперь она считает более практичным жить со своими директорами, а Жак находит более приятным путешествовать.
— Жалеет он о ней?
— Как знать, что творится в душе человека беспокойного и изменчивого, эгоистичного и страстного, который жаждет отдаться, но быстро спохватывается и великодушно любит лишь самого себя во всем том прекрасном, что встречает на земле?
Она внезапно переменила тему разговора:
— А как ваш роман, господин Ванс?
— Пишу последнюю главу, сударыня. Мой бедненький резчик уже гильотинирован. Он умер с равнодушием девственницы, которая не знала желаний, никогда не чувствовала на своих губах горячего вкуса жизни. Газеты и публика подобающим образом одобрили этот акт правосудия. Но в некоей мансарде другой рабочий, трезвый, унылый рабочий-химик, дает клятву — новым убийством искупить его смерть.
Он встал и откланялся. Она его окликнула:
— Господин Ванс, не забудьте, что я просила вас совершенно всерьез: приведите ко мне Шулетта.
Проходя к себе в спальню, она увидела мужа, поджидавшего ее на площадке лестницы. Он был в золотисто-коричневом плюшевом халате, а его бледное и худое лицо обрамлялось головным убором, наподобие тех, что носили дожи. Вид у него был торжественный. За его спиной в отворенную дверь кабинета была видна при свете лампы груда синих папок с делами и документами, раскрытые фолианты годового бюджета. Она не успела пройти к себе, он знаком дал понять, что хочет говорить с ней.
— Дорогая моя, я вас не пойму. Вы так неосмотрительны, что можете очень сильно себе повредить. Вы покидаете свой дом без всякой причины, даже без какого-либо предлога. И собираетесь разъезжать по Европе, да еще с кем? с каким-то пьяницей, воплощением богемы, с этим Шулеттом.
Она ответила, что поедет с госпожой Марме и что тут нет ничего предосудительного.
— Но вы всем сообщаете о вашем отъезде, а даже не знаете, сможет ли госпожа Марме сопровождать вас.
— О! Милая госпожа Марме быстро соберется. К Парижу ее привязывает только ее песик. Но она оставит его вам, вы о нем будете заботиться.
— А ваш отец осведомлен о ваших планах?
К авторитету Монтессюи он взывал тогда, когда собственный оказывался недостаточным. Он знал, что его жена очень боится рассердить отца или вызвать у него дурное мнение о себе. Он проявил настойчивость:
— Ваш отец — человек благоразумный и тактичный. Я рад, что его советы несколько раз совпадали с теми, которые я позволял себе вам подавать. Он так же, как и я, считает, что такой женщине, как вы, неприлично бывать в доме госпожи Мейан. Общество там слишком смешанное, хозяйка дома потворствует интригам. В одном отношении, должен вам сказать, вы очень неправы: вы недостаточно считаетесь с мнением света. Я крайне удивлюсь, если ваш отец не найдет странным, что вы улетаете так… легкомысленно. А ваше отсутствие, дорогая моя, тем более будет замечено, что в ходе последней законодательной сессии — позвольте мне вам это напомнить — обстоятельства выдвинули меня. Мои заслуги здесь, разумеется, ни при чем. Но если бы за обедом вы соблаговолили выслушать меня, я разъяснил бы вам, что группа политических деятелей, к которым я принадлежу, в двух шагах от власти. И не в такой момент вам отказываться от обязанностей хозяйки дома. Вы сами это понимаете. Она ответила:
— Мне надоело вас слушать.
И, повернувшись к нему спиной, она ушла и заперлась у себя в спальне.
В тот вечер, лежа в постели, она, как всегда перед сном, раскрыла книгу. То был роман. Она рассеянно перелистывала его, как вдруг увидела такие строки:
«Любовь подобна благочестию: она приходит поздно. В двадцать лет нельзя быть ни влюбленной, ни благочестивой, если только нет особого к тому предрасположения, особой природной святости. Даже те, что предназначены к любви, долго борются с этой благодатью, более страшной, чем молния, упавшая на пути в Дамаск[44]. Любви-страсти женщина чаще всего отдается лишь в том возрасте, когда одиночество уже не пугает. Ибо страсть — это поистине бесплодная пустыня, жгучая Фиваида. Страсть — это мирской аскетизм, столь же суровый, как аскетизм религиозный.
Вот почему женщины, способные на великую любовь, столь же редки, как и великие подвижницы. Тем, кто хорошо знает жизнь и свет, известно, что женщины неохотно покрывают свою нежную грудь власяницей подлинной любви. Им известно, что нет ничего более необычного, чем долгое самопожертвование. А подумайте, сколько жертв должна принести светская дама, когда она любит. Свободу, спокойствие, чудесные прихоти свободной души, кокетство, развлечения, удовольствия — все это она теряет.
Дозволен флирт. Его можно примирить со всеми требованиями светской жизни. Но не любовь. Это — самая несветская, самая нелюдимая, самая дикая, самая варварская страсть. Поэтому-то свет судит ее строже, чем обыкновенные интрижки или легкость нравов. В известном смысле он и прав. Влюбленная парижанка изменяет своей природе и уклоняется от своей обязанности — принадлежать всем, подобно произведению искусства. Она и есть произведение искусства, самое чудесное из всех, вызванных когда-либо к жизни деятельностью человека. Она — восхитительное творение, плод всех видов мастерства, всех ремесел и свободных художеств, она — общее творение и общее достояние. Ее долг — быть на виду».
Тереза закрыла книгу и подумала, что все это бредни романистов, не знающих жизни. Ей-то было известно, что в действительности нет ни вершин страсти, ни власяницы любви, ни прекрасного и страшного призвания, которому тщетно противится избранница; ей было известно, что любовь — лишь мимолетное опьянение, после которого чувствуешь легкую грусть… А что, если она не знает всего, если бывает любовь, которая дарит блаженство?.. Она погасила лампу. Из самой глубины прошлого к ней возвращались сны ранней юности.
VI
Лил дождь. Сквозь забрызганные стекла кареты г-жа Мартен-Беллем видела множество зонтиков, которые двигались, точно черные черепахи, под потоками, низвергавшимися с небес. Она думала. Мысли ее были серы и неясны, как облик улиц и площадей, застилаемых дождем.
Она уже не знала, почему ей пришло в голову провести месяц у мисс Белл. По правде, она и раньше этого не знала. Так родник, скрытый у истоков побегами подорожника, незаметно превращается в глубокий и быстрый ручей. Она помнила, как во вторник вечером, за обедом, вдруг сказала, что хочет уехать, но не улавливала, когда же зародилось это намерение. То не было желание поступить с Робером Ле Менилем так, как поступил с нею он сам. Правда, ей очень нравилась мысль — гулять в Кашинах, пока он будет охотиться на лисиц. В этом она видела отрадную симметрию. Робер всегда бывал так рад увидеться с ней вновь после разлуки, а теперь, вернувшись, не увидит ее. Она считала, что уместно доставить ему эту заслуженную неприятность. Но сначала она об этом не думала; да и потом не думала тоже, и, право же, уезжала она не рада удовольствия огорчить его и не ради шаловливой мести. Она таила мысль не столь игривую, мысль более глухую и жестокую. А главное — ей не хотелось слишком скоро увидеть его. Хотя связь их продолжалась, он стал для нее чужим. Он представлялся ей человеком не хуже других, даже лучше, чем большинство других, мужчиной с превосходной внешностью, прекрасными манерами, достойным характером, и он не был ей неприятен, но он не занимал ее. Он вдруг ушел из ее жизни. Ей тягостно было вспоминать, как тесно они были связаны. Мысль о том, чтобы ему принадлежать, оскорбляла ее, представлялась ей чем-то неприличным. Перспектива встретиться с ним в квартирке на улице Спонтини была так мучительна, что Тереза сразу же отказалась от нее. Она предпочитала думать, что их встрече помешает какое-то непредвиденное и неизбежное событие — светопреставление, например. Г-н Лагранж, член Академии наук, рассказывал ей накануне у г-жи де Морлен о комете, которая, появившись из мировых бездн, когда-нибудь, пожалуй, столкнется с землей, окутает ее своим пылающим хвостом, сожжет своим дыханием, отравит животных и растения неведомыми ядами и погубит все человечество, вызвав у людей истерический смех или погрузив их в мрачное оцепенение. Ей нужно было, чтобы в следующем месяце случилось это или нечто в таком роде. И вполне понятно, что ей хотелось уехать. Но почему к ее желанию умчаться вдаль примешивалась смутная радость и почему она уже заранее была во власти того, что ей предстояло увидеть, — этого она не могла себе объяснить. Карета остановилась на углу узенькой улицы Ла-Шез.
Здесь, в верхнем этаже высокого дома, в тесной и очень чистенькой квартирке с пятью окнами, которые все выходили на балкон и по утрам были залиты солнцем, жила после смерти мужа г-жа Марме.
Графиня Мартен приехала к ней в ее приемный день. В скромной и блистающей чистотой гостиной она увидела г-на Лагранжа, который дремал в кресле против хозяйки, кроткой и спокойной в венце седых волос.
Этот старый светский ученый хранил ей верность. На другой день после погребения Марме он принес несчастной вдове ядовитую речь Шмоля и, вместо того чтобы ее утешить, так огорчил, что она чуть не задохлась от гнева и боли. Она без чувств упала к нему на руки. Г-жа Марме находила, что он многого не понимает. Он был ее лучший друг. Они часто обедали вместе в богатых домах.
Госпожа Мартен, прямая и стройная, в собольем жакете, из-под воротника которого падали на грудь волны кружев, очаровательным блеском своих серых глаз разбудила старика, чувствительного к женской прелести. Накануне, у г-жи де Морлен, он ей рассказал, как произойдет светопреставление. Теперь он спросил ее, не было ли ей ночью страшно, не виделись ли ей картины Земли, пожираемой пламенем или умирающей от мороза и белой, как Луна. Он обращался к ней изысканно учтиво, а она рассматривала книжный шкаф красного дерева, занимавший всю стену против окон. Книг там уже не было, но на нижней полке лежал скелет в доспехах. Странно было у этой добродушной старой дамы видеть этрусского воина в позеленевшем бронзовом шлеме, привязанном к черепу, и в броне, ржавые остатки которой прикрывали его расшатанную грудь. Угрюмый, сложенный из отдельных частей, он спал среди коробок от конфет, золоченых фарфоровых ваз, гипсовых мадонн и деревянных резных безделушек — сувениров из Люцерна и Риги-Кульма. Г-жа Марме, стесненная в средствах, продала книги своего мужа; из всех раритетов, собранных археологом, она сохранила только этого этруска. Но не потому, чтобы друзья не старались помочь ей сбыть его. Старые коллеги Марме нашли, куда его пристроить. Поль Ванс добился у дирекции музеев, чтобы его купили для Лувра. Но вдова не пожелала с ним расставаться. Ей казалось, что вместе с этим воином в позеленевшем бронзовом шлеме, украшенном легкой золотой гирляндой, она утратит имя, с достоинством носимое ею, и перестанет быть вдовой Луи Марме, члена Академии надписей.
— Успокойтесь, сударыня; так скоро комета не столкнется с землей. Подобные встречи мало вероятны.
Госпожа Мартен ответила, что не имеет ничего против такого мгновенного уничтожения Земли и человечества.
Старик Лагранж искренне возмутился. Ему было крайне важно, чтобы катаклизм произошел попозднее.
Она взглянула на него. На его голом черепе произрастало только несколько волосков, выкрашенных в черный цвет. Над глазами, все еще улыбающимися, лохмотьями болтались веки; желтая кожа на щеках отвисла длинными складками, а под одеждой угадывалось высохшее тело.
Она подумала: «Он любит жизнь!»
Госпожа Марме тоже не желала, чтобы мир так скоро погиб.
— Господин Лагранж, — сказала г-жа Мартен, — не правда ли, вы ведь живете в славном домике, окна которого, обвитые глициниями, выходят на Ботанический сад? Мне кажется, что это большая радость — жить в таком саду; он мне напоминает Ноев ковчег, каким я в детстве видела его на картинках, или земной рай из старинных библий.
Но академик не был в восторге. Дом мал, плохо устроен, наводнен крысами.
Она согласилась, что нигде нам не бывает вполне хорошо и что всюду водятся крысы, реальные или символические, — легионы маленьких существ, терзающих нас. Но Ботанический сад она любит, ей всегда хотелось и никогда не удавалось выбраться туда. Что же до музея, то она даже ни разу не осматривала его, а ей было бы интересно его посетить.
Улыбающийся, довольный, он предложил ей свои услуги. Он там как дома. Он покажет ей болиды. Там есть великолепные экземпляры.
Она понятия не имела, что такое болид. Но вспомнила, что ей рассказывали, будто в музее есть оленьи кости, обработанные первобытными людьми, и куски слоновой кости с изображениями животных давно исчезнувших пород. Она спросила, правда ли это. Лагранж больше не улыбался. Он с угрюмым равнодушием ответил, что эти предметы — в ведении одного из его коллег.
— Ах, вот как, — сказала г-жа Мартен, — это не в вашей витрине?[45]
Она убеждалась, что ученые нелюбопытны и что нескромно спрашивать их о вещах, не имеющихся в их витрине. Правда, свою научную карьеру Лагранж построил на камнях, упавших с неба. Вот почему он с уважением относился к кометам. Но он отличался благоразумием, и уже лет двадцать у него было одно только занятие — обедать в гостях.
После его ухода графиня Мартен заговорила о том, что ее привело к г-же Марме.
— Я на будущей неделе еду во Фьезоле, к мисс Белл, и вы едете со мной.
Добрая г-жа Марме с безмятежным челом над беспокойными глазками минуту помолчала, нерешительно отказалась, заставила себя упрашивать и согласилась.
VII
Курьерский поезд на Марсель был подан к платформе, где в тусклом свете дня, падавшем со стеклянного свода, бегали носильщики и катились тележки. Перед открытыми дверцами вагонов взад и вперед проходили пассажиры в длинных пальто. В самом конце платформы, под закопченным и запыленным навесом, виднелся, точно в бинокль, кружочек неба, величиной с ладонь, — он казался символом бесконечности путешествий. Графиня Мартен и добрейшая г-жа Марме уже сидели в купе, под сеткой, нагруженной чемоданами, а рядом на подушках брошены были газеты. Шулетт все не шел, и г-жа Мартен больше не ждала его. А между тем он обещал явиться на вокзал. Он уладил все дела, чтобы уехать, и получил от издателя гонорар за свои «Коварные ласки». Поль Ванс привел его как-то раз вечером в особняк на набережной Бильи. Он оказался мил, учтив, полон остроумной веселости и простодушной радости. С тех пор она предвкушала некоторое удовольствие от путешествия с этим талантливым человеком, к тому же столь своеобразным, оригинально-уродливым, забавно-безумным, — с этим старым, брошенным на произвол судьбы ребенком, полным простосердечных пороков и невинности. Двери вагонов уже закрывались: она не ждала его больше. Да и не следовало ей рассчитывать на это существо, изменчивое и беспокойное. Но в тот момент, когда паровоз уже хрипло задышал, г-жа Марме, глядевшая в окно, спокойно заметила:
— Вот, кажется, и господин Шулетт.
В шляпе, съехавшей на шишковатый затылок, с неподстриженной бородой, он шел по платформе, прихрамывая на одну ногу и волоча старый ковровый саквояж. Он был почти страшен и, несмотря на свои пятьдесят лет, казался молодым, таким ясным взглядом смотрели его блестящие голубые глаза, столько простодушной дерзости выражало еще и сейчас его желтое, худое лицо, так чувствовалась в этом старом, изношенном человеке бессмертная юность поэта и художника. Увидев его, Тереза пожалела, что выбрала себе такого странного спутника. Он шел, бросая в каждое окно быстрый взгляд, который мало-помалу становился злым и недоверчивым. Но когда, дойдя до купе, где находились обе дамы, он узнал г-жу Мартен, он улыбнулся так мило и поздоровался с ней таким ласковым голосом, что в нем уже ничего не оставалось от угрюмого бродяги, только что блуждавшего по платформе, — ничего, кроме весьма старого коврового саквояжа, который он тащил за полуоторванную ручку.
Он крайне заботливо поместил его в сетке среди аккуратных чемоданов в серых чехлах, рядом с которыми этот саквояж выделялся ярким и отвратительным пятном. И тут стало заметно, что по его кроваво-красному фону разбросаны желтые цветы.
Поэт, очень довольный, сделал г-же Мартен комплимент по поводу пелерины ее светло-коричневого пальто.
— Простите меня, — прибавил он, — я запоздал. Сегодня утром я отправился в церковь святого Северина — это мой приход — к ранней обедне в приделе богоматери, где очаровательно нелепые колонны, похожие на дудки, тянутся к небу, точь-в-точь как мы, бедные грешники.
— Так, значит, — сказала г-жа Мартен, — вы нынче благочестивы?
И она спросила, везет ли он с собой веревку ордена, который собирается основать.
Он принял серьезный и опечаленный вид.
— Я сильно опасаюсь, сударыня, что Поль Ванс развлекал вас своими нелепыми выдумками на этот счет. Мне говорили, что он сеет в гостиных слухи, будто моя веревка — это веревка от звонка, и притом еще какого звонка! Я в отчаянии, если кто-нибудь хоть на миг мог поверить столь жалким вымыслам. Моя веревка, сударыня, — это веревка символическая. Она представляет собою простую нить, к которой дают прикоснуться нищему, а затем носят под одеждой в знак того, что бедность священна и что она спасет мир. Благо только в ней, а я с тех пор, как получил гонорар за мои «Коварные ласки», кажусь себе несправедливым и черствым. Да будет вам известно, что я положил в саквояж несколько таких мистических веревок.
И, показывая пальцем на отвратительный ковровый мешок цвета ржавой крови, он добавил:
— Я положил в него также святые дары, которые получил от одного недостойного священника, сочинения господина де Местра[46], рубашки и различные другие предметы.
Госпожа Мартен в легком замешательстве подняла глаза. Зато добрейшая г-жа Марме хранила обычную невозмутимость.
Пока поезд мчался мимо безобразных предместий, мимо этой черной бахромы, уныло окаймляющей город, Шулетт вынул из кармана старый бумажник и начал рыться в нем. В бродяге просыпался писака. Шулетт был архивный червь, хоть и пытался это скрывать. Он удостоверился, что не потерял ни клочков бумаги, на которые он в кафе заносил мотивы стихотворений, ни дюжины тех лестных запачканных, засаленных, рвущихся по складкам писем, которые он постоянно носил при себе, готовый прочесть их каким-нибудь случайным собеседникам ночью, при свете газового фонаря. Убедившись в том, что ничего не пропало, он вынул из бумажника сложенное пополам письмо, лежавшее в незапечатанном конверте. Долго, с какой-то таинственной развязностью размахивал он им, потом протянул графине Мартен. То было рекомендательное письмо, которое маркиза де Рие дала ему к некоей принцессе из французского королевского рода, весьма близкой родственнице графа де Шамбора[47], которая, овдовев и состарившись, уединенно жила в предместье Флоренции. Насладившись эффектом, который, как ему казалось, он произвел, Шулетт сообщил, что, может быть, посетит эту принцессу и что это добрая и благочестивая особа.
— Настоящая аристократка, — прибавил он, — и не стремится с помощью платьев и шляп выставить напоказ свое великолепие. Рубашки она носит по шесть недель, а иногда и дольше, Людям из ее свиты случалось видеть на ней белые чулки, весьма грязные и свисавшие ей на пятки. В ней оживают добродетели великих испанских королев. О! эти грязные чулки — вот истинное величие!
Он взял письмо и снова вложил его в бумажник. Затем, вооружившись ножом с роговой рукояткой, стал вырезывать какую-то голову, пока что едва намеченную на набалдашнике его трости. Тем временем он сам расточал себе похвалы:
— Я сведущ во всех искусствах нищих и бродяг. Я умею гвоздем открывать замки и вырезать по дереву скверным ножом.
Голова начинала вырисовываться. То было худое плачущее женское лицо.
Шулетт хотел выразить в нем человеческое горе, не простое и трогательное, каким оно могло представляться людям былых времен, Жившим в мире, где сочетались грубость и доброта, а горе безобразное, покрытое слоем румян, достигшее той высшей степени уродства, до которой его довели мещане-вольнодумцы и патриоты-военные — порождение французской революции. Он считал, что существующий строй — это лицемерие и дикость. Милитаризм внушал ему отвращение.
— Казарма — гнусное изобретение нового времени. Возникла она лишь в семнадцатом веке. До тех пор была только милая кордегардия, где старые рубаки играли в карты и рассказывали друг другу небылицы. Предвестником Конвента и Бонапарта был Людовик Четырнадцатый. Но зло достигло крайнего предела после введения этой чудовищной всеобщей воинской повинности. Вменить людям в обязанность убивать — позор для императоров и для республик, преступление из преступлений. Во времена, называемые варварскими, города и государи поручали защиту наемникам, которые вели войну благоразумно и осторожно: убитых в большом сражении бывало порой всего пять-шесть человек. А когда рыцари отправлялись на войну, то их по крайней мере к этому никто не принуждал; они шли на смерть ради собственного удовольствия. По-видимому, они только на это и были годны. Во дни Людовика Святого никому не пришло бы в голову послать на войну человека ученого и разумного. И пахаря также не отрывали от земли, не брали в армию. Теперь же бедного крестьянина заставляют быть солдатом. Его разлучают с домом, над крышей которого в золотистой вечерней тишине вьется дым, разлучают с тучными лугами, где пасутся его волы, с родными нивами и лесами; во дворе мерзкой казармы его учат по всем правилам убивать людей; ему угрожают, его оскорбляют, его сажают в тюрьму; ему говорят, что это делает ему честь, а если он не хочет такой чести, его расстреливают. Он повинуется, потому что покорен страху, и среди всех домашних животных он самое кроткое, самое приветливое, самое послушное существо. Мы, французы, — военные и мы — граждане. Быть гражданином — вот тоже повод гордиться! Это значит, что бедные поддерживают и охраняют богатых во всем их могуществе и праздности. Ради них они должны трудиться перед величественным лицом закона, который и богатым и бедным равно запрещает ночевать под мостами, просить милостыню на улицах и красть хлеб. Это одно из благодеяний революции. Так как революцию делали безумцы и глупцы, обратившие ее на пользу покупателей национальных имуществ, и так как она в сущности привела лишь к обогащению крестьян, из тех, что похитрей, да ростовщиков из буржуа, то под именем равенства она утвердила власть богатства. Она отдала Францию в руки дельцов, и вот уже сто лет, как они пожирают ее. Они в ней хозяева и господа. Показное правительство, состоящее из каких-то бедняг, людей хилых и унылых, ничтожеств и убожеств, находится на жалованье у финансистов. Вот уже сто лет, как в этой отравленной стране всякий, кто любит бедных, слывет изменником обществу. И вас считают опасным человеком, когда вы говорите, что на свете есть несчастные. Созданы даже законы против негодования и жалости. То, что я здесь говорю, нельзя было бы напечатать.
Шулетт все более оживлялся, размахивая ножом, а между тем при зябком солнечном свете проносились мимо коричневые поля, лиловые купы деревьев, оголенных стужей, и сплошные вереницы тополей вдоль серебрящихся рек.
Он с умилением посмотрел на голову, которую вырезал на палке.
— Вот ты, — сказал он, — ты, бедное человечество, тощее и плачущее, отупевшее от позора и нищеты, такое, каким тебя сделали твои господа — солдат и богач.
У добрейшей г-жи Марме был племянник — артиллерийский капитан, очаровательный молодой человек, очень любящий свое дело, и ее возмущала резкость, с которой Шулетт нападал на армию. Г-жа Мартен видела в этих речах лишь забавную прихоть. Мысли Шулетта не пугали ее: она ничего не боялась. Но они казались ей немного нелепыми, и она не думала, чтобы прошлое было лучше настоящего.
— Мне, господин Шулетт, кажется, что люди во все времена были такие же, как сейчас, — эгоистичные, грубые, скупые и безжалостные. Мне кажется, что законы и права всегда были суровы и жестоки к несчастным.
Между Ларошем и Дижоном они позавтракали в вагон-ресторане и оставили там Шулетта наедине с его трубкой, рюмкой бенедиктина и раздраженной душой.
Когда они вернулись в купе, г-жа Марме с кроткой нежностью заговорила о своем покойном муже. Он женился на ней по любви; он сочинял для нее чудесные стихи, — она хранила их и никому не показывала. Он был очень живой и очень веселый. Этому не верилось потом, когда он уже был утомлен работой, изнурен болезнью. Занимался он до последней минуты. Страдая расширением сердца, он не мог лежать и проводил ночи в кресле у столика с книгами. За два часа до кончины он еще пытался читать. Он был ласков и добр. Среди страданий он сохранил всю свою мягкость.
Госпожа Мартен, которой ничего другого не приходило в голову, сказала:
— Вы были счастливы долгие годы, вы храните воспоминание о них; это тоже счастье.
Но добрейшая г-жа Марме вздохнула, ее спокойное чело омрачила тень.
— Да, — сказала она, — Луи был лучший из людей и лучший из мужей. Все же я бывала с ним очень несчастна. У него был только один недостаток, но я от него жестоко страдала. Он был ревнив. Он, такой добрый, такой нежный, такой великодушный, под влиянием этой ужасной страсти становился несправедливым, тираничным, грубым. Могу вас уверить, что мое поведение не давало повода к подозрениям. Я не была кокетлива. Но я была молоденькая, свежая; меня считали почти хорошенькой. Этого было достаточно. Он не позволял мне выходить одной, запрещал принимать гостей в его отсутствие. Когда мы вместе бывали где-нибудь на балу, я заранее дрожала при мысли о той сцене, которую он мне сделает в карете.
И добрейшая г-жа Марме прибавила со вздохом:
— Правда, я любила танцы. Но пришлось отказаться от них. Он слишком мучился.
Графиня Мартен не скрыла своего удивления. Марме всегда представлялся ей робким и сосредоточенным в себе стариком, производившим несколько смешное впечатление рядом со своей полной, беленькой, всегда такой кроткой женой и скелетом этрусского воина в шлеме из бронзы и золота. Но почтенная вдова призналась ей, что Луи в пятьдесят пять лет, когда ей было пятьдесят три, оставался таким же ревнивым, как и в первый день.
И Тереза подумала, что Робер никогда не терзал ее ревностью. Было ли это с его стороны доказательством такта и хорошего тона, признаком доверия, или он недостаточно сильно любил ее, чтобы мучить? Она этого не знала, да и не пыталась бы это узнать. Пришлось бы рыться в тайниках его души, а ей туда вовсе не хотелось заглядывать.
Она невольно прошептала:
— Мы хотим, чтобы нас любили, а когда нас любят, то нас или мучат, или надоедают нам.
Вечер заполнили мечтательные раздумья и чтение. Шулетт не возвращался. Ночь постепенно засыпала своим серым пеплом шелковичные деревья Дофине. Г-жа Марме заснула мирным сном, покоясь на самой себе, как на груде подушек. Тереза смотрела на нее и думала: «Право же, она счастлива, ведь она любит свои воспоминания».
Грусть, навеваемая ночью, проникла ей в сердце. А когда над оливковыми рощами взошла луна, Тереза, глядя, как скользят мимо мягкие линии долин и холмов и как текут синие тени, созерцая пейзаж, где все говорило о покое и забвении и ничто не напоминало о ней самой, пожалела о Сене, о Триумфальной арке и расходящихся по радиусам бульварах, об аллеях Булонского леса, где деревья и камни по крайней мере знают ее.
Вдруг в купе со зловещей стремительностью ворвался Шулетт, вооруженный узловатой палкой, с головой, укутанной в какие-то красные шарфы и куски грубого меха. Он чуть не напугал ее. Этого он и хотел. Его резкие повадки и дикое одеяние всегда бывали рассчитаны. Вечно стремясь к ребячески странным эффектам, он любил казаться страшным. Легко поддаваясь испугу, он рад был внушать другим те страхи, которые испытывал сам. За минуту до того, в одиночестве покуривая трубку в коридоре и глядя, как над дельтою Роны в облаках несется луна, он почувствовал беспричинный страх, тот детский страх, что потрясал его душу, восприимчивую и изменчивую. Он пришел к графине Мартен искать успокоения.
— Арль, — проговорил он. — Знаете вы Арль? Вот где чистейшая красота! В монастыре святого Трофима я видел, как голуби садятся на плечи статуй, как маленькие серые ящерицы греются па солнце на гробницах Алискана[48]. Могилы расположены теперь по обе стороны дорожки, ведущей к церкви. Надгробия имеют форму ванн и ночью служат ложем для бедняков. Однажды вечером, гуляя там с Полем Ареном[49], я увидел старуху, которая устилала сухими травами могилу какой-то девушки былых времен, умершей в день свадьбы. Мы пожелали ей спокойной ночи. Она ответила: «Да услышит вас господь. Но уж так угодно злой судьбе — в этом надгробии щель, северный ветер так в нее и задувает. Если бы трещина приходилась с другой стороны, я спала бы, как королева».
Тереза ничего не ответила. Она дремала. И Шулетт вздрогнул от ночного холода, — он боялся смерти.
VIII
Мисс Белл, которая сама правила своей английской тележкой, отвезла графиню Мартен-Беллем и г-жу Марме с флорентийского вокзала дорогой, вьющейся по склонам холмов, к себе во Фьезоле, откуда дом ее, розовый и увенчанный карнизом, глядел на несравненный город. Горничная ехала следом с вещами. Шулетт стараниями мисс Белл был водворен у вдовы пономаря в тени собора Фьезоле, и его ждали только к обеду. Поэтесса, некрасивая и милая, с короткими волосами, в жилете, в мужской рубашке, скрывавшей ее мальчишескую грудь, очень грациозная, с чуть заметными очертаниями бедер, принимала французских друзей в своем доме, отражавшем пылкую изысканность ее вкуса. По стенам гостиной, заключенные в прекрасные золотые триптихи, среди ангелов, патриархов и святых, мирно царили сиенские девы, бледные, с длинными руками. На цоколе стояла Магдалина, закутанная в свои волосы, пугающе худая и старая, словно какая-нибудь нищая с дороги в Пистойю, сожженная солнцем и снежными бурями, со страшной и трогательной правдивостью вылепленная из глины некиим неведомым предшественником Донателло[50]. И повсюду гербы мисс Белл — колокола и колокольчики. Самые большие возвышались бронзовыми глыбами в углах комнаты; другие же, касаясь друг друга, цепью тянулись по низу стен. Те, что поменьше, выстраивались на карнизах. Были они и на печи, и на сундуках, и на ларях. Стеклянные шкафы полны были колоколов — серебряных и золоченых. Большие бронзовые колокола, отмеченные флорентийской лилией, колокольчики времен Возрождения, изображавшие даму в пышных фижмах, колокольчики, что звенели на похоронах, украшенные слезами и мертвыми костями, колокольчики ажурные, покрытые символическими изображениями животных и листьев, звонившие в церквах во времена св. Людовика, настольные колокольчики XVII века со статуэткой вместо ручки, плоские и звонкие колокольчики, какие подвешивают на шею коровам в долинах Рютли, колокола индийские, издающие томный звон под ударом оленьего рога, колокола китайские в форме цилиндра, — все они стекались сюда из всех краев и из всех эпох по таинственному зову маленькой мисс Белл.
— Вы глядите на мои говорящие гербы? — сказала она г-же Мартен, — Мне кажется, что всем этим мисс Белл[51] здесь живется хорошо, и я не слишком буду удивлена, если когда-нибудь они вдруг запоют все вместе. Но восхищаться ими всеми одинаково не следует. Самые чистые и самые горячие похвалы надо сохранить вот для этого колокола.
И, ударив пальцем по темному, гладкому колоколу, который издал тонкий звук, она продолжала:
— Он — праведный селянин пятого столетия. Он — духовное дитя святого Паулина ди Нола, первого, кто заставил небо петь над нашей головой. Он вылит из редкого металла, который называют медью Кампаньи. Скоро я вам покажу рядом с ним очаровательного флорентинца, принца среди колоколов. Его должны привезти. Но я вам, darling, надоедаю этими пустяками. И надоедаю добрейшей госпоже Марме. Это нехорошо.
Она проводила гостей в отведенные для них комнаты.
Час спустя г-жа Мартен, отдохнувшая, свежая, в фуляровом пеньюаре с кружевами, спустилась на террасу, где ждала ее мисс Белл. Влажный воздух, согретый слабым еще, но уже щедрым солнцем, дышал тревожной негой весны. Тереза, облокотясь на перила, погружала взгляд в волны света. У ног ее кипарисы, точно черные веретена, подымали свои острия, а оливковые деревья курчавились на склонах. Флоренция в глубине долины раскинула свои соборы, свои башни и множество красных крыш, за которыми едва угадывалась линия реки Арно. Вдали синели холмы.
Тереза старалась отыскать сады Боболи, где гуляла в первое свое путешествие по Италии, Кашины, которые ей не нравились, палаццо Питти, Санта-Мария-дель-Фьоре. Но чудесная необъятность неба увлекла ее. Она стала следить, как меняется форма плывущих в небе облаков.
После долгого молчания Вивиан Белл протянула руку к горизонту:
— Darling, я не могу, я не умею этого выразить. Но смотрите, darling, смотрите еще. То, что вы видите, — это единственное в мире. Больше нигде нет в природе такой хрупкости, такого изящества и такой тонкости. Бог, создавший холмы Флоренции, был художник. О, он был ювелир, резчик, скульптор, литейщик и живописец; он был флорентинец. Он только это и создал, darling! Все остальное — работа не столь совершенная, создание не столь искусных рук. Неужели этот лиловатый холм Сан-Миньято с такими четкими и чистыми очертаниями мог быть создан творцом Мон-Блана? Это немыслимо. Этот пейзаж, darling, прекрасен, как античная медаль и как драгоценная картина. Он — совершенное и гармоничное произведение искусства. И еще есть нечто такое, чего я тоже не умею выразить, не могу понять, но нечто несомненное. Здесь я себя чувствую, как и вы будете чувствовать себя, darling, наполовину живой, наполовину мертвой; это очень благородное, очень печальное и сладостное состояние. Смотрите, смотрите еще: вы поймете меланхолию этих холмов, окружающих Флоренцию, и вы увидите, как над землею мертвых встает чарующая грусть.
Солнце склонялось к закату. Вершины гасли одна за другой, а в небе пылали облака. Госпожа Марме чихнула.
Мисс Белл велела принести шали и предупредила француженок, что вечера здесь свежие и коварные. И вдруг спросила:
— Darling, вы знакомы с Жаком Дешартром? Ну, так вот он пишет мне, что будет во Флоренции на следующей неделе. Я рада, что господин Дешартр встретится с вами в нашем городе. Он вместе с нами будет посещать храмы и музеи и будет прекрасным чичероне. Он понимает красивые вещи, потому что любит их. И у него чудесный талант скульптора. В Англии его статуями и медалями восхищаются еще больше, чем во Франции. О! я так рада, что Жак Дешартр встретится с вами во Флоренции!
IX
На другой день, когда, выйдя из монастыря Санта-Мария-Новелла, они переходили площадь, где, по образцу римских цирков, были поставлены две мраморные тумбы, г-жа Марме сказала графине Мартен:
— Вот, кажется, господин Шулетт.
Сидя в мастерской сапожника, Шулетт с трубкой в руке делал какие-то ритмические жесты и как будто читал стихи. Башмачник-флорентинец, не переставая орудовать шилом, слушал его с доброй улыбкой. Это был маленький лысый человечек, воплощавший один из типов, частых во фламандской живописи. На столе, среди деревянных колодок, гвоздей, кусков кожи и сгустков вара, подымалась зеленая круглая головка базилика. Воробей, у которого не хватало одной лапки, и вместо нее был вставлен кусок спички, весело прыгал по голове и по плечам старика.
Госпожа Мартен, которую развеселило это зрелище, с порога позвала Шулетта, произносившего тихим певучим голосом какие-то слова, и спросила, почему он не пошел с нею в Испанскую часовню.
Он встал и ответил:
— Сударыня, вы заняты вещами суетными, а я познаю жизнь и правду.
Он пожал руку башмачнику и пошел вместе с дамами.
— По пути в Санта-Мария-Новелла, — сказал Шулетт, — я увидал этого старца; согнувшись над работой и сжимая колодку коленями, словно тисками, он шил грубые сапоги. Я почувствовал, что он добр и простодушен. Я спросил его по-итальянски: «Отец мой, хотите выпить со мной стакан кьянти?» Он согласился. Он пошел за вином и за стаканами, а я сторожил его жилище.
И Шулетт рукой указал на печку, где стояли два стакана и бутылка.
— Когда он вернулся, мы с ним выпили; я говорил ему непонятные и добрые слова и пленил его нежностью их звучания. Я еще вернусь в его лавочку; я буду учиться у него шить сапоги и жить без желаний. Тогда у меня не будет печалей. Ибо только желания и праздность — виновники нашей грусти.
Графиня Мартен улыбнулась:
— Господин Шулетт, у меня нет никаких желаний, а мне все-таки невесело. Может быть, я тоже должна шить сапоги?
Шулетт с важностью ответил:
— Еще не настало время.
Дойдя до садов Оричеллари, г-жа Марме опустилась на скамью. В Санта-Мария-Новелла она успела осмотреть спокойные фрески Гирландайо[52], хоры, мадонну Чимабуэ[53], роспись на стенах монастыря. Она всему этому уделила большое внимание в память своего мужа, который, как говорили, очень любил итальянское искусство. Она была утомлена. Шулетт сел рядом с нею и спросил:
— Сударыня, не можете ли вы мне сказать, — правда, что папа заказывает свои облачения у Ворта?[54]
Госпоже Марме это казалось маловероятным. Однако Шулетт слышал об этом в кафе. Г-жу Мартен удивило, что Шулетт, католик и социалист, так непочтительно отзывается о папе, дружественном республике. Но он не любил Льва XIII[55].
— Мудрость государей близорука, — сказал он. — Спасение принесет Церкви итальянская республика, как думает и хочет Лев Тринадцатый, но произойдет это не так, как предполагает наш благочестивый Макиавелли[56]. Революция лишит папу его незаконного достояния и всех его владений. И это будет благо. Папа, разоренный, нищий, станет могуществен. Он всколыхнет мир. Мы вновь увидим Петра, Лина, Клета, Анаклета и Климента[57], смиренных, невежественных святых первых дней христианства, которые изменили лицо земли. Если завтра свершится невозможное и на престол Петра воссядет настоящий пастырь, настоящий христианин, я приду к нему и скажу: «Не уподобляйтесь тому старцу, что заживо похоронил себя в золотой могиле, бросьте ваших камерариев, вашу почетную стражу и ваших кардиналов, оставьте ваш двор и знаки власти. Возьмите меня за руку, и пойдемте вымаливать хлеб у народов. В лохмотьях, нищий, больной, умирающий, идите по дорогам, являя собой образ Христа. Говорите: „Я прошу хлеба в осуждение богатым!“ Входите в города и божественно-бесхитростно возглашайте у каждой двери: „Будьте смиренны, будьте кротки, будьте бедны!“ В мрачных городах, в притонах и казармах возвещайте мир и милосердие. Вас будут презирать, в вас будут бросать каменья. Полицейские потащут вас в тюрьму. Для слабых, как и для могучих, для бедных, как и для богатых, вы станете посмешищем, будете вызывать презрение и жалость. Ваши священники низложат вас и натравят на вас антипапу. Все скажут, что вы безумны. И это должно оказаться правдой, вы должны стать безумцем: безумцы спасли мир. Люди наденут па вас терновый венец, дадут вам скипетр из тростника, будут плевать вам в лицо, и лишь по этому все узнают, что вы — Христос и истинный царь, и лишь такими путями вы сможете установить социализм христианский, который есть царствие божие на земле».
Проговорив это, Шулетт закурил длинную, крючковатую итальянскую сигару с соломинкой посредине. Он выпустил несколько клубов смрадного дыма, потом спокойно продолжал:
— И это было бы практично. Мне во всем можно отказать, кроме весьма трезвого взгляда на положение вещей. Ах, госпожа Марме, вы никогда не оцените, до чего правильна мысль, что в нашем мире все великие дела всегда совершали безумцы. Неужели вы думаете, госпожа Мартен, что Франциск Ассизский, будь он благоразумен, излил бы на землю для отдохновения народов живую воду милосердия и все ароматы любви?
— Не знаю, — ответила г-жа Мартен. — Но люди благоразумные казались мне всегда очень скучными. Вам-то я могу в этом признаться, господин Шулетт.
Во Фьезоле они возвращались трамваем, который в этом месте взбирается на холм. Пошел дождь. Г-жа Марме заснула, а Шулетт стал сокрушаться. Все беды сразу обрушились на него: от сырости у него возникла боль в колене, и он не мог согнуть ногу; его саквояж, затерявшийся накануне при переезде из города во Фьезоле, все не находился, и то было непоправимое несчастие; в одном из парижских журналов появилось его стихотворение, искаженное непомерным количеством пропусков и чудовищных опечаток.
Он обвинял людей и обстоятельства в том, что они ему враждебны и пагубны для него. Он вел себя ребячливо, нелепо, отвратительно. Г-жа Мартен, огорченная и Шулеттом и дождем, думала, что подъему никогда не будет конца. Когда она возвратилась в обитель колоколов, мисс Белл в гостиной, выводя золотыми чернилами альдинские буквы[58], переписывала на листе пергамента сочиненные ночью стихи. Когда ее приятельница вошла в комнату, она подняла свою маленькую некрасивую головку, озаренную жгучим светом чудесных глаз.
— Darling, позвольте представить вам князя Альбертинелли.
Князь, прислонившись к печи, стоял, как юный бог, во всей своей красе, которую густая черная борода делала более мужественной. Он поклонился.
— При виде вас, графиня, мы полюбили бы Францию, если бы этого чувства не было еще в наших сердцах.
Графиня и Шулетт попросили мисс Белл прочесть им стихи, которые та переписывала. Она извинилась, что ей, иностранке, придется своими неуверенными ритмами тревожить слух французского поэта, которого она после Франсуа Вийона[59] чтит превыше всего; потом милым свистящим, словно птичьим, голоском прочла:
И тогда у подножья скалы, где журчащий родник Серебристой наядою к Арно бежит напрямик И алмазной волною, смеясь, обдает камыши, Двое чистых детей обручились в зеленой глуши. И в сердца их влилось несказанное счастье любви, Как родник, приносящий к подножию волны свои. Звали девушку Джеммой. Но юноши имя для нас По случайности злой неизвестным оставил рассказ. В козьих зарослях, в чащах запутанных целые дни Без конца сочетали и руки и губы они, А когда опускались лиловые тени на мох, Наступающий вечер всегда заставал их врасплох. И, уста разлучив, несговорчивость ночи кляня, Возвращались в свой город они с окончанием дня. Средь бездушной толпы, не скрываясь, под сотнями глаз В безысходности счастья случалось им плакать не раз, И все чаще и чаще являлось сознание к ним, Что для них этот мир равнодушьем своим нестерпим. Средь зеленых лугов, где, сожженные страстью дотла, Словно ветви, сплетали они в исступленье тела, Рос диковинный куст: как омытые кровью клинки, Меж колючей листвы разбросал он свои лепестки. Пастухи ему дали названье «Молчанья цветок». Знала Джемма, что дивную силу таит его сок, Что в одной его капле великий покой заключен, Бесконечная тишь, вековечный, божественный сон. И однажды, смеясь под раскидистой тенью куста, Лепесток она другу беспечно вложила в уста, А когда, улыбаясь, уснул он, без мук, без тревог, Надкусила сама горьковатый на вкус стебелек И, бледна, бездыханна, к любимому пала на грудь… Ввечеру голубки прилетели над ними всплакнуть, — Но ни птицы, ни ветер, ни дождь, ни речная волна Потревожить уже не могли их любовного сна.[60]— Очень красиво, — сказал Шулетт, — и это Италия, чуть подернутая туманами Фулы.
— Да, — заметила графиня Мартен, — красиво. Но почему, дорогая моя Вивиан, вашим прекрасным невинным детям захотелось умереть?
— Ах, darling, да потому, что они были так счастливы, как только возможно, и уже больше ничего не желали. Это было безнадежно, darling, безнадежно. Как вы этого не понимаете?
— А вы думаете, что мы живем только потому, что еще надеемся?
— О да, мы живем, darling, в ожидании того, что Завтра, неведомое Завтра, царь волшебной страны, принесет в своем черном или синем плаще, усеянном цветами, звездами, слезами. Oh! bright king To-Morrow![61]
X
Все уже переоделись к обеду. Мисс Белл в гостиной рисовала чудовищ в манере Леонардо. Она создавала их, желая узнать, что они скажут ей потом, вполне уверенная, что они заговорят и в причудливых ритмах выразят изысканные мысли. Она же будет слушать их. Так она чаще всего находила путь к своим стихам.
Князь Альбертинелли напевал у рояля сицилиану: «О Лола!» Его мягкие пальцы чуть касались клавиш.
Шулетт, еще более грубый, чем обычно, требовал ниток и иголок, собираясь штопать свою одежду. Он сокрушался, что потерял скромный маленький несессер, который целых тринадцать лет носил в кармане и который был дорог ему прелестью воспоминаний и мудростью советов, полученных от него. Он думал, что потерял его в одной из полных суетного блеска зал палаццо Питти; эту потерю он ставил в вину дому Медичи[62] и всем итальянским художникам.
На мисс Белл он бросал недобрые взгляды:
— А вот я сочиняю стихи, когда зашиваю свои лохмотья. Мне приятно самому трудиться… Я распеваю свои песни, подметая комнату, — вот почему эти песни нашли доступ к людским сердцам, подобно старинным песням пахарей и ремесленников: те песни еще прекраснее моих, но не превосходят их простотою. Моя гордость в том, что я не желаю никаких слуг, кроме самого себя. Вдова пономаря предлагала мне чинить мое тряпье. Я ей не позволил. Это дурно — заставлять других рабски исполнять такие дела, которыми мы по доброй воле можем заниматься и сами.
Князь беспечно наигрывал беспечный мотив. Тереза, уже целую неделю бегавшая по церквам и музеям в обществе г-жи Марме, размышляла о том, какую скуку нагоняет на нее спутница, то и дело обнаруживая в изображениях старых мастеров черты сходства с кем-нибудь из своих знакомых. Утром, в палаццо Рикарди, на одних только фресках Беноццо Гоццоли[63] г-жа Марме узнала г-на Гарена, г-на Лагранжа, г-на Шмоля, княгиню Сенявину в костюме пажа и г-на Ренана верхом. Ее самое пугало, что всюду она видит г-на Ренана. Мысли ее с легкостью, раздражавшей ее приятельницу, все возвращались к тесному кружку академиков и светских людей. Она говорила нежным голосом о публичных заседаниях Академии, о лекциях в Сорбонне, о вечерах, на которых блистали светские философы-спиритуалисты. Что касается дам, то все они, по ее мнению, были очаровательны и безупречны. Она обедала у них у всех. И Тереза думала: «Уж слишком она осмотрительна, добрейшая госпожа Марме. Надоела она мне». И она раздумывала о том, как будет оставлять г-жу Марме во Фьезоле и одна осматривать церкви. Пользуясь выражением, усвоенным от Ле Мениля, она мысленно сказала себе: «Посею-ка я госпожу Марме».
В гостиную вошел стройный старик. По его нафабренным усам и седой бородке можно было бы принять его за старого военного. Но за очками чувствовалась умная мягкость взгляда, присущая глазам, состарившимся от занятий наукой и от житейских наслаждений. То был флорентинец, друг мисс Белл и князя, профессор Арриги, некогда обожаемый женщинами, а теперь — знаменитый в Эмилии и Тоскане благодаря своим трудам о земледелии.
Он сразу понравился графине Мартен; она, хоть и не была высокого мнения о сельской жизни в Италии, не преминула расспросить профессора о его методах и о результатах, которых он добивается.
Он действовал с осмотрительной энергией.
— Земля, — сказал он, — подобна женщинам: она хочет, чтобы с нею были не робки и не грубы.
«Ave, Maria», прозвучавшее со всех колоколен, превратило небо в необъятный орган.
— Darling, — сказала мисс Белл, — замечаете ли вы, что во Флоренции самый воздух звонок и весь серебрится по вечерам от звуков колоколов?
— Странно, — сказал Шулетт. — Поглядеть на нас — можно подумать, что мы кого-то ждем.
Вивиан Белл ответила ему, что действительно еще ждут г-на Дешартра. Он немного опаздывает, и она боится, что он не поспел к поезду,
Шулетт подошел к г-же Марме и весьма торжественно проговорил:
— Госпожа Марме, можете ли вы смотреть на дверь, обыкновенную крашеную деревянную дверь, вроде вашей (я делаю предположение, что она такая), или моей, или вот этой, или любой другой, и не испытывать страха и ужаса при мысли о посетителе, который каждую минуту может войти? Дверь нашего жилища, госпожа Марме, открывается в бесконечность. Случалось ли вам думать об этом? Знаем ли мы вообще истинное имя того или той, кто в человеческом образе, с знакомым нам лицом, в обычной одежде, входит к нам?
Сам он, когда сидел, запершись у себя в комнате, не в силах был взглянуть на дверь — от страха волосы подымались у него на голове.
Но г-жа Марме без всякого испуга смотрела, как отворяются двери в ее гостиную. Она знала имена всех тех, что приходил к ней: все это были очаровательные люди.
Шулетт с грустью поглядел на нее и покачал головой:
— Госпожа Марме, госпожа Марме, у тех, кого вы называете их земными именами, есть имена иные, которых вы не знаете, и это их истинные имена.
Госпожа Мартен спросила Шулетта, считает ли он, что несчастье может проникнуть в дом только через дверь.
— Оно изобретательное и ловкое. Оно входит в окно, проникает сквозь стены. Оно не всегда показывается, но всегда тут. Бедные двери нисколько не виноваты, что появляется этот злой гость.
Шулетт строго заметил г-же Мартен, что нельзя называть злым гостем несчастье.
— Несчастье — наш величайший учитель и лучший наш друг. Это оно учит нас смыслу жизни. Когда вам, милостивые государыни, придется изведать страдание, вы узнаете то, что надо узнать, вы поверите в то, во что надо верить, вы станете тем, чем надо быть. И вам дана будет радость, которую удовольствия гонят прочь. Радость застенчива, и среди празднеств ей не по себе.
Князь Альбертинелли сказал, что мисс Белл и ее французским приятельницам не требуется быть несчастными, чтобы быть совершенными, и что учение о совершенствовании путем страданий — это варварская жестокость, ненавистная прекрасному небу Италии. Потом, среди вяло тянувшегося разговора, он снова стал осторожно подбирать на рояле фразы грациозной и банальной сицилианы, опасаясь, как бы не сбиться на арию из «Трубадура»[64] того же ритма.
Вивиан Белл шепотом вопрошала чудовищ, созданных ею, и жаловалась на нелепость и насмешливость их ответов.
— Сейчас, — говорила она, — мне бы хотелось послушать персонажей с гобеленов, которые роняли бы слова такие же смутные, старинные и драгоценные, как сами они…
А красавец князь, увлеченный теперь волнами мелодии, пел. Его голос ширился, распускался, как павлиний хвост, чванился и замирал в томных возгласах «ах! ах! ах!».
Добрейшая г-жа Марме, поглядев на стеклянную дверь, сказала:
— Вот, кажется, господин Дешартр.
Мисс Белл встретила его своим птичьим щебетанием:
— Господин Дешартр, нам не терпелось вас увидеть. Господин Шулетт дурно отзывался о дверях… да, о дверях, какие есть в каждом доме, а также говорил, что несчастье весьма любезный старый джентльмен. Вы пропустили все эти прекрасные вещи. Вы долго заставили себя ждать, господин Дешартр. Почему?
Он извинился: он только успел заехать в гостиницу и чуть-чуть привести себя в порядок. Он даже не навестил еще своего верного доброго друга, бронзового святого Марка, такого трогательного в своей нише у стены Ор-Сан-Микеле. Поэтессе он сказал несколько комплиментов и еле скрыл свою радость, здороваясь с графиней Мартен.
— Перед тем как уехать из Парижа, я собрался к вам с визитом на набережную Бильи и там узнал, что вы решили встречать весну во Фьезоле у мисс Белл. Тогда у меня явилась надежда увидеть вас в этих местах, которые мне дороги больше, чем когда бы то ни было.
Она спросила, не заезжал ли он сперва в Венецию, не смотрел ли он опять в Равенне на окруженных ореолом императриц, на блистательные призраки.
Нет, он нигде не задерживался.
Она ничего не сказала.
Ее взгляд был неподвижно устремлен в тот угол, где висел колокол св. Паулина. Он спросил ее:
— Вы смотрите на колокол из Нолы?
Вивиан Белл оставила свои бумаги и карандаши.
— Вы скоро увидите чудо, которое поразит вас еще больше, господин Дешартр. Мне достался во владение король всех маленьких колоколов, Я нашла его в Римини, в разрушенной давильне, которая служит теперь складом; я там хотела раздобыть куски старого дерева; пропитавшись маслом, оно делается с годами таким твердым, таким темным и блестящим. Я купила этот колокол и велела упаковать его при себе. Я его жду, я умираю от нетерпения. Вот вы увидите. На нем изображен распятый Христос между богоматерью и апостолом Иоанном, стоит дата — тысяча четырехсотый год — и герб рода Малатеста. Господин Дешартр, вы слушаете недостаточно внимательно. В тысяча четырехсотом году Лоренцо Гиберти[65], спасаясь от войны и от чумы, скрылся в Римини у Паоло Малатеста. Ему, наверно, и принадлежит изображение на моем колоколе. И вот на будущей неделе вы увидите работу Гиберти.
Слуга доложил, что кушать подано.
Она извинилась, что угостит их обедом чисто итальянским. Повар ее, житель Фьезоле, — поэт.
За столом, перед плоскими бутылками, оплетенными кукурузной соломой, они говорили о блаженном XV веке, который был им так дорог. Князь Альбертинелли восхвалял художников того времени за их всесторонность, за ту страстную любовь, с которой они относились к своему искусству, и за гений, пламеневший в них. Он говорил приподнятым и вкрадчивым тоном.
Дешартр тоже восхищался ими. Но восхищался по-иному.
— Чтобы воздать достойную похвалу этим людям, которые, начиная с Джотто и кончая Мазаччо[66], трудились с таким рвением, надо быть скромным и точным в оценке. Прежде всего надо было бы показать их в мастерской, в лавке, где они жили как простые ремесленники. Видя их там за работой, мы оценили бы простоту их и дарование. Они были невежественны и кротки. Они мало читали и мало что видели. Холмы, окружающие Флоренцию, замыкали горизонт их взгляда и души. Они знали лишь свой город, Священное писание и несколько обломков античных статуй, которые с любовью изучали и лелеяли.
— Правильно сказано, — заметил профессор Арриги. — Они заботились только о том, чтобы применять самые лучшие приемы. Все их помыслы были заняты тем, как приготовить масло, как лучше растереть краски. Тот, кому пришло в голову наклеить полотно на доску, чтобы живопись не трескалась вместе с деревом, прослыл человеком необыкновенным. У каждого мастера были свои рецепты и свои формулы, и он тщательно их скрывал.
— Блаженные времена, — продолжал Дешартр, — когда люди не имели даже представления о той оригинальности, которую мы так жадно ищем теперь. Ученик старался делать то же, что мастер. Он только и стремился быть похожим на него и лишь невольно проявлял свое отличие от других. Они трудились не для славы, а для того, чтобы жить.
— И они были правы, — сказал Шулетт. — Нет ничего лучше, как трудиться для того, чтобы жить.
— Их не тревожило желание прославиться в потомстве, — продолжал Дешартр. — Не зная прошлого, они не представляли себе и будущего, и их мечты не выходили за грань их жизни. У них было твердое намерение — делать как можно лучше. Полные простоты, они не особенно ошибались и видели ту правду, которую от нас скрывает наш ум.
Меж тем Шулетт начал рассказывать г-же Марме о том, как он сегодня был с визитом у принцессы из французского королевского рода, к которой у него имелось рекомендательное письмо от маркизы де Рие. Ему приятно было дать им почувствовать, что он, бродяга, человек богемы, был принят этой принцессой, к которой не были бы допущены ни мисс Белл, ни графиня Мартен; встречей с ней на какой-то церемонии гордился сам князь Альбертинелли.
— Она в точности исполняет все обряды, — заметил князь.
— В ней поражают благородство и простота, — сказал Шулетт. — У себя в доме, окруженная кавалерами и дамами своей свиты, она требует соблюдения строжайшего этикета, чтобы самое ее величие было покаянием, и каждое утро моет пол в церкви. Это сельская церковь, куда заходят куры, пока священник с пономарем играют в брисколу.
Наклонившись над столом, Шулетт с салфеткой в руках изобразил скорчившуюся поломойку. Потом, подняв голову, он торжественно проговорил:
— После надлежащего ожидания в нескольких гостиных меня допустили приложиться к ее руке.
И замолчал.
Госпожа Мартен, уже терявшая терпение, спросила:
— Что же в конце концов она сказала вам, эта принцесса, поражающая своим благородством и простотой?
— Она спросила меня: «Осматривали ли вы Флоренцию? Меня уверяют, что недавно там открылись прекрасные магазины, и по вечерам они освещаются». И еще она мне сказала: «Здесь у нас превосходный аптекарь. Даже австрийские ничуть не лучше. Полтора месяца назад он положил мне на ногу пластырь, который держится и до сих пор». Вот слова, которых меня удостоила Мария-Терезия. О величественная простота! о христианская добродетель! о дщерь святого Людовика! о чудесные отзвуки голоса пресвятой Елизаветы Венгерской![67]
Госпожа Мартен улыбнулась. Она подумала, что Шулетт издевается. Но он был возмущен таким предположением. И мисс Белл тоже находила, что ее подруга не права. По мнению мисс Белл, французы во всем склонны видеть насмешку.
Потом опять заговорили об искусстве, которое в этом краю вдыхаешь вместе с воздухом.
— Что до меня, — сказала графиня Мартен, — то я недостаточно искушена, чтобы восхищаться Джотто и его школой. А в искусстве пятнадцатого века, которое называют христианским, меня поражает чувственность. Благочестие и чистоту я видела только в произведениях Фра Анжелико[68], тоже, правда, очень красивых. Все же остальное, все эти мадонны и ангелы исполнены сладострастия, томной неги, а порой и наивной извращенности. Что в них духовного, в волхвах, прекрасных, как женщины, в святом Себастиане[69], блистающем молодостью, в этом страждущем христианском Вакхе?
Дешартр ответил ей, что думает то же самое и что они, наверное, правы, поскольку Саванарола[70] разделял это мнение, ни в одном произведении искусства не находил благочестия и хотел сжечь их все.
— Во Флоренции, — сказал он, — в пору этого великолепного полумусульманского Манфреда[71] уже встречались люди, будто бы принадлежавшие к секте Эпикура и искавшие доказательств против бытия бога. Красавец Гвидо Кавальканти[72] презирал невежд, верящих в бессмертие души. Ему приписывалось изречение: «Смерть человека во всем подобна смерти животного». Позднее, когда античная красота восстала из могил, христианское небо показалось унылым. Художники, работавшие в церквах и в монастырях, не были ни набожны, ни целомудренны. Перуджино[73] был атеист и не скрывал этого.
— Да, — сказала мисс Белл, — но говорят, что у него был крепкий лоб и что божественные истины не могли проникнуть сквозь его толстый череп. Он был черств и скуп и всецело погружен в материальные заботы. Он думал лишь о покупке домов.
Профессор Арриги взял под свою защиту Пьетро Вануччи из Перуджи.
— То был, — сказал он, — честный человек. И настоятель иезуитского монастыря во Флоренции напрасно не доверял ему. Этот монах занимался приготовлением ультрамариновой краски из толченой и переженной ляпис-лазури. Ультрамарин ценился в то время на вес золота, а настоятель, владевший, наверно, особыми секретами, считал свой ультрамарин драгоценнее рубинов и сапфиров. Он пригласил Пьетро Вануччи расписать оба храма в своем монастыре и ждал чудес не столько от искусства художника, сколько от красоты этого ультрамарина, когда он разольется по сводам. Все время, пока живописец трудился в храмах над изображением жизни Иисуса Христа, настоятель находился рядом с ним и подавал ему драгоценный порошок в мешочке, который ни на минуту не выпускал из рук. Пьетро черпал из него на глазах у святого отца и, прежде чем притрагиваться к штукатурке кистью, обмакивал ее, полную краски, в чашечку с водой. Таким образом он изводил большое количество порошка. И добрый настоятель, видя, как истощается и пустеет его мешочек, вздыхал: «Боже, сколько ультрамарина пожирает известь!» Когда фрески были закончены, Перуджино получил от монаха условленную плату и вручил ему пакетик с синим порошком: «Это ваше, отец мой. Ультрамарин, который я брал кистью, опускался на дно чашечки, и я каждый день его собирал. Я возвращаю вам его. Учитесь доверять честным людям».
— Нет ничего необыкновенного в том, что Перуджино был скуп и честен, — сказала Тереза. — Далеко не всегда люди корыстные бывают самыми недобросовестными. Есть много честных скупцов.
— Разумеется, darling, — сказала мисс Белл. — Скупые ни у кого не желают быть в долгу, а расточителей долги не смущают. Они не думают о деньгах, которые у них есть, и еще меньше о тех, которые они должны. Я не говорила, что Пьетро Вануччи из Перуджи был человек нечестный. Я сказала, что у него был крепкий лоб и что он покупал дома, много домов. Я очень рада узнать, что он вернул настоятелю ультрамарин.
— Раз ваш Пьетро был богат, — сказал Шулетт, — он должен был отдать ультрамарин. Богатые нравственно обязаны быть честными, а бедные не обязаны.
В эту минуту к нему подошел дворецкий с серебряной чашей, уже наклоняя над ней кувшин, наполненный душистой водой. То был чеканный сосуд, а у чаши было двойное дно, и по обыкновению, которому в подражание древним следовала мисс Белл, ими после трапезы обносили гостей.
Но Шулетт и кончиков пальцев не протянул под предлогом, что не желает повторять жест Пилата, на самом же деле потому, что не любил мыть руки.
И он с суровым видом встал из-за стола следом за мисс Белл, которая вышла из столовой под руку с профессором Арриги.
В гостиной, разливая кофе, она сказала:
— Господин Шулетт, почему вы обрекаете нас на унылое, дикарское равенство? Почему? Плохо пела бы флейта Дафниса[74], если б сделана была из семи одинаковых палочек тростника. Вы хотите разрушить прекрасную гармонию между господином и слугами, между аристократом и ремесленниками. О господин Шулетт, вы же варвар. Вы чувствуете жалость к убогим и не знаете жалости к божественной Красоте, которую изгоняете из этого мира. Вы отвергаете ее, господин Шулетт, вы гоните ее прочь, нагую и плачущую. Будьте уверены — она не останется на земле, когда бедные людишки все станут слабыми, хилыми, невежественными. Разрушать те прихотливые сочетания, какие составляют в обществе люди различных положений, смиренные и власть имущие, — это значит быть врагом и бедных и богатых, это значит быть врагом рода человеческого.
— Враги рода человеческого! — возразил Шулетт, кладя сахар в кофе, — так жестокий римлянин[75] называл христиан, проповедовавших ему любовь.
Дешартр тем временем, сидя подле г-жи Мартен, расспрашивал ее о ее вкусах в области искусства и взглядах на красоту, поддерживал их, направлял, поощрял ее восторги, порою с нежной порывистостью старался внушить ей свое мнение, желая, чтоб она увидела все, что он видел, полюбила все, что он любит.
Ему хотелось также, чтобы она уже самой ранней весной начала прогулки по садам Флоренции. Он уже сейчас мысленно любовался ею на одной из этих красивых террас, видел, как лучи света играют на ее затылке, в ее волосах, как тень от лавровых деревьев падает ей на глаза, смягчая их блеск. Земля и небо Флоренции, казалось ему, только для того и существуют, чтобы служить украшением этой молодой женщине.
Он хвалил ее за простоту, с которой она одевается и которая гармонирует с ее фигурой и ее грацией, за очаровательную легкость линий, пленявшую при каждом ее движении. Он говорил, что любит такие туалеты, обдуманные, смелые, носящие отпечаток души самой женщины, полные свежести и изящества, — ведь их видишь так редко, но их не забываешь.
Она, хоть и привыкла к лести, никогда не слышала похвал, которые доставили бы ей такое удовольствие. Она знала, что одевается очень хорошо, со вкусом смелым и уверенным. Но за исключением отца ни один мужчина не делал ей на этот счет комплиментов, изобличающих ценителя. Она думала, что мужчины способны лишь ощутить эффект, производимый нарядом, но не понимают его искусно изобретенных деталей. Иные среди них, понимавшие толк в платьях, вызывали в ней отвращение своим женоподобным обликом и двусмысленностью вкусов. Она примирилась с тем, что изящество в туалете умеют ценить только женщины, но они проявляют при этом мелочность, недоброжелательность и зависть. Восхищение Дешартра, художника и мужчины, поразило ее и понравилось ей. Она с удовольствием приняла его похвалы, которые отнюдь не показались ей слишком фамильярными или даже нескромными.
— Так, значит, вы обращаете внимание на туалеты, господин Дешартр?
Нет, он не обращает на них внимания. Так редко приходится видеть женщин, умеющих одеваться, даже в наше время, когда женщины одеваются лучше, чем когда бы то ни было! Ему не доставляет удовольствия смотреть на ходячую безвкусицу. Но когда перед ним проходит женщина, владеющая даром ритма и гармонией линий, он благословляет ее.
Он продолжал голосом несколько более громким:
— Когда я думаю о женщине, которая каждый день заботится о своем наряде, я думаю и о том, какой поучительный урок она дает художникам. Она одевается и причесывается ради каких-то нескольких часов, и труд этот не напрасен. Подобно ей, мы должны украшать жизнь, не размышляя о будущем. Заниматься живописью, ваянием, литературой для потомства — глупость и тщеславие.
— Господин Дешартр, — спросил князь Альбертинелли, — что бы вы сказали о лиловом пеньюаре с серебряными цветами для мисс Белл?
— Я так мало думаю о будущей земной жизни, — заметил Шулетт, — что самые лучшие свои стихи написал на листках папиросной бумаги. Они быстро развеялись, дав моим стихам лишь некое метафизическое бытие.
Но он только притворялся таким беспечным. В действительности он не потерял ни одной написанной строчки. Дешартр был искреннее. Он не стремился к посмертной славе. Мисс Белл стала порицать его за это.
— Господин Дешартр, чтобы дать жизни величие и полноту, надо вдохнуть в нее и прошлое и будущее. Произведения искусства и поэзии мы должны создавать в память мертвых и с мыслью о тех, кто еще родится. Так мы приобщимся к тому, что было, что есть и что будет. Вы не хотите быть бессмертным, господин Дешартр. Берегитесь, как бы бог не услышал вас.
Он ответил:
— С меня достаточно пожить еще немного.
И он откланялся, обещая прийти завтра пораньше, чтобы сопровождать г-жу Мартен в капеллу Бранкаччи.
Час спустя в комнате, отражавшей эстетические пристрастия хозяйки, — стены там были обтянуты штофом, на котором лимонные деревья с огромными золотыми плодами, словно в феерии, сливались в целый лес, — Тереза, положив голову на подушку и закинув за голову прекрасную обнаженную руку, размышляла при свете лампы; перед нею смутно витали образы ее новой жизни: Вивиан Белл со своими колоколами; легкие, как тени, образы на картинах прерафаэлитов — одинокие, равнодушные дамы и кавалеры, участники благочестивых сцен, грустным взглядом встречавшие тех, кто входил в гостиную, а от этого более милые и более дружественные в своей безмятежной дремоте; вечером, на вилле во Фьезоле — князь Альбертинелли, профессор Арриги, Шулетт, оживленный разговор, причудливая игра мыслей, и Дешартр с молодыми глазами и немного усталым лицом, которому смуглый цвет кожи и острая бородка придавали что-то африканское.
Она подумала, что у него обаятельная фантазия и такая богатая душа, какая никогда ей не встречалась, и что она более не в силах противиться его очарованию. Она сразу признала за ним умение нравиться. Теперь же она видела, что у него есть и желание к тому. Эта мысль была для нее наслаждением: она закрыла глаза, словно затем, чтобы удержать ее. И вздрогнула.
Где-то в таинственной глубине своего существа она почувствовала вдруг глухой удар, мучительный толчок. Внезапно ей представился ее друг, идущий по лесам с ружьем под мышкой. Он твердым и размеренным шагом удалялся в глубину просеки. Она не могла увидеть его лица, и это мучило ее. Она больше не сердилась на него, не была им недовольна. Она была теперь недовольна собой. А Робер шел прямо вперед, не поворачивая головы, дальше, все дальше, пока не стал маленькой черной точкой в оголенном лесу. Она обвиняла себя в том, что была резкой, капризной, жестокой, что рассталась с ним не простившись, даже не написав ему. Ведь это ее друг, ее единственный друг. Другого у нее никогда не было. Она подумала: «Я не хотела бы, чтобы он был несчастен из-за меня».
Мало-помалу она успокоилась. Он несомненно любит ее, но он не особенно чуток и, к счастью, не склонен изобретать поводы для беспокойства и терзаний. Она решила: «Он охотится. Он доволен. Он повидает свою тетку де Ланнуа, которой так восхищается…» Тревога ее улеглась, и Тереза вновь отдалась чарам Флоренции.
В палаццо Уффици, куда она ходила одна, ее, казалось, сразу же поразил маленький Геракл кисти Антонио Поллайоло[76]. На самом же деле она заинтересовалась им только в тот день, когда случайно в разговоре с нею Дешартр высоко оценил силу рисунка, красоту пейзажа и прелесть полутени в этой картине, уже предвещающей искусство да Винчи. И теперь, плохо припоминая маленького Геракла, она со жгучим нетерпением захотела снова взглянуть на него. Она погасила лампу и уснула.
Под утро ей приснилось, что в пустынной церкви она встретила Робера Ле Мениля, закутанного в меховую шубу, какой она никогда не видела на нем. Он ожидал ее, но целая толпа священников и молящихся вдруг разделила их. Она не знала, что с ним сталось, не могла увидеть его лица, и это пугало ее. Проснувшись, она услышала за окном, которое оставила открытым, грустный и монотонный крик и в молочных лучах рассвета увидела летящую ласточку. И тут без всякого повода, без всякой причины она заплакала.
XI
Было еще рано, когда она, не без удовольствия, с тонким и скрытым тщанием принялась одеваться. Туалетная, с ее глиняной посудой, покрытой грубой глазурью, с большими медными кувшинами и шашками изразцового пола — плод художественной фантазии Вивиан Белл, — походила на кухню, но кухню сказочную. Все здесь было как раз настолько просто и необыкновенно, чтобы графиня Мартен с приятным удивлением могла почувствовать себя принцессой из «Ослиной Шкуры»[77]. Пока горничная причесывала ее, она слышала голоса Дешартра и Шулетта, разговаривавших под окнами. Она заново уложила волосы, причесанные Полиной, и смело открыла прекрасную линию затылка. В последний раз взглянув на себя в зеркало, она спустилась в сад.
В саду, засаженном, наподобие мирного кладбища, тисовыми деревьями, Дешартр декламировал, глядя на панораму Флоренции, стихи Данте: «В тот час, когда наш дух, все боле чуждый плоти…»
Подле него на балюстраде террасы сидел Шулетт и, свесив ноги, уткнувшись носом в бороду, вырезал на своем посохе, посохе бродяги — голову Нищеты.
А Дешартр повторял созвучия терцин: «В тот час, когда себя освободив от дум и сбросив тленные покровы, наш разум как бы вещепрозорлив…»
Тереза в платье цвета соломы, прикрываясь зонтиком, пошла к ним вдоль живой изгороди из подстриженного самшита. Прозрачное зимнее солнце окутывало ее бледно-золотым сиянием.
Дешартр приветствовал ее, и в его голосе послышалась радость.
Она сказала:
— Вы читаете стихи, которых я не знаю. Я знаю только Метастазио[78]. Мой учитель итальянского языка очень любил Метастазио, но любил только его одного. Что это за час, когда наш разум веще-прозорлив?
— Это час рассвета, графиня. Но это может быть и заря веры и любви.
Шулетт сомневался, что поэт имел в виду утренние сны; при пробуждении они оставляют резкое, порою мучительное чувство и при этом вовсе не чужды плоти. Но Дешартр процитировал эти строки, очарованный золотом зари, которую он нынче утром увидел над бледно-желтыми холмами. Его давно уже занимали образы, возникающие во сне, и он думал, что образы эти относятся не к тому, что более всего волнует нас, а напротив — к мыслям, отвергнутым в течение дня.
И тут Тереза вспомнила свой утренний сон — охотника, исчезающего в глубине просеки.
— Да, — говорил Дешартр, — то, что мы видим ночью, — это печальные останки того, чем мы пренебрегли накануне. Сны — это нередко месть со стороны чего-нибудь, что мы презираем, или упрек покинутых нами существ. Вот откуда неожиданность снов, а иногда их печаль.
Она задумалась на миг и сказала:
— Может быть, это и так.
Потом весело спросила Шулетта, закончил ли он портрет Нищеты на набалдашнике своей палки. Эта Нищета успела превратиться в изображение Милосердия, и Шулетт уже видел в нем мадонну. Он даже сочинил четверостишие, чтобы спиралью подписать его внизу, четверостишие нравственное и дидактическое. Он не желал теперь писать иначе, как в духе заповедей божьих, переложенных французскими стихами. Четверостишие принадлежало к этому простому и превосходному жанру. Он согласился его прочитать:
У подножья креста с тяжкой ношей земною Преклоняюсь в слезах; плачь и веруй со мною! Ведь под этим крестом, под святой его сенью Бытие твое, смерть твоя и воскресенье![79]Так же, как в день своего приезда, Тереза облокотилась на балюстраду террасы и стала искать вдали, в море света, вершины Валломброзо, почти столь же прозрачные, как самое небо. Жак Дешартр смотрел на нее. Ему казалось, что он видит ее впервые — такое тонкое совершенство открывалось ему в чертах этого лица, на котором жизнь и деятельность души оставили свой след, не нарушив его юной и свежей прелести. Солнечный свет, любимый ею, был к ней благосклонен. Она была поистине хороша, овеянная тем легким воздухом Флоренции, что ласкает прекрасные формы и питает благородные мысли. Нежный румянец окрашивал ее мягко очерченные щеки. Голубовато-серые глаза смеялись, а когда она говорила, зубы ее блестели яркой белизной. Он охватил взглядом ее изящную грудь, полные бедра, смелый изгиб стана. Левой рукой она держала зонтик, а правой играла букетиком фиалок. Дешартр испытывал особое пристрастие к красивым рукам, любил их до безумия. Руки представлялись ему столь же выразительными, как и лицо, имели в его глазах свой характер, свою душу. Руки Терезы восхищали его. Он видел в них сочетание чувственного с духовным. В их наготе ему чудилось сладострастие. Его приводили в восторг эти точеные пальцы, розовые ногти, слегка полные нежные ладони, пересеченные изящными, как арабески, линиями и переходящие у основания пальцев в округлые холмики. Очарованный, он не сводил с них глаз, пока она не сложила их на рукоятке своего зонтика. Тогда, чуть отступив назад, он еще раз взглянул на нее. Красивые, чистые очертания груди и плеч, пышные бедра, тонкие щиколотки, все нравилось ему в ней, — в этом прекрасном живом подобии амфоры.
— Господин Дешартр, то черное пятно — это ведь сады Боболи, не правда ли? Я видела их три года назад. Там не было цветов. И все же мне полюбились эти сады с высокими печальными деревьями.
Он был почти поражен тем, что она говорит, мыслит. Звонкость ее голоса изумила его, как будто он никогда раньше его не слышал.
Он ответил наугад и с трудом улыбнулся, чтобы скрыть свое грубое и вполне определенное желание. Он стал неловок и неуклюж. Она словно и не заметила этого. Она казалась довольной. Его низкий голос, заволакиваясь и замирая, ласкал ее помимо ее воли. Она, так же как и он, говорила ничего не значащие слова:
— Какой прекрасный вид! Какой теплый день!
XII
Утром, еще покоясь на подушке с вышитым гербом в виде колокола, Тереза думала о вчерашних прогулках, о нежных мадоннах, об ангелах, окружающих их, об этих бесчисленных детях, всегда прекрасных, всегда счастливых, — созданиях живописца или скульптора, — простосердечно поющих по всему городу хвалу благодати и красоте. В знаменитой капелле Бранкаччи, перед бледными и блистательными, как божественная заря, фресками Дешартр рассказывал ей о Мазаччо языком столь ярким и живым, что ей показалось, точно она видит его, этого юного мастера из мастеров, с полуоткрытым ртом, с мрачным взглядом синих глаз, рассеянного, смертельно томного, зачарованного. И она полюбила эти чудеса, порожденные рассветом более прекрасным, чем самый день. Дешартр был для нее душою этих великолепных форм, мыслью этих благородных произведений. Лишь через него, лишь в нем понимала теперь она искусство и жизнь. Зрелище мира занимало ее лишь в той мере, в какой оно занимало его.
Как возникла в ней эта симпатия? Она в точности не помнила. Сперва, когда Поль Ванс захотел представить ей Дешартра, у нее вовсе не было желания с ним познакомиться, вовсе не было предчувствия, что он ей понравится. Она припоминала изысканные бронзовые и восковые фигуры его работы, обращавшие на себя внимание на выставке Марсова поля или у Дюран-Рюэля[80]. Но она не представляла себе, чтобы сам он мог быть приятнее или привлекательнее, чем все эти художники и дилетанты, в чьем обществе она развлекалась, когда они запросто обедали у нее. Она увидела его, и он ей понравился; у нее явилось спокойное желание привлечь его, чаще встречаться с ним. В тот вечер, во время ужина, она заметила, что испытывает к нему хорошее чувство, льстившее ей самой. Но вскоре он стал немного раздражать ее; ее сердило, что он слишком замыкается в себе, в своем внутреннем мире, слишком мало занимается ею. Ей хотелось смутить его покой. Досадуя на него, да к тому же еще будучи взволнована, чувствуя себя одинокой, она встретила его вечером перед решеткой Музея религий, а он заговорил с ней о Равенне и об императрице, восседающей на золотом кресле в своем склепе. Он предстал перед ней серьезный и обаятельный, голос его показался ей полным теплоты, взгляд в ночном сумраке был ласков, но сам он оставался слишком чуждым, слишком далеким и незнакомым. От этого ей становилось не по себе, и тогда, идя вдоль кустов самшита, окаймляющих террасу, она не знала, хочется ли ей видеть его каждый день, или не видеть больше никогда.
С тех пор как она встретила его во Флоренции, для нее не стало другой отрады, как только чувствовать его близость, слушать его. Он сделал для нее жизнь приветливой, разнообразной, яркой и новой, совершенно новой. Он открыл ей нежную радость и блаженную печаль мысли, он пробудил дремавшие в ней страсти. Теперь она твердо решила, что удержит его. Но как? Она предвидела затруднения; ее трезвый ум, ее темперамент рисовали их со всей полнотой. На краткий миг она пыталась обмануть себя: она подумала, что, будучи мечтателен, восторжен, рассеян, поглощен искусством, он, может быть, и не испытывает страстного влечения к женщинам и окажется постоянным, не проявляя требовательности. Однако тотчас же, встряхнув на подушке своей прекрасной головой, утопавшей в темных потоках волос, она отвергла эту успокоительную мысль. Дешартр, если он не мог влюбиться, терял для нее все свое очарование. Она больше не решалась думать о будущем. Она жила настоящим — счастливая, тревожная, на все закрыв глаза.
Так она мечтала в полутьме, пронизанной стрелами солнечных лучей, когда Полина, вместе с утренним чаем, подала письма. На конверте с вензелем клуба, что на Королевской улице, она узнала стремительный и простой почерк Ле Мениля. Она рассчитывала получить это письмо и все же была удивлена, что случилось событие, которое должно было случиться, как это бывало в детстве, когда непогрешимые часы возвещали начало урока музыки.
В своем письме Робер делал ей справедливые упреки. Почему она уехала, ничего не сказав, даже не оставив записки на прощанье? Вернувшись в Париж, он каждое утро ждал письма, которое так и не пришло. В прошлом году он был счастливее; тогда два или три раза в неделю он, просыпаясь, находил письма, такие милые и написанные так хорошо, что он жалел о невозможности их напечатать. Обеспокоенный, он поспешил к ней в дом.
«Я был ошеломлен, узнав о вашем отъезде. Меня принял ваш муж. Он сказал мне, что, послушавшись его советов, вы уехали к мисс Белл во Флоренцию — провести там конец зимы. С некоторых пор он стал находить, что вы побледнели, похудели. Он решил, что перемена климата будет вам полезна. Вы не хотели уезжать; но так как вам все сильнее нездоровилось, ему в конце концов удалось вас убедить.
Я лично не замечал, чтобы вы похудели. Мне, напротив, казалось, что ваше здоровье не оставляет желать ничего лучшего. И к тому же Флоренция — неважный зимний курорт. Я ничего не понимаю в вашем отъезде, я очень встревожен им. Прошу вас, скорее успокойте меня.
Или вы думаете, что мне приятно узнавать о вас новости от вашего мужа и выслушивать его признания? Он огорчен вашим отсутствием и в отчаянии, что общественные обязанности удерживают его сейчас в Париже. Я слышал в клубе, что у него есть шансы стать министром. Это меня удивляет, так как не принято назначать министров из числа светских людей».
Далее следовали рассказы об охоте. Он привез для нее три лисьих шкуры, из которых одна — превосходная; это шкура славного зверя, который, обернувшись, укусил его в руку, когда он за хвост вытащил его из норы. «В сущности, — писал он, — зверь имел на это право».
В Париже у него были неприятности. Его троюродный брат должен был баллотироваться в клуб. Робер опасался, что его «прокатят». Кандидатура была уже выставлена. При таких условиях он не решался посоветовать снять ее; это значило бы взять на себя слишком большую ответственность. С другой стороны, провал был бы в самом деле неприятен. Письмо заканчивалось просьбой — дать о себе знать и вернуться скорей.
Прочитав, она медленно разорвала письмо, бросила его в огонь и с холодной грустью, в раздумье, лишенном всякой прелести, стала смотреть, как оно горит.
Конечно, он был прав. Он говорил то, что должен был сказать; он жаловался так, как должен был жаловаться. Что ему ответить? Продолжать ссору, дуться по-прежнему? Какой теперь в этом смысл? Причина их ссоры стала для нее теперь так безразлична, что ей надо было подумать, чтобы вспомнить ее. О нет, ей больше не хотелось мучить его. Напротив, она полна была такой снисходительности! Видя, что он доверчиво, с упрямым спокойствием любит ее, она огорчалась и пугалась. Он-то не изменился. Он был тот же, что и прежде. Не та была она. Теперь их разделяло что-то неуловимое и могучее, как те свойства воздуха, которые исцеляют или убивают. Когда горничная пришла одевать ее, она еще и не принималась за ответ.
Она озабоченно думала: «Он доверяет мне. Он спокоен». Это сердило ее более всего. Ее раздражали простодушные люди, которые не сомневаются ни в себе, ни в других.
Отправившись в гостиную, где хранилась коллекция колоколов, она застала там Вивиан Белл, и та ей сказала:
— Хотите знать, darling, чем я занимаюсь, поджидая вас? Безделками, которые важнее всего в мире. Стихами. О darling, поэзия — это, наверно, единственное выражение нашей души.
Тереза обняла мисс Белл и, склонив голову на плечо подруги, спросила:
— Можно взглянуть?
— О, взгляните, darling. Это стихи, писанные по образцу ваших народных песен.
И Тереза прочитала:
Уронила белый камень В воды озера она, И в ответ пошла кругами В синем озере волна. Горько девушка вздохнула, Стыдно стало ей того, Как легко она стряхнула Тяжесть сердца своего.[81]— Это символы, Вивиан? Объясните мне их.
— О darling, к чему объяснять, к чему? Поэтический образ должен иметь несколько смыслов. Тот, который вы откроете в нем, для вас и будет истинным смыслом. Но здесь, my love[82], смысл вполне ясен: ее следует легкомысленно бросать то, чему мы дали место в своем сердце.
Лошади были поданы. Поехали, как и было условлено, осматривать галерею Альбертинелли на Виа дель Моро. Князь ожидал их, а Дешартр должен был присоединиться к ним во дворце. Дорогой, пока экипаж катил по шоссе, мощенному широкими плитами, мисс Белл в певучих словах расточала лукавое и изысканное веселье. Они проезжали мимо розовых и белых домиков, мимо садов, спускавшихся уступами, украшенных статуями и фонтанами, и мисс Белл показала подруге виллу, спрятавшуюся за синеватыми соснами, куда кавалеры и дамы «Декамерона» бежали от чумы, опустошавшей Флоренцию, и где они развлекались, рассказывая любовные истории, забавные или трагические. Потом она открыла Терезе, какая ей накануне пришла благая мысль.
— Вы, darling, отправились с господином Дешартром в Кармину и оставили во Фьезоле госпожу Марме, милую старую даму, сдержанную и учтивую старую даму. Она знает много анекдотов о разных известных людях, живущих в Париже. И когда она рассказывает их, то поступает так же, как мой повар Пампалони, когда подает глазунью: он не солит ее, а ставит солонку рядом. Язык у госпожи Марме совсем не злой. Соль тут же рядом, в ее глазах. Это и есть блюдо Пампалони, my love: каждый солит его по своему вкусу. О! мне очень нравится госпожа Марме. Вчера, после вашего отъезда, я застала ее в гостиной — она сидела там в уголку и грустила в одиночестве. Она думала о своем муже, и то были траурные думы. Я сказала ей: «Хотите, я тоже стану думать о вашем муже? Мне приятно будет думать о нем вместе с вами. Мне говорили, что он был ученый человек и член Королевского общества в Париже. Расскажите мне о нем, госпожа Марме». Она ответила мне, что он посвятил себя этрускам и отдал им всю свою жизнь. О darling, мне сразу же стала дорога память этого господина Марме, который жил ради этрусков. И тогда-то мне пришла в голову благая мысль. Я сказала госпоже Марме: «У нас во Фьезоле в палаццо Преторио есть маленький скромный этрусский музей. Давайте осмотрим его. Хотите?» Она сказала, что именно это ей больше всего хотелось бы видеть во всей Италии. Мы с ней отправились в палаццо Преторио; мы видели там львицу и множество странных бронзовых человечков — то очень толстых, то очень худых. Этруски были не на шутку веселый народ. Карикатуры они отливали из бронзы. Но на этих карапузов, которые изнемогают под бременем своих животов или с удивлением выставляют напоказ свои нагие кости, госпожа Марме глядела с горестным восторгом. Она созерцала их так, как если бы это были… есть прекрасное французское выражение, которое я не могу припомнить… как если бы это были памятники и трофеи господина Марме.
Госпожа Мартен улыбнулась. Но она была неспокойна. Небо казалось ей хмурым, улицы — некрасивыми, прохожие — грубыми.
— О darling, князь будет очень рад увидеть вас в своем дворце.
— Не думаю.
— Почему, darling, почему?
— Потому, что я вовсе ему не нравлюсь…
Вивиан Белл стала утверждать, что князь, напротив, большой поклонник графини Мартен.
Лошади остановились перед дворцом Альбертинелли. В мрачной стене фасада, выложенной из грубо отесанного камня, были укреплены бронзовые кольца, куда в былые времена, в ночи празднеств вставлялись смоляные факелы. Во Флоренции этими кольцами отмечены дома самых знатных семейств. Дворец таким образом являл сурово горделивое зрелище. Внутри же все имело вид пустынный, нежилой, унылый. Князь поспешил им навстречу и через ряд комнат, где почти не было мебели, провел их в галерею. Он извинился, что будет показывать им полотна, наверно не очень ласкающие глаз. Галерее положил начало кардинал Джулио Альбертинелли в эпоху, когда господствовала ныне уже исчезнувшая мода на Гвидо и Карраччи[83]. Его предку доставляло удовольствие собирать произведения болонской школы. Но г-же Мартен он покажет несколько картин, одобренных мисс Белл, в том числе — одну вещь Мантеньи[84].
Графиня Мартен с первого же взгляда поняла, что перед ней коллекция подделок, фальшивых шедевров, выставленных для продажи, полотен, сработанных на вкус финансистов, вроде тех картин, что столько раз предлагали купить ее отцу, который их отвергал благодаря своему практическому чутью, заменявшему у него чутье художественное.
Лакей подал визитную карточку.
Князь вспух прочел имя Жака Дешартра. В эту минуту он стоял спиной к дамам. Лицо его приняло то жесткое выражение недовольства, которым отличаются мраморные изваяния римских императоров. Дешартр стоял уже на площадке парадной лестницы.
Князь с томной улыбкой пошел ему навстречу.
— Я сама вчера пригласила господина Дешартра приехать в палаццо Альбертинелли, — сказала ему мисс Белл. — Я знала, что доставлю вам удовольствие. Ему хотелось видеть вашу галерею.
И правда, Дешартру хотелось встретиться там с г-жой Мартен. Теперь они вчетвером бродили мимо полотен Гвидо и Альбани[85].
Мисс Белл что-то мило щебетала князю по поводу всех этих старцев и дев, голубые плащи которых развевал некий неподвижный ураган. Дешартр, бледный, раздраженный, подошел к Терезе и сказал ей совсем шепотом:
— Эта галерея — просто склад, и торговцы картинами со всего мира отправляют сюда весь хлам, какой есть у них в магазинах. Князь продает здесь то, чего не смогли продать евреи.
Он подвел ее к задрапированному зеленым бархатом мольберту, где выставлено было «Святое семейство» — на рамке можно было прочитать имя Микеланджело.
— Это «Святое семейство» я видал у торговцев и в Лондоне, и в Базеле, и в Париже. Так как им не удалось продать его за те двадцать пять луидоров, которых оно стоит, они поручили последнему Альбертинелли запросить за нее пятьдесят тысяч франков.
Князь, заметив, что они шепчутся, и догадываясь, о чем они говорят, подошел к ним с чрезвычайно любезным видом:
— С этой картины есть копия, которая продавалась во многих городах. Я не утверждаю, что это подлинник. Но он всегда был у нас в доме и в старых инвентарях приписывается Микеланджело. Вот все, что я могу сказать.
И князь вернулся к мисс Белл, которую привлекали предшественники Возрождения.
Дешартру было не по себе. Со вчерашнего дня он думал о Терезе. Он всю ночь мечтал о ней, рисовал себе ее образ. Теперь, когда он вновь увидел ее, она оказалась очаровательной, но очаровательной по-иному, и еще более желанной, чем в его ночных грезах; она была менее воздушной и туманной: живее, сильнее, острее чувствовалась ее плоть, но душа ее была еще таинственнее и непроницаемее. Она была печальна и показалась ему холодной и рассеянной. Дешартр подумал, что он ничего не значит для нее, что становится назойлив и смешон. Он помрачнел, пришел в раздражение. С горечью он прошептал ей на ухо:
— Я колебался. Мне не хотелось идти сюда. Зачем я пришел?
Она сразу поняла, что он хочет сказать, поняла, что теперь он боится ее, что он нетерпелив, нерешителен и неловок. Он ей нравился таким, и она была ему благодарна за то волнение и те желания, которые вызывала в нем.
У нее забилось сердце. Но, притворившись, будто она поняла его слова как сожаление о том, что он потратил время ради скверной живописи, она ответила, что действительно галерея не представляет ничего интересного. Уже содрогнувшись было при мысли, что мог прогневить ее, он снова успокоился и подумал, что и в самом деле она, равнодушная и рассеянная, не уловила ни смысла вырвавшихся у него слов, ни выражения, с каким они были сказаны.
Он подтвердил:
— Да, ничего интересного.
Князь, пригласивший дам к завтраку, попросил и их знакомца остаться вместе с ними. Дешартр уклонился. Он уже собирался уходить, как вдруг в большой пустой гостиной, где на консолях стояли какие-то коробки из-под конфет, он очутился наедине с г-жой Мартен. Он хотел бежать от нее, а теперь ему хотелось только одного — снова встретиться с нею. Он напомнил ей, что завтра им предстоит осматривать палаццо Барджелло[86].
— Ведь вы позволили мне сопровождать вас.
Она спросила, не показалась ли она ему сегодня скучной и мрачной. О нет, скучной он ее не находит, но ему кажется, что она немножко грустна.
— Увы, — прибавил он, — я даже не имею права узнать, в чем ваши печали и радости.
Она бросила на него быстрый, почти суровый взгляд:
— Ведь вы же не думаете, что я стану поверять вам свои тайны, не правда ли?
И быстро отошла от него.
XIII
После обеда, в гостиной, полной колоколов и колокольчиков, при свете ламп, скрытых под большими абажурами и лишь тускло озарявших длинноруких сиенских дев, добрейшая г-жа Марме, с белой кошкой на коленях, грелась у печки. Вечер был свежий. Г-жа Мартен, перед глазами которой все еще стояли прозрачное небо, лиловые вершины гор и древние дубы, простирающие над дорогой свои чудовищные руки, улыбалась от счастливой усталости. Она вместе с мисс Белл, Дешартром и г-жой Марме ездила в картезианский монастырь на Эме. И теперь, в легком опьянении от всего виденного, она забыла о вчерашних заботах, о неприятных письмах, далеких укорах и не представляла себе, что в мире может быть что-либо иное, кроме монастырей с резьбой и живописью, с колодцем среди двора, поросшего травой, деревенских домиков с красными крышами и дорог, где она, убаюканная вкрадчивыми речами спутника, любовалась картинами ранней весны. Дешартр только что вылепил для мисс Белл восковую фигурку Беатриче[87]. Вивиан рисовала ангелов. Томно склонившись над ней, эффектно изогнув стан, князь Альбертинелли поглаживал бороду и бросал вокруг взгляды, достойные куртизанки.
В ответ на замечание мисс Белл, относившееся к браку и любви, он сказал:
— Женщина должна выбирать одно из двух. С мужчиной, которого женщины любят, она не будет спокойна. С мужчиной, которого женщины не любят, она не будет счастлива.
— Darling, — спросила мисс Белл, — что бы вы избрали для подруги, которую бы вы любили?
— Я желала бы, Вивиан, чтобы моя подруга была счастлива, и я желала бы также, чтобы она была спокойна. И ей бы этого хотелось наперекор изменам, унизительным подозрениям, постыдному недоверию.
— Но, darling, ведь князь сказал, что женщина не может быть вместе и счастлива и спокойна; так скажите, что избрала бы ваша подруга, — скажите.
— Выбирать нельзя, Вивиан. Выбирать нельзя. Не заставляйте меня говорить то, что я думаю о браке.
В эту минуту показался Шулетт, являя блистательное подобие нищего из числа тех, что красуются у застав старинных городов. Он только что играл в брисколу с крестьянами в одном из кабачков Фьезоле.
— Вот господин Шулетт, — сказала мисс Белл. — Он научит нас тому, что следует думать о любви. Я готова внимать ему, как оракулу. Он не видит того, что видим мы, и видит то, чего мы не видим. Господин Шулетт, что вы думаете о браке?
Он уселся и с видом Сократа, подняв палец кверху, сказал:
— Вы разумеете, сударыня, освященный торжественным обрядом союз мужчины с женщиной? В этом смысле брак есть таинство, откуда следует, что это почти всегда святотатство. Что же до гражданского брака, то это просто формальность. Важное значение, какое ему приписывают в нашем обществе, — вздор, который очень насмешил бы женщин в старое время. Этим предрассудком, как и многими другими, мы обязаны тому бурному росту буржуазии, тому расцвету податных и судейских чиновников, который назвали революцией, столь замечательной в глазах всех, кто построил на ней свое благосостояние. Это — мать всех глупостей. Уж целый век из-под ее трехцветных юбок каждый день появляются новые нелепости. Гражданский брак есть в сущности лишь запись, одна из многих, которые государство делает для того, чтобы отдать себе отчет в состоянии своих подданных, ибо в цивилизованном государстве каждый должен иметь свой ярлык. И все эти ярлыки одинаковы перед лицом сына божьего. С точки зрения нравственной эта запись в толстой книге даже не обладает тем достоинством, что может соблазнить женщину завести себе любовника. Нарушить клятву, данную перед мэром, — кому это придет в голову? Чтобы познать радости прелюбодеяния, надо быть существом набожным.
— Но, сударь, — сказала Тереза, — мы же венчались в церкви.
И вполне искренне прибавила:
— Я не понимаю, как это мужчина может вступать в брак и как женщина, в том возрасте, когда знаешь, что делаешь, решается на это безумие.
Князь недоверчиво посмотрел на нее. Он не был лишен проницательности, но не допускал, что можно говорить о чем-нибудь без определенной цели, только ради бескорыстного выражения общих мыслей. Он вообразил, что графиня Мартен-Беллем приписывает ему какие-то намерения, в которых хочет помешать. И вот, собираясь защищаться и мстить, он уже смотрел на нее бархатными глазами и ласково-галантным тоном говорил ей:
— Вы, сударыня, выказываете гордость, свойственную прекрасным и умным француженкам, которых возмущает ярмо. Француженки любят свободу, и нет среди них ни одной, которая заслуживала бы свободу больше вас. Я сам немного жил во Франции. Я знал цвет парижского общества, восхищался его салонами, празднествами, разговорами, игрой. Но среди наших гор, в тени оливковых деревьев, мы вновь обретаем простоту. Мы возвращаемся к сельским нравам, и брак для нас — полная свежести идиллия.
Вивиан Белл рассматривала фигурку, оставленную Дешартром на столе.
— Да, именно такой была Беатриче, я в этом уверена. А знаете ли, господин Дешартр, есть злые люди, которые говорят, будто Беатриче вовсе не существовала?
Шулетт заявил, что он из числа этих злых людей. В истинность Беатриче он верит не больше, чем в истинность прочих дам, чьи образы служили старым поэтам, воспевавшим любовь, символом для выражения какой-нибудь нелепо замысловатой схоластической идеи.
Нетерпеливо ожидая похвал, с которыми к нему не обращались, завидуя Данте, как и всей вселенной, будучи, впрочем, человеком весьма начитанным, он решил, что нашел слабое место, и нанес удар.
— Подозреваю, — сказал он, — что юная сестра ангелов существовала лишь в сухом воображении высочайшего из поэтов. Да и то она кажется чистейшей аллегорией, или, вернее, это упражнение в счете, измышление Данте-астролога, который, между нами говоря, был настоящим доктором Болонского университета[88] и носил в голове, под остроконечным колпаком, множество глупых причуд. Данте верил в магию чисел. Этот страстный геометр мечтал над цифрами, и его Беатриче — цветок арифметики. Вот и все!
И он закурил трубку. Вивиан Белл возмутилась:
— О! не говорите так, господин Шулетт. Вы меня огорчаете, а если бы наш друг господин Жебар[89] слышал нас, он бы на вас очень рассердился. Вам в наказание князь Альбертинелли прочтет песнь, в которой Беатриче объясняет пятна на луне[90]. Возьмите, Эусебио, «Божественную Комедию». Белая книга, вон там, на столе. Раскройте ее и читайте.
Во время чтения, происходившего возле лампы, Дешартр, сидя на диване подле графини Мартен, совсем тихо, но с восторгом говорил о Данте, как о самом великом ваятеле среди поэтов. Он напомнил Терезе о фреске, которую они третьего дня видели вместе в Санта-Мария на двери Серви, фреске почти стертой, где еле можно угадать поэта в шапочке, обвитой лавровым венком, Флоренцию и семь кругов[91]. Этого было достаточно, чтобы восхитить художника. Но она ничего не различила, она не была взволнована. И к тому же она признавалась: Данте слишком мрачен и не привлекает ее. Дешартр, привыкший к тому, что она разделяет все его взгляды на искусство и поэзию, удивился, был как-то неприятно поражен. Он громко сказал:
— Есть вещи великие и сильные, которых вы не ощущаете.
Мисс Белл, подняв голову, спросила, что это за вещи, которых darling не ощущает, а когда узнала, что речь идет о гении Данте, воскликнула с притворным гневом:
— Как! Вы не чтите отца, учителя, достойного всех похвал, не чтите это божество, этот неиссякающий родник? Я больше не люблю вас, darling. Я вас терпеть не могу.
И в виде упрека Шулетту и графине Мартен она напомнила о благочестии того флорентинца, что снял с алтаря свечи, зажженные в честь Иисуса Христа, и поставил их перед бюстом Данте.
Князь продолжал прерванное чтение:
Внутри ее — жемчужина бессмертья…Дешартр упорствовал в своем желании вызвать у Терезы восторг перед тем, чего она не знала. Правда, он с легкостью пожертвовал бы ради нее и Данте, и всеми поэтами, и вообще всем на свете. Но она, спокойная и желанная, сама того не зная, раздражала его своей радостной красотой. Он упрямо навязывал ей свои мысли, свои пристрастия в искусстве, даже свои фантазии и прихоти. Он убеждал ее шепотом, словами отрывистыми и сердитыми. Она ему сказала:
— Боже мой, какой вы горячий!
Тогда, наклонившись к ее уху и стараясь приглушить голос, в котором слышалась страсть, он прошептал:
— Вы должны принять меня каков я есть. Для меня не будет радостью завоевать вас, если я перестану быть самим собой.
Слова эти вызвали в Терезе легкую дрожь испуга и радости.
XIV
Проснувшись на другое утро, она решила, что надо ответить Роберу. Шел дождь. Она вяло прислушивалась к шуму капель, падавших на террасу. Вивиан Белл, утонченная и заботливая, приготовила ей на столе целый художественный набор письменных принадлежностей: листки, напоминающие пергамент церковных книг, и другие — светло-лилового тона, посыпанные серебряной пылью; целлулоидные перья, белые и легкие, — их надо было держать, как держат кисть; радужные чернила, отливавшие на бумаге лазурью и золотом. Терезу раздражала эта изысканность, мало подходившая для письма, которое должно было быть простым и не бросаться в глаза. Увидев, что слово «друг», с которым она в первой строке обратилась к Роберу, заиграло на серебряной бумаге, окрасилось в сизый цвет, в тона перламутровой раковины, она чуть улыбнулась. Первые фразы стоили ей труда. Остальное пошло быстрее; она много говорила о Вивиан Белл и князе Альбертинелли, немного — о Шулетте, сообщила, что видела Дешартра, проездом оказавшегося во Флоренции. О нескольких картинах, виденных в музеях, она отозвалась с похвалой, но без увлечения и только для того, чтобы как-нибудь заполнить страницы. Она знала, что Робер ничего не смыслит в живописи, что он восхищается только маленьким кирасиром работы Детайля[92], купленным у Гупиля[93]. Он стоял у нее перед глазами, этот маленький кирасир, которого однажды Робер с гордостью показывал ей в своей спальне, где картинка висела рядом с зеркалом, под семейными портретами. Все это издали представлялось ей пошлым, скучным и унылым. Она закончила письмо дружескими словами, в которых была непритворная нежность. Ведь она в самом деле никогда не чувствовала себя такой спокойной и снисходительной по отношению к своему другу. Она мало что сказала на четырех страницах и еще меньше дала понять. Только сообщила, что пробудет месяц во Флоренции, воздух которой ей полезен. Потом она написала отцу, мужу и княгине Сенявиной. Спускаясь с лестницы, она держала письма в руке. Три письма она положила в передней на серебряный поднос, предназначенный для почты. Остерегаясь любопытных глаз г-жи Марме, письмо к Ле Менилю она спрятала в карман в расчете на то, что во время прогулки представится случай опустить его в ящик.
Почти тотчас явился Дешартр, готовый сопровождать трех дам в город. Так как ему пришлось немного подождать их в передней, он увидел письма, лежавшие на подносе.
Нисколько не веря в возможность по почерку угадывать душу, он все же не был равнодушен к форме букв, как к своего рода рисунку, в котором тоже может быть свое изящество. Почерк Терезы очаровал его, как напоминание о ней, как живая реликвия, и понравился ему также своей резкой прямотой, своими смелыми и простыми линиями. Он с каким-то сладострастным восхищением посмотрел на адреса, не читая их.
В то утро они посетили церковь Санта-Мария-Новелла, где графиня Мартен уже была с г-жой Марме. Но мисс Белл стыдила их, что они не обратили внимания на прекрасную Джиневру кисти Бенчи на одной из фресок, которыми расписаны хоры. «Надо было, — сказала Вивиан Белл, — полюбоваться этим лучезарным образом при лучах утренней зари». В то время как поэтесса беседовала с Терезой, Дешартр, приставленный к г-же Марме, терпеливо выслушивал анекдоты о том, как разные академики обедали у светских женщин, и выражал свое сочувствие этой старой даме, уже в течение нескольких дней весьма озабоченной мыслью о покупке тюлевой вуалетки. В магазинах Флоренции она ничего не находила себе по вкусу и сожалела об улице Бак.
Выйдя из церкви, они прошли мимо лавки сапожника, которого Шулетт избрал своим учителем. Старик чинил грубые сапоги. Подле него возвышался зеленый шар базилика, а воробей с деревянной лапкой задорно щебетал.
Госпожа Мартен спросила старика, как он себя чувствует, достаточно ли у него работы, доволен ли он. На все эти вопросы он отвечал очаровательным «si» — итальянским «да», которое певуче и нежно звучало в его беззубом рте. Она попросила его рассказать про воробья. Бедная пичужка как-то раз окунула лапку в кипящий вар.
— Я сделал моему маленькому товарищу лапку из спички, и он по-прежнему взбирается ко мне на плечо.
— Этот старичок, — сказала мисс Белл, — учит мудрости господина Шулетта. В Афинах жил сапожник по имени Симон[94], писавший философские труды и бывший другом Сократу. Я всегда находила, что господин Шулетт похож на Сократа.
Тереза попросила сапожника сказать, как его зовут, и рассказать про себя. Звали его Серафино Стоппини, родом он был из Стиа. Был он стар. В жизни перенес многие беды.
Он поднял очки на лоб, так что стали видны глаза, голубые, очень кроткие и почти угасшие под воспаленными веками:
— Была у меня жена, были дети, их больше нет. Знал я разные вещи, а теперь позабыл.
Мисс Белл и г-жа Марме ушли на поиски вуалетки.
«Ничего у него нет, — размышляла Тереза, — кроме инструментов, горсти гвоздей, лоханки, в которой он мочит кожу, да горшка с базиликом, — и он счастлив».
Она сказала ему:
— У этого растения приятный запах, скоро оно зацветет.
Он ответил:
— Если бедняжка расцветет, то погибнет!
Уходя, Тереза оставила на столе монету.
Рядом с ней оказался Дешартр. Серьезно, почти сурово, он спросил:
— Вы знали?..
Она взглянула на него; она ждала. Он закончил:
— …что я вас люблю?
С минуту она хранила молчание, не отрывая от него взгляда своих ясных глаз, и ресницы ее трепетали. Потом утвердительно кивнула головой. Он не пытался ее удерживать, и она присоединилась к мисс Белл и г-же Марме, поджидавшим ее в конце улицы.
XV
Расставшись с Дешартром, Тереза отправилась со своей подругой и г-жой Марме завтракать к очень старой флорентийской даме, в которую влюблен был Виктор-Эммануил[95], когда еще назывался герцогом Савойским. Уже тридцать лет, как она ни разу не выходила из своего палаццо на берегу Арно, где, накрашенная, нарумяненная, в лиловом парике, она играла на гитаре среди просторных белых зал. Она принимала у себя цвет флорентийского общества, и мисс Белл часто навещала ее. За столом эта восьмидесятилетняя затворница расспрашивала графиню Мартен о парижском высшем свете, за жизнью которого следила по газетам и по разговорам, проявляя суетность, казавшуюся в ее возрасте величественной. Живя в одиночестве, она все же чтила наслаждение и поклонялась ему.
Выйдя из палаццо, мисс Белл, чтобы укрыться от ветра, дувшего с реки, от этого резкого libeccio[96], повела своих приятельниц по старым узким улицам, где дома из черного камня вдруг расступаются, открывая горизонт, и в прозрачном воздухе взгляд радует какой-нибудь холм с тремя тонкими деревцами на вершине. Они шли, и Вивиан, указывая на грязные фасады, из окон которых свисали красные лоскутья, обращала внимание своей приятельницы на какую-нибудь мраморную драгоценность, — мадонну, цветок лилии, св. Екатерину в сводчатой нише. По узким улицам древнего города они прошли до церкви Ор-Сан-Микеле, где с ними должен был вновь встретиться Дешартр. Теперь Тереза неотступно думала о нем, перебирая в памяти подробности их встречи. Госпожа Марме предавалась мыслям о вуалетке; ее обнадежили, что вуалетку можно найти на Корсо. По этому поводу ей вспомнилась рассеянность господина Лагранжа, который однажды, во время лекции, на кафедре, вытащил из кармана вуалетку с золотыми мушками и вытер себе ею лоб, думая, что это носовой платок. Слушатели были удивлены, стали перешептываться. А это была вуалетка, которую накануне ему доверила его племянница, мадемуазель Жанна Мишо, когда он сопровождал ее в концерт. И г-жа Марме стала объяснять, каким образом, обнаружив вуалетку в кармане своего сюртука, он взял ее с собою, чтобы отдать племяннице, и как по ошибке развернул и начал ею размахивать перед улыбающейся публикой.
При имени Лагранжа Терезе вспомнилась пылающая звезда, о которой ей возвестил ученый, и она с насмешливой печалью подумала, что пора бы этой комете явиться — уничтожить мир и выручить ее. Но небо, высушенное морским ветром, по-прежнему блистало своей бледной и беспощадной лазурью над драгоценными стенами древней церкви. Мисс Белл указала приятельнице на бронзовую статую в одной из резных ниш, украшавших фасад храма.
— Смотрите, darling, как юн и величествен этот святой Георгий. Святой Георгий — рыцарь, о котором в былые времена грезили девушки. Вы ведь знаете, что Джульетта, увидев Ромео, воскликнула: «Воистину, это дивный святой Георгий»[97].
Но darling находила, что вид у святого благовоспитанный, скучный и упрямый. В этот миг она вдруг вспомнила о письме, оставшемся в ее сумочке.
— А вот, кажется, и господин Дешартр, — сказала добрейшая г-жа Марме.
Он разыскивал их в самой церкви, у дарохранительницы Орканья[98]. А ему следовало бы вспомнить о том, какое неотразимое впечатление производит на мисс Белл св. Георгий работы Донателло. Он тоже восхищался этой знаменитой статуей. Но особое пристрастие он по-прежнему питал к св. Марку, грубоватому и прямодушному, которого они могли видеть в нише, налево, со стороны улочки, где массивная полуарка упирается в старинный дом Чесальщиков шерсти.
Подходя к статуе, на которую он указывал ей, Тереза заметила на противоположной стороне улицы почтовый ящик. Дешартр между тем, став так, чтобы лучше видеть своего любимого св. Марка, дружески-многословно заговорил о нем:
— Его я посещаю первым, как только приезжаю во Флоренцию. Только раз я не сделал этого. Он мне простит: он превосходный человек. Публика не особенно ценит его, и он не привлекает к себе внимания. А мне приятно его общество. Он словно живой. Я понимаю, что Донателло, вселив в него душу, мог воскликнуть: «Марк, почему ты не говоришь?»
Госпожа Марме, устав любоваться св. Марком и чувствуя, как горит ее лицо, опаленное ветром, увлекла мисс Белл на улицу Кальцайоли искать вуалетку.
Они удалились, предоставив darling и Дешартру предаваться восторгам. Условились, что встретятся в модной лавке.
— Мне нравится, — продолжал скульптор, — мне нравится этот святой Марк потому, что в нем отчетливее, чем в святом Георгии, чувствуется рука и душа Донателло, — ведь Донателло всю жизнь был добрым и бедным тружеником. Сейчас он мне нравится еще больше потому, что в своей достойной и трогательной невинности он напоминает мне того старика сапожника у церкви Санта-Мария-Новелла, с которым вы так мило разговаривали утром.
— А! я уже забыла, как его зовут, — сказала она. — Мы с господином Шулеттом называем его Квентин Массейс[99], потому что он похож на стариков с картин этого художника.
Когда они огибали церковь, чтобы посмотреть на фасад, обращенный к старинному дому Чесальщиков шерсти и украшенный геральдическим агнцем, под красным черепичным навесом, она очутилась у почтового ящика, такого запыленного и заржавленного, что, казалось, будто почтальон никогда не подходит к нему. Она опустила в него письмо под простодушным взглядом св. Марка.
Дешартр увидел это и словно почувствовал глухой удар в грудь. Он пробовал разговаривать, улыбаться, но все время видел перед собой руку в перчатке, опускающую письмо в ящик. Он помнил, что утром письма Терезы лежали на подносике в передней. Почему же она не положила туда и это письмо? Причину не трудно было угадать.
Недвижимый, задумчивый, он смотрел и ничего не видел. Он пробовал успокоить себя: быть может, это какое-нибудь незначительное письмо, которое она хотела скрыть от надоедливого любопытства г-жи Марме.
— Господин Дешартр, пора бы нам зайти на Корсо за нашими приятельницами.
Может быть, она пишет г-же Шмоль, находящейся в ссоре с г-жой Марме. Но он тотчас же сознавал нелепость таких предположений.
Все было ясно. У нее есть любовник. Она ему пишет. Может быть, она говорит ему: «Я видела сегодня Дешартра, он, бедный, в меня влюблен». Но что бы она ни писала, у нее есть любовник. Он об этом и не подумал. От мысли, что она принадлежит другому, он вдруг всем телом и всей душой ощутил боль. И эта рука, эта маленькая ручка в перчатке, опускающая письмо в ящик, оставалась у него перед глазами и невыносимо жгла их.
Тереза не понимала, почему он вдруг замолчал и помрачнел. Но заметив, что он с тревогой посматривает на почтовый ящик, она догадалась. Она нашла, что странно ему ревновать, не имея на то никакого права, но не рассердилась.
Придя на Корсо, они издали увидали мисс Белл и г-жу Марме, выходивших из лавки.
Дешартр властно и умоляюще сказал Терезе:
— Мне надо с вами поговорить. Я должен видеть вас завтра одну; приходите вечером, в шесть часов, на Лунгарно Аччьяоли.
Она ничего не ответила.
XVI
Когда она в своем бледно-коричневом плаще пришла около половины седьмого на Лунгарно Аччьяоли, Дешартр встретил ее смиренным и радостным взглядом, и это ее тронуло. Заходящее солнце обагряло полные воды Арно. Минута прошла в молчании. Когда они двинулись вдоль однообразного ряда дворцов к Старому мосту, она заговорила первая.
— Вот видите, я пришла. Мне показалось, что я должна прийти. Я не чувствую себя невиновной в том, что случилось. Я знаю: я все сделала для того, чтобы вы стали со мной таким, какой вы теперь. Мое поведение внушило вам мысли, которых иначе у вас бы не было.
Он словно не понимал. Она продолжала:
— Я была эгоистка, была неосторожна. Вы мне нравились; ваш ум пленил меня, я уже не могла обойтись без вас. Я сделала, что могла, чтобы привлечь вас, чтобы вас удержать. Я была кокетлива… Мной не руководили ни расчет, ни коварство, но я была кокетлива.
Он покачал головой в знак того, что он никогда этого не замечал,
— Да, так было. Это, однако, не в моем обыкновении. Но с вами я была кокетлива. Я не говорю, что вы пробовали воспользоваться этим, как, впрочем, вы имели право поступить, или что это льстило вам. Я не замечала за вами фатовства. Возможно, что вы ничего и не увидели. Людям незаурядным иногда недостает проницательности. Но я знаю, что вела себя не так, как надо. И я прошу у вас прощения. Вот почему я пришла. Останемтесь друзьями, пока еще не поздно.
С суровой нежностью он сказал, что любит ее. Первые часы этой любви были легкими и чудесными. Ему хотелось одного — видеть ее снова и снова. Но вскоре она возмутила его покой, вывела его из равновесия, истерзала его. Болезнь вспыхнула внезапно и бурно в тот день, на террасе во Фьезоле. А теперь ему недостает мужества страдать молча. Он взывает к ней. Он пришел, не имея никаких твердых намерений. Если он открыл ей свою страсть, то сделал это не по своей воле, а помимо желания, покорный неодолимой потребности рассказывать ей о ней самой, ибо она одна в целом мире существует для него. Его жизнь отныне не в нем, а в ней. Пусть же она знает, что его любовь — не кроткая и вялая нежность, а испепеляющее жестокое чувство. Увы! он обладает ясным и отчетливым воображением. Он знает, чего хочет, беспрестанно видит предмет своих желаний, и это — пытка.
И еще ему кажется, что, соединившись, они узнают счастье, ради которого только и стоит жить. Их жизнь стала бы прекрасным, скрытым от всех творением искусства. Они думали бы, понимали, чувствовали бы вместе. То был бы дивный мир переживаний и мыслей.
— Мы бы превратили жизнь в волшебный сад.
Она притворилась, будто понимает его слова как невинную мечту.
— Вы же знаете, как привлекает меня ваш ум. Видеть, слышать вас стало для меня потребностью. Я слишком ясно дала это заметить. Будьте же уверены в моей дружбе и больше не терзайте себя.
Она протянула ему руку. Он не взял ее и с резкостью ответил:
— Я не хочу вашей дружбы. Не хочу. Или вы всецело должны быть моей, или мне больше никогда вас не видеть. Вы это знаете. Зачем вы протягиваете мне руку и говорите эти жалкие слова? Хотели вы того иль не хотели, вы внушили мне безумное желание, смертельную страсть. Вы стали моей болезнью, моей мукой, моей пыткой. И вы просите меня стать вашим другом! Вот теперь-то вы и правда кокетливы и жестоки. Если вы не можете меня любить, дайте мне уйти; я уеду куда глаза глядят, чтобы забыть вас, чтобы вас ненавидеть. Ведь в глубине души я чувствую ненависть к вам и гнев против вас. О, я вас люблю, я вас люблю!
Она поверила тому, что он говорил, испугалась, что он может уйти, и ей стало страшно, — как скучна и печальна будет жизнь без него! Она сказала:
— Я нашла вас в жизни. Я не хочу вас терять. Не хочу.
Он что-то бормотал робко и страстно, слова застревали у него в горле. С далеких гор спускались сумерки, и последние отсветы солнца гасли на востоке, на холме Сан-Миньято. Она заговорила снова.
— Если бы вы знали мою жизнь, если бы вы видели, какой пустой была она до вас, вы бы поняли, что вы значите для меня, и не думали бы о том, чтобы меня покинуть.
Но самое спокойствие ее голоса и ровность ее шага раздражали его. Он уже не говорил, он кричал ей о своей муке, о жгучем влечении к ней, о пытке неотступных мыслей, о том, как он всюду, во всякий час, и ночью и днем, видит ее, взывает к ней, простирает к ней руки. Теперь он узнал божественный недуг любви.
— Тонкость вашей мысли, ваше изящное благородство, вашу умную гордость — все это я вдыхаю с ароматом вашего тела. Когда вы говорите, мне кажется, будто душа слетает с ваших уст, и я терзаюсь, что не могу прижаться к ним губами. Ваша душа для меня — это благоухание вашей красоты. Во мне еще сохранился инстинкт первобытного человека, и вы пробудили его. Я чувствую, что люблю вас с простотой дикаря.
Она кротко взглянула на него и ничего не ответила. В эту минуту среди сгустившегося мрака возникли огоньки; они наплывали издалека, послышался зловещий напев. И вскоре, словно призраки, гонимые ветром, показались черные монахи. Впереди двигалось распятие. Это братья ордена Милосердия, скрыв под капюшонами лица, при свете факелов и с пением псалмов несли на кладбище покойника. Погребение, по итальянскому обычаю, происходило ночью, и процессия двигалась быстро. Кресты, гроб, хоругви мчались по безлюдной набережной. Жак и Тереза стали у самой стены, чтобы пропустить этот погребальный смерч — священников, юных певчих, людей со скрытыми лицами и вскачь несущуюся вместе с ними непрошенную гостью — Смерть, которой не принято кланяться в этой стране радостной неги.
Черный вихрь пролетел. Плакали женщины, спеша за гробом, уносимым призраками в грубых подкованных башмаках.
Тереза вздохнула:
— Какой смысл в том, что мы сами себя мучаем на этой земле?
Он как будто не слышал ее и продолжал в более спокойном тоне:
— До того, как я вас узнал, я не был несчастлив. Я любил жизнь. Воображение и любопытство привязывали меня к ней. Меня привлекали формы и дух этих форм, пленяли и тешили зримые образы. Мне дана была радость — созерцать и мечтать. Я всем наслаждался и ни от чего не зависел. Желания разнообразные, но поверхностные увлекали меня, не утомляя. Меня все занимало, и я ничего не хотел: страдаешь только тогда, когда страстно хочешь чего-либо. Теперь я это узнал. А тогда у меня не было мучительных желаний. Сам того не сознавая, я был счастлив. О! это была такая малость, ровно столько счастья, сколько надо для того, чтобы жить. Теперь у меня нет и этого. Все прежние удовольствия, интерес к образам искусства и жизни, живительную радость собственными руками воплощать свою мечту — все я утратил из-за вас и даже не жалею об этом. Я не хотел бы вернуть свою свободу, свое былое спокойствие. Мне кажется, что до вас я не жил. А теперь, когда я чувствую, что живу, я не могу жить ни вдали от вас, ни подле вас. Я более жалок, чем те нищие, которых мы видели по дороге к монастырю на Эме. Они могут дышать воздухом. А я дышу только вами, но вы — не моя. И все же я радуюсь, что встретил вас. В моей жизни только это имеет значение. Я думал, что ненавижу вас. Я ошибался. Я вас обожаю и благословляю вас за боль, которую вы мне причинили. Я люблю все, что исходит от вас.
Они подходили к черным деревьям, возвышавшимся у моста Сан-Николо. По ту сторону Арно тянулись пустыри, еще более унылые в ночной темноте. Видя, что он стал спокойнее и полон теперь какой-то тихой грусти, Тереза решила, что его любовь, плод воображения, улетучивается в словах и что желания его сменились мечтами. Она не ждала, что он смирится так скоро. Она была почти разочарована, избежав пугавшей ее опасности.
Она протянула ему руку — теперь смелее, чем в первый раз.
— Будем же друзьями. Уже поздно. Пора домой, проводите меня до экипажа — я оставила его на Пьяцца делла Синьория. Я буду для вас тем, чем была, — самым верным другом. Я на вас не сержусь.
Но он повлек ее дальше в безлюдье полей, расстилавшихся вдоль берегов, все более и более пустынных.
— Нет, я не дам вам уйти, не сказав того, что хотел сказать. Но я разучился говорить, я не нахожу слов. Я вас люблю, вы должны быть моей. Я хочу знать, что вы моя. Клянусь вам, я не переживу ночи в этих муках сомнения.
Он схватил ее, сжал в объятиях и, прильнув лицом к ее лицу, ловя сквозь сумрак вуалетки свет ее глаз, сказал:
— Вы должны меня полюбить. Я этого хочу, да и вы тоже хотите. Скажите, что вы моя! Скажите!
Осторожно высвободившись, она ответила слабым голосом:
— Я не могу. Не могу. Вы видите, я с вами откровенна. Я только что сказала, что не рассердилась на вас. Но я не могу сделать то, чего вы хотите.
И, вызвав в памяти образ человека, которого не было с ней и который ее ждал, она повторила:
— Не могу.
Наклонившись над ней, он боязливо вопрошал этот взгляд, который мерцал и туманился, словно раздвоившаяся звезда.
— Почему? Вы меня любите, я это чувствую, я это вижу. Вы меня любите. Почему же вы так жестоки, что не хотите быть моей?
Он прижал ее к груди, хотел устами и душой прильнуть к ее губам, скрытым вуалью. На этот раз она высвободилась — твердо и легко.
— Я не могу. Не просите меня больше. Я не могу быть вашей.
У него задрожали губы, судорогой исказилось лицо. Он крикнул ей:
— У вас есть любовник, и вы его любите. Зачем вы издевались надо мною?
— Клянусь, я и не думала над вами издеваться, а если бы я полюбила кого-нибудь, так только вас.
Но он больше не слушал ее.
— Оставьте меня! Оставьте меня!
И он бросился во мрак полей. Река, залившая в этом месте полосу берега, образовала среди тучных лугов лагуны, в которых преломлялся неверный свет луны, слегка подернутой облаками. Дешартр шел по лужам, по грязи, ничего не видя, отчаянно быстро.
Ей стало страшно, и она вскрикнула. Она позвала его. Но он не обернулся и не ответил. Он бежал с каким-то пугающим спокойствием. Она бросилась за ним. Хоть ногам было больно от камней, а юбка промокла и отяжелела, Тереза настигла его и порывистым движением привлекла к себе:
— Что это вы задумали?
Взглянув на нее, он увидел в ее глазах пережитый страх и ответил:
— Не бойтесь. Я бежал, не глядя. Уверяю вас, я не искал смерти. О! не тревожьтесь! Я в отчаянии, но я очень спокоен. Я бежал от вас. Простите меня. Но я больше не мог, нет, я больше не мог вас видеть. Оставьте меня, умоляю. Прощайте.
Взволнованная, ослабевшая, она ответила:
— Пойдемте! Мы постараемся найти выход.
Он был все так же мрачен и молчал.
Она повторила:
— Ну, пойдемте!
И взяла его под руку. Ласковая теплота ее ладони оживила его.
— Так вы согласны? — спросил он.
— Я не хочу терять вас.
— Вы обещаете?
— Приходится.
И она, все еще в тревоге и тоске, едва не улыбнулась при мысли, что он своим безумием так быстро добился цели.
Он сказал:
— Завтра!
Она же, инстинктивно сопротивляясь, тотчас бросила в ответ:
— Ах нет, не завтра!
— Вы не любите меня; вы жалеете, что обещали.
— Нет, я не жалею, но…
Он взывал к ней, умолял ее. Она посмотрела на него, отвернулась, подумала и сказала очень тихо:
— В субботу.
XVII
После обеда мисс Белл рисовала в гостиной. Она чертила на канве профили бородатых этрусков для подушки, которую должна была вышивать г-жа Марме. Князь Альбертинелли с женским чутьем на оттенки подбирал цвета шерсти. Был уже вечер, и довольно поздний, когда Шулетт, вернувшись из трактира, где он, по обыкновению, играл с поваром в брисколу, появился восторженный и исполненный радости, как языческий бог. Он сел на диване рядом с г-жой Мартен, нежно глядя на нее. В его зеленых глазах трепетно искрилась страсть. Разговаривая с ней, он осыпал ее цветистыми поэтическими похвалами. То был словно набросок любовной песни, которую он импровизировал в ее присутствии. В коротких фразах, нервных и причудливых, он говорил ей о том, какое очарование исходит от нее.
Тереза подумала: «И этот тоже!»
Забавы ради она принялась его дразнить. Она спросила, не встречались ли ему во Флоренции, где-нибудь в бедных кварталах, особы из числа тех, кому он оказывает предпочтение. Ведь вкусы его известны. Сколько бы он это ни отрицал, все знают, у чьей двери он нашел веревку монашеского ордена. Друзья видели его на бульваре Сен-Мишель в обществе простоволосых девиц. Его склонность к этим несчастным созданиям дает себя знать в самых прекрасных его стихах.
— Ах, господин Шулетт, насколько я могу судить, они совсем нехороши, ваши любимицы.
Он торжественно ответил:
— Ваше дело, сударыня, подбирать семена клеветы, посеянные господином Вансом, и пригоршнями бросать их в меня. Я не стану защищаться. Вам нет необходимости знать, что я целомудрен и что душа моя чиста. Но не судите легкомысленно о тех, кого вы называете несчастными и которые должны были бы быть для вас священными, именно потому, что они несчастны. Женщина падшая и презираемая — это глина, послушная руке небесного ваятеля: это искупительный дар, жертва, приносимая на алтарь. Проститутки ближе к богу, чем порядочные женщины: они лишены высокомерия и утратили гордыню. Они не чванятся теми пустяками, которыми гордится матрона. Они обладают смирением, а это и есть краеугольный камень добродетелей, угодных небу. Им достаточно будет короткого раскаяния, чтобы стать первыми на небесах, ибо грехи их, совершаемые без злого умысла и без удовольствия, сами в себе уже несут искупление и прощение. Их проступки — это их страдания, они заключают в себе достоинства, присущие страданию. Находясь в рабстве у грубой плотской любви, они отреклись от всякого наслаждения и подобны тем мужчинам, что стали евнухами в уповании на царство небесное. Они, как и мы, греховны, но самый позор, как бальзам, омывает их грех, страдание очищает его, как раскаленный уголь. Вот почему бог заметит первый же их взгляд, обращенный к нему. Для них уготован престол одесную отца. Королева и императрица в царстве небесном будут счастливы сесть у ног уличной девки. Ибо не следует думать, что чертог господень построен на человеческий лад. Там, сударыня, все иное.
Однако он признавал, что есть и другие пути к спасению. Можно идти к нему и стезею любви.
— Людская любовь низменна, — сказал он, — но она поднимается по уступам мук и ведет к богу.
Князь встал. Целуя руку мисс Белл, он сказал ей:
— До субботы.
— Да, послезавтра, в субботу, — ответила Вивиан.
Тереза вздрогнула. Суббота! О субботе они говорят спокойно, как о близком и обыкновенном дне. До сих пор она не хотела думать о том, что суббота придет так скоро и так естественно.
Все разошлись уже с полчаса тому назад. Тереза, лежа в постели, усталая, растерянная, предавалась своим мыслям и вдруг услышала, что в дверь ее комнаты скребутся. Дверь приотворилась, и между высокими лимонными деревьями, изображенными на портьере, показалась голова мисс Белл.
— Я вам не помешаю, darling? Вам не хочется спать?
Нет, darling не хотелось спать. Она приподнялась, подперла голову рукой. Вивиан села на постель, такая легкая, что даже не помяла ее.
— Darling, я знаю, что вы очень рассудительны. О! я в этом убеждена. Вы так же рассудительны, как господин Садлер, скрипач, — виртуозен. Он играет слегка фальшиво, когда сам того хочет. И вы тоже, когда рассуждаете не совсем правильно, то делаете это лишь потому, что доставляете себе этим удовольствие, как мастер. О darling, вы очень рассудительны и благоразумны. И я пришла к вам за советом.
Тереза, удивленная и немного встревоженная, стала отрицать, что рассудительна. Она искренно отрицала это. Но Вивиан ее не слушала.
— Я много читала Франсуа Рабле, my love. По Рабле и Вийону я училась французскому языку. Они превосходные, маститые учителя. Но знаете ли вы, darling, «Пантагрюэля»? О! «Пантагрюэль» — это прекрасный и благородный город, полный дворцов, весь в лучах зари, но метельщики еще не успели появиться в нем. О нет, darling, метельщики еще не убирали грязи и поденщицы не мыли мраморных плит. И я заметила, что французские дамы не читают «Пантагрюэля». Вы его не знаете? Нет? О! это не так необходимо. В «Пантагрюэле» Панург у всех спрашивает, надо ли ему жениться[100] и попадает в смешное положение, my love. Вот и я заслуживаю таких же насмешек, потому что задаю вам тот же вопрос.
Тереза, не скрывая смущения, ответила:
— На этот счет, дорогая, не спрашивайте меня. Я ведь уже сказала вам свое мнение.
— Но вы, darling, сказали только, что мужчины напрасно женятся. Этот совет я все-таки не могу отнести к себе.
Госпожа Мартен поглядела на мальчишескую головку мисс Белл, на ее лицо, причудливо выражавшее и влюбленность и смущение.
Она сказала, целуя ее:
— Дорогая, нет на свете человека, достаточно чуткого и изысканного для вас.
Потом нежно-серьезно прибавила:
— Вы не дитя: если вы любите и любимы, делайте то, что считаете нужным, но не примешивайте к любви расчетов и соображений, которые ничего общего не имеют с чувством. Это дружеский совет.
Мисс Белл не сразу поняла. Потом покраснела и поднялась. Она была неприятно поражена.
XVIII
В субботу, в четыре часа, Тереза, как и обещала, пришла к воротам английского кладбища. Дешартр ждал ее перед решеткой. Он был серьезен и взволнован, говорил с трудом. Она была довольна, что он не показывает свою радость. Он повел ее вдоль безмолвных оград каких-то садов, и они вышли на узенькую, незнакомую ей улицу. Она прочла надпись: «Via Alfieri». Пройдя шагов пятьдесят, он остановился перед мрачными воротами.
— Сюда, — сказал он.
Она с бесконечной грустью взглянула на него.
— Вы хотите, чтобы я вошла?
Взглянув, она поняла, что он не отступит, и молча последовала за ним, в сырой сумрак аллеи. Дешартр пересек двор, где между каменных плит росла трава. В глубине его стоял флигель в три окна, с колоннами и фронтоном, украшенным изображениями коз и нимф. Поднявшись на поросшее мхом крыльцо, он повернул в замке ключ, который скрипел и не слушался его. Дешартр пробормотал:
— Заржавел.
Она ответила — без мысли, без всякого выражения:
— Тут все ключи ржавые.
Они поднялись по лестнице, такой безмолвной, что казалось, будто здесь, среди этих стен с греческими карнизами, даже забыли, как звучат шаги. Он толкнул дверь и ввел Терезу в комнату. Ни на что не глядя, она прошла прямо к окну, выходившему на кладбище. Над оградой подымались вершины сосен, которые не кажутся траурными в этой стране, где скорбь сливается с радостью, не нарушая ее, где сладостью жизни овеяна даже трава на могилах. Он взял ее за руку и подвел к креслу. Но она не садилась и оглядывала комнату, которую он обставил так, чтобы она не почувствовала себя в ней слишком случайной гостьей или слишком одинокой. На стенах висело несколько полотнищ старинного ситца с изображениями персонажей; комедии масок; от них веяло печальным очарованием минувшего веселья. У окна — пастель, которую они вместе видели у антиквара и которую она за ее поблекшее изящество назвала: «Тень Розальбы»[101]. Прадедовское кресло, белые стулья; на круглом столике — разрисованные чашки и венецианские бокалы. Во всех углах — пестрые бумажные ширмы, с которых смотрели маски, шутовские фигуры, пасторальные образы в легком вкусе Флоренции, Болоньи и Венеции времен великих герцогов и последних дожей. Она заметила, что он позаботился скрыть кровать за одной из этих весело разрисованных ширм. Зеркало, ковры — вот и все, что здесь было. Он не решился на большее в этом городе, где хитрые старьевщики ходили за ним по пятам.
Он затворил окно и растопил камин. Теперь она сидела в кресле, сидела совершенно прямо; он встал перед ней на колени, взял ее руки, поцеловал их и долго глядел на нее с боязливым и гордым восхищением. Потом, склонившись, прильнул губами к носку ее башмачка.
— Что вы делаете?
— Целую ваши ноги — за то, что они пришли сюда.
Он поднялся, нежно привлек ее к себе и поцеловал долгим поцелуем. Она замерла, откинув голову, закрыв глаза. Шапочка соскользнула, волосы рассыпались. Она отдалась, уже не сопротивляясь.
Два часа спустя, когда заходящее солнце удлинило тени на плитах мостовой, Тереза, пожелавшая пройтись по городу одна, очутилась, сама не зная как, перед двумя каменными столбами у Санта-Мария-Новелла. На площади она увидела старого сапожника; он неизменным движением тянул дратву и улыбался, а воробей сидел у него на плече.
Она вошла в мастерскую и села на скамейку. И тут по-французски обратилась к нему:
— Квентин Массейс, друг мой, что это я сделала и что со мной будет?
Он посмотрел на нее весело и добродушно, не поняв ее и не тревожась. Ничто больше не удивляло его. Она покачала головой.
— То, что я сделала, милый мой Квентин, я сделала потому, что он мучился, а я его полюбила. Я ни о чем не жалею.
Старик по привычке ответил звучным итальянским «да»:
— Si! si!
— Не правда ли, Квентин, я не поступила дурно? Но что теперь будет, боже мой?
Она собралась уходить. Осторожно отломив веточку базилика, он протянул ее Терезе:
— Для аромата, синьора!
XIX
Это было на следующий день.
Заботливо разложив на столе в гостиной свою суковатую палку, трубку и древний ковровый саквояж, Шулетт поклонился г-же Мартен, читавшей у окна. Он уезжал в Ассизи. Одет он был в дорожный плащ из козьей шкуры и напоминал библейского пастуха у колыбели Иисуса.
— Прощайте, сударыня. Я покидаю Фьезоле, вас, Дешартра, чрезмерно красивого князя Альбертинелли и милую людоедку, мисс Белл. Я собираюсь посетить гору Ассизи, которую, по слову поэта, следует называть не Ассизи, а горой Восхода, ибо там взошло солнце любви. Я преклоню колени перед священным склепом, где покоится святой Франциск, нагой, на каменном ложе, с камнем вместо подушки. Ибо он даже савана не пожелал взять с собой из этого мира, которому даровал откровение радости и доброты.
— Прощайте, господин Шулетт. Привезите мне образок святой Клары[102]. Я очень люблю святую Клару.
— Вы совершенно правы, сударыня. Эта особа была преисполнена силы и благоразумия. Когда святой Франциск, больной и почти ослепший, решил провести несколько дней у своей приятельницы в Сан-Дамиано, она своими руками сложила для него хижину в саду. Он возрадовался. Боль, сжигавшая ему веки, и мучительная слабость лишали его сна. Полчища огромных крыс нападали на него по ночам. Тогда он сочинил ликующий гимн[103], в котором воздал хвалу великолепному брату нашему Солнцу и сестре нашей Воде, целомудренной, благотворной и чистой. Лучшие мои стихи, даже из «Уединенного сада», не обладают таким покоряющим очарованием и таким естественным блеском. И это — в порядке вещей, ибо душа святого Франциска была прекраснее моей души. Хоть я и лучше всех современников, которых мне довелось знать, все же я ничего не стою по сравнению с ним. Сложив гимн Солнцу, Франциск был очень доволен. Он подумал: «Мы с братьями моими отправимся в город, в дни ярмарок мы с лютней будем стоять на больших площадях. Добрые люди подойдут к нам, и мы скажем им: „Мы божьи скоморохи, и мы пропоем вам стих. Если он придется вам по душе, вы наградите нас“. Они согласятся. А когда мы споем, то напомним им их обещание. Мы скажем: „За вами награда. А награда, которой мы просим, — в том, чтобы вы любили друг друга“. И, наверное, они, чтобы сдержать слово и не обидеть бедных божьих скоморохов, постараются не причинять друг другу зла».
Госпожа Мартен находила, что святой Франциск самый приятный из святых.
— Дело его, — продолжал Шулетт, — было загублено еще при его жизни. Однако умер он счастливый, ибо обладал радостью и смирением; он и вправду был сладостным певцом господним. А теперь другому бедному поэту подобает продолжить его дело и научить мир истинной вере и истинной радости. Это буду я, сударыня, если только смогу отрешиться от разума и гордыни. Ибо в этом мире все нравственно-прекрасное осуществляется силою той непостижимой мудрости, что исходит от бога и похожа на безумие.
— Не стану разочаровывать вас, господин Шулетт. Но меня беспокоит участь, которую в нашем новом обществе вы готовите бедным женщинам. Вы их всех заточите в монастыри.
— Признаюсь, женщины очень меня затрудняют, когда я строю планы преобразований, — ответил Шулетт. — Страсть, с какою мы любим их, — чувство острое и дурное. Наслаждение, которым они дарят нас, не приносит покоя и не ведет к радости. Из-за них я совершил в жизни два-три страшных преступления, но об этом никто не знает. Сомневаюсь, сударыня, чтобы я вас когда-либо позвал на трапезу в новую обитель святой Марии Ангельской.
Он взял свою трубку, ковровый саквояж и палку с изображением человеческой головы.
— Грехи любви простятся. Или, вернее сказать, сама по себе любовь не может причинить никакого зла. Но в любви плотской столько же ненависти, себялюбия и гнева, сколько и самой любви. Однажды вечером, сидя на этом диване, я любовался вашей красотой и был охвачен роем необоримых помыслов. Я тогда пришел из траттории, где слушал повара мисс Белл, который дивно симпровизировал тысячу двести стихов в честь весны. Я был преисполнен небесной радости, а при виде вас утратил ее. В проклятии, тяготеющем над Евой, должно быть, заключена глубокая правда. Ибо вблизи вас я стал печальным и грешным. На устах у меня были нежные слова. Они лгали. В душе я чувствовал себя вашим противником и врагом, я вас ненавидел. Когда я увидал, как вы улыбаетесь, мне захотелось вас убить.
— Право?
— Ах, сударыня, это вполне естественное желание, и вы, наверно, внушали его много раз. Но человек заурядный чувствует его, не отдавая себе в нем отчета, а мое пылкое воображение беспрестанно рисует мне собственный мой образ. Я созерцаю свою душу, порой лучезарную, часто — отвратительную. Если бы вы увидели ее перед собой в тот вечер, вы закричали бы от ужаса.
Тереза улыбнулась:
— Прощайте, господин Шулетт, не забудьте про образок святой Клары.
Он поставил саквояж на пол и, вытянув руку, подняв палец, как человек, который указует и поучает, проговорил:
— Меня вам нечего бояться. Но тот, кого вы будете любить и кто будет любить вас, причинит вам боль. Прощайте, сударыня.
Он снова взял свои вещи и вышел. Она видела, как его длинная нескладная фигура исчезает за кустами ракитника.
Во второй половине дня Тереза поехала в монастырь св. Марка, где ее ждал Дешартр. Она и хотела и боялась опять свидеться с ним так скоро. Она испытывала тревогу, которую смиряло незнакомое ей бесконечно сладостное чувство. Она не ощущала более того оцепенения, которому поддалась в первый раз, покоряясь любви и внезапному сознанию непоправимости того, что случилось. Теперь она была под властью влияний не столь стремительных, более смутных и более могущественных. Воспоминание о ласках было овеяно чудесной задумчивостью, которая смягчала его жгучесть. Тереза полна была волнений и тревоги, но не чувствовала ни стыда, ни сожалений. Действовала она не по своей воле, а повинуясь силе более высокой. Оправдание она находила в своем бескорыстии. Она ни на что не рассчитывала, так как ничего не предусмотрела заранее. Конечно, она не должна была отдаваться ему, не будучи свободной, но ведь она ничего и не требовала. Быть может, для него это только искренняя и страстная прихоть. Она ведь не знает его. Она еще не сталкивалась со столь прекрасным даром воображения, пылкого и зыбкого, которое и в хорошем и в дурном так далеко оставляет за собой все посредственное. Если бы он вдруг покинул ее и исчез, она не стала бы его винить, не стала бы сердиться на него; так по крайней мере ей казалось. Она сохранила бы воспоминания о нем, — след самого редкостного, самого драгоценного, что только бывает в мире. Он, быть может, и неспособен к истинной привязанности. Ему только показалось, что он любит ее. И какой-нибудь час он ее действительно любил. Желать большего она и не смела, смущенная ложным положением, которое претило ее прямоте, ее гордости и нарушало ясность ее мыслей. Пока наемный экипаж увозил ее к монастырю св. Марка, ей удалось внушить себе, что он ничего не скажет ей о том, чем она была для него накануне, а самое воспоминание о комнате, где они любили друг друга и откуда видны были подымающиеся к небу черные веретена сосен, останется для них обоих лишь отблеском сна.
Он подал ей руку, помог выйти из экипажа. Прежде чем он успел заговорить, она по его взгляду поняла, что он ее любит и снова желает ее, и в то же время поняла, что хотела встретить его таким.
— Вы, — сказал он, — вы… ты!.. Я здесь с двенадцати часов, я ждал; хоть я и знал, что вы еще не можете приехать, но дышать я мог только в том месте, где должен был увидеть вас. Наконец-то! Скажите что-нибудь, чтобы я и видел и слышал вас.
— Так вы еще любите меня?
— Теперь-то я тебя и люблю. Мне казалось, что я вас любил, когда вы были всего только тенью, воспламенявшей мои желанья. Теперь ты — плоть, и в эту плоть я вложил свою душу. Скажите, правда это, правда, что вы — моя? Что же я сделал, что мне даровано это величайшее, единственное на свете благо? А люди, которыми полон мир, еще воображают, будто они живут. Я один живу. Скажи, что я сделал, чтобы завоевать тебя?
— О! то, что надо было сделать, сделала я сама. Говорю вам это прямо. Если дело зашло так далеко, то виновата только я. Видите ли, женщины не всегда признаются в этом, но это почти всегда их вина. Вот почему, что бы ни случилось, я не буду упрекать вас.
Бойкая и крикливая толпа нищих и проводников, предлагающих свои услуги, спустившись с паперти, окружила их с назойливостью, в которой, правда, была и доля грации, никогда не покидающей итальянцев. Их проницательность помогла им угадать влюбленных, а они знали, что влюбленные всегда щедры. Дешартр бросил им несколько монет, и все они вернулись к своей блаженной праздности.
Посетителей встретил муниципальный сторож. Г-жа Мартен жалела, что тут не оказалось монаха. Белое одеяние доминиканцев в Санта-Мария-Новелла так красиво под сводами монастыря!
Они осмотрели кельи, где Фра Анжелико, которому помогал его брат Бенедетто, писал на беленых стенах для своих товарищей-монахов дышащие невинностью картины.
— Помните тот зимний вечер, когда я встретил вас на мостике, переброшенном через ров перед музеем Гиме, и проводил вас до той улочки с палисадниками, что ведет к набережной Бильи? Перед тем, как проститься, мы на минуту остановились около парапета, вдоль которого живой изгородью тянутся тощие кустики самшита. Вы взглянули на эти кустики, высушенные морозом. И когда вы ушли, я долго смотрел на них.
Теперь они стояли в келье, где жил Саванарола, настоятель монастыря св. Марка. Чичероне показал им портрет и реликвии мученика.
— Что хорошего вы нашли во мне в тот день? Ведь было темно.
— Я видел, как вы идете. Формы тела сказываются в движениях. Каждый ваш шаг открывал мне тайны вашей красоты, пленительной и непогрешимой. Мое воображение никогда не отличалось сдержанностью, если я думал о вас. Я не решался заговорить с вами. В вашем присутствии мне делалось страшно. Я путался той, которая могла дать мне всё. Когда я был с вами, я с трепетом на вас молился. Вдали от вас я весь отдавался кощунственным желаниям.
— А я и не подозревала. Помните, как мы виделись с вами в первый раз, когда Поль Ванс мне вас представил? Вы сидели около ширмы. Вы рассматривали развешанные на ней миниатюры. Вы сказали мне: «Эта дама, писанная Сикарди, похожа на мать Андре Шенье»[104]. Я ответила: «Это бабушка моего мужа. А какова собой была мать Андре Шенье?» И вы сказали: «Сохранился ее портрет: опустившаяся левантинка[105]».
Он отрицал, что выразился так резко.
— Да нет же. Я помню лучше вас.
Они шли среди белого безмолвия монастыря. Они посетили келью, которую блаженный Анжелико украсил нежнейшей живописью. И тут, перед ликом мадонны, которая на фоне блеклого неба принимает от бога-отца венец бессмертия, он обнял Терезу и поцеловал ее в губы, почти что на глазах у двух англичанок, проходивших по коридору и все время заглядывавших в Бедекера[106]. Она заметила:
— Мы чуть не забыли келью святого Антонина[107].
— Тереза, в моем счастье меня мучит все, что относится к вам, но ускользает от меня. Меня мучит, что вы жили не мною одним и не ради меня одного. Мне хотелось бы, чтобы вы всецело были моей, чтобы вы были моей и в прошлом.
Она слегка пожала плечами:
— О, прошлое!
— Прошлое — это для человека единственная реальность. Все, что есть, — уже прошло.
Она подняла к нему прелестные глаза, напоминавшие небо, каким оно бывает, когда сквозь дождь светит солнце:
— Ну, так я могу вам сказать: лишь с тех пор, как я вместе с вами, я чувствую, что живу.
Вернувшись во Фьезоле, она нашла письмо от Ле Мениля, короткое и угрожающее. Ему совершенно непонятно ее отсутствие, которое так затягивается, непонятно ее молчание. Если она тотчас же не даст ему знать, что возвращается, он сам приедет за ней.
Она прочитала и ничуть не удивилась, но была подавлена, видя, что сбывается все, что должно было сбыться, что ее не минует то, чего она опасалась. Она могла бы еще успокоить его, уговорить. Ей стоило только сказать, что она любит его, что скоро вернется в Париж, что он должен отказаться от безумной мысли — ехать за ней сюда, что Флоренция — большая деревня, где их сразу все увидят. Но надо было написать: «Я люблю тебя». Надо было убаюкать его ласковыми словами. У нее недоставало решимости. Она намекнула ему на правду. В туманных выражениях обвиняла самое себя. Писала что-то неясное о душах, унесенных потоком жизни, о том, как мало значишь среди бурного моря людских дел. С грустью и нежностью просила она его сохранить где-нибудь в уголке души доброе воспоминание о ней.
Она сама отнесла письмо на почту на площадь Фьезоле. Дети играли в классы среди надвигавшихся сумерек. С вершины холма она окинула взглядом несравненную чашу, на дне которой лежит, как драгоценность, прекрасная Флоренция. Тереза вздрогнула, ощутив мир и безмятежность этого вечера. Она опустила письмо в ящик. И только тогда она с полной ясностью поняла, что она сделала и какие это будет иметь последствия.
XX
На Пьяцца делла Синьория, где лучезарное весеннее солнце рассыпало желтые розы, толпа торговцев зерном и макаронами, собравшихся на рынок, начала расходиться, едва только пробило двенадцать. У подножья Ланци, перед скопищем статуй, продавцы мороженого воздвигали на своих столиках, обтянутых красной материей, маленькие замки, внизу которых была надпись: «Bibite ghiacciate»[108]. И бездумная радость спускалась с небес на землю. Возвращаясь с утренней прогулки в садах Боболи, Тереза и Жак проходили мимо знаменитой лоджии; Тереза глядела на «Сабинянку» Джованни Болонья[109] с тем напряженным любопытством, с каким женщина рассматривает другую женщину. Но Дешартр глядел только на Терезу. Он сказал ей:
— Удивительно, как к вашей красоте идет яркий солнечный свет, как он любит и ласкает ваши щеки, их нежный перламутр.
— Да, — сказала она. — При свечах черты лица у меня становятся жестче. Я это замечала. Вечера, к несчастью, не для меня, а ведь именно вечерами женщинам чаще всего представляется случай показаться в обществе и понравиться. У княгини Сенявиной вечером бывает красивый матово-золотистый цвет кожи, а при солнечном свете она желта, как лимон. Надо признать, что это ее нисколько не тревожит. Она не кокетлива.
— А вы кокетливы?
— О да! Прежде я была кокетлива ради себя, теперь — ради вас.
Тереза все еще смотрела на «Сабинянку»: большая, высокая, сильная, напрягая руки и бедра, она пытается вырваться из объятий римлянина.
— Неужели для того, чтобы быть красивой, женщина должна отличаться такой сухостью форм и у нее должны быть такие длинные руки и ноги? Я вот на нее не похожа.
Он постарался ее успокоить. Но она и не тревожилась. Теперь она смотрела на маленький замок мороженщика, сверкавший медью на ярко-красной скатерти. У нее внезапно появилось желание отведать мороженого, вот тут же, на площади, как только что на ее глазах это делали городские работницы. Он сказал:
— Погодите минутку.
Он побежал к той улице, что проходит слева от статуй, и скрылся за углом.
Минуту спустя он вернулся и подал ей ложечку с позолотой, наполовину стершейся от времени; ручка оканчивалась флорентийской лилией, чашечка которой покрыта была красной эмалью.
— Это вам для мороженого. Мороженщик ложки не дает. Вам пришлось бы лизать язычком. Это было бы очень мило, но вы к этому не привыкли.
Она узнала ложечку, драгоценную безделушку, которую заметила накануне в витрине антиквара по соседству с Ланци.
Они были счастливы, и радость свою, всеобъемлющую и простую, они расточали в легких словах, как будто ничего не значивших. Они смеялись, когда флорентинец мороженщик, сопровождая слова скупой и выразительной мимикой, в разговоре с ними употреблял выражения старинных итальянских новеллистов. Ее забавляла удивительная подвижность его старого благодушного лица. Но слова не всегда были ей понятны. Она спросила Жака:
— Что он сказал?
— Вы хотите знать?
Она хотела знать.
— Ну так вот: он сказал, что был бы счастлив, если бы блохи в его постели были сложены, как вы.
Когда она съела мороженое, он стал уговаривать её снова посетить Ор-Сан-Микеле. Это так близко. Стоит наискось перейти площадь — и они тотчас же увидят эту древнюю каменную драгоценность. И они пошли. Они посмотрели на бронзовые статуи св. Георгия и св. Марка. На облупленной стене дома Дешартр вновь увидел почтовый ящик и с мучительной отчетливостью вспомнил руку в перчатке, опустившую в него письмо. Медная пасть, поглотившая тайну Терезы, показалась ему отвратительной. Он не мог оторвать от нее глаз. Веселость его рассеялась. Тереза между тем старалась вызвать в себе восторг перед грубоватой статуей евангелиста.
— Да верно: вид у него честный и прямой; так и кажется, заговори он только, и его уста говорили бы одну правду.
Он с горечью заметил:
— Да, это не женские уста.
Она поняла его мысль и очень мягко спросила:
— Друг мой, почему вы говорите со мной так? Ведь я искренна.
— Что вы называете быть искренней? Вы же знаете, что женщине приходится лгать.
Она помедлила с ответом. Потом сказала:
— Женщина бывает искренней, когда не лжет без причины.
XXI
Тереза в темно-сером платье шла среди цветущих кустов ракитника. Крутой спуск за террасой усеян был серебристыми звездами толокнянки, а на склонах холмов лавр устремлял ввысь свое благоуханное пламя. Чаша-Флоренция была вся в цвету.
Вивиан, одетая в белое, гуляла по саду, полному весенних запахов.
— Вот видите, darling, Флоренция и в самом деле город цветов, недаром ее эмблема — красная лилия. Сегодня праздник, darling.
— Ах, вот как? Сегодня праздник?
— Разве вы не знаете, darling, что нынче у нас первый день мая, Primavera[110]? Разве не проснулись вы этим утром в мире дивного волшебства? О darling, вы не справляете праздника цветов? Вы не радуетесь, вы, так любящая цветы? Ведь вы же их любите, my love, я это знаю; вы нежны к ним. Вы говорили мне, что они чувствуют и радость и горе, что они страдают так же, как и мы.
— Ах, вот как! Я говорила, что они страдают так же, как мы?
— Вы это говорили. А сегодня их праздник. Надо справлять его по обычаям предков, по обрядам, освященным старыми художниками.
Тереза слушала, не понимая. Под перчаткой у нее лежало скомканное письмо, которое она только что получила, — письмо с итальянской маркой и всего в две строки:
«Я приехал этой ночью и остановился в гостинице „Великобритания“ на Лунгарно Аччьяоли. Жду вас утром. № 18».
— О darling, так вы не знаете, что во Флоренции существует обычай — в первый день мая праздновать возвращение весны? Но тогда вам не вполне понятно, что означает картина Боттичелли[111], посвященная празднику цветов, эта очаровательная, задумчиво радостная «Весна»? В былые времена, darling, в этот первый день мая весь город ликовал. Девушки в праздничных нарядах, в венках из ветвей боярышника длинной процессией тянулись по Корсо под арками из цветов и гели хороводы на молодой траве в тени лавров. Мы будем танцевать в саду.
— Вот как! будем танцевать в саду?
— Да, и я вас, darling, научу тосканским па пятнадцатого века, которые восстановил по старинной рукописи господин Моррисон[112], патриарх лондонских библиотекарей. Возвращайтесь скорей, вместо шляп мы наденем венки из. цветов и будем танцевать.
— Хорошо, дорогая, хорошо.
И, толкнув калитку, она побежала по узкой дорожке, неровной, как дно потока, с камнями, скрытыми под кустами роз. Она села в первый попавшийся экипаж. На шапке у кучера были васильки и на хлысте — тоже.
— Гостиница «Великобритания», Лунгарно Аччьяоли.
Она знала, где это Лунгарно Аччьяоли… Она была там вечером и помнила, как на взволнованной поверхности реки рассыпалось солнечное золото. Потом — ночь, глухой рокот воды в тишине, слова, взгляды, смутившие ее, первый поцелуй друга, начало их непоправимой любви. О да, она помнила Лунгарно Аччьяоли и берег за Старым мостом… Гостиница «Великобритания»… Она знала ее большое каменное здание на набережной. Раз он все равно должен был приехать, хорошо, что он остановился именно там. Он с таким же успехом мог бы поселиться в «Городской гостинице» на площади Манини, где живет Дешартр. Удачно, что их комнаты не рядом, не выходят в один и тот же коридор… Лунгарно Аччьяоли… Покойник, которого проносили тогда монахи, мчавшиеся мимо них, наверно, мирно лежит теперь где-нибудь на маленьком кладбище среди цветов…
— Номер восемнадцать.
Это была неуютная комната с печью на итальянский лад, обычная комната в гостинице. На столе — аккуратно разложенный набор щеток и железнодорожный справочник. Ни одной книги, ни одной газеты. Он был здесь; на его осунувшемся лице она увидела печать глубокого страдания; казалось, его лихорадило. Ей стало тяжело и больно. Он ждал от нее какого-нибудь слова, жеста, но она оставалась отчужденной и нерешительной. Он предложил ей стул. Она отодвинула его и продолжала стоять.
— Тереза, тут есть что-то такое, чего я не знаю. Скажите.
Помолчав секунду, она мучительно медленно ответила:
— Друг мой, зачем вы уехали, пока я была в Париже?
В грустном тоне этих слов он уловил, хотел уловить нежный упрек. Лицо его покрылось румянцем. Он с живостью ответил:
— О, если бы я только мог предвидеть! Ведь охота, вы же понимаете, для меня в сущности ничего не значит! Но вашим письмом от двадцать седьмого (у него была отличная память на числа) вы страшно взволновали меня. За это время что-то произошло. Скажите мне все.
— Друг мой, мне казалось, что вы больше не любите меня.
— Но теперь, когда вы знаете, что это не так?
— Теперь…
Она стояла, опустив руки, сжав пальцы.
Потом с напускным спокойствием проговорила:
— Друг мой, ведь мы ни о чем не думали, когда сошлись. Всего нельзя предвидеть. Вы молоды, вы даже моложе меня, потому что мы почти ровесники. У вас, наверно, есть планы на будущее.
Он гордо взглянул ей прямо в лицо. Она продолжала менее уверенно:
— Ваши родные, ваша матушка, ваши тетки, ваш дядя-генерал строят за вас планы. Это вполне естественно. Я могла бы оказаться препятствием. Лучше мне исчезнуть из вашей жизни. Мы сохраним друг о друге доброе воспоминание.
Она протянула ему руку в перчатке. Он скрестил руки на груди.
— Так я тебе больше не нужен? Ты думаешь, что дала мне счастье, какого не знал ни один человек, а потом отставила, и что так оно и кончится? Ты в самом деле думаешь, что покончила со мной?.. Да что это вы мне сказали? Связь можно прервать. Люди сходятся, расходятся… Ну, так нет! Вы не такая женщина, с которой можно разойтись.
— Да, может быть, вы привязались ко мне крепче, чем это бывает в таких случаях. Я была для вас больше, чем развлечение. Но что, если я не такая женщина, как вы думаете, если я вам изменяла, если я легкомысленна… Вы же знаете: об этом говорили… Так вот, если я не была с вами такой, какой должна была быть…
Она в нерешительности остановилась и продолжала тоном серьезным и задушевным, который противоречил ее словам:
— А что, если я вам скажу, что в то время когда я принадлежала вам, у меня бывали увлечения, разные прихоти… если я вам скажу, что не создана для подлинного чувства…
Он прервал ее:
— Ты лжешь.
— Да, я лгу. И лгу нехорошо. Я хотела замарать наше прошлое. Я была не права! Оно такое, каким вы его знаете. Но…
— Но что?..
— Ах, это и есть то, что я вам всегда говорила: я ненадежный человек. Есть женщины, которые будто бы могут ручаться за себя. Я вас предупреждала, что я не такая, как они, и что я за себя не отвечаю.
Он замотал головой, как взбешенный зверь, готовый вот-вот броситься на врага.
— Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Говори яснее… яснее — слышишь? Между нами какая-то преграда. Не знаю, что это такое. Я хочу знать. Что случилось?
— Я вам объясняю, друг мой: я не такая женщина, которая может быть уверена в самой себе, и вы не должны были полагаться на меня. Нет! не должны были. Я ничего не обещала… А даже если бы и обещала — что значат слова?
— Ты меня больше не любишь. Ты больше меня не любишь, я это вижу. Но тем хуже для тебя! Я-то тебя люблю. Не надо было доводить до этого. Не надейся, что это можно поправить. Я тебя люблю и не отпущу… И ты думала, что сможешь так спокойно выпутаться? Послушай. Ты же сделала все, чтобы я тебя любил, чтобы я привязался к тебе, не мог бы жить без тебя. Мы вместе наслаждались — и блаженства этого не выразишь словами. И ты не отказывалась от этого. Ведь я тебя не неволил. Ты сама хотела. Еще полтора месяца тому назад ты лучшего и не желала. Ты была для меня все. Я был всем для тебя. Бывали минуты, когда мы уже и не знали, кто из нас — ты, кто — я, и вот ты хочешь, чтобы я вдруг забыл тебя, не был с тобой знаком, чтобы ты стала для меня чужой, стала для меня дамой, которую просто встречаешь в свете. Ну, много же ты захотела! Да полно, может быть, мне все это приснилось? Твои поцелуи, твое дыхание, которое я чувствовал на своем лице, твой голос — так все это не правда? Скажи: я все это выдумал? О! тут нет сомнений: ты меня любила. Я еще всем существом своим чувствую твою любовь. Так что же это? Ведь я не переменился. Я остался тот, каким был. Ты ни в чем не можешь меня упрекнуть. Я не изменял тебе с другими женщинами. Но тут нет никакой моей заслуги. Я бы и не мог изменять. Когда узнаешь тебя, даже самые красивые женщины кажутся бесцветными. Мне никогда не приходило в голову изменять тебе. По отношению к вам я всегда был джентльменом. Почему же вы меня разлюбили? Да отвечай мне, говори же. Скажи, что ты меня еще любишь. Скажи, что любишь, ведь это же правда. Иди ко мне, иди! Тереза, ты сразу почувствуешь, что любишь меня так же, как и прежде, в нашем гнездышке на улице Спонтини, — мы были там так счастливы! Иди ко мне!
Он, весь пылая, бросился к ней, жадно обхватил ее руками. А она в испуге, отразившемся в ее глазах, с ледяным отвращением оттолкнула его.
Он понял, остановился и сказал:
— У тебя любовник!
Она тихо опустила голову и снова подняла ее, сосредоточенная и безмолвная.
Тогда он ударил ее в грудь, в плечо, в лицо. И сразу же отпрянул, охваченный стыдом. Он опустил глаза и замолчал. Прижав пальцы к губам, грызя себе ногти, он вдруг заметил, что до крови расцарапал себе руку о булавку ее корсажа. Он опустился в кресло, вынул носовой платок, чтобы вытереть кровь, и теперь сидел, словно равнодушный ко всему и не думая ни о чем.
Прислонившись к двери, подняв голову, бледная, с блуждающим взглядом, она отвязывала порвавшуюся вуалетку и поправляла шляпку. От легкого шороха материи, который когда-то был так восхитителен для него, он вздрогнул, взглянул на нее и снова пришел в ярость.
— Кто он? Я хочу знать.
Она не шевельнулась. На бледном лице оставался красный след от его кулака. Она кротко, но с твердостью ответила:
— Я сказала вам все, что могла сказать. Не спрашивайте больше ни о чем. Это бесполезно.
Он посмотрел на нее жестким, незнакомым ей взглядом.
— Что ж, не называйте мне его имени. Мне будет нетрудно его узнать.
Она молчала, печалясь за него, тревожась за другого, полная и тоски и опасений, и все же ни о чем не жалея, не чувствуя ни горечи, ни скорби; душой она была не здесь.
Он как будто смутно понял, что в ней происходит. Видя ее такой кроткой и спокойной, еще более прекрасной, чем в дни их любви, но прекрасной для другого, он хотел бы ее убить; в гневе он крикнул ей:
— Уходи! Уходи!
Потом, обессиленный этим приступом ненависти, совсем не свойственной ему, он обхватил голову руками и зарыдал.
Его страдание тронуло ее, вернуло ей надежду его успокоить, смягчить разлуку. Она подумала, что, может быть, ей удастся его утешить. Она с дружеским участием подсела к нему.
— Друг мой, порицайте меня. Я достойна порицания и еще более — сожаления. Презирайте меня, если хотите и если вообще можно презирать несчастное существо, которым играет жизнь. Словом, судите обо мне, как хотите. Но и в негодовании своем сохраните чуточку дружбы ко мне, пусть в воспоминании вашем будет и горечь и нежность, как бывает в осенние дни, когда и солнечно и ветрено. Это я заслужила. Не будьте жестоки с приятной и легкомысленной гостьей, вошедшей в вашу жизнь. Проститесь со мной как со странницей, которая уходит бог весть куда и которой грустно. Всегда ведь печально уезжать. Вы сейчас так озлобились на меня. О! я вас в этом не упрекаю. Меня это только мучит. Сохраните же ко мне чуточку симпатии. Как знать? Мы никогда не знаем будущего. Для меня оно такое неясное, такое смутное. Только бы я могла говорить себе, что была с вами доброй, простой, откровенной и что вы этого не забыли. Со временем вы поймете, вы простите. Пожалейте же меня уже сейчас.
Он не слушал ее, успокоенный ласковостью голоса, звуки которого лились, чистые и ясные. Вдруг он сказал:
— Вы его не любите. Вы любите меня. Так как же?..
Она не знала, что ответить, и уклончиво проговорила:
— Ах! сказать, кого любишь, кого не любишь это нелегко для женщины, по крайней мере для меня. Не знаю, как поступают другие. Но жизнь беспощадна. Она бросает нас, толкает, швыряет…
Он посмотрел на нее очень спокойно. Ему пришла в голову мысль — он принял решение. Все устроится. Он простит, он забудет, лишь бы она сразу же вернулась к нему.
— Тереза, ведь вы не любите его? Это была ошибка, минута забвения, вы сделали глупую и ужасную вещь, сделали по слабости, застигнутая врасплох, может быть — с досады. Поклянитесь мне, что вы с ним больше не встретитесь.
Он взял ее за руку.
— Поклянитесь!
Она молчала, сжав губы; лицо ее было мрачно; оп стиснул ей пальцы. Она закричала:
— Вы мне делаете больно!
Но у него был свой план. Он потащил ее к столу, на котором рядом со щетками была чернильница и несколько листков почтовой бумаги с большой голубой виньеткой, изображающей фасад гостиницы с бесчисленными окнами.
— Пишите то, что я вам продиктую. Я велю отнести письмо.
Но она противилась, и ей пришлось упасть на колени. Гордая и спокойная, она сказала:
— Я не могу, я не хочу.
— Почему?
— Потому, что… Вы хотите знать?.. Потому, что я его люблю.
Он неожиданно выпустил ее локоть. Если бы под рукой у него был револьвер, он, может быть, убил бы ее. Но почти сразу же ярость его перешла в грусть, и теперь уже он, отчаявшись во всем, сам был бы рад умереть.
— Это правда? Может ли это быть? Неужели это правда?
— Да разве я знаю? Разве я могу сказать? Разве я понимаю? Разве я могу о чем-нибудь думать, что-нибудь чувствовать, соображать? Разве я…
Сделав над собой усилие, она прибавила:
— Разве есть для меня в эту минуту что-нибудь другое, кроме моей грусти и вашего отчаяния?
— Ты его любишь! любишь! Да что это за человек, каков он, если вы могли его полюбить?
Пораженный неожиданностью, он не мог прийти в себя от изумления. Но ее слова все-таки положили между ними преграду. Он уже не смел грубо обращаться с ней, схватить ее, ударить, смять, как вещь, как что-то скверное и непокорное, но все же принадлежащее ему. Он повторил:
— Вы его любите! Любите! Но что он вам сказал, что он сделал с вами, что вы его любите? Я же вас знаю, только я иной раз не признавался, что взгляды, которых вы придерживаетесь, меня шокируют. Готов держать пари, что это человек даже не нашего круга. И вы воображаете, что он вас любит? Вы так думаете? Ну, так вы ошибаетесь: он вас не любит. Просто-напросто это ему льстит. Он бросит вас при первом же случае. Когда он достаточно скомпрометирует вас, он вас прогонит. И вы пойдете по рукам. Через год о вас будут говорить: «Она никем не брезгует». Мне обидно за вашего отца, как за моего друга, а он-то о вашем поведении узнает, не надейтесь обмануть его!
Она слушала, оскорбленная, но и утешенная мыслью о том, как мучительно ей было бы его великодушие.
Он в своей простоте искренне презирал ее. И это облегчало его боль. Он упивался этим чувством.
— Как все это произошло? Мне-то вы можете сказать.
Она пожала плечами с таким пренебрежением, что он уже не смел продолжать в этом тоне. В нем опять заговорила злоба.
— Неужели вы воображаете, что я буду помогать вам соблюсти приличия, что буду приходить к вам, продолжать знакомство с вашим мужем, что я буду поощрять вас?
— Я думаю, вы сделаете то, что должен сделать порядочный человек. Я ничего от вас не требую. Мне хотелось сохранить воспоминание о вас, как о самом лучшем друге. Я думала, вы будете снисходительны и добры ко мне. Это оказалось невозможным. Вижу, что мирно расстаться нельзя. Потом, со временем вы обо мне будете судить лучше. Прощайте!
Он посмотрел на нее. Теперь лицо его выражало не столько гнев, сколько страдание. Она никогда не видела у него таких сухих, обведенных синими кругами глаз, не замечала таких впалых висков, редких волос. Казалось, он состарился за один час.
— По-моему, лучше предупредить вас. Я не могу больше видеться с вами. Вы не такая женщина, с которой может встречаться тот, кто ею обладал и утратил ее. Говорю вам: вы не такая, как все. В вас особенный яд, вы меня отравили им, я его чувствую в себе, в своих жилах, во всем своем существе. Зачем я вас узнал?
Теперь в ее взгляде светилась доброта.
— Прощайте! И скажите себе, что я не стою таких жгучих сожалений.
Но когда он увидел, что она дотронулась до ручки двери, когда по этому жесту он почувствовал, что вот-вот потеряет ее и никогда больше не вернет, он вскрикнул и бросился к ней. Он уже ничего не помнил. Оставалась лишь ошеломленность, сознание большого несчастья, непоправимой утраты. И из глубины его оцепенения подымалось желание. Ему хотелось еще раз овладеть ею — той, которая теперь уходит и больше не вернется. Он потянул ее к себе. Он желал ее просто, всею силой своей животной воли. Она сопротивлялась ему всею той волей, независимой и насторожившейся, которая в ней была. Высвободилась она вся измятая, истерзанная, разбитая, но даже и не почувствовав страха.
Он понял, что все бесполезно; он восстановил в памяти случившееся и понял, что она больше не принадлежит ему, потому что принадлежит другому. Боль снова вернулась к нему, он осыпал ее бранью и вытолкал из комнаты.
Она мгновение постояла в коридоре, из гордости ожидая хоть слова, хоть взгляда, которые достойно завершили бы их былую любовь.
Но он еще раз крикнул: «Уходи!» — и с силой захлопнул дверь.
На Виа Альфьери она вновь увидела флигель в глубине двора, поросшего блеклой травой. Он стоял все такой же мирный и безмолвный, с козами и нимфами на фронтоне, храня верность любовникам времен великой герцогини Элизы[113]. Тереза сразу же почувствовала, что вырвалась из тягостного и грубого мира и перенеслась в те времена, когда еще не ведала печалей жизни. Внизу лестницы, ступени которой были усыпаны розами, ее ждал Дешартр. Она бросилась к нему в объятия и замерла. Он на руках понес ее, безвольную и неподвижную, словно это были драгоценные останки той, перед кем он благоговел и трепетал. Полузакрыв глаза, Тереза чувствовала себя в его власти и наслаждалась гордым сознанием своей беззащитности перед ним. Ее усталость, ее печаль, отвращение, испытанное за день, воспоминание о грубостях, вновь обретенная свобода, жажда забыть недавний страх — все оживляло, все возбуждало ее нежность. Она упала на постель и обвила руками шею друга.
Придя в себя, они веселились, как дети. Они смеялись, говорили всякий вздор, играли, пробовали апельсины, лимоны, арбузы, лежавшие возле них на разрисованных тарелках. Оставшись в одной только розовой тонкой рубашке, которая, соскользнув на плечо, открывала одну грудь и еле прикрывала другую с проступавшим сквозь ткань соском, Тереза радовалась красоте своего тела. Губы ее были полуоткрыты, зубы влажно блестели. Она с кокетливым беспокойством спрашивала, не разочарован ли он после тех мечтаний, в которых он с искусством знатока рисовал себе ее образ.
В ласковом свете дня, проникавшем в комнату, он с юношеской радостью созерцал ее. Он осыпал ее похвалами, целовал.
Они забывались среди шутливых ласк, нежных пререканий, бросая друг на друга счастливые взгляды. Потом внезапно став серьезными, с отуманенными глазами, сжав губы, во власти того священного неистовства, которое делает любовь похожей на ненависть, они снова отдавались друг другу, сливаясь, погружаясь в бездну.
И она снова открывала влажные глаза и улыбалась, не поднимая головы с подушки, по которой разметались ее волосы, томная как после болезни.
Он спросил ее, откуда у нее красное пятнышко на виске. Она ответила, что не знает и что это пустяк. Она почти что и не лгала, она была искренна. Она в самом деле не помнила.
Они стали перебирать в памяти короткую и прекрасную историю своей жизни, начавшейся только с того дня, когда они встретили друг друга.
— Помните, на террасе, на другой день после вашего приезда?.. Вы говорили мне что-то туманное и бессвязное… Я догадалась, что вы в меня влюблены.
— Я боялся, что покажусь вам глупым.
— Так оно и было отчасти. Но для меня это была победа. Меня начинало сердить, что вас так мало волнует моя близость. Я полюбила вас прежде, чем вы меня. О! я этого не стыжусь.
Он влил ей в рот несколько капель шипучего асти. Но на столике стояла бутылка тразименского вина. Ей захотелось его попробовать в память об озере, которое она увидала в вечерний час, пустынным и печальным, словно покоящемся в опаловой чаше с отбитыми краями. Это было во время ее первого путешествия по Италии. С тех пор прошло шесть лет.
Он упрекнул ее в том, что она без него узнавала красоту мира.
Она ответила ему:
— Без тебя я ничего не умела видеть. Почему ты не приходил раньше?
Он зажал ей рот долгим поцелуем. А когда она очнулась, изнемогая от радости, усталая и счастливая, она крикнула:
— Да, я тебя люблю! И никого не любила, кроме тебя!
XXII
Ле Мениль написал ей: «Уезжаю завтра в семь часов вечера. Будьте на вокзале».
Она приехала. Она увидела его, корректного, спокойного, у стоянки отельных омнибусов, — на нем был длинный серый плащ с пелериной; Ле Мениль обронил:
— А, вы здесь!
— Вы же звали меня, друг мой.
Он не признался, что написал ей в нелепой надежде на то, что она снова полюбит его и что все забудется или что она скажет: «Я испытывала вас».
Если бы она так сказала, он сейчас же поверил бы ей.
Но она не произнесла этих слов; он был разочарован и сухо спросил:
— Вы ничего не хотите мне сказать? Ведь должны говорить вы, а не я. Мне-то незачем объясняться. Мне нечего оправдываться в измене.
— Друг мой, не будьте жестоки, не будьте неблагодарны к нашему прошлому. Вот все, что я хотела вам сказать. И еще я хочу сказать, что покидаю вас с грустью, как истинный друг.
— И это все? Скажите это лучше тому, другому. Ему будет интереснее.
— Вы позвали меня, и я пришла; не заставляйте меня жалеть об этом.
— Досадно, что я побеспокоил вас. Конечно, вы могли бы лучше провести время. Не смею вас задерживать. Отправляйтесь же к нему, ведь вам не терпится.
При мысли, что в этих жалких и гадких словах отражено извечное человеческое страдание и что тому есть примеры в трагедиях, ее охватила печаль, смешанная с чувством иронии, и губы ее дрогнули. Он решил, что она смеется.
— Не смейтесь и выслушайте меня. Третьего дня, в гостинице, я хотел вас убить. И был так близок к этому, что теперь знаю, как доходят до убийства. И потому я этого не сделаю. Можете быть вполне спокойны. Да и к чему? Я считаю нужным соблюдать приличия, охраняя самого себя, поэтому в Париже сделаю вам визит. К моему сожалению, я услышу, что вы не можете меня принять. Я повидаюсь с вашим мужем, повидаюсь также с вашим отцом. Это будет прощальный визит перед довольно продолжительным путешествием. Прощайте, сударыня!
Он повернулся к ней спиной, и в этот миг Тереза увидала мисс Белл и князя Альбертинелли: они выходили из здания товарной станции и направлялись к ней. Князь был очень хорош. Вивиан шла рядом с ним, сияя от радости.
— О darling, вы здесь — вот приятная неожиданность! Мы с князем только что были в таможне, осматривали колокол — его уже доставили.
— Ах, вот как! Колокол доставили?
— Да, колокол Гиберти здесь, darling. Я видела его — он в своей деревянной клетке. Он не звонит, ибо он пленник. Но у себя во Фьезоле я устрою для него колокольню. Когда он почует воздух Флоренции, для него будет счастьем запеть, и мы услышим его серебристый голос. Голуби будут навещать колокол, и он своим звоном откликнется на все наши радости и все наши скорби. Он будет звонить для вас, для меня, для князя, для милейшей госпожи Марме, для господина Шулетта, для всех наших друзей.
— Дорогая, колокола никогда не откликаются на истинные радости и на истинные скорби. Это честные чиновники, которым знакомы лишь официальные чувства.
— О darling, вы ошибаетесь! Колоколам ведомы тайны души; им все известно. До чего же я рада, что встретила вас. О, я знаю, my love, отчего вы приехали на вокзал. Ваша горничная выдала вас. Она сказала мне, что вы ждете розовое платье, которого все нет, и вы сгораете от нетерпения. Но не огорчайтесь. Вы всегда хороши, my love.
Она усадила г-жу Мартен в свой кабриолет.
— Скорее, darling, сегодня у нас обедает господин Дешартр, и я не хочу заставлять его ждать.
Они ехали в вечерней тишине, дорогами, где разливались лесные запахи.
— Видите, darling, вон там черные прялки Парок[114], кипарисы на кладбище? Там-то я и хочу покоиться.
А Тереза думала с тревогой: «Они его видели. Узнали? Кажется, нет. На площади было уже темно, а огоньки, которыми она усеяна, слепят глаза. Да и знакома ли она с ним? Не помню, встречались ли они у меня в прошлом году».
Особенно же ее беспокоила сдержанная веселость князя.
— Darling, хотите место рядом со мною, там, на сельском кладбище, — чтобы мы покоились друг подле друга, а над нами было бы немножко земли и беспредельное небо! Но я напрасно обращаюсь к вам с таким предложением — ведь вы не можете его принять. Вам не позволят спать вечным сном у подножья холмов Фьезоле, my love. Вы должны покоиться в Париже, под великолепным надгробным памятником, рядом с графом Мартен-Беллемом.
— Почему? Или вы думаете, дорогая, что жена должна быть связана с мужем даже и после смерти?
— Разумеется, должна, darling. Узы брака — и земные и вечные. Разве вы не знаете историю молодой любящей четы[115] в Оверни? Супруги умерли почти одновременно, и их положили в могилы, разделенные дорожкой. Но каждую ночь шиповник перекидывал с могилы на могилу свои цветущие ветви. Пришлось соединить гробы.
Проехав Бадию, они увидели какую-то процессию, подымавшуюся по склонам холма. Вечерний ветер задувал пламя свечей, вставленных в деревянные позолоченные подсвечники. Девушки в белом и голубом шли за разрисованными хоругвями. Позади них выступали святой Иоанн — белокурый в локонах мальчик в шкуре ягненка, с голыми руками и плечами, святая Мария Магдалина лет семи, нагота которой была прикрыта золотым покровом распущенных волос. А дальше толпой двигались жители Фьезоле. Среди них графиня Мартен увидела Шулетта. Синие очки спустились на самый кончик его носа; Шулетт держал в одной руке свечу, в другой — книгу и пел; рыжеватые отблески прыгали на его скуластом, курносом лице и на шишковатой лысой голове. Нечесаная борода поднималась и опускалась в такт песнопению. От резкой игры света и теней на его лице он казался старым и могучим, как один из тех отшельников, которые весь свой век могут посвятить покаянию.
— Как он хорош, — заметила Тереза. — Он любуется самим собой. Он великий актер.
— О darling, почему вы думаете, что господин Шулетт не может быть благочестивым человеком? Почему? В вере столько радости и красоты. Это известно поэтам. Если б господин Шулетт не верил, он не писал бы такие замечательные стихи.
— А вы-то сами, дорогая, верите?
— О да, я верю в господа бога и в слово Христово.
Балдахины, хоругви и белые покрывала уже исчезли за поворотом горной дороги, а на лысине Шулетта все еще золотистыми лучами отражалось пламя свечи.
Дешартр тем временем ждал в саду один. Тереза увидела, что он стоит, облокотившись на перила террасы, там, где он впервые испытал терзания любви. Пока мисс Белл с князем Альбертинелли выбирали место для колокола, который скоро должны были привезти, Дешартр увлек подругу к кустам ракитника.
— Ведь вы же обещали, что к моему приходу будете в саду. Я жду вас целый час, я истерзался. Вы не должны были уходить. Ваше отсутствие удивило меня и привело в отчаяние.
Она уклончиво отвечала, что ей пришлось поехать на вокзал и что мисс Белл привезла ее назад.
Он извинился за свою несдержанность. Но все пугало его. Он страшился своего счастья.
Все уже сидели за столом, когда появился Шулетт; он напоминал античного сатира; его лучистые глаза светились дикой радостью. С тех пор как он вернулся из Ассизи, он общался лишь с людьми простыми, целыми днями пил кьянти с девицами легкого поведения, с мастеровыми и, возвещая пришествие Иисуса Христа и скорую отмену налогов и воинской повинности, учил радости и кротости. Когда процессия кончилась, он собрал каких-то бродяг среди развалин древнего театра и в макароническом стиле[116], пользуясь некоей смесью французского языка с тосканским, произнес речь, которую теперь с удовольствием воспроизвел:
— Короли, сенаторы и судьи сказали: «Жизнь народов — в нас». Но они лгут, они — точно гроб, который говорит: «Я колыбель».
Жизнь народов — в урожае нив, что желтеют под взглядом господа. Она — в виноградных лозах, обвивающих молодые вязы, в улыбках и слезах, которыми небеса омывают плоды деревьев в садах.
Она — не в законах, что созданы людьми богатыми и могущественными для сохранения своего могущества и богатства.
Правители королевств и республик написали в своих книгах, что право людское есть право войны. И они восславили насилие. Они воздают почести завоевателям и на общественных площадях воздвигают статуи победителю и его коню. Но нет права убивать: вот почему человек справедливый не будет во время рекрутского набора тянуть жребий из урны. Нет права — поощрять безумства и преступления правителя, поставленного во главе королевства или республики; вот почему человек справедливый не станет платить налогов и не даст денег сборщикам податей. Он будет в мире вкушать плоды труда своего, будет печь хлеб из ржи, которую посеял, и есть плоды с деревьев, которые вырастил.
— Ах, господин Шулетт, — серьезным тоном сказал князь Альбертинелли, — вы хорошо делаете, что интересуетесь состоянием наших бедных и прекрасных земель, опустошаемых казной. Какую выгоду может дать земля, если тридцать три процента чистого дохода уходят на налоги? Тут и хозяин и слуги — жертвы сборщика податей.
Дешартра и г-жу Мартен поразила неожиданная искренность его тона. Он добавил:
— Я люблю короля. Я ручаюсь за свою приверженность ему. Но меня тревожат бедствия крестьян.
В действительности же он с упорством и изворотливостью добивался лишь одного — восстановить имение Казентино, которое досталось ему от отца, князя Карло, адъютанта Виктора-Эммануила, уже на три четверти захваченное ростовщиками. Под его притворной мягкостью скрывалось упрямство. Пороки у него были только полезные, служившие цели его жизни. Чтобы вновь стать крупным тосканским землевладельцем, он занимался торговлей картинами, украдкой продавал знаменитые плафоны своего палаццо, искал расположения старых дам и, наконец, домогался руки мисс Белл, которая, как он знал, весьма ловко умела обогащаться и вести дом. Он действительно любил землю и крестьян. Страстные слова Шулетта, которые он понимал довольно смутно, будили отклик в его душе. Он продолжал высказывать свою мысль:
— В стране, где хозяин и слуги составляют одну семью, судьба первого зависит от судьбы последних. Казна разоряет нас. Какие чудесные люди наши крестьяне! Во всем мире не найдется других таких пахарей.
Госпожа Мартен призналась, что не подумала бы этого. Только в Ломбардии, как ей показалось, поля были хорошо обработаны и прорезаны бесчисленными каналами. А Тоскана представлялась ей прекрасным запущенным садом.
Князь ответил с улыбкой, что, вероятно, она не стала бы так говорить, если бы оказала ему честь и посетила его фермы в Казентине, пострадавшие, правда, от долгих и разорительных судебных тяжб. Там она увидела бы, что собой представляет итальянский крестьянин.
— У меня много хлопот с имением. И как раз сегодня вечером, когда я вернулся оттуда, мне вдвойне повезло: я встретил на вокзале мисс Белл, приехавшую ради своего колокола, и вас, сударыня, — вы беседовали со своим парижским знакомым.
Он догадался, что ей будет неприятно, если он заговорит об этой встрече. Оглянув сидевших за столом, он заметил, как встревожился и удивился Дешартр, который не мог скрыть своих чувств. Князь не унимался:
— Простите, сударыня, сельского жителя, претендующего на некоторое знание света: в этом господине, разговаривавшем с вами, я угадал парижанина по его английскому облику, а кроме того, он, при всей нарочитой корректности, держался так непринужденно и был необыкновенно оживлен.
— О, я давно с ним не виделась, — небрежно сказала Тереза, — и меня изумила наша встреча во Флоренции перед самым его отъездом.
Она посмотрела на Дешартра, который делал вид, что не слушает.
— А я знакома с этим господином, — заметила мисс Белл. — Это — Ле Мениль. Мы два раза сидели рядом на обеде у госпожи Мартен, и он очень мило разговаривал со мной. Он говорил, что любит футбол, что он ввел эту игру во Франции и что теперь футбол в большой моде. Он рассказывал мне также о своих охотничьих приключениях. Он любит животных. Я замечала, что охотники очень любят животных. Уверяю вас, darling, что господин Ле Мениль замечательно рассказывает о зайцах. Он знает их привычки. Он говорил мне, что просто наслаждение смотреть, как они пляшут при луне среди вереска. Он уверял меня, что они очень умны и что он видел, как один старый заяц, за которым гнались собаки, ударами лапок заставил другого зайца выйти из норки, чтобы обмануть собак. А вам господин Ле Мениль рассказывал о зайцах, darling?
Тереза ответила, что не помнит и что охотники, по ее мнению, люди скучные.
Мисс Белл возразила. Она не думала, что г-н Ле Мениль может быть скучен, когда рассказывает о зайцах, которые пляшут при луне на вересковой пустоши или в винограднике. Ей хотелось бы, подобно Фанион, вырастить зайчонка.
— Darling, вы вряд ли слыхали о Фанион. О, я уверена, что господин Дешартр про нее знает. Была она прекрасна и любима поэтами. Она жила на острове Кос в доме на склоне холма, поросшего лимонными и терпентиновыми деревьями, и спускалась к синему морю. И говорят, что взгляд ее встречался с синим взглядом волн. Историю Фанион я рассказала господину Ле Менилю, и она ему очень понравилась. Какой-то охотник подарил Фанион зайчонка с длинными ушами, которого отняли от матери, когда он еще сосал. Фанион вырастила его у себя на коленях и кормила весенними цветами. Он полюбил Фанион и забыл свою мать. Но он объелся цветами и умер. Фанион оплакивала его. Она похоронила его в саду среди лимонных деревьев, а могилу его она могла видеть со своей постели. И песни поэтов утешали тень зайчонка.
Добрейшая г-жа Марме сказала, что г-н Ле Мениль производит прекрасное впечатление благодаря своим изысканным и скромным манерам, которых больше не встретишь у молодых людей. Ей бы очень хотелось повидаться с ним. Ей надо попросить его об одной услуге.
— Поговорить с ним о моем племяннике, — пояснила она. — Он — артиллерийский капитан, на прекрасном счету, и его очень любит начальство. Его полковник долго служил под командованием дяди господина Ле Мениля, генерала Бриша. Если бы господин Ле Мениль согласился попросить своего дядю написать полковнику Фору несколько слов о моем племяннике, я была бы ему очень благодарна. Впрочем, мой племянник немного знаком с господином Ле Менилем. В прошлом году они вместе были на балу-маскараде, который капитан де Лессе дал в отеле «Англетер» офицерам Канского гарнизона и молодежи из окрестных имений.
Госпожа Марме добавила, опустив глаза:
— Гостьи не принадлежали, разумеется, к светскому обществу. Но, говорят, среди них были прехорошенькие. Их выписали из Парижа. Мой племянник, от которого я знаю все эти подробности, был одет форейтором, а господин Ле Мениль — гусаром смерти и имел большой успех.
Мисс Белл, по ее словам, было очень досадно, что она не знала о приезде господина Ле Мениля во Флоренцию. Она, конечно, пригласила бы его приехать отдохнуть во Фьезоле.
Дешартр до конца обеда был мрачен и рассеян, а когда Тереза на прощанье протянула ему руку, то почувствовала, что он не отвечает на пожатье.
XXIII
На следующий день она пришла в укромный флигель на Виа Альфьери и заметила, что Дешартр озабочен. Сперва она попыталась отвлечь его от мыслей своим бурным весельем, своей нежной и задушевной страстностью, великолепным смирением любящей женщины, отдающей всю себя. Но он был мрачен по-прежнему. Всю ночь он размышлял, растравлял, вынашивал свою печаль и свою досаду. Нашлось много поводов для терзаний. Руку, опускавшую письмо в почтовый ящик перед бронзовой статуей св. Марка, он мысленно связал с тем пошлым и страшным незнакомцем, которого видели на вокзале. Теперь страдания Жака Дешартра приобрели очертания, имя. Он сидел в том старом кресле, в котором сидела Тереза в день своего первого посещения и которое теперь уступила ему, и отдавался во власть мучительных образов, а она оперлась на ручку кресла и склонилась к Дешартру, окутывая его теплотой своего тела, своей любящей души. Она слишком хорошо догадывалась о причине его страданий, чтобы прямо его спросить.
Надеясь навести его на более отрадные мысли, она стала вспоминать о сокровенных тайнах комнаты, в которой они сидели, о их прогулках по городу. Она вспоминала простые и милые подробности.
— Ложечка, которую вы мне подарили у Ланци, — ложечка с красной лилией — теперь служит мне по утрам, когда я пью чай. И по тому, с какой радостью я смотрю на нее, когда просыпаюсь, я чувствую, как я люблю тебя.
Но его ответ был грустен и туманен, и она сказала:
— Вот я здесь, с вами, а вам нет дела до меня. Вы заняты мыслью, которой я не знаю. Но я-то существую на свете, а мысль — это ничто.
— Мысль — ничто? Вы думаете? Мысль делает счастливым или несчастным; мыслью живут, от мысли умирают. Ну да, я думаю…
— О чем вы думаете?
— Зачем спрашивать? Вы же знаете, я думаю о том, что узнал вчера вечером и что вы скрывали от меня. Я думаю о вашей вчерашней встрече на вокзале, ведь она не была случайной, о ней было условлено в письме — вспомните письмо, опущенное в почтовый ящик у Ор-Сан-Микеле. О! Я вас не упрекаю. Я не имею права на это. Но зачем же вы отдавались мне, если не были свободны?
Она решила, что надо лгать.
— Вы говорите о человеке, которого я видела вчера на вокзале? Уверяю вас, это была самая обычная встреча.
Его больно поразило, что она не смеет назвать по имени того, о ком говорит. Он тоже избегал произносить его имя.
— Тереза, он приезжал не ради вас? Вы не знали, что он во Флоренции? Он для вас — не что иное, как человек, с которым вы встречаетесь в свете и который бывает у вас? Он — не тот, кто и незримый заставил вас сказать мне на берегу Арно: «Я не могу». Он для вас — ничто?
Она твердо ответила:
— Он иногда бывает у меня. Мне его представил генерал Ларивьер. Вот и все. Уверяю вас, мне он нисколько не интересен, и я просто не постигаю, что вам приходит в голову.
Она испытывала какое-то странное удовлетворение, отрекаясь от человека, который с такой жестокостью и грубостью заявлял о своих правах на нее. Но она вступила на скользкий путь, ей хотелось скорее остановиться. Она встала и посмотрела на своего друга нежным и серьезным взглядом.
— Послушайте: с того дня, как я стала вашей, вся моя жизнь принадлежит лишь вам. Если что-нибудь возбудит в вас сомнение или встревожит, спрашивайте меня. Настоящее принадлежит вам, и вы ведь знаете, что в нем — только вы, вы один, ты один. А что до моего прошлого, то если б вы только знали, какая это была пустота, вы бы остались довольны. Не думаю, чтобы другая женщина, как я, созданная для любви, могла принести вам такую нетронутую любовью душу. Это так, клянусь вам. Я не жила те годы, что прошли без вас. О них и говорить не стоит. И мне нечего стыдиться прошлого. Другое дело — можно жалеть о многом, и я жалею, что так поздно познакомилась с вами. Зачем, друг мой, зачем вы не появились раньше? Пять лет тому назад я с такой же радостью стала бы вашей, как сейчас. Но, право же, не стоит терзать себя, не стоит рыться в прошлом. Вспомните Лоэнгрина[117]. Если вы меня любите, то я для вас — рыцарь лебедя. Я ни о чем не спрашивала вас. Я ничего не хотела узнать. Не делала вам упреков по поводу Жанны Танкред. Я видела, что ты меня любишь, что ты страдаешь, и для меня этого было довольно… потому что я любила тебя.
— Женщина не может ни ревновать так, как ревнует мужчина, ни чувствовать то, от чего мы больше всего страдаем.
— Право, этого я не знаю. Но почему же?
— Почему? Потому что в крови, в плоти у женщины нет той безумной и высокой жажды обладания, того древнего инстинкта, который мужчина превратил в свое право. Мужчина — это бог, который желает безраздельно владеть своим твореньем. А женщина создана так с незапамятных времен, что ей суждено делиться собою. Нашими страстями управляет прошлое, туманное прошлое. Мы стары от рождения. Ревность для женщины — всего лишь укол самолюбия. Для мужчин — это пытка, глубокая, как нравственное страдание, долгая, как страдание физическое… Ты спрашиваешь, почему? Потому что, вопреки моей покорности и моей почтительности, вопреки страху, который ты внушаешь мне, ты — плоть, а я — мысль, ты — вещь, а я — душа, ты — глина, а я — ваятель. О! не жалуйся на это. Что значит смиренный и грубый горшечник подле округлой, обвитой гирляндами амфоры? Она невозмутима и прекрасна. Он жалок. Он томится, он желает, он мучится; ведь желать — это значит мучиться. Да, я ревнив. Я знаю, что заложено в моей ревности. Когда я вглядываюсь в нее, я нахожу извечные предрассудки, гордость дикаря, болезненную чувствительность, смесь глупой грубости и жестокой слабости, бессмысленное и злобное восстание против законов жизни и света. Но хоть я и постиг, что это такое, она все же не оставляет и терзает меня. Я — как химик, исследующий свойство кислоты, которую он выпил, и знающий, с какими элементами она вступает в соединения и какие соли образует. Но ведь кислота жжет его и прожжет до костей.
— Друг мой, ведь это нелепость?
— Да, нелепо, я сознаю это лучше, чем вы сами. Желать женщину во всем блеске ее красоты и ума, женщину независимую, искушенную, смелую, — а от этого она еще прекраснее и желаннее, — женщину, чей выбор свободен, сознателен, разумен, увлечься ею, любить ее такой, какая она есть, и страдать оттого, что нет в ней ни детской чистоты, ни чахлой пресной невинности, которые в ней были бы противны, если бы вообще они могли в ней быть, требовать, чтобы она была естественной и в то же время неестественной, обожать ее такой, какой сделала ее жизнь, и горько сожалеть, что жизнь, сделавшая ее прекрасной, коснулась ее, о, как все это нелепо! Я люблю тебя, понимаешь, люблю со всеми теми чувствами, всеми привычками, с которыми ты пришла ко мне, со всем тем, что дал тебе опыт, со всем тем, что дал тебе он, а быть может, они, как, знать… Вот мое блаженство, вот мое мучение. Глубокий смысл, должно быть, заложен в глупом общественном мнении, которое считает нашу любовь преступной. Радость всегда преступна, когда она безмерна. Вот почему я страдаю, любовь моя.
Она стала перед ним на колени, взяла его за руки, привлекла к себе:
— Я не хочу, чтобы ты страдал, не хочу. Да это просто безумие. Я люблю тебя и никого другого не любила. Ты можешь мне поверить, я не лгу.
Он поцеловал ее в лоб.
— Если б ты, дорогая, обманывала меня, я бы на тебя не сердился. Напротив, я был бы тебе благодарен. Обманывать того, кто страдает, — что может быть справедливее, что может быть человечнее? Что бы с нами было, — о боже! — если бы женщины из милосердия не лгали нам? Лги, любовь моя, лги из жалости. Дай мне насладиться грезой, ведь она расцвечивает черную печаль. Лги, не упрекай себя. Ведь к мечте о любви и красоте у меня прибавилась бы еще одна несбыточная мечта.
Он вздохнул:
— О! здравый смысл! людская мудрость!
Она спросила, что он хочет сказать и что это за людская мудрость. Он ответил, что есть верная, но грубая поговорка, о которой лучше умолчать.
— Скажи все-таки.
— Пусть будет по-твоему: «От поцелуев уста не блекнут».
И прибавил:
— Да, правда: любовь сохраняет красоту, а тело женщины живет ласками, как пчела — цветами.
Она поцелуем запечатлела свою клятву на его губах.
— Клянусь тебе, что никогда никого не любила, кроме тебя. Нет, нет, не ласки помогли мне сохранить частицу очарования, которую я с радостью отдам тебе. Я люблю тебя! люблю!
Но он помнил о письме, опущенном в ящик у Ор-Сан-Микеле, и о незнакомце, с которым она встретилась на вокзале.
— Если бы вы действительно любили меня, вы любили бы лишь меня одного.
Она поднялась, негодуя.
— Вы решили, что я люблю другого. Но ведь вы говорите чудовищные вещи. Вот, значит, какого вы мнения обо мне! И еще уверяете, что любите меня… Послушайте, мне просто жаль вас, ведь вы сумасшедший.
— Сумасшедший, правда? Повторите. Повторите же.
Став на колени, она гладила ему виски и щеки своими мягкими ладонями. Она еще раз сказала, что нелепо тревожиться из-за самой обыкновенной, самой простой встречи. Она заставила его поверить, или, вернее, забыть. Он больше ничего не видел, не знал, не сознавал, кроме этих легких рук, этих горячих губ, этих жадных зубов, этой округлой шеи, этого тела, отдававшегося ему. Он хотел теперь лишь одного — раствориться в ней. Горечь и злоба рассеялись, и осталось лишь острое желание все забыть, заставить ее обо всем забыть и вместе с ней погрузиться в небытие. Она же, вне себя от тревоги и желания, чувствуя, какую всеобъемлющую страсть она внушает, сознавая все свое беспредельное могущество и в то же время свою слабость, в порыве безудержной страсти, до сих пор неведомой ей самой, ответила на его любовь. И безотчетно, в каком-то исступлении, охваченная смутным желанием отдать всю себя, как никогда прежде, она осмелилась на то, что раньше считала для себя невозможным. Горячая мгла окутывала комнату. Золотые лучи, вырываясь из-за краев занавеси, освещали корзинку с земляникой на столе, рядом с бутылкой асти. У изголовия постели улыбался поблекшими губами светлый призрак венецианки. Бергамские и веронские маски на ширмах предавались безмолвной радости. Роза в бокале, поникнув, роняла лепесток за лепестком. Тишина была пронизана любовью; они наслаждались своей жгучей усталостью.
Она заснула на груди у своего возлюбленного, и легкий сон продлил ее блаженство. Раскрыв глаза, она, полная счастья, сказала:
— Я тебя люблю.
Он, приподнявшись на подушке, с глухой тревогой смотрел на нее.
Она спросила, почему он печален.
— Ты только что был счастлив. Что же случилось?
Но он покачал головой, не произнеся ни слова.
— Говори же! Лучше упреки, чем это молчание. Тогда он ответил:
— Ты хочешь знать? Так не сердись же. Я никогда так не страдал, как сейчас, — ведь теперь я знаю, что ты даешь.
Она резко отодвинулась от него и с укором и болью во взгляде сказала:
— Неужели вы думаете, что и с другим я была такой же, какой с вами! Вы оскорбляете меня в том, что для меня всего выше, — в моей любви к вам. Я вам этого не прощаю. Я вас люблю. Я никого не любила, кроме вас. Я страдала только из-за вас. Можете радоваться. Вы мне сделали так больно… Неужели вы злой?
— Тереза, нельзя быть добрым, когда любишь. Свесив, словно купальщица, свои обнаженные ноги,
она долго сидела на постели, неподвижная и задумчивая. Лицо, побледневшее от пережитых наслаждений, снова порозовело, и на ресницах показались слезы.
— Тереза, вы плачете!
— Простите меня, друг мой. Я впервые люблю и любима по-настоящему. Мне страшно.
XXIV
Пока по лестницам носили сундуки и глухой шум наполнял виллу Колоколов, пока Полина, с пакетами в руках, бесшумно и легко сбегала по ступенькам, пока добрейшая г-жа Марме спокойно и бдительно следила за отправкой багажа, а мисс Белл одевалась у себя в комнате, Тереза в сером дорожном костюме, облокотившись на перила террасы, в последний раз смотрела на город цветов.
Она решилась уехать. Муж в каждом письме звал ее вернуться. Если, как он неотступно просил ее, она возвратится в Париж в первых числах мая, им удастся до окончания сезона дать два-три обеда и устроить несколько приемов. Общественное мнение было на стороне его партии. Течение несло ее вперед, и Гарен полагал, что салон графини Мартен может оказать благотворное влияние на будущее страны. Эти доводы мало трогали ее, но теперь она чувствовала дружеское расположение к мужу и ей хотелось поскорее оказать ему услугу. Третьего дня она получила письмо от своего отца. Г-н Монтессюи, не касаясь политических перспектив зятя и ничего не советуя дочери, давал понять, что в свете начинают говорить о таинственном пребывании графини Мартен во Флоренции, в кругу поэтов и художников, и что издали ее пребывание на вилле Колоколов принимает характер некоего сентиментального каприза. Она сама чувствовала, что в маленьком мирке Фьезоле за нею наблюдают слишком пристально. В этой новой жизни г-жа Марме стесняла ее, а князь Альбертинелли беспокоил. Свидания во флигеле на Виа Альфьери становились затруднительны и опасны. Профессор Арриги, с которым князь поддерживал знакомство, встретил ее однажды вечером на безлюдной улице, когда она шла, прильнув к Дешартру. Профессор Арриги, автор трактата о земледелии, был самый любезный из всех ученых на свете. Этот седоусый красавец с мужественными чертами лица отвернулся, а на другой день ограничился тем, что сказал Терезе: «В былые времена я издали угадывал приближение красивой женщины. Теперь я вышел из того возраста, когда на меня благосклонно глядели дамы, но небо надо мною сжалилось: оно скрывает их от меня. У меня очень плохое зрение. Я не узнаю даже самого очаровательного лица». Она поняла и сочла это за предупреждение. Теперь она стремилась скрыть свое счастье в необъятном Париже.
Вивиан, которой она объявила о скором своем отъезде, уговаривала ее остаться еще на несколько дней. Но Тереза подозревала, что ее приятельница оскорблена советом, за которым однажды ночью приходила к ней в спальню, где на драпировках сплетались лимонные деревья, что во всяком случае ей теперь не вполне приятно общество наперсницы, которая не одобрила ее выбора и которую князь изобразил как кокетку и женщину, быть может, легкомысленную. Отъезд был назначен на пятое мая.
День сиял, чистый, очаровательный, над долиною Арно. Тереза, погруженная в задумчивость, могла видеть, стоя на террасе, голубую чашу Флоренции, а над нею гигантскую розу утренней зари. Она слегка наклонилась над перилами, стараясь отыскать взглядом, у подножья цветущих склонов, тот невидимый отсюда уголок, где она познавала беспредельное блаженство. Там, вдали, темным пятнышком вырисовывался кладбищенский сад, рядом с которым и находилась Виа Альфьери. Тереза представила себя в этой комнате, бесконечно для нее дорогой, куда она больше никогда, вероятно, не войдет. Безвозвратно ушедшие часы вставали в ее памяти подернутые печалью. Она почувствовала, как глаза ее затуманиваются, ноги подкашиваются, сердце замирает; ей казалось, что жизнь ее теперь уже вне ее, что она осталась в том уголке, где черные сосны поднимают к небу свои неподвижные вершины. Она упрекала себя, что так волнуется, без всякого повода, а между тем ей бы, напротив, следовало быть спокойной и радостной. Она знала, что встретится с Жаком Дешартром в Париже. Им хотелось вернуться туда в одно и то же время, или, вернее, вместе. Если они и решили, что ему необходимо остаться дня на три — на четыре во Флоренции, то во всяком случае встреча была близка, свидание назначено, и она жила уже одной мыслью о нем. Любовь сливалась с ее плотью и текла в ее крови. И все же какая-то частица ее существа осталась во флигеле, украшенном козами и нимфами, частица, которую ой уже никогда не вернуть. И сейчас, когда жизнь улыбалась ей, для нее умирали бесконечно дорогие чувства. Она вспоминала, как Дешартр ей сказал: «Любовь развивает фетишизм. Я сорвал на террасе черные высохшие ягодки бирючины, на которую вы посмотрели». Почему же она не взяла хоть маленького камешка на память о доме, где она забывала весь мир?
Мысли ее были прерваны — это вскрикнула Полина. Шулетт, выскочив из-за кустов ракитника, обнял горничную, которая относила в коляску плащи и саквояжи. Теперь он мчался по аллеям, радостный, косматый, а уши, торчащие точно рога, украшали его лысую голову. Он поклонился графине Мартен.
— Так, значит, мы прощаемся, сударыня?
Он оставался в Италии. Его призывала к себе некая дама; то была римская церковь. Ему хотелось повидаться с кардиналами. Одного из них, которого превозносили как старца весьма рассудительного, быть может заинтересует мысль о церкви социалистической и революционной. У Шулетта была цель — на развалинах несправедливой и жестокой цивилизации воздвигнуть распятие с Христом, но не мертвым и нагим, а полным жизни и осеняющим вселенную руками, излучающими свет. Ради этого намерения он основывал монашеский орден и газету. Про орден г-жа Мартен уже знала. Газета же будет стоить су и состоять из ритмических фраз, строиться как духовный стих. Ее можно и должно будет петь. Стих очень простой, страстный или радостный, — это в конечном счете единственная подходящая для народа речь. Проза нравится только людям с очень изысканным умом. Он бывал у анархистов на улице св. Иакова. Вечера они проводили, распевая и слушая романсы.
И он добавил:
— Газета, которая будет сборником песен, найдет доступ к душе народа. За мной признают некоторый талант. Не знаю, справедливо ли это, но следует согласиться, что ум у меня практический.
Мисс Белл, натягивая перчатки, спускалась с террасы.
— О darling, и город, и горы, и небо хотят, чтобы вы плакали по ним. Сегодня они постарались блеснуть красотой, чтобы вы пожалели о разлуке и захотели вновь увидеть их.
Но Шулетт, которому надоедала изящная сухость тосканской природы, скучал по зеленой Умбрии и ее влажному небу. Он вспоминал Ассизи, этот город, возносящий молитвы над тучной равниной, где земля как-то мягче и как-то смиреннее.
— Есть там, — сказал он, — леса и скалы, есть поляны, над которыми открывается клочок неба в белых облаках. Я бродил там по следам доброго святого Франциска и переложил там его «Похвалу солнцу» старинными французскими стихами, простыми и наивными.
Госпожа Мартен сказала, что хочет их послушать. Мисс Белл уже слышала их, и лицо ее приняло проникновенное выражение ангела, изваянного Мино[118].
Шулетт предупредил их, что это будет произведение бесхитростное, безыскусное. Этим стихам не пристало быть красивыми. Они — просты, хотя и неправильны по размеру, но зато легко звучат. Затем медленно и монотонно он прочел свою песнь:
Я тебя восхвалю, о господь, за то, что ты властной рукой Назначенный людям мир изукрасил дивной работой. Как опытный книжник, ты покрыл строку за строкой Ультрамарином здесь, там — зеленью и позолотой. Я тебя восхвалю за то, что великому Солнцу-царю Ты дал в удел красоту и блеск чудотворного жара, Что ты облачил его в достойную бога зарю И что ты придал ему совершенную форму шара. Я тебя восхвалю, о господь, и за нашу сестрицу Луну, И за то, что наш братец Вихрь поднимается к Звездам-сестрам, И за то, что на синий свод ты набрасываешь пелену, И за то, что рассветный туман влачишь ты по травам пестрым. О владыко, тебя восхвалю и стократно восславлю, господь, За могучий дубовый ствол над цветочной крошечной чашей, И за буйного брата Огня, согревающего нашу плоть, И за скромный лепет Воды, самой чистой сестрицы нашей, И за Землю, за то, что она, разукрасив цветами луга, Кормит грудью и всех матерей, над детьми поникающих с дрожью, И того, кто молится днесь, и того, чьих слез жемчуга Носят ангелы в пригоршнях ввысь, к золотому престолу божью. И еще за сестру мою, Жизнь, и за Смерть, вторую сестру, Буду славить тебя в светлый миг и склоняясь под смертною сенью, Потому что, смежая глаза, в этот час я усну, не умру, Чтоб, проснувшись, воздать хвалу лучезарной заре Воскресенью[119].— О господин Шулетт, — сказала мисс Белл, — эта песнь поднимается к небу, как тот отшельник на фреске Кампо Санто в Пизе[120], что восходит на гору, любезную козам. Вот что: старец отшельник идет ввысь, опираясь на посох веры, и шаг его неровен, потому что он опирается лишь на один костыль, и одна нога его двигается быстрее, чем другая. Поэтому-то ваши стихи и неровны. О! я это поняла.
Поэт принял похвалу, убежденный, что он заслужил ее, хоть и невольно.
— Вот вы верите, господин Шулетт, — заметила Тереза. — А для чего же вам вера, если не для того, чтобы слагать прекрасные стихи?
— Чтобы грешить, сударыня.
— О! мы и без того грешим.
Появилась г-жа Марме, уже совсем готовая в путь, преисполненная тихой радости при мысли, что, наконец, она вернется в свою квартирку на улице Ла-Шез, увидит свою собачку Тоби, старого своего друга г-на Лагранжа и после этрусков музея Фьезоле — своего домашнего воина, окруженного коробками конфет и глядящего в окно на сквер Бон-Марше.
Мисс Белл отвезла приятельниц на вокзал в своей коляске.
XXV
Дешартр зашел в вагон проститься с путешественницами. Расставшись с ним, Тереза почувствовала, чем он для нее стал: благодаря ему жизнь приобрела новый вкус, такой чудесный и такой живительный, такой сильный, что она ощущала его на губах. Она жила во власти какого-то очарования, мечтая вновь увидеть его; она кротко удивлялась, когда во время путешествия г-жа Марме говорила: «Мы, кажется, переезжаем границу», или: «На берегу моря цветут розы». Эту внутреннюю радость она хранила еще и тогда, когда после ночи, проведенной в Марселе в гостинице, она увидела серые оливковые деревья среди каменистых полей, потом шелковицы и далекие очертания горы Пилата, и Рону, и Лион, а потом — привычные пейзажи, деревья, подымающие к небу свои пышные верхушки, еще недавно темно-лиловые, теперь же одетые нежной зеленью, полосатые коврики посевов на склонах холмов и ряды тополей у берегов рек. Путешествие текло для нее ровно; она наслаждалась всей полнотой прожитых часов и удивлялась глубине своих радостей. А когда поезд остановился у платформы, она словно очнулась от сна и улыбнулась, увидев в белесом вокзальном свете мужа, очень довольного ее возвращением. Обняв на прощание добрейшую г-жу Марме, она сказала, что от всего сердца благодарит ее. И в самом деле, она всех и за все готова была благодарить — совсем как св. Франциск, столь милый Шулетту.
Сидя в карете, катившейся по набережным в пыли, пронизанной лучами заходящего солнца, она без раздражения слушала мужа, который рассказывал ей о своих ораторских успехах, о намерениях своих сторонников в парламенте, о своих проектах, надеждах и о необходимости из деловых соображений дать два или три званых обеда. Она закрыла глаза, чтобы лучше мечталось. Она подумала: «Завтра я получу письмо, а через неделю увижу его». Когда карета проехала по мосту, Тереза поглядела на воду, переливавшуюся огнями, на закоптелые пролеты, на ряды платанов, на аллею Королевы, где в шахматном порядке стояли цветущие каштаны; привычное зрелище приобрело в ее глазах прелесть новизны. Ей казалось, что ее любовь расцветила весь мир новыми красками. И она спрашивала себя, узнают ли ее камни и деревья. «Неужели, — думала она, — мое молчание, мои глаза, все мое тело и небо и земля не разглашают моей тайны?» Г-н Мартен-Беллем, полагая, что она утомлена, посоветовал ей отдохнуть. Ночью, запершись у себя в спальне среди глубокого безмолвия, словно слыша, как трепещет ее душа, она написала тому, кого с ней не было, письмо, полное тех слов, что напоминают цветы в их вечной новизне: «Я люблю тебя, я жду тебя. Я счастлива. Я чувствую твою близость, на свете только мы с тобой. Из окна я вижу голубоватую звезду, она мерцает, я смотрю на нее и думаю о том, что и ты видишь ее во Флоренции. На стол я положила ложечку с красной лилией. Приезжай! Даже издали ты сжигаешь меня. Приезжай!» Так она черпала из глубины души бессмертные чувства и бессмертные образы во всей их свежести.
Целую неделю она жила внутреннею жизнью, ощущая в себе нежную теплоту, оставшуюся от тех часов, что были проведены на Виа Альфьери, дыша его поцелуями и любя себя за то, что любима. Она продуманно, тщательно, со всем своим изощренным вкусом принялась заказывать себе новые туалеты. Она нравилась, она хотела нравиться самой себе. До безумия тревожась, когда на почте для нее не оказывалось ничего, и трепеща от радости, когда сквозь решетку маленького окошечка ей протягивали письмо, на котором она узнавала размашистый затейливый почерк своего друга, она упивалась воспоминаниями о нем, его желаниями и надеждами. И часы, разрываясь, теснясь, сгорая, быстро уносились прочь.
И только утро того дня, когда он должен был вернуться, показалось ей невыносимо длинным. На вокзал она приехала заблаговременно. Было объявлено, что поезд опаздывает. Это ее удручало. Будучи оптимисткой в своих планах и так же, как ее отец, силой заставляя судьбу быть своей союзницей, она в этом непредвиденном опоздании увидела чуть ли не предательство. Серый свет, целых три четверти часа просачивавшийся сквозь стеклянную крышу, лился на нее, словно поток песчинок в огромных песочных часах, меривших для нее минуты, которые были потеряны для счастья. Она уже приходила в отчаяние, как вдруг, в красном свете солнца, уже склонившегося к закату, показался паровоз курьерского поезда и, чудовищный, но послушный, остановился у платформы, а в толпе пассажиров, вырвавшейся из вагонов, она увидела Жака, высокого и стройного, — он шел к ней. Он смотрел на нее с какой-то сумрачной и жгучей радостью, которая была ей так знакома. Он сказал:
— Наконец-то я с вами! Я боялся, что не доживу до встречи. Вы не знаете, да и я сам не знал, какая это пытка — прожить неделю вдали от вас. Я ходил в наш домик на Виа Альфьери. Там, в комнате, перед старинным пастельным рисунком я кричал от любви и от ярости…
Она обрадованно взглянула на него.
— А ты думаешь, я не звала тебя, пока была одна, не тосковала о тебе, не тянулась к тебе? Твои письма я прятала в шифоньер, где лежат мои драгоценности. Ночью я перечитывала их; это было блаженство, но и неосторожность. Твои письма — это ты, в них — слишком много твоего и все-таки слишком мало.
Они пересекли двор, по которому проезжали фиакры, нагруженные чемоданами. Тереза спросила, не взять ли экипаж.
Он не ответил. Он как будто и не слышал. Она продолжала:
— Я видела ваш дом, но войти не посмела. Я заглянула сквозь решетку и заметила в глубине двора платан, а за ним старинное окно, увитое ползучими розами. И подумала: «Вот это где!» Я никогда не испытывала такого волнения.
Он больше не слушал ее, больше не глядел на нее. Он быстро перешел вместе с нею через мостовую и спустился по узкой лестнице на пустынную улицу, тянувшуюся за вокзальным двором. Там, между дровяными и угольными складами, возвышалась гостиница с рестораном в нижнем этаже; на тротуаре стояли столики. На окнах под раскрашенной вывеской виднелись белые занавески. Дешартр остановился перед узкой входной дверью и заставил Терезу войти в темный коридор.
Она спросила:
— Куда вы меня ведете? Который час? Мне надо вернуться домой к половине восьмого. Это просто безумие!
Но в комнате с красным плиточным полом, где стояла кровать орехового дерева и лежал коврик с изображением льва, они вкусили божественное забвение.
Спускаясь по лестнице, она сказала:
— Жак, друг мой, мы слишком счастливы; мы обкрадываем жизнь.
XXVI
На другой день фиакр отвез ее на улицу, густо населенную, но все-таки тихую, и грустную, и вместе с тем веселую, где в промежутках между новыми домами тянутся ограды садов, и остановился в том месте, где мостовая проходит под сводчатой аркой особняка времен Регентства, по какой-то прихоти ставшего поперек улицы, покрытого теперь пылью и преданного забвению. То тут, то там зеленые ветки, протягиваясь между камнями, оживляют этот уголок города. Позвонив у калитки, Тереза увидела в узкой перспективе домов блок над слуховым окошком и большой золотой ключ — вывеску слесаря. Ее взгляд охватывал эти новые для нее, казалось, уже такие привычные картины. Голуби пролетали над ее головой; она слышала кудахтанье кур. Калитку отворил усатый слуга, видом своим напоминавший и солдата и крестьянина. Она очутилась во дворе, посыпанном песком, в прохладной тени платана; слева, почти в уровень с землей, виднелась каморка привратника, на ее окнах висели клетки с канарейками. Слева же подымалась, увитая зеленью, стена соседнего дома. Около нее примостилась застекленная мастерская скульптора, внутри которой виднелись гипсовые фигуры, дремавшие в пыли. Справа в невысокую ограду, окружавшую двор, вделаны были драгоценные обломки фризов, переломанные стволы легких колонн. А в глубине стоял и самый дом, совсем небольшой, с фасадом в шесть окон, полускрытым под плющом и вьющимися розами.
Филипп Дешартр, влюбленный во французскую архитектуру XV века, весьма искусно воспроизвел детали частного жилища времен Людовика XII. Дом этот, начатый в середине Второй империи, так и не был закончен. Строитель стольких замков умер, не достроив свой домик. Но хорошо, что случилось именно так. Задуманный в манере, имевшей тогда свою ценность и свои достоинства, но ставшей теперь и банальной и старомодной, мало-помалу лишившись той широкой зеленой рамы, которой служили ему окрестные сады, зажатый ныне между стенами высоких зданий, особнячок Филиппа Дешартра грубостью своих необтесанных камней, которые крошились в ожидании зодчего, умершего уже лет двадцать тому назад, наивной тяжеловесностью трех своих едва отделанных слуховых окошек, простотой кровли, которую вдова архитектора распорядилась покрыть без липших издержек, — словом, благодаря удачному сочетанию незаконченного и случайного, исправлял недостатки своей слишком уж юной старины, изъяны своей археологической романтики и гармонировал с этим скромным кварталом, пострадавшим от притока населения.
Как бы то ни было, маленький одетый зеленью особняк хоть и являл вид разрушения, но дышал своеобразной прелестью. Тереза чутьем, неожиданно угадывала здесь и другие красоты. В этом запустении, о котором говорили и стены, обвитые плющом, и потемневшие стекла в окнах мастерской, и даже склоненный платан, облупившаяся кора которого шелухой покрывала густую траву во дворе, она чувствовала душу хозяина, беспечную, расточительную, подолгу отдающуюся скуке, знакомой человеку с сильными страстями. Несмотря на всю радость, у ней вдруг сжалось сердце, когда во всем этом она узнала то безразличие, с которым ее друг относился к окружавшим его вещам. Она видела в этом своеобразную прелесть и благородство, но вместе и некий дух отрешенности, чуждый ее собственному характеру и составлявший полную противоположность фамильной расчетливости и бережливости Монтессюи. Она сразу же решила, что, не нарушая задумчивой прелести этого дикого уголка, она внесет в него свою любовь к деятельному порядку, велит посыпать аллею песком и оживит весельем цветов то место у стены, куда украдкой проникает солнце. Она с сочувствием поглядела на статую, попавшую сюда из какого-нибудь разоренного парка, — Флору[121], распростертую на земле, всю изъеденную черным мхом; рядом лежали ее отбитые руки. Терезе захотелось, чтобы ее поскорее подняли и водрузили на цоколь с лепными гирляндами, который она приметила у антиквара в одном из дворов на улице Старой Голубятни.
Дешартр, уже час ждавший ее прихода, радостный, все еще беспокойный, весь дрожа от счастья и волнения, спустился с крыльца. В прохладном сумраке передней, где смутно угадывался строгий блеск мрамора и бронзы, она остановилась, оглушенная биением собственного сердца, — оно так и колотилось у нее в груди.
Он прижал ее к себе и долго целовал. Тереза, у которой кровь стучала в висках, слушала, как он вспоминает о жгучем блаженстве, испытанном вчера. Она представила себе атласного льва на коврике у кровати и с упоительной медлительностью вернула Жаку его поцелуй.
Он провел ее по угловатой деревянной лестнице в обширную комнату, прежде служившую кабинетом его отцу, где сам он теперь рисовал, лепил, а главное — читал; чтение он любил, как некий опиум, предаваясь мечтам над недочитанной страницей.
Чудесные гобелены XVI века, на которых среди сказочного леса можно было смутно различить даму в старинном головном уборе, а у ног ее, на траве, покрытой цветами, единорога, подымались над шкафами до самых балок потолка, выкрашенных масляной краской.
Он подвел ее к широкому низкому дивану, покрытому подушками, которые были обшиты великолепными лоскутьями испанских риз и византийских церковных одеяний; но она села в кресло.
— Вы пришли, вы пришли! Теперь хоть миру конец.
Она ответила:
— О гибели мира я думала прежде, но я ее не боялась. Господин Лагранж пообещал ее мне из любезности, и я ее ждала. Пока я вас не знала, мне было так скучно!
Она оглядела комнату, столы, уставленные вазами и статуэтками, гобелены, великолепное и беспорядочное нагромождение оружия, эмалей, мрамора, картин, старинных книг.
— У вас много красивых вещей.
— По большей части они достались мне от отца, который жил в золотое для коллекционеров время. Например, гобелены с единорогом отец нашел в тысяча восемьсот пятьдесят первом году в одной гостинице в Мен-сюр-Иевре, а полностью вся эта история изображена на гобеленах, хранящихся в Клюни.
Но ее любопытство было обмануто, и она сказала:
— Я не вижу ваших вещей, ни одной статуи, ни одного барельефа, ни восковых фигур, которые так любят в Англии, ни одной статуэтки, ни одной дощечки, ни одной медали.
— Неужели вы думаете, что мне было бы приятно жить среди моих произведений!.. Я их слишком хорошо знаю… Они мне надоели. То, в чем нет тайны, лишено прелести.
Она с притворным недовольством посмотрела на него.
— Вы мне не говорили, что прелесть для вас теряется, когда исчезает тайна.
Он обнял ее за талию.
— Ах! во всем, что живо, слишком много тайн. А ты для меня, любимая, остаешься загадкой, и ее неведомый смысл таит все блаженство жизни и все муки смерти. Не бойся быть моей. Ты всегда будешь желанной для меня, и я никогда не узнаю тебя. Разве обладаешь тем, что любишь? Поцелуи, ласки — да разве это не порыв блаженного отчаяния? Когда я держу тебя в объятиях, я все еще тебя ищу и ты никогда не бываешь моей, потому что я всегда хочу обладать тобою, хочу в тебе невозможного и беспредельного. Что ты такое — да разве я узнаю это когда-нибудь? Ведь если я и вылепил несколько жалких статуэток, я еще не скульптор. Я скорее нечто вроде поэта и философа, который в природе ищет поводов для тревог и терзаний. Чувства формы для меня недостаточно. Мои собратья надо мной смеются, потому что у меня нет их простоты. Они правы. И это животное Шулетт тоже прав, когда требует, чтобы мы жили без мыслей и без желаний. Наш друг сапожник на площади Санта-Мария-Новелла, не знающий всего того, что сделало бы его несправедливым и несчастным, мастер в науке жизни. Я должен был бы любить тебя просто, без всей этой метафизики страсти, которая делает меня безрассудным и злым. Хорошо лишь неведение и забвение. Иди ко мне, иди, я так измучился, думая о тебе, когда терзался вдали от тебя. Лишь в твоих объятьях я могу забыть тебя и забыться сам.
Он обнял ее и, приподняв вуалетку, стал целовать ее в губы.
Чуть испуганная, как бы смущенная взглядами всех этих необыкновенных вещей, окружавших ее в большой незнакомой комнате, она опустила до подбородка черную вуаль.
— Здесь! Да что вы!
Он ответил, что они здесь одни.
— Одни? А тот человек со страшными усами, что отворил мне калитку?
Он улыбнулся:
— Это Фюзелье, старый слуга моего отца. Он и его жена — весь мой штат. Не беспокойтесь. Они сидят у себя, да и старые ворчуны мне преданы. Госпожу Фюзелье вы увидите; она держится бесцеремонно, предупреждаю вас.
— Друг мой, почему у Фюзелье, швейцара и дворецкого, усы как у татарина?
— Дорогая, ими его наделила природа, и я их охотно ему оставляю. Мне приятно, что у него вид отставного фельдфебеля, ставшего садовником, и что я могу себя тешить иллюзией, будто он мой сосед по деревне.
Усевшись в углу дивана, он привлек ее к себе на колени и стал целовать; она отвечала на его поцелуи. Вдруг она поднялась.
— Покажите мне другие комнаты. Я любопытна. Мне хочется все видеть.
Он повел ее на верхний этаж. По стенам коридора развешаны были акварели Филиппа Дешартра. Он открыл одну из дверей и ввел ее в комнату с палисандровой мебелью.
То была комната его матери. Он сохранял ее в неприкосновенности, во власти недавнего прошлого — только оно и трогает и печалит нас по-настоящему. Комната, в которой уже девять лет никто не жил, не казалась еще обреченной на запустение. Зеркальный шкаф словно ловил взгляд старой дамы, а на ониксовых часах скучала задумчивая Сафо, уже не слыша стука маятника.
На стенах было два портрета. Один из них, работы Рикара[122], изображал Филиппа Дешартра, очень бледного, со всклокоченными волосами, со взглядом, погруженным в романтическую грезу, с выразительным и добрым ртом. На другом портрете, писанном менее порывистой рукой, представлена была дама средних лет, почти красивая, несмотря на свою резкую худобу. Это была жена Филиппа Дешартра.
— Комната покойной мамы — вроде меня, — сказал Жак, — она умеет помнить.
— Вы похожи на мать, — заметила Тереза. — У вас такие же глаза. Поль Ванс мне говорил, что она вас обожала.
— Да, — ответил он, улыбаясь, — она была хорошим человеком: умная, милая, с очаровательными странностями. Материнская любовь доходила у нее до безумия, и она не давала мне ни минуты покоя; она себя терзала и терзала меня.
Тереза рассматривала бронзовую фигуру работы Карпо[123], стоявшую на шифоньере. Дешартр сказал:
— Узнаете императора по ушам, похожим на крылья Зефира, — они оживляют его холодное лицо. Это бронза — подарок Наполеона Третьего. Мои родители бывали в Компьене. Мой отец, когда двор находился в Фонтенебло, составлял план замка и рисовал галерею. По утрам император в сюртуке и с пенковой трубкой приходил и становился возле него, как пингвин на скале. В то время я учился в лицее Бонапарта. Рассказы об этом я слушал за столом, и они мне запомнились. Император стоял спокойный и кроткий и только изредка нарушал молчание, что-то бормоча в свои густые усы; потом он немного оживлялся, начинал излагать проекты всяких машин. Он был изобретатель и механик. Вынув из кармана карандаш, он для наглядности принимался чертить на рисунках моего отца, которого это приводило в отчаяние. Он таким образом портил ему два-три этюда в неделю… Он очень любил моего отца и все обещал ему работы и почести, которых отец так и не дождался. Император был добрый, но не имел влияния, как говаривала мама. В то время я еще был мальчишкой. С той поры у меня осталась какая-то смутная симпатия к этому человеку, у которого вовсе не было таланта, но была нежная душа, который к великим потрясениям жизни относился с мужественной простотой и кротким фанатизмом… А кроме того, он мне симпатичен еще и потому, что его победили и предали поруганию люди, стремившиеся занять его место и даже не знавшие той любви к народу, которая таилась у него в душе. Потом мы их видели у власти. Боже! до чего они омерзительны. Сенатор Луайе, например, который у вас в курительной набивал себе сигарами карманы и советовал мне делать то же самое. «На дорогу», — говорил он. Этот Луайе — гнусный человек, он жесток к несчастным, к слабым, к смиренным. А Гарен — как по-вашему, не мерзкая у него душа? Помните, первый раз, что я у вас обедал, разговаривали о Наполеоне. Волосы у вас были высоко подобраны и заколоты бриллиантовой иглой, они так мило и причудливо вились над затылком. Поль Ванс говорил с тонким остроумием, а Гарен не понимал. Вы спросили мое мнение.
— Для того, чтобы дать вам блеснуть. Я уже и тогда гордилась вами.
— О! я даже и одной фразы не мог бы придумать в обществе таких серьезных людей. Все же мне хотелось сказать, что Наполеон Третий мне нравится больше, чем Первый, может быть потому, что он как-то спокойнее, но, пожалуй, эта мысль произвела бы дурное впечатление. Впрочем, я не так бездарен, чтобы заниматься политикой.
Он ходил по комнате, с родственной нежностью смотрел на вещи. Он выдвинул один из ящиков бюро:
— Вот смотрите — мамины очки. Сколько раз она искала эти очки! Теперь я покажу вам мою комнату. Если там плохо прибрано, извините госпожу Фюзелье, я ее приучил уважать мой беспорядок.
Занавеси на окнах были спущены. Он не поднял их. Через час она сама раздвинула красные шелковые шторы; лучи света ослепили ее и разлились в ее распущенных волосах. Она стала искать трюмо и нашла тусклое венецианское зеркало в широкой раме черного дерева. Став на цыпочки, чтобы посмотреться в него, она спросила:
— Неужели же это я — вот та мрачная, далекая тень? Другие тоже смотрели в это зеркало, как я! Вы страшный чародей: женщины, которых вы покоряете, становятся призраками!
Внезапно ее охватила тревога:
— Боже мой! Что подумают обо мне супруги Фюзелье?
Но тут же она заметила на стене медальон — вылепленный Дешартром профиль девчонки, забавной и порочной.
— Это еще что такое?
— Это Клара, молоденькая продавщица газет с улицы Демур. Она каждое утро приносила мне «Фигаро». У нее были ямочки на щеках, словно созданные для поцелуев. Как-то раз я ей сказал: «Я сделаю твой портрет». Она пришла летним утром в серьгах и кольцах, купленных на гулянье в Нельи. И больше не являлась. Не знаю, что с ней приключилось. Она была слишком непосредственна, чтобы сделаться настоящей кокоткой. Хотите, я ее уберу?
— Нет, она очень подходит к этому уголку. Я не ревную к Кларе.
Ей пора было возвращаться домой, но она не могла решиться уйти. Она обвила руками шею своего друга:
— О! я тебя люблю! И сегодня ты был такой радостный и веселый. Веселость тебе так идет! Она у тебя тонкая и легкая. Мне хотелось бы всегда приносить тебе веселье. Мне нужна радость, почти так же, как любовь, а кто мне даст радость, если не ты?
XXVII
Все время после своего возвращения в Париж, целых полтора месяца, Тереза жила в жгучем счастливом полусне, и этот бездумный сон наяву все длился. С Жаком она встречалась каждый день в его особняке под сенью платана, а когда они вечером отрывались, наконец, друг от друга, она уносила в своей душе бесценные воспоминания. Ее блаженная усталость и воскресающие желания составляли ту нить, которая соединяла в одно целое часы, отданные любви. У них были одинаковые вкусы: оба они подчинялись одним и тем же фантазиям. Одни и те же прихоти увлекали их. Для них были отрадой прогулки по сомнительным и красивым предместьям Парижа, по улицам, где акации бросают тень на кабачки, выкрашенные в темно-красный цвет, по каменистым дорогам, где у подножья стен растет крапива, по рощицам и полям, над которыми расстилается нежное небо с полосами фабричного дыма. Она была счастлива, что вот он — рядом с нею в этих местах, которых она не узнавала и где она тешила себя иллюзией, будто здесь можно заблудиться.
В тот день им вздумалось сесть на пароход, который она так часто видела из своих окон. Она не боялась, что их встретит кто-нибудь из знакомых. Опасность была не велика, а с тех пор, как Тереза полюбила, она утратила всякую осторожность. Берега реки мало-помалу становились веселее, освобождаясь от горячей пыли предместий; они проплыли мимо островков, где купы деревьев бросают тень на трактирчики и бесчисленные лодки привязаны к прибрежным ивам. Вышли они в Нижнем Медоне. Она сказала, что ей жарко и хочется пить, и он повел ее через боковую дверь в кабачок с комнатами для приезжих. То было строение со множеством деревянных галерей, благодаря безлюдью казавшееся более обширным; оно дремало среди сельской тишины в ожидании воскресного дня, который наполнит его женским смехом, криками лодочников, запахом жаркого и ухи, приготовленной на вине.
По лестнице, напоминавшей стремянку и скрипевшей под ногами, они поднялись во второй этаж, и служанка принесла им в номер вина и бисквитов. Шерстяной полог закрывал кровать красного дерева. В углу над камином висело овальное зеркало в рамке с цветами. В открытое окно видна была Сена, зеленые скаты берегов, далекие холмы, окутанные дымкой, и солнце, ужо склоняющееся к верхушкам тополей. Над рекой кружились в пляске стаи мошкары. И небо, и земля, и вода полны были трепетным покоем летнего вечера.
Тереза долго смотрела на реку. Прошел пароход, винтом разрезая воду, и струи, расходившиеся за его кормой, достигали берега, — казалось, что дом, склонившись над рекой, сам качается, как судно.
— Я люблю воду, — сказала Тереза, обернувшись к своему другу. — Боже, как я счастлива!
Губы их встретились.
Для них, погруженных в зачарованную бездну любви, время отмечалось лишь легким всплеском волн, которые каждые десять минут, когда проходил пароход, разбивались о берег под приотворенным окном.
Она приподнялась на подушках; не подымая с пола нетерпеливо сброшенной одежды, она увидела в зеркале свою цветущую наготу и в ответ на ласковые, восхищенные речи своего друга она сказала:
— А ведь правда, что я создана для любви.
И, сознавая собственное величие, она созерцала отражение своего тела, освещенного красными лучами, которые оживляли то бледно-розовые, то светло-пурпурные тона щек, губ и груди.
— Я люблю себя за то, что ты меня любишь.
Да, конечно, он любил ее и сам не мог себе объяснить, почему он любит ее со страстным благоговением, с каким-то священным неистовством. Он любил ее не за красоту — пусть столь редкостную, бесценную. Ей присуща была красота линий, а линия следует за движением и вечно ускользает: она исчезает и вновь выступает, вызывая в художнике радость и взрывы отчаяния. Прекрасная линия — это молния, дивно ослепляющая взор. Мы любуемся ею и поражаемся. То, что заставляет желать и любить, — сила нежная и страшная, более могучая, чем красота. Среди тысячи женщин мы встречаем одну, которую уже не в силах покинуть, если обладали ею, и которую вечно желаем, желаем все более страстно. Цветок ее тела — вот что порождает этот неизлечимый любовный недуг. И есть еще нечто иное, чего нельзя выразить словами, — душа ее тела. Тереза была такой женщиной, которую нельзя ни покинуть, ни обмануть.
Она радостно воскликнула:
— Так меня нельзя покинуть, нельзя?
И спросила, почему он не вылепит ее бюста, если находит ее красивой.
— Почему? Потому что я посредственный скульптор. И я это сознаю, что не свидетельствует о посредственном уме. Но если тебе непременно хочется считать меня великим скульптором, я назову тебе другие причины. Чтобы создать образ, в котором была бы жизнь, надо относиться к натуре, как к простому материалу, из которого добываешь красоту, который сжимаешь, который давишь, чтобы извлечь его сущность. А в тебе — в твоих чертах, в твоем теле, во всем твоем существе нет ничего, что бы не было для меня драгоценно. Если бы я стал лепить твой бюст, я рабски старался бы передать мелочи, — ведь они для меня все, потому что они — частицы тебя. Я упорствовал бы с бессмысленным пристрастием, и мне не удалось бы создать целое.
Она смотрела на него, немного удивленная.
Он продолжал:
— По памяти — это еще другое дело. У меня есть карандашный набросок, который я всегда ношу с собой.
Она во что бы то ни стало хотела видеть набросок, и Дешартр показал его. То был эскиз на альбомном листке, очень простой и очень смелый. Она не узнала себя, нашла в нем что-то жесткое, что-то чуждое ей.
— Так вот какой я рисуюсь тебе, какой живу в твоей душе!
Он закрыл альбом.
— Нет, это просто заметка для памяти, краткая запись, вот и все. Но она, по-моему, правильная. Возможно, что ты видишь себя не совсем такой, какой я вижу тебя. Всякое человеческое существо по-разному представляется каждому, кто на него смотрит.
И он шутливо добавил:
— В этом смысле можно сказать, что одна и та же женщина никогда не принадлежала двум разным мужчинам. Это мысль Поля Ванса.
— По-моему, это верно, — сказала Тереза. И спросила:
— А который час? Было семь.
Она заторопилась с отъездом. С каждым днем она все позднее возвращалась домой. Муж это заметил. Он сказал: «Мы на все обеды приезжаем последними; просто несчастье». Но, задерживаясь каждый день в Бурбонском дворце[124], где обсуждался бюджет, и будучи поглощен работой подкомиссии, которая избрала его докладчиком, он и сам никогда не являлся вовремя, и дела государственной важности прикрывали опоздания Терезы.
Она улыбнулась, вспомнив тот вечер, когда в половине девятого приехала к г-же Гарен. Она боялась, что это сочтут предосудительным. Но это был как раз день запроса в парламент. Муж ее только к девяти часам приехал из палаты вместе с Гареном. И тому и другому пришлось обедать в пиджаках. Зато состав кабинета был спасен.
Потом она задумалась:
— Милый, ведь когда в парламенте начнутся каникулы, у меня больше не будет повода оставаться в Париже. Папа и то никак не поймет, что за самоотверженность меня удерживает здесь. Через неделю мне придется ехать к нему в Динар. Что со мной будет без тебя?
Она сложила руки и с бесконечной нежностью и печалью взглянула на него. Но он, помрачнев, сказал:
— Это я, Тереза, это я должен с тревогой задавать себе вопрос, что со мной будет без тебя. Когда ты оставляешь меня одного, меня осаждают мучительные мысли; эти черные мысли кольцом окружают меня.
Она спросила, что это за мысли. Он ответил:
— Любимая моя, я уже говорил тебе: я должен забыть тебя, забываясь в твоих объятиях. Когда ты уедешь, воспоминание о тебе будет меня терзать. Приходится расплачиваться за счастье, которое ты мне даришь.
XXVIII
Синее море, усеянное розовыми рифами, лениво кидало полосы серебристой бахромы на берег, покрытый мелким песком и раскинувшийся полукругом, по обеим сторонам которого высилось два золотых утеса. Великолепие этого дня освещало лучом эллинского солнца могилу Шатобриана[125]. В комнате с узорными обоями, с балкона которой открывался вид на вершины миртовых и тамариндовых деревьев и дальше — на пляж, на океан, на острова и мысы, Тереза читала письма, за которыми ездила утром на почту в Сен-Мало и которые не могла распечатать на пароме, переполненном пассажирами. Сразу же после завтрака она заперлась у себя в комнате и здесь, разложив письма на коленях, с жадностью читала их, торопливо вкушая свое тайное счастье. В два часа ей предстояла прогулка в наемном экипаже вместе с отцом, мужем, княгиней Сенявиной, г-жой Бертье д'Эзелль, женою депутата, и г-жой Ремон, женою академика. Сегодня она получила два письма. То, которое она прочла первым, дышало тонким и радостным ароматом любви. Жак никогда еще не казался ей таким веселым, таким простым, таким счастливым, таким очаровательным.
Он, по его словам, с тех пор как полюбил ее, чувствовал такую легкость и исполнен был такого ликования, что ноги его едва касались земли. Он боялся только одного — как бы все это не оказалось сном и как бы ему не пришлось пробудиться чужим для нее человеком. Он, наверное, видит сон. И какой сон! Флигель на Виа Альфьери, кабачок в Медоне, поцелуи и эти божественные плечи, и это тело с улыбающимися ямочками, гибкое, свежее и благоуханное, как ручей среди цветов. Если же это не сон наяву, то значит — хмельная песнь. К счастью, он уже совсем лишился рассудка. Он все время видит ее, хотя она далеко. «Да, я вижу рядом с собой тебя, вижу твои ресницы над серыми глазами, более чудесными, чем вся лазурь небес и все цветы, твои губы, которые мягкостью и вкусом подобны волшебному плоду, твои щеки, на которых от смеха образуются две пленительных ямочки, я вижу тебя, прекрасную и желанную, но ускользающую и неуловимую, и когда я раскрываю объятия, тебя уже нет, и я вижу тебя вдали, совсем вдали, на длинном золотистом пляже, в розовом платье, под зонтиком, маленькую, как веточка цветущего вереска! О! совсем крошечную, такую, какой я видел тебя однажды с колокольни на Соборной площади во Флоренции. И я думаю о том же, о чем думал в тот день: „Она могла бы спрятаться от меня за былинкой, а между тем она для меня — неисчерпаемый источник радости и страдания“».
Он жаловался только на мучения разлуки. Но жалобы сменялись улыбкой счастливой любви. Он в шутку угрожал Терезе, что невзначай явится к ней в Динар. «Не бойся. Меня не узнают. Я наряжусь продавцом гипсовых статуэток. Да это и не будет обманом. С лицом и бородой, покрытыми белой пылью, одетый в серую блузу и тиковые панталоны, я появлюсь у ворот виллы Монтессюи и позвоню. Ты узнаешь меня, Тереза, по лотку, нагруженному статуэтками, который я буду держать на голове. Это будут одни амуры. Будет там амур верный, амур ревнивый, амур нежный, амур страстный. Амуров страстных будет много. И я буду кричать на грубом и звонком наречии пизанских или флорентийских ремесленников: „Tutti gli Amori per la signora Teresina!“[126]».
Последняя страница письма была проникнута благоговейной нежностью. Она дышала каким-то набожным восторгом, напоминавшим Терезе те молитвенники, что она читала в детстве. «Я вас люблю и люблю все, что связано с вами: землю, по которой вы так легко ступаете и которую украшаете, свет, который позволяет мне видеть вас, воздух, которым вы дышите. Я люблю склонившийся платан на моем дворе, потому что вы видели его. Я нынче ночью ходил гулять на ту улицу, где встретил вас однажды вечером. Я сорвал ветку самшита, на который вы смотрели. В этом городе, где вас нет, я вижу только вас».
Под конец он писал ей, что сейчас пойдет завтракать. Г-жа Фюзелье уехала накануне в Невер, свой родной город, и дома перестали готовить; он пойдет в ресторанчик на Королевской улице, к которому привык. И там, среди незнакомой толпы, он будет наедине с нею.
Тереза, убаюканная нежностью этих невидимых ласк, закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Услышав стук экипажа, поданного к подъезду, она распечатала другое письмо. Как только она увидела изменившийся почерк, стремительные и неровные строки, говорившие о печали и раздражении, она встревожилась.
С самого же начала, хотя еще и не ясного, уже давала о себе знать внезапная тревога, черные подозрения: «Тереза, Тереза, зачем же вы отдавались, если отдавали не всю себя? Что пользы в вашем обмане, если теперь я знаю то, чего не хотел знать?»
Она остановилась; в глазах у нее потемнело. Она подумала: «Мы только что были так счастливы. Боже мой! Что случилось? А я-то радовалась его радости, которая уже умчалась. Лучше было бы и не писать, если письма выражают исчезнувшие чувства, забытые мысли».
Она продолжала читать. И видя, что его терзает ревность, упала духом: «Если я не доказала ему, что люблю его всей силой души, всем своим существом, как же я смогу убедить его?»
И она стала нетерпеливо искать причину этого внезапного безумия. Жак рассказывал о ней сам:
Завтракая в ресторанчике на Королевской улице, он встретил старого товарища, который проездом находился в Париже по пути с курорта на морские купания. Они разговорились; случилось так, что этот человек, много бывавший в свете, упомянул о графине Мартен, с которой был знаком. И тотчас вслед за тем, прерывая свой рассказ, Жак воскликнул:
«Тереза, Тереза, к чему вы лгали мне, если все-таки я должен был узнать то, чего не знал только я один? Но в этой ошибке я виноват больше, чем вы. Письмо, брошенное вами в почтовый ящик у Ор-Сан-Микеле, ваши встречи на Флорентийском вокзале достаточно могли бы мне сказать, если бы я не старался так упрямо, наперекор очевидности оставаться в заблуждении. Я не хотел, нет, я не хотел знать, что вы принадлежали другому, когда отдавались мне, сводя меня с ума дерзкой грацией, истинной страстью. Я не знал и не хотел знать. Я вас больше ни о чем не спрашивал — из страха, что вам не удастся солгать; я был осторожен, а случилось так, что какой-то болван, внезапно, грубо, за столом ресторана, открыл мне глаза, заставил меня узнать. О! Теперь, когда я знаю, теперь, когда я не могу сомневаться, — мне кажется, что сомнение было бы блаженством. Он назвал мне имя, имя, которое я слышал еще во Фьезоле, из уст мисс Белл, и прибавил: „Это же известная история“».
«Так вы его любили, вы любите его и сейчас! И теперь, когда я, один в своей комнате, кусаю подушку, на которую ты клала голову, он, быть может, подле тебя. Он несомненно с тобой. Он каждый год ездит в Динар на скачки. Мне так говорили. Я вижу его. Я все вижу. Если бы ты знала, какие образы осаждают меня, ты бы сказала: „Он сумасшедший!“ — и пожалела бы меня. О! как бы я хотел забыть тебя, забыть обо всем! Но я не в силах. Ты ведь знаешь, что забыть тебя я могу только в твоих объятьях. Я все время вижу тебя с ним. Это пытка. Я считал себя несчастным в ту ночь, — помнишь, — на берегу Арно. Но в то время я даже не знал, что значит страдать. Теперь я это знаю».
Дочитывая письмо, Тереза подумала: «Слово, брошенное на ветер, привело его в такое состояние. Одно слово повергло его в отчаяние и безумие». Она пыталась угадать, кто этот подлец, так отзывавшийся о ней. Она заподозрила двух-трех молодых людей, которых ей когда-то представил Ле Мениль с предупреждением, что их следует остерегаться. И в приступе той холодной ярости, которую она унаследовала от отца, она решила: «Я это узнаю». Но что делать сейчас? Она не могла броситься к своему другу, полному отчаяния, безумному, больному, обнять его, отдаться ему и телом и душой, чтобы он почувствовал, что она принадлежит ему безраздельно, и чтобы он поверил в нее. Написать? Но насколько же лучше было бы поехать к нему, без слов упасть к нему на грудь и потом сказать: «Посмей теперь думать, что я принадлежу не тебе одному!» Но она могла только написать ему. Едва она успела начать письмо, как услышала голоса и смех в саду. Княгиня Сенявина уже взбиралась на подножку экипажа.
Тереза спустилась вниз и вышла на крыльцо спокойная, улыбающаяся; широкополая соломенная шляпа, увенчанная маками, бросала на ее лицо прозрачную тень, в которой блестели серые глаза.
— Боже, какая она хорошенькая! — воскликнула княгиня. — И какая жалость, что никогда ее не видно! Утром она переправляется на пароме и потом бродит по улицам Сен-Мало; днем запирается у себя в комнате. Она нас избегает.
Экипаж огибал широкий округлый берег, над которым по склону холма в несколько рядов возвышались виллы и сады. А налево видны были стены и колокольня Сен-Мало, выступавшие из синевы моря. Потом экипаж свернул на дорогу, окаймленную живыми изгородями, вдоль которых проходили жительницы Динара, — стройные женщины, в больших батистовых чепцах с колышащимися оборками.
— Старинные костюмы, — сказала г-жа Ремон, сидевшая рядом с Монтессюи, — выводятся, к сожалению. В этом виноваты железные дороги.
— Это верно, — заметил Монтессюи, — не будь железных дорог, крестьяне и до сих пор носили бы свои старинные живописные костюмы. Но мы бы их не видели.
— Не все ль равно? — возразила г-жа Ремон, — мы бы их воображали.
— Неужели вам иногда случается видеть что-нибудь интересное? — спросила княгиня Сенявина. — Мне — никогда.
Госпожа Ремон, позаимствовавшая из книг своего мужа некоторую философичность, объявила, что вещи ничего не значат, а мысли — все.
Не глядя на г-жу Бертье д'Эзелль, сидевшую направо от нее на второй скамейке, графиня Мартен тихо сказала:
— О да! люди только и видят, что свои мысли; они доверяются только своим мыслям. Они слепы и глухи. Остановить их нельзя.
— Но, дорогая моя, — сказал граф Мартен, сидевший впереди нее, рядом с княгиней, — без руководящих мыслей мы бы шли только наугад. А кстати, Монтессюи, читали вы речь Луайе при открытии памятника Каде де Гассикуру[127]? Там замечательное начало. Луайе не лишен политического чутья.
Экипаж, оставив позади луга, окаймленные ивами, поднялся в гору; путь лежал теперь через обширное лесистое плоскогорье. Долго ехали вдоль ограды какого-то парка. Дорога, на которую ложилась прохладная тень, уходила вдаль.
— Это Геррик? — спросила княгиня Сенявина.
И вдруг, меж двух каменных столбов со львами наверху, показались закрытые наглухо ворота, увенчанные железной короной. Сквозь решетку в глубине длинной липовой аллеи можно было различить серое здание замка.
— Да, — ответил Монтессюи, — это Геррик.
И, обращаясь к Терезе, сказал:
— Ты ведь была хорошо знакома с маркизом де Ре… В шестьдесят пять лет он еще был полон сил, был молод. Он был законодателем мод, с его вкусом считались, и женщины любили маркиза. Молодые люди брали за образец покрой его сюртука, его монокль, его жесты, его очаровательную дерзость, его забавные чудачества. И вдруг он бросил свет, закрыл свой дом, распродал лошадей, перестал показываться. Ты помнишь, Тереза, его внезапное исчезновение? Незадолго перед тем ты вышла замуж. Он бывал у тебя довольно часто. В один прекрасный день стало известно, что он покинул Париж. Среди зимы он приехал сюда, в Геррик. Стали искать причину этого неожиданного бегства, думали, что скрыться его заставило какое-нибудь горестное событие, унижение, испытанное при первой неудаче, и страх, что люди увидят, как он стареет. Старость — вот чего он боялся всего больше. Как бы то ни было, за те шесть лет, что он живет в уединении, он ни разу не вышел из своего замка и парка. В Геррике он принимает двух-трех стариков, товарищей своей молодости. Эти ворота отворяются только для них. С тех пор как он здесь уединился, его никто ни разу не видел; больше никогда и не увидят. Скрывается он с таким же упорством, с каким раньше показывался в свете. Он не пожелал, чтобы люди смотрели на его закат. Он заживо себя похоронил. Это, по-моему, заслуживает уважения.
И Тереза, вспомнив любезного старика, который стремился покорить ее, чтобы со славой завершить свою романическую жизнь, обернулась и посмотрела на Геррик, подымавший над серыми верхушками дубов свои четыре башни, похожие на перечницы.
Когда вернулись с прогулки, она, сославшись на мигрень, сказала, что не будет обедать. Она заперлась у себя в спальне и достала из шкатулки для драгоценностей горестное письмо Дешартра. Она перечитала последнюю страницу.
«Мысль, что ты принадлежишь другому, жжет и терзает меня. И я не хочу, чтобы это был он».
То была навязчивая мысль. Он три раза повторял на одной и той же странице: «Я не хочу, чтобы это был он».
Ее тоже преследовала одна только мысль — не потерять его. Чтобы не потерять его, она сказала бы, она сделала бы решительно все. Она села за стол и в приливе страстной нежности и тоски написала письмо, в котором повторялось, словно стенанье: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я никого никогда не любила, кроме тебя. Ты один, один, — слышишь? — один в моей душе, во всем моем существе. Не слушай какого-то подлеца. Слушай меня. Я никогда никого не любила, клянусь тебе, никого, кроме тебя».
В то время как она писала, море своими могучими вздохами вторило вздохам, вырывавшимся из ее груди. Она хотела, она думала быть правдивой в своих словах, и правдивость того, что она писала, была правдой ее любви. Она услышала на лестнице тяжелые уверенные шаги своего отца. Она спрятала письмо и отворила дверь. Монтессюи ласково спросил, не лучше ли ей.
— Я пришел, — сказал он ей, — пожелать тебе спокойной ночи и кое о чем спросить тебя. Возможно, что я завтра на скачках увижу Ле Мениля. Он приезжает на них каждый год. Ведь он — человек постоянный. А если я его встречу, как, по-твоему, милочка, можно мне будет пригласить его сюда на несколько дней? Твой муж думает, что его приезд развлечет тебя и будет тебе приятен. Мы могли бы отвести ему голубую комнату.
— Как найдешь нужным. Но я предпочла бы, чтобы голубую комнату ты оставил для Поля Ванса, которому очень хочется приехать. Вероятно, Шулетт приедет без всякого предупреждения. Это его обыкновение. В одно прекрасное утро он, как нищий, позвонит у ворот. И знаешь, мой муж ошибается, если думает, что Ле Мениль мне приятен. А кроме того, на той неделе мне надо будет дня на два-три поехать в Париж.
XXIX
Сутки спустя после своего письма Тереза приехала из Динара и очутилась у домика в квартале Терны. Для нее не представило трудности найти предлог, чтобы съездить в Париж. Приехала она вместе с мужем, желавшим повидать в Эне избирателей, которых социалисты пытались привлечь на свою сторону. Она застала Жака утром в мастерской, где он работал над большой статуей Флоренции, оплакивающей на берегу Арно свою былую славу.
Натурщица, рослая черноволосая девушка, застыв в нужной позе, сидела на очень высоком табурете. Резкий свет, падавший от окон, подчеркивал прекрасные формы обнаженного тела, без всякого снисхождения выделял неровности кожи и контрасты тонов, не сливавшихся друг с другом, открывал грубую правду натуры. Дешартр бросил на Терезу взгляд, полный радости и страдания, положил резец на край станка, накинул на статую мокрую тряпку и, окунув в горшок с водой руки, запачканные глиной, сказал натурщице:
— На сегодня, милая, довольно.
Она спустилась на пол, подобрала свою одежду — какие-то темные шерстяные лохмотья, грязное белье и ушла за ширму одеваться.
Между тем Жак вместе с Терезой вышел из мастерской.
Они прошли мимо платана, который чешуйками своей коры усеивал весь двор, посыпанный песком. Она сказала:
— Вы больше не верите, правда?
Он провел ее в свою спальню.
Письмо, присланное из Динара, уже немного смягчило остроту первого впечатления. Оно пришло как раз в ту минуту, когда, устав страдать, он ощутил потребность в успокоении и в нежности. Несколько строк, написанные ее рукой, умиротворили его душу, истерзанную воображением, восприимчивую не столько к вещам, сколько к символам вещей. Но в сердце у него остался надлом.
В комнате, где все говорило в ее защиту, где мебель, портьеры, ковры рассказывали про их любовь, она шептала ему ласковые слова.
— Вы могли поверить… Неужели вы не знаете, кто вы?.. Это же безумие… Разве женщина потерпит другого после того, как узнала вас?
— Да, но прежде?
— Прежде я ждала вас.
— И он не был на скачках в Динаре?
Вряд ли он там был, и — что уже не подлежало сомнению — она-то ведь там не была. Лошади и любители лошадей ей наскучили.
— Жак, никого не опасайтесь, потому что вы ни с кем не сравнимы.
Он, напротив, знал, как мало он значит и как мало мы значим в мире, где люди подобны зернам и полове, которые то смешиваются, то разделяются в веялке по воле какого-нибудь невежды-крестьянина или некоего божества. Впрочем, образ веялки настоящей или символической — слишком четко воплощал в себе меру и порядок, поэтому его нельзя было в точности применять к жизни. Ему скорее представлялось, что люди — зерна в кофейной мельнице. Он так живо почувствовал это третьего дня, когда посмотрел на г-жу Фюзелье, моловшую кофе.
Тереза сказала:
— Почему у вас нет честолюбия?
Она мало что прибавила к этим словам, но говорили ее глаза, движения ее рук, дыхание, от которого поднималась и опускалась грудь.
Удивленный и счастливый тем, что видит ее, слышит ее, он позволил себя убедить.
Она его спросила, кто же сказал про нее эту гнусность.
У него не было причин скрывать это от нее. Сказал ему обо всем Даниэль Саломон.
Она не удивилась. Даниэль Саломон, о котором говорили, что он не в состоянии стать любовником ни одной женщины на свете, интересовался сердечными делами и тайнами каждой. Она догадывалась, почему он так говорил.
— Жак, не сердитесь на то, что я вам скажу. Вы не слишком тонко скрываете свои чувства. Он подозревал, что вы меня любите, и хотел удостовериться. Я уверена, что теперь у него нет больше никаких сомнений насчет нас с вами, но мне это безразлично. Если бы вы лучше умели скрывать, я даже была бы менее спокойна. Я бы думала, что вы недостаточно любите меня.
Боясь встревожить его, она быстро перешла к другим темам:
— Я еще не сказала вам, понравилась ли мне ваша новая работа. Это Флоренция на берегу Арно. Так, значит, это мы с вами?
— Да, в эту вещь я вложил волнения своей любви. Она печальна, а я хотел бы, чтоб она была прекрасна. Видите ли, Тереза, красота мучительна. Вот почему с тех пор, как моя жизнь стала прекрасной, сам я страдаю.
Он стал шарить в кармане своей фланелевой куртки и вынул портсигар. Но она торопила его одеваться. Она собиралась везти его завтракать к себе. Они не расстанутся весь день. Это будет чудесно.
Она с детской радостью посмотрела на него. Потом ей взгрустнулось при мысли, что в конце недели ей придется вернуться в Динар, затем ехать в Жуэнвиль и что все это время они проведут в разлуке.
Она попросит отца, чтобы он пригласил его на несколько дней в Жуэнвиль. Но они там не будут одни, как в Париже, и не будут так свободны.
— Это верно, — сказал он, — в Париже, таком необъятно огромном, нам хорошо.
И добавил:
— Даже когда тебя здесь нет, я не могу уехать из Парижа. Мне было бы противно жить в краях, которые тебя не знают. Небо, горы, деревья, фонтаны, статуи, которые не могли бы рассказывать мне о тебе, были бы немы для меня.
Пока он одевался, она перелистывала книгу, которую нашла на столе. То была «Тысяча и одна ночь». На романтических гравюрах, рассеянных среди текста, изображены были визири, султанши, черные евнухи, базары, караваны.
Она спросила:
— Вас занимает «Тысяча и одна ночь»?
— Очень, — ответил он, завязывая галстук. — Я начинаю верить, когда мне вздумается, в этих арабских принцев, чьи ноги превратились в черный мрамор, в гаремных жен, блуждающих ночью по кладбищам. Сказки навевают легкие сны, которые помогают мне забыться. Вчера мне было так грустно, когда я ложился спать. И вот в постели я прочел историю о трех кривых дервишах.
Она с горечью заметила:
— Ты хочешь забыться! А я ни за что на свете не согласилась бы утратить даже воспоминание о горе, которое ты причинил бы мне.
Они вместе вышли на улицу. Она собиралась пройтись еще немного пешком, взять экипаж и приехать домой на несколько минут раньше, чем он.
— Мой муж ждет вас к завтраку.
Дорогой они говорили о мелочах, которым их любовь придавала значительность и обаятельность. Они уславливались о том, как провести остальную часть дня, — им хотелось упиться радостью, насладиться утонченными удовольствиями. Она советовалась с ним о своих туалетах. Расстаться с ним она не решалась, счастливая тем, что идет рядом с ним по улицам, залитым солнцем и весельем полудня. Выйдя на Тернскую улицу, они увидели целый ряд лавок, соперничавших друг с другом в великолепном изобилии снеди. Тут, у дверей харчевни, гирляндами висела дичь, а там, во фруктовой лавке, виднелись ящики с абрикосами и персиками, корзины винограда, целые горы груш. Телеги с плодами и цветами стояли по обе стороны мостовой. Под стеклянным навесом ресторана завтракали какие-то мужчины и женщины. Тереза узнала Шулетта, который сидел один за маленьким столиком, прислонившись к кадке с лавровым деревом, и закуривал трубку.
Завидев ее, он великолепным жестом бросил на стол монету в сто су, встал, поклонился. Он был очень серьезен; его длинный сюртук придавал ему вид благопристойный и суровый.
Он сказал, что ему очень хотелось посетить г-жу Мартен в Динаре. Но ему пришлось задержаться в Вандее у маркизы де Рие. Тем временем он все же выпустил новым изданием «Уединенный сад», дополнив его еще «Вертоградом святой Клары». Он потряс души людей, которые казались бесчувственными, он иссекал воду из утесов.
— Таким образом, — сказал он, — я как бы явился некиим Моисеем[128].
Порывшись в кармане, он вытащил из бумажника истрепанное и засаленное письмо.
— Вот что мне пишет госпожа Ремон, жена академика. Я оглашаю ее слова, ибо они — к ее чести.
И, развернув тонкие листки, прочитал:
— «Я познакомила мужа с вашей книгой; он воскликнул: „Это чистейший спиритуализм! В этом уединенном саду, с той его стороны, где растут лилии и белые розы, есть, вероятно, маленькая калитка, за которой открывается дорога в Академию“».
Шулетт просмаковал эти слова, пропитавшиеся в его рту также и запахом водки, и бережно вложил письмо в бумажник.
Госпожа Мартен поздравила поэта с тем, что его кандидатуру выставляет г-жа Ремон.
— Вы, господин Шулетт, были бы и моим кандидатом, если бы я занималась выборами в Академию. Но разве вас прельщает Академия?
Он несколько минут хранил торжественное молчание, потом проговорил:
— Сударыня, я спешу отсюда прямо на совещание с некиими светилами политического и религиозного мира, живущими в Нельи. Маркиза де Рие уговаривает меня выставить в ее округе мою кандидатуру на пост сенатора — он стал вакантным после смерти одного старца, который, говорят, в течение всей эфемерной своей жизни был генералом. По этому поводу я спрошу совета у священников, у женщин, у детей — о вечная премудрость! — на бульваре Вино. Избирательный округ, где, надеюсь, за меня подадут голоса, находится в местности холмистой и лесистой, поля там окаймлены ивами с обрубленными верхушками. И нередко в дупле такой старой ивы можно найти скелет какого-нибудь шуана, до сих пор сжимающего костями пальцев ружье и четки. Я изложу свои убеждения и распоряжусь расклеить воззвания на коре дубов; и люди прочтут: «Мир священникам! Да приидет день, когда епископы, взяв в руки деревянный посох, уподобятся самому бедному викарию самого бедного прихода! Иисуса Христа распяли епископы. Они звались Анна и Кайафа[129]. Эти имена они сохраняют и доселе — перед лицом сына божьего. Итак, его пригвоздили к кресту, а я был тем добрым разбойником, которого повесили рядом с ним».
Он тростью указал по направлению к Нельи.
— Дешартр, друг мой, не думаете ли вы, что там направо — бульвар Бино в облаках пыли?
— Прощайте, господин Шулетт, — сказала Тереза. — Не забудьте меня, когда станете сенатором.
— Сударыня, я не забываю о вас ни в одной из моих молитв, как утренних, так и вечерних. И я говорю богу: «Если ты во гневе своем даровал ей богатство и красоту, то будь к ней милостив и поступи с нею, как велит твое великое сострадание».
И, расставшись с ними на оживленной улице, он удалился, волоча ногу, строгий и прямой.
XXX
Закутавшись в розовую суконную накидку, Тереза вместе с Дешартром спустилась по ступеням подъезда. Он утром приехал в Жуэнвиль. Она пригласила его в числе немногих близких друзей до начала псовой охоты, на которую, как она опасалась, мог, по примеру прошлых лет, приехать и Ле Мениль, хотя она ничего не знала о нем. Легкий сентябрьский ветерок играл завитками ее волос, и склонявшееся к закату солнце зажигало золотые искры в ее глубоких серых глазах. Позади над тремя пролетами аркады нижнего этажа замка, в промежутках между окнами фасада, подымались на высоких постаментах бюсты римских императоров. Главный корпус был сжат двумя высокими флигелями, которые были крыты шифером и казались еще выше благодаря бесчисленному множеству ионических колонн. По плану этого здания можно было узнать искусство зодчего Лево, который в 1650 году построил замок Жуэнвиль на Уазе для богача Марейля, креатуры Мазарини и счастливого сообщника главного интенданта Фуке.
Тереза и Жак смотрели на раскинувшиеся перед ними клумбы — цветы образовали огромные орнаменты, начертанные Ленотром, — на зеленый луг, на бассейн; дальше был виден грот с пятью сводами, сложенными из грубого камня, и гигантские гермы под сенью высоких деревьев, которые осень начала уже расцвечивать золотом и багрянцем.
— В этой зеленой геометрии, — сказал Дешартр, — есть, конечно, своя красота.
— Да, — отозвалась Тереза. — Но я думаю о платане, склонившемся среди дворика, где между камнями растет трава. Ведь мы посадим там цветы, не правда ли?
Прислонившись к каменному льву с почти человеческим ликом, который вместе с другими львами стоял на страже над засыпанным рвом у подножья лестницы, она обернулась к замку и, указав на одно из овальных окошек над самым карнизом, проговорила:
— Вот там — ваша комната, я заходила в нее вчера вечером. В том же этаже, но с другой стороны, в самом конце, папин кабинет. Простой деревянный стол, шкаф красного дерева, на камине графин с водой — таким был его кабинет в молодые годы. Оттуда и пошло все наше богатство.
По усыпанным песком дорожкам цветника они дошли до изгороди из подстриженного самшита, окаймлявшей парк с южной стороны. Они миновали оранжерею, над монументальной дверью которой распластался лотарингский крест Марейлей, и углубились в липовую аллею, тянувшуюся вдоль зеленого ковра лужайки. Под деревьями, наполовину уже оголенными, статуи нимф вздрагивали от холода во влажной тени, местами пронизанной неяркими лучами. Голубь, сидевший на плече у одной из белых фигур, вспорхнул. Время от времени ветер своим дуновением отрывал засохший лист, и он падал — точно раковина красного золота, с дождевой каплей в глубине. Тереза показала на нимфу и заметила:
— Она смотрела на меня, когда я еще ребенком желала себе смерти. Я мучилась: мне и хотелось чего-то и было страшно. Я вас ждала. Но вы были так далеко.
Липовая аллея прерывалась у округлой площадки: там был большой пруд, посреди которого возвышалась группа тритонов и нереид, дующих в раковины, и где в часы, когда бил фонтан, струйки воды сливались в диадему, украшенную пеной.
— Это корона Жуэнвиля, — сказала Тереза.
Она показала на дорожку, которая начиналась у пруда и шла к востоку, теряясь где-то в поле.
— Вот моя дорожка. Сколько раз я гуляла по ней и грустила! Мне было грустно, когда я не знала вас.
Они снова пошли по липовой аллее: она тянулась и по другую сторону площадки и тоже была украшена нимфами. Они прошли по ней до самых гротов. То были пять больших ниш, расположившихся полукругом в глубине парка, выложенных раковинами, с балюстрадой наверху и разделенных гермами. Крайняя возвышалась в чудовищной своей наготе над остальными и, потупившись, не сводила с них диких и кротких каменных глаз.
— Когда мой отец купил Жуэнвиль, — говорила Тереза, — гроты представляли собой развалины, поросшие травой, и кишели змеями. Там было множество кроличьих нор. Столбы и аркады он восстановил по эстампам Перреля[130], которые хранятся в Национальной библиотеке. Он сам был себе архитектором.
Им хотелось тени и тайны, и они пошли в сторону буковой аллеи, огибающей гроты. Но оттуда до них донесся шум шагов, и они остановились. И сквозь листву они увидели Монтессюи, обнимавшего за талию княгиню Сенявину. Монтессюи и княгиня преспокойно шли к замку. Жак и Тереза, прижавшись к герме, подождали, пока они пройдут. Потом она сказала Дешартру, молча глядевшему на нее:
— Теперь я понимаю, почему этой зимой княгиня Сенявина спрашивала у папы советов насчет покупки лошадей.
И все же Тереза восхищалась своим отцом, сумевшим завоевать эту красивую женщину, которая считалась неприступной и слыла богатой, несмотря на денежные затруднения — следствие ее невероятной безалаберности.
Тереза спросила Жака, считает ли он княгиню красавицей. Он признавал, что в ней есть какое-то чисто животное великолепие и физическая привлекательность, слишком пряная, однако, на его вкус; ему представлялось, что соски у нее обведены широкой коричневой каймой, живот окрашен в тона охры, шафрана и серы, а ноги — волосатые. Главное же, он находил ее кожу несколько грубой. Тереза согласилась, что все это — вполне вероятно, но все же при вечернем освещении княгиня Сенявина затмевает других женщин.
Она повела Жака по мшистым ступеням, что поднимались позади гротов к Снопу Уазы — пучку свинцовых веток, украшавшему широкий бассейн из розового мрамора. Там стеной вставали огромные деревья, замыкавшие собою парк, и начинался лес. Они вошли под высокие своды деревьев. Они молчали среди жалобных, чуть слышных шорохов листвы. За великолепной стеной вязов раскинулась чаща, здесь и там виднелись группы осин и берез, бледные стволы которых зажигал последний луч солнца.
Он сжимал ее в своих объятиях и целовал ее глаза. Ночь спускалась с небес, первые звезды мигали между ветвями. В росистой траве, как флейты, пели жабы. Дальше они не пошли.
Они уже в темноте вернулись к замку, и на губах у нее оставался вкус поцелуев и мяты, а в глазах — образ ее друга, прислонившегося к стволу березы и напомнившего ей фавна, когда она, в его объятиях, закинув руки за голову, замирала от страсти. В липовой аллее она улыбнулась нимфам, видевшим слезы ее детских лет. Созвездие Лебедя распростерло в небе свой крест, а в бассейне Короны отражался тонкий серп луны. Из травы неслись любовные призывы насекомых. За последним поворотом самшитовой изгороди они увидали черную, расчлененную на три части громаду замка, а за широкими окнами нижнего этажа угадывались движущиеся в красном свете фигуры. Звонили в колокол.
Тереза воскликнула: — Я едва успею переодеться к обеду. И она умчалась, будто наяда иль ореада, оставив своего друга перед каменными львами.
В гостиной после обеда Бертье д'Эзелль читал газету, а княгиня Сенявина, сидя за ломберным столом, гадала на картах. Тереза, с полузакрытыми глазами, склонилась над книгой и, чувствуя, как горят ее ноги, расцарапанные колючим кустарником, через который они пробирались там, за Снопом Уазы, вспоминала с легкой дрожью, как Дешартр обнял ее среди деревьев, точно фавн, играющий с нимфой.
Княгиня спросила ее, занимательно ли то, что она сейчас читает.
— Не знаю. Я читала и думала. Поль Ванс прав: «В книгах мы находим только самих себя».
Из бильярдной сквозь спущенные портьеры доносились отрывистые возгласы играющих и сухой стук шаров.
— Вышло! — воскликнула, бросая карты, княгиня.
Она поставила большую сумму на лошадь, которая как раз сегодня участвовала в скачках в Шантильи.
Тереза сказала, что получила письмо из Фьезоле: мисс Белл сообщает ей о своей помолвке с князем Эусебио Альбертинелли делла Спина.
Княгиня засмеялась:
— Вот человек, который окажет ей замечательную услугу.
— Какую? — спросила Тереза.
— Внушит ей отвращение ко всем мужчинам.
В гостиную вошел Монтессюи, настроенный очень весело. Он выиграл партию на бильярде.
Сел он рядом с Бертье д'Эзеллем и взял газету, лежавшую на диване.
— Министр финансов сообщает, что после открытия палаты внесет свой проект закона о сберегательных кассах.
Речь шла о том, чтобы разрешить сберегательным кассам давать деньги в долг общинам, а это отняло бы у руководимых Монтессюи учреждений лучшую их клиентуру.
— Бертье, — спросил финансист, — вы решительно не согласны с этим проектом?
Бертье кивнул головой.
Монтессюи встал и положил руку на плечо депутата:
— Дорогой мой Бертье, мне думается, что правительство падет еще в начале сессии.
Он подошел к дочери:
— Я получил странное письмо от Ле Мениля.
Тереза встала и затворила дверь, отделявшую гостиную от бильярдной.
Она словно опасалась сквозняков.
— Странное письмо, — продолжал Монтессюи. — Ле Мениль не приедет в Жуэнвиль на охоту. Он купил яхту в восемьдесят тонн — «Розбад». Плавает по Средиземному морю и хочет жить только на воде. А жаль. Я не знаю другого такого охотника.
В эту минуту в гостиную вошли Дешартр с графом Мартеном, который, обыграв его в бильярд, почувствовал к нему расположение и теперь объяснял, какую опасность представляет налог, основанный на размере домашних расходов и количестве прислуги.
XXXI
Бледное осеннее солнце, прорезывая мглу над Сеной, освещало собак Удри над дверями столовой.
По правую руку г-жи Мартен сидел депутат Гарен, бывший министр юстиции, бывший председатель совета, по левую руку — сенатор Луайе. Справа от графа Мартен-Беллема — Бертье д'Эзелль. Это был строго деловой завтрак в узком кругу приглашенных. Как и предвидел Монтессюи, правительство пало — случилось это четыре дня тому назад. Вызванный сегодня утром в Елисейский дворец, Гарен принял на себя задачу — составить кабинет. Здесь за завтраком он подготовлял состав правительства и вечером должен был представить его на рассмотрение президента. А пока они перебирали разные имена, Тереза воскрешала в памяти пережитое.
В Париж она вернулась вместе с графом Мартеном к открытию палаты и с тех пор вела жизнь, полную очарования.
Жак любил ее; и в его любви чудесно сочетались страсть и нежность, мудрая опытность и какая-то удивительная наивность. Он был нервен, легко возбудим, беспокоен; но неровности настроения заставляли еще больше ценить его веселость. Пленительная веселость, вспыхивавшая внезапно, как пламя, ласкала их любовь, ничем не оскорбляя ее. И Терезу приводило в восхищение остроумие ее друга. Она и не подозревала раньше, что он с таким непогрешимым вкусом, с такой непосредственностью может шутить и веселиться, что столько непринужденности в его забавных выходках. В первое время он с каким-то сумрачным однообразием проявлял свои чувства. И уже это покорило ее. Но с тех пор она успела открыть в нем душу веселую, богатую, многостороннюю, какое-то удивительное обаяние, умение давать столько радости, столько наслаждения ее душе, всему ее существу.
— Легко сказать — однородное правительство, — воскликнул Гарен. — А как-никак надо принимать в расчет точки зрения различных фракций палаты.
Он беспокоился. Кругом ему чудились западни, и их было ровно столько, сколько он сам готовил для других. Даже сотрудники оказывались его врагами.
Граф Мартен желал, чтобы новое правительство отвечало требованиям нового духа[131].
— В ваш список входят лица, существенно разнящиеся друг от друга и происхождением и взглядами, — сказал он. — Между тем самый, пожалуй, значительный факт в политической истории последних лет — это возможность, я сказал бы даже — необходимость создать единство воззрений в правительстве республики. Это, мой дорогой Гарен, как раз те мысли, которые вы сами высказывали с редким красноречием.
Господин Бертье д'Эзелль молчал.
Сенатор Луайе катал хлебные шарики. Ему, завсегдатаю ресторанов, мысли приходили в голову, когда он мял хлеб или строгал пробки. Он поднял свое багровое лицо, обросшее неопрятной бородой. И, глядя на Гарена узенькими глазками, в которых загорались красные искорки, сказал:
— Я говорил, но мне не захотели поверить. Уничтожение монархической правой явилось для вождей республиканской партии непоправимым несчастьем. Все было направлено против нее. Истинная поддержка правительства — это оппозиция. Империя правила наперекор орлеанистам и нам; правительство шестнадцатого мая действовало наперекор республиканцам[132]. Мы были счастливее и правили наперекор правой. Правая — какая это была превосходная оппозиция, угрожающая, наивная, бессильная, обширная, честная, непопулярная! Надо было сохранить ее. А не сумели. Да и кроме того, скажем прямо, все изнашивается. Однако править всегда приходится наперекор кому-нибудь. Теперь остались одни только социалисты — они могут дать нам ту поддержку, которую целых пятнадцать лет правая оказывала нам[133] с таким постоянным великодушием. Но они слишком слабы. Надо было бы их усилить, дать им вырасти, сделать из них политическую партию. В настоящее время это — первая задача для министра внутренних дел.
Гарен, который не был циником, ничего не ответил.
— Гарен, вы еще не знаете, — спросил граф Мартен, — что вы возьмете на себя вместе с председательством: юстицию или внутренние дела?
Гарен ответил, что его решение будет зависеть от выбора N., участие которого в кабинете было необходимо и который еще колебался между двумя портфелями. Он, Гарен, готов пожертвовать личными интересами ради высших соображений.
Сенатор Луайе поморщился. Он мечтал о портфеле министра юстиции. Он уже давно к этому стремился. Во времена империи он, тогда еще преподаватель законоведения, с успехом давал уроки за столиками кофеен. Он владел даром крючкотворства. Начав свою политическую карьеру статьями, которые он писал так, чтобы навлечь на себя преследования, стать жертвой судебного процесса и подвергнуться нескольким неделям тюремного заключения, он с тех пор смотрел на прессу, как на оружие оппозиции, которое всякое умелое правительство обязано сломить. С 4 сентября 1870 года[134] он мечтал сделаться министром юстиции, чтобы все могли увидеть, как он, человек, издавна принадлежавший к богеме, узник Пелажи времен Баденге[135], преподаватель законоведения, который когда-то объяснял свод законов, ужиная кислой капустой, сумеет быть высшим начальником суда.
Глупцы дюжинами обгоняли его. Он состарился в сенате среди скудных почестей, лишен был всякого лоска, жил с женщиной, с которой познакомился в пивной, был беден, ленив, разочарован, и только его якобинский дух да искреннее презрение к народу, пережившие его честолюбивые помыслы, еще делали из него государственного деятеля. Теперь, войдя в кабинет Гарена, он рассчитывал получить портфель министра юстиции. И его покровитель, который не давал ему этого места, становился несносным соперником. Он усмехнулся в бороду, стараясь вылепить из хлебной мякоти собачку.
Господин Бертье д'Эзелль, очень спокойный, очень серьезный, очень мрачный, поглаживал свои красивые седые бакенбарды.
— Не думаете ли вы, господин Гарен, что следовало бы дать место в кабинете людям, с самого начала державшимся той политики, к которой теперь стремимся мы?
— Их она погубила, — нетерпеливо возразил Гарен. — Политический деятель не должен опережать событий. Не прав тот, кто прав слишком заблаговременно. С мыслителями дела не поведешь. А впрочем, будем откровенны: если вы хотите министерство левого центра[136], так и скажите — я уйду. Но я вас предупреждаю, что ни парламент, ни страна не будут с вами.
— Несомненно, — заметил граф Мартен, — что надо обеспечить себе большинство.
— Мой список и даст нам это большинство, — сказал Гарен. — Прежнее правительство имело против нас поддержку в меньшинстве, да еще в тех голосах, которые мы у него отвоевали. Господа, взываю к вашей самоотверженности.
И деятельное распределение портфелей снова началось. Граф Мартен получил сперва министерство общественных работ, от которого отказался, сославшись на свою некомпетентность, потом иностранные дела, которые принял без возражения.
Зато г-н Бертье д'Эзелль, которому Гарен предлагал торговлю и земледелие, еще воздерживался.
Луайе достались колонии. Он, казалось, был очень занят собачкой из хлебного мякиша — ему хотелось заставить ее держаться на скатерти. Все же он своими узенькими, окруженными морщинистой кожей глазками посматривал на графиню Мартен и находил ее привлекательной. Он смутно предвкушал удовольствие встречать ее и в дальнейшем, стать к ней чуть ближе.
Он предоставил Гарену заниматься делом, а сам стал разговаривать со своей красивой соседкой, стараясь угадать ее вкусы и привычки, спрашивая, любит ли она театр, бывает ли с мужем по вечерам в кофейне. И Тереза уже находила его более интересным, чем остальных, несмотря на его неопрятность, его незнание света, невероятный цинизм.
Гарен поднялся. Ему еще надо было повидать N., N. N. и N. N. N., прежде чем нести список президенту республики. Граф Мартен предложил свой экипаж, но у Гарена был собственный.
— Вам не кажется, — спросил граф Мартен, — что президент, пожалуй, будет возражать против некоторых имен?
— Президент, — ответил Гарен, — поступит так, как ему подскажут требования момента.
Он уже вышел из комнаты, как вдруг хлопнул себя по лбу и тотчас вернулся.
— Мы забыли про военного министра.
— Вы легко его найдете, если поищете среди генералов, — сказал граф Мартен.
— О! — воскликнул Гарен, — вы думаете, что выбрать военного министра — легкое дело. Сразу видно, что вы не были, как я, в составе трех кабинетов и не председательствовали в совете. Когда я был министром и председателем, самые большие осложнения случались из-за военного министра. Генералы все одинаковы. Вы ведь знаете того, которому я предложил войти в состав кабинета[137]. Когда мы его пригласили, он ничего не смыслил в наших делах. Он знал только, что есть две палаты. Пришлось объяснить ему все подробности парламентского механизма, сообщить, что существует комиссия по делам армии, финансовая комиссия, разные подкомиссии, докладчики, обсуждение бюджета. Он попросил записать для него все эти сведения на бумажке… Его незнание людей и дел пугало нас… Через две недели он уже до тонкостей знал свое ремесло, уже был лично знаком со всеми сенаторами и всеми депутатами и вместе с ними интриговал против нас. Если бы не помощь президента Греви, который не доверял военным, он бы нас опрокинул. А это был самый обыкновенный генерал, такой же, как все они! О! не воображайте, что портфель военного министра можно отдать наспех, не подумав…
И Гарен еще вздрагивал, вспоминая своего бывшего коллегу по Сен-Жерменскому бульвару[138]. Он удалился.
Тереза встала из-за стола. Сенатор Луайе предложил ей руку тем изящно округлым жестом, которому он сорок лет тому назад научился на балах в Бюлье[139]. Политических деятелей она оставила в гостиной. Она спешила встретиться с Дешартром.
Рыжеватая мгла застилала Сену, каменные набережные и золотистые платаны. Тереза, выйдя из дому, наслаждалась живительной свежестью воздуха, великолепием умирающего дня. С момента возвращения в Париж она в своем счастье каждое утро радовалась сменам погоды. Ей казалось, что для нее ветер колеблет оголенные деревья, для нее серая сетка дождя затягивает улицы, а солнце влачит в озябшем небе свою остывшую громаду; все это — для нее, для того, чтоб она, входя в домик в Тернах, могла сказать: «Сегодня ветрено», или: «Идет дождь», или: «Погода приятная», сливая безбрежность жизни с тесным миром своей любви. И все дни были для нее прекрасны, потому что все они приводили ее в объятия друга.
Идя в этот день, как и во все прочие дни, к домику в Тернах, она размышляла о своем нежданном, таком полном счастье, в котором она теперь была, наконец, уверена. Она шла в последних лучах солнца, уже тронутого зимой, и говорила себе:
«Он любит меня. Мне кажется, что он любит меня по-настоящему. Любить для него легче и естественнее, чем для других мужчин. Их жизнь заполняют идеи, которые выше их, вера, привычки, интересы. Они верят в бога, или в свой долг, или в самих себя. Он же верит только в меня. Я — его бог, его долг, его жизнь». Потом подумала: «Правда и то, что ему никого не нужно, даже меня. Его мысль — великолепный мир, в котором он так легко мог бы жить один. Но я-то — я не могу без него жить. Что бы сталось со мною, если бы я потеряла его?»
Она успокаивала себя, думая о том страстном влечении, которое он чувствовал к ней, которое стало для него чарующе привычным… Она вспомнила, что как-то раз сказала ему: «Ты любишь меня только чувственной любовью. Я не жалуюсь, это может быть единственная настоящая любовь». А он ей ответил: «Это самая большая и самая сильная любовь на свете. У нее — своя мера и свое оружие. Она полна смысла и образов. Она — любовь страстная и таинственная. Она привязывается к телу и к душе, живущей в нем. Все остальное — лишь заблуждение и ложь». Тереза в своей радости была почти спокойна. Подозрения, тревоги рассеялись, как грозовые тучи летом. Самая дурная пора их любви была та, когда они жили в разлуке. Если любишь, никогда не надо расставаться.
На углу бульвара Марсо и улицы Галилея она не столько узнала, сколько угадала забытый образ, тень, скользнувшую рядом с нею. Она думала, она надеялась, что ошиблась. Тот, кто ей почудился сейчас, больше не существовал, да он и не существовал никогда. То был призрак, который она видела в прошлом, во мраке некоей полужизни, как бы в преддверии новых дней. И она шла, чувствуя после этой встречи, как смутная холодная тоска сжимает ее сердце.
Проходя по бульвару Марсо, она увидела газетчиков, которые неслись ей навстречу, протягивая номера вечернего выпуска, где крупными буквами объявлялось о новом правительстве.
Она миновала площадь Звезды; и чем нетерпеливее жаждала она встречи, тем быстрее шла. Она уже видела Жака, ждущего ее внизу лестницы среди нагих мраморных и бронзовых статуй; он возьмет ее в свои объятия и понесет ее, истомленную, трепещущую от поцелуев, в комнату, полную тени и блаженства, где сладость жизни заставит ее забыть самую жизнь.
Но вот на безлюдном бульваре Мак-Магона тень, которая мелькнула перед ней на углу улицы Галилея, приблизилась, приобрела отчетливость, и Терезе сразу стало тягостно и скучно.
Она узнала Робера Ле Мениля, который шел за ней следом от набережной Бильи и настиг в самом спокойном и самом удобном месте.
В его облике, в его манере держаться проступала та ясность души, которая когда-то нравилась Терезе. Его лицо, всегда жесткое, а теперь еще и обветренное, потемневшее от загара, немного осунувшееся и очень спокойное, говорило о глубоком скрытом страдании.
— Мне надо с вами поговорить.
Она замедлила шаг. Он пошел рядом с ней.
— Я старался забыть вас. После того, что случилось, это было вполне понятно, не правда ли? Для этого я сделал все. Конечно, забыть вас было бы лучше всего. Но я не мог. Тогда я купил яхту. И был полгода в плавании. Вы, может быть, слышали об этом?
Она кивнула в знак того, что слышала. Он продолжал:
— «Розбад», хорошенькая яхта водоизмещением в восемьдесят тонн. У меня было шесть человек команды. Я вместе с ними управлял судном. Это было для меня развлечением.
Он замолчал. Она шла медленно, огорченная, но еще больше раздосадованная. Ей казалось нелепым, бесконечно мучительным — слушать чуждые ей слова.
Он продолжал:
— Мне стыдно было бы сказать вам, что я выстрадал на этой яхте.
Она почувствовала, что он говорит правду, и отвернулась.
— О! я вас извиняю. Я много думал в одиночестве. Я дни и ночи проводил, лежа на диване в рубке, и без конца перебирал все одни и те же мысли. За эти полгода я передумал больше, чем за всю свою жизнь. Не смейтесь. Ничто так не расширяет умственный кругозор, как страдание. Я понял, что потерял вас по своей вине. Надо было уметь удержать вас. И лежа ничком на диване, пока «Розбад» неслась по морю, я думал: «Я не сумел. О! если бы можно было начать сызнова». Я столько думал и страдал, что понял наконец, — понял, что недостаточно вникал в ваши вкусы и ваши взгляды. Вы женщина необыкновенная. Об этом я не думал, потому что не за это любил вас. Сам того не подозревая, я вас раздражал, шокировал.
Она покачала головой. Но он настаивал.
— Да! да! Я часто вас шокировал. Я мало считался с вашей чуткостью. Между нами бывали недоразумения. И все оттого, что у нас разные характеры. Да и потом я не умел вас занять. Я не доставлял вам тех развлечений, которые вам нужны; не понимал, что может доставить удовольствие такой умной женщине, как вы.
Он был так прямодушен и так искренен в своих сожалениях и в своем горе, что вызвал в ней что-то похожее на симпатию. Она мягко ответила ему:
— Друг мой, я не могу пожаловаться на вас.
— Все, что я вам говорю, — правда. Я это понял, когда был один, в открытом море, на своей яхте. Я провел на ней такие мучительные часы, каких не пожелаю даже человеку, причинившему мне всех больше зла. Сколько раз мне хотелось броситься в воду. Я этого не сделал. Почему — из-за религиозных убеждений, из любви к родным или потому, что у меня не хватило мужества? Не знаю. А быть может, вы издали привязывали меня к жизни. Меня влекло к вам, — недаром я здесь. Я два дня подстерегаю вас. Мне не хотелось появляться у вас в доме. Я не застал бы вас там одну, не мог бы поговорить с вами. И к тому же вам поневоле пришлось бы меня принять. Я решил, что лучше поговорить с вами на улице. Эта мысль пришла мне тоже на яхте. Я сказал себе: «На улице она выслушает меня, если захочет, как четыре года тому назад, в жуэнвильском парке, помните, под статуями около Короны».
И, тяжело вздохнув, он продолжал:
— Да, как в Жуэнвиле, раз все надо начинать сызнова. Уже два дня я подстерегаю вас. Вчера шел дождь: вы поехали в экипаже. Я мог бы поехать за вами, узнать, куда вы отправились. Мне очень этого хотелось. Я этого не сделал. Я не хочу делать то, что не понравилось бы вам.
Она протянула ему руку.
— Благодарю вас. Я ведь знала, что не пожалею о том доверии, которое питала к вам.
Встревоженная, нетерпеливая, раздраженная, боясь того, что он скажет, она попыталась прервать разговор и ускользнуть.
— Прощайте! Перед вами еще вся жизнь. Вы ведь счастливый. Знайте это и больше не мучайтесь из-за того, что не стоит терзаний.
Но его взгляд остановил ее. Его лицо приняло то резкое и решительное выражение, которое было ей знакомо.
— Я сказал вам, что мне надо поговорить с вами. Выслушайте меня, подождите минуту.
Она думала о Жаке, который уже ждал ее.
Редкие прохожие оглядывали ее и продолжали свой путь. Она остановилась под черными ветвями иудина дерева и стала ждать — с жалостью и страхом в душе.
Он сказал ей:
— Вот что: я прощаю вас и готов все забыть. Вернитесь ко мне. Обещаю никогда ни слова не говорить о том, что было.
Она вздрогнула и невольным движением, с такой непосредственностью выказала и удивление и печаль, что он умолк.
Потом, после недолгого раздумья, проговорил:
— То, что я вам предлагаю, необычно, я это знаю. Но я все обдумал, все принял в расчет. Только это и возможно. Подумайте, Тереза, и не отвечайте мне сразу.
— Было бы дурно обманывать вас. Я не могу, я не хочу делать то, о чем вы говорите, и вы знаете почему.
Мимо медленно проезжал фиакр. Она знаком велела кучеру остановиться. Он удержал ее на мгновение.
— Я предвидел, что вы мне это скажете. И потому-то я вам говорю: не отвечайте мне сразу.
Сев в экипаж, она сразу перестала смотреть на Робера. Этот миг был для него мучителен: он помнил то время, когда в минуту расставания ее чудесные серые глаза все еще продолжали с благодарностью глядеть на него из-под полуопущенных усталых век. Он сдержал рыдание и сдавленным голосом пробормотал:
— Послушайте, я не могу жить без вас, я вас люблю. Теперь-то я вас и люблю. Прежде я этого не знал.
Кучеру она бросила наудачу адрес какой-то модистки, а Ле Мениль пошел прочь легкой и быстрой, на этот раз чуть неровной походкой.
От встречи у нее осталось тревожное чувство и какой-то неприятный осадок. Уж раз суждено было встретиться с ним, она предпочла бы видеть его таким же грубым, каким он был во Флоренции.
На углу улицы она быстро крикнула кучеру:
— Улица Демур в Тернах.
XXXII
Это было в пятницу, в опере. Занавес только что опустился, скрыв лабораторию Фауста. В глубине волнующегося партера зрители наводили бинокли и осматривали красный с золотом зал — необъятное пространство, залитое светом. В темных углублениях лож виднелись женские головки, обнаженные плечи, сверкавшие драгоценностями. Амфитеатр нависал над партером длинной гирляндой из цветов, бриллиантов, причесок, человеческих тел, газа и шелка. В ложах у авансцены можно было увидеть жену австрийского посла и герцогиню Гледвин, в амфитеатре — Берту д'Изиньи и Джен Тюлль, которая вчера стала знаменита благодаря самоубийству ее любовника; в ложах — г-жу Берар де ла Малль, с опущенными глазами — длинные ресницы бросали тень на ее нежные щеки, — великолепную княгиню Сенявину — прикрываясь веером, она зевала, как пантера, — г-жу де Морлен, сидевшую между двумя молодыми дамами, в которых она воспитывала изящество ума; г-жу Мейан, с ее неоспоримой тридцатилетней славой всепокоряющей красавицы; чопорную г-жу Бертье д'Эзелль с серо-стальными волосами, усеянными бриллиантами. Ее красное лицо лишь подчеркивало величавую строгость позы. Она привлекала внимание. Утром стало известно, что после того, как провалился план Гарена, г-н Бертье д'Эзелль принял на себя задачу — составить правительство. Это уже почти было сделано. Газеты печатали список, в котором на долю Мартен-Беллема приходились финансы. Но бинокли напрасно поворачивались к ложе графини Мартен; ложа была пуста.
Нескончаемый гул голосов наполнял театр. В третьем ряду партера генерал Ларивьер, стоя у своего кресла, разговаривал с генералом де ла Бришем.
— Скоро я сделаю то же, что и ты, старый товарищ, — поеду в Турень, буду жить на лоне природы.
Он переживал период меланхолии, близость конца наводила его на мысль о небытии. Он заискивал перед Гареном, а Гарен, считая его слишком хитрым, предпочел сделать военным министром не его, а какого-то сумасбродного близорукого артиллерийского генерала. Ларивьер мог по крайней мере наслаждаться неудачей Гарена, покинутого, обманутого своими друзьями — Бертье д'Эзеллем и Мартен-Беллемом. Он смеялся над ним всеми морщинками, окружавшими его маленькие глазки. Одни только морщины и смеялись на его лице. Это как раз было видно в профиль. Устав от долгой жизни, полной притворства, он вдруг позволил себе радостную роскошь — откровенно высказать свою мысль:
— Вот видишь ли, дорогой мой Ла Бриш, осточертели они нам со своей постоянной армией, которая обходится дорого, а никуда не годна. Хороши одни только малые армии. Таково было мнение Наполеона, а он-то знал в этом толк.
— Верно, совершенно верно, — вздохнул генерал де Ла Бриш умиленно, со слезами на глазах.
Монтессюи, направляясь к своему креслу, прошел мимо них; Ларивьер протянул ему руку.
— Говорят, это вы, Монтессюи, провалили Гарена. Поздравляю.
Монтессюи отрицал, что пользуется каким бы то ни было политическим влиянием. Не был он ни сенатор, ни депутат, ни даже генеральный советник на Уазе. Лорнируя зал, он проговорил:
— Смотрите-ка, Ларивьер, там в бенуаре, направо, прехорошенькая брюнетка с гладкой прической.
И он сел на свое место, спокойно вкушая прелесть достигнутой власти.
А между тем в фойе, в коридорах, в зале из уст в уста, среди вялой равнодушной толпы повторялись имена новых министров: председатель совета и министр внутренних дел — Бертье д'Эзелль, юстиции и вероисповеданий — Луайе, финансов — Мартен-Беллем. Все кандидатуры были известны, кроме министров торговли, военного и морского: имена их еще не были указаны.
Занавес поднялся, и стал виден кабачок Бахуса. Исполнялся уже второй хор студентов, когда в ложе появилась графиня Мартен с высокой прической, в белом платье, рукава которого напоминали крылья; в складках корсажа слева на груди сверкала большая рубиновая лилия.
Рядом с нею села мисс Белл в платье Queen Ann[140] зеленого бархата. После помолвки с князем Эусебио Альбертинелли делла Спина она приехала в Париж заказывать приданое.
Под шум и грохот кермессы мисс Белл говорила:
— Darling, во Флоренции у вас остался друг: он, как очарованный, свято хранит воспоминание о вас. Это профессор Арриги. Для вас он приберег самую прекрасную похвалу: он говорит что вы создание музыкальное. Но как мог бы не вспомнить о вас, darling, профессор Арриги, если вас не забыл даже ракитник в саду? Его отцветшие ветки грустят о вас. О! они тоскуют о вас.
— Скажите им, — ответила Тереза, — что я увезла чудесное воспоминание о Фьезоле и хочу сохранить его на всю жизнь.
В глубине ложи г-н Мартен-Беллем вполголоса излагал свои взгляды Жозефу Шпрингеру и Дювике. Он говорил: «Подпись Франции — первая в мире». И еще: «Погашать долги надо излишками, а не налогами». Он склонен был к осторожности в финансовых делах.
А мисс Белл говорила:
— О darling, я скажу ракитнику во Фьезоле, растущему на склоне холма, что вы тоскуете и скоро приедете его навестить. Да, вот о чем я хотела вас спросить: встречаетесь ли вы в Париже с господином Дешартром? Мне бы очень хотелось увидеть его. Он мне нравится — у него изящная душа. О darling, душа господина Дешартра полна изящества и изысканности.
Тереза ответила, что г-н Дешартр, вероятно, находится в театре и не преминет зайти поздороваться с мисс Белл.
Занавес опустился, скрыв пестрый вихрь вальса. Зрители уже толпились в коридоре: в мгновение ока маленькую аванложу наполнили финансисты, художники, депутаты. Окружив г-на Мартен-Беллема, они бормотали поздравления, жестами приветствовали его через головы других и толкались, чтобы пожать ему руку. Жозеф Шмоль, слепой и глухой, кашляя и охая, проложил себе дорогу сквозь презренную толпу и добрался до г-жи Мартен. Он взял ее руку и, обдав своим дыханием, покрыл звонкими поцелуями.
— Говорят, ваш муж назначен министром. Это правда?
Она слышала об этом, но не думала, что все уже решено.
Впрочем, муж ее здесь. Можно спросить его самого. Он все понимал в буквальном смысле слова и сказал:
— Ах, вот как! Ваш муж еще не министр? Когда он будет назначен, я попрошу вас уделить мне несколько минут для разговора. Дело исключительно важное.
Он умолк, устремляя из-за золотых очков взгляды слепца и мечтателя: несмотря на грубость и определенность его натуры, в нем чувствовалось и нечто мистическое. Он внезапно спросил:
— Вы ездили в этом году в Италию, сударыня?
И, не дав ей времени ответить, продолжал:
— Знаю, знаю. Вы ездили в Рим. Смотрели на арку гнусного Тита[141], на это отвратительное сооружение из мрамора, где семисвечник изображен среди добычи, доставшейся от иудеев. Ну, так я вам, сударыня, скажу, что к стыду всего мира этот памятник продолжает еще стоять, да притом в городе Риме, где папы существовали только благодаря искусству евреев — ростовщиков и менял. Евреи принесли в Италию искусство Греции и Востока. Возрождение, сударыня, дело рук Израиля. Это — непризнаваемая и все же бесспорная истина.
И он вышел, проталкиваясь сквозь толпу посетителей, провожаемый треском цилиндров, которые давил по дороге.
Между тем княгиня Сенявина, сидя у себя в ложе, у самого барьера, лорнировала приятельницу с тем особым любопытством, которое порой возбуждала в ней женская красота. Она кивнула Полю Вансу, находившемуся подле нее:
— Не правда ли, госпожа Мартен необычайно хороша в этом году?
В фойе, переливавшем светом и золотом, генерал де Ла Бриш спрашивал Ларивьера:
— Вы видели моего племянника?
— Вашего племянника? Ле Мениля?
— Да, Робера. Он только что был здесь, в театре.
Ла Бриш на минуту задумался. Потом проговорил:
— Этим летом он приезжал в Семанвиль. Он показался мне каким-то странным, был погружен в свои мысли. Симпатичный малый, притом на редкость прямодушный и умный. Но ему необходимо занятие, цель в жизни.
Звонок, возвещавший конец антракта, только что умолк. Два старца шли по опустевшему фойе.
— Да, цель в жизни, — повторял Ла Бриш, высокий, худой, согбенный, а его собеседник тем временем, весело и легко ускользнув от него, поспешил за кулисы.
Маргарита в саду пряла и пела. Когда она окончила арию, мисс Белл сказала г-же Мартен:
— Ах, darling, господин Шулетт прислал мне изумительно прекрасное письмо. Он пишет, что стал знаменитостью. И я так обрадовалась. Он написал мне еще: «Слава других поэтов окружена ароматом мирры и иных благовоний. Моя же слава истекает кровью и стонет под градом камней и устричных раковин». Неужели правда, my love, что французы побивают каменьями милого господина Шулетта?
И пока Тереза успокаивала мисс Белл, Луайе, властный и несколько шумливый, велел отпереть дверь ложи.
— Я прямо из Елисейского дворца.
Он оказался так галантен, что г-жа Мартен первая узнала от него эту новость.
— Указы подписаны. Ваш муж получил финансы. Хорошее министерство.
— А президент республики, — спросил г-н Мартен-Беллем, — не возражал, когда ему назвали мое имя?
— Нет. Бертье указал президенту на наследственную честность Мартенов, на ваше имущественное положение, и главное — на связи, соединяющие вас с некоторыми деятелями финансового мира, чье содействие может быть полезно правительству. И президент, если пользоваться удачным выражением Гарена, поступил так, как подсказали ему требования момента. Он подписал.
На желтом лице графа Мартена появились и исчезли две-три морщинки. Он улыбался.
— Указ, — продолжал Луайе, — появится завтра в «Офисьель». Я сам в фиакре проводил чиновника, отвозившего его в типографию. Так оно надежнее. Во времена Греви, который все-таки не был тупицей, указы перехватывались по пути от Елисейского дворца к набережной Вольтера[142].
И Луайе опустился на стул. Глядя на плечи г-жи Мартен и вдыхая их аромат, он заметил:
— Теперь уж не будут говорить, как говорили во времена моего покойного друга Гамбетты[143], что республике недостает дам. Благодаря вам, сударыня, нас теперь ждут блистательные празднества в залах министерства.
Маргарита, надев ожерелье и серьги, глядела в зеркало и пела арию с драгоценностями.
— Надо будет, — сказал граф Мартен, — составить декларацию. Я думал об этом. Что до моего ведомства, то я, кажется, нашел формулу: «Погашать долги излишками, а не налогами».
Луайе пожал плечами:
— Мой дорогой Мартен, ничего существенного нам не приходится менять в декларации предыдущего кабинета; положение явно осталось тем же.
Он ударил себя по лбу.
— Черт возьми! я и забыл. Военное министерство мы дали вашему другу старику Ларивьеру, не спросив его. Мне поручено его известить.
Он рассчитывал найти его в кафе на бульваре, которое посещают военные. Но графу Мартену было известно, что генерал в театре.
— Надо его поймать, — сказал Луайе.
И с поклоном спросил:
— Вы мне позволите, графиня, увести вашего мужа?
Не успели они удалиться, как в ложу вошли Жак Дешартр и Поль Ванс.
— Поздравляю вас, сударыня, — сказал Поль Ванс.
Но она обернулась к Дешартру:
— Надеюсь, что хоть вы-то не собираетесь меня поздравлять…
Поль Ванс спросил ее, думает ли она переезжать в квартиру в здании министерства.
— Нет, нет! Ни за что!
— Но вы, сударыня, — продолжал Поль Ванс, — по крайней мере будете ездить на балы в Елисейский дворец и в министерства, а мы будем восхищаться искусством, с каким вы и впредь сохраните ваши таинственные чары: вы останетесь той, о которой мечтаешь.
— Перемена кабинета вызывает у вас, господин Ванс, мысли весьма игривые, — заметила г-жа Мартен.
— Я не скажу, сударыня, как говорил мой дорогой учитель Ренан: «Какое до этого дело Сириусу?» — продолжал Поль Ванс, — ибо мне с полным основанием ответят: «Какое дело маленькой Земле до огромного Сириуса?» Но меня всегда немного удивляет, что люди взрослые и даже старые поддаются иллюзии власти, как будто голод, любовь и смерть, все эти низкие или великие неизбежности жизни, не имеют над человеческой толпой слишком большого могущества, чтобы еще оставлять сильным мира что-нибудь иное, кроме господства на бумаге и власти на словах. А еще удивительнее, что народы верят, будто у них есть другие правители и министры, кроме их собственных невзгод, желаний и глупости. Мудр был тот, кто сказал: «В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание»[144].
— Но позвольте, господин Ванс, — рассмеялась г-жа Мартен, — ведь это написали вы. Я же вас читаю.
Тем временем оба министра тщетно разыскивали генерала в зрительном зале и в коридорах. По совету капельдинерш они проникли за кулисы и, пройдя мимо подымавшихся и опускавшихся декораций, пробравшись сквозь толпу молодых немок в красных юбках, ведьм, бесов, античных куртизанок, попали в фойе балета. Просторная зала, украшенная аллегорической росписью, почти безлюдная, имела торжественно важный вид, какой придают своим учреждениям государство и богатство.
В фойе неподвижно стояли две танцовщицы, подняв ногу на барьер, который тянется вдоль стен. Там и тут видны были почти безмолвные группы мужчин в черных фраках и женщин в коротких и пышных юбочках.
Луайе и Мартен-Беллем, войдя, сняли цилиндры. В глубине залы они приметили Ларивьера, беседующего с красивой девицей, одетой в розовую тунику с золотым поясом и с разрезами на бедрах, обтянутых трико.
В руке она держала кубок из золоченого картона. Подойдя ближе, они услышали, как она говорила генералу:
— Вы старый, но я уверена, что вы уж во всяком случае не уступите ему.
И она презрительным жестом обнаженной руки указала на молодого человека с гарденией в петлице, который ухмылялся, стоя рядом.
Луайе знаком дал понять генералу, что хочет с ним поговорить, подвел его к барьеру и сказал:
— Я имею удовольствие сообщить вам, что вы назначены военным министром.
Ларивьер, насторожившись, ничего не ответил. Этот плохо одетый человек с длинными волосами, в пыльном, мешковатом фраке, походивший скорее на балаганного фокусника, внушал генералу так мало доверия, что тот даже заподозрил — не ловушка ли это, или, чего доброго, скверная шутка.
— Господин Луайе, министр юстиции. — представил его граф Мартен.
Луайе настаивал:
— Генерал, вам никак нельзя уклониться. Я поручился за ваше согласие. Ваш отказ может способствовать возвращению Гарена, а он теперь еще более агрессивен. Он предатель.
— Ну, дорогой коллега, вы преувеличиваете, — сказал граф Мартен, — Гарену, пожалуй, несколько недостает прямоты. Однако согласие генерала совершенно необходимо.
— Родина прежде всего, — пробормотал взволнованный Ларивьер.
— Вы помните, генерал, — проговорил Луайе, — существующие законы должны применяться с неуклонной умеренностью. Не отступайте от нее.
Глазами он следил за двумя танцовщицами, которые вытягивали на барьере свои мускулистые ноги. Ларивьер бормотал:
— Моральное состояние армии превосходное… Служебное рвение начальников всегда соответствует самым критическим обстоятельствам…
Луайе похлопал его по плечу:
— Большие армии, дорогой коллега, имеют свои достоинства.
— Вполне с вами согласен, — отвечал Ларивьер, — наша теперешняя армия отвечает высшим потребностям национальной обороны.
— Большие армии хороши тем, — продолжал Луайе, — что они делают войну невозможной. Надо быть сумасшедшим, чтобы вовлечь в войну все эти необъятные силы; управление ими требовало бы сверхчеловеческих способностей. Ведь вы такого же мнения, генерал?
Генерал Ларивьер подмигнул.
— Настоящее положение, — сказал он, — требует большой осмотрительности. Перед нами опасная неизвестность.
Тут Луайе спокойно-презрительно поглядел на своего военного коллегу:
— А не думаете ли вы, мой дорогой коллега, что если паче чаяния вспыхнет война, настоящими генералами окажутся начальники станций?
Три министра спустились по служебной лестнице. Председатель совета ждал их у себя.
Начинался последний акт; в ложе г-жи Мартен оставались теперь только Дешартр и мисс Белл.
Мисс Белл говорила:
— Я радуюсь, darling, — как это у вас говорится по-французски? — я восторгаюсь при мысли, что вы носите на сердце флорентинскую красную лилию. И господин Дешартр, у которого душа художника, тоже должен быть доволен, что видит на вашем корсаже эту прелестную драгоценность. О! мне хочется знать, darling, какой ювелир делал ее. Эта лилия — стройная и гибкая, как цветок ириса. О! она изящна, великолепна и жестока. Замечали вы, my love, что в драгоценностях есть черты какой-то великолепной жестокости?
— Мой ювелир здесь, и вы уже назвали его, — сказала Тереза, — господин Дешартр был так любезен, что сделал рисунок этой лилии.
Дверь ложи отворилась. Тереза слегка повернула голову и в полумраке увидела Ле Мениля. Он поклонился ей:
— Прошу вас, графиня, передайте вашему супругу мои поздравления.
Он суховато сказал, что она прекрасно выглядит. Для мисс Белл у него нашлось несколько любезных и подобающих случаю слов.
Тереза в тревоге слушала его, полуоткрыв рот, делая над собой мучительное усилие, чтобы ответить что-то незначительное. Он спросил, хорошо ли она провела лето в Жуэнвиле. Ему хотелось приехать туда на охоту. Но он не смог. Он плавал по Средиземному морю, потом охотился в Семанвилле.
— О, господин Ле Мениль, — воскликнула мисс Белл, — вы скитались по голубому морю. Видали ли вы сирен?
Нет, сирен он не встречал, но в течение целых трех дней поблизости от его яхты плыл дельфин.
Мисс Белл спросила, нравилась ли этому дельфину музыка.
Ле Мениль не думал, чтобы нравилась.
— Дельфины — это просто-напросто маленькие кашалоты, — сказал он, — моряки называют их морскими гусями, потому что в форме головы у них есть известное сходство с гусем.
Но мисс Белл не допускала, чтобы у чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар[145], могла быть гусиная голова.
— Господин Лe Мениль, если в будущем году дельфин снова проплывет вблизи вашего корабля, пожалуйста, сыграйте для него на флейте гимн Аполлону Дельфийскому. Вы любите море, господин Ле Мениль?
— Я предпочитаю лес.
Овладев собой, он говорил спокойно и просто.
— Ах! господин Ле Мениль, я знаю, вы очень любите леса и поляны, где зайчики пляшут при лунном свете.
Дешартр, побледнев, встал и вышел из ложи.
Шла сцена в церкви. Маргарита, стоя на коленях, в отчаянии ломала руки, голова ее с тяжелыми белокурыми косами откинулась назад. И хор загремел вместе с органом, зазвучал заупокойный гимн:
Когда займется день господень в небесах, Пожаром вспыхнет крест в благих его лучах И обратит вселенную во прах[146].— Ах, darling, известно ли вам, что этот заупокойный гимн, который поется в католических церквах, возник во францисканском монастыре? В нем еще слышится шум ветра, что свистит зимой среди ветвей лиственниц в горах Оверни.
Тереза не слушала. Душа ее улетела в узенькую дверь ложи.
В аванложе раздался шум — падали кресла. Это вернулся Шмоль. Он узнал, что г-н Мартен-Беллем назначен министром. Тотчас же он стал требовать, чтобы ему дали командорский крест и более просторную квартиру в здании Академии. Ведь та, которую он занимает сейчас, — темная, тесная, слишком маленькая для его жены и пяти дочерей. Свой кабинет ему пришлось устроить в каком-то чулане. Он долго и тягуче жаловался и решился уйти лишь после того, как г-жа Мартен обещала, что замолвит за него слово.
— Господин Ле Мениль, — спросила мисс Белл, — будете ли вы плавать и в будущем году?
Ле Мениль думал, что не будет. Он не намерен сохранять «Розбад». На море грустно.
И, спокойный, решительный, упрямый, он посмотрел на Терезу.
На сцене, в тюрьме у Маргариты, Мефистофель пел: «День наступает», и оркестр воспроизводил жуткий конский скок. Тереза прошептала:
— У меня голова болит, здесь душно.
Ле Мениль приотворил дверь.
Звонкая музыкальная фраза Маргариты, призывающей ангелов, белыми искрами рассыпалась в воздухе.
— Darling, вот что я вам скажу: эта бедная Маргарита не хочет спасать свою плоть и потому-то спасена ее душа живая. В одно я верю, darling, — я твердо верю, что все мы будем спасены. О да, я верю в конечное очищение от всех грехов.
Тереза встала, высокая и белая, с кровавым цветком на груди. Мисс Белл сидела неподвижно и слушала музыку. В аванложе Ле Мениль взял манто г-жи Мартен. Он держал его наготове, а она вышла из ложи и остановилась у зеркала возле приотворенной двери. Он набросил на ее обнаженные плечи, чуть коснувшись их пальцами, расшитое золотом, подбитое горностаем красное бархатное манто, и совсем тихо, отрывисто, но очень отчетливо сказал:
— Тереза, я вас люблю. Вспомните, о чем я просил вас третьего дня. Каждый день, каждый день с трех часов я буду ждать у нас, на улице Спонтини.
В эту минуту, оправляя на себе манто, она сделала легкое движение головой и увидела Дешартра, который держался за ручку двери. Он слышал. Он посмотрел на нее с такой укоризной и такой скорбью, какую только в силах выразить человеческие глаза. Потом он исчез в коридоре. Она почувствовала, как огненные молоточки застучали у нее в груди, и застыла на пороге двери.
— Ты меня ждала? — сказал Монтессюи, зайдя за ней. — Тебя все покинули сегодня. Я отвезу вас обеих — тебя и мисс Белл.
XXXIII
И в карете и у себя в спальне Тереза все время видела взгляд друга, его жестокий и скорбный взгляд. Она знала, как легко он поддастся отчаянию, как быстро утрачивает волю к желаниям. Так он убегал от нее на берегу Арно. Тогда она, счастливая, — несмотря на всю печаль и тревогу, — могла броситься за ним, крикнуть ему: «Вернись!» Да и теперь, хоть ее окружали люди, хоть за ней следили, она должна была бы что-то сделать, сказать, не дать ему уйти в безмолвии и горе. Она была ошеломлена, удручена. Все произошло так нелепо и так быстро. Ле Мениль был для нее слишком чужим, чтобы возбуждать ее гнев, да она и не хотела думать о нем. Она горько упрекала лишь себя самое — зачем она дала уйти своему другу, не проводив его ни словом, ни взглядом, в который могла бы вложить всю свою душу.
Полина ждала, чтобы помочь ей раздеться, а она в волнении ходила взад и вперед по комнате. Потом внезапно остановилась. В сумрачных зеркалах, где тонули отблески свечей, она видела коридор театра и своего друга, безвозвратно уходящего от нее.
Где он теперь? О чем он думает там, один? Для нее было пыткой, что она не может сию же минуту бежать к нему, увидеться с ним.
Она долго прижимала руки к груди — она задыхалась.
Вдруг Полина вскрикнула: на белом корсаже своей госпожи она увидела капельки крови. Сама того не заметив, Тереза уколола себе руку о лепестки красной лилии.
Она сняла эту символическую драгоценность, которую носила на глазах у всех, как кричащую тайну своего сердца и, держа ее в руке, еще долго смотрела на нее. И ей вспомнились дни во Флоренции, келья в монастыре св. Марка, где друг нежно поцеловал ее в губы, а она сквозь полуопущенные ресницы смутно видела ангелов и голубое небо на фреске; ей вспомнились статуи Ланци и сверкающее сооружение мороженщика на красной ситцевой скатерти, флигель на Виа Альфьери с его нимфами и козами на фронтоне и комната, где пастухи и маски на ширмах слушали, как она вскрикивает или как подолгу хранит молчание.
Нет, все это не были видения прошлого, призраки минувших часов. Это было живое настоящее ее любви. И что же — слово, бессмысленно брошенное каким-то чужим человеком, разрушит все это очарование? К счастью, это невозможно. Ее любовь, ее возлюбленный не могут зависеть от таких пустяков. Если бы только она могла броситься к нему сейчас же, вот так, полураздетая, среди ночи, могла бы войти к нему в комнату… Она увидела бы, как он сидит перед камином печальный, опустив голову на руки. Тогда, коснувшись пальцами его волос, она заставила бы его поднять голову, убедиться, что она любит его, что она его собственность, его живое сокровище, исполненное радости и любви.
Она отослала горничную. Лежа в постели, не погасив лампы, она возвращалась все к одной и той же мысли.
Это была случайность, нелепая случайность. Он же поймет, что их любви нет никакого дела до этой глупости. Что за безумие! Ему — беспокоиться из-за какого-то другого человека! Как будто на свете есть другие люди!
Господин Мартен-Беллем приотворил дверь спальни. Увидев свет, он вошел.
— Вы еще не спите, Тереза?
Он только что приехал от Бертье д'Эзелля, где совещался с коллегами. О некоторых делах он хотел посоветоваться с женой, которую считал женщиной умной. А главное — он испытывал потребность услышать искреннее слово.
— Дело сделано, — сказал он. — Вы, дорогой мой друг, надеюсь, поможете мне в моем положении, весьма лестном, но очень трудном и даже опасном, положении, которым я отчасти обязан вам, поскольку достиг я его прежде всего благодаря могущественному влиянию вашего отца.
Он посоветовался с ней о выборе начальника канцелярии.
Она старалась помочь ему по мере сил. Она видела, что он рассудителен, спокоен и не глупее других. Он предался размышлениям.
— Бюджет мне придется отстаивать перед сенатом в том виде, как его утвердила палата. В этом бюджете есть новшества, которых я не одобрял. Как депутат, я восставал против них, а как министр, буду их поддерживать. Раньше я на все это глядел со стороны. А когда присмотришься, картина меняется. И к тому же я не свободен.
Он вздохнул:
— Ах! если бы знали, как мало мы можем сделать, когда становимся у власти.
Он поделился с ней своими впечатлениями. Бертье не высказывается. Прочие остаются непроницаемыми. Один только Луайе проявляет себя крайне твердым человеком.
Она слушала его без всякого внимания, но и без нетерпения. Его лицо и бесцветный голос, точно часы, отмечали для нее минуты, которые медленно текли одна за другой.
— Луайе позволяет себе странные выходки. Он заявил себя безусловным сторонником Конкордата[147] и сказал: «Епископы — это духовные префекты. Я буду им покровительствовать, раз они мне подведомственны. А через них я буду держать в руках сельских духовных стражей — священников».
Муж напомнил Терезе, что теперь ей придется бывать в обществе, которое ей чуждо и пошлость которого ее будет, наверно, коробить. Но их положение требует, чтобы они никем не пренебрегали. Впрочем, он рассчитывает на ее такт и самоотверженность. Она растерянно посмотрела на него.
— Зачем спешить, друг мой. Там видно будет.
Он был утомлен, просто изнемогал. Ей он пожелал спокойной ночи, посоветовал скорей уснуть. Она расстроит себе здоровье, если будет читать целые ночи напролет. Он ушел.
Она прислушивалась к его шагам, несколько более тяжелым, чем обычно, пока он проходил через свои кабинет, заваленный синими папками и газетами, в спальню, где ему, может быть, удастся уснуть. Потом она почувствовала гнет ночного безмолвия, взглянула на часы. Было половина второго.
И она подумала: «Он тоже страдает, тоже… Он посмотрел на меня с таким отчаянием и такой злобой!»
Она сохраняла все свое мужество, всю свою готовность действовать. Ее раздражало, что она здесь — точно узница, заключенная в одиночную камеру. Когда настанет утро и вернет ей свободу, она поедет к нему, увидит его, все ему объяснит. Это же так ясно! Среди мучительного однообразия своих мыслей она слушала грохот телег, которые через долгие промежутки времени проезжали по набережной. Этот шум скрашивал ей ожидание, занимал ее, почти интересовал. Она прислушивалась к звукам, сперва слабым и отдаленным, потом нараставшим, так что можно было различить стук колес, скрип осей, удары подков о мостовую, и постепенно затихавшим, переходившим в еле уловимый рокот.
А когда водворялась тишина, она опять отдавалась все той же мысли.
Он поймет, что она его любит, что она никогда никого другого не любила. Вся беда в том, что ночь течет так медленно. Она не решалась посмотреть на часы, — из страха убедиться в тягостной неподвижности времени.
Она встала, подошла к окну и приподняла штору. По облачному небу разлито было бледное мерцание. Она подумала, что уже занимается день, и взглянула на часы. Было половина четвертого.
Она вернулась к окну. Темная беспредельность там, на улице, притягивала ее. Она стала смотреть. Тротуар блестел в свете газовых фонарей. С тусклого неба падал незримый и бесшумный дождь. Вдруг среди тишины раздался голос, сперва пронзительный, потом более низкий и прерывистый; в нем словно сливалось несколько отвечавших друг другу голосов. Это пьяница брел по тротуару, натыкаясь на деревья, и вел долгий спор с созданиями своей фантазии, которым великодушно предоставлял слово, а потом набрасывался на них с резкими упреками, при этом сильно жестикулируя. Тереза видела, как белая блуза этого бедняги мелькает вдоль парапета, точно тряпка, развеваемая ночным ветром, и время от времени до нее доносились слова, которые он твердил без конца: «Вот что я скажу правительству!»
Продрогнув, она опять легла в постель. Ее одолела новая тревога. «Он ревнив, он до безумия ревнив. Тут замешаны нервы, темперамент. Но и в любви его тоже замешаны нервы и темперамент. Любовь его и ревность — это одно и то же. Другой все понял бы. Достаточно было бы успокоить его самолюбие». Но у него ревность сочетается с какой-то страшной чувственностью. Она знает, что ревность для него — физическая пытка, незаживающая рана, которую еще растравляет воображение. Она знает, как глубоко коренится недуг. Она же видела, как он побледнел перед бронзовой статуей св. Марка, когда она опустила письмо в почтовый ящик на стене старинного флорентийского дома, а ведь он в то время обладал ею лишь в своих желаниях и мечтах.
Она вспоминала его глухие жалобы, внезапные приступы грусти, охватывавшей его потом, после долгих поцелуев, и мучительную загадку слов, которые он все время повторял: «Чтобы забыть тебя, я должен забыться в тебе». Она вспоминала письмо, присланное в Динар, и яростное отчаяние, в которое его повергла фраза, услышанная за ресторанным столиком. Она чувствовала, что удар пришелся по самому болезненному месту — в кровоточащую рану. Но она не теряла мужества. Она все ему скажет, во всем признается, и все ее признания будут одним воплем: «Я люблю тебя, я никогда никого не любила, кроме тебя!» Она ему не изменяла. Она не скажет ему ничего такого, о чем бы он уже не догадывался. Она лгала так мало, так мало, как только могла, и лишь для того, чтобы его не огорчать. Неужели он не поймет этого? И лучше ему знать все, раз это все — сущее ничто. Она без конца возвращалась все к тем же мыслям, повторяла все те же слова.
Лампа бросала теперь лишь тусклый свет. Тереза зажгла свечи. Было половина седьмого. Тут она поняла, что вздремнула. Она подбежала к окну. Небо было черное и сливалось с землей в хаосе густого мрака. Теперь ей захотелось узнать точно, в котором часу встанет солнце. Она не имела ни малейшего понятия об этом. Она только знала, что в декабре очень долгие ночи. Она попыталась вспомнить, но это ей не удалось. Она не сообразила заглянуть в календарь, забытый на столе. Тяжелые шаги рабочих, проходивших целыми партиями, шум от проезжавших мимо тележек с молоком и зеленью донеслись до ее слуха, как доброе предзнаменование. Она вздрогнула, ощутив пробуждение города.
XXXIV
Было девять часов утра, когда во дворе маленького дома в Тернах она увидела г-на Фюзелье: несмотря на дождь, с трубкой в зубах, он подметал дорожку. Из своей комнаты вышла г-жа Фюзелье. У обоих вид был смущенный. Первой заговорила г-жа Фюзелье.
— Господина Жака нет дома.
А так как Тереза не говорила ни слова и продолжала стоять неподвижно, Фюзелье, не выпуская метлы и пряча за спиной левую руку с трубкой, подошел к ней и сказал:
— Господин Жак еще не возвращался.
— Я его подожду, — сказала Тереза.
Госпожа Фюзелье провела ее в гостиную и затопила камин. Дрова не загорались и дымили, и она, положив руки на бедра, наклонилась к огню.
— Это из-за дождя не тянет, — сказала она. Госпожа Мартен пробормотала, что не стоит растапливать камин, что ей не холодно.
Она увидела себя в зеркале.
Она была мертвенно-бледна, а на щеках горели красные пятна. Тут только она почувствовала, что ноги у нее озябли. Она подошла к камину. Г-жа Фюзелье, видя ее тревогу, постаралась сказать что-нибудь приветливое:
— Господин Жак скоро придет. Вам бы тем временем обогреться.
Сквозь стеклянную крышу, залитую дождем, проникал унылый свет. На стене дама с единорогом, застыв в напряженной позе, вся как-то поблекнув, уже не казалась прекрасной среди окружающих ее кавалеров, в лесу, полном цветов и птиц. Тереза повторяла про себя: «Не возвращался». И повторяла эти слова столько раз, что перестала их понимать. Горящими глазами она смотрела на дверь.
Так сидела она без мысли, без движения, сама не зная, сколько времени, — может быть, полчаса. Раздались шаги, отворилась дверь. Он вошел. Она увидела, что он весь промок, весь в грязи, что он пылает в лихорадке.
Она остановила на нем взгляд, полный такой искренности, такой прямоты, что он был поражен. Но почти тотчас же он вновь разбередил в себе боль.
Он сказал:
— Чего вам еще нужно от меня? Вы мне сделали все зло, какое только могли сделать.
От усталости он казался каким-то кротким. Это испугало ее.
— Жак, выслушайте меня…
Он сделал жест, означавший, что слушать ему нечего.
— Жак, выслушайте меня. Я вам не изменяла. Нет, нет, я вам не изменяла. Разве могло это быть? Разве…
Он прервал ее:
— Пожалейте меня. Не мучьте меня больше. Оставьте меня, умоляю вас. Если бы вы знали, какую ночь я провел, у вас не хватило бы духа снова терзать меня.
Он тяжело опустился на тот самый диван, где полгода тому назад целовал ее через вуалетку.
Он бродил всю ночь, шагал куда глаза глядят, прошел вверх по Сене вплоть до того места, где ее окаймляют уже только ивы и тополя. Чтобы меньше страдать, он придумывал себе развлечения. На набережной Берси он смотрел, как луна мчится меж облаков. Он целый час глядел, как она то заволакивается, то показывается вновь. Потом он с крайней тщательностью стал считать окна в домах. Начался дождь. Он пошел на Крытый рынок, выпил водки в каком-то кабаке. Толстая косая девка сказала ему: «Тебе, видать, не весело». Он задремал на скамейке, обитой кожей. То была хорошая минута.
Образы этой мучительной ночи вставали перед его глазами. Он сказал:
— Мне вспомнилась ночь на Арно. Вы отравили мне всю радость, всю красоту мира.
Он умолял оставить его. Он так устал, что испытывал острую жалость к самому себе. Он хотел бы уснуть; не умереть, — смерть страшила его, — а уснуть и никогда больше не просыпаться. Между тем он видел Терезу перед собой, такую желанную, такую же очаровательную, как прежде, несмотря на потускневший цвет лица и мучительную напряженность сухих глаз. И к тому же — теперь еще и загадочную, еще более таинственную, чем когда бы то ни было. Он видел ее. Ненависть возрождалась в нем вместе со страданием. Недобрым взглядом искал он на ней следы ласк, которых она еще не дождалась от него.
Она протянула к нему руки:
— Выслушайте меня, Жак.
Он сделал жест, означавший, что говорить бесполезно. Все же ему хотелось выслушать ее, и вот он уже жадно слушал. Он ненавидел и заранее отвергал то, что она собиралась сказать, но одно только это и занимало его сейчас в целом мире. Она сказала:
— Вы могли поверить, что я вам изменяю, что я живу не в вас, что я живу не вами? Значит, вы ничего не понимаете? Значит, вы не соображаете, что если бы этот человек был моим любовником, ему незачем было бы говорить со мной в театре, в ложе; он нашел бы тысячи других способов, чтоб назначить мне свидание. Ах нет, мой друг, уверяю вас, что с тех пор, как мне дано счастье, — даже и сейчас я, измученная, готовая отчаяться, говорю: счастье — счастье знать вас, я принадлежала только вам. Разве бы я могла принадлежать другому? То, что вам вообразилось, — ведь это же чудовищно. Я тебя люблю, я тебя люблю. Я люблю тебя одного. Я только тебя и любила.
Он ответил медленно, произнося слова с жестокой отчетливостью:
— «Я каждый день с трех часов буду у нас на улице Спонтини». Это вам говорил не любовник, не ваш любовник? Нет? Это был чужой, это был незнакомец?
Она выпрямилась и страдальчески торжественно сказала:
— Да, когда-то я принадлежала ему. Вы же это знали. Я отрицала это, я лгала, чтобы не огорчать вас, чтобы вас не раздражать. А я видела, что вы встревожены, мрачны. Но лгала я так мало и лгала так неудачно! Ты же это знал. Не упрекай меня. Ты ведь знал, знал об этом, ты часто заговаривал со мной о прошлом, а потом тебе сказали в ресторане… И ты вообразил больше, чем было на самом деле. Я, когда лгала, не обманывала тебя. Если бы ты знал, как мало это значило в моей жизни. Я не знала тебя — вот в чем вся причина. Я не знала, что ты появишься. Я томилась.
Она бросилась на колени.
— Я виновата. Надо было ждать тебя. Но если бы ты знал, до какой степени все это перестало существовать, да и не существовало никогда!
И в голосе ее прозвучала нежная певучая жалоба:
— Отчего ты не пришел раньше? Отчего?
Не поднимаясь с пола, она тянулась к нему, она хотела схватить его руки, обнять колени. Он ее оттолкнул:
— Я был глуп. Я не верил, не знал. Не хотел знать.
Он поднялся и в порыве ненависти крикнул:
— Я не хотел, я не хотел, чтобы это был он!
Она села на место, с которого он только что встал, и жалобным, тихим голосом заговорила о прошлом. Ведь она была тогда так одинока в свете, а свет ужасающе пошл. Все случилось само собой, она просто уступила. Но тотчас же стала раскаиваться. О! если бы он знал, как тускла и уныла была ее жизнь, он не стал бы ревновать, он пожалел бы ее.
Она тряхнула головой и поглядела на него сквозь распустившиеся пряди волос:
— Да ведь я с тобой говорю о совсем другой женщине. С этой женщиной у меня нет ничего общего. А я — я существую лишь с тех пор, как узнала тебя, с тех пор, как стала твоей.
Он неистово скорыми шагами, такими, какими недавно шел по берегу Сены, принялся расхаживать по комнате. И вдруг разразился смехом, полным муки:
— Да, хорошо, но пока ты меня любила, что делала та, другая женщина, не ты?
Она с негодованием взглянула на него.
— Ты мог подумать…
— Вы не встречались с ним во Флоренции, не провожали его на вокзал?
Она рассказала ему, зачем он приезжал к ней в Италию, как она виделась с ним, как с ним порвала, как он уехал в гневе на нее и как с тех пор стремится вернуть себе ее любовь, а она даже не обратила на него внимания.
— Друг мой, я во всем мире не вижу, не знаю никого, кроме тебя.
Он покачал головой:
— Я тебе не верю. Она возмутилась:
— Я вам все сказала. Обвиняйте меня, осуждайте, но не оскорбляйте мою любовь к вам. Это я вам запрещаю.
Он левой рукой закрыл себе глаза.
— Оставьте меня. Вы сделали мне слишком много зла. Я так вас любил, что принял бы все страдания, которые вы могли бы мне причинить, берег бы их, любил бы их; но эта боль отвратительна. Я ее ненавижу. Оставьте меня, мне слишком тяжко. Прощайте.
Она стояла прямо, ее маленькие ножки словно приросли к ковру.
— Я пришла к вам. Я отстаиваю свое счастье, свою жизнь. Я упрямая, вы это знаете. Я не уйду.
И она повторила все, что уже говорила ему. Искренне и страстно, не сомневаясь в себе, она рассказала, как порвала связь, и без того непрочную и уже начинавшую ее раздражать, как с того дня, в который она отдалась ему в домике на Виа Альфьери, она принадлежала только ему, ни о чем, конечно, не сожалея, ни о ком не думая, ни на кого другого не глядя. Но одним упоминанием о другом она уже сердила его. И он кричал:
— Я вам не верю!
Тогда она опять начала говорить то, что уже говорила.
И вдруг невольно взглянула на часы:
— Боже мой! Двенадцать!
Сколько раз у нее вырывалось это тревожное восклицание, когда неожиданно подкрадывалось время расстаться. И Жак вздрогнул, услышав эти привычные слова, на этот раз такие скорбные и безнадежные. Еще несколько минут она что-то говорила — горячо, со слезами. Потом ей все-таки пришлось уйти; она ничего не достигла.
Дома, в передней, она увидела рыночных торговок, которые дожидались ее, чтобы поднести ей букет. Она вспомнила, что ее муж — министр. Лежали уже целые груды телеграмм, визитных карточек и писем, поздравлений, просьб. Г-жа Марме просила рекомендовать ее племянника генералу Ларивьеру.
Она вышла в столовую и в изнеможении опустилась на стул. Г-н Мартен-Беллем кончал завтракать. Его в одно и то же время ждали и в совете министров и у бывшего министра финансов, которому он должен был сделать визит. Низкопоклонство осторожных чиновников уже успело польстить ему, обеспокоить его, утомить. Он сказал:
— Не забудьте, дорогая, съездить к госпоже Бертье д'Эзелль. Вы знаете, что она щепетильна.
Тереза не ответила. Окуная свои желтые пальцы в хрустальный сосуд с водой, он вдруг поднял голову и увидел ее, такую усталую и расстроенную, что больше ничего не решился сказать.
Он столкнулся с какой-то тайной, которую не желал узнать, с сердечным горем, которое от одного слова могло прорваться. Он почувствовал беспокойство, страх и как бы уважение.
Он бросил салфетку на стол:
— Вы меня извините, дорогая.
И вышел.
Она пробовала поесть, но ничего не могла проглотить. Все вызывало в ней непреодолимое отвращение.
Около двух часов она вернулась в домик в Тернах. Жака она застала в спальне. Он курил деревянную трубку. На столе стояла чашка кофе, почти уже допитая. Во взгляде, которым он посмотрел на нее, была такая жестокость, что она вся похолодела. Она не решалась заговорить, чувствуя, что все, сказанное ею, только оскорбит и раздражит его и что, даже храня смиренное молчание, она разжигает его гнев. Он знал, что она вернется, ждал с нетерпением ненависти, с такой же тревогой в сердце, с какою ждал ее во флигеле на Виа Альфьери. Она вдруг поняла, что сделала ошибку, придя к нему; что, не видя ее, он бы стремился к ней, желал ее, может быть, позвал бы. Но было слишком поздно, да, впрочем, она и не пыталась действовать с расчетом.
Она ему сказала:
— Вот видите. Я вернулась, я не могла иначе. Да это ведь и естественно, раз я тебя люблю. И ты это знаешь.
Она уже чувствовала, что все сказанное ею будет только раздражать его. Он спросил, говорит ли она то же самое на улице Спонтини.
Она с глубокой печалью посмотрела на него:
— Жак, вы не раз говорили мне, что есть в вас и затаенная злоба и ненависть ко мне. Вы любите мучить меня. Я это вижу.
Она с упорным терпением опять подробно рассказала ему всю свою жизнь, которая раньше так мало значила для нее, рассказала о том, как уныло было ее прошлое и как, отдавшись ему, она с тех пор жила только им, только в нем.
Слова текли прозрачно ясные, как ее взгляд. Она села рядом с ним. Порою она касалась его пальцами, робкими теперь, и обвевала его своим дыханием, слишком горячим. Он слушал ее со злобной жадностью. Жестокий к самому себе, он пожелал знать все, — о последних встречах с тем, другим, об их разрыве. Она в точности рассказала ему, что произошло в гостинице «Великобритания», но перенесла эту сцену в одну из аллей в Кашинах — из страха, что картина их печальной встречи в четырех стенах еще сильнее раздражит ее друга. Потом она объяснила свидание на вокзале. Она не хотела доводить до отчаяния человека неуравновешенного и измученного. Потом она ничего не знала о нем вплоть до того дня, когда он заговорил с нею на бульваре Мак-Магона. Она повторила то, что он ей сказал под иудиным деревом. Через день после этого она увидела его в своей ложе в опере. Разумеется, он пришел без приглашения. Это была правда.
Это была правда. Но давний яд, медленно скопившийся в нем, сжигал его. Прошлое, непоправимое прошлое после ее признаний превратилось для него в настоящее. Перед ним вставали образы, терзавшие его. Он ей сказал:
— Я вам не верю… А если бы и верил, то от одной мысли, что вы принадлежали этому человеку, не мог бы больше видеть вас. Я вам это говорил, я вам об этом писал, — помните письмо в Динар. Я не хотел, чтобы это был он. А потом…
Он остановился. Она сказала:
— Вы же знаете, что потом ничего и не было.
Он с глухой яростью в голосе договорил:
— А потом я его увидал.
Они долго молчали. Наконец она сказала — удивленно и жалобно:
— Но, друг мой, вы же должны были представлять себе, что такая женщина, как я, замужняя… Ведь постоянно случается, что женщина приходит к своему возлюбленному с прошлым гораздо более тяжелым, чем у меня, а он все-таки любит ее. Ах! мое прошлое! если бы вы только знали, какая это малость!
— Я знаю, какое вы приносите счастье. Вам нельзя простить то, что можно было бы простить другой.
— Но, друг мой, я такая же, как все другие.
— Нет, вы не такая, как все другие. Вам ничего нельзя простить.
Он говорил, злобно стиснув зубы. Его глаза, глаза, которые она видела широко открытыми, которые раньше горели мягким огнем, были теперь сухи, жестки, словно сузились между складками век и смотрели на нее незнакомым взглядом. Он был ей страшен.
Она отошла в глубину комнаты, села на стул и долго сидела, трепеща, задыхаясь от рыданий, по-детски удивленно раскрыв глаза; сердце у нее сжималось. Потом она заплакала.
Он вздохнул:
— Зачем я вас узнал?
Она ответила сквозь слезы:
— А я не жалею, что узнала вас. Умираю от этого и все-таки не жалею. Я любила.
Он со злобным упорством мучил ее. Он чувствовал, как это отвратительно, но не мог совладать с собою.
— В конце концов вполне возможно, что вы, между прочим, любили и меня.
Она, плача, ответила:
— Но ведь я же только вас и любила. Я слишком вас любила. И за это вы меня наказываете… И вы еще можете думать, что с другим я была такой, какой была с вами!
— А почему бы и нет?
Она беспомощно, безвольно взглянула на него.
— Скажите, это правда, что вы не верите мне?
И совсем тихо прибавила:
— А если бы я убила себя, вы бы мне поверили?
— Нет, не поверил бы.
Она отерла щеки платком и, подняв к нему глаза, блестевшие сквозь слезы, сказала:
— Значит, все кончено!
Она встала, еще раз оглянула комнату, все вещи, с которыми она жила в такой веселой и блаженной, в такой тесной дружбе, которые казались ей своими и вдруг стали для нее ничем, начали глядеть на нее как на незнакомку, как на врага; она увидела флорентийские медали, напоминавшие ей Фьезоле и волшебные часы под небом Италии, головку смеющейся девушки, которую когда-то начал лепить Дешартр, оттенивший ее милую болезненную худобу. На минуту она с сочувствием остановилась перед этой маленькой газетчицей, которая тоже приходила сюда, а потом исчезла, унесенная страшным и необъятным потоком жизни и событий.
Она повторила:
— Значит, все кончено?
Он молчал.
Сумерки уже стирали очертания вещей. Она спросила:
— Что же будет со мной?
Он отозвался:
— А что будет со мной?
Они с жалостью взглянули друг на друга, потому что каждому было жаль самого себя. Тереза сказала еще:
— А я-то боялась состариться, боялась ради вас, ради себя, ради нашей прекрасной любви, которой не должно было быть конца. Лучше было бы и не родиться. Да, мне было бы лучше, если б я вовсе не родилась на свет. И что за предчувствие было у меня еще в детстве под липами Жуэнвиля, около мраморных нимф, у Короны, когда мне так хотелось умереть?
Она стояла, опустив сложенные руки; когда она подняла глаза, влажный взгляд ее засветился, как луч в темноте.
— И никак нельзя заставить вас почувствовать, что мои слова — правда, что ни разу с тех пор, как я стала вашей, ни разу… Да как бы я могла? Самая мысль об этом мне кажется отвратительной, нелепой. Неужели вы так мало знаете меня?
Он грустно покачал головой.
— Да! Я не знаю вас.
Она еще раз бросила вопрошающий взгляд на все вещи вокруг, которые были свидетелями их любви.
— Так значит, все, чем мы были друг для друга… все это напрасно, не нужно. Можно разбиться друг о друга, а слиться друг с другом нельзя!
Ее охватило негодование. Невозможно, чтобы он не чувствовал, чем он был для нее.
И в порыве своей попранной любви она бросилась к нему, осыпала его поцелуями, плача, вскрикивая, кусая его.
Он все забыл, он схватил ее, измученную, разбитую, счастливую, сжал в объятиях с мрачной яростью пробудившегося желания. И вот уже, откинув голову на край подушки, она улыбалась сквозь слезы. Вдруг он оторвался от нее.
— Вы больше не одна. Я все время вижу возле вас того, другого.
Она взглянула на него, — безмолвно, с возмущением, с безнадежностью, — встала, с незнакомым ей чувством стыда оправила платье и прическу. Потом, сознавая, что все кончено, она окинула комнату удивленным взором ничего уже не видящих глаз и медленно вышла.
САД ЭПИКУРА[148]
Cecropius suaves exspirans hortulus auras
Florentis viridi Sophiae complectitur umbra.
Ciris
Садик Кекропа[149], дыша благовонием сладким и нежным,
Скрыт в зеленой тени цветущих побегов Софии. Кирис[150].
Зачем не знали мы сладчайших дуновений,
Какими веял ты, о дивный древний сад, —
Кекропа вещего воздушных откровений,
Что нас в стихах певца латинского[151] пленят!..
Оттуда мы могли б с улыбкою спокойной
На заблуждения людские вдаль глядеть,
Любви, тщеславья бред внимать, равно нестройный,
Дым бесполезных жертв, летящий к небу, зреть.
Фредерик Плесси[152], Глиняный светильник.
Также и Аполлодор(Аполлодор Афинский (II в. до н. э.) — древнегреческий писатель.) утверждает, что после самых тягостных бедствий и испытаний, дважды или трижды объехав Ионию и посетив там своих друзей, он снова поселился в Элладе. Друзья отовсюду съезжались к нему и проводили с ним время в его саду, который он купил за восемьдесят мин (греч.).
Диоген Лаэртский[153], Жизнеописания философов, кн. X, гл. I.
Он приобрел прекрасный сад и сам его возделывал. Там устроил он свою школу; он вел жизнь тихую и приятную со своими учениками, которых поучал на прогулках и во время работы… Он был ласков и приветлив со всеми… Он считал, что нет ничего благороднее занятий философией.
Фенелон[154]. Краткое жизнеописание знаменитейших философов древности, составленное для юношества.
САД ЭПИКУРА
Нам трудно представить себе[155] духовный мир человека былых времен, твердо верившего, что земля — центр вселенной, а звезды вращаются вокруг нее. Он знал, что под ногами у него мечутся грешники в геенне огненной, и, быть может, видел своими глазами и чуял собственными ноздрями серный дым преисподней, проникающий из какой-нибудь трещины в скале. Запрокинув голову, он созерцал двенадцать сфер: сперва сферу стихий, охватывающую воздух и огонь, потом сферы Луны, Меркурия и Венеры, где в 1300 г., в пятницу на страстной, побывал Данте[156], потом сферы Солнца, Марса, Юпитера и Сатурна, потом незыблемую твердь, к которой, наподобие светильников, подвешены звезды. Уходя мыслью за пределы созерцаемого, он усматривал там духовными очами девятое небо, куда возносились святые, primum mobile[157] или хрустальный свод и, наконец, местопребывание блаженных — Эмпирей, куда, после смерти, два ангела в белых одеждах (он твердо на это надеялся) унесут, словно младенца, душу его, омытую крещением и умащенную елеем соборования. Тогда у бога не было других детей, кроме сынов и дочерей человеческих, и все его творение имело устройство наивное и поэтическое, подобно огромному собору. Так понятая, вселенная была до того проста, что ее изображали иногда всю целиком, в ее подлинном виде и движении, на больших башенных часах, снабженных особым механизмом и раскрашенных.
Теперь с двенадцатью созвездиями и с планетами, под которыми рождаешься счастливым или несчастным, жизнерадостным или мрачным, — покончено. Твердый небесный свод разбит. Наш взгляд и наша мысль уходят в неизмеримые бездны неба. За планетами мы обнаруживаем уже не Эмпирей праведников и ангелов, а тысячи миллионов солнц, мчащихся со свитой своих темных спутников, недоступных нашему глазу. Среди этой бесконечности миров наше солнце — только пузырек газа, а земля — капля грязи. Наше воображение изумляется и протестует, когда нам говорят, что луч света, посланный к нам Полярной звездой, прежде чем достичь до нас, пробыл в пути полстолетия, несмотря на то, что эта красивая звезда — наша соседка и, вместе с Сириусом и Арктуром, — ближайшая родственница нашего солнца. Есть звезды, еще видимые нами в телескоп, но, быть может, уже три тысячи лет тому назад погасшие.
Миры умирают, раз они родятся. Они родятся и умирают непрестанно. И созидание, никогда не достигая совершенства, продолжается путем непрерывных превращений. Звезды гаснут, но мы не можем утверждать, что эти дочери света, умерев, не начинают вновь плодоносного существования, а сами планеты, расплавившись, не становятся снова звездами. Мы знаем только, что в небесных просторах не больше покоя, чем на земле, и что бесконечность миров подчиняется закону труда и усилий.
Иные звезды погасли на наших глазах, другие мерцают как пламя затухающей свечи. Небеса, считавшиеся незыблемыми, не знают ничего вечного, кроме вечной смены вещей.
Что органическая жизнь существует во всех вселенных, едва ли подлежит сомнению, если только органическая жизнь не какая-то случайность, печальное происшествие, совершившееся, к несчастью, в той капле грязи, где мы находимся.
Легче поверить, что жизнь возникла на планетах нашей системы, сестрах земли и таких же дочерях солнца, как она, притом возникла в условиях более или менее сходных с теми, в которых она проявляется здесь, — в форме животной и растительной. К нам упал с неба болид, содержащий углерод. Более изящное доказательство могли бы представить только ангелы, принесшие святой Доротее[158] цветы рая, если бы они опять спустились на землю со своими небесными гирляндами. Марс, по всей видимости, может быть населен существами, напоминающими земных животных и земные растения. Весьма вероятно, что раз он может быть населен, значит — населен действительно. Будьте уверены: там сейчас пожирают друг друга.
Единство звезд в отношении состава теперь прочно установлено спектральным анализом. Поэтому надо думать, что те же причины, которые привели к возникновению жизни в нашей туманности, порождают ее и во всех других. Говоря «жизнь», мы подразумеваем деятельность организованной материи в тех условиях, в каких эта деятельность проявляется у нас на земле. Но возможно, что жизнь развивается также в иной среде, при очень высоких или очень низких температурах, в формах, которых мы не в силах себе представить. Не исключено даже, что она развивается в форме эфирной совсем рядом с нами, в нашей атмосфере, и мы таким образом окружены ангелами, о которых никогда ничего не узнаем, так как знание предполагает общение, а у нас с ними никакого общения быть не может.
Возможно также, что эти миллионы солнц образуют вместе с миллиардами других, невидимых нами, лишь кровяной или лимфатический шарик в теле какого-нибудь животного, неприметного насекомого, появившегося в мире, огромные размеры которого недоступны нашему представлению, но который в свою очередь, по сравнению с некиим третьим миром, является лишь пылинкой. Нет ничего невероятного и в том предположении, что за какую-нибудь минуту целые века размышлений и научного познания живут и умирают на наших глазах внутри атома. Сами по себе предметы не велики и не малы, и если вселенная кажется нам необъятной, то это просто — человеческое представление о ней. Если б она вдруг сократилась до размеров ореха при условии сохранения всех пропорций, мы не имели бы ни малейшей возможности заметить эту перемену. Свет Полярной звезды, оказавшейся вместе с нами внутри ореха, достигал бы до нас по-прежнему через пятьдесят лет. И земля, размером меньше атома, орошалась бы тем же количеством слез и крови, которое поит ее теперь. Удивительно не то, что звездное поле так велико, а то, что человек измерил его.
* * *
Христианство оказало большую услугу любви[159], объявив ее грехом. Оно отстранило женщину от богослужения. Оно страшится ее. Оно объясняет, насколько она опасна. Оно повторяет вслед за Екклезиастом[160]: «Руки женщины подобны силкам охотников, laqueus venatorum». Оно предупреждает нас, что мы не должны возлагать на нее никаких надежд: «Не опирайтесь на тростник, колеблемый ветром, и не доверяйте ему, ибо всякая плоть — как трава, и слава ее проходит, как цвет полевой». Оно опасается лукавства той, что погубила род человеческий: «Всякая хитрость ничтожна по сравнению с хитростью женщины. Brevis omnis malitia super malitiam mulieris». Но, внушая боязнь перед ней, оно делает ее могучей и страшной.
Чтобы понимать весь смысл этих изречений, надо было иметь общение с мистиками. Надо было провести свои детские годы в религиозной среде[161]. Уединяться для молитвы и беседы с богом, творить обряды. В двенадцатилетнем возрасте читать назидательные книжечки, отверзающие перед наивной душой потусторонний мир. Надо было знать рассказ о том, как св. Франческо Борджа[162] стоял перед раскрытым гробом королевы Изабеллы, или о явлении аббатисы Вермонтской своим духовным дочерям. Аббатиса эта скончалась в благоухании святости, и монахини, участвовавшие в ее богоугодных подвигах, возносили к ней молитвы, полагая, что она на небе. Но однажды она явилась им бледная, с языками пламени на одежде: «Молитесь за меня, — сказала она. — При жизни я как-то раз, воздев руки для молитвы, подумала о том, что они красивы. Теперь я искупаю эту греховную мысль муками в чистилище. Прославьте, дочери мои, неизреченную милость божию и молитесь за меня». В этих хилых порождениях ребяческого богословия — тысячи подобных сказок, придающих такую цену непорочности, что от этого наслаждение становится еще более вожделенным.
Принимая в соображение красоту Аспазии, Лаисы и Клеопатры[163], церковь причислила их к демонам, дамам преисподней. Какое торжество! Святая — и та не осталась бы к нему равнодушной. Женщина самая скромная и строгая, не желающая лишать покоя ни одного мужчины, желала бы иметь возможность лишить покоя их всех. Ее самолюбию приятны предосторожности, которые церковь принимает против нее. Когда бедный св. Антоний[164] кричит ей: «Сгинь, чудовище!», она польщена его ужасом. Она в восторге оттого, что оказалась опасней, чем предполагала.
Но не обольщайтесь, сестры мои; вы не появились в этом мире сразу во всем своем совершенстве и во всеоружии. Поначалу вы были смиренны. Ваши прабабки эпохи мамонта и гигантского медведя не имели над пещерными охотниками той власти, какую вы имеете над нами. Вы были тогда полезны, нужны; но вы не были неотразимы. Говоря по правде, в те древние времена — и еще долго после — вам не хватало очарования. Вы были тогда похожи на мужчин, а мужчины — на зверей. Чтобы превратиться в то грозное чудо, каким вы стали теперь, чтобы сделаться равнодушной и царственной причиной подвигов и преступлений, вам нужны были две вещи: цивилизация, давшая вам покрывала, и религия, давшая нам угрызения совести. С тех пор все пошло как по маслу: вы стали тайной и грехом. О вас мечтают, ради вас губят свою душу. Вы вызываете страсть и страх; безумие любви вошло в мир. Верный инстинкт толкает вас к набожности. У вас полное основание любить христианство. Благодаря ему ваша власть удесятерилась. Вы слышали о святом Иерониме[165]? В Риме и в Азии вы так напугали его, что он бежал от вас в ужасную пустыню. Но и там, питаясь сырыми кореньями, до того обожженный солнцем, что от него остались только почернелая кожа да кости, он всюду видел вас. Одиночество его наполняли ваши призраки, еще более прекрасные, чем вы сами.
Ибо истина, слишком хорошо известная аскетам, гласит, что грезы, вами пробуждаемые, еще более соблазнительны, если это только возможно, чем те действительные прелести, которыми вы наделены. Иероним с одинаковым ужасом гнал прочь и вас самих и воспоминания о вас. Но тщетно предавался он посту и молитве: вы наполнили видениями всю жизнь его, из которой он вас изгнал. Такова власть женщины над святым. Сомневаюсь, чтоб она была так же велика над завсегдатаем Мулен-Ружа[166]. Берегитесь, как бы частица вашей власти не исчезла вместе с верой и вы кое-чего не утратили, перестав быть грехом.
Откровенно говоря, я не думаю, чтобы рационализм был вам выгоден. На вашем месте я не стал бы относиться с особой симпатией к физиологам, которые нескромно стараются всему дать объяснение, объявляют вас больными, когда мы считаем вас ясновидящими, и приписывают преобладанию рефлекторных движений вашу дивную способность любить и страдать. Не таким тоном говорится о вас в Золотой легенде[167]: там вас величают белыми голубками, чистыми лилиями, розами любви. Это куда приятней, чем когда вас обзывают истеричками, одержимыми, кликушами, что делается походя, с тех пор как наступило царство науки.
Наконец, я на вашем месте ненавидел бы всех сторонников эмансипации, которые хотят уравнять вас с мужчиной. Они толкают вас в яму. Что за достижение для вас — сравняться с каким-нибудь адвокатом или аптекарем! Берегитесь: вы уже утратили какую-то частицу вашей загадочности и прелести. Правда, еще не все потеряно: из-за вас еще дерутся, разоряются, кончают жизнь самоубийством; но в трамвае молодые люди не уступают вам места, оставляют вас стоять на площадке. Культ ваш угасает вслед за другими старинными культами.
* * *
Игроки играют, как влюбленные любят, как пьяницы пьют, — поневоле, не рассуждая, повинуясь неодолимой силе. Есть люди, обреченные игре, как есть люди, обреченные любви. Кто выдумал историю о двух матросах, охваченных азартом игры? Они потерпели кораблекрушение и, после ужаснейших приключений, избежали гибели, только вспрыгнув на спину киту. Очутившись там, они вынули из кармана кости, рожки и принялись играть. Вот выдумка, в которой больше правды, чем в самой действительности. Каждый игрок — такой матрос. И надо признать: в игре есть что-то, переворачивающее душу смелых до самого дна. Искушать судьбу — могучее наслажденье. Какое упоение в один миг пережить месяцы, годы, целую жизнь, полную тревоги и надежды. Мне еще не было десяти, я учился в девятом классе, когда наш преподаватель г-н Грепинэ прочел нам на уроке басню «Человек и Гений». Но я помню ее, как если б это было вчера. Гений дает ребенку клубок ниток и говорит ему: «Это нить твоей жизни. Возьми ее. Когда захочешь, чтобы время шло скорей, дерни нитку: дни твои потекут быстрей или медленнее, смотря по тому, с какой скоростью ты будешь разматывать клубок. А пока не будешь до него дотрагиваться, жизнь твоя будет стоять на месте». Ребенок взял клубок; он стал дергать нить — сперва для того, чтобы стать взрослым, потом — чтобы жениться на девушке, которую полюбил, потом — чтобы увидеть, как выросли дети, чтобы поскорее добиться удачи, денег, почестей, чтобы сбросить бремя забот, чтобы избежать огорчений, связанных с возрастом недугов, наконец — увы! — чтобы покончить с докучной старостью. После прихода Гения он прожил на свете четыре месяца и шесть дней.
Но что такое игра, как не искусство вызывать перемены, производимые судьбой обычно в течение нескольких часов, а то и лет, искусство сосредоточивать в одном мгновении то, что у других рассеяно на всем протяжении их медленного существования, как не способ прожить Целую жизнь в несколько минут, — короче говоря, как не этот самый клубок, подаренный Гением?
Игра — это поединок с судьбой. Это борьба Иакова с ангелом[168], это договор доктора Фауста с дьяволом. Играют на деньги, — на деньги, то есть на непосредственную, ничем не ограниченную возможность. Быть может, карта, которую сейчас возьмет рука, костяной шарик, бегущий по столу, подарят игроку парки и сады, поля и лесные угодья, замки, устремляющие к небу свои остроконечные башенки. Да, в этом маленьком катящемся шарике скрыты гектары плодородной земли и шиферные крыши, чьи украшенные резьбой трубы отражаются в Луаре; в нем заключены сокровища искусств, чудеса вкуса, сказочные драгоценности, самые прекрасные тела и даже души, которые считались непродажными, все ордена, все почести, все обольщения и вся власть, какие только есть на земле. Да нет! В нем содержится кое-что получше: мечта обо всем этом. И вы хотите, чтобы перестали играть? Если б еще игра не давала ничего, кроме бесконечных надежд, если б она только улыбалась своими зелеными глазами, ее любили бы менее исступленно. Но у нее алмазные когти, она страшна, она дарит, по своему произволу, нищету и позор: и потому ее обожают.
В основе всех великих страстей лежит прелесть опасности. Всякое наслаждение кружит голову. Удовольствие, смешанное со страхом, пьянит. А что же страшней игры? Она дает и отнимает; ее побуждения чужды нашим. Она нема, слепа и глуха. Она все может. Она — бог.
Она — бог. У нее — свои почитатели и святые, любящие ее ради нее самой, а не ради того, что она обещает, обожающие ее в то время, как она наносит им удар. Если она слишком жестоко грабит их, они приписывают вину не ей, а себе.
— Я играл неудачно, — говорят они.
Они каются, а не богохульствуют.
* * *
Род человеческий не способен к безграничному прогрессу. Его развитие стало возможным лишь благодаря появлению на земле определенных физических и химических условий, которые изменчивы. Было время, когда наша планета не могла служить местопребыванием для человека: на ней было слишком жарко и слишком сыро. Наступит время, когда она перестанет служить для него подходящим местопребыванием: на ней станет слишком холодно и слишком сухо. Когда погаснет солнце, а это произойдет неминуемо, людей давно уже не будет. Последние представители человечества сравняются с первыми в невежестве и нищете. Они позабудут все искусства и все науки. Они станут влачить жалкое существование в пещерах, на краю ледников, прозрачные глыбы которых поползут по развалинам стертых с лица земли городов, где сейчас мыслят, любят, страдают, надеются. Все вязы, все липы погибнут от холода, и на обледенелой земле воцарятся одни ели. Последние люди, во всем отчаявшиеся, сами того не сознавая, останутся в полном неведении о нас, о нашей мысли, о нашей любви, хотя будут нашими детьми, нашей плотью и кровью. Жалкие остатки царственного разума, мерцающие в их огрубелом черепе, позволят им некоторое время сохранить еще господство над расплодившимися вокруг их пещер медведями. Народы и племена исчезнут под снегом и льдом, вместе с городами, дорогами, садами старого мира. Сохранится всего несколько семейств. Женщины, дети, старики, коченея вповалку, увидят в расщелины пещер у себя над головой печальное восхождение тусклого светила, по которому, словно по гаснущей головне, пробегают меркнущие огни, в то время как ослепительная снежная россыпь звезд будет весь день сиять в черном небе, сквозь ледяной воздух. Вот что увидят они, в тупости своей даже не понимая, что перед их глазами что-то происходит. И вот наступит день, когда последний из них без ненависти и любви пошлет последний человеческий вздох к враждебным небесам. А земля будет все кружиться, унося на своих обледенелых склонах в безмолвное пространство останки человечества, поэмы Гомера и священные обломки греческих мраморов. И никакая мысль уже не взметнется больше к бесконечному с поверхности этого шара, где дух знал столько дерзаний. Во всяком случае, никакая человеческая мысль. Ибо кто может утверждать, что какая-то иная мысль не осознает тогда себя, и могила, в которой мы все будем спать, не станет колыбелью новой души? Какой, не знаю. Души насекомого, быть может.
Бок о бок с человеком и вопреки ему, насекомые — пчелы, например, и муравьи — уже совершали чудеса. Правда, муравьям и пчелам нужны свет и тепло, так же как нам. Но существуют менее зябкие беспозвоночные. Как знать, какое будущее уготовано их труду и терпению?
Что, если земля, перестав быть гостеприимной для нас, станет гостеприимной для них? Что, если в один прекрасный день они начнут сознавать самих себя и мироздание? Что, если и они в свою очередь восславят творца?
* * *
Люсьену Мюльфельду[169]
Мы не в состоянии отчетливо представить себе то, чего больше нет. Так называемый местный колорит — фантастика. Видя, с каким трудом художнику удается более или менее правдоподобно изобразить сцену из эпохи Луи-Филиппа, теряешь всякую надежду на то, чтоб он сумел дать нам малейшее представление о событии, имевшем место при св. Людовике или Августе. Мы бьемся над тем, чтобы воспроизвести старинное оружие, старинный сундук. Прежние художники не придавали никакого значения этой ненужной точности. Они рядили лиц легендарных или исторических в современные костюмы и придавали им современную наружность. Таким способом они живописали нам, конечно, свою душу и свой век. Но что же еще в состоянии сделать художник? Каждый персонаж на их картинах взят из их же среды. Персонажи эти, полные жизни и мысли автора, всегда будут трогать сердца. Они остались для будущего свидетельством пережитых чувств и истинных волнений. Археологические же произведения живописи говорят лишь о богатстве наших музеев.
Чтобы насладиться подлинным искусством и получить серьезное, глубокое впечатление от картины, смотрите фрески Гирландайо[170] «Рождество богородицы» в церкви Санта-Мария-Новелла во Флоренции. Старый художник показывает нам спальню родильницы. Анна приподнялась на постели; она не красива и не молода; но сразу видно: это хорошая хозяйка. У изголовья своей кровати она поставила банку с вареньем, положила два граната. Стоящая по ту сторону кровати служанка держит перед ней чашу на подносе. Ребенка только что выкупали; медный таз еще посреди комнаты. Теперь маленькая Мария сосет молоко прекрасной кормилицы. Это молодая дама, горожанка, ставшая матерью, ласково дающая грудь ребенку своей подруги, чтоб этот ребенок и ее собственный, напитавшись соком жизни из одного источника, одинаково ощущали ее прелесть и, в силу молочного родства, братски любили друг друга. Рядом — молодая женщина, очень на нее похожая, или, скорей, молодая девушка, может быть сестра, в богатом наряде, с открытым лбом и заплетенными косами на висках, как у Эмилии Пии, протягивает к ребенку руки — очаровательным жестом, в котором чувствуется пробуждение материнского инстинкта. Две благородные гостьи, одетые по флорентинской моде, входят в комнату. За ними идет служанка, несущая корзину с арбузами и виноградом на голове; и эта красивая статная фигура, задрапированная по-античному, опоясанная лентой с развевающимися концами, кажется в этой семейной и благочестивой среде каким-то языческим сновидением. Так вот — в этой теплой комнате, в этих ласковых женских лицах мне видна вся прекрасная жизнь Флоренции, весь цвет раннего Возрождения. Сын золотых дел мастера, сам зрелый мастер с первых же шагов, Гирландайо раскрыл в своем творчестве, ясном как рассвет летнего дня, всю тайну того учтивого века, в который ему посчастливилось жить и который обладал таким очарованием, что даже его современники восклицали: «О благодатные боги! Какое счастливое время!»
Художник должен любить жизнь и доказывать нам, что она прекрасна. Иначе мы усомнимся в этом.
* * *
Неведение — необходимое условие не то что счастья, а самого существования. Если б мы знали все, мы не в состоянии были бы мириться с жизнью ни одного часа. Чувства, делающие ее для нас приятной или хотя бы сносной, порождаются обманом и питаются иллюзиями.
Если бы какой-нибудь человек, обладая, подобно богу, истиной, совершенной истиной, выронил ее из рук, мир был бы уничтожен на месте и вселенная тотчас исчезла бы, как тень. Божественная истина, словно приговор Страшного суда, обратила бы его в пепел.
* * *
Для истинного ревнивца[171] все грозит бедой, все его тревожит. Женщина не верна ему уже тем, что живет и дышит. Его страшит ее напряженная внутренняя жизнь, эти многообразные порывы плоти и духа, которые делают женщину существом, отличным от него самого, независимым, находящимся во власти инстинктов, подозрительным, порой непостижимым. Его мучает то, что она цветет сама по себе, словно прекрасное растение, и никакой властью любви невозможно удержать, захватить весь аромат, распространяемый ею в тот тревожный период, который называется молодостью и жизнью. Собственно говоря, он не упрекает ее ни в чем, кроме того, что она существует. Вот с чем он не в состоянии примириться. Она существует, она живет, она прекрасна, она мечтает. Какой повод для смертельной тревоги! Он хочет иметь ее всю. Хочет ее полней и лучше, чем допускает природа; и всю целиком.
Женщина не одарена таким воображением. То, что у нее считают ревностью, по большей части — чувство соперничества. Что же касается терзания чувств, отвратительных навязчивых видений, нелепого и жалкого исступления, физической ярости, все это неизвестно или почти неизвестно ей. Ее переживания в таких случаях не столь отчетливы, как наши. Есть вид воображения, не очень ей свойственный даже в любви и притом в чувственной любви: именно — воображение пластическое, точное восприятие внешних форм. Ее впечатления крайне расплывчаты, и вся ее энергия устремлена на борьбу. Ревнуя, она вступает в бой и ведет его упорно, сочетая ожесточение с хитростью, на которые мужчина не способен. То стрекало, что раздирает нам внутренности, гонит ее вперед. Низложенная, она борется за власть и господство.
Поэтому ревность, являясь у мужчины слабостью, у женщины является силой и возбуждает ее предприимчивость. Она внушает женщине не столько ненависть, сколько смелость.
Вспомните Гермиону[172] Расина. Ее ревность не выливается в припадках гнева; у нее мало воображения; она не превращает свои муки в поэму, полную жестоких картин. Она не грезит; а что такое ревность без грез? Что такое ревность без навязчивых идей и своего рода маниакального исступления? Гермиона не ревнует. Она старается расстроить свадьбу. Хочет во что бы то ни стало помешать ей и вернуть себе мужчину, — только и всего.
А когда этого мужчину убивают из-за нее, в угоду ей, она обескуражена; она прежде всего растеряна: ей не удалось выйти замуж. На ее месте мужчина воскликнул бы: «Тем лучше! Женщина, которую я любил, не достанется никому!»
* * *
Свет легкомыслен и суетен — хорошо, согласен. Но он — неплохая школа для политического деятеля. И можно пожалеть, что с ним теперь так мало знакомы те, что заседают в наших парламентах. Свет создается женщиной. Она в нем царит: все, что там совершается, совершается благодаря ей и для нее. Но женщина — великая воспитательница мужчины; она учит его очаровательным добродетелям: вежливости, скромности и той гордости, которая не позволяет быть навязчивым. Она прививает некоторым уменье быть приятным и всем — полезное уменье не быть неприятным. От нее мы узнаем, что общество — нечто более сложное и отличается более тонкой структурой, чем обычно судят об этом в политических кофейнях. Наконец подле нее проникаешься мыслью, что грезы чувства и призраки веры неодолимы и что вовсе не разум управляет людьми.
* * *
Комическое быстро становится скорбным, если оно человечно. Разве Дон Кихот порой не вызывает у вас слез? Что касается меня, я высоко ценю несколько книг, полных ясной и веселой безнадежности, как несравненный «Дон Кихот» или «Кандид», которые, при правильном их понимании, оказываются учебниками снисходительности и милосердия, евангелиями доброжелательства.
* * *
Цель искусства не истина. Истины надо требовать от наук, ибо она — цель последних; но не надо ее требовать от литературы, у которой нет и не может быть иной цели, кроме прекрасного.
Хлоя греческого романа никогда не была настоящей пастушкой и Дафнис[173] никогда не был настоящим козопасом; но они до сих пор пленяют нас. Утонченному греку, рассказавшему нам их историю, не было никакого дела до хлева и козлов. Он думал только о поэзии и любви. И, желая доставить удовольствие горожанам повестью о чувственной и изящной любви, перенес эту любовь в поля, где его читатели не бывали, так как это были старые византийцы, поседевшие у себя во дворцах, среди варварских мозаик либо у своих конторок, заваленных грудами богатств. Чтобы позабавить этих угрюмых стариков, рассказчик вывел перед ними двух дивных подростков. А чтобы его Дафниса и Хлою не смешивали с маленькими распутниками и распутницами, которыми кишат улицы больших городов, он предусмотрительно отметил: «Те, о ком я вам рассказываю, жили когда-то на Лесбосе и история их жизни была изображена художниками в лесу, посвященном нимфам». Он принял необходимые меры предосторожности, неукоснительно принимаемые всеми старушками перед тем, как рассказать сказку, которую они всегда начинают словами: «В те времена, когда Берта пряла»[174], или: «Когда звери говорили…»
Если хочешь рассказать интересную историю, поневоле приходится немножко отойти от привычного и повседневного.
* * *
Мы вносим в любовь бесконечность. Это не вина женщин.
* * *
Я не думаю, чтобы тысяча двести человек, собравшихся посмотреть спектакль, составляли совет мудрецов; но, мне кажется, публика обычно приносит в театр простодушие и непредвзятость, придающие ее переживаниям известную ценность. Очень многие, неспособные составить себе ясное представление о прочитанном, могут дать довольно точный отчет о том, что они видели на сцене. Книгу читают, как вздумается, вычитывают из нее или, скорей, вчитывают в нее, что угодно. Книга предоставляет все работе воображения. Поэтому грубые и вульгарные умы получают от нее по большей части слабое, поверхностное удовольствие. Наоборот, театр все показывает наглядно, избавляя от необходимости воображать. И потому он удовлетворяет подавляющее большинство. И потому же он не особенно по вкусу умам мечтательным и склонным к созерцанию. Последние дорожат образами, лишь ради того, чем их дополняешь, и ради мелодического отзвука, который они пробуждают в душе. Таким людям в театре нечего делать; пассивному удовольствию, доставляемому спектаклем, они предпочитают активную радость чтения. Что такое книга? Вереница крохотных знаков. И только. Читатель должен сам найти формы, краски и чувства, которым эти знаки соответствуют. От, него зависит, окажется эта книга тусклой или блестящей, пламенной или ледяной. Скажу, если вам это больше нравится, что каждое слово в книге — таинственный перст, которому достаточно чуть прикоснуться к какой-нибудь жилке у нас в мозгу, словно к струне арфы, чтобы пробудить звук в нашей певучей душе. Насколько вдохновенна и искусна рука артиста — не имеет значения. Какой именно звук она вызовет — это зависит от качества наших внутренних струн. С театром дело обстоит несколько иначе. Там вместо маленьких черных букв мы видим живые образы. Хитрые типографские знаки, так много оставляющие догадке, заменены там мужчинами и женщинами, в которых нет ничего неясного и таинственного. Все точно обозначено. Благодаря этому получаемые отдельными зрителями впечатления почти тождественны, насколько это возможно при наличии рокового несоответствия между человеческими восприятиями. Поэтому-то на всех театральных представлениях (если этому не мешает какой-нибудь литературный или политический спор) между присутствующими устанавливается полное единодушие. А так как из всех родов искусства театр меньше всего удаляется от жизни, то приходится признать его самым понятным уму и сердцу и сделать вывод, что именно он дает больше всего поводов для согласия и меньше всего — для ошибок.
* * *
О том, что, умирая, мы гибнем бесследно, — не спорю. Возможно. Но в таком случае смерти нечего страшиться:
Я есмь, ты — звук пустой; придешь — меня не будет.Но если, нанося удар, смерть не вычеркивает нас из бытия, будьте уверены: мы с вами встретимся за могилой совершенно такими же, какими были на земле. Это, конечно, очень нас огорчит. Подобная мысль может заранее отравить нам и рай, и ад.
Она отнимает у нас всякую надежду, так как мы больше всего жаждем стать не тем, что мы есть. Но это нам строго воспрещено.
* * *
Есть немецкая книжка под заглавием: «Дополнения к книге жизни», принадлежащая перу некоего Герхарда фон Аминтора[175], — книжка довольно правдивая и поэтому довольно печальная, где описано, в каких условиях протекает жизнь женщины. «Среди повседневных забот мать семейства теряет свою свежесть и силы, истощаясь вконец. Вечная проблема: „Что сегодня приготовить?“, постоянная необходимость мести пол, выбивать и чистить одежду, стирать пыль, все это вместе взятое — та капля воды, которая своим непрерывным падением медленно, но верно разрушает в конце концов и душу и тело. Именно у кухонной плиты происходит пошлое чудо превращения маленького бело-розового создания, чей смех звучит как колокольчик, — в почернелую, скорбную мумию. На дымящемся жертвеннике, где кипит суп, сгорают без остатка молодость, свобода, красота, радость». Вот что приблизительно говорит Аминтор.
В самом деле, такова судьба подавляющего большинства женщин. У них трудная жизнь, как и у мужчины. И когда теперь начинают выяснять, почему эта жизнь так сурова, то оказывается, что другой и не может быть на планете, где предметы первой необходимости редки и производятся с трудом или добываются в поте лица. Глубокие причины этого, зависящие от самой формы земного шара, его устройства, флоры и фауны, к несчастью, имеют характер устойчивый и необходимый. Труд, как бы справедливо он ни был распределен, всегда будет обременять большинство мужчин и большинство женщин, оставляя лишь немногим из них достаточно досуга для совершенствования своей красоты и ума, в условиях, удовлетворяющих требованиям эстетики. В этом виновата природа. Что же происходит с любовью? Она существует, как может. Голод — страшный враг ее. А неоспоримым фактом является то, что женщины голодают. Надо думать, что и в XX веке, как это было в XIX, они будут хлопотать на кухне, если только не вернутся те времена[176], когда охотники пожирали свою добычу еще теплой и Венера соединяла любящих прямо в лесу. Женщина была тогда свободна. Скажу вам откровенно: если бы я создавал мужчину и женщину, я придал бы им совсем не тот тип, который воспреобладал: тип высших млекопитающих. Я сделал бы мужчин и женщин похожими не на больших обезьян, как теперь, а на насекомых, которые, пробыв некоторое время гусеницами, превращаются затем в бабочек и к концу жизни не имеют других забот, как только любить и быть красивыми. Я перенес бы молодость на конец человеческого существования. У некоторых насекомых на последнем этапе превращений нет желудка, есть только крылья. В такой очищенной форме эти создания возрождаются лишь для того, чтобы пережить час любви и умереть.
Будь я богом или, еще лучше, демиургом, — поскольку александрийская философия учит, что подобного рода мелкие работы скорей дело демиурга либо просто какого-нибудь демона-строителя, — итак, будь я демиургом или демоном, именно этих насекомых я взял бы за образец, создавая человека. Я повелел бы, чтобы человек, как они, сначала в форме личинки выполнял постылую работу, обеспечивающую ему существование. На этом этапе не было бы различия полов и голод не унижал бы любви. Дальше я устроил бы так, чтобы в последней стадии превращений мужчина и женщина, раскрыв сверкающие крылья, питались росой, жили желанием и умирали, слившись в поцелуе. Таким образом, я сделал бы любовь наградой и венцом их смертного существования. Так было бы гораздо лучше. Но мир создавал не я, и демиург, взявший на себя эту задачу, не спрашивал у меня совета. Между нами, я сомневаюсь, чтобы он вообще советовался с философами и умными людьми.
* * *
Большая ошибка — думать, что научные истины существенно отличаются от обычных. Они отличаются от них только широтой охвата и степенью точности. С точки зрения практической это различие имеет большое значение. Но не надо забывать, что наблюдения ученого ограничиваются видимостью, явлением, никогда не проникая в субстанцию и не имея возможности познать подлинную природу вещей. Глаз, вооруженный микроскопом, остается по-прежнему человеческим глазом. Он видит больше, чем другие глаза, но не иначе, чем они. Ученый приумножает связи человека с природой, но не в состоянии сколько-нибудь изменить существо этих отношений. Он видит, как возникают те или иные явления, которых мы не воспринимаем, но ему, так же как и нам, нельзя узнать, почему возникают они.
Ждать от науки морали — значит готовить себе жестокие разочарования. Триста лет тому назад считали, что земля — центр вселенной. Теперь мы знаем, что она — только оторвавшаяся от солнца и затвердевшая капля его вещества. Знаем, какие газы сгорают на поверхности самых отдаленных звезд. Знаем, что вселенная, в которой мы лишь блуждающая пылинка, — вечно в родовых муках, вечно производит на свет и пожирает свое порождение; знаем, что в небе беспрерывно рождаются и умирают светила. Но в какой мере все эти удивительные открытия затронули наш нравственный мир? Стали ли из-за этого матери больше или меньше любить своих детей? Стали ли мы чувствительней или равнодушней к женской красоте? Стали ли иначе биться сердца героев? Нет и нет! Велика земля или мала, какое человеку до этого дело? На ней довольно места, чтобы страдать и любить. Страдания и любовь — вот два нераздельных источника ее неисчерпаемой красоты. Страдание! Великий непризнанный наставник! Мы обязаны ему всем, что в нас есть хорошего, всем, что придает жизни цену; мы обязаны ему чувством жалости, мужеством, всеми добродетелями. Земля — только песчинка в бесконечной пустыне миров. Но если страдают только на земле, она — больше всего остального мира. Да что я! Она — все, а остальное — ничто. Ибо там нет ни добродетели, ни гения. Что такое гений, как не способность завораживать страдание? Нравственность естественным основанием своим имеет только чувство. Я знаю, были выдающиеся умы, возлагавшие надежды на иное. Ренан любил с улыбкой мечтать о научной морали. Он питал к науке почти безграничное доверие. Думал, что она способна изменить мир, так как научилась пробивать туннели в горах. Я не разделяю его веры в то, что она может сделать нас богами. Да, говоря по правде, и не хочу этого. Я не чувствую в себе никакой божественной закваски, которая побуждала бы меня притязать на роль хотя бы самого незначительного божества. И я дорожу своей слабостью. В моем несовершенстве для меня — весь смысл жизни.
* * *
У Жана Беро есть маленькое полотно[177], которое вызывает во мне странное волнение. Это «Зал Граффара»: общественное собрание, где заодно с трубками и коптящими лампами дымятся мозги. Конечно, сцена производит впечатление довольно комическое. Но до чего комизм ее глубок и правдив! До чего он грустен! Есть на этой удивительной картине фигура, которая лучше объясняет мне рабочего-социалиста, чем двадцать томов исторических и теоретических сочинений: фигура маленького человечка в кашне, совершенно лысого, — один голый череп без плечей, — сидящего за столом; это, очевидно, мастер своего дела, человек мыслящий, болезненный, чуждый желаниям, пролетарий-аскет, святой труженик, целомудренный и фанатичный, как церковные святые первых времен христианства. Он, конечно, апостол, и, глядя на него, понимаешь, что в народе зародилась новая религия.
* * *
Лет сорок тому назад[178] английский геолог сэр Чарльз Лайель[179], человек независимого и всеобъемлющего ума, выдвинул так называемую теорию «действующих причин». Он доказал, что сдвиги, имевшие место в течение веков на земной поверхности, вызывались не внезапными катаклизмами, как думали раньше, а причинами незаметными, действовавшими постепенно и продолжающими действовать в наше время. Согласно его воззрению, эти колоссальные сдвиги, следы которых приводят в изумление, кажутся столь сокрушительными лишь благодаря ракурсу столетий, а в действительности совершались чрезвычайно спокойно. Без потрясений меняли моря свое ложе, и ледники сползали в долины, некогда покрытые древовидными папоротниками.
Такие же перемены совершаются у нас на глазах, и мы их даже не замечаем. В итоге, там, где Кювье усматривал потрясающие перевороты, Чарльз Лайель обнаруживает милосердную медлительность сил природы. Можно представить себе, какие отрадные результаты получились бы в том случае, если бы теорию действующих причин можно было, не ограничиваясь материальными явлениями, распространить на явления мира нравственного и вывести из нее некоторые правила поведения. Она послужила бы той почвой, на которой могли бы сойтись умы консервативные и революционные.
Уверенный в том, что необходимые перемены, осуществляемые на протяжении длительного периода, не причинят беспокойства, консерватор не станет сопротивляться им — из опасения, как бы в том самом месте, где он воздвиг препятствие, не произошло накапливания разрушительных сил. Революционер же, со своей стороны, перестал бы неосторожно возбуждать энергию, относительно которой знал бы, что она всегда находится в состоянии активности. Чем больше я думаю, тем более убеждаюсь, что если б моральная теория действующих причин проникла в сознание человечества, она объединила бы все народы в республику мудрецов. Единственная трудность — в том, чтоб обеспечить это проникновение, и нужно признать — трудность не малая.
* * *
Я только что прочел книгу, в которой поэт-философ[180] вывел людей, не знающих ни радости, ни горя, ни любопытства. Покинув эту новую страну Утопии и вернувшись на землю, где люди борются, любят, страдают, как начинаешь любить их, какое чувствуешь облегчение, сам страдая вместе с ними! Как глубоко проникаешься сознанием, что только в этом и есть настоящая радость! Она заключается в страдании, как бальзам — в ране целебного дерева. А те, убив страсть, одним ударом убили все — радость и страдание, боль и наслаждение, добро, зло, красоту — все, все, а главное — добродетель. Они мудры и в то же время ни на что негодны, так как на что-либо годными нас делает стремление. Для чего им их долгая жизнь, если они ничем не заполняют ее, не живут!
Эта книга помогает мне понять и полюбить условия человеческого бытия, как бы они ни были тяжелы, примириться с нашим мучительным существованием, наконец снова отнестись с уважением к себе подобным и с великим чувством симпатии к человечеству. Это превосходная книга — в том отношении, что она заставляет любить действительность и настораживает против всяких иллюзий и химер. Показывая нам существа, недоступные горестям, она приводит нас к пониманию того, что этим жалким счастливцам далеко до нас и что с нашей стороны было бы величайшим безумием менять (даже если б это было возможно) наши условия существования на иные.
О, как презренно такое счастье! Не имея страстей, они не имеют искусства. И откуда вдруг взялись бы у них поэты? Эти люди не могли бы наслаждаться ни эпической музой, полной исступления ненависти и любви, ни музой комической, с ее размеренным смехом над людскими пороками и слабостями. Они уже не способны представить себе ни Дидоны, ни Федры[181], бедняги! Их зрению недоступны эти дивные тени, что проходят, содрогаясь, под сенью бессмертных мирт.
Они слепы и глухи к чудесам поэзии, обожествляющей населенную людьми землю. У них нет Вергилия, но их называют счастливыми, потому что у них есть лифты. А ведь один прекрасный стих сделал людям больше добра, чем все достижения металлургии.
Беспощадный прогресс! У этого племени инженеров нет ни страстей, ни поэзии, ни любви. Увы, как же могут они любить, раз они счастливы? Любовь расцветает только среди страданий. Что такое признания влюбленных, как не крики отчаяния? «Как жалок был бы бог на моем месте! — восклицает в порыве любви герой английского поэта. — Никакой бог, о моя возлюбленная, не мог бы страдать, не мог бы умереть из-за тебя!»
Простим страданию и будем знать, что немыслимо представить себе большего счастья, чем то, которым мы обладаем в нашей человеческой жизни, такой радостной и такой горькой, такой злой и такой доброй, в одно и то же время идеальной и реальной, содержащей в себе решительно все и примиряющей все контрасты. Вот где наш сад, который надо усердно перекапывать.
* * *
Сила и благость религий[182] — в том, что они объясняют человеку смысл его жизни и конечные цели, ради которых он существует. Отвергнув догмы теологической морали, как сделали почти мы все в нынешний век науки и свободомыслия, теряешь всякую возможность знать, зачем ты появился на свет и существуешь на нем.
Тайна бытия окружает нас со всех сторон своими грозными загадками, и надо быть поистине легкомысленным, чтобы не терзаться трагической нелепостью существования. Именно здесь, именно в абсолютном неведении смысла жизни — корень нашей скорби и нашего отвращения. Беды физические и нравственные, страдания душевные и телесные, торжество злых, унижение праведного — все это еще можно было бы переносить, если б были понятны связь и порядок всего этого и если бы тут чувствовалась рука провидения. Верующий счастлив своими язвами; ему в радость обиды и свирепость врагов; даже его собственные грехи и преступленья не отнимают у него надежды. Но в мире, где малейший луч веры угас, даже боль и страданье, утратив свое подлинное значение, кажутся просто скверными шутками и злыми проделками.
* * *
Неизбежен такой момент, когда любопытство становится грехом; дьявол всегда на стороне ученых.
* * *
Попав лет десять тому назад[183] в Сен-Ло, к своему приятелю, живущему в этом городке среди гор, я встретил у него образованного и красноречивого священника, с которым приятно было говорить.
Мало-помалу я расположил его к себе, и мы с ним беседовали о серьезных предметах, причем он обнаруживал в одно и то же время проникновенную тонкость ума и дивное чистосердечие. Это был мудрец и святой. Замечательный казуист и богослов, он выражал свои мысли с такой убедительностью и таким обаянием, что для меня в этом маленьком городке не было большего наслаждения, чем слушать его. В то же время первые дни я не мог на него смотреть. Лицом, ростом, телосложением он был чудовище. Представьте себе кривоногого и кривобокого карлика, охваченного чем-то вроде пляски св. Витта и подпрыгивающего в сутане, как в мешке. Светлые кудри на лбу, свидетельствуя о молодости, делали его еще более отталкивающим на вид. Но в конце концов я набрался мужества и приучил себя глядеть на него прямо; тогда эта безобразная наружность стала возбуждать во мне захватывающий интерес. Я ее рассматривал и вдумывался в нее. Пока губы священника обнажали в ангельской улыбке черные остатки трех зубов, а глаза, возведенные к небесам, двигались между кроваво-красных век, я восхищался им, не только не испытывая чувства жалости, но завидуя существу, столь чудесно защищенному своим абсолютным физическим уродством от плотских вожделений, чувственных слабостей и всех тех соблазнов, что таятся под покровом ночной тьмы. Я считал его счастливейшим из смертных. Но как-то раз, когда мы спускались с ним по озаренному солнцем склону холма, беседуя о благодати, этот священнослужитель вдруг остановился и, тяжело опустив свою руку на мою, промолвил дрожащим голосом, который до сих пор звучит у меня в ушах:
— Я утверждаю, я знаю: целомудрие — добродетель, которой нельзя сохранить без особой помощи божьей.
Эти слова раскрыли передо мной всю неизмеримую бездну плотской греховности. Какой же праведник свободен от искушений, если даже вот этот, у которого и плоти-то было, кажется, ровно столько, сколько нужно, чтобы страдать и испытывать отвращение к жизни, тоже чувствовал укусы похоти?
* * *
Люди очень набожные или художественно-одаренные[184] вносят в религию или искусство утонченную чувственность. Но нет чувственности без некоторой примеси фетишизма. Поэту свойствен фетишизм слов и звуков. Он приписывает чудесные свойства тем или иным сочетаниям слогов и, подобно усердным молящимся, склонен верить в действенность священных формул.
Сочинение стихов ближе к богослужению, чем обычно предполагают. А для поэта, поседевшего в трудах стихотворных, слагать стихи — значит священнодействовать. Это умонастроение — глубоко консервативное, и не надо удивляться нетерпимости, которая из него естественным образом вытекает.
У нас нет почти никакого права глядеть с улыбкой на людей, справедливо или ошибочно считающих себя новаторами, а на деле оказывающихся как раз теми, кто с наибольшим негодованием или отвращением отвергает всякие новшества. Это самое обычное явление среди людей, и история Реформации дает тому целый ряд трагических примеров. Мы помним, как Анри Эстьен[185], спасшись бегством от костра, доносил из своего тайного убежища на собственных друзей, расходившихся с ним во мнениях. Помним Кальвина[186] и знаем, что нетерпимость революционеров — нечто весьма внушительное. Я когда-то знал одного сенатора республики, который в молодости примыкал ко всем тайным обществам, подготовлявшим падение Карла X, оказал поддержку шестидесяти восстаниям при Июльской монархии, уже на склоне дней составлял заговор с целью свержения Наполеона III и принимал деятельное участие в трех революциях. Это был тихий старичок, с лица которого во время дебатов на заседаниях не сходила кроткая улыбка. Казалось, ничто больше не может вывести его из состояния покоя, купленного ценой таких трудов. От него веяло миром и довольством. Но однажды я увидал его, охваченного гневом. Огонь, казалось бы, давно уже угасший, горел в его глазах. Он смотрел через окно дворца на процессию студентов, тянувшуюся по Люксембургскому саду. Зрелище этого невинного бунта привело его в исступление.
— Такой беспорядок в общественном месте! — воскликнул он, задыхаясь от бешенства и страха.
И вызвал полицию.
Он был добрый человек. Но, организовав за свою жизнь такое количество бунтов, он пугался теперь даже призрака бунта. Те, кто делал революции, не допускают других следовать их примеру. Точно так же старые поэты, причастные к какому-нибудь поэтическому нововведению, не хотят больше никакой новизны. В этом отношении они — как все люди. Тяжело, не будучи великим мудрецом, смотреть на то, как жизнь идет дальше, захлестывая тебя своим потоком. Поэту, сенатору и сапожнику одинаково трудно признать, что не он — конечная цель мироздания и смысл всего сущего.
* * *
Можно утверждать[187], что поэты в большинстве случаев не знают научных законов, на основании которых они создают отличные стихи. В отношении просодии они придерживаются с полным основанием самого наивного эмпиризма. Было бы неумно порицать их за это. В искусстве, как в любви, довольно одного инстинкта, а наука вносит только ненужную ясность. Хотя красота зависит от геометрии, тонкие формы ее можно воспринять лишь при помощи чувства.
Поэты счастливы: самое их неведение составляет часть их силы. Только не надо им слишком горячо спорить о законах их искусства: при этом они вместе с наивностью теряют свою прелесть и, подобно вынутым из воды рыбам, беспомощно бьются в бесплодных областях теории.
* * *
Требование греческой философии: «Познай самого себя»[188] — величайшая глупость. Мы никогда не познаем ни себя, ни других. В том-то и дело! Даже создать мир легче, чем понять его. Гегель отчасти подозревал это. Может быть, в один прекрасный день ум поможет нам соорудить какой-то новый мир. Но постичь данный — никогда! Так что употреблять свой ум на поиски истины — значит возлагать на него совершенно непосильную задачу. Еще меньше от него пользы в тех случаях, когда нам надо составить себе нелицеприятное суждение о людях и их делах. Он скорее подходит для тех игр, более сложных, чем шашки и шахматы, которые носят название метафизики, этики, эстетики. Но лучше всего оправдывает он себя и доставляет особенно много радости, когда мы употребляем его на то, чтобы уловить тут или там любопытную черточку или оттенок предмета и наслаждаться этим, не отравляя себе невинное удовольствие стремлением к систематизации и манией все подводить под понятия.
* * *
Вы говорите, что рефлексия — источник всех наших бед. Считать это состояние столь пагубным — значит страшно преувеличивать его могущество и значение. В действительности, ум теснит инстинкты и природные влечения гораздо меньше, чем принято думать, даже у людей, наделенных большой умственной силой, которые остаются, однако, такими же эгоистичными, жадными и чувственными, как другие. Никогда ни один физиолог не подчинит биенье своего сердца и ритм своего дыхания рассудку. В самых цивилизованных и ученых кругах действия, совершаемые людьми с помощью философского метода, по-прежнему немногочисленны и мало значительны по сравнению с теми, что совершаются только инстинктом и здравым смыслом; и мы так слабо сопротивляемся рефлекторным движениям, что я не чувствую себя вправе утверждать наличие в человеческом обществе интеллекта, противоборствующего природе.
В конечном счете метафизик не отличается от остальных людей до такой степени, как это думают и как он хочет, чтобы думали. Что такое мышление? И как оно происходит? Мы мыслим словами; уже это само по себе — явление чувственное и возвращает нас к природе. Подумайте только: для построения теории об устройстве мироздания метафизик не располагает ничем, кроме усовершенствованного крика обезьян и собак. То, что он называет глубоким умозрением и трансцендентальным методом, сводится к произвольному сочетанию звукоподражательных воплей голода, страха, любви, звучавших в первобытных лесах и мало-помалу получивших значения, которые считаются отвлеченными, тогда как они просто неясны.
Не следует опасаться, что та вереница приглушенных и ослабленных криков, из которых состоит философское сочинение, в состоянии настолько просветить нас относительно вселенной, чтоб мы не могли жить в ней. Во мраке, нас окружающем, ученый стукается лбом об стену, тогда как невежда спокойно сидит посреди комнаты.
* * *
Габриэлю Сеай[189]
Я не знаю, является ли этот мир наихудшим из всех возможных миров[190]. Мне кажется, приписывать ему превосходство в чем бы то ни было, хотя бы в зле, было бы лестью. О других мирах мы знаем ничтожно мало; астрофизики не слишком подробно осведомляют нас об условиях жизни на поверхности планет, даже самых близких к нашей. Известно только, что Венера и Марс очень сходны с Землей. Уже одно это сходство позволяет думать, что зло царит там, как и у нас, и что Земля — лишь одна из провинций его обширной империи. У нас нет никаких оснований предполагать, чтобы на поверхности гигантов — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, безмолвно скользящих в таких пространствах, куда свет и тепло Солнца достигают едва-едва, обстановка была лучше. Как знать, что представляют собой живые существа на этих небесных телах, окутанных густыми летучими облаками? Мы, по аналогии, невольно представляем себе всю нашу солнечную систему в целом геенной, где живое существо появляется на свет для страдания и гибели. И у нас нет даже иллюзорной возможности допустить, что звезды озаряют иные, более счастливые планеты: звезды слишком похожи на наше солнце. Наука разлагает слабые лучи, поступающие к нам от них через годы, столетия полета в пространстве; анализ их света показал, что вещества, там сгорающие, — те же, что кипят на поверхности светила, которое, с тех пор как существуют люди, озаряет и согревает людские беды, безумства и страдания. Одной этой аналогии довольно, чтобы я почувствовал отвращение к мирозданию.
Единство его химического состава настойчиво приводит меня к мысли о строгом однообразии душевных и телесных состояний на всем его непостижимом протяжении, и я не без основания опасаюсь, что мыслящие существа, населяющие систему Сириуса и систему Альтаира, не менее несчастны, чем, как мы знаем, те, что населяют землю. «Но, — возражаете вы, — это еще не вся вселенная». Я тоже подозреваю, что нет; я понимаю, что эти безмерности — ничто, и если в конце концов что-то существует, то это что-то — не то, что мы видим.
Понимаю, что мы в какой-то фантасмагории и наше восприятие вселенной — всего-навсего одно из кошмарных видений того дурного сна, который называется жизнью. И это-то хуже всего. Ибо совершенно ясно, что мы ничего не можем знать, что все нас обманывает и что природа безжалостно издевается над нашим невежеством и идиотизмом.
* * *
Полю Эрвье[191]
Я убежден, что человечество располагает во все времена одинаковым запасом безумия и глупости. Это капитал, который должен тем или иным путем приносить проценты. Вопрос в том, не являются ли для человека те нелепости, что освящены временем, в конце концов наиболее разумным применением собственной глупости. Нисколько не радуясь исчезновению какого-нибудь старого заблуждения, я думаю о новом заблуждении, которое придет ему на смену, и задаю себе тревожный вопрос, не окажется ли оно еще неудобней или опасней, чем прежнее. В конечном счете старые предрассудки менее пагубны, чем новые: обветшав, они сгладились и стали почти безвредными.
* * *
Люди энергичные и деятельные в самых обдуманных своих затеях отводят место судьбе, зная, что ни одно значительное предприятие не застраховано от неудачи. Война и игра учат искусству взвешивать шансы, которое позволяет использовать возможности, не дожидаясь, когда они будут все налицо.
* * *
Когда говорят, что жизнь — благо, и когда говорят, что она — зло, в обоих случаях говорят бессмыслицу. Надо говорить, что она благо и зло одновременно, так как благодаря ей — и только ей одной. — мы имеем понятие о благе и зле. Правда заключается в том, что жизнь восхитительна и ужасна, очаровательна и страшна, сладка и горька: она — все. С ней дело обстоит так же, как с Арлекином доброго Флориана[192]: один утверждает, что она красная, другой — что синяя, и оба правы, так как она и красная, и синяя, и всех цветов. Вот на чем нам всем можно было бы сойтись и помирить сцепившихся философов. Но мы так устроены, что хотим во что бы то ни стало заставить других чувствовать и мыслить, как мы, и не позволяем ближнему веселиться, когда нам грустно.
* * *
Зло необходимо. Без него не было бы и добра. В зле — единственный смысл существования добра. В чем состояло бы мужество, если б не было опасности, и сострадание, если б не было боли?
Что сталось бы с преданностью и самопожертвованием среди всемирного благополучия? Можно ли представить себе добродетель без порока, любовь без ненависти, красоту без безобразия? Именно благодаря злу и страданию можно жить на земле и жизнь стоит того, чтобы прожить ее. Поэтому не следует очень уж бранить черта. Это великий художник и великий ученый: он смастерил по меньшей мере добрую половину мира. И эта половина так плотно пригнана к другой половине, что ей невозможно нанести ущерба, не повредив в такой же мере и вторую. Каждому уничтоженному пороку всегда соответствовала какая-нибудь добродетель, тоже с ним погибающая. Как-то раз на деревенской ярмарке я имел удовольствие присутствовать на представлении марионеток, изображавших жизнь великого подвижника св. Антония. Это было зрелище, превосходившее философской глубиной Шекспира и драмы г-на д'Эннери[193]. О, как верно оценивается там одновременно и благость божия и благость дьявола!
Сцена представляет страшную пустыню, которая, однако, скоро наполнится ангелами и демонами. Действие, развиваясь, вызывает в сердцах ощущение обреченности, порождаемое симметричным вмешательством демонов и ангелов, а также поведением действующих лиц, руководимых невидимой рукой с помощью нитей. Однако, когда св. Антоний, окончив молитву, еще коленопреклоненный, поднимает чело свое, ставшее от долгих простираний на камне мозолистым, словно верблюжье колено, и, возведя воспаленные от слез глаза, видит перед собой царицу Савскую[194] в золототканных одеждах, с улыбкой простирающую к нему объятия, вздрагиваешь, боишься, как бы он не уступил ее чарам, созерцаешь с безумной тревогой зрелище его смятения и тоски.
Мы все узнаем себя в нем, и, когда он одерживает победу, все мы участвуем в торжестве. Это победа всего человечества в вечной борьбе. Св. Антоний только потому и великий святой, что он не поддался чарам царицы Савской. Но тогда необходимо признать, что, подсылая к нему эту прекрасную особу, прячущую свое раздвоенное копыто под расшитым жемчугами длинным платьем, дьявол сделал дело, нужное для святости отшельника.
Так представление марионеток укрепило во мне мысль о том, что зло необходимо добру и дьявол нужен для нравственной красоты мира.
* * *
Я нередко обнаруживал у ученых детскую чистоту сердца, и в то же время на каждом шагу встречаешь невежд, которые считают себя центром вселенной. Увы, каждый из нас со своей точки зрения — центр мироздания. Это всеобщая иллюзия. Ни один подметальщик улиц от нее не свободен. Она внушается ему его собственными глазами, взгляд которых, округляя небесный свод над его головой, помещает его самого как раз в самом центре неба и земли. Самообман этот, быть может, несколько поколеблен у того, кто много размышлял. Смирение, редкое среди образованных, встречается еще реже среди неучей.
* * *
Философская теория мироздания похожа на само мироздание, как глобус, на который нанесены одни только долготы и широты, был бы похож на землю. Метафизика замечательна в том отношении, что отнимает у мироздания все, что оно имеет, и придает ему то, чего оно не имело, — бесспорно чудное занятие, игра, гораздо более эффектная и достославная, чем шашки и шахматы, но в конце концов — того же характера. Мир мыслимый сводится к геометрическим линиям, сплетение которых весьма забавно. Система, подобная Кантовой или Гегелевой, ничем существенно не отличается от тех карточных пасьянсов, с помощью которых женщины разгоняют тоску существования.
* * *
Можно ли, — подумал я, читая эту книгу[195], — так чаровать нас — не формами и красками, как это делает природа в редкие счастливые минуты, а маленькими знаками, заимствованными у языка? Эти знаки пробуждают в нас дивные образы. Вот где чудо! Прекрасный стих подобен смычку, проводимому по звучным фибрам нашего существа. Не свои — наши мысли заставляет поэт петь внутри нас. Повествуя нам о женщине, которую он любит, он восхитительно пробуждает у нас в душе нашу любовь и нашу скорбь. Он кудесник. Понимая его, мы тоже становимся поэтами, как он. Во всех нас, без исключения, хранится экземпляр каждого из наших поэтов, никому неизвестный и осужденный навеки исчезнуть со всеми своими вариантами в тот миг, когда мы перестанем что бы то ни было чувствовать. И неужели вы думаете, — мы любили бы так наших лириков, если б они говорили нам о чем-нибудь другом, кроме нас самих? Какое счастливое недоразумение! Даже лучшие среди них — эгоисты. Они думают только о себе. Они вложили в стихи свои только себя, а мы находим в этих стихах только нас. Поэты помогают нам любить: они только для того и нужны. И это — довольно удачное применение их восхитительного тщеславия. Вот почему с их строфами дело обстоит как с женщинами; совершенно бессмысленное занятие — расхваливать их: самая любимая всегда будет лучше всех. А настаивать, чтобы публика признала твою избранницу несравненной, к лицу скорее странствующему рыцарю, нежели человеку благоразумному.
* * *
Не знаю, правильно ли утверждает теология, что жизнь — испытание; во всяком случае, это не такое испытание, которому мы подвергались бы с нашего согласия. К тому же условия его определены недостаточно ясно. Наконец оно не для всех одинаково. В чем состоит жизненное испытание для детей, умирающих тотчас после рождения, для идиотов, умалишенных? На эти возражения уже давались ответы. Даются и теперь, но, надо думать, все не очень удачные, коли приходится отвечать столько раз. Жизнь не похожа на зал, где экзаменуют. Она скорее напоминает гончарную мастерскую, где изготовляются всевозможные сосуды неизвестного назначения, причем некоторые, треснувшие еще в форме, выбрасываются, не получив никакого применения, как негодные черепки. Другие же употребляются для целей нелепых или отвратительных. Эти горшки — мы.
* * *
Пьеру Веберу[196]
Судьба Иуды Искариота повергает в изумление. Ведь в конце концов этот человек явился исполнить пророчества: надо было, чтоб он предал сына божия за тридцать сребреников. И поцелуй предателя, так же как копье и досточтимые гвозди, явился одним из необходимых орудий страстей господних. Без Иуды чудо воскресения не совершилось бы и род человеческий не был бы спасен. Между тем среди богословов прочно утвердилось мнение, что Иуда проклят. Оно основано на следующих словах Христа: «Лучше ему было бы не родиться!» Мысль о том, что Иуда погубил душу свою, содействуя спасению мира, мучила многих христианских мистиков, и среди них — первого викария Парижского собора, аббата Эжже[197]. Этому священнослужителю с душой, исполненной сострадания, была невыносима мысль о том, что Иуда терпит вечные муки в аду. Он непрестанно думал об этом, и тревога его росла.
В конце концов он пришел к мысли, что божественное милосердие не могло не желать искупления этой несчастной души и что, несмотря на мрачные слова евангелия и вопреки церковной традиции, Искариот должен был спастись. Сомнения его сделались нестерпимыми; он захотел рассеять их. Однажды ночью, будучи не в силах уснуть, он встал и вошел через ризницу в пустую церковь, где во мраке горели неугасимые лампады. Там, простершись перед главным алтарем, он стал молиться так:
«Господи боже мой, боже кротости и любви, если правда, что ты восприял в сияющие чертоги свои самого несчастного из учеников твоих; если правда, как я надеюсь и хочу верить, что Иуда Искариот сидит одесную тебя, повели ему сойти ко мне и своими устами возвестить мне совершенство милосердия твоего.
А ты, кого проклинают восемнадцать веков, я же почитаю, ибо ты, видимо, выбрал в удел себе ад, чтобы небо оставить нам, козел отпущения, закланный за всех предателей и злодеев, о Иуда, приди, рукоположи меня в священнослужители милосердия и любви!»
Вознеся эту молитву, священник, простертый ниц, вдруг почувствовал, что на голову ему легли две руки, подобно рукам епископа при рукоположении в сан. На другой день он возвестил о своем призвании архиепископу.
— Я — священник милосердия, рукоположенный Иудой, secundum ordinem Judas, — сказал он.
И в тот же день аббат Эжже пошел проповедовать в мир евангелие бесконечной жалости к людям, во имя Иуды искупленного. В апостольском служении своем он дошел до нищеты и безумия. Аббат Эжже стал сведенборгианцем и умер в Мюнхене. Он — последний и самый кроткий из каинитов[198].
* * *
Господин Аристид, страстный любитель ружейной и псовой охоты, спас целое гнездо щеглят, только что вылупившихся в розовом кусте у него перед окном. На куст полезла кошка. Когда действуешь, хорошо верить в конечные причины и считать, что кошка создана для того, чтоб истреблять мышей или получать пулю в бок. Г-н Аристид взял револьвер и выстрелил в кошку. Сперва приятно было видеть, что щеглята спасены и враг их понес наказание. Но с этим револьверным выстрелом произошло то же, что со всеми человеческими поступками: при слишком близком рассмотрении они перестают казаться справедливыми. Ведь если вдуматься, эта кошка, тоже любившая охоту, как г-н Аристид, вполне возможно, подобно ему, верила в конечные причины и в таком случае не сомневалась, что щеглята появились на свет специально для нее. Это — вполне естественная иллюзия. Револьверный выстрел с некоторым опозданием дал ей понять, что она ошиблась насчет конечной причины появлении пискливых птенцов в розовых кустах. Какое живое существо не считает себя целью мироздания и не действует в соответствии с этим убеждением? Это — необходимое условие жизни. Все мы думаем, что вселенная кончается нами, Говоря «мы», я имею в виду не только человека. Нет животного, которое не ощущало бы себя высшей целью природы. Наши соседи, подобно револьверу г-на Аристида, не упускают случая в один прекрасный день вывести нас из заблуждения на этот счет, — соседи или просто собака, лошадь, микроб, песчинка.
* * *
Все, что ценится лишь за новизну[199] манеры и своеобразие стиля, быстро стареет. В искусстве мода меняется, так же как в других областях. Есть фразы вычурные и рассчитанные на свежесть впечатления, как платья от знаменитой портнихи: их хватает только на сезон. В Риме эпохи упадка искусств статуи императриц были всегда украшены модными прическами. Прически эти скоро становились смешными; приходилось их менять — и на статуи надевали мраморные парики. Надо бы и стиль, тщательно причесанный, как эти статуи, каждый год перечесывать по-новому. Вот и получается, что в наше время, когда жизнь идет так быстро, литературные направления держатся всего несколько лет, а то и месяцев. Я знаю очень молодых писателей, стиль которых производит впечатление архаического. Это, конечно, результат чудесного прогресса в области промышленности и машин, влекущий изумленное общество вперед. Во времена гг. Гонкуров[200] и железных дорог еще можно было довольно долго удовлетворяться одним артистическим письмом. Но с появлением телефона литература, которая зависит от жизненного уклада, обновляет свои формулы с обескураживающей быстротой. И мы присоединяемся к мнению г-на Людовика Галеви[201], что только простая форма в состоянии спокойно выдержать если не века, — утверждать это было бы преувеличением, — то годы.
Единственная трудность заключается в том, чтобы установить, что такое простая форма, и нужно признать, трудность эта велика.
Природа — во всяком случае, насколько она доступна нашему познанию и притом в областях, где возможна жизнь, — не представляет ничего простого, а искусство не может притязать на большую простоту, чем природа. Но все же мы понимаем друг друга, когда говорим, что вот этот стиль прост, а этот не прост.
Скажу поэтому, что если нет простого стиля в строгом смысле слова, то существуют стили, кажущиеся простыми, и что как раз им-то, вероятно, присущи молодость и долговременность. Остается только установить, откуда у них эта счастливая видимость. И тут, конечно, приходит в голову, что они обязаны ею не недостаточному разнообразию элементов, а тому, что они представляют собой целое, все составные части которого до такой степени прочно слились, что их уже не различить. Короче говоря, простой стиль — как тот луч, который падает через окно, пока я это пишу, и ясный свет которого объясняется полнейшим слиянием составляющих его семи цветов. Простой стиль подобен белому свету. Он сложен, но не выдает своей сложности. Правда, это только образное сравнение, а известно, как мало содержания в образах, сотканных не рукой поэта. Но мне хотелось отметить, что в языке прекрасная и желанная простота — только видимость и основана она исключительно на упорядоченности и высочайшей экономии всех речевых элементов.
* * *
Не умея воспринимать красоту, взятую вне пространства и времени, я начинаю наслаждаться произведениями человеческого духа лишь с того момента, как мне удастся обнаружить связи, соединяющие их с жизнью. И как раз эти места стыка с жизнью интересуют меня больше всего. Грубые глиняные изделия из Гиссарлыка[202] углубили мою любовь к «Илиаде»; и я полнее наслаждаюсь «Божественной Комедией» благодаря всему, что мне известно о жизни Флоренции XIII столетия. Человека, и только человека, ищу я в художнике. Что такое самая прекрасная поэма, как не реликвия? Гете выразил глубокую мысль: «Все непреходящие произведения — произведения на случай»[203]. Да и вообще-то существуют только произведения на случай, так как все они зависят от того места и того момента, где и когда были созданы. Невозможно ни понять, ни любить их сознательной любовью, не зная места, времени и условий их возникновения.
Самонадеянная глупость — воображать, будто ты создал произведение искусства, совершенно свободное от внешней зависимости. Самое высокое среди этих произведений ценно только своими связями с жизнью. Чем отчетливей я эти связи воспринимаю, тем больший интерес представляет для меня данное произведение.
* * *
Можно, должно все говорить, когда умеешь все сказать. Как интересно было бы услышать вполне искреннюю исповедь! Ведь за все время, пока существует человеческий род, ничего подобного ни разу не приходилось слышать. Никто не говорил всего, даже пламенный Августин[204], который был озабочен не столько обнажением души своей, сколько посрамлением манихеев[205], ни даже бедный великий Руссо, чья гордыня доходила до того, что он сам на себя клеветал[206].
* * *
Тайные влияния света и воздуха, бесчисленные мучения, причиняемые природой, — вот расплата чувственных существ, ищущих радости в формах и красках.
* * *
Нетерпимость существовала всегда. Не было такой религии, которая не имела бы своих фанатиков. Все мы склонны к преклонению. Все кажется нам прекрасным в существе, которое мы любим, и нас сердит, когда нам указывают на недостатки нашего кумира. Людям очень трудно подойти хоть немного критически к источнику своей веры и вопросу о ее возникновении. Но и то сказать: если быть слишком принципиальным, так никогда ни во что не поверишь.
* * *
Теперь очень многие убеждены, что мы стоим перед самым концом цивилизации и после нас мир погибнет. Это хилиасты[207], подобные святым первых времен христианства, но хилиасты разумные, в нынешнем вкусе. Может быть, есть своего рода утешение в том, чтобы говорить себе, что после нас и миру конец.
Что до меня, я не замечаю в человечестве никаких признаков упадка. Сколько бы ни твердили вокруг меня о вырождении, я этому не верю. Не думаю даже, чтобы мы уже достигли вершин цивилизации. По-моему, развитие человечества происходит чрезвычайно медленно, и различия в нравах из века в век на поверку оказываются менее значительными, чем нам представлялось. Но они бросаются нам в глаза. А бесчисленных моментов сходства между нами и нашими отцами мы не замечаем. Мир живет медленно. Человеку свойствен дух подражания. Он редко изобретает. В психологии, как и в физике, существует закон тяготения, приковывающий нас к прежней почве. Теофиль Готье[208], который был своеобразным философом, причем мудрость его имела какой-то турецкий оттенок, не без грусти отмечал, что люди не удосужились изобрести даже восьмой смертный грех. Сегодня утром, проходя по улице, я видел, как каменщики строили дом, ворочая камни, подобно рабам Фив или Ниневии. Видел, как молодые идут из церкви в кабачок, сопровождаемые участниками торжества, с легким сердцем подчиняясь обрядам многовековой давности. Встретил лирического поэта, который стал читать мне свои стихи, по его мнению бессмертные; а в это время по мостовой ехали всадники в шлемах легионеров и гоплитов, блестящих шлемах из светлой бронзы, какие носили и Гомеровы воины, и с шлемов этих еще свешивалась, на страх врагам, развевающаяся грива, которая так напугала маленького Астианакса[209], сидящего на руках прекрасно опоясанной кормилицы. Эти всадники были республиканские гвардейцы. Увидев их и вспомнив, что парижские булочники пекут хлеб в таких же печах, в каких его пекли при Аврааме и Гудее[210], я невольно прошептал слова Писания: «Нет ничего нового под солнцем!»[211] И перестал удивляться необходимости жить по гражданским законам, которые были уже стары в то время, когда цезарь Юстиниан[212] составил из них свой почтенный кодекс.
* * *
Одна черта придает особенную ческой мысли: беспокойство. Ум, вызывает во мне гнев или досаду.
* * *
Мы считаем опасными тех, у кого ум устроен иначе, чем наш, и безнравственными тех, чья нравственность не похожа на нашу. Мы называем скептиками тех, кому чужды наши иллюзии, даже не задаваясь вопросом, не имеют ли они каких-нибудь других.
* * *
Огюст Конт занял теперь свое место[213] — рядом с Декартом и Лейбницем. Та часть его философии, которая касается связи наук между собой и их соподчинения, а также та, в которой он извлекает из груды исторических фактов положительную систему социологии, вошли отныне в самую главную сокровищницу человеческой мысли. Напротив, намеченный этим великим человеком в конце жизни план новой организации общества не встретил никакого сочувствия за пределами позитивистской церкви: это религиозная часть его наследия. Огюст Конт создал ее под влиянием любви — мистической и целомудренной. Предмет этой любви, Клотильда де Во[214], умерла через год после первой своей встречи с философом, и он окружил образ этой молодой женщины культом, который был сохранен его верными учениками. Религия Огюста Конта порождена любовью. И все же она мрачна и деспотична. Все проявления жизни и мысли в ней строго регламентированы. Она придает существованию геометрическую правильность. Всякая любознательность ею сурово преследуется. Она допускает лишь полезные знания и обуздывает любопытство. Это весьма примечательно! Имея основой науку, доктрина эта тем самым полагает науку чем-то окончательно установившимся и не только не поощряет дальнейших исследований, но уговаривает от них воздерживаться и даже порицает те из них, которые не имеют целью человеческое благополучие. Из-за одного этого я никогда бы не надел белой одежды неофита и не постучался бы в двери храма на улице Месье-ле-Пренс[215]. Изгонять каприз и любопытство — как это жестоко! Я сетую отнюдь не на то, что позитивисты хотят раз и навсегда запретить нам всякие исследования относительно сущности, происхождения и конечной цели вещей. Я примирился с перспективой никогда не познать причины всех причин и цели всех целей. Давно уже читаю я трактаты по метафизике, как романы, менее занимательные, чем остальные, и не более соответствующие действительности. Но особенную горечь и безысходность придает позитивизму та строгость, с которой он запрещает науки бесполезные, то есть как раз самые привлекательные. Жить без них — да значит ли это жить на самом деле? Он не дает нам непринужденно наслаждаться явлениями и упиваться пустыми призраками. Он осуждает восхитительно дерзкое стремление исследовать глубины неба. Огюст Конт, двадцать лет занимавшийся астрономией, хотел ограничить эту науку изучением планет солнечной системы[216], видимых невооруженным глазом, то есть тех небесных тел, которые одни, по его мнению, в силах оказывать заметное влияние на Великий Фетиш. Так он называл Землю. Но для иных умов самое существование на Великом Фетише стало бы невозможным, если бы оно было расписано по часам, и исчезла бы возможность заниматься разными бесполезными вещами — например, размышлениями о двойных звездах.
* * *
«Я должен действовать, раз живу», — говорит гомункул[217], выходя из реторты доктора Вагнера. И в самом деле, жить — значит действовать. К несчастью, дух умозрения лишает человека способности к действию. Власть — не для тех, кто хочет все постичь. Желание видеть дальше ближайшей цели — болезнь. Не только лошади и мулы нуждаются в шорах, чтобы шагать прямо, не уклоняясь в сторону. Философы в пути останавливаются, а на прогулке меняют направление. Сказка о Красной Шапочке — великий урок людям действия, которые несут горшочек с маслом и не должны интересоваться, есть ли орехи на лесных тропинках.
* * *
Чем больше я думаю о жизни человеческой, тем больше убеждаюсь, что надо давать ей в свидетели и судьи Иронию и Шалость, подобно тому как египтяне призывали к своим мертвым богинь Изиду и Нефтиду[218]. Ирония и Жалость — добрые советчицы: одна, улыбаясь, делает нам жизнь приятной; другая, плача, делает ее священной. Ирония, к которой я взываю, — не жестока. Она не осмеивает ни любви, ни красоты. Она полна кротости и доброжелательства. Ее улыбка смиряет гнев, и это она учит нас смеяться над злыми и над глупцами, которых мы без нее, не выдержав, возненавидели бы.
* * *
Толпа всегда пойдет за этим человеком. Он уверен в себе, так же как в мироздании. А это именно то, что нужно толпе: она требует утверждений, а не доказательств. Доказательства смущают ее, сбивают с толку. Она проста и понимает только простое. Не надо ей говорить, как и каким образом, а только «да» или «нет».
* * *
Мертвых очень легко примирить. Здоровый инстинкт побуждает нас соединять в славе и любви тех, кто, несмотря на взаимную вражду, вместе трудился над каким-нибудь великим нравственным или общественным начинанием. Легенда осуществляет эти посмертные союзы, удовлетворяющие целый народ. У нее чудесные возможности приводить к согласию Петра, Павла и всех на свете.
Однако легенда о революции создается с большим трудом.
* * *
Любовь к книгам действительно похвальна. Библиофилов высмеивают, и в конце концов они, быть может, в самом деле дают повод к насмешкам: это участь всех влюбленных. Но им скорей надо бы завидовать, потому что они украсили жизнь свою постоянным тихим наслаждением. Их думают смутить замечанием, что они своих книг не читают. Но один из них ответил, не теряясь: «А вы разве обедаете на своем старинном фаянсе?» Что может быть благороднее, чем ставить книги в шкаф? Правда, это очень напоминает хлопоты детей, собирающих в кучи песок на берегу моря. Труд их напрасен: все, ими воздвигаемое, скоро будет разрушено. Конечно, так же обстоит дело и с коллекциями книг и картин. Но тут виной лишь превратности судьбы и краткость человеческого существования. Море смывает кучи песка, аукционист разрознивает коллекции. Однако не придумаешь ничего лучше, чем собирать кучи песку в десять лет и коллекции в шестьдесят. Что бы мы ни создавали, от этого ничего не останется, и любовь к безделушкам не более бесплодна, чем всякая другая.
* * *
Стоит только приглядеться к ученым, сразу замечаешь, что это самый нелюбопытный народ на свете. Находясь несколько лет тому назад в одном большом европейском городе, которого не буду называть, я пошел осматривать музей естествознания; один из хранителей его чрезвычайно любезно давал мне объяснения о животных окаменелостях. Он сообщил мне множество сведений, кончая эпохой плиоцена. Но как только мы дошли до первых следов человека, он отвернулся, объявив, в ответ на мой вопрос, что это — не его витрина. Я понял свою бестактность. Никогда не надо спрашивать ученого о тайнах мироздания, которые не в его витрине. Они его не интересуют.
* * *
Время в своем полете ранит или убивает самые пламенные, самые нежные наши чувства. Оно ослабляет восхищенье, отнимая у него естественную его пищу: чувство неожиданности и удивление; уничтожает любовь и ее дивные безумства; колеблет веру и надежду; лишает свежести каждый невинный цветок, обрывает его лепестки. Пусть бы оно оставляло нам хоть сострадание, чтобы мы не оказались заключенными в старость, как в гробницу!
Только сострадание позволяет человеку оставаться человеком. Не будем окаменевать, подобно великим нечестивцам древних мифов[219]. Станем жалеть слабых, ибо они подвергаются гонениям, и счастливых мира сего, ибо написано: «Горе вам, ликующим!»[220] Изберем благую часть, которая состоит в том, чтобы страдать вместе с тем, кто страдает, и скажем устами и сердцем несчастному, как христианин говорит Марии: «Fac me tecum piangere»[221].
* * *
He надо особенно бояться[222] приписывать художникам прошлого идеал, которого они никогда не имели. Восхищенье невозможно без примеси иллюзии, и понимать совершенное произведение искусства — значит, в общем, заново создавать его в своем внутреннем мире. Одни и те же произведения по-разному отражаются в душе созерцающих. Каждое поколение ищет в созданиях старых мастеров новой эмоции. Самый одаренный зритель — тот, который находит, ценой нескольких удачных лжетолкований, самую нежную и самую сильную эмоцию. Поэтому человечество испытывает страстную привязанность главным образом к таким произведениям искусства и поэзии, в которых содержатся темные места, допускающие возможность различного понимания.
* * *
Возвещают, ждут, видят уже[223] наступление великих перемен в обществе. Это — вечное заблуждение пророчествующего ума. Конечно, неустойчивость — первое условие жизни; все живущее беспрестанно видоизменяется, но незаметно, почти без нашего ведома.
Всякое движение вперед, как к лучшему, так и к худшему, совершается медленно и равномерно. Великих перемен не будет, их никогда не было, — я хочу сказать: быстрых и внезапных. Все экономические сдвиги совершаются с милосердной медлительностью процессов природы. Хорошие или дурные с нашей точки зрения, вещи всегда таковы, какими им надлежит быть.
Наш общественный строй — результат предыдущих и, в то же время, причина всех последующих. Он зависит от первых так же, как последние будут зависеть от него. И эта преемственность надолго закрепляет определенный тип; такой порядок обеспечивает жизни спокойствие. Он, правда, не удовлетворяет ни умы, жаждущие нового, ни сердца, преисполненные состраданием к ближнему. Но так устроен мир! Приходится этому подчиняться. Сохраним душевный жар и необходимые иллюзии; будем трудиться над тем, что считаем полезным и хорошим, но не рассчитывая на внезапный волшебный успех и не предаваясь социально-апокалиптическим фантазиям: апокалипсисы ошеломляют и обманывают. Не будем ждать чуда. Ограничимся задачей внести свою еле заметную долю и подготовку того лучшего или худшего будущего, которого мы не увидим.
* * *
Надо учитывать в жизни роль случая. В конечном счете случай — это бог.
* * *
Философские системы интересны только как памятники духовной жизни[224], по которым ученый может судить о разных эпохах в развитии человеческого ума. Драгоценные для познания человека, они ничего не могут сказать нам о том, что находится вне последнего.
Они подобны тонким платиновым нитям, которые вставляют в астрономические трубы, чтобы разделить поле зрения на равные части. Эти нити помогают точному наблюдению небесных тел, но они — от человека, а не от неба. Хорошо иметь платиновые проволочки в подзорной трубе. Но не надо забывать, что поместил их туда оптик.
* * *
Когда мне было семнадцать лет, я как-то раз встретил в читальне на улице Аркад Альфреда де Виньи[225]. Никогда не забуду плотного черного атласного галстука, скрепленного камеей, и закругленных углов его отложного воротника. В руке он держал тонкую камышовую трость с золотым набалдашником. Хотя я был очень молод, он не показался мне старым. Лицо его имело спокойное, кроткое выражение. Круглые щеки были обрамлены поседевшими, но еще шелковистыми, легкими кудрями. Держался он очень прямо, ходил мелкими шагами, говорил тихо. Когда он ушел, я с почтительным волнением перелистал книгу, которую он вернул. Это был томик издания Петито[226] — «Воспоминания Лану»[227], кажется. Я нашел в ней забытую закладку, узкую полоску бумаги, на которой поэт своим крупным, продолговатым и острым почерком, напоминающим почерк г-жи де Севинье[228], набросал карандашом одно только слово: имя «Беллерофонт»[229]. Что оно означало? Легендарного героя или исторический корабль? Думал ли Виньи, когда писал его, о Наполеоне, познавшем пределы земного величия, или он говорил себе: «Что бы ни рассказывали греки, печальный всадник, мчавшийся на Пегасе, не убил Химеры — страшного и очаровательного чудовища, за которым мы гоняемся, забыв все на свете, в поте лица, с пересохшим горлом и ногами в крови»?
* * *
Философская скорбь[230] не раз проявлялась с мрачным великолепием. Как верующие, достигнув высокой степени нравственной красоты, проникаются радостью самоотречения, так ученый, убедившись, что все вокруг — лишь призрак и обман, упивается философской скорбью и предается восторгам тихого отчаяния. Глубокое, прекрасное страдание, которого те, кто его изведал, не обменяют на суетные удовольствия и пустые надежды толпы. А несогласные, которые, несмотря на эстетическую красоту этих мыслей, сочтут их тлетворными для человека и для народов, воздержатся, быть может, от анафемы, узнав, что учение о всемирной иллюзии и преходящем характере вещей возникло в золотой век греческой философии вместе с Ксенофаном[231] и пустило прочные корни в просвещенной части человечества, среди самых возвышенных, самых светлых, самых человечных умов, — таких, как Демокрит, Эпикур, Гассенди.
* * *
Я знаю девятилетнюю девочку[232], которая мудрее мудрых. Она только что сказала мне:
— В книгах видно то, чего не увидишь на самом деле, потому что это далеко или уже прошло. Но то, что в книгах, — видно плохо, и оно печально. Маленьким детям не нужно читать книг. Есть столько хороших вещей, которых они не видали: озера, реки, горы, города и деревни, море и корабли, небо и звезды!
Я совершенно с ней согласен. Наше существование длится какой-нибудь час; зачем же нам так перегружать себя познаниями? Зачем столько учиться, раз мы знаем, что не узнаем никогда ничего? Мы слишком живем книгами и недостаточно — природой, напоминая этого глупца Плиния Младшего[233], который изучал греческого оратора, в то время как у него на глазах Везувий погребал пять городов под своим пеплом.
* * *
Существует ли беспристрастная история?[234] И что такое история? Описание событий прошлого. А что такое событие? Любой факт? Отнюдь нет. Событие — факт выдающийся. Но как историк может определить, является данный факт выдающимся или нет? Он делает это, как ему вздумается, в зависимости от своего вкуса и характера своего мировоззрения — словом, как художник. Ибо факты не разделяются по самой природе своей на исторические и неисторические. Факт — нечто бесконечно сложное. Станет ли историк показывать факты во всей их сложности? Это невозможно. Он изобразит их лишенными почти всех характерных особенностей, — искалеченными, изуродованными, не похожими на самих себя. А уж о связи между фактами и говорить нечего. Если так называемый исторический факт вызван, что возможно и вероятно, одним или несколькими фактами неисторическими и тем самым неизвестными, как может историк установить существующее между ними соотношение и преемственность? При этом я еще исхожу из предположения, что у него имеются надежные свидетельства; а ведь на самом деле его обманывают, и он дает веру тому или иному свидетелю, руководствуясь только чувством. История — не наука; она — искусство. В ней только воображение приносит успех.
* * *
«Как это прекрасно — красивое преступление!» — воскликнул однажды Ж.-Ж. Вейс[235] в большой газете. Словцо привело рядовых читателей в негодование. Мне известно, что один почтенный судейский чиновник, добрый старик, на другой день вернул свой экземпляр газетчику. Он выписывал эту газету тридцать с лишком лет и был в том возрасте, когда не любят менять свои привычки. Но он, не колеблясь, пошел на эту жертву во имя профессиональной этики. Такой самоотверженный восторг был вызван у г-на Ж.-Ж. Вейса, кажется, делом Фюальдеса[236]. Я никому не хочу бросать вызов. Это мне чуждо. Для этого нужна дерзкая грация, которой у меня нет. И все же, я признаю: мэтр был прав. Красивое преступление прекрасно!
Знаменитые процессы имеют для каждого из нас неодолимую притягательность. Не будет преувеличением сказать, что пролитая кровь заполняет добрую половину всей созданной человечеством поэзии. Макбет и Шопар, по прозвищу Милый[237], — владыки сцены. У человека врожденная любовь к легендам о злодействах. Спросите у маленьких детей: они скажут вам все как один, что если бы Синяя Борода не убивал своих жен, история о нем была бы не такой интересной. Столкнувшись с таинственным убийством, испытываешь удивление — так как преступление само по себе представляет собой нечто странное, непонятное, чудовищное; и любопытство — так как под всеми преступлениями обнаруживается все та же древняя почва: голод и любовь, которая всех нас взрастила, какие бы мы ни были — хорошие или дурные. Преступник приходит как бы из дали времен. За ним встает страшный образ лесного и пещерного человека. В нем ожил дух первобытных рас. Он сохранил инстинкты, казалось утраченные; знает уловки, неведомые нашей мудрости. Им движут влечения, которые в нас уже задремали. Он — еще зверь и уже человек. Вот почему внушает он нам гневное восхищение. Зрелище преступления — в одно и то же время драматично и полно философского содержания. Кроме того, оно живописно; оно пленяет неожиданными сочетаниями, пугливыми призраками, промелькнувшими на стене, когда все погружено в сон, трагическими лохмотьями, дразняще-загадочным выражением лиц.
Преступление сельское, приникшее к кормилице-земле, которую оно поит столько веков подряд, вступает в союз с черной магией ночи, сочувственным молчанием луны, страхами, рассеянными в природе, печалью полей и рек. Окраинно-городское и прячущееся в толпе, оно бьет по нервам запахом трущоб и алкоголя, привкусом гнили и небывалыми оттенками гнусности. В свете, то есть в буржуазном обществе, где его редко можно встретить, оно одето как все, говорит как все и под этой-то двусмысленной и пошлой личиной, быть может, сильней всего захватывает воображение. Преступление в черном фраке — как раз то, которому отдает предпочтение народ.
* * *
Из всех видов очарования сильней всего над душой человека очарование тайны. Без покрова нет красоты, и больше всего мы дорожим все-таки неизвестным. Существование стало бы невыносимым, если б нельзя было мечтать. Самое лучшее в жизни — это порождаемое ею представление о чем-то таком, что уже не она. Реальность помогает нам с грехом пополам создавать кусочек идеала. В этом, быть может, самая главная ее ценность.
* * *
«Это — знамение времени», — говорят поминутно. Но подлинные знамения времени обнаружить очень трудно. Тут надо знать как настоящее, так и прошлое и обладать целостным мировоззрением, которого нет ни у кого из нас. Мне случалось иногда уловить кое-какие любопытные факты, происходившие у меня на глазах, и, заметив их оригинальный облик, с удовольствием объяснять его, как проявление духа эпохи. «Такие вещи происходят только теперь, а в прошлом были бы невозможны, — говорил я себе. — Это — знамение времени». Но в девяти случаях из десяти я находил потом такой же факт, происшедший при аналогичных обстоятельствах, в старых мемуарах или старых исторических сочинениях. Мы храним в себе некий запас человеческих свойств, который изменяется гораздо менее, чем принято думать. В общем, мы очень мало отличаемся от наших дедов. Преобразованию наших чувств и склонностей необходимо должно предшествовать преобразование органов, которые их производят. Это дело веков. Нужны сотни и тысячи лет, для того чтобы сколько-нибудь заметно изменить хотя бы некоторые наши черты.
* * *
Наша вера уже не укладывается в старые догмы. Для нас Слово было возвещено не только на святой горе, о которой, говорится в Писании. Небо богословов отныне предстает перед нами населенным пустыми призраками. Мы знаем, что жизнь коротка, и, чтоб удлинить ее, вмещаем в нее воспоминания о прошедшем. Мы больше не рассчитываем на индивидуальное бессмертие; и чтобы утешиться в гибели этого верования, у нас есть только мечта о другого рода бессмертии, неуловимом, рассеянном, которым можно наслаждаться лишь в предвосхищении и которое к тому же суждено лишь очень немногим из нас: бессмертие души в памяти людей.
* * *
Нам в жизни ничего не остается, кроме покорности судьбе. Но благородные натуры дают покорности судьбе красивое название — «удовлетворенность». Великие души покоряются судьбе с великой радостью. В горечи сомнений, перед лицом мирового зла, под пустым небом, они хранят нетронутыми древние добродетели верных. Они верят, они хотят верить. Их одушевляет сострадание к ближним. Мало того. Они благоговейно хранят добродетель, которую христианское богословие, в мудрости своей, ставило выше всех остальных, так как она предполагает их присутствие или их заменяет: надежду. Будем надеяться — не на человечество, которое, несмотря на могучие усилия, не уничтожило зла в этом мире; будем надеяться на то непостижимые существа, которые когда-то возникнут из человека, как человек возник из животного. Обратимся с приветом к этим будущим гениям. Будем надеяться на ту всемирную тоску, чей материальный закон — трансформизм. Мы чувствуем, как эта плодотворная тоска растет в нас; она толкает нас вперед — к неминуемой дивной цели.
* * *
Старики слишком упрямо держатся за свои взгляды. Вот почему туземцы островов Фиджи убивают своих родителей, когда те стареют. Таким способом они облегчают ход эволюции, тогда как мы тормозим его, создавая академии.
* * *
У поэтов тоска позолоченная; их не надо особенно жалеть: кто поет, тот умеет заворожить свое горе. Нет магии сильней, чем магия слов. Поэты, как дети, утешаются образами.
* * *
В любви мужчинам нужны формы и краски; мужчины требуют образов. А женщины — только ощущений. Они любят лучше, чем мы: они слепы. Если вы вспомнили светильник Психеи[238], каплю масла, то я скажу вам, что Психея — не женщина: Психея — душа. А это не одно и то же. Это даже противоположности. Психея жаждала видеть, а женщины жаждут только ощущать. Психея искала неизвестного. А женщины, если ищут, так вовсе не неизвестного. Они хотят снова найти — вот и все: снова найти свою мечту или воспоминание, ощущение в чистом виде. Будь у них глаза, как же можно было бы объяснить себе их выбор?
О ЖЕНСКИХ МОНАСТЫРЯХ[239]
Эдуарду Роду[240]
Тяжело видеть, когда молодая девушка добровольно умирает для мира. Монастырь страшит всех, кто к нему не принадлежит. В середине IV века христианской эры одна молодая римлянка по имени Блезилла запостилась в монастыре до смерти. Разъяренная толпа, идя за гробом, кричала: «Гнать, гнать вон из города гнусное племя монахов! Почему их не побьют камнями? Почему не побросают их в реку?» А когда, четырнадцать веков спустя, Шатобриан, устами отца Обри[241], восславил девиц, «посвятивших красоту свою подвигам покаяния и умерщвлявших буйную плоть, чьи наслаждения — одни лишь страдания», эти славословия по адресу монашеской жизни вызвали у старого философа аббата Морелле[242] раздраженный отклик: «Если это не фанатизм, прошу автора дать его точное определение!» О чем говорят эти бесконечные стычки, как не о том, что монастырская жизнь противна природе, но что в то же время есть причины, не позволяющие ей исчезнуть. Народ и философы не всегда вникают в эти причины. А они глубоки и связаны с величайшими тайнами человеческой природы. Монастырь был взят приступом и низвергнут. Но опустевшие развалины его заселились вновь. Иные души вступают в него по природной склонности: это души, монашеские по натуре. Не любя людей и не желая ссориться с ними, они удаляются от света, с восторгом замыкаясь в мир и тишину. Некоторые с самого рождения утомлены: их ничто не интересует; они влачат пассивное, лишенное стремлений существование. Не умея ни жить, ни умереть, они избирают монашество, как нечто среднее между жизнью и смертью. Третьих толкают в монастырь скрытые причины. Они потеряли цель жизни. Преждевременное разочарование, тайная сердечная скорбь омрачили для этих невинных раненых душ всю вселенную. Жизнь их не принесет плода; цвет ее побит морозом. Они слишком рано отведали мирового зла. Они прячутся для того, чтобы плакать втихомолку. Они хотят, чтоб о них забыли. И сами хотят забыть… Или вернее — они лелеют свою боль и стараются укрыть ее от людей и мира. Есть, наконец, и такие души, которых влечет в монастырь жажда самопожертвования, которые хотят отдать себя целиком — в порыве, еще более беззаветном, чем любовь. Эти-то, более редкие, как раз и есть подлинные невесты Христовы. Церковь не скупится для них на лестные названия: лилии, розы, голубицы, овечки; сулит им, устами пречистой девы, звездную корону и трон непорочности. Но остережемся заходить в своих оценках дальше богословов. В религиозные эпохи мистические добродетели монахинь не вызывали особенных восторгов. Не говорю о простом народе, который всегда относился к черницам подозрительно; но и представители белого духовенства давали о них весьма противоречивые отзывы. Не забудем, что поэзия монастырей возникла лишь с появлением Шатобриана и Монталамбера[243].
Надо также учитывать, что монастырские общины резко отличаются друг от друга в зависимости от эпохи и страны, так что нельзя хвалить или порицать их огулом. На Западе монастырь долго был фермой, школой, больницей и библиотекой. Были монастыри — рассадники научных знаний и монастыри — рассадники невежества. Были среди них очаги труда и очаги безделья.
Несколько лет тому назад я побывал на горе, где в середине XII века дочь герцога Эльзасского св. Одилия[244] воздвигла монастырь, о котором население Эльзаса до сих пор хранит добрую память. Эта доблестная девушка искала и находила способы облегчить жизненные тяготы для окрестной бедноты. При поддержке искусных соратниц и с помощью многочисленных крепостных она распахивала новь, сеяла хлеб, разводила скот, складывала урожай в закрома, не давая его растаскивать. Служила своей предусмотрительностью тем, кто этим качеством не отличался. Призывала любителей пива к трезвости, жестоких — к кротости, всех — к хозяйственности. Что же общего у этих здоровых, целомудренных девственниц времен варварства, этих царственных фермерш — с аббатисами эпохи Людовика XV, которые приклеивали себе мушку на лицо, перед тем как идти в церковь, и оставляли запах пудры а-ля Марешаль на губах целовавших им руку аббатов?
И даже тогда, в дни всеобщей распущенности, когда дворянство заточало в аббатства непокорных младших дочерей, за решеткой киновий были добрые души. Я случайно проник в тайну одной из них. Да простит она мне! Это произошло год тому назад, в книжной лавке Легубэна на набережной Малакэ. Я нашел там старинный исповедальник для монахинь. Надпись на титульном листе, сделанная ровным почерком, сообщила мне, что в 1779 году книга принадлежала сестре Анне, монахине ордена фельянтинок. Текст книги — французский и примечателен в том отношении, что каждый грех отпечатан на карточке, приклеенной к листку только одним краем. Дожидаясь в церкви исповеди, кающаяся не нуждалась ни в пере, ни в карандаше для записи своих тяжких грехов и мелких прегрешений. Ей надо было только загнуть уголок на полоске бумаги с названием совершенного ею греха. В исповедальне, следя по книжке — от уголка к уголку, сестра Анна могла быть уверена, что не пропустит ни одной своей провинности перед богом и церковью.
И вот, найдя эту книжечку у моего друга Легубэна, я обнаружил, что некоторые прегрешения отмечены в ней одной складкой. Это были из ряда вон выходящие грехи сестры Анны. У других углы отгибались много раз и совсем измяты. Это были легкие грешки сестры Анны.
Сомнений быть не могло. Книгу никто не брал в руки с самого роспуска женских монастырей в 1790 году. Она была еще полна божественных картинок и украшенных виньетками молитв, которые эта славная девушка вкладывала между страницами.
Так заглянул я в душу сестры Анны. Я нашел там лишь самые невинные грехи, какие только могут быть, и очень надеюсь, что сестра Анна сидит теперь одесную бога-отца. Никогда более чистое сердце не билось под белым одеянием фельянтинки. Представляю себе, как эта святая девственница с ясным челом, немного полная, прогуливается не спеша между капустными грядами монастырского огорода, спокойно отмечая белым пальцем в книге грехи свои, столь же умеренные, как ее образ жизни: пустословие, невнимательность на собраниях, невнимательность во время богослужений, чревоугодие за трапезой. Эта последняя черта трогает меня до слез: сестра Анна угождала своему чреву вареными овощами. Она не знала уныния. Не ведала сомнений. Никогда не искушала господа. Все такие грехи остались в книжке не отмеченными. У этой монахини была монастырская душа. Судьба ее соответствовала ее характеру. Вот в чем тайна мудрости сестры Анны.
Не знаю, но мне кажется, теперь в женских монастырях много таких сестер Анн. У меня старые счеты с монахами; скажу прямо: я их недолюбливаю. Но что касается монахинь, то, мне кажется, у большинства их, как у сестры Анны, — монастырская душа, щедро одаренная свойствами, отвечающими их положению.
Иначе с какой стати пошли бы они в монастырь? В наше время их не толкают туда гордость и скупость родных. Они принимают постриг по собственному желанию. Они расстриглись бы, если бы захотели, но вот не делают этого. Драгуны-философы, врывавшиеся за монастырскую ограду в водевилях эпохи Революции, слишком поспешили с обращением к природе и выдачей монашек замуж. Природа более всеобъемлюща, чем думают драгуны-философы: она вмещает в необъятном лоне своем чувственность и аскетизм; а что касается монастырей, то чудовище это, наверно, привлекательно, раз оно любимо и пожирает в наши дни лишь добровольные жертвы. В монастыре есть свое очарование. Алтарь с его позолоченными сосудами и бумажными розами, окрашенная в натуральные цвета статуя пресвятой девы, озаренная таинственным бледным светом, подобным лунному, песнопения, запах ладана и голос священника — вот первые соблазны монастыря; они оказываются иногда сильней светских соблазнов.
Дело в том, что предметы эти наделены душой и содержат всю поэзию, доступную иным натурам. Женщина, по природе своей домоседка, созданная для жизни замкнутой, скромной, скрытой, — сразу чувствует себя в монастыре, как дома. Атмосфера там теплая, немного спертая; она вызывает у этих добродетельных девушек медленное приятное удушье. Там живут в полудреме. Теряют необходимость мыслить. Это большое облегченье. И взамен приобретают уверенность. С точки зрения практической, сделка выгодная, не правда ли? Звания мистической невесты Христа, избранного сосуда и непорочной голубицы особого значения не имеют. В монастырских обителях почти не знают экзальтации. Добродетели живут там себе полегоньку. Во всем, вплоть до ощущения божества, соблюдается осторожный оттенок будничности. Никаких взлетов. Спиритуализм в мудрости своей там по возможности материализуется, а возможность эта гораздо значительней, чем обычно думают. Великий процесс жизни так тщательно разделен там на целую вереницу мелких дел, что точность заменяет все. Ровный ход существования никогда ничем не нарушается. Долг там — нечто очень простое. Он определен правилами. Какое в этом удовлетворение для тихих, робких, покорных душ! Такая жизнь убивает фантазию, но не душевное веселье. Редко можно увидеть на лице монахини выражение глубокой печали.
В настоящее время напрасно было бы искать в монастырях Франции какую-нибудь Виргинию де Лейва или Джулию Каррачоло[245], непокорные жертвы, с упоением вдыхающие сквозь монастырскую решетку благоухание природы и мира. Не найти там, мне кажется, и св. Терезы или св. Екатерины Сиенской[246]. Героическая эпоха монастырей навсегда миновала. Мистический пыл угасает. Причины, гнавшие в монастырь такое количество мужчин и женщин, исчезли. В те времена, когда царило насилие, когда человек, не уверенный в том, что ему удастся воспользоваться плодами своего труда, то и дело просыпался, разбуженный криками о помощи, при зареве пожаров, когда жизнь была кошмаром, наиболее кроткие души уходили мечтать о небесном в обители, возвышавшиеся, подобно большим кораблям, над волнами ненависти и зла. Ничего этого теперь нет. В мире стало более или менее сносно жить. В нем остаются охотней. Но кто находит его еще слишком неприютным и малонадежным, вольны в конце концов при желании покинуть его. Учредительное собрание зря это право оспаривало[247], мы же правильно сделали, признав его в принципе.
Я имею честь знать игуменью одной общины, подчиненной материнскому центру, находящемуся в Париже. Это весьма достойная женщина, и я отношусь к ней с искренним уважением. Она рассказала мне недавно о последних днях одной инокини, которую я встречал в миру веселой, хорошенькой и которая удалилась в монастырь, безнадежно больная чахоткой.
«Смерть ее была кончиной праведницы, — сообщила мне игуменья. — В продолжение всей своей долгой болезни она каждый день вставала с постели, и две послушницы несли ее в церковь. Она молилась и в то утро, когда преставилась. Со свечи, горевшей перед образом святого Иосифа, капало на пол. Она велела послушнице поправить. Потом откинулась назад, глубоко вздохнула и начала отходить. Ее приобщили. Она могла только глазами выразить благоговение, с каким в последний раз сподобилась причаститься святых тайн».
Это маленькое сообщение было сделано с восхитительной простотой. Смерть — самое важное событие в монастырской жизни. Но пребывание в обители служит к нему такой прекрасной подготовкой, что и в эту минуту там приходится действовать не больше, чем во всякую другую. Поправил оплывающую свечу — и умер. Только этого штриха недоставало, чтобы довести щепетильную праведность до конца.
БЕСЕДА, КОТОРУЮ Я ВЕЛ НЫНЧЕ НОЧЬЮ С ОДНИМ ПРИЗРАКОМ О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛФАВИТА[248]
Я долго, долго писал в ночной тишине. Абажур отбрасывал свет лампы ко мне на стол, оставляя в тени книги, громоздившиеся этажами по всем четырем стенам моего рабочего кабинета. Угасающий огонь камина рассыпал среди пепла последние свои рубины. Воздух был полон густого и едкого табачного дыма; тонкий синий столбик поднимался из пепельницы, от лежавшей там на кучке пепла последней папиросы. Окружающий мрак был полон тайны: в нем смутно ощущалось присутствие души всех этих спящих книг. Перо у меня в пальцах дремало, и я грезил о делах давно минувших, как вдруг из дыма моей папиросы, словно из паров каких-то волшебных трав, возникло странное существо: курчавые волосы, блестящие продолговатые глаза, нос с горбинкой, толстые губы, завитая но ассирийскому обычаю черная борода, светло-бронзовый цвет кожи, хитрое и чувственно-жестокое выражение лица, коренастая фигура и роскошная одежда — все говорило о том, что передо мной один из тех азиатов, которых эллины называли варварами. На голове у него была синяя шапка в виде рыбьей головы, усеянная звездами. Пурпурный халат его украшали вышитые изображения животных. В одной руке он держал весло, в другой записные дощечки. Увидев его, я нисколько не смутился. Появление в библиотеке призрака — вещь вполне естественная. Где же и появляться теням умерших, как не среди тех знаков, которые хранят о них воспоминание? Я попросил гостя сесть. Но он отказался.
— Бросьте, — возразил он. — И держитесь, пожалуйста, так, как будто меня здесь нет. Я пришел посмотреть, что вы такое пишете на этой скверной бумаге. Я хочу знать. Мне, конечно, нет решительно никакого дела до того, какие вы излагаете мысли. Но меня страшно интересуют знаки, которые вы тут выводите. Несмотря на изменения, которые они претерпели за двадцать восемь веков своего существования, буквы, выходящие из-под вашего пера, мне не чужие. Я узнаю вот это «В», которое в мое время носило название «бет», что значит «дом». Вот «L», которое мы называли «ламед», так как оно имело форму стрекала. Это «G» произошло от нашего «гимеля» с верблюжьей шеей, а это «А» — из нашего «алефа» с головой быка. Что же касается «D», которое я вижу вот здесь, то оно, как и наше, породившее его, «далет», было бы верным изображением треугольного входа в палатку, разбитую среди песков пустыни, если бы вы не закруглили очертания этого символа древней кочевой жизни скорописным росчерком. Вы исказили «далет», так же как и другие буквы моего алфавита. Но я вас не корю. Это сделано для ускорения. Время дорого. Время — это золотой песок, слоновая кость, страусовые перья. Жизнь коротка. Нельзя терять ни минуты; надо торговать, ходить в море, чтобы нажить богатство и обеспечить себе счастье и почет на старости лет.
— Сударь, по вашему виду и вашим речам я догадываюсь, что вы — древний финикиец, — сказал я.
— Я — Кадм[249], тень Кадма, — ответил он просто.
— В таком случае вы не существуете в собственном смысле слова. Вы — миф, аллегория. Ибо нет возможности верить всему, что греки про вас рассказывают. Они говорят, будто вы убили возле источника Ареса огнедышащего дракона и, вырвав зубы чудовища, посеяли их в землю, после чего они превратились в людей. Это выдумки, да и сами вы тоже неправдоподобны, сударь.
— Может быть, я и стал неправдоподобным в смене веков и охотно верю, что большие дети, которых вы называете греками, примешали выдумки к воспоминаниям обо мне; но мне до этого нет никакого дела. Меня никогда не волновало, что будут обо мне думать после моей смерти. Мои надежды и тревоги никогда не выходили за пределы той жизни, которой живешь на земле, — единственной, о какой мне до сих пор известно. Потому что я не называю жизнью состояние, когда паришь жалкой тенью в пыли библиотек, смутно маяча перед г. Эрнестом Ренаном или г. Филиппом Берже[250]. И это призрачное бытие кажется мне еще печальней оттого, что некогда я вел самое деятельное существование и жизнь моя была полна до краев. Я не забавлялся севом змеиных зубов на беотийских полях, если, конечно, не считать такими зубами ненависть и зависть, зароненные в сердца киферонских пастухов моим могуществом и богатством. Я избороздил все моря и причаливал ко всем берегам на своем черном корабле с безобразным красным карликом на носу, хранителем моих сокровищ, наблюдавшим за семью Кабирами[251], что плавают по небу в своей ослепительной ладье, и определявшим курс по неподвижной звезде, которую греки называли, в честь меня, Финикиянкой. Я ходил за золотом Колхиды, за сталью Халибов, за жемчугом Офира, за серебром Тартесса; брал в Бетике железо, свинец, киноварь, мед, воск и смолу и, перейдя границу мира, среди туманов океана достиг мрачного острова бриттов, откуда вернулся седым стариком, с огромным запасом олова, которое египтяне, эллины и италийцы раскупили у меня на вес золота. Средиземное море было тогда моим озером. Я открыл по еще диким берегам его сотни контор, и знаменитые Фивы — просто крепость, где я хранил золото. В Греции я нашел дикарей, вооруженных оленьими рогами и осколками камней. Я дал им бронзу, и от меня они научились всем ремеслам.
В выражении лица и словах его была вызывающая резкость. Я ответил ему неприязненно:
— О, вы были энергичным и умным купцом. Но у вас не было нравственных принципов, и в иных случаях вы вели себя настоящим пиратом. Пристав к берегу Греции или какому-нибудь острову, вы спешили выставить напоказ драгоценности и роскошные ткани; и если тамошние девушки, подчиняясь неодолимому влечению, приходили одни, тайком от родителей, полюбоваться чудными вещами, ваши матросы хватали этих девственниц и, не обращая внимания на их крики и слезы, кидали их, связанных и дрожащих, в трюм ваших кораблей, под охрану красного карлика. Разве не похитили вы, со своими людьми, дочь царя Инаха, юную Ио[252] и не продали ее в Египет?
— Очень возможно. Этот царь Инах был вождем маленького дикого племени. Дочь его отличалась белизной кожи и тонкими, правильными чертами лица. Отношения между дикарями и цивилизованными людьми во все времена были одинаковые.
— Это верно; но ваши финикийцы производили неслыханные грабежи во всем мире. Они дерзко обчищали саркофаги и обирали гипогеи[253] египтян ради обогащения своих собственных некрополей в Гебале.
— Честное слово, сударь, ну как можно делать такие упреки человеку давно прошедших времен, которого уже Софокл называл древним Кадмом? Не прошло пяти минут, как мы с вами беседуем у вас в кабинете, а вы уже совсем забыли, что я старше вас на двадцать восемь столетий. Вспомните, милостивый государь: перед вами старый хананеянин, которого не следует попрекать из-за нескольких ящиков с мумиями да каких-то похищенных в Египте и Греции дикарок. Подивитесь лучше силе моего ума и великолепию моих предприятий. Я уже рассказывал о своих кораблях. Я мог бы описать вам, как мои караваны ходили в Йемен за ладаном и миррой, в Харран — за драгоценными камнями и пряностями, в Эфиопию — за слоновой костью и черным деревом. Но моя деятельность не ограничивалась одной меной и торговлей. Я был искусным мастером в такое время, когда весь мир вокруг коснел в варварстве. Металлург, красильщик, стеклодув, ювелир, я изощрял свои дарования в этих огненных ремеслах, таких чудесных, что они кажутся магией. Посмотрите на чаши моей чеканки — и подивитесь тонкому вкусу старого золотых дел мастера из Ханаана![254] И в земледельческих трудах у меня стоило поучиться. Узкую полоску земли, зажатую между Ливаном и морем[255], я превратил в дивный сад. До сих пор там находят вырытые мной водоемы. Один из ваших учителей говорит: «Только хананеянин умел строить давильни на века». Узнайте получше старого Кадма. Я побудил все народы Средиземноморья перейти от каменного века к бронзовому. Я научил ваших греков началам всех искусств. В обмен на зерно, вина и звериные шкуры, которые они привозили мне, я давал им чаши с целующимися голубками и глиняные статуэтки, которые они потом воспроизводили, приноравливая к своим вкусам. Наконец я дал им алфавит, без которого они не могли бы ни закрепить, ни даже уяснить себе как следует свои мысли, которые вас восхищают. Вот что сделал старый Кадм. Он сделал это не из желания облагодетельствовать род человеческий и не из пустого тщеславия, а ради выгоды, имея в виду ощутительную, верную прибыль. Он сделал все это, чтобы разбогатеть, желая на старости лет пить вино из золотых чаш, за серебряным столом, среди белых женщин, пляшущих сладострастные пляски и играющих на арфе. Потому что старый Кадм не верит ни в доброту, ни в добродетель. Он знает, что люди дурны, а боги, превосходящие их могуществом, еще хуже. Он их боится; и старается умилостивить их кровавыми жертвоприношениями. Он не любит их. Он любит только самого себя. Я говорю прямо, каков я. Но примите во внимание, что если бы я не стремился к неистовым наслаждениям плоти, я не прилагал бы усилий, чтобы разбогатеть, и не изобрел бы тех искусств и ремесел, которыми вы до сих пор пользуетесь. И наконец, если вы, милостивый государь, по недостатку умственных способностей, необходимых для занятия торговлей, были принуждены стать писцом и заняться сочинительством, как греки, вы должны были бы обожествить меня, давшего вам алфавит. Ведь это я изобрел его. Вы, конечно, понимаете, что я создал его просто для своих коммерческих потребностей, нимало не предвидя, какое применение получит он потом у цивилизованных народов. Мне нужна была простая система знаков для быстрой записи. Я охотно заимствовал бы ее у соседей, так как всегда брал у них все, что мне годилось. Я не стремлюсь к оригинальности во что бы то ни стало: мой язык — язык семитов; моя скульптура — то египетская, то вавилонская. Окажись у меня под рукой какая-нибудь подходящая система письма, я не стал бы тратить время на выдумывание новой. Но ни иероглифы тех народов, которые вы, не зная их, называете хиттитами или хеттами[256], ни священное письмо египтян не отвечали моим требованиям. Все это были знаки сложного и медленного начертания, более пригодные к тому, чтобы тянуться по стенам храмов и усыпальниц, чем тесниться на табличках купца. Даже в сокращенном и скорописном своем виде письмо египетских писцов сохраняло многие свойства своего прототипа: громоздкость, запутанность, неясность. Вся система в целом никуда не годилась. Упрощенный иероглиф все-таки остается иероглифом, то есть чем-то страшно туманным. Вы знаете, как египтяне перемешивали в своей системе иероглифов, улучшенных путем сокращения, знаки, обозначающие звуки, со знаками, обозначающими идеи. Гениальным усилием мысли я отобрал из этих бесчисленных знаков двадцать два и превратил их в двадцать две буквы своего алфавита. В буквы, то есть в знаки, каждый из которых соответствует одному определенному звуку, а все вместе позволяют благодаря быстроте и легкости их сочетания точно изображать все звуки! Разве не остроумно?
— Да, конечно, это остроумно — и даже остроумней, чем вы думаете. Мы у вас в неоплатном долгу. Потому что без алфавита невозможно правильное фиксирование живой речи, невозможен стиль, а значит, невозможна сколько-нибудь тонкая мысль, невозможна абстракция, невозможна проникновенная философия. Также нелепо представить себе Паскаля пишущим свои «Письма к провинциалу»[257] с помощью клинописи, как вообразить, будто Зевса Олимпийского изваял тюлень. Изобретенный для ведения торговых книг, финикийский алфавит стал во всем мире необходимым и совершенным орудием мысли, и ход дальнейших его преобразований тесно связан с ходом умственного развития человечества. Изобретение ваше бесконечно прекрасно и ценно, хотя и не доведено до совершенства. Потому что вы забыли о гласных; их выдумали хитроумные греки, чье назначенье в этом мире состояло в том, чтобы все доводить до совершенства.
— Насчет гласных скажу вам откровенно: я по скверной привычке всегда смешивал их друг с другом и путался в них. Вы, может быть, заметили нынче вечером: у старого Кадма — немного гортанный выговор.
— Это я ему прощаю; почти готов простить и похищение девицы Ио, поскольку отец ее Инах был в конце концов только вождем дикарей и носил вместо скипетра оленьи рога, украшенные резьбой при помощи острого кремня. Простил бы даже, что он познакомил бедных добродетельных беотийцев с бешеными плясками вакханок. Простил бы ему все — за то, что он дал Греции и всему миру самый драгоценный из талисманов: двадцать две буквы финикийского алфавита. Из этих двадцати двух букв вышли все алфавиты мира. Нет на земле такой мысли, которую они не закрепляли и не хранили бы. Из вашего алфавита, о божественный Кадм, вышли греческие и италийские письмена, в свою очередь давшие начало всем европейским. Из вашего алфавита вышли также все семитические системы — от арамейской и древнееврейской до сирийской и арабской. И тот же финикийский алфавит — отец алфавитов гимиаритского и эфиопского, а также всех алфавитов центральной Азии — зендского, пехлевийского и даже индийского, от которого произошли деванагари и все алфавиты южной Азии. Какая удача! Какое всемирное завоевание! В данный момент на всем земном шаре нет такой системы письмен, которая не происходила бы из кадмейской. Во всем мире — стоит только черкнуть словечко, как ты уже данник хананейских купцов. Мысль об этом вызывает во мне желание воздать вам величайшие почести, благородный Кадм, и я не знаю, чем мне ответить на благосклонность, с которой вы согласились провести нынче ночью часок у меня в кабинете, вы, Ваал-Кадм[258], изобретатель алфавита.
— Умерьте свои восторги, милостивый государь. Я, конечно, доволен своим маленьким изобретением. Но в моем посещении нет ничего особенно лестного для вас. Я умираю от скуки, с тех пор как, став жалкой тенью, не продаю ни олова, ни золотого песка, ни слоновой кости, и обладаю на этой земле, где господин Стенли[259] отдаленно следует моему примеру, возможностью лишь изредка беседовать с теми учеными и просто любознательными людьми, которые заинтересуются мной. Но я, кажется, слышу пенье петуха. Прощайте и постарайтесь разбогатеть: единственные блага в мире — богатство и власть.
И он исчез. Камин мой погас, я озяб от ночного холода, и у меня страшно болела голова.
* * *
Я отнюдь не разделяю[260] недоброжелательного отношения водевилистов к женщинам-врачам. Если у женщины — призвание к науке, какое право имеем мы упрекать ее за то, что она пошла по этому пути? Чем заслуживает порицания благородная, нежная, умная София Жермен[261], которая предпочла домашнему хозяйству и семье молчаливое раздумье над проблемами алгебры и метафизики? Разве не может наука, подобно религии, иметь своих прислужниц и диаконисс? Если неразумно стремление дать образование всем женщинам, то не более ли неразумно лишать их всех доступа к высшей умственной деятельности? А с другой, чисто практической точки зрения, не является ли в иных случаях наука для женщины драгоценным источником существования? Должны ли мы, на том основании, что сейчас имеется излишек преподавательниц, порицать девушек, посвящающих себя педагогической деятельности, несмотря на дикую нелепость программ и несправедливое проведение конкурсов? Поскольку за женщинами всегда признавалось исключительное умение ухаживать за больными, поскольку они были во все времена утешительницами и целительницами, поскольку они дают обществу сиделок и акушерок, как не воздать хвалу тем из них, которые, не удовлетворяясь необходимыми познаниями, доходят в своих занятиях медициной до степени доктора, повышая таким образом свое положение и авторитет?
Нельзя поддаваться чувству ненависти к причудницам и педанткам. Нет ничего противней педантки, это верно. Но что касается причудниц, тут надо бы различать. Важный вид бывает иногда к лицу женщине, и некоторая высокопарность не портит ее. Если госпожа де Лафайет[262] — причудница (какой она слыла среди современников), я не стал бы ненавидеть причудниц. Ненавистна всякая аффекция, с чем бы она ни была связана — с веником или с пером, и мало было бы радости жить в обществе, о котором мечтал Прудон, где все женщины только и знали бы, что стряпать да штопать. Не спорю: писание книг женщине менее свойственно и, следовательно, менее красит ее, чем кокетство; но женщина, владеющая пером, была бы не права, не пуская его в ход, если только это не мешает ей жить. Не говоря уж о том, что оно может стать ее другом в тот момент, когда ей придется сделать мучительный шаг, вступив в возраст воспоминаний. Женщины, без сомненья, пишут если не лучше мужчин, то иначе: они переводят на бумагу частицу своей дивной грации. Что касается меня, я очень благодарен госпоже де Кэлюс[263] и госпоже Стааль-Делонэ[264] за те бессмертные каракули, которые они оставили.
Было бы совсем не по-философски представлять себе дело так, будто наука входит в нравственный мир женщин и девушек в качестве какого-то инородного тела, некоего безмерно могучего возмущающего элемента. Но если естественно и законно стремление дать девушкам образование, то не может быть сомнений, что подход к делу был до сих пор очень неудачен. К счастью, это начинают понимать. Наука — связь человека с природой. Девушки, так же как и мы, нуждаются в некоторых познаниях. Но тот способ, каким пытались их обучать, не только не обогащал их отношения к миру, а наоборот — удалял их от природы, как бы отрезал им доступ к ней. От них требовали знания слов, а не реальных фактов, вбивали им в голову длинные списки терминов исторических, географических и зоологических, которые сами по себе не имеют никакого значения. Невинные создания приняли на плечи свои весь огромный, непосильный для них груз этих бессмысленных программ, воздвигнутых демократической спесью и буржуазным патриотизмом в виде некиих вавилонских башен рутинерства.
Отправлялись от абсурдной мысли, будто народ образован, если все, кто к нему принадлежит, знакомы с одними и теми же явлениями, словно многообразие функций не вызывает необходимости в многообразии знаний и словно есть какая-нибудь выгода в том, чтобы купец знал то, что знает врач! Мысль эта оказалась чревата ошибками; в частности, она породила другую, еще более вредную: вообразили, будто начатки специальных знаний могут быть полезны людям, которым не придется ни применять их на практике, ни изучать их теоретическую основу. Вообразили, будто в анатомии или, скажем, в химии терминология имеет самостоятельную ценность и очень важно знать ее — независимо оттого, как ею пользуются хирурги и химики. Это суеверие столь же нелепо, как суеверие древних скандинавов, писавших руническими знаками[265] и воображавших, будто есть слова, наделенные такой мощью, что, если их произнести, можно погасить солнце и растереть землю в порошок.
Горькую улыбку вызывают педагоги, обучающие детей словам языка, которого те никогда не услышат и на котором никогда не будут говорить. Эти поклонники школярства утверждают, будто таким способом знакомят девушек с начатками науки и разъясняют им все вокруг. Но кому же не ясно, что они только затемняют им все, а чтобы научить эти легкомысленные молодые головки думать, надо действовать совсем другим способом? Объясните вкратце великие задачи, стоящие перед той или иной наукой, познакомьте, при помощи ярких примеров, с ее завоеваниями. Обобщайте, философствуйте, но хорошенько скройте свою философию, чтобы вас считали такими же недалекими, как те, к которым вы обращаетесь. Изложите, не прибегая к профессиональному жаргону, общеупотребительным, обыденным языком, небольшое количество фактов, поражающих воображение и удовлетворяющих мыслительную способность. Пусть речь ваша будет безыскусственна, содержательна, богата. Не гонитесь за количеством преподанного материала. Возбудите только любопытство. Откройте своим слушателям глаза, но не перегружайте их мозг. Зароните в него искру. Огонь сам разгорится там, где для него найдется пища.
А если искра погаснет, если иные головы так и останутся темными, по крайней мере вы не окажетесь повинны в том, что сожгли их. Среди нас всегда будут невежды. Надо относиться с уважением ко всякому интеллекту, не отнимая у святой простоты тех, кто ей предан. Это особенно относится к девушкам, которые по большей части заняты в течение всего своего земного существования делами, требующими отнюдь не общих идей и технических знаний, а чего-то совсем другого. Я хотел бы, чтобы преподавание для девушек имело главным образом характер осторожного, ласкового убеждения.
О ЧУДЕ[266]
Не надо говорить: чудес не бывает, раз их существование не доказано. Верующие всегда могут сослаться на недостаточную полноту наших знаний. В действительности же констатировать наличие чуда невозможно сегодня и не станет возможным завтра, так как констатация его всегда будет равносильна преждевременному выводу. Врожденный инстинкт говорит нам, что все, что природа содержит в недрах своих, подчинено определенным законам, познанным либо таинственным. Но даже если человек подавит это свое предчувствие, он никогда не может сказать: «Это явление — вне природы». Наши исследования никогда не проникнут так далеко. И поскольку чуду свойственно ускользать от познания, всякая догма, его утверждающая, ссылается на неуловимого свидетеля, который так и не явится до скончания веков.
Чудо — понятие детски-наивное, обреченное на исчезновение с того момента, как разум начал приобретать связное представление о природе. Греческая мудрость отвергала самую мысль о нем. Гиппократ[267] по поводу эпилепсии говорил: «Болезнь эту называют божественной; но все болезни божественны и одинаково ниспосылаются богами». Он говорил, как философ-естествоиспытатель. В наши дни человеческий разум менее последователен. Особенно раздражают меня такие суждения: «Мы не верим в чудеса, потому что ни одно из них не доказано».
В августе я был в Лурде[268] и посетил там пещеру, стены которой увешаны бесчисленным количеством костылей — в знак выздоровления их владельцев. Мой спутник шепнул мне на ухо, показывая пальцем на эти больничные трофеи:
— Одна деревянная нога сказала бы гораздо больше.
Это замечание продиктовано здравым смыслом; но в философском отношении деревянная нога имеет не больше ценности, чем костыль. Если бы наблюдателю, обладающему подлинно научным складом ума, пришлось констатировать, что у кого-нибудь вдруг восстановилась, в купели или где-нибудь еще, отрезанная нога, он не сказал бы: «Это чудо!» Он сказал бы: «Наблюдение, до сих пор единственное, дает основание предполагать, что при условиях, пока точно не установленных, ткань человеческой ноги имеет свойство восстанавливаться, подобно клешням у омаров и раков или хвосту у ящериц, но только гораздо быстрей. Данное явление природы находится в кажущемся противоречии с некоторыми другими явлениями природы. Противоречие это порождено нашим незнанием, и само собой напрашивается вывод, что физиология животных, как наука, подлежит перестройке, или, вернее сказать, что ее еще не существует. Ведь прошло всего двести лет с того времени, как мы получили представление о кровообращении. И не больше столетия — с тех пор, как узнали, что значит дышать!»
Надо иметь известную выдержку, чтобы говорить так, — я согласен. Но ученый не должен ничему удивляться. С другой стороны, никому из них, конечно, не приходилось подвергаться такому испытанию, и нет никаких поводов думать, чтобы такой из ряда вон выходящий случай когда-нибудь возник. Чудесные исцеления, засвидетельствованные врачами, все без исключения прекрасно согласуются с данными физиологии. До сих пор могилы святых, чудотворные источники и пещеры производили желанное действие лишь на страдающих такими болезнями, которые либо излечимы, либо перемежаются внезапно наступающими периодами временного облегчения. Но воскресни на наших глазах мертвый, наличие чуда было бы доказано только в том случае, если б мы знали, что такое жизнь и что такое смерть, а этого мы не узнаем никогда.
Чудо определяют, как нарушение законов природы. Но они нам неизвестны. Как же мы можем знать, что то или иное явление нарушило их?
— Однако некоторые из них известны нам.
— Да, нам удалось подметить кое-какие связи между вещами. Но, не постигая всех законов природы, мы не постигаем ни одного из них, поскольку это звенья одной цепи.
— Все же мы могли бы констатировать вторжение чуда в подмеченные нами ряды связей.
— Мы не могли бы этого сделать с философской достоверностью. К тому же как раз те ряды, которые предстают перед нами наиболее незыблемыми и строго обусловленными, реже всего прерываются чудом. Чудо не производит, например, никаких покушений на небесную механику. Оно не делает ни малейших попыток повлиять на ход светил, никогда не ускоряет и не задерживает наступления затмения против вычисленного срока. И наоборот — оно любит шалить в потемках внутренней патологии и особенно хорошо чувствует себя в области нервных болезней. Но не будем смешивать фактической стороны дела с принципиальной. В принципе ученый не имеет возможности констатировать сверхъестественное явление. Подобная констатация предполагает полное и совершенное знание природы, которым он не обладает и никогда не будет обладать, да и не обладал никто на свете. Именно потому, что я не поверил бы самым искусным нашим офтальмологам, если бы они вдруг сообщили о чудесном исцелении какого-нибудь слепого, я не верю и евангелистам Матфею и Марку, тем более что они не были офтальмологами. Чудо, по самому смыслу этого понятия, нельзя ни различить, ни познать.
Ученые ни в коем случае не могут утверждать, что то или иное явление находится в противоречии к мировому порядку, то есть божественному неизвестному. Сам господь бог мог бы судить об этом лишь в том случае, если бы установил весьма печальное различие между общими и частными обнаружениями своей деятельности, тем самым засвидетельствовав, что время от времени он вносит в свое творение робкие поправки, и поневоле сделав позорное признание, что смонтированная им громоздкая машина, чтобы работать хотя бы с грехом пополам, требует поминутного вмешательства своего конструктора.
Напротив, наука умеет давать положительное объяснение тем фактам, которые казались необъяснимыми. Ей порою отлично удается вскрыть физические причины явлений, долго считавшихся сверхъестественными. Было отмечено несколько случаев исцеления больных с поражением спинного мозга на могиле дьякона Париса[269] и в других святых местах. Исцеления эти не удивляют, с тех пор как стало известно, что симптомы такого рода поражений вызываются иногда просто истерией.
Появление новой звезды перед теми таинственными лицами, которых евангелие называет волхвами (я исхожу из предположения, что это — исторически установленный факт), было, конечно, чудом для средневековых астрологов, считавших, что небосвод, утыканный гвоздями звезд, не подвержен никаким изменениям. Но, реальная или вымышленная, звезда волхвов не таит для нас никаких тайн, так как мы знаем, что небо беспрестанно возмущаемо рождением и гибелью миров, и видели, как в 1866 году в Северном Венце вдруг вспыхнула звезда[270], которая целый месяц горела и потом погасла.
Звезда эта не возвещала мессии; она лишь свидетельствовала о том, что на безмерном расстоянии от нас чудовищный пожар уничтожил в несколько дней целый мир, причем в давние времена, так как луч, принесший нам известие об этой небесной катастрофе, находился в пути пять столетий, а может быть, и еще дольше.
Известно чудо на озере Больсене, увековеченное одною из Станц Рафаэля[271]. Священник-маловер служил обедню; разломив на части облатку для причастия, он вдруг увидел, что на ней кровь. Всего каких-нибудь десять лет тому назад ни одна академия наук не сумела бы объяснить это странное явление. Но никому даже в голову не придет отрицать его теперь, после того как был открыт микроскопический грибок, колонии которого, разрастаясь в муке или тесте, производят впечатление свернувшейся крови. Открывший его ученый, с полным основанием полагая, что это и есть красные пятна больсенского причастия, назвал грибок micrococcus prodigiosus[272].
Всегда будет существовать грибок, звезда или болезнь, неизвестные нашей науке, и поэтому она всегда будет вынуждена, от имени вечного незнания, отрицать всякое чудо и говорить обо всех великих диковинах, как о больсенском причастии, о звезде волхвов, об исцелении параличного: «Этого не было, а если было, то имело место в природе и, следовательно, совершилось естественным путем».
КАРТОЧНЫЕ ДОМИКИ[273]
В вопросах эстетики особенно настораживает то, что все доказывается при помощи логики. Зенон Элейский[274] доказал, что летящая стрела неподвижна. Можно было бы также доказать обратное, хотя, по правде говоря, это было бы трудней. Ибо логика становится в тупик перед очевидностью, и можно сказать, что все доказуемо, кроме того, что мы ощущаем как истинное. Последовательное рассуждение о сложном предмете говорит лишь об остроте мысли, это рассуждение породившей. Надо думать, люди все же подозревают об этой великой истине, раз они никогда не подчиняются логике. Инстинкт и чувство — вот что руководит ими. Они повинуются велениям страстей, любви, ненависти, а главное — спасительного страха. Философским системам они предпочитают религию, а к логическим рассуждениям прибегают только для оправдания своих дурных наклонностей и скверных поступков. Это смешно, но извинительно. Действия инстинктивные дают обычно наилучшие результаты, и именно на них природа основала сохранение жизни индивидуума и вида. Каждая философская система удачна в меру таланта своего автора, но ни одну из них нельзя предпочесть другим на основании большего соответствия истине, и, если некоторые из них как будто между собой согласуются, это объясняется тем, что моралисты в большинстве случаев стараются не вступать в конфликт с чувствами и инстинктами толпы. Если бы они слушались только чистого разума, он теми или иными путями приводил бы их к самым чудовищным выводам, как это имеет место в некоторых религиозных сектах и в некоторых ересях, основатели которых, упиваясь своим одиночеством, пренебрегли легкомысленным одобрением людей. Кажется, неплохо рассуждала ученая каинитка[275], считавшая, что мир скверно устроен, и учившая своих последователей нарушать физические и нравственные законы, следуя примеру преступников и подражая в особенности Каину и Иуде. Рассуждала она правильно; но проповедь ее внушает отвращение. В основе всех религий лежит та святая и здравая истина, что у человека есть более надежный руководитель, чем логика, и что надо повиноваться зову сердца.
В области эстетики, то есть в облаках, можно аргументировать больше и лучше, чем во всякой другой. Но именно там нужно быть очень осторожным. Именно там приходится всего опасаться: безразличия и предвзятости, холода и страсти, знания и невежества, искусства, ума, тонкости и простодушия, которое более опасно, нежели хитрость. В вопросах эстетики бойся софизмов, в особенности красивых, — а ведь они бывают великолепны. Не доверяй даже математическому мышлению, такому совершенному, такому возвышенному, но до того чувствительному, что машина эта может работать только в пустоте, так как мельчайшая песчинка, попав в ее механизм, тотчас нарушает его ход. Невольно содрогаешься при мысли о том, куда такая песчинка может завести математический ум. Вспомните Паскаля[276].
Эстетика не имеет прочного основания. Это воздушный замок. Ее возводят на этике. Но нет никакой этики. Нет никакой социологии. Нет даже биологии. Завершенность наук существует только в голове г-на Огюста Конта, труд которого — прорицание. Когда будет закончено становление биологии, то есть через несколько миллионов лет, может быть, удастся построить социологию. На это уйдет тоже немало столетий; после этого возникнет возможность создать научную эстетику на прочной основе. Но тогда планета наша одряхлеет и приблизится к своему концу. Солнце, на котором уж теперь появляются внушающие естественную тревогу пятна, обратит к земле наполовину покрытый плотной пеленой шлака темно-красный, пепельный лик, и последние человеческие существа, уйдя в глубь шахт, будут думать не столько о спорах относительно сущности прекрасного, сколько о том, чтобы поддерживать во мраке огонь с помощью последних кусков каменного угля, прежде чем сгинуть под вечным льдом.
Для обоснования критики заводят речь о традиции и о всеобщей единодушной оценке. Ничего этого нет. Правда, существует несколько произведений, пользующихся почти всеобщим признанием. Но это — в силу прецедента, а никак не благодаря сознательному выбору или непроизвольному предпочтению. Творения, восхищающие весь мир, не подвергаются анализу. Их принимают, как некий драгоценный груз, и передают другим, не рассматривая. Неужели вы думаете, что в том одобрении, с которым мы относимся к греческим, латинским или хотя бы даже французским классикам, очень много свободы? Неужели вкус, который привлекает нас к тому или иному современному произведению и побуждает отворачиваться от других, в самом деле свободен? Не обусловлен ли он многими обстоятельствами, чуждыми этому произведению, среди которых главным является дух подражания, имеющий такую власть и над человеком и над животным? Этот дух подражания необходим нам для того, чтобы жить, не впадая в слишком большие заблуждения; мы вносим его во все наши действия, и он управляет нашим эстетическим чувством. Не будь его, мнения в вопросах искусства отличались бы гораздо большим разнообразием, чем теперь. Именно благодаря ему произведение, по каким бы то ни было причинам получившее сначала несколько сторонников, в дальнейшем приобретает их еще больше. Только первые были свободны; все остальные идут на поводу. Их суждения лишены всякой непосредственности, самостоятельности, значительности, оригинальности. Но благодаря своей многочисленности они создают славу. Все зависит от первого шага. Поэтому бывает, что произведения, отвергнутые при своем появлении на свет, уже не имеют шансов когда-нибудь понравиться, и, наоборот, произведения, сразу ставшие знаменитыми, долго сохраняют свою высокую репутацию и продолжают цениться, даже перестав быть понятными. Явное доказательство, что всеобщее одобрение обусловлено исключительно прецедентом, — в том, что одобрение это прекращается вместе с влиянием последнего. Можно указать немало примеров этого. Приведу только один. Лет пятнадцать тому назад военная экзаменационная комиссия по приему в армию добровольцев-одногодичников выбрала для диктанта страницу текста без подписи, которая подверглась жестокому осмеянию на страницах газет и позабавила очень образованных читателей. «Откуда только эти военные выкопали такие смешные, вычурные фразы?» Однако текст был из очень хорошей книги. Он принадлежит Мишле[277] — и притом лучшему Мишле, Мишле периода расцвета. Гг. офицеры заимствовали текст для диктанта из того блестящего описания Франции, которым великий писатель заканчивает первый том своей «Истории» и которое относится к самым ценным местам книги. «В широтном направлении зоны Франции легко различаются по своим продуктам. На севере — тучные низменные равнины Бельгии и Фландрии с посевами льна, сурепицы и хмеля, терпким северным виноградом» и т. д. Я видел, как знатоки смеялись над этим стилем, решив, что он принадлежит какому-нибудь вояке. Громче всех смеялся один из ревностных поклонников Мишле. Эта страница восхитительна, но, чтобы вызвать единодушное восхищение, она все-таки нуждается в подписи. Это относится к любому тексту, кому бы он ни принадлежал. И наоборот — все, подписанное великим именем, имеет шансы встретить слепое преклонение. Виктор Кузен[278] находил у Паскаля красоты, которые оказались потом ошибками переписчика. Он восторгался, например, некиими «ракурсами бездны», возникшими в результате неправильного прочтения. Трудно представить себе г-на Виктора Кузена восторгающимся «ракурсами бездны» у кого-либо из его современников. Компиляции какого-то Врен-Люка[279] встретили благоприятный прием в Академии наук, будучи приписаны Паскалю и Декарту. Пока Оссиана считали древним, он казался равным Гомеру. Его стали презирать, когда обнаружилось, что это Макферсон[280].
Стоит только людям, разделяющим общие восторги, начать мотивировать их, как согласие тотчас уступает место разногласию. Одну и ту же книгу одобряют за свойства совершенно противоположные, которыми она не может обладать в одно и то же время. Было бы очень любопытно составить историю суждений критики о каком-нибудь произведении, стоящем в центре внимания всего человечества: «Гамлете», «Божественной Комедии», «Илиаде». В настоящее время «Илиада» чарует нас привкусом варварства, первобытности, который мы в ней непритворно усматриваем. А в XVII веке Гомера хвалили за соблюдение правил, которым должна удовлетворять эпическая поэма. «Можете быть уверены, — говорил Буало, — что если Гомер употребил слово „пес“, значит, слово это в греческом языке принадлежит к высокому стилю». Такие мысли производят на нас странное впечатление. Но, может быть, через двести лет и наши мысли будут казаться странными, потому что в конце концов утверждение о том, что Гомер — варвар, а варварство — чудесная вещь, нельзя отнести к разряду вечных истин. В вопросах литературы нет такого мнения, которое не опровергалось бы без труда противоположным. Кто в состоянии прекратить споры флейтистов?
Что же, значит, ни эстетикой, ни критикой не надо заниматься? Я этого не говорю. Но надо помнить, что это занятие — искусство, и вносить в него страсть и беспечность, без которых никакого искусства быть не может.
В ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЯХ[281]
Г-ну Л. Бурдо[282]
Я был внезапно перенесен в безмолвный мрак, где смутно виднелись какие-то непонятные формы, которые внушали мне ужас. Когда глаза мои немного привыкли к темноте, я различил на берегу потока, катившего свои тяжелые волны, человека в азиатском колпаке, с веслом на плече. Я узнал хитроумного Улисса. Впалые щеки его обросли бесцветной бородой. Я услыхал, как он, вздохнув, грустным голосом произнес:
«Меня мучит голод. Я уже плохо вижу, и душа моя подобна тяжелому пару, блуждающему во тьме. Кто напоит меня черной кровью, чтобы мне опять вспомнить свои крашеные киноварью корабли, свою верную жену, свою мать?»
Услыхав такие речи, я понял, что нахожусь в преисподней. Я постарался ориентироваться, как мог, руководясь описаниями поэтов, и направился к лужайке, озаренной мягким слабым светом. Прошагав с полчаса, я увидал группу призраков, которые, собравшись на покрытом асфоделями[283] лугу, о чем-то беседовали. Здесь были представлены все эпохи и страны; я узнал несколько великих философов — вперемежку с жалкими дикарями. Спрятавшись в тени мирта, я прислушался к разговору. Прежде всего я услышал Пиррона[284], который, не выпуская из рук заступа, как хороший садовник, кротко спросил:
— Что такое душа?
В ответ призраки заговорили чуть не все сразу. Божественный Платон осторожно промолвил:
— Душа тройственна. У нас одна чрезвычайно грубая душа — в животе, другая, любящая, — в груди и третья, разумная, — в голове. Душа бессмертна. У женщин только две души. Разумной они лишены.
Один из отцов Маконского собора возразил ему:
— Платон, ты рассуждаешь, как идолопоклонник. В пятьсот восемьдесят пятом году Маконский собор большинством голосов признал наличие бессмертной души у женщины. К тому же женщина — человек, потому что евангелие называет Иисуса Христа, рожденного девой, сыном человеческим.
Аристотель, пожав плечами, ответил своему учителю Платону почтительно, но твердо:
— Что касается меня, о Платон, я нахожу у человека и животных пять душ: 1) питающую; 2) чувствительную; 3) двигательную; 4) желающую; 5) разумную. Душа — форма тела. Своей гибелью она губит и его.
Стали высказываться различные точки зрения.
Ориген[285]. Душа материальна и обладает формой.
Блаженный Августин. Душа бесплотна и бессмертна.
Гегель. Душа — случайное явление.
Шопенгауэр[286]. Душа — временное проявление воли.
Полинезиец. Душа — дыхание, и когда я понял, что умираю, я зажал себе нос, чтобы удержать душу в теле. Но слишком слабо. И умер.
Жительница Флориды. А я умерла от родов. Мне положили на губы ручку моего ребенка, чтоб он задержал дыхание в теле матери. Но было поздно: душа моя проскользнула у бедного крошки между пальцами.
Декарт[287]. Мною твердо установлено, что душа — духовна. А по вопросу о том, что ее ожидает, отсылаю к господину Дигби[288], который этот вопрос изучал.
Ламетри[289]. Где этот господин Дигби? Пускай его приведут.
Минос[290]. Я велю произвести тщательные поиски по всем преисподням, господа!
Альберт Великий[291]. Существует тридцать доводов против бессмертия души и тридцать шесть за, — иначе говоря, перевес в шесть доводов в пользу положительного ответа.
Кожаный Чулок[292]. Дух храброго вождя не умирает, так же как его топор и трубка.
Равви Маймонид[293]. Написано: «Злой будет истреблен, и от него не останется следа».
Блаженный Августин. Ты ошибаешься, равви Маймонид. Написано: «Проклятые будут ввергнуты в огнь вечный!»
Ориген. Да, Маймонид ошибается. Злой будет не истреблен, но уменьшен. Он станет совсем маленьким и даже незаметным. Вот как надо понимать судьбу осужденных. А святые души растворяются в боге.
Дунс Скот[294]. Смерть заставляет все создания исчезнуть в боге подобно звуку, тающему в воздухе.
Боссюэ[295]. Ориген и Дунс Скот ведут здесь отвратительные речи, отравленные ядом заблуждения. Все, сказанное в Священном писании об адских муках, надо понимать точно и буквально. Всегда живые и всегда умирающие, бессмертные для своих мучений, слишком сильные, чтоб умереть, и слишком слабые, чтобы выносить их, осужденные будут вечно стенать на огненных ложах, терзаемые свирепыми и неисцелимыми страданиями.
Блаженный Августин. Да, эти истины надлежит понимать буквально. Подлинная плоть осужденных не перестанет мучиться во веки веков. Младенцы, умершие тотчас после своего появления на свет или во чреве матери, не избегнут пыток. Такова воля божественного правосудия. Если трудно поверить, что погруженные в пламя тела не сгорают в нем, то лишь вследствие нашего невежества и оттого, что люди не знают о существовании плоти, сохраняющейся в огне. Такова плоть фазана. Я сам убедился в этом в Гиппоне, когда мой повар, приготовив одну из этих птиц, подал мне половину. Через две недели я велел подать другую половину, и она оказалась еще годной в пищу. Из чего стало ясно, что огонь сохранил ее, как сохранит и тела осужденных.
Сумангала. Все, что я здесь слышу, — черный мрак западного невежества. Истина та, что души, прежде чем достичь блаженной нирваны, которая кладет конец всем жизненным страданиям, воплощаются в разные тела. Гаутама[296] прошел пятьсот пятьдесят перевоплощений, прежде чем стать Буддой: он был царем, рабом, обезьяной, слоном, вороном, лягушкой, платаном и т. д.
Екклезиаст. Люди умирают, как и животные; и участь тех и других одна. Как те умирают, так и эти. И одно дыханье у всех, и нет у человека преимущества перед скотом.
Тацит[297]. Подобная речь понятна в устах еврея, привыкшего к рабству. А я скажу, как римлянин: души великих граждан не подлежат гибели. В это можно верить. Но нельзя оскорблять богов, полагая, будто они дарят бессмертие душам рабов и вольноотпущенных.
Цицерон[298]. Увы, сын мой! Все, что говорят об аде, — сплетение вымыслов. Для меня самого — вопрос, бессмертен ли я иначе, нежели памятью о моем консульстве, которая сохранится вечно.
Сократ. Что касается меня, я верю в бессмертие души. На этот риск стоит пойти: это — надежда, которою следует себя обольщать.
Виктор Кузен. Дорогой Сократ, бессмертие души, которое я так красноречиво доказал, представляет собой прежде всего нравственную необходимость. Ибо добродетель — прекрасная тема для риторики, а если бы душа не была бессмертна, добродетель оставалась бы без награды. И бог не был бы богом, если б не заботился о темах для моих трактатов.
Сенека[299]. Это ли правила мудреца? Подумай о том, философ галлов, что награда за добрые деяния заключается в них самих и что вне добродетели нет ничего, чем можно было бы оплатить ее.
Платон. Однако есть божественные возмездия и награды. После смерти душа злого переходит в тело низшего животного, лошади, гиппопотама или женщины. А душа добродетельного вступает в сонм богов.
Папиниан[300]. Платон утверждает, что в загробной жизни суд богов исправляет суд людей. Напротив того, хорошо, что люди, которых постигла на земле незаслуженная кара по вине представителей власти, подверженных ошибкам, но законных и действующих в полноте своих полномочий, будут нести наказание и в аду: человеческое правосудие заинтересовано в этом, и заявлять, что его решения могут отменяться божественной мудростью, значит подрывать его авторитет.
Эскимос. Бог добр к богатым и жесток к бедным. Значит, он любит богатых и не любит бедных. А раз любит богатых — пустит их в рай и, раз не любит бедных — пошлет их в ад.
Китаец-буддист. Знайте, что у каждого человека две души: одна добрая, и она соединится с богом, другая злая, и она обречена на муки.
Старец из Тарента. О мудрецы, ответьте старику — другу садов: есть ли душа у животных?
Декарт и Мальбранш[301]. Нет. Это машины.
Аристотель. Они — животные, и у них есть душа, как у нас. Эта душа связана с их органами.
Эпикур. О Аристотель, к счастью для них, душу их, как и нашу, ждет гибель и смерть. Милые призраки, терпеливо дожидайтесь в этих садах того мгновения, когда вы окончательно утратите, вместе с жестокой жаждой жизни, и самую жизнь с ее бедствиями. Предайтесь заранее невозмутимому покою.
Пиррон. Что такое жизнь?
Клод Бернар[302]. Жизнь — это смерть.
— А что такое смерть? — опять спросил Пиррон.
Никто ему не ответил, и сонм теней бесшумно удалился, подобно гонимому ветром облаку.
Я думал, что остался на лугу асфоделей один, как вдруг увидел Мениппа[303], которого узнал по его кинически-насмешливому виду.
— Отчего, о Менипп, — сказал я ему, — эти мертвые говорят о смерти так, словно не знают ее, и почему обнаруживают они такую неуверенность в ожидающей человека участи, как будто находятся еще на земле?
— Это, конечно, оттого, — ответил Менипп, — что они еще не вполне утратили свое человеческое естество и остаются в известном смысле смертными. Переступив порог бессмертия, они уже не будут больше говорить и мыслить. Они станут подобны богам.
АРИСТ И ПОЛИФИЛ, ИЛИ ЯЗЫК МЕТАФИЗИКИ
Г-ну Орасу де Ландо
Арист. Здравствуйте, Полифил. Что это за книга, которой вы так увлеклись?
Полифил. Это учебник философии, милый Арист, — одна из тех небольших работ, которые сразу знакомят вас со всей мировой мудростью. В ней содержится обзор всех философских систем — от древних элеатов[304] до современных эклектиков[305], кончая господином Ляшелье[306]. Прежде всего я прочел оглавление; потом, открыв книжку где-то посередине, попал на такую фразу: Душа обладает богом в той мере, в какой причастна абсолюту.
Арист. Мысль эта, по всей видимости, представляет собой звено в цепи обоснованных доказательств. Вряд ли имеет смысл рассматривать ее отдельно.
Полифил. Поэтому я и не стал задаваться вопросом, что она может означать. Не пытался выяснить, насколько она истинна. Я занялся исключительно ее словесным выражением, в котором нет, разумеется, ничего странного, необычного и, полагаю, ничего ценного и редкого для такого знатока, как вы. Но все-таки выражение это можно признать метафизическим. И я думал как раз об этом, когда вы пришли.
Арист. Не поделитесь ли вы со мной теми мыслями, ход которых я так не вовремя прервал?
Полифил. Это была просто фантазия. Я подумал, что метафизики, изобретая свой собственный язык, похожи на точильщиков, которые, вместо ножей и ножниц, принялись бы обтачивать медали и монеты, сводя с них надпись, дату, изображение. Добившись, чтобы на их монетах в сто су нельзя было разобрать ни Виктории, ни Вильгельма, ни Республики, они говорят: «В этих монетах нет ничего английского, немецкого, французского; мы вырвали их из времени и пространства; они стоят уже не пять франков: у них нет цены, и область их хождения теперь безгранична». И они правы, говоря так. С помощью этой точильщицкой премудрости слова переносятся из области физики в область метафизики. То, что они при этом теряют, видно сразу; а выигрывают ли что — неизвестно.
Арист. Но как же можно, Полифил, с первого взгляда определить, что обеспечивает прибыль и что грозит убытком?
Полифил. Я согласен, Арист, что в данном случае было бы неуместно пользоваться весами, на которых Ломбардец на мосту Менял взвешивал аньолы и дукаты. Отметим прежде всего, что духовный точильщик долго держал на точильном камне глаголы обладать и быть причастным, которые блещут в этой фразе учебника, освобожденные от своей первоначальной нечистоты.
Арист. В самом деле, Полифил, с них сняли все случайное.
Полифил. И таким же образом отшлифовали слово «абсолют», которым оканчивается фраза. В тот момент, когда вы вошли, у меня возникло два соображения по поводу этого слова. Первое заключается в том, что метафизики всегда обнаруживали сильную склонность к отрицательным терминам, таким, как небытие, недоступный, бессознательный. Лучше всего они чувствуют себя, растянувшись на бесконечном и безграничном или уцепившись за непознаваемое. На трех страницах «Феноменологии» Гегеля, раскрытых наудачу, среди двадцати шести слов, являющихся подлежащими значительных предложений, я насчитал девятнадцать отрицательных терминов против семи утвердительных, то есть таких, смысл которых не уничтожен заранее какой-нибудь противоречивой приставкой. Не буду утверждать, что такое же соотношение во всем труде. Я этого не знаю. Но приведенный пример служит яркой иллюстрацией к одной мысли, правильность которой нетрудно проверить. Таков, по моим наблюдениям, обычай метафизиков или, лучше сказать, «метатафизиков», так как к числу прочих диковин надо прибавить еще ту, что наука ваша сама носит отрицательное название, основанное на порядке, в котором расположены книги Аристотеля, и вы именуете себя: «идущие после физиков»[307]. Я, конечно, понимаю, что, по вашему мнению, последние свалены в кучу и явиться после них значит встать на них. Но тем самым вы признаете, что находитесь вне природы.
Арист. Ради бога, милый Полифил, развивайте свои мысли в определенной последовательности. Если вы будете все время перескакивать с одной на другую, мне не уследить за их ходом.
Полифил. Итак, возвращаюсь к предпочтению, отдаваемому дистиляторами идей терминам, выражающим отрицание утверждения. Нужно признать: в этом предпочтении самом по себе нет ничего странного, сумасбродного. Это у них не порок, не извращение, не мания: оно отвечает естественной потребности абстрагирующего ума. Все эти «аб», «не», «без» действуют сильней всякого точильного камня. Они мгновенно обезличивают самые выразительные слова. Откровенно говоря, иногда они просто их перевертывают и ставят вверх тормашками. Или придают им таинственное, священное значение, как обстоит, например, дело с абсолютом, который значит гораздо больше, чем латинское solutus[308]. Absolutus — это патрицианская избыточность solutus'a и внушительное доказательство латинского величия.
Вот первое мое соображение. Второе состоит в том, что мудрецы, которые, подобно вам, Арист, говорят языком метафизики, стараются стачивать по возможности такие термины, на которых изображение уже до них утратило первоначальную свою отчетливость. Потому что, нечего греха таить, и нам, обыкновенным смертным, тоже иной раз случается обтачивать слова, мало-помалу их обезличивая. В этом смысле мы, сами того не зная, тоже являемся метафизиками.
Арист. Запомним то, что вы сейчас сказали, Полифил, чтоб вы не говорили потом, что метафизическое мышление человеку не свойственно, не положено и не является в известном смысле необходимым. Продолжайте.
Полифил. Я заметил, Арист, что очень многие выражения, переходя из уст в уста в смене поколений, отшлифовываются и, как говорят живописцы, приобретают «флю». И не подумайте, Арист, будто я порицаю метафизиков за то, что они любят брать для шлифовки слова, уже немного стершиеся. Таким способом они облегчают себе задачу по крайней мере наполовину. Иногда они оказываются в еще более счастливом положении: им попадаются в руки слова, которые, в результате долгого и всеобщего употребления, с незапамятных времен утратили всякие следы изображения. Фраза учебника содержит целых два таких слова.
Арист. Вы, конечно, имеете в виду слова: бог и душа.
Полифил. Вы сами указали их, Арист. Эти два слова, истертые в течение столетий, не сохранили ни малейших следов образности. Они совершенно метафизицировались еще до всякой метафизики. Судите сами, может ли специалист по части абстрагирования упускать слова, как будто для него приготовленные, да не только как будто, а на самом деле, потому что безвестные толпы обработали их — правда бессознательно, но руководясь философским инстинктом.
Наконец, когда философам кажется, будто они мыслят что-то такое, чего не мыслил никто до них, и постигают нечто, никем еще не постигнутое, они чеканят новые слова. Эти последние, конечно, выходят из-под чекана гладкие, как фишки. Но бить их приходится поневоле из обычного, старого металла. И этого тоже нельзя упускать из виду.
Арист. Вы сказали, Полифил, если только я правильно вас понял, что метафизики говорят на языке, представляющем собой смесь терминов, которые частью заимствованы из просторечия, — из наиболее абстрактных, наиболее общих и наиболее негативных его элементов, — частью созданы искусственно из материала, заимствованного опять-таки у просторечия. К чему же вы клоните?
Полифил. Прежде всего согласитесь с тем, Арист, что на всех словах человеческого языка с самого начала было вытиснено изображение чего-нибудь материального и все они, в новизне своей, представляли определенный, чувственно-воспринимаемый образ. Нет такого термина, который не был бы первоначально знаком предмета, принадлежащего к этому миру форм и красок, звуков и запахов и всех иллюзий, безжалостно обольщающих чувства.
Только назвав дорогу прямой и тропинку извилистой, люди впервые дали выражение нравственной идее. Словарь их появился на свет чувственным, и чувственность эта до такой степени неотделима от самой его природы, что обнаруживается еще в терминах, которым общераспространенное понимание придало впоследствии бестелесную неопределенность, и даже в обозначениях, изобретенных искусством метафизиков для выражения высших абстракций. Даже они еще не свободны от непреодолимого материализма словаря, еще связаны каким-то корнем с исконной образностью человеческой речи.
Арист. Не спорю.
Полифил. Все эти слова, обезличенные употреблением или отшлифованные, или даже нарочно выкованные для каких-нибудь умозрительных построений, мы имеем возможность представить себе в их первоначальном виде. Химики получают реактивы, под действием которых проступают на папирусе или пергаменте стертые письмена. При помощи таких реактивов читают палимпсесты[309].
Если бы применить подобный метод к произведениям метафизиков, выявить первоначальное конкретное значение, невидимо пребывающее под новым, абстрактным, можно было бы обнаружить идеи чрезвычайно странные, а иной раз, быть может, и поучительные. Если хотите, Арист, попробуем вернуть форму и цвет, прежнюю жизнь словам, из которых состоит фраза моего маленького «учебника».
Душа обладает богом в той мере, в какой причастна абсолюту.
В нашей попытке сравнительная грамматика окажет нам ту помощь, какую химический реактив оказывает изучающим палимпсесты. Она покажет нам, какой смысл содержался в этом десятке слов, — конечно, не в момент возникновения языка, который теряется во тьме времен, но хотя бы в эпоху, предшествующую всем историческим воспоминаниям.
Душа, бог, мера, обладать, причастный — все эти слова можно возвести к их арийскому источнику. Абсолют разлагается на свои древние составные части. И вот, возвращая этим словам их ясный юный облик, получаем приблизительно следующее: Дыхание ладит с богатым в мерке части, получаемой во вполне развязанном.
Арист. Вы думаете, Полифил, из этого можно сделать какие-нибудь выводы?
Полифил. Да по меньшей мере тот вывод, что метафизики строят свои системы из утративших смысл обломков тех знаков, с помощью которых дикари выражали свои радости, желания и страхи.
Арист. Тут они подчиняются необходимым условиям, которые предписывает язык.
Полифил. Но задаваясь вопросом, унижает их эта общая участь или наполняет гордостью, я думаю о необычайных приключениях, в результате которых употребляемые ими термины перешли от своих частных значений к общим, от конкретного к абстрактному. Каким образом, например, душа, которая была горячим дыханием тела, до такой степени изменила свою сущность, что теперь можно сказать: «Это животное не имеет души», что значит буквально: «Этот дышащий не имеет дыхания». И как одно и то же название — бог — давалось последовательно метеору, фетишу, идолу и первопричине вещей. У этих ничтожных слогов великолепная судьба, которая меня даже пугает!
Устанавливая ее с точностью, мы познаем естественную историю метафизических идей. Надо бы проследить постепенные видоизменения смысла таких слов, как душа или дух, и установить, как мало-помалу определилось теперешнее их значение. Таким путем был бы пролит беспощадный свет на то, какую именно реальность эти слова выражают.
Арист. Вы говорите так, Полифил, словно идеи, связываемые с данным словом, зависящие от него, возникают, изменяются и умирают вместе с ним. И на том основании, что такие названия, как «бог», «душа», «дух», становились последовательно знаками разных, несходных между собой идей, вы рассчитываете уловить в истории данного названия жизнь и смерть этих идей. Наконец, вы делаете метафизическую мысль рабой ее собственного языка, страдающей всеми наследственными недугами употребляемых ею терминов. Эта затея до того безрассудна, что вы решились приоткрыть ее лишь намеками и не без опасений.
Полифил. Опасения мои относятся только к трудностям, которые ждут меня на этом пути. Каждое слово — лишь образ образа, лишь знак иллюзии. Ничего больше. И как только я узнаю, что абстрактное представляют мне с помощью стертых, обезличенных остатков древних образов и грубых иллюзий, я тотчас перестаю представлять себе это абстрактное, вижу только пепел конкретного и, вместо чистой идеи, — тонкий прах разбитых вдребезги фетишей, амулетов и идолов.
Арист. Но как же вы только что говорили, что язык метафизики сплошь весь отшлифован, словно сошел с точильного камня? Что же вы при этом имели в виду, как не то, что термины там очищены и абстрактны? И точильный камень, о котором шла речь, — разве это не данное им определение? А теперь вы вдруг забыли, что термины, употребляемые при изложении метафизических доктрин, всегда точно определены и, абстрагированные путем определения, не сохранили ничего из прежнего конкретного смысла.
Полифил. Да, вы определяете слова при помощи слов. Но разве от этого они перестают быть человеческими словами, то есть древними криками желания и ужаса, вырывавшимися у несчастных существ при виде игры света и теней, которые скрывали мир от их глаз? Как наши бедные предки — жители лесов и пещер, — мы тоже замкнуты в своих пяти чувствах, отгораживающих нас от вселенной. Мы думаем, что наши глаза обнаруживают ее, а они только возвращают нам наше собственное отражение. И чтобы выразить тревоги, вызываемые нашим неведением, у нас до сих пор есть только голос дикаря, его ставший немного более членораздельным лепет и чуть более благозвучный вой. Бот что такое человеческий язык, Арист.
Арист. Если вы презираете язык в устах философа, презирайте его и у других людей. Представители точных наук тоже пользуются словарем, который имеет своим истоком бормотанье первых людей, но тем не менее довольно точен. И математики, оперирующие, подобно нам, абстракциями, употребляют язык, который, как и наш, также можно вернуть к конкретности, раз это тоже человеческий язык. Вам не трудно было бы, Полифил, при желании, материализировать какую-нибудь геометрическую аксиому или алгебраическую формулу. Но этим вы не уничтожили бы их идеальное содержание. Наоборот, отнимая его, вы доказали бы, что оно было вложено в них.
Полифил. Конечно. Но и физик и геометр — совсем в другом положении, чем метафизик. В науках физических и математических точность терминологии зависит исключительно от степени соответствия названия обозначаемому предмету или явлению. Это надежный критерий. И поскольку название и предмет имеют одинаково чувственный характер, мы уверенно соединяем их друг с другом. Тут этимология, скрытый смысл термина не играют никакой роли. Значение слова слишком точно определено обозначаемым предметом чувственного мира, чтобы тут еще требовалось какое-то уточнение. Кому придет в голову уточнять такие понятия, как те, что связаны с химическими терминами «кислота» и «основание»? Вот почему было бы совершенно бессмысленно копаться в историческом прошлом обозначений, вошедших в научную терминологию. Химический термин, заняв свое место в системе, уже не должен сообщать нам о приключениях своей ветреной юности, когда он рыскал по горам и лесам. Теперь он уже не резвится больше. Его теперь можно охватить одним взглядом вместе с обозначенным им предметом и все время сличать их друг с другом. Вы говорили еще о геометре. Геометр тоже оперирует абстракциями, это бесспорно. Но математические абстракции весьма отличны от метафизических; они представляют собой отвлечения чувственно-воспринимаемых и поддающихся измерению свойств тел, составляя философию физики. Отсюда следует, что математические истины, сами по себе неосязаемые, все же поддаются постоянной сверке с природой, которая, никогда не высвобождая их полностью, в то же время не таит, что все они содержатся в ней. Их выражение — не в языке: оно — в самой природе вещей; именно — в категориях числа и пространства, в которых природа доступна восприятию человека. Поэтому язык математики, чтобы вполне отвечать своему назначению, должен только быть подчинен некиям неизменным условиям. Если каждый конкретный термин в нем обозначает абстракцию, то последняя имеет конкретное воспроизведение в природе. Это, если угодно, грубый рисунок, своего рода топорная, жесткая карикатура; при всем том это чувственно воспринимаемый образ. Слово применяется непосредственно к этому образу, так как оно — в том же плане, а оттуда без труда переносится на идею умопостигаемую, которая соответствует идее чувственно воспринимаемой. Иначе обстоит дело в метафизике, где абстракция — не очевидный результат опыта, как в физике, не плод воздействия умозрения на чувственно-воспринимаемую природу, как в математике, а исключительно продукт работы ума, извлекающей из предмета определенные качества, лишь для ума доступные и понятные, относительно которых известно только, что ум обладает их идеей, которую раскрывает другим лишь при помощи рассуждений и реальность которых не имеет, следовательно, никаких других гарантий, кроме слов. Если эти абстракции существуют действительно, сами по себе, они пребывают в сфере, доступной только уму, живут в мире, который вы называете абсолютом в противовес данному, о котором я скажу только, что в вашем смысле он не абсолютен. И если из этих двух миров один находится в другом, это их дело и меня не касается. Мне довольно знать, что один из них доступен чувственному восприятию, а другой — нет, и что доступный чувственному восприятию не умопостигаем, а умопостигаемый не доступен чувственному восприятию. Если так, слово и предмет не в состоянии примениться друг к другу, так как существуют не в одном месте, а врозь; они не могут друг друга узнать, раз находятся в разных мирах. В метафизическом смысле слово — либо весь предмет, либо оно знать ничего не знает о предмете.
Иначе могло бы быть лишь в том случае, если бы существовали слова, лишенные всякого чувственного содержания; но таких нет. Те, которые считаются абстрактными, таковы только в смысле их назначения. Они играют роль абстрактных, подобно тому как актер изображает тень отца Гамлета.
Арист. Вы видите трудности там, где их нет. Ум, абстрагируя или, если угодно, разлагая и, как вы только что сказали, дистиллируя природу, чтобы выделить ее сущность, в то же время абстрагировал, разлагал, дистиллировал слова, чтобы воспроизвести продукт своих трансцендентных операций, откуда следует, что обозначение в точности соответствует предмету,
Полифил. Но, Арист, я ведь вам довольно ясно доказал, и притом с разных точек зрения, что в словах абстрактное — только ослабленное конкретное. А конкретное, хотя бы усохшее, истощенное, все-таки остается конкретным. Не надо брать примера с тех женщин, которые, на основании своей худобы, хотят прослыть эфирными созданиями. Вы подражаете детям, которые извлекают из ветки бузины сердцевину, чтобы наделать из этой сердцевины фигурок. Как эти фигурки ни легки, они все-таки из бузины. Точно так же и ваши термины, называемые абстрактными, стали только менее конкретными. Если вы считаете их абсолютно абстрактными и совершенно отрешенными от их собственной подлинной природы, то это — чистая условность. Но если сами идеи, этими словами воспроизводимые, не являются чистыми условностями; если они реализованы не только в вас самих; если они пребывают в абсолюте или любом другом воображаемом месте, которое вы пожелаете указать; короче говоря, если они действительно «существуют», их нельзя обозначать словами: они — неизреченны. Назвать их — значит их отрицать; выразить — значит уничтожить. Ибо, обозначая абстрактную идею конкретным словом, мы делаем ее конкретной, и тотчас исчезает самая ее суть.
Арист. Но если я вам скажу, что как в отношении слова, так и в отношении идеи абстрактное — лишь ослабленное конкретное, все ваше построение рушится.
Полифил. Вы так не скажете. Это значило бы зачеркнуть всю метафизику и нанести слишком большой ущерб душе, богу, а в дальнейшем и его проповедникам. Мне прекрасно известно утверждение Гегеля о том, что конкретное есть абстрактное и абстрактное есть конкретное. Но ведь этот глубокомыслящий человек вывернул всю вашу науку наизнанку. Согласитесь, Арист, хотя бы ради соблюдения правил игры, что абстрактное противоположно конкретному. Таким образом, конкретное слово не может стать знаком абстрактной идеи. Оно может быть только ее символом, или, лучше сказать, аллегорией. Знак обозначает предмет и приводит его на память. Он лишен самостоятельной ценности. А символ замещает предмет. Он не указывает на него, а его представляет. Не приводит на память, а воспроизводит наглядно. Он — изображение. Он обладает самостоятельной реальностью и значением. Поэтому я правильно поступил, вскрывая смысл слов душа, бог, абсолют, которые являются символами, а не знаками.
Душа обладает богом в той мере, в какой причастна абсолюту.
Что это такое, как не сочетание маленьких символов, сильно стертых, не спорю, утративших свой блеск и живописность, но по самой своей природе остающихся символами? Образ в них сведен к схеме. Но схема — все еще образ. И я получил возможность, не погрешая против истины, заменить схему образом. У меня вышло следующее:
Дыхание ладит с богатым, в мерке части, получаемой во вполне развязанном (или неуловимом), — откуда без труда извлекаем: «Тот, чье дыхание — признак жизни, человек, займет место (очевидно, после того как дыхание улетучится) близ богатого, источника и очага жизни, и место это будет отведено ему соразмерно данной ему (надо думать, демонами) способности распространять это горячее дыхание, эту невидимую маленькую душу в свободном пространстве (небесной синеве, вероятно)».
Заметьте, между прочим: до чего это похоже на отрывок какого-нибудь ведийского гимна[310], до чего отзывается древней восточной мифологией! Не могу поручиться, что мне удалось восстановить этот первобытный миф по всей строгости законов, управляющих языком. Но это неважно. Довольно и того, что мы явно обнаружили присутствие символов и мифа в предложении, которое по самому существу своему имеет характер символический и мифологический, поскольку оно метафизично.
Мне кажется, я доказал вам с достаточной убедительностью, Арист: любое выражение абстрактной идеи может быть только аллегорией. По странной случайности те самые метафизики, которые считают, что умеют вырываться из мира видимостей, вынуждены вечно пребывать в аллегории. Унылые поэты, они лишают красочности древние сказки, а сами являются лишь собирателями сказок. Они создают бесцветную мифологию.
Арист. Прощайте, милый Полифил. Вам не удалось переубедить меня. Если бы вы рассуждали по правилам, мне было бы не трудно опровергнуть ваши доводы.
В АББАТСТВЕ[311]
Теодору де Визева[312]
Я навестил своего друга Жана в старом разрушенном аббатстве, где он живет уже десять лет. Он приветствовал меня со спокойной радостью отшельника, чуждого наших тревог и надежд, и повел вниз, в заброшенный плодовый сад, где курил по утрам свою глиняную трубку, среди поросших мхом сливовых деревьев. Там в ожидании завтрака мы сели с ним на скамью, за колченогий стол, у подножья полуразвалившейся стены, на которой мыльнянка помавала бледно-розовыми кистями своих в одно и то же время блеклых и свежих цветов. Влажный небесный свет дрожал на листьях тополей, лепечущих у дороги. Бесконечная тихая грусть плыла у нас над головой, вместе с бледно-серыми тучами.
Учтиво осведомившись, по старой привычке, о моем здоровье и делах, Жан, нахмурив лоб, медленно заговорил:
— Хотя я ничего не читаю, мое невежество не настолько тщательно ограждено, чтобы до меня, в мою пустыню, не дошел слух о возражении, с которым вы недавно выступили на второй полосе газеты против одного пророка[313], достаточно человеколюбивого, чтобы объявить науку и знание источником и родником, кладезем и водоемом всех страданий человечества… По утверждению этого пророка, если только мне правильно передали, чтобы сделать жизнь безгрешной и даже приятной, нужно только отказаться от мышления и познания, а единственное счастье, какое существует на свете, заключается в нерассуждающем кротком милосердии. Мудрые советы, благотворные правила! Только он напрасно вздумал их высказать и имел слабость опубликовать в изящном стиле, не замечая, что опровергать искусство искусством и ум умом — значит обречь себя на победу исключительно в интересах того же ума и искусства. Вы должны отдать мне справедливость, мой друг, что я не впал в это жалкое противоречие, а перестал мыслить и писать, с тех пор как признал мысль злом и писание пагубой. Эта мудрость открылась мне, как вы знаете, в 1882 году, после того как я опубликовал маленькое философское произведение, которое стоило мне огромного труда и которым философы пренебрегли из-за того, что оно хорошо написано. Я доказывал в нем, что мир недоступен пониманию, и рассердился, когда мне возразили, что я действительно не понял его. Я решил выступить на защиту своей книжки; но, перечитав ее, уже не мог уловить ее точного смысла. Я обнаружил, что пишу так же темно, как величайшие метафизики, и мне несправедливо отказывают в некоторой доле вызываемого ими преклонения. Это совершенно оттолкнуло меня от трансцендентальных умозрений. Я обратился к опытным наукам, стал изучать физиологию. Принципы ее вот уже тридцать лет как довольно прочно установлены. Они заключаются в том, чтобы хорошенько прикрепить лягушку булавками к пробковой пластинке, вскрыть ее и наблюдать нервы и трехкамерное сердце. Но я тотчас обнаружил, что при таком методе для познания великой тайны бытия не хватит человеческой жизни. Я постиг всю тщету чистой науки, охватывающей лишь бесконечно малую частицу явлений и улавливающей слишком мало связей, чтобы на этом можно было построить обоснованную систему. Я думал было кинуться в промышленность. Мне помешала моя душевная мягкость. Нет такого предприятия, относительно которого можно заранее сказать, что оно принесет больше добра, чем зла. Христофор Колумб, который жил и умер, как праведник, и ходил в одежде доброго св. Франциска[314], не стремился бы, конечно, открыть путь в Индию, если бы предвидел, что это открытие приведет к истреблению стольких племен краснокожих, разумеется порочных и жестоких, но чувствительных к боли, и что он привезет в старую Европу, вместе с золотом Нового света, дотоле неизвестные болезни и преступления. Я содрогнулся, когда вполне порядочные люди предложили мне вложить капитал в производство пушек, ружей и взрывчатых веществ, которое принесло им деньги и почести. Мне стало ясно, что так называемая цивилизация — не что иное, как ученое варварство, и я решил стать дикарем. В этой маленькой стране с непрерывно редеющим населением мне без большого труда удалось осуществить свой замысел в тридцати лье от Парижа. Вы видели на улице деревни развалины домов: все крестьянские сыновья уходят в город, покидая свои измельчавшие участки земли, которые не в состоянии их прокормить.
Можно предвидеть наступление такого момента, когда какой-нибудь предприимчивый человек, скупив эти поля, восстановит крупную собственность и мы, быть может, станем свидетелями того, как исчезнет в деревне мелкий земледелец, подобно тому как в городах уже начинает исчезать мелкий торговец. С ним будь что будет. Его судьба нисколько меня не интересует. Я купил за шесть тысяч франков остатки старинного аббатства с красивой каменной лестницей, ведущей на башню, и вот этим плодовым садом, которого я не возделываю. Я занимаюсь здесь тем, что сижу и смотрю на облака, плывущие в небе, или на белые веретена дикой моркови в траве. Это, конечно, лучше, чем потрошить лягушек или разрабатывать новый тип миноносца.
В ясные ночи, если я не сплю, я смотрю на звезды, вид которых доставляет мне удовольствие, с тех пор как я забыл их названия. У меня никто не бывает, я не знаю никаких забот. Я не делал шагов ни для того, чтобы зазвать вас в свое убежище, ни для того, чтобы помешать вашему посещению.
Я рад угостить вас яичницей, вином и табаком. Но не скрою, что мне еще приятней давать хлеб насущный своей собаке, своим кроликам и голубям, так как они, восстанавливая свои силы, находят им более удачное применение, чем писание душемутительных романов или отравляющих жизнь физиологических трактатов.
Тут красивая румяная девушка с голубыми глазами принесла яиц и бутылку легкого вина. Я спросил своего друга Жана, ненавидит ли он искусства и литературу так же, как науки.
— Нет, — ответил он. — В искусстве есть что-то наивное, обезоруживающее. Это — детская игра. Художники, скульпторы мазюкают картинки, делают куклы. Вот и все! В этом не было бы большой беды. Надо бы даже быть благодарными поэтам за то, что они пользуются словами только после того, как отнимут у них всякий смысл, — если бы несчастные, предающиеся этим развлечениям, не относились к ним серьезно и не делались от этого отвратительно себялюбивыми, раздражительными, нетерпимыми, завистливыми, одержимыми, безумными. Они связывают с этими глупостями мысль о славе. И это только доказывает, что они — не в себе. Потому что из всех иллюзий, которые могут возникнуть в больном мозгу, слава — самая нелепая и самая гибельная. Мне их просто жаль. Здесь земледельцы, ведя борозду, поют песни предков; пастухи, сидя на склонах холмов, вырезывают ножом фигурки из корня букса, а хозяйки накануне церковных праздников ставят тесто для хлебцев в форме голубя. Все это искусства невинные, не отравленные гордыней. Они легки и соответствуют человеческой слабости. Наоборот, городские искусства требуют усилия, а всякое усилие причиняет страдание.
Но особенно угнетает, обезображивает и калечит людей наука, связывающая их с предметами, совершенно им не свойственными по масштабам, искажая естественные условия их общения с природой. Она побуждает их к пониманию, тогда как совершенно очевидно, что животное создано, чтобы чувствовать, а не понимать; она развивает мозг — бесполезный орган — за счет органов полезных, которые у нас общие со зверями; она отвращает нас от наслаждения, в котором мы испытываем инстинктивную потребность; она терзает нас страшными призраками, показывая чудовищ, существующих только благодаря ей; она создает наше ничтожество — измеряя небесные светила; краткость нашей жизни — вычисляя возраст земли; наше бессилие — внушая нам мысль о присутствии того, чего мы не можем ни видеть, ни коснуться; наше невежество — беспрестанно сталкивая нас с непознаваемым, и нашу беспомощность — умножая наше любопытство, но оставляя его неудовлетворенным.
Я говорю о ее чисто умозрительных операциях. Переходя к практическим применениям, она изобретает лишь орудия пытки и машины, с помощью которых несчастные подвергаются казни. Загляните в какой-нибудь промышленный центр, спуститесь в шахту и скажите: разве то, что вы там увидите, не превосходит все муки ада, выдуманные самыми свирепыми теологами? Между тем по здравом размышлении начинаешь сомневаться, не вредят ли произведения промышленности богатым, которые ими пользуются, столько же, сколько и бедным, которые их производят, и не является ли роскошь худшим из всех жизненных зол. Я знал людей разного общественного положения, но не видал более жалких, чем одна светская дама — хорошенькая молодая женщина, которая ежегодно тратит в Париже пятьдесят тысяч франков на свои туалеты. Вот верный путь к неизлечимому нервному расстройству.
Красивая голубоглазая девушка с тупым и счастливым видом разлила нам кофе.
Мой друг Жан указал на нее концом трубки, которую только что набил.
— Посмотрите на эту девушку, которая ест только сало да хлеб, а вчера таскала вилами целые вороха соломы, — промолвил он. — У нее еще сор в волосах. Она счастлива и, как бы себя ни вела, безгрешна. Потому что это наука и цивилизация создали нравственное зло вместе с физическим. Я почти так же счастлив, как она, оттого что почти так же туп. Ни о чем не думая, я не испытываю больше никаких мучений. Бездействуя, я не боюсь поступить неправильно. Я даже не возделываю своего сада из опасения, как бы не совершить нечто такое, последствий чего я не могу учесть. Таким способом я соблюдаю полное спокойствие.
— На вашем месте я не сохранял бы такой невозмутимости, — возразил я. — Вы недостаточно полно подавили в себе познание, мышление и деятельность, чтобы иметь право наслаждаться покоем. Берегитесь. Как ни толкуй, жить — значит действовать. Вас пугают последствия научного открытия или изобретения, потому что они не поддаются учету. Но самая простая мысль, самый безотчетный поступок тоже дают результаты, которые не поддаются учету. Вы оказываете слишком большую честь уму, науке и промышленности, полагая, будто они одни своими руками плетут сеть судьбы. Немало ее петель сплетается бессознательными силами. Можно ли предугадать, какое действие произведет падающий с горы камешек? Оно может оказаться более значительным для судеб человечества, чем выход «Novum Organum»[315] или открытие электричества.
Не оригинальному, хорошо обдуманному и уж конечно не научному действию обязаны Александр или Наполеон своим появлением на свет. Тем не менее оно изменило миллионы человеческих судеб. Известны ли человеку подлинный вес и значение того, что он делает? В «Тысяче и одной ночи» есть сказка, которой я, помимо своей воли, не могу не придавать философского смысла. Это история арабского купца, который, возвращаясь из паломничества в Мекку, сел на берегу ручья и стал есть финики, кидая косточки вверх. Он попал косточкой в невидимого сына одного из духов и убил его. Бедному паломнику в голову не приходило, чтобы могло так получиться; когда ему сообщили о совершенном им преступлении, он прямо остолбенел. Он не подумал о том, какими последствиями чревато любое действие. Можем ли мы быть уверены, что, поднимая руку, не наносим, как этот купец, удар какому-нибудь парящему духу? На вашем месте я не был бы чужд тревоги. Кто вам сказал, мой друг, что ваш покой в этом аббатстве, покрытом побегами плюща и камнеломки, не является событием более важным для человечества, чем все открытия ученых, и не грозит поистине гибельными последствиями в будущем?
— Это мало вероятно.
— Но не исключено. Вы ведете необычный образ жизни. Высказываете странные мысли, которые можно записать и обнародовать. Одного этого достаточно, чтобы вы, при известных обстоятельствах, невольно и даже не подозревая об этом, сделались основателем целой религии, которую примут миллионы людей и, став от этого несчастными и злыми, истребят во имя вас тысячи себе подобных.
— Значит, надо умереть, чтобы быть безгрешным и спокойным?
— Опять-таки остерегитесь: умереть — значит совершить поступок, последствия которого не поддаются учету.
КОЛОДЕЗЬ СВЯТОЙ КЛАРЫ[316]
ПРОЛОГ Досточтимый отец Адоне Дони
Он был сведущ в учении о природе, в этике, а также в общеобразовательных науках и до тонкостей изучил искусства и ремесла (греч.).
Диоген Лаэртский IX, 37 *
Я жил в Сиене весной. Весь день занимался я кропотливыми изысканиями в городских архивах, а после ужина шел гулять по безлюдной дороге к Монте Оливето, где в сумерках рослые белые волы, запряженные попарно, тащили, как во времена древнего Эвандра[317], деревенскую повозку с колесами без спиц. Колокола в городе возвещали мирную кончину дня; и багрянец вечера с величавой грустью спускался на невысокую цепь холмов. Черные стаи ворон слетались на крепостные стены, и в опаловом небе только ястреб парил, не шевеля крылами, над одиноким ясенем.
Я шел навстречу тишине, уединению, и сердце сладостно замирало перед ужасами, которые вырастали впереди. Пелена ночи незаметно затягивала равнину. На небе мерцали беспредельно далеким взором звезды. А в темноте среди кустов любовным пламенем трепетали светлячки.
Этими живыми искрами в майские ночи усеяны сельские местности Рима, Умбрии и Тосканы. Когда-то я видел их на Аппиевой дороге, где они более двух тысячелетий водят хороводы вокруг гробницы Цецилии Метеллы[318]. Я вновь нашел их там, где родились св. Екатерина и Пиа де'Толомеи[319], у стен Сиены, скорбного и пленительного города. Вдоль всего моего пути они мигали в траве и в кустах, искали друг друга и порой, летя на зов желания, чертили над дорогой огненную дугу.
Единственный, кого я встречал на белеющей дороге в эти прозрачные ночи, был досточтимый отец Адоне Дони, который, подобно мне, целыми днями работал в старинной академии degli Intronati[320]. Мне сразу же полюбился старый францисканец, который хоть и поседел в служении науке, но сохранил веселый и приветливый нрав невежды. Он охотно вступал в беседу. Мне нравился его мягкий говор, красивый склад речи, ученость и непосредственность мысли, облик старого Силена[321], очищенного водами крещения, врожденное чувство юмора, игра страстей, пылких и утонченных, своеобразная и пленительная фантазия, одушевлявшая его. Усердный посетитель библиотеки, он бродил также по базару, останавливаясь преимущественно подле селянок, которые торгуют помидорами, и прислушиваясь к их вольным речам. По его словам, он учился у них прекрасному языку Тосканы.
О своей жизни он умалчивал, и я знал лишь, что, родившись в Витербе от бедных, но благородных родителей, он изучал в Риме гуманитарные науки и богословие, молодым вступил в братство ассизских францисканцев, где работал в архивах и где у него вышли неприятности с духовным начальством из-за вопросов веры. Я и в самом деле подметил у него своеобразие воззрений. Он был благочестив и образован, но не без чудачества. Он веровал в бога, полагаясь на свидетельство Священного писания и в согласии с учением церкви, и презирал простодушных философов, которые верили сами по себе, не будучи к тому обязанными. В этом он не отступал от канона. Своеобразны были его воззрения в том, что касалось дьявола. Он считал, что дьявол — зло, но не абсолютное, ибо природное несовершенство никогда не позволит ему достигнуть совершенства во зле. Он улавливал признаки доброты в безвестных деяниях Сатаны и, не отваживаясь отстаивать свой взгляд, видел в этом возможность для духа сомнения в конечном итоге быть помилованным на Страшном суде.
Эти странности мысли и нрава, которые отделили отца Адоне Дони от мира и повергли в одиночество, немало забавляли меня. Он был очень умен. У него только отсутствовало представление обо всем простом и обыденном. Он жил образами прошлого и мечтами о будущем. Чувство современности было ему совершенно чуждо. Политические его взгляды вели свое начало от основателей монастыря Санта-Мария дельи Анджели и от лондонских революционных сборищ[322]. Это были взгляды христианского социалиста. Он не очень ревностно придерживался их, слишком презирая человеческий разум, чтобы гордиться своей причастностью к нему. Государственная власть представлялась ему чудовищным шутовством, над которым он посмеивался потихоньку и деликатно, как подобает человеку со вкусом. Судьи, ведающие гражданскими и уголовными делами, несколько озадачивали его. На военных он смотрел с философской снисходительностью. В короткий срок я обнаружил у него разительные противоречия.
Всем своим любвеобильным сердцем он призывал всеобщий мир. Но вместе о тем одобрял гражданскую войну и питал большое уважение к Фаринате дельи Уберти[323], который настолько любил свой город Флоренцию, что, прибегнув к насилью и хитрости и обагрив Арбию[324] флорентинской кровью, принудил его действовать и думать так, как действовал и думал сам. Несмотря на это, досточтимый отец Адоне Дони был кротким мечтателем. Утверждения в здешнем мире царства божия он ожидал от духовного авторитета папского престола. Он полагал, что параклет наставляет пап на путь, неведомый им самим. А потому он благоговейно отзывался о рыкающем агнце из Синигальи и об орле-умиротворителе из Карпинето. Так он обычно называл Пия IX и Льва XIII[325].
Хотя беседа досточтимого отца Адоне Дони была для меня очень приятна, я, из уважения к его и моей свободе, избегал навязывать ему свое общество в городе. И он со своей стороны соблюдал в отношении меня отменную деликатность. Но во время прогулок мы умудрялись встречаться как бы невзначай. В полумиле от Римских ворот дорога пробивается между двух унылых плоскогорий, поросших мрачными лиственницами. Под оголенным склоном северного холма у самой дороги высится изящный железный навес высохшего колодезя. Именно там я чуть не каждый вечер встречал досточтимого отца Адоне Дони. Сидя на краю, засунув руки в рукава сутаны, он с тихим любопытством созерцал картину ночи. И сквозь окружающий мрак, окутывавший его, в его светлых глазах и на курносом лице еще можно было различить выражение робкого дерзания и чарующей иронии, прочно запечатлевшееся в них. Прежде всего мы обменивались торжественными пожеланиями доброго здоровья, мира и благоденствия. Потом я усаживался подле него на старой каменной закраине, где сохранились еще следы барельефа.
При дневном свете там можно было разглядеть фигуру, которая отличалась несоразмерно большой головой и, судя по крыльям, изображала ангела.
Досточтимый отец Адоне Дони неизменно говорил мне:
— Синьор, добро пожаловать к колодезю святой Клары.
В один из таких вечеров я спросил у него, почему этот колодезь носит имя любимицы святого Франциска. Он ответил мне, что тому причиной весьма умилительное и скромное чудо, которое, к сожалению, не вошло в сборник «Fioretti»[326]. Я попросил его рассказать мне об этом чуде.
Вот как повел он свою речь:
— В те времена, когда нищий во Христе, Франциск, сын Бернардоне, ходил из города в город и учил святой простоте и любви, он, вместе с возлюбленным своим братом Львом, посетил Сиену. Но жители Сиены, корыстолюбивые и жестокие, истые сыны волчицы[327], кичившиеся тем, что сосали ее молоко, неласково встретили святого, который советовал им принять к себе в дом двух дам совершенной красоты — Нищету и Послушание. Они осыпали его поношениями и насмешками и прогнали из города. Он вышел оттуда ночью, через Римские ворота. Брат Лев, шедший рядом, сказал ему:
— Жители Сиены написали на воротах своего города: «Сиена раскрывает вам свое сердце шире, нежели свои ворота». Однако же, брат Франциск, перед нами эти люди замкнули свое сердце.
И Франциск, сын Бернардоне, ответил:
— Будь уверен, брат Лев, агнец божий, что в том повинен я. У меня не хватило силы и умения, чтобы постучаться в двери их сердец. Мне далеко до тех людей, что заставляют плясать медведя на городской площади. Ибо они привлекают многочисленное сборище, показывая неуклюжего зверя, я же показывал дам неземной красоты и не привлек никого. Брат Лев, во имя святого послушания, приказываю тебе сказать: «Брат Франциск, ты жалкий человек, без всяких достоинств, лишенный благодати и поистине вредоносный». И так как брат Лев медлил, не решаясь послушаться, святой человек сокрушался в душе. Бредя темной дорогой, он вспоминал ласковый Ассизи, где оставил своих сыновей по духу и Клару, дочь своего сердца. Он знал, что Клара подвергается великим испытаниям во имя любви к святой Нищете. И он заподозрил, не больна ли телом и духом его возлюбленная дочь и не совращена ли с пути истинного в обители св. Дамиана.
Эти подозрения придавили его таким бременем, что, когда он дошел до места, где дорога пролегает между холмами, ему стало казаться, будто ноги его тяжелеют с каждым шагом и погружаются в землю. Он дотащился до этого колодезя, который красовался в ту пору своей новизной и был полон чистой воды, и упал без сил на ту самую закраину, где мы сидим сейчас. Божий человек долго просидел, склонясь над водоемом. А затем поднял голову и радостно обратился к брату Льву:
— Как думаешь, брат Лев, агнец божий, что я увидел в этом колодезе?
Брат Лев отвечал:
— Брат Франциск, ты увидел луну, которая отражается в этом колодезе.
— Брат мой, — возразил праведник божий, — не нашу сестру Луну увидел я в колодезе, а благодатной милостью вседержителя подлинный лик сестры Клары, да такой ясный, сияющий такой божественной радостью, что все мои подозрения мгновенно рассеялись и я уверился, что наша сестра вкушает сейчас полное блаженство, какое господь дарует своим избранницам, награждая их всеми сокровищами нищеты.
Сказав так, святой Франциск выпил из пригоршни несколько капель воды и поднялся, подкрепленный.
Вот почему этому колодезю дано имя святой Клары.
Таков был рассказ досточтимого отца Адоне Дони.
Каждый вечер заставал я любезного францисканца на закраине чудесного колодезя. Я усаживался подле него, и он рассказывал мне какую-нибудь историю, известную ему одному. А знавал он удивительные истории. Он лучше чем кто-либо изучил древние предания своей родины, которые оживали и молодели у него в голове, как в телесном и духовном источнике вечной юности. Яркие образы расцветали на его устах, обрамленных сединой. Пока он говорил, лунный свет струился по его бороде серебряным ручейком. Кузнечик стрекотанием надкрылий вторил голосу рассказчика, и порой на звуки самого нежного из человеческих наречий мелодичным стенанием откликалась жаба, которая дружелюбно и боязливо прислушивалась с другой стороны дороги.
Я покинул Сиену в половине июня. С тех пор я ни разу не видел досточтимого отца Адоне Дони, и он остался у меня в памяти точно образ сновидения. Я записал рассказы, которые слышал от него на дороге к Монте Оливето. Читатель найдет их в настоящей книге. Работая над ними, я стремился сохранить крупицы того обаяния, какое было у них подле колодезя святой Клары.
I. СВЯТОЙ САТИР
Альфонсу Доде
Consors paterni luminis,
Lux ipse lucis et dies,
Noctem canendo rumpimus:
Assiste postulantibus.
Aufer tenebras mentium;
Fuga catervas daemonum,
Expelle sonmolentiam,
Ne pigritantes obruat.
Breviarium romanurn. Feria tertia; ad matutinum.
О сопричастник радостный
Сияния отцовского,
Ты светоч светочей дневных,
Тебе поем в ночной тиши:
Рассей мрак заблуждения
И злые рати демонов,
Дремоту прочь от нас гони,
Она для нерадивых — смерть.
Римский молитвенник, Стихира третья; к заутрене (лат.).
Перевод С. Маркиша.
Фра Мино смирением своим возвысился над всей братией; будучи еще молодым, он мудро управлял монастырем Санта-Фиоре. Отличаясь благочестием, он много времени проводил в созерцании и молитве и нередко впадал в экстаз. По примеру св. Франциска, своего духовного отца, он слагал на родном итальянском языке песни о совершенной любви, какова любовь к богу. И эти творения не грешили ни против размера, ни против смысла, ибо он изучал семь свободных искусств в Болонском университете.
Но как-то вечером, прогуливаясь под аркадами обители, он почувствовал, что сердце его преисполнилось смятения и скорби при воспоминании о некоей флорентинской даме, которую он любил в юношеском возрасте, когда одежда последователей святого Франциска не ограждала еще его плоти. Он помолился, чтобы господь прогнал видение. Но в сердце его осталась скорбь.
«Колокола, подобно ангелам, поют: „Ave Maria“, — думал он, — но голоса их угасают в вечернем тумане. На стене нашей обители мастер, которым гордится Перуджа, чудесно живописал жен мироносиц, с несказанной любовью созерцающих тело спасителя. Но тьма скрыла слезы их очей и безмолвные рыдания их уст, и я не могу плакать вместе с ними. Колодезь посреди двора только что был усеян голубями, которые хотели напиться, но разлетелись, не найдя воды на закраине колодезя. И вот, господи, душа моя умолкла подобно колоколам, затмилась подобно мироносицам и высохла подобно колодезю. Отчего же, господи Иисусе Христе, сердце мое иссушено, омрачено и немо, когда ты для него утренняя заря, пение птиц и ручей, бегущий с холмов?»
Он не решался вернуться к себе в келью и, полагая, что молитва рассеет его скорбь и успокоит тревогу, через сводчатую дверь обители вошел в монастырскую церковь. Безмолвные сумерки наполняли здание, воздвигнутое великим Маргаритоне[328] более полутораста лет назад на развалинах римского храма. Фра Мино прошел через всю церковь и опустился на колени в алтарном приделе, посвященном архангелу Михаилу, чья история была изображена на стене. Но тусклый свет лампады под сводами не позволял разглядеть архангела, сражающегося с дьяволом и взвешивающего на весах души человеческие.
Только луна бросала в окно бледный луч на гробницу святого Сатира, поставленную в нише справа от алтаря. Эта гробница в виде чана была древнее самой церкви и в точности походила бы на саркофаги язычников, если бы не крест, трижды начертанный на мраморных стенках.
Фра Мино долго лежал простертый перед алтарем; но молиться у него не было сил, и среди ночи им овладело то же оцепенение, в которое, изнемогши, впали ученики Христовы в Гефсиманском саду[329]. И вот, когда он лежал так, безвольный и беззащитный, ему вдруг привиделось, будто белое облако поднимается над гробницей святого Сатира; вскоре он заметил, что облако состоит из множества облачков, и каждое из них — женщина. Они парили в темном воздухе; сквозь легкие туники светились легкие тела. И фра Мино увидел среди них козлоногих юношей, которые их преследовали. Нагота обнаруживала чудовищный пыл мужских желаний. Между тем нимфы спасались бегством; под их быстрыми ногами возникали цветущие луга и ручьи. И всякий раз, как козлоногий протягивал руку, надеясь схватить одну из них, внезапно вырастала ива, чтобы укрыть нимфу в своем дупле, точно в пещере, и светлая листва наполнялась легким лепетом и дразнящим смехом.
Когда все женщины укрылись под ивами, козлоногие, усевшись на скороспелой траве, принялись играть на тростниковых дудочках и извлекать из них звуки, перед которыми не устояло бы ни одно живое существо. Очарованные нимфы просунули головы между ветвей и, покинув тенистое убежище, приблизились шаг за шагом, привлеченные неотразимой свирелью. Тогда козлоногие в священном неистовстве накинулись на них. Сперва нимфы пытались еще шутить и насмехаться в объятиях дерзких захватчиков. Потом смех их затих. Запрокинув голову, закатывая глаза от блаженства и муки, они призывали свою мать или кричали: «Умираю», или хранили смятенное молчание.
Фра Мино хотел отвернуться, но не мог, и глаза его против воли оставались открыты.
Между тем нимфы, обвив руками бедра козлоногих, кусали, ласкали, дразнили своих косматых любовников и сплетясь с ними, окутывали, омывали их своей плотью, не менее трепетной и живительной, чем воды ручья, который струился подле них под ивами.
При этом зрелище фра Мино согрешил помыслом и намерением. Он пожелал быть одним из этих демонов, полулюдей-полуживотных и, как они своих возлюбленных, держать в объятиях флорентинскую даму, которую любил он в юных летах и которая умерла.
Но вот люди-козлы разбрелись по поляне. Одни собирали мед в дуплах дубов, другие вырезали свирели из тростника, или, наскакивая друг на друга, стукались рогатыми лбами. А безжизненные тела нимф, пленительные останки любви, усеивали луг. Фра Мино стенал на плитах храма, ибо он с такой силой возжаждал греха, что теперь ему приходилось до последней капли испить чашу унижения.
Вдруг одна из лежавших нимф, случайно обратив на него взгляд, воскликнула:
— Человек! Человек!
И пальцем указала на него подругам:
— Смотрите, сестры, это не пастух. Подле него не видно тростниковой свирели. И не хозяин одного из сельских жилищ, чьи садики лепятся по склону над виноградниками и находятся под покровительством Приапа[330], высеченного в стволе бука. Что ему нужно среди нас, если он не козий пастух, не волопас, не садовод? Вид у него мрачный и суровый и во взгляде незаметно любви к богам и богиням, населяющим безбрежное небо, леса и горы. На нем одежда варвара. Быть может, это скиф. Приблизимся же к чужеземцу, сестры, и узнаем у него, не врагом ли явился он к нам, чтобы замутить наши родники, вырубить наши леса, разрыть наши горы и выдать жестоким людям тайну наших блаженных жилищ. Идем со мной, Мнаис, идемте, Эгле, Неера и Мелибея.
— Идем! — ответила Мнаис. — Идем и возьмем с собой наше оружие!
— Идем! — вскричали все вместе.
И фра Мино увидел, как они поднялись, набрали охапки роз и, вооруженные розами и шипами, устремились к нему длинной вереницей. Но расстояние, которое сперва казалось ему ничтожным, так что он чуть ли не касался их и ощущал на себе их дыхание, неожиданно стало расти, и теперь они словно двигались из дальнего леса. Торопясь настичь его, они бежали и на бегу грозили ему своими колючими цветами. Угрозы слетали также с их цветущих уст. Но по мере того, как они приближались, в них совершалась перемена; с каждым шагом они теряли частицу своего очарования и свежести, и цвет их юности увядал вместе с розами, которые они несли. Сперва ввалились глаза и опустились углы рта. Шею, прежде гладкую и белую, прорезали глубокие складки, потом седые пряди упали на морщинистый лоб. Они подходили, и теперь уж краснота окаймляла глаза, губы прилипли к беззубым деснам. Они подходили, держа сухие розы в почерневших руках, скрюченных, точно старая лоза, которую крестьяне в Кьянти жгут зимними ночами. Они подходили, тряся головой и ковыляя на костлявых ногах.
Когда они достигли того места, где скованный ужасом лежал фра Мино, это были уже страшные ведьмы, лысые и бородатые, нос сходился с подбородком, иссохшие груди обвисли. Они окружили его.
— Ах! Какой красавчик, — сказала одна.
— Он бел, как полотно, и сердце у него бьется, как у затравленного зайца. Сестрица Эгле, как поступить с ним?
— Неера, душа моя, — отвечала Эгле, — рассечем ему грудь, вырвем сердце и взамен вложим губку.
— Ну, нет! — возразила Мелибея. — К чему так строго карать его за любопытство и за удовольствие созерцать нас. На этот раз достаточно слегка проучить его. Надо задать ему хорошую порку.
И тотчас, окружив монаха, сестры задрали ему сутану на голову и принялись стегать его колючими ветками, которые остались у них в руках.
Когда начала проступать кровь, Неера подала знак остановиться.
— Довольно! — сказала она, — это мой возлюбленный! Я заметила, с какой нежностью он смотрел на меня. Я хочу удовлетворить его желания и, не мешкая, отдаться ему.
Она улыбнулась; длинный черный зуб, торчавший у нее изо рта, щекотал ей нос.
— Приди, мой Адонис![331] — лепетала она. И вдруг, закричала, рассвирепев: — Фу! Фу! Его чувства невозмутимы. Такая холодность оскорбляет мою красоту. Он пренебрегает мною; подружки, отплатите за меня! Мнаис, Эгле, Мелибея, отплатите за вашу сестру!
На ее призыв все взмахнули колючими прутьями и так жестоко отхлестали несчастного фра Мино, что тело его вскоре превратилось в сплошную рану. Временами они останавливались, чтобы откашляться и сплюнуть, а затем с новыми силами принимались работать розгами. Успокоились они, лишь когда совсем обессилели.
— Надеюсь, — сказала тогда Неера, — что в другой раз он не посмеет нанести мне незаслуженную обиду, от которой я краснею до сих пор. Сохраним ему жизнь. Но если он выдаст тайну наших игр и забав, мы убьем его. До свидания, красавчик.
Сказав так, старуха присела над монахом и оросила его вонючей жидкостью. Остальные сестры последовали ее примеру, потом одна за другой вернулись к гробнице святого Сатира, куда проникли через щель в крышке, оставив свою жертву посреди нестерпимо смердящей лужи.
Но вот последняя из них скрылась, и пропел петух. Фра Мино нашел в себе, наконец, силы подняться. Разбитый усталостью и болью, застыв от холода, дрожа в лихорадке, чуть не задохшись от испарений зловонной влаги, он одернул на себе одежду и дотащился до своей кельи, когда уже брезжил день.
С этой ночи фра Мино не находил себе покоя. Воспоминание о том, что он видел в часовне архангела Михаила на гробнице святого Сатира, смущало его во время богослужения и благочестивых трудов. Дрожа, следовал он за братией в церковь; когда, согласно уставу, ему приходилось целовать плиты клироса, губы его с содроганием ощущали следы нимф, и он шептал: «Спаситель мой, разве не слышишь ты, что я взываю к тебе, как ты сам взывал к своему небесному отцу: „Не введи нас во искушение“?» Сперва он собрался послать архиепископу отчет о том, что видел. Но по зрелом размышлении решил, что лучше пораздумать хорошенько над этими необычайными происшествиями и, лишь тщательно изучив их, предать гласности. Кстати, в эту пору архиепископ, вступив в союз с Пизанскими гвельфами против флорентинских гиббелинов, воевал так ревностно, что по целым месяцам не снимал доспехов.
Вот отчего, не сказав никому ни слова, фра Мино занялся подробными изысканиями касательно гробницы святого Сатира и часовни, в которой она находилась. Искушенный в книжной премудрости, он перелистал как древние, так и новые книги, но никаких сведений оттуда не почерпнул. А сочинения, посвященные колдовству и чародейству, только усугубили его сомнения.
Однажды утром, проведя по своему обычаю всю ночь в трудах, он решил усладить себя загородной прогулкой. Он отправился по крутой тропе, окаймленной виноградниками вперемежку с купами молодых вязов и ведущей к роще мирт и олив, которая некогда считалась у римлян священной. Погружая ноги в сырую траву, освежая голову росой, капавшей с веток калины, фра Мино долго бродил по лесу, пока не натолкнулся на родник, над которым тамариски мягко покачивали легкую листву и пушистые розовые грозди. Внизу, там, где родник шире разливался между ивами, в воде неподвижно стояли цапли. Птички пели на миртовых ветвях. Аромат влажной мяты поднимался с земли, а в траве мерцали те цветочки, о которых господь наш сказал, что царь Соломон во славе своей не одевался так, как всякий из них. Фра Мино сел на замшелый камень и, славя господа, сотворившего небо и росу, задумался над тайнами, скрытыми в природе.
Память о виденном в часовне не покидала его ни на миг, и потому, склонясь головой на руки, он допытывался в тысячный раз, что означает этот сон. «Ибо, — думал он, — такое видение должно иметь смысл, даже не один, а несколько смыслов, и мне должно их раскрыть, будь то по внезапному наитию, будь то с помощью точного применения законов схоластики. И я полагаю, что и этом особом случае поэты, которых изучал я в Болонье, как-то. Гораций-сатирик и Стаций[332], могут быть мне весьма полезны, ибо много правды примешано к их вымыслам».
Перебрав в уме эти мысли, а также другие, еще более искусительные, фра Мино поднял взор и увидел, что он не один. Прислонясь к дуплистому стволу дряхлого ясеня, какой-то старец глядел сквозь листву на небо и улыбался. На седеющем темени торчали притупившиеся рожки. Курносое лицо обрамляла белая борода, сквозь которую виднелись наросты на шее. Жесткие волосы покрывали его грудь. Ноги с раздвоенным копытом от ляжки до ступни поросли густой шерстью. Он приложил к губам тростниковую свирель и принялся извлекать из нее слабые звуки. А потом запел еле внятным голосом:
Она убегала, смеясь, Держа золотистую гроздь, Но все же ее я настиг, И зубы мои раздавили Плоды у нее на губах.Увидев и услышав все это, фра Мино осенил себя крестным знамением. Но старец не смутился и лишь обратил на монаха простодушный взор. Его голубые и ясные глаза блестели на изборожденном морщинами лице, как вода ручейка меж корявых дубов.
— Человек или зверь, — воскликнул Мино, — именем спасителя заклинаю тебя: скажи, кто ты?
— Сын мой, — отвечал старец, — я святой Сатир! Говори потише, чтобы не вспугнуть птиц.
Фра Мино заговорил вновь, приглушив голос:
— Старик, раз ты не бежал от грозного знамения креста, я не могу принять тебя за демона или нечистого духа, выходца ада. Но если на самом деле ты, как говоришь, человек, или, вернее, душа человека, приобщенного к лику святых трудами праведной жизни и благодатью господа нашего Иисуса Христа, объясни мне, пожалуйста, откуда у тебя столь непостижимое отличие: козлиные рога и косматые ноги с черными раздвоенными копытами?
В ответ старец поднял руки к небесам и сказал:
— Сын мой, природа людей, животных, растений и камней — это тайна бессмертных богов, и мне, как тебе, неведомо, по какой причине мой лоб украшен рогами, которые нимфы когда-то увивали гирляндами цветов. Мне неизвестно, зачем на шее у меня висят два нароста, а ноги — как у задорного козла. Могу лишь поведать тебе, сын мой, что раньше в этих лесах обитали женщины с такими же рогатыми лбами и мохнатыми ляжками. Но грудь у них была округлая и белая. А живот и точеные бедра так и сверкали. Солнце, еще юное тогда, любило пронизывать их сквозь листву своими золотыми стрелами. Они были прекрасны, сын мой! Увы, ни одной из них не осталось в лесах. Существа, подобные мне, погибли вместе с ними. Из всего моего племени только я и уцелел по сей день. Я очень стар.
— Старик, скажи мне, кто ты, откуда, сколько тебе лет?
— Сын мой, я был рожден Землею задолго до того, как Юпитер низверг Сатурна[333], и глаза мои созерцали цветущую юность мира. Род человеческий еще не вышел из персти. Вместе со мной одни резвые сатирессы мерным топотом раздвоенных копыт оглашали долы. Они были выше, сильнее и красивее нимф и женщин; и широкое лоно их в изобилии принимало семя первенцев Земли.
Под властью Юпитера в источниках, в лесах и горах поселились нимфы. Фавны, сплетаясь с нимфами, вели легкие хороводы в чащах лесов. Между тем я жил счастливо, вволю лакомясь гроздьями дикого винограда и устами веселых дриад. И наслаждался мирным сном в густой траве. На самодельной свирели я восхвалял Юпитера, как прежде Сатурна, потому что в природе моей славить богов, властителей мира.
Увы! И я состарился, ибо я только бог, и века посеребрили волосы у меня на голове и на груди; они погасили пыл моих чресел. Я был уже обременен годами, когда умер великий Пан[334], а Юпитер, претерпев ту же участь, какой он подверг Сатурна, был низложен Галилеянином[335]. С тех пор я начал хиреть и чахнуть, а под конец даже умер и был похоронен в гробнице. И поистине я только тень самого себя. Если же я еще хоть отчасти существую, то потому лишь, что в мире не пропадает ничего и никому не дано умереть совсем. Смерть не совершенней жизни. Живые существа, затерянные в океане материи, подобны волнам, которые на глазах у тебя, дитя мое, вздымаются и опадают в Адриатическом море. У них нет ни начала, ни конца, они рождаются и гибнут незаметно. Незаметно, как они, иссякает моя душа. Смутная память о сатирессах золотого века еще оживляет мой взор, а на губах у меня беззвучно порхают античные гимны.
Сказав так, он умолк. Фра Мино взглянул на старца и понял, что тот лишь призрак.
— В том, что ты, будучи козлоногим, все же не демон, неправдоподобия нет, — сказал он. — Твари, созданные богом, но не причастные к наследию Адама, не могут быть обречены на проклятие, как не могут и чаять спасения. Мне не верится, чтобы кентавр Хирон, который был мудрее человека, ныне терпел вечные муки в пасти Левиафана[336]. Путешественник, проникший в лимб[337], рассказывал, будто видел, как Хирон, сидя на траве, беседовал с Рифеем, самым праведным из троянцев. Другие же утверждают, что для троянца Рифея раскрылся божий рай. И сомнение дозволено на этот предмет. Однако ты солгал мне, старик, — не можешь ты быть святым, не будучи человеком.
Козлоногий отвечал:
— Сын мой, в годы моей юности я так же был чужд лжи, как овцы, чье молоко я сосал, и козлы, с которыми бодался, радуясь своей силе и красоте. Ничто не лгало в те времена, и шерсть баранов не принимала еще обманчивых окрасок; я не переменился с тех пор. Взгляни, я так же наг, как в золотые дни Сатурна. И ум мой лишен покровов, как и тело. Я отнюдь не лгу. И что удивительного в том, сын мой, если я стал святым перед лицом Галилеянина, хотя и не вышел из чрева той матери, которую одни называют Евой, другие Пиррой[338] и которую надлежит почитать под этими обоими именами? Архангел Михаил тоже не был рожден от женщины. Я знаю его, мы с ним нередко ведем беседы. Он рассказывает мне о тех временах, когда был волопасом на горе Гарган.
Фра Мино перебил сатира:
— Я не позволю называть архангела Михаила волопасом из-за того, что он стерег волов человека, именовавшегося, как и гора, Гарганом. Но поведай мне, старик, как ты был приобщен к лику святых?
— Слушай же, — отвечал козлоногий, — и любопытство твое будет удовлетворено.
Когда люди, пришедшие с Востока, возвестили в мирной долине Арно, что Галилеянин ниспроверг Юпитера, они срубили дубы, на ветви которых крестьяне вешали глиняные фигурки богинь и таблички с обетами, они водрузили кресты над священными источниками и запретили пастухам носить в гроты нимф дары вином, молоком и сотами. Племя фавнов, панов и сильванов справедливо оскорбилось этим. Свой гнев оно обрушило на вестников нового бога. Ночью, когда апостолы спали на ложе из сухих листьев, нимфы дергали их за бороду, а молодые фавны, прокрадываясь в хлев к святым мужам, вырывали волосы из хвоста их ослицы. Тщетно пытался я обуздать их бесхитростную злобу и побудить их к покорности. «Дети, — говорил я им, — время резвых игр и задорных шуток прошло». Но они, беспечные, не послушались меня. За это их постигла беда.
Мне же, видевшему конец владычества Сатурна, мне казалось естественным и справедливым, чтобы Юпитер погиб в свой черед. Я примирился с падением великих богов. Я не противился посланцам Галилеянина. И даже оказывал им мелкие услуги. Лучше их зная лесные тропки, я собирал тутовые и терновые ягоды и клал на листья у их пещер. Я приносил им также яйца ржанки. А если они строили хижину, я на спине таскал им дерево и камень. Взамен они окропили мое темя водой и пожелали мне мира во Христе.
Я жил с ними и подобно им. Те, кто любил их, любил и меня. Как почитали их, так стали чтить меня и в святости приравнивать к ним.
Я говорил тебе, сын мой, что в ту пору я был уже очень стар. Солнце с трудом прогревало мое окоченевшее тело. Я уподобился старому дуплистому дереву, утратившему свежую певучую листву. С каждой осенью приближался мой конец. Однажды в зимнее утро меня нашли простертым без движения на краю дороги.
Епископ в сопровождении своих священнослужителей и всего народа совершил обряд погребения. Потом меня положили в большую гробницу из белого мрамора, где троекратно начертан крест, а на передней стенке в гирлянде из винограда стоит имя святого Сатира.
В те времена, сын мой, гробницы сооружались вдоль дорог. Мою поставили в двух милях от города, на пути во Флоренцию. Молодой платан вырос над ней и покрыл ее своей тенью, перемежающейся светом и полной птичьего гомона, шелеста, свежести и веселья. Неподалеку по мшистому ложу струился ручей; юноши и девушки, смеясь, приходили вместе купаться в нем. Это чудесное место почиталось святым. Молодые матери приносили туда своих младенцев и заставляли прикоснуться к мрамору саркофага, чтобы они стали крепки и стройны телом. Во всем краю было распространено верование, что новорожденные, которых приносят к моей могиле, со временем превзойдут всех силой и отвагой. Вот почему ко мне несли самый цвет благородного тосканского племени. Селяне приводили также своих ослиц в надежде, что они понесут. Память мою свято чтили. Каждый год с наступлением весны епископ в сопутствии всего клира приходил совершить молебствие у моей могилы, и я видел, как издалека по полям движется под пение псалмов процессия с крестами и светильниками, с пурпурным балдахином. Так было, сын мой, во времена доброго короля Беренгария[339].
Между тем сатиры и сатирессы, фавны и нимфы влачили жалкую, бродячую жизнь. Для них не стало алтарей из дерна, не стало цветочных венков, не стало приношений молоком, мукой и медом. Разве что время от времени какой-нибудь козопас тайком клал небольшой сыр на порог священного грота, ибо вход туда успел порасти колючим терновником. К тому же кролики и белки пожирали эти убогие дары. Нимфы, обитательницы лесов и темных пещер, были изгнаны из своих жилищ пришедшими с Востока апостолами. А чтобы они не могли туда воротиться, служители галилейского бога кропили деревья и камни чародейной водой, произносили магические слова и водружали кресты на перепутьях в лесах; ибо Галилеянин, сын мой, опытен в искусстве волхования. Лучше Сатурна и Юпитера знает он силу заклинаний и знамений. И потому бедные сельские божества не находили себе пристанища в своих священных чащах. Хоровод косматых козлоногих божков, звонким копытом топтавших прежде родимую землю, скользил по склонам холмов дымкой бледных и безгласных теней, подобной утреннему туману, который рассеивается от лучей солнца.
Гонимые божьим гневом, точно яростным ветром, эти призраки целый день кружились в придорожной пыли. Ночь была им менее враждебна. Ночь не всецело принадлежит галилейскому богу. Ее он делит с демонами. Когда мрак спускался с холмов, фавны и дриады, нимфы и паны спешили укрыться близ гробниц, окаймляющих дороги, и тут под благостной властью адских сил вкушали недолгий покой. Всем другим гробницам они предпочитали мою, как гробницу почитаемого предка. Вскоре они все собрались под той частью карниза, что была обращена на юг, а потому не покрыта мхом и всегда суха. Их легкокрылое племя неизменно из вечера в вечер слеталось туда, как голуби на голубятню. Они без труда помещались там, так как стали совсем маленькими и подобными легкой пыли, которая поднимается от веялки. И сам я, выходя из своего безмолвного жилища, усаживался порой среди них под сенью мраморной кровли и слабым, как вздох, голосом пел им о днях Сатурна и Юпитера; и им вспоминалось минувшее блаженство. Под взором Дианы они воскрешали друг для друга подобие античных игр, и запоздалому путнику казалось, будто пар от лугов вьется при лунном свете, точно сплетенные тела любовников. Они и в самом деле были теперь лишь легким туманом. Холод причинял им много страданий. Однажды ночью, когда снег покрыл поля, нимфы Эгле, Неера, Мнаис и Мелибея проскользнули сквозь расселины мрамора в мое тесное и мрачное жилище. Подруги толпой последовали за ними, а фавны, бросившись вдогонку, вскоре настигли их. Мой дом стал их домом. Мы покидали его только затем, чтобы ясной ночью отправиться в лес. Да и то они все спешили вернуться прежде, чем запоет петух. Ибо, надо сказать тебе, сын мой, мне одному из породы козлоногих дозволено показываться на земле при свете дня. Это преимущество даровано мне, как причтенному к лику святых.
Моя могила более чем когда-либо внушала благоговение жителям селений, и не было дня, чтобы молодые матери не приносили ко мне своих младенцев, высоко поднимая их, голеньких, на руках. Когда сыны святого Франциска поселились в здешних краях и стали строить монастырь на склоне холма, они испросили у архиепископа разрешение поставить мою гробницу в монастырской церкви. Архиепископ внял их просьбе, и меня с великой пышностью перенесли в часовню архангела Михаила, где я покоюсь до сих пор. Мое семейство, сыны и дочери природы, переселилось вместе со мной. Это была большая честь, но, признаюсь, я пожалел о проезжей дороге, где на заре мимо меня шли крестьянки, неся на голове корзины с виноградом, фигами и баклажанами. Время ничуть не смягчило моих сожалений, и мне хотелось бы по-прежнему лежать под платаном священной дороги.
Такова моя жизнь, — добавил козлоногий старец. — Радостно, мирно и скрытно прошла она через все земные времена. Если доля грусти примешивалась в ней к веселью, значит на то была воля богов. О сын мой, воздадим хвалу богам, властителям мира!
Фра Мино задумался.
— Я понимаю теперь смысл того, что увидел недоброй ночью в часовне архангела Михаила, — промолвил он. — И все же есть нечто по-прежнему неясное для меня. Скажи мне, старик, почему нимфы, которые живут у тебя и отдаются фавнам, превратились в отвратительных старух, когда приблизились ко мне?
— Увы, сын мой, — отвечал святой Сатир, — время не щадит ни людей, ни богов. Последние бессмертны лишь в представлении недолговечных людей. На самом деле они тоже ощущают бремя лет и клонятся с веками к неотвратимому закату. Нимфы стареют подобно женщинам. Нет такой красавицы, которая не стала бы уродиной. Нет такой нимфы, которая не стала бы старой ведьмой. Тебе довелось созерцать забавы моего семейства, значит ты видел, как память о минувшей юности красит нимф и фавнов в минуты любви и как воскресший пыл воскрешает их красоту. Но разрушительные следы веков вскоре проступают вновь. Увы! Увы! племя нимф состарилось и одряхлело.
Фра Мино спросил еще:
— Старик, если верно, что ты неисповедимыми путями достиг небесного блаженства, если верно, хоть и нелепо, что ты стал святым, как можешь ты жить в могиле вместе с призраками, не умеющими славить бога и оскверняющими своим распутством дом господень? Отвечай же, старик!
Но козлоногий святой, не ответив, медленно растаял в воздухе.
Сидя на мшистом камне подле родника, фра Мино размышлял над рассказом, который услышал, и сквозь густой мрак прозревал чудесные откровения.
«Этот святой Сатир, — думал он, — подобен Сивилле, которая в храме ложных богов возвещала народам Спасителя[340]. Тина давних заблуждений еще облепляет копыта его ног, но чело его купается в свете, а уста исповедуют истину».
Когда тени от буков протянулись по траве косогора, монах поднялся с камня и спустился узкой тропинкой, ведущей к монастырю сынов св. Франциска. Но он не смел созерцать цветы, спящие на водах, потому что видел в них образы нимф. Он возвратился к себе в келью в тот час, когда колокола звали к молитве богородице. В келье, небольшой и белой, не было ничего, кроме кровати, скамейки и высокого налоя, каким пользуются писцы. На стене один из нищенствующих братьев изобразил некогда, в манере Джотто, мироносиц у подножия креста. Под картиной, на деревянной полке, темной и блестящей, как балки в давильнях, стояли книги, одни духовные, другие — светские, ибо фра Мино изучал древних поэтов, чтобы прославлять господа во всех людских творениях, и благоговел перед Вергилием за то, что он предрек рождение Спасителя[341], когда, обращаясь к народам, мантуанец возвестил: «Jam redit et Virgo»[342].
Из стоявшего на подоконнике кувшина грубого фаянса тянулся стебель лилии. Фра Мино отрадно было читать имя пресвятой девы, начертанное золотой пыльцой в чашечке лилий. Окно, прорезанное под самым потолком, было невелико; но в него видно было небо над фиолетовыми холмами.
Запершись в этой мирной усыпальнице своей жизни и желаний, Мино сел к узкому налою, над которым выступала двойная полка. Здесь он обычно предавался ученым занятиям. И сейчас, обмакнув тростинку в чернильницу, укрепленную сбоку у ящика, где хранились листки пергамента, кисти, трубочки с красками и золотой порошок, он попросил мух, во имя господа, не докучать ему и принялся писать отчет обо всем, что видел и слышал в часовне архангела Михаила недоброй ночью и сегодня в лесу, подле родника. Сперва он начертал на пергаменте следующие строки:
«Вот что видел и слышал фра Мино из ордена миноритов и о чем свидетельствует в назидание верующим. Во славу господа Иисуса Христа и в похвалу блаженному нищему во Христе, святому Франциску. Аминь».
Затем он изложил письменно, ничего не упуская, то, что узнал о нимфах, которые превратились в старых ведьм, и о рогатом старце, чей голос шелестел в лесу, как последний вздох античной свирели и как прелюдия священной арфы. Пока он писал, за окном пели птицы; и ночь постепенно стирала яркие краски дня. Монах зажег лампаду и продолжал писать. Пересказывая чудеса, которых был свидетелем, он попутно объяснял, в согласии с правилами схоластики, их прямой смысл и смысл иносказательный. И подобно тому, как города обносят стенами и башнями, дабы сделать их неприступными, так и он подкреплял свои доводы цитатами из Священного писания. Из ниспосланных ему удивительных откровений он заключал: во-первых, что Иисус Христос — владыка всех тварей, что он бог сатиров и панов, так же как и людей. Потому-то св. Иероним видел в пустыне кентавров, которые исповедовали веру Христову; во-вторых, что господь просветил идолопоклонников крупицами истины, дабы они могли спастись. Так же и сивиллы Кумская, Египетская и Дельфийская явили сквозь тьму язычества ясли, лозы, тростниковый жезл, терновый венец и крест. И по той же причине блаженный Августин допустил сивиллу Эритрейскую в град божий. Фра Мино возблагодарил господа, открывшего ему эту премудрость. Великая радость охватила его душу при мысли, что Вергилий находится в сонме избранных. И он с легким сердцем написал в конце последнего листка:
«Сие есть откровение брата Мино, нищего во Христе. Я видел нимб святых над рогатым лбом Сатира, как знак того, что Иисус Христос освободил из лимба мудрецов и поэтов древности».
Была уже глубокая ночь, когда, окончив свое дело, фра Мино лег на кровать, чтобы вкусить немного покоя. Когда он уже задремал, в окно с лунным лучом проникла какая-то старуха. Он узнал в ней самую омерзительную из ведьм, которых видел в часовне архангела Михаила.
— Что ты сделал сегодня, красавчик мой? — обратилась она к нему. — Ведь мы, я и мои милые сестры, предостерегали тебя от раскрытия наших тайн. Если же ты предашь нас, мы тебя убьем. А меня это очень огорчит, ибо я нежно люблю тебя.
Она принялась обнимать его, называла своим божественным Адонисом, своим белым осликом и осыпала страстными ласками.
Когда же он оттолкнул ее с отвращением, она сказала:
— Дитя, ты пренебрегаешь мной, потому что веки у меня покраснели, ноздри источены едкой и вонючей влагой, которая сочится из них, а десны мои украшает один-единственный зуб, зато огромный и черный. Это верно, что такова ныне твоя Неера. Но если ты полюбишь меня, то через тебя и для тебя я стану той, какой была в золотые дни Сатурна, когда моя юность расцветала в цветущей юности мира. Ибо любовь, о мой юный бог, красит собой все. Чтобы вернуть мне красоту, от тебя требуется немного мужества. Итак, Мино, подбодрись!
При этих словах, сопровождаемых жестами, фра Мино почувствовал, что от ужаса и отвращения теряет сознание, и соскользнул с кровати на пол. Но, падая, он сквозь полусомкнутые веки увидел нимфу дивной красоты, чье нагое тело обволакивало его, точно пролитое молоко.
Он проснулся среди белого дня, совсем разбитый ночным падением. По налою были разбросаны листки пергамента, исписанные им накануне. Он перечитал их, сложил, запечатал своей печатью, спрятал под сутану и, невзирая на угрозы, которые дважды повторили ему старые ведьмы, понес свои разоблачения к архиепископу, чей дворец высился своими зубцами посреди города. Архиепископа он застал в большой зале в кругу его ландскнехтов. Прелат как раз надевал шпоры, готовясь в поход против флорентинских гибеллинов. Он спросил монаха, какое дело привело его, и, получив ответ, предложил ему немедленно прочесть донесение. Фра Мино повиновался. Архиепископ прослушал чтение до конца. Он не обладал особыми познаниями касательно призраков; зато он был исполнен пламенного рвения ко всему, что затрагивало вопросы веры. Невзирая на военные заботы, он без промедления поручил двенадцати прославленным докторам богословия и церковного права изучить все обстоятельства и поскорее сделать выводы. По зрелом обсуждении и после неоднократных расспросов фра Мино ученые решили, что следует открыть гробницу святого Сатира в часовне св. Михаила и произнести над ней усиленные заклинания. По вопросам догмата, поднятым фра Мино, они не высказывались определенно, склоняясь, однако, к тому, чтобы признать доводы францисканца дерзким и легкомысленным новшеством.
В согласии с мнением ученых и по приказу архиепископа гробница святого Сатира была открыта. Она содержала лишь горсточку пепла, которую патеры окропили святой водой. Тогда над гробницей поднялся белый пар, откуда неслись еле слышные стенания.
В ночь после этого благочестивого обряда фра Мино приснилось, будто старые ведьмы склонились над его постелью и вырвали у него сердце. Он встал на рассвете, мучаясь острой болью и сгорая от жгучей жажды. С трудом доплелся он до монастырского колодезя, куда слетались пить голуби. Но едва он проглотил несколько капель воды, скопившейся во впадине на краю колодезя, как почувствовал, что сердце его набухло точно губка, и, простонав: «Боже мой!» — он умер от удушья.
II. МЕССЕР ГВИДО КАВАЛЬКАНТИ[343]
Жюлю Леметру[344]
Guido di Messer Cavalcante de' Cavalcanti fu un de' migliori loici che avesse il mondo, et ottimo filosofo naturale… E percio che egli alquanto tenea della opinione degli Epicuri, si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse.
(Il Decameron di Messer Giovanni Boccaccio, giornata sesta, novella IX).[345]
D. I. M.
NON. FVI. ME
MINI. NON. SVM
NON. CVRO. DO.
NNIA. ITALIA. AN
NORVM. XX. НIС
QVIESCO[346]
Надгробный камень Доннии Италии
согласно чтению г-на Шона-Франсуа Бладэ.
В двадцать лет мессер Гвидо Кавальканти был бесспорно самым красивым и статным из знатных флорентинских юношей. Длинные волосы его, выбиваясь из-под шапочки, ниспадали на лоб иссиня-черными кудрями, а золотистые глаза светились ослепительным блеском. У него были руки Геркулеса и пальцы нимфы. В плечах он был широк, но станом тонок и гибок. Он славился умением объезжать норовистых коней, а также владеть тяжелым оружием и не имел соперников в метании колец. Когда он проходил по городу, чтобы прослушать мессу у Сан-Джованни или у Сан-Микеле, либо гулял вдоль берега Арно, по лугам, расцвеченным наподобие красивой картины, встречавшиеся ему приятные дамы неизменно говорили между собой, краснея: «Вот мессер Гвидо, сын синьора Кавальканте деи Кавальканти. Право же, он красив, как святой Георгий!» Рассказывают, будто мадонна Джемма, супруга Сандро Буйамонте, послала однажды к нему свою кормилицу и велела передать, что любит его всем сердцем и что эта любовь сведет ее в могилу. Не менее желанным гостем был он среди знатных молодых флорентинцев, которые составляли в ту пору содружества, чтобы чествовать друг друга, пировать, играть, охотиться, и во взаимной любви нередко доходили до того, что даже одежду носили одинаковую. Но он равно избегал общества дам и сборищ молодых людей, его гордому и замкнутому нраву приятно было только одиночество.
Нередко он по целым дням просиживал взаперти у себя в опочивальне и один отправлялся гулять под ясенями Эмской дороги в тот час, когда первые звезды зажигаются на бледном небе. Если ему случайно попадался навстречу кто-нибудь из его сверстников, он никогда не шутил и ронял скупые слова. Да и то довольно туманные. Такое странное поведение и загадочные речи огорчали его приятелей. Мессер Бетто Брунелески печалился больше других, потому что он всей душой любил мессера Гвидо и страстно желал вовлечь его в братство, куда входили самые богатые и самые красивые кавалеры Флоренции и где сам он был общей гордостью и утехой. Ибо мессер Бетто Брунелески почитался образцом рыцарства и наиболее ловким наездником во всей Тоскане, после мессера Гвидо.
Однажды, когда мессер Гвидо входил в портал собора Санта-Мария-Новелла, где монахи ордена св. Доминика хранили множество книг, привезенных греками, мессер Бетто, проезжавший в ту минуту по площади, поспешно окликнул его.
— Эй! друг Гвидо, — позвал он, — куда вы направляетесь в такой ясный день? На мой взгляд, он манит в горы поохотиться на птиц, а не прятаться в монастырской тени! Окажите мне милость, поедемте на мою виллу в Ареццо; я поиграю вам на флейте, чтобы порадоваться вашей улыбке.
— Покорно благодарю! — отвечал мессер Гвидо, даже не обернувшись. — Я спешу на свидание с моей дамой.
И он вступил в церковь, прошел через нее быстрыми шагами, уделив не более внимания святым дарам, выставленным на престоле, нежели мессеру Бетто, который так и застыл у паперти верхом на коне, ошеломленный тем, что ему пришлось услышать; через низенькую дверцу мессер Гвидо проник в монастырский двор, миновал его, шагая вдоль стены, и достиг книгохранилища, где фра Систо писал красками ангелов. Там, отдав поклон благочестивому брату, он вынул из большого ларя на петлях одну из книг, недавно привезенных из Константинополя, положил ее на высокий налой и принялся перелистывать. Это был трактат о любви, сочиненный на греческом языке божественным Платоном[347]. Гвидо вздохнул; руки его дрожали, глаза наполнились слезами.
— Увы, — прошептал он, — под этими непонятными знаками кроется свет, а я не вижу его!
Он говорил так сам с собой, потому что греческий язык был к тому времени совсем позабыт на Западе. После долгих сетований он взял книгу и, поцеловав, положил обратно в кованый ларь, словно прекрасную покойницу в саркофаг. Потом попросил у благочестивого фра Систо рукопись речей Цицерона и читал их до тех пор, пока ночные тени, окутав кипарисы в саду, простерлись на страницы книги крыльями летучей мыши. Ибо мессер Гвидо Кавальканти искал истину в писаниях древних и пытал трудные пути, которыми человек приходит к бессмертию. Снедаемый благородной жаждой знания, он перелагал в канцоны учение древних мудрецов о Любви, ведущей к Добродетели.
Несколько дней спустя мессер Бетто Брунелески пришел к нему домой на улицу Адимари в тот утренний час, когда жаворонок поет над хлебами. Он застал хозяина еще в постели. Поцеловав его, мессер Бетто нежно сказал:
— Друг Гвидо! Гвидо, друг мой, разрешите мои сомнения. На прошлой неделе вы сказали мне, что идете на свидание со своей дамой в монастырский храм Санта-Мария-Новелла. С тех пор я непрестанно думаю над вашими словами и никак не могу уразуметь их. Я не успокоюсь, пока не услышу от вас объяснения. Умоляю раскрыть мне их смысл, насколько то позволит вам скромность, ибо речь идет о даме.
Мессер Гвидо рассмеялся. Приподнявшись на локте, он заглянул в глаза мессеру Бетто.
— Друг, — сказал он, — у дамы, о которой я говорил, не одно жилище. В тот день, когда я встретил вас по дороге к ней, она ждала меня в книгохранилище монастыря Санта-Мария-Новелла. И я, к несчастью, понял лишь половину ее речей, ибо она говорила со мной на двух языках, текущих словно мед с ее прекрасных уст: сперва она обратилась ко мне на языке греков, который я не мог уразуметь, а затем перешла на речь латинян, и в словах ее была неизъяснимая мудрость. Ее беседа так пленила меня, что я хочу взять ее в жены.
— Это по меньшей мере племянница константинопольского императора, — сказал мессер Бетто, — либо его побочная дочь… Как зовут ее?
— Если давать ей любовное имя, какое каждый поэт дает своей милой, — отвечал мессер Гвидо, — то я назову ее Диотимой, в память Диотимы Мегарской[348], которая указала путь тем, кто возлюбил добродетель. Но для всех она именуется Философией и супруги лучше нее не найти. Мне другой не надо, и, клянусь богами, я буду верен ей до самой смерти, которая кладет конец познанию.
Услышав эти слова, мессер Бетто хлопнул себя по лбу.
— Клянусь Бахусом, никогда бы не догадался, — воскликнул он. — Вы, друг Гвидо, самый тонкий ум, какой блистал когда-либо под флорентинской красной лилией. Хвалю вас за то, что вы берете в супруги столь благородную даму. От этого союза, без сомнения, родится на свет целое поколение канцон, сонетов и баллад. Обещаю окрестить ваших прелестных отпрысков под звуки флейты и не поскупиться на сласти и учтивые приветствия. Радуюсь этому духовному браку тем более, что он не помешает вам в урочный час взять себе жену по плоти из числа знатных дам нашего города.
— Ошибаетесь, — возразил мессер Гвидо. — Те, что справляют брачный пир разума, должны предоставить женитьбу невежественной черни, к которой я причисляю и вельмож, и купцов, и ремесленников. Если бы вы, друг Бетто, водили знакомство с моей Диотимой, вам стало бы понятно, что она делит людей на две породы: одни плодородны лишь телом и стремятся к тому грубому бессмертию, какое дается деторождением; у других душа зачинает и родит то, что подобает созидать душе, а именно Красоту и Добро. Моя Диотима пожелала причислить меня к ним, и я против ее воли не стану подражать плодовитым животным.
Мессер Бетто Брунелески не одобрял такого решения. Он доказывал другу, что в разном возрасте надо жить по-разному, что за порой забав следует пора честолюбивых трудов, а на исходе молодых лет приличествует породниться с богатой и знатной семьей, через которую можно достичь высших в республике должностей, как-то приора ремесел и свободы, выборного капитана или гонфалоньера правосудия[349].
Но, увидев, что Гвидо принимает такие советы с гримасой отвращения, как будто ему подносят горькое снадобье, мессер Бетто прекратил этот разговор, боясь рассердить друга и считая разумным положиться на время, чья власть меняет сердца и пересиливает самые твердые решения.
— Милый Гвидо, — весело сказал он, — надеюсь, твоя дама все же позволяет тебе развлекаться с красивыми девушками и участвовать в наших забавах?
— Об этом, — отвечал мессер Гвидо, — она тревожится не более, чем об уличных встречах собачки, что спит у меня в ногах. Это и вправду пустяки, если только сам не придаешь им никакого значения.
Мессер Бетто удалился, несколько уязвленный такими презрительными речами. Он по-прежнему питал к другу живейшую приязнь, но не считал нужным слишком уж настойчиво звать его на пиры и игры, которые устраивал всю зиму с необычайной пышностью. Однако знатные молодые люди из его круга с трудом терпели оскорбление, которое наносил им сын синьора Кавальканте деи Кавальканти, отказываясь водить с ними компанию. Они принялись подтрунивать над его усердием к науке и чтению и уверяли, что, питаясь одним пергаментом, подобно монахам и крысам, он в конце концов станет похож на них, и у него из-под черного капюшона будет выглядывать только острая мордочка с тремя длинными волосами вместо усов, так что даже мадонна Джемма при виде такого зрелища воскликнет: «О Венера, покровительница моя! Во что обратили книги моего прекрасного святого Георгия! Ему пристало держать теперь уж не копье, а тростник для письма!» Они называли его созерцателем юных паучих и любовничком госпожи Философии. Впрочем, одними невинными насмешками они не ограничивались. Они намекали, что при такой учености нельзя остаться добрым христианином, что он увлекается чернокнижием и беседует с демонами.
— Так прятаться, — говорили они, — могут лишь те, кто водит компанию с чертями и ведьмами, дабы получить от них золото ценой гнусного распутства.
Они обвиняли его в пристрастии к лжеучению Эпикура, которым некогда был соблазнен император в Неаполе и папа в Риме и которое грозило превратить народы христианского мира в стадо свиней, равнодушных к господу и к бессмертию души. «Небольшая будет ему польза, — заключали они, — если от великой учености он перестанет верить в святую троицу!» Распускаемые ими толки такого рода были крайне опасны и могли навлечь беду на мессера Гвидо.
Мессер Гвидо Кавальканти знал, что в содружествах молодых людей над ним смеются за тяготение к извечным загадкам. Вот почему он бежал живых и искал общества мертвых.
В те времена церковь Сан-Джованни была окружена римскими гробницами. Мессер Гвидо нередко приходил туда в час молитвы богородице и вплоть до глубокой ночи отдавался все тем же думам. Он верил свидетельствам хроник, гласившим, что великолепный Сан-Джованни, прежде чем стать христианской церковью, был языческим храмом, и эта мысль тешила его душу, влюбленную в древние таинства. Особенно пленяло его зрелище гробниц, на которых вместо креста еще можно было различить латинские надписи, а также барельефные изображения людей и богов. Эти белые мраморные гробницы имели форму продолговатого чана, а на их стенках высечены были в камне пиршества, охоты, смерть Адониса, битва лапитов с кентаврами, целомудренный Ипполит, амазонки. Мессер Гвидо с любопытством читал надписи и доискивался смысла запечатленных здесь мифов. Одна гробница больше других привлекла его внимание: на ней он различил двух амуров, державших по факелу, и ему хотелось понять, что означают эти два амура. И вот однажды ночью, когда он размышлял об этом упорнее, чем обычно, над крышкой гробницы поднялась тень, но тень светозарная; такой бывает луна, если ее видишь, или кажется, что видишь, сквозь облако. Мало-помалу тень приняла очертания прекрасной девы и заговорила голосом более нежным, чем шелест камышей, колеблемых ветром:
— Я, спящая в этой гробнице, — сказала она, — зовусь Юлия Лета. Свет земной погас для меня во время моего свадебного пира, когда мне минуло шестнадцать лет, три месяца и девять дней. Существую ли я с тех пор, или не существую? Не знаю. Не вопрошай мертвых, незнакомец, ибо они ничего не видят и непроглядная тьма окружает их. О тех, что познали жестокие радости Венеры, говорят, будто они блуждают в густой миртовой чаще. Я же умерла девственницей и сплю без сновидений. На мраморе моей могилы высечены резцом два амура. Один дарит смертным свет, другой навеки гасит его в их бренных очах. У них одно лицо, и оба они улыбаются, потому что рождение и смерть — близнецы и потому что всё — радость бессмертным богам. Я кончила.
Голос смолк, как шорох листьев, когда стихает ветер. Легкая тень рассеялась под лучами зари, от которой посветлели холмы; гробницы вокруг Сан-Джованни вновь замерли и поблекли в утреннем воздухе. А мессер Гвидо думал: «Истина, которую я предчувствовал, открылась мне. Недаром сказано в книге, из которой читают священники: „Мертвые не воздадут тебе хвалы, господи“, — мертвецы лишены познания, и божественный Эпикур был мудр, избавив живых от напрасного страха перед загробной жизнью».
Компания всадников, проезжавших по площади, неожиданно нарушила его покойное раздумье. То были мессер Бетто Брунелески с приятелями, они отправлялись охотиться на журавлей у перетольского ручья.
— Эге! — заметил один из них, прозывавшийся Бокка, — это мессер Гвидо, философ, который презирает нас за любезность, острословие, веселую жизнь. Он совсем закоченел.
— И неспроста, — подхватил мессер Доре, который слыл шутником. — Его дама — луна, которую он нежно лобызает в течение ночи, — отправилась за холмы спать с каким-нибудь пастухом. Вот он и терзается ревностью. Взгляните, как он пожелтел!
Они протиснулись на конях между, могилами и окружили мессера Гвидо.
— Друг Доре, — возразил мессер Бокка, — синьора луна слишком кругла и светла для такого мрачного любовника. Если хотите узнать, кто его дамы, они здесь. Он приходит к ним на ложе, где ему скорее грозят укусы скорпионов, нежели блох.
— Тьфу! Тьфу! Мерзкий некромант! — сказал, крестясь, мессер Джордано. — Вот к чему приводит ученость! К отступничеству от бога и к блуду на языческих кладбищах.
Мессер Гвидо стоял, прислонясь к стене церкви, и не возражал всадникам. Решив, что они до конца излили на него накипь своих ветреных умов, он заговорил, улыбаясь:
— Высокочтимые синьоры, вы здесь у себя дома. Я ваш гость, и учтивость обязывает меня принимать от вас оскорбления, не отвечая на них.
Сказав так, он перепрыгнул через могилы и спокойно удалился. Оставшиеся переглянулись в изумлении. Затем расхохотались и пришпорили коней. По дороге к Перетоле мессер Бокка обратился к мессеру Бетто:
— Теперь, надо полагать, вы не сомневаетесь, что Гвидо сошел с ума. Он сказал нам, что на кладбище мы у себя дома. Только безумный может держать такую речь.
— В самом деле, — отвечал мессер Бетто, — не могу постичь, что он подразумевал, обращаясь к нам с такими словами. Но ему свойственно выражаться туманно, говорить мудреными притчами. Он бросил нам кость, которую надо разгрызть, чтобы добраться до сути.
— Ей-богу, я лучше отдам моему псу и кость и язычника, который ее бросил, — воскликнул мессер Джордано.
Вскоре они достигли перетольского ручья, откуда на рассвете стаями поднимаются журавли. Во время охоты, оказавшейся удачной, мессер Бетто Брунелески не переставал вспоминать слова Гвидо. И вдумываясь в них, открыл их смысл. Тогда он принялся громко звать мессера Бокка:
— Мессер Бокка, подите сюда! Я понял наконец, на что намекал мессер Гвидо своими словами. Он сказал нам, что на кладбище мы у себя дома, потому что невежды подобны мертвецам, которые согласно учению Эпикура лишены познания.
Мессер Бокка, пожав плечами, возразил, что он лучше любого умеет охотиться с фландрским соколом, драться на поединке и опрокидывать девушек и этих познаний ему как знатному кавалеру вполне достаточно.
Мессер Гвидо Кавальканти еще несколько лет изучал науку любви. Свои мысли оп заключил в канцоны, которые не всем дано постичь, и составил из них ту книгу, что была прославлена и увенчана лаврами. Но так как самые чистые души не свободны от примеси земных страстей и жизнь всех нас равно увлекает в извилистый и мутный поток, случилось, что на исходе молодости мессер Гвидо соблазнился житейским благополучием и мирским могуществом. В честолюбивых целях он женился на дочери синьора Фарината дельи Уберти, того самого, который некогда обагрил Арбию кровью флорентинцев. Со всем горделивым пылом своей души вмешался он в распри сограждан. И в дамы себе взял синьору Мандетту[350] и синьору Джованну, которые представляли — одна альбигойцев, другая гибеллинов. Это была пора, когда мессер Данте Алигиери состоял приором ремесел и свободы. Город раскололся на два враждебных лагеря — белых и черных[351]. Однажды именитые граждане собрались для погребения некоей знатной дамы на площади Фрескобальди, — белые по одну сторону, черные по другую; ученые мужи и рыцари согласно обычаю заняли скамьи на возвышении, а молодые люди уселись у их ног на камышовых циновках. Когда один из этих именитых мужей поднялся, чтобы завернуться в плащ, тем, что сидели напротив, показалось, будто он грозит им. Они поднялись в свою очередь и взялись за оружие. Тут все обнажили мечи, и родственникам покойницы с трудом удалось разнять дерущихся.
С тех пор Флоренция из города, счастливого трудом своих ремесленников, превратилась в лес, полный волков, пожиравших друг друга. Мессер Гвидо принял участие в междоусобице. И нравом он стал мрачен, подозрителен и нелюдим. Каждый день он вступал в единоборство с кем-нибудь из черных на тех самых флорентийских улицах, где прежде размышлял о природе души. Кинжалы убийц нанесли ему не одну рану, а в конце концов он был изгнан из Флоренции вместе со своими сторонниками и сослан в зачумленный город Сарзану[352]. Полгода протомился он там, терзаясь лихорадкой и яростью. А когда белые были призваны вновь, он вернулся умирающим в родной город.
В год тысяча трехсотый, на третий день после успения пресвятой девы Марии, у него достало сил добраться до своего прекрасного Сан-Джованни. Истомленный и настрадавшийся, лег он на гробницу Юлии Леты, которая некогда открыла ему тайны, неведомые простым смертным. Это был час, когда в воздухе, трепещущем от прощания с солнцем, стоит звон колоколов. Мессер Бетто Брунелески, проезжая по площади, на пути из своего загородного дома, вдруг увидел среди могил глаза кречета, горящие на изможденном лице, и с изумлением и жалостью узнал друга юных лет.
Приблизившись, мессер Бетто расцеловал его, как в былые дни, и сказал со вздохом:
— Гвидо мой, Гвидо мой, какой огонь испепелил тебя? Сперва ты сжигал свою жизнь в науке, потом в делах общественных. Прошу тебя, друг, притуши немного свой душевный пыл, надо щадить себя и, как говорит кузнец Рикардо, разводя огонь, знать меру.
Но Гвидо Кавальканти приложил палец к губам.
— Тс! Тс! Молчите, друг Бетто, — прошептал он. — Я жду мою даму[353], ту, что утешит меня за всю тщетную любовь, которая в сем мире изменяла мне и которой изменял я сам. Познавать и действовать в равной мере пагубно и тщетно. Это я постиг. Жизнь сама по себе еще не зло, ибо, я вижу, ты живешь благополучно, друг Бетто, и так же благополучно живут многие другие. Жить — еще не зло, но понимать, что живешь, — зло. Познавать и желать — зло. К счастью, против этого есть лекарство. Умолкнем же: я жду даму, перед которой не провинился ни разу, ибо не позволил себе усомниться в том, что она добра и верна, и путем размышлений познал, как покоен и надежен сон у нее на груди. Много рассказывали басен о ее ложе и ее владениях. Но я не поверил вымыслам невежд. И потому она спешит ко мне, как подруга к другу, с венком вокруг чела и с улыбкой на устах.
Сказав так, он умолк и упал мертвым на древнюю могилу. Его тело было без больших почестей погребено в монастыре Санта-Мария-Новелла.
III. ЛЮЦИФЕР
Луи Гандераксу[354]
E si compiacque tanto Spinello di farlo orribile e contrafatto, che si dice (tanto puó alcuna fiata l'immaginazione) che la detta figura da lui dipinta gli apparve in sogno, domandandolo dove egli l'avesse veduta si brutta…
(Vite de'più eccellenti pittori… da M. Giorgio Vasari. — Vita di Spinello).
И Спинелло[355] получил такое удовольствие, изобразив его страшным и уродливым, что, как говорят (чего только подчас не внушает воображение), эта фигура, им написанная, явилась ему во сне и спросила, где он его видел таким гадким… («Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев» Джорджо Вазари, — «Жизнеописание Спинелло») (итал.).
Тафи[356], флорентинский мастер живописи и мозаичного дела, очень боялся чертей, особенно в те ночные часы, когда силам зла дано верховодить во мраке. И страхи Тафи не лишены были основания, ибо бесы в те времена имели причины ненавидеть живописцев, которые одной картиной отнимали у них больше душ, чем какой-нибудь усердный брат минорит тридцатью проповедями. В самом деле, желая внушить верующим спасительный трепет, монах старательно расписывал им день гнева, долженствующий, по свидетельству Давида и Сивиллы[357], обратить мир во прах. Он возвышал голос и дудел в кулак, подражая архангельской трубе. Но слова его развеивались по ветру. Между тем картина на стене часовни или монастыря, где изображен был Иисус Христос, воссевший на престол, дабы судить живых и мертвых, непрерывно стояла перед взором грешников и, проникая в душу через глаза, исправляла тех, что согрешили глазами или чем иным. То было время, когда искусные мастера изображали тайны божьего правосудия в Санта-Кроче во Флоренции или на Кампо Санто в Пизе. Эти картины были написаны в согласии с повествованием в стихах, которое Данте Алигиери, человек весьма сведущий в богословии и церковном праве, оставил о своем путешествии в ад, в чистилище и в рай, куда он проник при жизни благодаря высоким достоинствам своей дамы[358]. Потому-то все в этой живописи было поучительно и правдиво, и можно сказать, что из чтения самой пространной хроники извлекаешь меньше пользы, чем из созерцания подобных картин. И флорентийские мастера, не щадя трудов, живописали дам и кавалеров, которые в тени померанцевых рощ, на траве, испещренной цветами, рассуждают о любви под звуки лютней и виол, а между тем смерть с косой подстерегает их. Лучшее средство обратить на путь истинный людей, повинных в плотском грехе и пьющих с женских уст забвение христианского долга! Чтобы усовестить скупцов, художник как живых изображал чертей, которые льют расплавленное золото в рот епископу или аббатисе, скудно заплатившим ему за исполненный заказ. Вот почему бесы были в те времена врагами живописцев, и главным образом живописцев флорентинских, не имевших себе равных в хитроумной изобретательности.
Особенно досадовали бесы на то, что их изображают в мерзком виде, с птичьей или рыбьей головой, со змеиным туловищем и крыльями летучей мыши. Злопамятство их станет очевидным из рассказа о Спинелло.
Спинелло Спинелли из Ареццо был отпрыском знатной семьи флорентийских изгнанников. Его возвышенный дух отвечал высокому рождению. Ибо он был искуснейшим живописцем своего времени. Немало крупных работ исполнил он во Флоренции. Пизанцы заказали ему украсить после Джотто стены той святой обители, где мертвецы почивают под сенью роз в земле, привезенной из Иерусалима. Но, проработав долгие годы в других городах и скопив много денег, он пожелал увидеть вновь славный город Ареццо, свою родину. Аретинцы не забыли, что в молодости Спинелло был приписан к братству Милосердия во имя пресвятой девы и, когда свирепствовала чума 1383 года, посещал больных и хоронил умерших. Они были ему благодарны и за то, что своими творениями он прославил Ареццо на всю Тоскану. Поэтому они приняли его с великими почестями. Полный сил, хоть и в преклонных летах, он предпринял большую работу по украшению родного города. Жена говорила ему:
— Ты богат. Отдохни. Пусть молодые люди займутся живописью взамен тебя. Когда пройден путь, нужно отдохнуть. Жизнь кончать подобает в мирном и благочестивом покое. Без устали предаваться суетным трудам подобно тем, кто возводил вавилонскую башню, — значит искушать господа. Спинелло, если ты не оторвешься от своих мастик и красок, то неминуемо утратишь покой души.
Так говорила ему старушка жена. Но он не слушал ее. Он думал лишь, как бы приумножить свое богатство и славу. Вместо того чтобы отдыхать, он взял заказ у церковного совета Сант-Аньоло, подрядившись расписать все хоры храма подвигами архангела Михаила; в эту композицию должно было входить множество фигур. Он принялся за дело с необычайным рвением. Перечитывая те места Писания, которыми ему следовало вдохновиться, он глубоко вникал в каждую строку и в каждое слово. Рисуя по целым дням в мастерской, он не оставлял работы даже в постели и за столом. И вечерами, когда гулял у подножия того холма, где горделиво высятся стены и башни Ареццо, он продолжал размышлять все о том же. И можно сказать, что история деяний архангела была целиком написана у него в мозгу, когда он сангиной начал набрасывать на оштукатуренной стене составлявшие ее сцены. Быстро закончив набросок, он принялся писать красками ту картину над главным алтарем, которая должна была превзойти величием все остальные. Ибо в ней надлежало прославить победу, одержанную главой небесного воинства до начала времен. Итак, Спинелло запечатлел архангела Михаила поражающим в воздухе змия о семи головах и десяти рогах, а в нижней части полотна надумал изобразить князя тьмы Люцифера в виде страшного чудовища. Образы сами рождались у него под рукой. И преуспел он сверх собственных ожиданий: лик Люцифера был так мерзок, что приковывал к себе взор силой своего безобразия. Этот лик преследовал художника даже на улице и сопровождал его до самого дома.
Когда наступила ночь, Спинелло лег в постель рядом с женой и уснул. Во сне он увидел ангела, столь же прекрасного, как архангел Михаил, но только черного. И этот ангел сказал ему:
— Спинелло, я — Люцифер! Где же ты видел меня, что изобразил в таком гнусном обличье?
Старик художник ответил дрожа, что никогда не видел его собственными глазами, так как не побывал при жизни в аду, подобно Данте Алигиери: но, изобразив его таким, он хотел наглядно показать все уродство греха.
Люцифер пожал плечами, отчего будто вдруг содрогнулся холм Сан-Джеминьяно.
— Спинелло, не откажи мне в удовольствии потолковать со мной, — сказал он. — Я недурной логик; тот, кому ты молишься, знает об этом.
Не получая ответа, Люцифер так продолжал свою речь:
— Спинелло, ты ведь читал книги, в которых говорится обо мне. Ты знаешь мою историю и знаешь, как я покинул небо, чтобы стать князем мира сего. Это блистательное предприятие могло бы считаться непревзойденным, если бы в свое время гиганты не восстали точно так же против Юпитера, что ты мог видеть, Спинелло, на древней гробнице, где их борьба изваяна в мраморе.
— Верно, — отвечал Спинелло. — Я видел эту гробницу в форме чана в Санта-Репарата во Флоренции. Это поистине прекрасное творение римлян.
— Однако же, — заметил с улыбкой Люцифер, — гиганты не показаны там в обличье жаб или хамелеонов.
— Но ведь восставали-то они не против истинного бога, — возразил художник, — а всего лишь против языческого идола. Это весьма существенно. А ты, Люцифер, поднял знамя мятежа против истинного царя небесного и земного.
— Я и не отпираюсь, — согласился Люцифер. — В скольких же грехах ты винишь меня за это?
— Тебе следует приписать семь грехов, — ответил художник, — и все семь смертных.
— Семь! — сказал ангел тьмы. — Это богословское число. Всего было по семи в моем бытии, которое тесно переплетается с бытием бога. Спинелло, ты обвиняешь меня в гордыне, злобе и зависти. Я готов согласиться с этим, если ты признаешь, что позавидовал я только славе. Ты почитаешь меня скупцом? Согласен и с этим. Скупость — добродетель для государей. Что же касается чревоугодия и сластолюбия — я не рассержусь, если ты укоришь меня в них. Остается леность.
Произнеся это слово, Люцифер скрестил руки на своем панцире и, подняв темный лик, тряхнул огненными кудрями:
— Спинелло, неужто ты в самом деле думаешь, что я ленив? Ты считаешь меня трусом, Спинелло? Ты полагаешь, что своим бунтом я проявил недостаток отваги? Нет. Значит, справедливо было бы написать меня в образе смельчака с горделивым челом. Никого не надо обижать — даже черта. Разве ты не понимаешь, что оскорбляешь того, кому молишься, давая ему в противники отвратительного гада? Спинелло, ты слишком невежествен для своих лет. Мне очень хочется отодрать тебя за уши, как нерадивого школьника.
Услышав эту угрозу и видя, что длань Люцифера протянулась над ним, Спинелло заслонил голову рукой и взвыл от ужаса.
Старушка жена, вскочив спросонья, спросила, какая с ним приключилась беда. Он отвечал ей, стуча зубами, что видел сейчас Люцифера и испугался за свои уши.
— Недаром я говорила тебе, — сказала жена, — брось расписывать стены всякими образинами, иначе они под конец сведут тебя с ума.
— Я не сошел с ума, — возразил художник. — Я его видел; он прекрасен, хотя печален и горд. Завтра же я сотру мерзостный образ, который нарисовал, и поставлю на его место тот, что видел во сне. Ибо не надо обижать даже черта.
— Лучше постарайся уснуть, — сказала жена, — чем вести безрассудные и еретические разговоры.
Спинелло попытался встать, но без сил упал на подушки и потерял сознание. Он протомился еще несколько дней в лихорадке, а затем умер.
IV. ЧЕРНЫЕ ХЛЕБЫ
Мадемуазель Мэри Файнели
Tu tibi divitias stolidissime congeris amplas Negasque micam pauperi: Advenit ecco dies qua saevis ignibus ardens Rogabis aquao guttulam.
(«Navia stultifere», 1507, f ° XIX)
Дурень из дурней! Богатства огромные копишь, а брату Не дашь и крошки — нищему. Но погоди: запылаешь в огне и, жестоко страдая, Воды попросишь капельку.
«Корабль дураков»[359], 1507, лист XIX (лат.). Перевод С. Маркиша.
В ту пору Никола Нерли был банкиром в благородном городе Флоренции.
Когда звонили к третьему часу, он сидел у себя за конторкой, и когда звонили к девятому часу, он все еще сидел там и целый день заносил цифры на таблички. Он ссужал деньгами императора и папу. И не ссужал дьявола только потому, что боялся войти в невыгодную сделку с тем, кого зовут лукавым и кто не скупится на хитрости. Никола Нерли был смел и недоверчив. Он стяжал большие богатства и обездолил много людей. Вот почему его почитали в городе Флоренции. Он жил во дворце, куда божий свет проникал лишь через узкие окна; этого требовала осторожность, ибо жилище богатого должно быть подобно крепости, и те, у кого много имущества, поступают мудро, защищая силой то, что приобрели хитростью.
Итак, дворец Никола Нерли был снабжен решетками и цепями. Внутри, на стенах, искусные мастера изобразили добродетели в образе женщин, а также фигуры патриархов, пророков и царей Израиля. Ковры, которыми были увешаны покои, являли взорам события из жизни Александра и Тристана, как они описаны в романах. Никола Нерли перед всем городом выставлял напоказ свое богатство, щедро жертвуя на дела благочестия. Он воздвиг за городскими стенами больницу, на скульптурном и раскрашенном фризе которой были изображены самые похвальные его деяния; в благодарность за денежные взносы на окончание постройки Санта-Мария-Новелла его портрет повесили на хорах храма. Он был изображен с молитвенно сложенными руками, коленопреклоненным у ног пресвятой девы. И всякий узнал бы его по красному шерстяному колпаку, по отороченному мехом кафтану, по заплывшему желтым жиром лицу и пронзительным глазкам. Его почтенная супруга Мона Бисмантова, столь добродетельная и унылая на вид, что не верилось, чтобы кто-либо мог вкусить от нее хоть крупицу радости, стояла по другую сторону святой девы в смиренной позе молящейся. Никола Нерли был одним из первых граждан республики; он никогда не поднимал голоса против законов и не болел душой ни за бедняков, ни за тех, кого сегодняшние властители присуждают к покаянию или изгнанию. В глазах городских советников ничто не умаляло того уважения, какое он снискал у них своим огромным богатством.
Как-то зимним вечером, когда он позднее обычного вернулся к себе во дворец, его на пороге окружила толпа полуголых нищих, просивших подаяния.
Он грубо отказал им. Но они от голода осмелели и озверели, как волки. Окружив его плотным кольцом, они жалобными, осипшими голосами молили о куске хлеба. Он нагнулся было, чтобы набрать камней и бросить в них, но тут увидел одного из своих слуг, который нес на голове корзину с черными хлебами для работников, занятых у него на конюшне, в кухне и в саду.
Он сделал хлебодару знак приблизиться, выгреб из корзины хлебы и швырнул их беднякам. Затем, войдя в дом, он лег и уснул. Во сне его постиг удар, и он умер так внезапно, что думал, будто лежит еще у себя на кровати, когда увидел в том месте, «где не слышно света», архангела Михаила, озаренного сиянием, которое исходило от его тела.
Архангел держал в руках весы и нагружал чаши. Заметив в той, что была тяжелее, драгоценности вдов, которые хранились у него в закладе, крупицы золота, сточенные им тайком с монет, и несколько золотых предметов замечательной красоты, коими владел он один, ибо приобрел их ростовщичеством и обманом, Никола Нерли понял, что архангел Михаил взвешивал перед ним его жизнь, отныне завершенную. Он насторожился и обеспокоился.
— Мессер Сан-Микеле, — сказал он, — если вы кладете по одну сторону все добро, скопленное мною в жизни, соберите, пожалуйста, на другой те щедрые пожертвования, которыми я с избытком доказал свое благочестие. Не забудьте ни собора Санта-Мария-Новелла, на который я внес не меньше третьей доли, ни моей больницы за городскими стенами, которую я целиком построил на свои деньги.
— Не бойтесь, Никола Нерли, — отвечал архангел. — Я ничего не забуду.
И своими пресветлыми руками он поставил на ту чашу, что была легче, и собор Санта-Мария-Новелла и больницу со скульптурным раскрашенным фризом. Но чаша отнюдь не опустилась.
Банкир был сильно встревожен.
— Мессер Сан-Микеле, — заговорил он вновь, — припомните хорошенько. Вы не положили на эту сторону весов ни великолепной кропильницы для церкви во имя апостола Иоанна, ни кафедры для храма апостола Андрея, где в натуральную величину изображено крещение господа нашего Иисуса Христа. За эту работу я дорого заплатил.
Архангел положил кафедру и кропильницу поверх больницы, но чаша и тут не двинулась. Никола Нерли почувствовал, как на лбу у него обильно проступает холодный пот.
— Мессер архангел, — спросил он, — вы уверены, что у вас правильные весы?
Архангел Михаил отвечал с улыбкой, что весы его, хоть и сделаны не по образцу тех, какими пользуются парижские ссудные кассы и венецианские менялы, однако не грешат неточностью.
— Как! — простонал, побледнев, Никола Нерли. — Значит, собор и кафедра, сосуд и больница со всеми кроватями весят не больше соломинки или пушинки!
— Как видите, Никола, — сказал архангел, — до сих пор тяжесть ваших беззаконий несравненно больше, чем ничтожный вес ваших добрых дел.
— Значит, я пойду в ад, — простонал флорентинец, от ужаса стуча зубами.
— Погодите, Никола Нерли, — возразил небесный весовщик, — погодите! Мы не кончили. Вот что нам еще осталось.
И пресвятой Михаил взял черные хлебы, которые богач бросил накануне беднякам. Он положил их на чашу добрых дел, которая сразу опустилась, меж тем как вторая стала подниматься, пока обе чаши не оказались на одном уровне. Коромысло не клонилось больше ни вправо, ни влево, а стрелка показывала полное равновесие грузов.
Банкир не верил собственным глазам.
Лучезарный архангел сказал ему:
— Видишь, Никола Нерли, — ты не годен ни для неба, ни для ада. Ступай назад во Флоренцию! Приумножь у себя в городе те хлебы, что ты роздал собственной рукой, ночью, когда никто тебя не видел, и ты спасешься. Ибо небо открывается не только разбойнику, который покаялся, и блуднице, которая пролила слезы[360]. Милосердие господне беспредельно: оно поможет спастись даже богачу. Будь же этим богачом. Приумножь те хлебы, которые склонили чашу моих весов. Ступай.
Никола Нерли проснулся у себя в постели. Он решил последовать совету архангела и приумножить хлеб бедняков, дабы войти в царствие небесное.
Те три года, что он прожил на земле после первой своей смерти, он был великим благотворителем, жалостливым к несчастным.
V. ВЕСЕЛЬЧАК БУФФАЛЬМАКО
Эжену Мюнцу[361]
Buonamico di Cristofano, detto Buffalmacco, pittore Fiorentino, il qual fu discepolo d'Andrea Tafi, e come uomo burlevole celebrato da Messer Giovanni Boccaccio nel suo Decamerone, fu come si sa carissimo compagno di Bruno e di Calandrino, pittori ancor essi faceti e piacevoli, e, come si puó vedere nell' opere sue sparse per tutta Toscana, di assai buon giudizio nell'arte sua del dipignere.
(Vite de' piu eccellenti pittori…da M. Giorgio Vasari. — Vita di Buonamico Buffalmacco).
Буонамико ди Кристофано[362], прозванный Буффальмако, флорентинский живописец, который был учеником Андреа Тафи и прославлен как человек веселый мессером Джованни Боккаччо в его «Декамероне», был, как известно, ближайшим приятелем живописцев Бруно и Каландрино, которые и сами были шутниками и весельчаками, и, насколько можно судить по его работам, рассеянным по всей Тоскане, весьма хорошо разумел и в своем искусстве живописи. («Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев» Джордже Вазари. — «Жизнеописание Буонамико Буффальмако») (итал.).
I. Тараканы
В ранней молодости Буонамико Кристофани, флорентинец, за веселый нрав прозванный Буффальмако, находился в обучении у Андреа Тафи, мастера живописи и мозаичного дела. А Тафи преуспевал в своем искусстве. Посетив Венецию как раз в ту пору, когда Аполлоний[363] покрывал мозаикой стены Сан-Марко, он хитростью выведал секрет, который тщательно оберегали греки. По возвращении в родной город он так прославился умением составлять картины из множества разноцветных стеклышек, что не мог справиться со всеми заказами на такого рода работы и каждый день от утрени до вечерни трудился на лесах в какой-нибудь церкви, изображая Иисуса Христа во гробе, Иисуса Христа во славе его, а также патриархов, пророков, или же истории Иова и Ноя. Но он не желал упускать заказы и на роспись стен тертыми красками по греческому образцу, единственному известному в те времена, а потому и сам не знал отдыха и не давал передохнуть ученикам. Он имел обыкновение говорить им:
— Те, кто, подобно мне, владеют важными секретами и достигли совершенства в своем искусстве, должны постоянно и помыслами и руками своими тянуться к работе, дабы скопить много денег и оставить по себе долгую память. И раз я, дряхлый и немощный старик, не боюсь труда, то уж вы-то обязаны помогать мне всеми своими молодыми, свежими, непочатыми силами.
И чтобы его краски, стеклянные составы и обмазки были готовы с утра, он заставлял юношей подниматься среди ночи. Но именно это было всего труднее для Буффальмако, который имел привычку подолгу ужинать и любил слоняться по улицам в те часы, когда все кошки серы. Ложился он поздно и спал сладко, ибо совесть у него в сущности была чиста. И потому, когда скрипучий голос Тафи нарушал его первый сон, он поворачивался на другой бок и не отзывался. Но хозяин не переставал кричать. А в случае чего попросту входил в комнату к ученику, не долго думая стаскивал с ленивца одеяло и выливал ему на голову кувшин воды.
Не успев толком обуться, Буффальмако со скрежетом зубовным отправлялся растирать краски в темную и холодную мастерскую, где, растирая и ворча, придумывал средство избавиться впредь от такой жестокой напасти. Он размышлял долго, но ничего путного и подходящего придумать не мог, хотя ум у него был отнюдь не бесплодный; и однажды на рассвете в нем зародилась удачная мысль.
Чтобы осуществить ее, Буффальмако дождался ухода хозяина. Едва настало утро, как Тафи, по своему обыкновению, положил в карман одежды фляжку с вином кьянти и три крутых яйца, что обычно составляло его завтрак, и, наказав ученикам плавить стекло в согласии с правилами и трудиться не покладая рук, отправился работать в ту самую церковь Сан-Джованни, которая так необычайно хороша и с удивительным мастерством построена на античный лад. Он трудился там над мозаиками, где изображены были ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, власти, престолы и господствия, главнейшие деяния божии от того дня, как господь сказал: «Да будет свет», и до того, как он повелел быть потопу, история Иосифа и его братьев, земное бытие Иисуса Христа от зачатия во чреве матери до восшествия на небеса, а также житие св. Иоанна Крестителя. Тафи очень усердствовал, вставляя кусочки стекла в грунт и искусно сочетая их между собою, а посему ожидал прибыли и славы от этой большой работы с таким множеством фигур.
Итак, не успел учитель уйти, как Буффальмако приступил к осуществлению своей затеи. Он спустился в погреб, сообщавшийся с погребом булочной и полный тараканов, которых привлекал запах мешков с мукой. Известно, что булочные, трактиры и мельницы кишат тараканами, иначе карапузиками. Эти плоские, дурно пахнущие насекомые с рыжеватым щитком[364], неуклюже передвигаются на длинных мохнатых лапках.
В эпоху войн, обагрявших Арбию и питавших оливковые деревья кровью благородных рыцарей, у этих противных насекомых было в Тоскане два имени: флорентинцы называли их сиенцами, а сиенцы — флорентинцами[365].
Шутник Буффальмако ухмылялся, глядя, как они движутся, точно крошечные щиты бесчисленных рыцарей-карликов на волшебном турнире.
«Эге! — подумал он, — видно, это были угрюмые майские жуки. Они не любили весны, и Юпитер покарал их за холодный нрав. Он повелел им ползать во мраке под гнетом бесполезных крыльев и тем показал людям, что в пору любви надо наслаждаться жизнью».
Так рассуждал про себя Буффальмако, ибо он, подобно остальным смертным, был склонен находить в природе подобие своих чувств и страстей, он же превыше всего любил пить, развлекаться с честными женщинами и вволю спать зимой в теплой, а летом в прохладной постели.
Но так как в подвал он спустился не затем, чтобы размышлять об аллегориях и символах, то и поспешил осуществить свое намерение. Он набрал две дюжины тараканов без различия пола и возраста и бросил их в мешок, который прихватил с собой. Затем отнес мешок к себе под кровать и возвратился в мастерскую, где его товарищи Бруно и Каландрино, по наброскам учителя, писали св. Франциска, получающего стигматы, и обсуждали способы усыпить ревность башмачника Мемми, у которого была красивая и покладистая жена.
Буффальмако, отнюдь не менее искусный, чем они, поднялся на лесенку и принялся писать крест из ангельских крыл, который спустился с небес, дабы нанести святому пять стигматов любви. Он старательно расписал небесное оперение самыми нежными цветами радуги. Эта работа заняла у него весь день, и когда старик Тафи вернулся из Сан-Джованни, он не мог удержаться от похвалы, на которую был скуп, ибо годы и деньги сделали его сварливым и высокомерным.
— Дети мои, — сказал он подмастерьям, — крылья эти раскрашены не без блеска. И Буффальмако пошел бы далеко в искусстве живописи, если бы усерднее предавался ему. Но он больше помышляет о кутежах и пирушках. Великие же дела достигаются упорным трудом: Каландрино, к примеру сказать, мог бы при его прилежании обогнать вас всех, не будь он не в меру глуп.
Так со справедливой суровостью поучал Тафи своих учеников. Наговорившись вдоволь, он поужинал на кухне соленой рыбкой; потом поднялся к себе в спальню, лег в постель и вскоре захрапел. А Буффальмако тем временем совершил обычный обход всех злачных мест города, где вино стоит недорого, а девки еще дешевле. Затем он вернулся домой примерно за полчаса до того, как Тафи имел обыкновение просыпаться. Вытащив из-под кровати мешок, он поодиночке достал тараканов и с помощью короткой и тонкой булавки укрепил у каждого на спине восковую свечечку. Потом зажег свечки одну за другой и выпустил тараканов в комнату. Насекомые эти так тупоумны, что даже не чувствуют боли или во всяком случае не удивляются ей. Но тут они заползали по полу несколько проворнее, чем обычно, то ли от растерянности, то ли от смутного страха. Вскоре они стали описывать круги, однако не потому, что фигура эта, по словам Платона, совершенна, а в силу инстинкта, заставляющего насекомых кружиться, дабы избегнуть неизвестной опасности. Буффальмако снова улегся на кровать и, глядя, как они бегают, радовался своей выдумке. И в самом деле, куда как занимательно было созерцать эти огоньки, в уменьшенном виде повторяющие движение сфер, в согласии с описанием Аристотеля и его истолкователей. Тараканов видно не было, только огоньки на их спинах двигались точно живые. И вот, когда из этих огоньков в темной комнате составилось больше циклов и эпициклов, чем Птолемею и арабам довелось когда-либо узреть при наблюдении за ходом планет, раздался голос Тафи, особенно скрипучий спросонья и со злости.
— Буффальмако! Буффальмако! — откашливаясь и отхаркиваясь, кричал старик. — Проснись, Буффальмако! Вставай, негодник! До рассвета не осталось и часа. Видно, блохи у тебя в тюфяке сложены, как Венера, раз ты не можешь расстаться с ними. Вставай, лентяй! Если ты не поднимешься сию же минуту, я тебя вытяну из постели за волосы и за уши.
Так вот, из великого усердия к живописи и мозаике, учитель каждую ночь будил ученика. Не слыша ответа, он надел штаны, натянув их в спешке не выше колен, и поплелся в комнату подмастерья. Только этого и ждал шутник Буффальмако. Услышав топот старика по ступенькам, ученик повернулся носом к стенке и притворился, будто спит крепчайшим сном.
А Тафи кричал на лестнице:
— Эй, ты, соня, лежебока! Погоди-ка, я выбью из тебя сон, хотя бы тебе и снилось сейчас, будто все одиннадцать тысяч дев забрались к тебе в постель, чтобы ты лишил их невинности.
С этими словами Тафи рванул дверь.
Но, увидев огоньки, бегавшие по всему полу, он замер на пороге и задрожал всем телом.
«Это черти, — подумал он, — сомнений быть не может, это черти и злые духи. В их движениях заметен математический расчет, из чего я заключаю, что могущество их велико. Нечистые склонны ненавидеть художников, придающих им гнусное обличье, в противовес ангелам, которых мы живописуем во всей их славе, осененными сиянием и вздымающими свои ослепительные крыла. Этот злополучный малый окружен чертями, их тут не меньше тысячи вокруг его одра. Должно быть, он прогневил самого Люцифера, придав ему где-нибудь отталкивающий облик. Вполне вероятно, что эти десять тысяч чертенят сейчас вскочат на него и заживо сволокут в ад. Несомненно ему уготован такой конец. Увы! И мне самому доводилось в мозаике или иным способом изображать чертей весьма мерзопакостными на вид, и у них есть основания быть на меня в обиде».
От этой мысли ему стало еще страшнее, он побоялся встречи с сотнями тысяч блуждающих огоньков, которые мелькали перед ним, и, подтянув штаны, пустился вниз по лестнице со всей прытью своих старых негнущихся ног.
А Буффальмако хохотал под одеялом. На этот раз он проспал до утра, и больше уже учитель не решался его будить.
II. Взятие Тафи на небо
Андреа Тафи, флорентинцу, было поручено украсить мозаичными картинами купол Сан-Джованни, и он превосходно справился с этой трудной работой. Все лица он исполнил в греческой манере, которую изучил во время своего пребывания в Венеции, где наблюдал, как мастера украшают стены Сан-Марко. Он даже привез с собой оттуда во Флоренцию некоего грека по имени Аполлоний, которому были известны ценные секреты мозаичной живописи. Аполлоний был человек искусный и хитрый. Он знал, каковы должны быть пропорции человеческого тела и из чего составляется лучшая мастика.
Боясь, как бы грек не вздумал продать свои сведения и свое умение какому-нибудь другому флорентинскому художнику, Андреа Тафи не отпускал его от себя ни днем, ни ночью, каждое утро брал с собой в Сан-Джованни и каждый вечер приводил к себе в дом, напротив церкви Сан-Микеле, где устроил ему ночлег вместе с двумя своими учениками — Бруно и Буффальмако — в комнате смежной с той, в которой спал сам. А так как перегородка между комнатами на целую четверть не доходила до потолка, то из одной в другую слышно было каждое слово.
Тафи был человек благонравный и богомольный. Он не уподоблялся тем живописцам, которые, выйдя из церкви, где они изображали сотворение мира или Иисуса Христа на руках у его пречистой матери, тут же направляются в непотребные дома играть в кости, горланить, пить вино и ласкать девок. Он всегда довольствовался своей почтенной супругой, хотя творец всего сущего, создав ее, придал ей облик, отнюдь не способный дарить радость мужчинам. Ибо она была особа сухопарая и сварливая. А после того как господь прибрал ее из нашего мира и по милосердию своему принял в свое лоно, Андреа Тафи не знал другой женщины ни в браке, ни иным образом. Он соблюдал воздержание, соответствовавшее его преклонным летам, избавлявшее от издержек и забот и угодное богу, который на том свете награждает за лишения, коим мы подвергаем себя здесь, на земле. Андреа Тафи был человек целомудренный, умеренный в еде и питье и рассудительный.
Он неукоснительно творил положенные молитвы и, улегшись в постель, не забывал призвать пресвятую деву такими словами:
— Пресвятая дева, матерь божия, за заслуги свои заживо взятая на небеса, простри ко мне свою благодатную длань, дабы я мог взойти в божий рай, где ты восседаешь на золотом престоле.
И молитву эту Тафи не бормотал, шамкая беззубым ртом. Нет, он произносил ее густым и громким голосом, считая, что дело не в словах, а в тоне, и надо кричать, дабы быть услышанным. И правда, молитву старого мастера Андреа Тафи ежевечерне слышали грек Аполлоний и двое юных флорентинцев, спавших в соседней комнате. А надо сказать, что Аполлоний любил пошутить и в этом сходился с Бруно и с Буффальмако. Всем троим не терпелось сыграть какую-нибудь штуку с учителем, человеком справедливым и богобоязненным, но скаредным и суровым. Вот почему однажды ночью, услышав, как старик обращается к пресвятой деве с обычной своей молитвой, трое озорников принялись хихикать в подушку и всячески насмехаться над ним. А едва только он захрапел, они стали шепотом совещаться между собой, как бы получше подшутить над ним. Зная, что старец пуще всего боится дьявола, Аполлоний предложил одеться в красное, нацепить рога и маску и за ноги стащить его с кровати. Но весельчак Буффальмако повел такую речь:
— Постараемтесь запастись завтра крепкой веревкой и блоком, и я обещаю в следующую ночь на славу позабавить вас.
Аполлоний и Бруно допытывались, на что нужны веревка и блок, но Буффальмако не пожелал ничего объяснить. Тем не менее они обещали предоставить ему то, что он потребовал. Ибо знали, что на свете не сыщешь второго такого проказливого выдумщика и шутника, как он, недаром его прозвали Буффальмако. И вправду, он был неистощим на веселые затеи, о которых впоследствии ходили легенды.
Не имея более причин бодрствовать, три приятеля заснули при свете месяца, который глядел в чердачное оконце и постепенно поворачивал кончики своих рожек в сторону Тафи. Так они проспали до зари, когда учитель забарабанил кулаком в перегородку и закричал, кашляя и харкая по своему обыкновению:
— Вставай, мастер Аполлоний! Вставайте, подмастерья! На дворе день, Феб уже задул небесные светильники. Поторапливайтесь! Времени мало, а дела много.
И тут же принялся грозиться, что окатит Бруно и Буффальмако ушатом холодной воды.
— Очень уж вы дорожите своей постелькой. Не иначе, у вас там расположилась какая-нибудь прелестница, вот вам и не хочется покинуть ее, — глумился он над ними.
А сам тем временем натягивал штаны и старую куртку. Но, выйдя из комнаты на лестницу, он увидел, что подмастерья уже оделись и навьючили на себя рабочие принадлежности.
В то утро в прекрасном Сан-Джованни, на лесах, доходивших до самого карниза, работа сперва так и кипела. Последнюю неделю Тафи старался как можно лучше, по всем правилам искусства, представить глазам верующих крещение Иисуса Христа. Сейчас он населял рыбою воды Иордана. Аполлоний изготовлял мастику из горной смолы и рубленой соломы, произнося при этом одному ему известные слова; Бруно и Буффальмако подбирали нужные камешки, а Тафи располагал их согласно образцу, нарисованному на грифельной доске, которую он держал перед собой. Но в ту минуту, когда мастер всецело углубился в свое занятие, трое молодчиков проворно спустились с лесенки и вышли из церкви. Бруно отправился за город на ферму Каландрино, чтобы позаимствовать блок, которым поднимали хлеб в амбар. Аполлоний тем временем сбегал в Риполи к старухе, жене судьи, которой пообещал изготовить зелье для привлечения любовников, и так как он уверил ее, что в состав зелья входит пенька, она отдала ему крепкую веревку с колодезя.
После этого оба приятеля направились в дом к Тафи, где застали Буффальмако; тот сейчас же принялся укреплять блок на главной балке потолка, как раз над перегородкой между комнатами мастера и учеников. Пропустив через блок веревку с колодезя почтенной дамы, он оставил один конец в своей комнате, а затем отправился в спальню Тафи и к другому концу привязал кровать за все четыре ножки. Чтобы ничего не было заметно, он прикрыл веревку пологом. Когда все было готово, три приятеля возвратились в Сан-Джованни.
В пылу работы мастер даже не заметил их отсутствия и теперь радостно сказал им:
— Взгляните на рыб: они переливаются всеми цветами и в особенности золотом, пурпуром и лазурью, как и подобает чудовищам, населяющим океан и водные потоки; дивным своим блеском они обязаны тому, что первые подпали под власть богини Венеры, как о том повествует легенда.
Так красноречиво и назидательно рассуждал учитель. Ибо был он человек ученый и умный, хотя в погоне за наживой проявлял коварный и злобный нрав.
— Сколь прекрасно и похвально ремесло живописца, доставляющее богатство на этом и вечное блаженство на том свете, — говорил он еще. — Ибо нет сомнений, что господь наш Иисус Христос с распростертыми объятиями примет в свой небесный рай тех тружеников, кои, подобно мне, создали правильное его изображение.
И Тафи с радостью трудился над этой огромной мозаикой, многие части которой уцелели по сей день. А когда сумерки мало-помалу стерли очертания и краски под сводами храма, он нехотя оторвался от реки Иордана и пошел домой. Поужинав на кухне двумя помидорами и кусочком сыра, он поднялся к себе в спальню, разделся, не зажигая свечи, и лег.
Вытянувшись в постели, он начал свою обычную молитву к пресвятой деве.
— Пресвятая дева, матерь божия, за заслуги свои заживо взятая на небеса, простри ко мне свою благодатную длань, дабы я мог взойти в божий рай!
Этой минуты только и ждали в соседней комнате трое озорников.
Они ухватились за веревку, свисавшую с блока вдоль перегородки, и не успел старик дочитать молитву, как Буффальмако подал знак, и они так дружно рванули веревку, что привязанная к ней кровать стала подниматься. Синьор Андреа, чувствуя, что его тянут вверх, но не видя, каким способом, вообразил, будто пресвятая дева вняла его молитве и возносит его на небеса, В сильнейшем испуге он закричал дрожащим голосом:
— Постой, постой, владычица! Ведь я же не просил, чтобы это было сию минуту.
Но веревка все еще скользила по блоку, и кровать продолжала подниматься; тогда старик стал жалостно молить деву Марию:
— Матушка, перестань тянуть! Слышишь, брось, говорю я, брось!
Но она, видимо, не желала внять ему. Тогда он разозлился и заорал:
— Оглохла ты, что ли, или башка у тебя дубовая? Брось тянуть, sporca Madonna!..[366]
Чувствуя, что кровать в самом деле отрывается от пола спальни, старик вне себя от страха стал молить Иисуса Христа, чтобы он унял свою пресвятую матерь. Пусть она немедля прекратит это несвоевременное вознесение. Он, Тафи, сам грешник и сын грешника и не может взойти на небеса, не завершив реку Иордан с ее волнами и рыбами и не доведя до конца земное житие господа нашего Иисуса Христа. А тем временем балдахин кровати уже почти касался потолка.
— Иисусе, если ты сию же минуту не остановишь свою пресвятую матерь, — кричал Тафи, — крыша этого дома, стоившего мне так дорого, будет неизбежно проломлена. Ибо меня возносят через нее. Прекрати это, прекрати! Я слышу, как трещат черепицы.
Тут Буффальмако заметил, что учитель совсем сипит и задыхается. Тогда он велел своим помощникам отпустить веревку, что они тотчас исполнили, вследствие чего кровать, сброшенная сверху, с грохотом рухнула на пол, ножки обломились, доски разошлись, колонки отлетели, а балдахин с пологом и занавесками упали на синьора Андреа, который, боясь задохнуться, вопил как одержимый. И в душевном потрясении от такого жестокого толчка не мог понять, то ли он свалился к себе в спальню, то ли низвергся в преисподнюю.
Трое подмастерьев кинулись к нему, словно их разбудил шум. Увидев обломки кровати посреди густого облака пыли, они притворились удивленными и вместо того, чтобы помочь учителю, стали допытываться, не дьявол ли произвел такое разрушение.
Но он только стонал в ответ:
— Мочи моей нет, освободите меня! Умираю!
Наконец они извлекли его из-под обломков, где он едва не отдал богу душу, и усадили, прислонив к стене. Он отдышался, откашлялся, отхаркнул и сказал:
— Дети мои, не приди мне на помощь господь наш Иисус Христос и не столкни меня на землю с такой силой, действие коей вы видите сами, я пребывал бы ныне в той небесной сфере, которая именуется хрустальным небом — перводвигателем[367]. Пресвятая матерь божия ничего и слушать не желала. Падая, я лишился трех зубов, хоть и не совсем целых, но еще вполне годных. Кроме того, у меня ужасно болит правый бок и рука, которой держат кисть.
— Учитель, — сказал Аполлоний, — должно быть, у вас какое-нибудь злостное внутреннее повреждение. Во время константинопольских междоусобиц я убедился, что внутренние раны куда вредоноснее наружных. Но не пугайтесь, ваши раны я заговорю магическими заклинаниями.
— И думать не смейте! — возразил старик. — Это великий грех. Лучше приблизьтесь ко мне все трое и, сделайте милость, разотрите меня в тех местах, где я ушибся всего больнее.
Они исполнили его просьбу и не отстали, пока не протерли у него всю кожу на спине и на пояснице.
А затем отправились втроем разносить происшествие по городу. Так что назавтра не было во Флоренции мужчины, женщины или ребенка, который, увидя мастера Андреа Тафи, не прыснул бы со смеху. А как-то утром, когда Буффальмако проходил по Корсо, мессер Гвидо, сын синьора Кавальканти, отправлявшийся на болото стрелять журавлей, остановил коня, подозвал подмастерья и бросил ему кошелек со словами:
— На, милейший Буффальмако, выпей за здоровье Эпикура и его последователей.
А надобно сказать, что мессер Гвидо принадлежал к секте эпикурейцев и тщательно собирал доводы, опровергающие бытие божие. Он имел обыкновение утверждать, что люди умирают точно так же, как животные.
— Буффальмако, — добавил молодой вельможа. — Я подарил тебе кошелек в награду за тот удачнейший, исчерпывающий и поучительный опыт, который ты проделал, когда отправил на небо старика Тафи и тот, чувствуя, что его мощи возносятся в эмпиреи, визжал, как недорезанная свинья. Из этого я заключаю, что он отнюдь не полагался на посулы небесного блаженства, которое и в самом деле мало достоверно. Как кормилицы баюкают сказками детей, так были посеяны толки о бессмертии смертных. Чернь верит в то, что она верит этим толкам! Но по-настоящему она не верит им. Удары действительности рассеивают вымыслы поэтов. Достоверно одно лишь наше невеселое бытие. Это и разумеет Гораций Флакк, говоря: «Serus in coelum»[368].
III. Мастер
Усвоив искусство составлять и употреблять мастику и краски и постигнув секрет, как писать лица по достойному подражания образцу Чимабуэ и Джотто, юный Буонамико Кристофани, флорентинец, прозванный Буффальмако, покинул мастерскую своего учителя Андреа Тафи и обосновался в квартале сукновалов, близ дома Гусака. Было это в ту пору, когда итальянские города, подобно дамам, жаждущим носить платья, затканные цветами, полагали свою честь в том, чтобы расписывать картинами свои храмы и монастыри. Щедрее и расточительнее всех городов была Флоренция, благодатный край для живописцев. Буффальмако умел придать своим изображениям живость и выразительность. Конечно, по красоте рисунка он был несравненно слабее божественного Джотто, зато умел пленить неистощимостью веселой выдумки. Не мудрено, что вскоре он получил немалое количество заказов. От него одного зависело в короткий срок добиться богатства и славы. Но ему куда важнее было развлекаться в обществе Бруно ди Джованни и Нелло и растрачивать на пирушки все заработанные деньги.
Как раз в ту пору настоятельница фаэнцской женской обители, обосновавшейся во Флоренции, задумала украсить фресками монастырскую церковь. Услышав, что в квартале сукновалов и чесальщиков проживает искусный живописец по имени Буффальмако, она послала к нему своего управителя уговориться насчет картин. Согласившись на предложенную цену, мастер принялся за работу. Он велел поставить в монастырской церкви леса и по непросохшей штукатурке принялся с необычайной выразительностью живописать земное бытие Иисуса Христа. Прежде всего справа от алтаря он представил избиение младенцев и так живо изобразил горе и гнев матерей, тщетно пытающихся вырвать своих малюток из рук убийц, что казалось, будто стена взывает, как верующие во время богослужения: «Cur, crudelis Herodes?..»[369] Привлеченные любопытством, монашенки приходили по двое, по трое посмотреть, как работает мастер.
При виде страждущих матерей и убиваемых младенцев они не могли удержать вопли и рыдания. Буффальмако изобразил грудного ребеночка, который лежит запеленатый под ногами солдата и, улыбаясь, сосет свой палец. Монашенки просили помиловать хотя бы этого.
— Пощадите его, — говорили они живописцу, — постарайтесь, чтобы он не попался на глаза убийцам!
— Из любви к вам, дражайшие сестры, постараюсь защитить его, как могу, — отвечал добряк Буффальмако. — Но убийц обуревает такая ярость, что трудно будет удержать их.
Когда они говорили: «Он такой хорошенький!», Буффальмако предлагал сделать каждой еще лучшего.
— Покорно благодарим! — смеясь, отвечали они.
Настоятельница тоже пришла удостовериться, что работа ведется должным образом. Это была знатная дама по имени Узимбальда. Она отличалась суровостью, высокомерием и бдительностью. Увидев мужчину без плаща и шапки, одетого, как ремесленники, только в рубаху и штаны, она приняла его за подмастерье и не стала с ним разговаривать. Пять-шесть раз приходила она в часовню и неизменно заставала одного этого малого, который, как она думала, умел лишь растирать краски. Под конец она выразила ему свое недовольство.
— Любезный, попросите от моего имени вашего хозяина, — сказала она, — чтобы он сам изволил работать над картинами, которые я ему заказала. Мне желательно, чтобы они были написаны его рукой, а не каким-то учеником.
Буффальмако и не подумал назваться, а, наоборот, вошел в роль бедного подмастерья и смиренно ответил синьоре Узимбальде, что, разумеется, не в его силах внушить доверие такой высокородной даме, а потому он почитает своим долгом исполнить ее волю.
— Я передам ваши слова хозяину, и он не преминет явиться на зов досточтимой настоятельницы.
Выслушав это заверение, синьора Узимбальда удалилась. Оставшись один, Буффальмако установил на лесах в том самом месте, где работал, два табурета, а сверху водрузил кувшин. Затем он достал из угла, куда бросил их, плащ и шляпу, оказавшиеся случайно вполне сносными, и нарядил в них самодельную куклу; мало того, он засунул кисть в носик кувшина, повернутый к стене. Покончив с этим и убедившись, что чучело довольно правдоподобно представляет рисующего человека, он проворно убрался, решив не показываться до самой развязки.
На следующий день монашенки пришли, как обычно, посмотреть на работу. Но застав вместо прежнего балагура какого-то чопорного кавалера, не склонного, по всей видимости, болтать и смеяться, они струсили и пустились наутек.
Синьора Узимбальда, тоже пожаловавшая в церковь, осталась очень довольна, увидев самого мастера вместо ученика.
Она принялась вразумлять его и добрых четверть часа заклинала рисовать лица целомудренные, благородные и выразительные, прежде чем заметила, что обращается к кувшину.
Заблуждение ее длилось бы еще дольше, если бы, не получая ответа и рассердившись, она не дернула мастера снизу за плащ, отчего свалились и кувшин, и табурет, и шляпа, и кисть. Сперва она распалилась гневом; но затем, будучи женщиной неглупой, поняла, что ей хотели наглядно показать, как опрометчиво судить о художнике по одежде. Она послала своего управителя за Буффальмако с просьбой, чтобы он сам закончил начатую работу.
Он с честью завершил ее. Знатоков особенно восхищали те фрески, где изображены распятый Христос, плачущие жены мироносицы, Иуда, висящий на дереве, и сморкающийся мужчина. К несчастью, эти картины были уничтожены вместе с церковью фаэнцской женской обители.
IV. Живописец
Равно знаменитый своим веселым нравом и умением живописать святых в храмах и монастырях, Буонамико, прозванный Буффальмако, был уже в летах, когда монсеньер епископ призвал его из Флоренции в свой город Ареццо и попросил украсить фресками залы епископского дворца. Буффальмако согласился исполнить эту работу и, как только стены были оштукатурены, принялся писать поклонение волхвов.
В несколько дней он закончил царя Мельхиора. Тот сидел на белой лошади как живой. А чепрак был из пурпурной ткани и усыпан драгоценными каменьями.
Пока Буффальмако работал, обезьянка монсеньера епископа следила за ним, не сводя глаз. Перебирал ли мастер краски, смешивал ли их, взбивал ли яйца, или накладывал кистью мазки на непросохшую штукатурку, зверек не упускал ни одного его движения. Это была макака, привезенная венецианскому дожу на галере Республики из берберийских владений. Дож подарил ее епископу Ареццскому, который, поблагодарив этого могущественного владыку, весьма кстати напомнил ему, что корабли царя Соломона тоже привезли из страны Офир обезьян и павлинов, как о том гласит третья Книга Царств (X, 22). И для монсеньера Гвидо (так звали епископа) во всем дворце не было ничего дороже макаки.
Он позволял ей беспрепятственно разгуливать по всем залам и садам, где зверушка проказничала вволю. Как-то в воскресный день, в отсутствие художника, она взобралась на помост, взяла краски, смешала их по своей прихоти, разбила все яйца, какие только ей попались, и, подражая мастеру, принялась водить по стене. Она поработала и над царем Мельхиором и над его конем и не угомонилась, пока не перекрасила все на свой лад.
Наутро, увидев, что краски его в беспорядке, а работа испорчена, Буффальмако опечалился и рассердился. Он решил, что эту пакость ему устроил какой-нибудь художник-аретинец из зависти к его мастерству, и пошел жаловаться епископу. Монсеньер Гвидо упросил его вновь взяться за работу и поскорее восстановить то, что было уничтожено столь таинственным образом. Он обещал художнику, что впредь два солдата будут днем и ночью сторожить фрески, держа копья наготове, дабы пронзить всякого, кто к ним приблизится. Получив такое обещание, Буффальмако согласился возобновить работу, а возле него были поставлены нести караул двое солдат. Однажды вечером, когда он вышел, окончив свой рабочий день, солдаты увидели, как обезьянка монсеньера епископа вскочила на его место на помосте и схватилась за краски и кисти, да так проворно, что они не успели прогнать ее. Они принялись громкими криками звать художника, и тот воротился как раз в ту минуту, когда макака вторично с неукротимым усердием замазывала царя Мельхиора, белую лошадь и пурпурный чепрак. Увидев это зрелище, Буффальмако не знал, плакать ему или смеяться.
Он отправился к епископу и сказал ему:
— Монсеньер, вам нравится моя живопись; но ваша мартышка предпочитает другую. Незачем было звать меня, раз у вас есть свой домашний живописец. Быть может, раньше у него недоставало сноровки. Теперь же ему больше нечему учиться, а мне нечего здесь делать, и я возвращаюсь во Флоренцию.
После этих слов Буффальмако в сильной досаде вернулся на постоялый двор. Кое-как поужинав, он уныло поплелся спать.
Во сне ему привиделась обезьяна монсеньера епископа, но не в виде получеловека, каковым она была на самом деле, а вышиной с гору Сан-Джеминьяно, так что ее задранный хвост доставал до луны. Она восседала на оливковой роще над усадьбами и точилами, между ее ногами пролегала узкая тропа, извивавшаяся вдоль зелени виноградников. А тропа эта была усеяна паломниками, которые вереницей проходили перед живописцем. И Буффальмако понял, что это бессчетные жертвы его озорства.
Первым увидел он старого мастера Андреа Тафи, у которого научился, как прославить себя, занимаясь искусством, но вместо признательности, он не раз оставлял его в дураках: то выдал за адских духов свечки, приколотые к спинам дюжины крупных тараканов, то поднял его вместе с кроватью до потолка, так что старик решил, будто его возносят на небеса, и до смерти перепугался.
Затем он увидел Гусака, чесальщика шерсти, и его жену, отменную пряху. Кому, как не этой почтенной женщине Буффальмако через щель в стене пригоршнями бросал соль в чугунок с похлебкой, так что Гусак каждый день плевался и колотил жену.
Увидел он и мэтра Симона де Вилла, лекаря из Болоньи, приметного по докторской шапочке, того самого, который по милости Буффальмако угодил в мусорную яму возле обители риполийских монашенок. При этом доктор вконец измазал парадную бархатную мантию, однако никто его не пожалел, потому что, презрев свою уродливую, но благочестивую жену, он вздумал искать любовных утех у бесовской крали с рожками между ягодиц. Озорник Буффальмако уверил мэтра Симона де Вилла, что может ночью повести его на шабаш, где сам он проводит время в веселой компании и предается любви с французской королевой, а она угощает его за труды вином и сластями. Ученый муж принял предложение, надеясь, что и с ним обойдутся не хуже. И вот Буффальмако закутался в звериную шкуру, надел рогатую маску, какие носят на карнавале, и явился к мэтру Симону под видом черта, которому поручено проводить его на шабаш. Взвалив ученого мужа на плечи, он дотащил его до ямы, наполненной нечистотами, и швырнул туда головой вниз.
Еще Буффальмако увидел Каландрино, которому он наврал, будто на Муньонской равнине водится камень, именуемый Элиотропия и обладающий свойством делать невидимым того, кто носит кусочек его на себе. В сопровождении Бруно ди Джованни он повел Каландрино в Муньоне, и, когда тот набрал порядочное количество камней, Буффальмако притворился, будто не видит его, и закричал:
— Экий невежа, улизнул от нас! Попадись он мне теперь, я ему залеплю в зад вот этот булыжник! — И он в точности исполнил свою угрозу, а Каландрино даже пожаловаться не посмел, — ведь он был невидим. Каландрино отличался скудоумием, и Буффальмако до такой степени злоупотреблял его простотой, что ухитрился внушить ему, будто он носит в чреве младенца, и разрешение от бремени стоило Каландрино парочки каплунов.
Затем Буффальмако увидел крестьянина, для которого написал божью матерь с младенцем, превратив Христа в медвежонка.
Еще увидел он настоятельницу фаэнцской женской обители, которая поручила ему расписать стены монастырского храма и которой он клялся и божился, что в краски нужно добавлять хорошее вино, дабы придать лицам, изображаемым на картинах, цветущий вид. Настоятельница пожертвовала на его святых праведников и праведниц все вино, припасенное для епископов, он же выпил вино, а для живости красок ограничился добавлением киновари. Этой же самой почтенной настоятельнице он выдал кувшин, покрытый плащом, за мастера-живописца, как было рассказано выше.
И еще целую вереницу людей увидел Буффальмако, которых провел, осмеял, обманул и одурачил. А позади всех шествовал при посохе, митре и в полном облачении сам святой Геркулан, которого он шутки ради изобразил на площади города Перуджи в венце из рыбешек.
И все, проходя мимо, приветствовали обезьяну, отомстившую за них, а гадина хохотала, разевая пасть шире, чем распахнуты врата ада.
В первый раз за всю свою жизнь Буффальмако плохо спал ночь.
VI. ДАМА ИЗ ВЕРОНЫ
Гюгу Ребеллю[370]
Puella autem moriens dixit: «Satanas, trado tibi corpus meum cum anima mea».
(Quadragesimale opus declamatum Parisiis in ecclesia Sti Johannis in Gratia per venerabilem patrem Sacre Scripturae interpretem eximium Oliverium Maillardi. 1511).
А девушка, умирая, сказала: «Сатана, предаю тебе тело мое вместе с душою» (Сорокоуст, прочитанный в Париже в храме св. Иоанна Гравийского достопочтенным отцом Оливье Майяром, выдающимся толкователем Священного писания, 1511) (лат.).
Нижеизложенное обнаружено достопочтенным отцом Адоне Дони в архивах монастыря Санта-Кроче в Вероне.
Синьора Элетта из Вероны была так дивно хороша и так превосходно сложена, что ученые молодые люди, сведущие в истории и мифологии, именовали ее матушку то Латоной, то Ледой, то Семелой[371], подразумевая под этим, что плод в ее чреве был зачат не иначе, как богом Юпитером, а не смертным мужчиной, какими были муж и любовники почтенной дамы. Но наиболее умудренные, и в частности фра Баттиста, бывший до меня настоятелем монастыря Санта-Кроче, полагали, что такая плотская красота должна быть делом рук дьявола, великого артиста, в том смысле, какой вкладывал в это слово римский император Нерон, сказавший перед смертью: «Что за великий артист погибает!»[372]
В самом деле, нет сомнения, что враг господень, Сатана, мастер обрабатывать металлы, искушен также в делах плоти. Самому мне, не мало повидавшему на своем веку, не раз попадались на глаза колокола и изображения людей, сработанные врагом рода человеческого. Мастерство в них проявлено поистине удивительное. Точно так же доводилось мне встречать детей, зачатых женщинами от дьявола. Но тут язык мой связан тайной исповеди. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что о рождении синьоры Элетты ходили странные толки. Впервые я увидел эту даму на веронской площади в страстную пятницу тысяча триста двадцатого года, когда ей минуло четырнадцать лет. С тех пор я не раз встречал ее на прогулках и в церквах, посещаемых дамами. Она напоминала картину, написанную превосходным мастером.
У нее были золотистые вьющиеся волосы, белый лоб, глаза такого цвета, какой встречается только у драгоценного камня, именуемого аквамарином, розовые щеки, прямой и тонкий нос. Губы своими очертаниями повторяли лук амура и пронзали одной улыбкой, а подбородок ласкал взор не менее губ. Сложена синьора Элетта была на радость любовникам. Груди, не слишком пышные, вздымались под сорочкой двумя упругими и нежными округлостями. По причине моего духовного сана, а также потому, что я видел ее лишь под покровами и в одежде, не стану описывать остальные части ее тела, но и сквозь ткань платья можно было угадать все их совершенство. Скажу лишь одно: когда она находилась на обычном своем месте в церкви Сан-Дзеноне, стоило ей сделать малейшее движение, то ли встать, то ли опуститься на колени, или упасть ниц на плиты храма, как положено в минуту возношения святых даров, и тотчас же у всех глядящих на нее мужчин вспыхивало страстное желание заключить ее в объятия.
На пятнадцатом году синьора Элетта сочеталась браком с мессером Антонио Торлота, адвокатом, человеком весьма ученым, богатым и всеми почитаемым, но уже в преклонных летах, притом уродливым и толстым как колода, так что, когда он нес свои бумаги в большом кожаном мешке, казалось, будто один мешок тащит другой.
Обидно было думать, что в силу таинства брака, установленного для людей ради их славы и вечного блаженства, прекраснейшая из веронских дам принуждена спать с этим дряхлым и немощным стариком. И местные мудрецы скорее с грустью, нежели с удивлением, узнали, что, пользуясь свободой, какую предоставляет ей муж, по целым ночам занятый разрешением трудного вопроса, кто прав, а кто не прав, молодая супруга мессера Антонио Торлота принимает у себя в постели прекраснейших кавалеров Вероны. Но наслаждение, которое она при этом получала, исходило от нее, а не от них. Их она не любила, она любила себя. Ее пленяло только ее собственное тело. Для нее в себе самой было и желание, и вожделение, и соблазн. Тем самым, на мой взгляд, плотский грех стократно усугублялся для нее. Ибо, хоть этот грех и отдаляет нас от господа, из чего уже достаточно явствует, сколь он тяжек, однако справедливость требует признать, что всевышний судья менее суров как на этом, так и на том свете к творившим плотский грех, нежели к скупцам, предателям, убийцам, а также злодеям, извлекавшим корысть из святыни, — поскольку грязные желания, питаемые сластолюбцами, направлены не на себя, а на других и содержат, пусть в опоганенном виде, частицы истинной любви и жалости.
Но ничего такого не было в блуде синьоры Элетты, всякий раз любившей только самое себя. И этим она отдалялась от господа более многих других женщин, не умеющих противиться своим вожделениям. Но их-то вожделения направлены на других. А синьора Элетта вожделела лишь к себе. Я подчеркиваю это, чтобы сделать более понятным дальнейшее.
Когда ей сравнялось двадцать лет, она занемогла и почувствовала близость смерти. И вот она принялась оплакивать свое прекрасное тело и скорбеть о нем. Она приказала своим прислужницам надеть на нее самые богатые уборы, погляделась в зеркало, обеими руками погладила свою грудь и бедра, дабы в последний раз насладиться собственными прелестями. И не желая мириться с тем, что обожаемое ею тело станет пищей червей в сырой земле, она, умирая, глубоко вздохнула и сказала с верой и упованием:
— Сатана, возлюбленный Сатана, возьми мою душу и мое тело. Сатана, сладчайший Сатана, услышь мою молитву: вместе с душой возьми и мое тело!
Ее отнесли в церковь Сан-Дзеноне, по обычаю, с открытым лицом. Никто никогда не видал такой прекрасной покойницы. В то время как священники служили над ней заупокойную мессу, казалось, будто она сомлела в объятиях незримого любовника. После отпевания гроб синьоры Элетты, тщательно забитый, был опущен в освященную землю подле других могил, окружающих церковь Сан-Дзеноне, среди коих есть и античные саркофаги. Но наутро земля, которой засыпали усопшую, была сброшена и все увидели открытый и пустой гроб.
VII. ТРАГЕДИЯ ЧЕЛОВЕКА
Ж.-О. Рони[373]
Злых мытарств полна жизнь людская вся,
И нет отдыха от тягот нам.
Счастье есть… Но где-то вдали
Мрак сокрыл его в черной туче (греч.)
Еврипид, «Ипполит».I. Фра Джованни
В ту пору нищий господа нашего Иисуса Христа, святой Франциск вознесся на небо. Родившись от человека, он был истинным сыном божиим и обручился с той, кого, как и смерть, никто не встретит приветливо на пороге дома. Земля, благоухавшая его деяниями, приняла его нагое тело и слова, которые он посеял. Духовные сыны Франциска множились среди народов, ибо благословение Авраамово было на них.
Короли и королевы подпоясывали себя веревкою нищего Христова. Тысячи людей искали душевного покоя в забвении себя и мира. И, убегая от радости, они ее обретали.
Орден святого Франциска распространился по всем христианским землям; обители нищих Христовых заполонили собой Италию, Испанию, все области Галлии и Германии. Святейшая обитель возникла и в городе Витербо. Фра Джованни проповедовал там нищету. Он жил смиренно, унижаемый всеми, и душа его цвела, как невидимый сад.
Путем откровения он постиг истины, недоступные людям рассудительным и умелым. Живя в неведении и в простоте, он знал то, чего ученые мира не знают и ныне.
Он знал, что погоня за богатством озлобляет людей, обрекая их на бедствия, и что, будучи рождены нищими и нагими, они были бы счастливее, если бы оставались такими всю жизнь.
Он радовался нищете. Послушание было для него усладой. И, не задумываясь над будущим, он вкушал дары сердца. Ибо поступки человеческие чреваты дурными последствиями, и все мы подобны деревьям, чьи плоды пропитаны ядом. Он боялся действовать, так как всякое усилие мучительно и бесплодно. Он боялся думать, так как мысль исполнена зла.
Он жил в смирении, зная, что человеку не за что возвеличивать себя и что от гордыни души черствеют. Знал он также, что люди, чье единственное достояние — сокровища духа, начав кичиться ими, становятся столь же ничтожными, как и владыки мира.
Смирением своим фра Джованни превосходил всех монахов витербской обители. Настоятель монастыря, святой брат Сильвестр, не был столь добродетелен, как он, ибо хозяин никогда не бывает так добр, как слуга, а мать — так невинна, как ребенок.
Заметив, что фра Джованни имеет обыкновение снимать с себя рясу, чтобы прикрыть ею наготу ближнего своего, настоятель во имя святого послушания запретил ему отдавать свою одежду нищим. В тот день, когда на него наложили этот запрет, Джованни, по своему обыкновению, отправился молиться в лес на склонах горы Кунино. Стояла зима. Шел снег, и волки забирались в деревни.
Преклонив колена у подножия дуба, фра Джованни обратился к богу, как друг обращается к другу, и умолял его пожалеть сирот, вдов и узников, пожалеть пахаря, которого притесняют ростовщики, пожалеть лесных оленей и ланей, преследуемых охотниками, и зайца, и птицу, попавшую в силок. И восторг охватил его, и он увидел десницу, простертую в небе.
Когда солнце скользнуло за гору, божий человек поднялся с колен и пошел обратно к себе в обитель. На белой пустынной дороге ему повстречался нищий, который попросил у него милостыни во имя божье.
— Увы, — ответил ему фра Джованни, — у меня нет ничего, кроме рясы, а настоятель не позволяет мне разрезать ее, чтобы отдать половину. Поэтому я не могу разделить ее с тобой. Но если ты любишь меня, сын мой, ты возьмешь ее у меня всю целиком.
Услыхав эти слова, нищий снял рясу с монаха.
Тогда фра Джованни, совсем нагой, зашагал под падающим снегом и так вошел в город. В то время как он проходил по площади, препоясав чресла одной лишь тряпицей, дети, игравшие там, стали смеяться над ним. Чтобы оскорбить его, они показывали ему кулак с высунутым большим пальцем и забрасывали его снегом, смешанным с камушками и грязью.
На городской площади лежали бревна, приготовленные для постройки дома. Одно из них было положено поперек. Двое детей уселись на концах бревна и начали на нем качаться. Дети эти только что вместе с другими высмеивали святого и забрасывали его камнями.
Он подошел к ним и, улыбаясь, сказал:
— Милые детки, позвольте мне поиграть с вами!
И, усевшись на конец бревна, он стал качаться вместе с детьми.
Тогда горожане, проходившие мимо, сказали:
— Поистине человек этот лишен разума.
Но и после того, как колокола прозвонили к вечерней молитве, фра Джованни все еще продолжал качаться. И случилось так, что священники из Рима, приехавшие в Витербо, чтобы посетить нищенствующую братию, слава которой была велика во всем мире, проходили по площади. И, услыхав, как дети кричат: «Вот братец Джованни», священники эти подошли к монаху и очень почтительно поклонились ему. Но святой не ответил на их приветствие и продолжал раскачиваться на бревне, как будто не замечая их. И священники сказали друг другу:
— Оставим этого человека, он совсем глупый.
Услыхав это, фра Джованни возвеселился, и сердце его преисполнилось восторга. Ибо делал он все это из любви к богу и в унижении своем прятал радость, как скупой прячет золото под тройным замком в сундуке из кедрового дерева.
Ночью он постучался в ворота монастыря. И когда ему открыли, он явился перед всеми голый, окровавленный и выпачканный в грязи. Он улыбнулся и сказал:
— Вор-благодетель снял с меня рясу, а дети почли меня достойным играть с ними.
Но братья возмутились тем, что он осмелился идти по городу в столь непристойном виде.
— Он ничуть не боится, — говорили они, — выставлять на позор и посмешище святой орден святого Франциска. Он заслуживает самого сурового наказания.
Генерал ордена, предупрежденный о том, что великое смущение охватило святую братию, собрал всех монахов и приказал фра Джованни стать на колени перед ними. Покраснев от гнева, он резким голосом принялся стыдить фра Джованни. Потом он посоветовался с собравшимися о том, какому наказанию предать виновного.
Кто-то потребовал, чтобы он был брошен в темницу или посажен в клетку и подвешен в ней на церковную колокольню. Другие считали, что его, как умалишенного, следует заковать в цепи.
А фра Джованни радостно говорил:
— Вы правы, братья мои, меня надо наказать именно так и даже еще строже. Я способен только понапрасну растрачивать все богатства господа бога и моего ордена.
И брат Марциан, который был очень строг и в нравах своих и в поучениях, воскликнул:
— Разве вы не слышите, что он говорит как лицемер и что этот медоточивый голос доносится к нам из гроба повапленного.
А фра Джованни сказал еще:
— Брат Марциан, я способен совершить все дурное, если только бог не придет мне на помощь.
Тем временем генерал ордена задумался над удивительным поведением монаха и обратился с молитвой к святому духу, прося, чтобы тот вразумил его, как поступить с фра Джованни. И по мере того как он молился, гнев его переходил в восхищение. Он знал святого Франциска в ту пору, когда этот ангел, родившийся от женщины, еще пребывал на земле, и пример избранника Иисусова пленил его тогда своей красотой духовной.
Вот почему свет озарил его душу, и деяния фра Джованни предстали ему во всей своей божественной простоте.
— Братья мои, — сказал он, — вместо того чтобы поносить фра Джованни, возрадуемся тому, что столько благодати снизошло на него. Поистине, он лучше всех нас. В делах своих он следует примеру Иисуса Христа, который призывал к себе малых детей и безропотно терпел, когда палачи срывали с него одежды.
И он обратился к коленопреклоненному монаху со следующими словами:
— Брат мой, вот какое наказание я накладываю на тебя. Во имя святого послушания приказываю тебе: ты выйдешь за черту города и, как только повстречаешь нищего, попросишь его снять с тебя последнюю одежду. И, когда он разденет тебя догола, ты вернешься сюда и будешь играть с детьми на городской площади.
Сказав это, генерал ордена сошел с кафедры и, подняв Джованни, сам стал на колени перед ним и поцеловал ему ноги. Потом, повернувшись ко всем монахам, он сказал:
— Братья мои, истинно говорю вам, человеком этим движет господь.
II. Лампада
В ту пору фра Джованни уже постиг, что все богатства мира сего дарованы богом и что они должны стать достоянием нищих — избранников Иисуса Христа.
Христиане готовились праздновать рождество; и в эти дни фра Джованни прибыл в город Ассизи. Город этот стоит на горе. И с вершины той горы солнце милосердия взошло над миром.
Накануне рождественского сочельника фра Джованни, коленопреклоненный, молился перед алтарем, под которым в каменной колоде покоилось тело святого Франциска. И он погрузился в думы о том, что святой Франциск, как и Иисус, родился в хлеву.
В то время как он размышлял, причетник попросил его покараулить храм, пока он сходит поужинать. Стены церкви и алтарь были увешаны драгоценными украшениями: в них было много золота и серебра, так как сыны святого Франциска перестали соблюдать обет нищеты и уже принимали подарки от королев.
Фра Джованни ответил причетнику:
— Идите, брат мой, а я постерегу храм, как это велит господь.
Сказав это, он вновь погрузился в свои размышления. И в то время как он молился там один, пришла нищая и попросила милостыню ради Христа.
— У меня ничего нет, — ответил святой, — но в алтаре есть разные украшения, и, может быть, я смогу вам что-нибудь дать.
Над алтарем висела золотая лампада. Она была вся украшена серебряными подвесками. Взглянув на эту лампаду, фра Джованни подумал: «Подвески эти — никому не нужные украшения. Истинное украшение этого алтаря — тело святого Франциска, которое покоится обнаженным под могильной плитой, на подушке из камня».
И вытащив из кармана нож, он отрезал подвески, одну за другой, и отдал их нищей.
А когда причетник вернулся в храм, фра Джованни, человек божий, сказал ему:
— Брат мой, не ищите подвесок, украшавших лампаду, я отдал их нищей. Они ей нужнее, чем храму.
Фра Джованни поступил так, ибо откровение вразумило его, что все ценности на этом свете, принадлежа богу, принадлежат тем самым и нищим.
И на земле люди, пекущиеся о богатстве, порицали его. Но господь увидел его и почел достойным хвалы.
III. Серафический доктор
Фра Джованни плохо разбирался в науках и наслаждался своим неведением, которое было для него неистощимым источником смирения.
Но, встретив однажды в монастыре Санта-Мариа дельи Анджоли докторов богословия, рассуждавших о совершенствах пресвятой троицы и о таинствах страстей господних, он начал думать, что у этих ученых, очевидно, больше любви к богу, чем у него, оттого что они больше знают о боге.
Печаль закралась в его душу, и в первый раз в жизни он впал в уныние. Чувство это было ему несвойственно, ибо удел нищих — радость.
Он решил рассказать генералу ордена о своих сомнениях, чтобы избавиться от их непосильного гнета. Генералом ордена был тогда Джованни ди Фиданца[374].
В младенчестве он был самим святым Франциском наречен именем Бонавентуры[375]. Он изучал богословие в Парижском университете и превосходно постиг учение о любви, которое и есть истинное учение божие. Он знал, через какие четыре степени совершенства творение может подниматься к творцу, и размышлял о таинственном значении шести крыльев у серафима. Поэтому его и прозвали серафическим доктором.
Он хорошо понимал, что всякое знание бесплодно, если ему не сопутствует любовь. Фра Джованни застал Бонавентуру прогуливающимся по саду на уступе горы, которая возвышалась над городом.
Было воскресенье. Городские ремесленники и виноградари, пришедшие из деревень, поднимались в гору по улице, которая вела к церкви.
И фра Джованни, увидев брата Бонавентуру в саду, среди лилий, подошел к нему и сказал:
— Брат Бонавентура, разрешите сомнения, которые мучат меня, и ответьте мне: может ли невежда так же любить господа, как и человек ученый?
И брат Бонавентура ответил:
— Истинно говорю тебе, фра Джованни, в любви своей к богу какая-нибудь бедная старушка может быть равной всем докторам богословия и даже превзойти их. А коль скоро ничто не имеет такого значения для человека, как любовь, то еще раз повторяю тебе, брат мой: какая-нибудь самая темная женщина может оказаться на небесах выше всех докторов наук.
Когда фра Джованни услышал это, сердце его исполнилось радости, и, перегнувшись через низенькую изгородь, он с любовью смотрел на прохожих. И он крикнул во весь голос:
— Слушайте, женщины, бедные, простые и темные, место вам на небесах уготовано выше, чем брату Бонавентуре.
А серафический доктор, гулявший в саду среди лилий, при этих словах улыбнулся.
IV. Хлеб на камне
Во исполнение завета святого Франциска, который говорил сынам своим: «Идите от дома к дому и собирайте подаяние», фра Джованни был однажды послан в некий город. Пройдя через крепостные ворота, он пошел по улицам от дома к дому, прося милостыню именем божьим.
Но люди в этом городе были еще скупее, чем в Лукке, и еще черствее, чем в Перудже. Булочники и кожевники, игравшие в кости у дверей своих лавок, прогнали нищего Христова злыми, безжалостными словами. И даже молодые женщины с новорожденными младенцами на руках, завидев его, отворачивались в сторону. А когда благочестивый монах, находивший в унижении своем радость, улыбался, встречая отказы и оскорбления, жители города говорили:
— Он смеется над нами. Это безумный, а скорее всего какой-нибудь бездельник или пьяница. Видно, он выпил слишком много вина. Такому, как он, грешно подавать даже корку хлеба.
А благочестивый брат отвечал:
— Вы правы, друзья мои, я не заслуживаю вашей жалости и недостоин вкушать пищу вместе с вашими псами и вашими свиньями.
Дети, которые в это время выходили из школы, услыхали эти слова и побежали за святым, крича ему вслед:
— Дурачок! Дурачок!
И они принялись кидать в него камнями и грязью.
Тогда фра Джованни удалился из города. Город этот был расположен на склонах холма и окружен оливковыми рощами и виноградниками.
Монах спустился вниз по ложбине и, увидев спелые кисти винограда, обвивающего ветки молодых вязов, протянул руку и благословил виноградные гроздья. Он благословил также маслины и тутовые деревья и хлебные поля. Голод и жажда томили его, но и голод и жажда стали для него наслаждением.
В конце дороги он увидел лавровую рощу. В обычае нищей братии было ходить молиться в леса; там их окружали бедные звери, на которых охотятся жестокие люди. Вот почему фра Джованни отправился в лес и побрел по берегу прозрачного певучего ручейка. И на берегу ручья он вдруг увидел плоский камень.
В это мгновение юноша ослепительной красоты, одетый в белое, положил на камень кусок хлеба и скрылся.
Фра Джованни, став на колени, начал молиться. Он сказал:
— До чего же велика милость твоя, господи, если ты посылаешь ангела оставить подаяние нищему твоему! О благословенная нищета! О прекраснейшая и полная богатств нищета!
И он съел хлеб, принесенный ангелом, и запил его водой из ручья. После этого он укрепился и телом и духом. И невидимая рука начертала на стенах города; «Горе богатым!»
V. Стол под смоковницей
Следуя примеру любимого пастыря своего, святого Франциска, фра Джованни ходил в больницу города Витербо ухаживать за прокаженными. Он давал им пить и омывал их язвы.
И, когда они богохульствовали, он говорил им: «Вы — избранники Христовы». Были среди прокаженных и люди, исполненные смирения; фра Джованни собирал их в отдельном покое, и когда они усаживались вокруг него, чувствовал себя счастливым, как мать, когда ее окружают дети.
Но стены в больнице были толстые, свет и воздух проникали туда только сквозь высоко прорезанные узкие окна. Прокаженным нечем было дышать, и они страдали. И фра Джованни увидел, что один из них по имени Лючидо[376], отличавшийся редкостным терпением, совсем уж ослабел от этого тлетворного воздуха.
Фра Джованни любил Лючидо и говорил ему:
— Брат мой, тебя зовут Лючидо, и на свете нет ни одного драгоценного камня, который в глазах божьих был бы чище, чем сердце твое.
Заметив, что Лючидо страдает больше, чем все остальные, от зловонных запахов больницы, он сказал ему однажды:
— Друг мой Лючидо, милый агнец господа нашего, в то время как здесь люди дышат смрадом, мы в садах Санта-Мариа дельи Анджоли упиваемся благоуханием ракитника. Пойдем со мною в обитель нашей братии. Там ты увидишь солнце и будешь дышать чистым воздухом, и это облегчит твои страдания.
С этими словами он взял прокаженного под руку, накрыл своим плащом и привел его к обители Санта-Мариа дельи Анджоли.
Подойдя к воротам, он стал звать брата-привратника; он весело закричал ему:
— Отворяй, отворяй ворота другу, которого я веду к вам. Его зовут Лючидо, и его правильно назвали, потому что поистине это жемчужина терпения.
Привратник открыл ворота. Но когда он увидел, рука об руку с фра Джованни, человека с посиневшим, неподвижным лицом, сплошь покрытым чешуйками, он понял, что это прокаженный, и в ужасе побежал предупредить брата-настоятеля. Настоятеля этого звали Андреа; он был родом из Падуи и славился своей благочестивой жизнью. Однако, когда он увидел, что фра Джованни ведет в обитель Санта-Мариа дельи Анджоли прокаженного, он возмутился. Он подошел к нему с покрасневшим от гнева лицом и сказал:
— И не думай вводить сюда этого человека. Ты совсем обезумел! Как ты смеешь подвергать своих братьев опасности заражения.
Фра Джованни, ничего не ответив, опустил голову. Вся радость исчезла с лица его. И Лючидо, видя, что он загрустил, сказал:
— Брат мой, меня огорчает, что вы так печалитесь из-за меня.
Тогда фра Джованни поцеловал прокаженного в щеку. Потом он сказал настоятелю:
— Отец мой, не разрешите ли вы мне побыть с этим человеком здесь, на воздухе, и поделиться с ним моим ужином?
Настоятель ответил:
— Поступай как хочешь, раз ты ставишь себя выше святого послушания.
И, сказав это, он вернулся в обитель.
У ворот монастыря под тенью смоковницы была каменная скамья. На эту скамью фра Джованни поставил миску с едой. И, в то время как они ужинали там с прокаженным, настоятель приказал отворить ворота. Он пришел к ним под смоковницу и сказал:
— Фра Джованни, прости, что я обидел тебя. Я пришел разделить вашу трапезу.
VI. Искушение
Сидя однажды на склоне горы, Сатана смотрел оттуда на святую обитель. Он был черен и красив и походил на молодого египтянина. И ему подумалось: «Именно потому, что я Враг, что я Другой, я стану искушать этих монахов и расскажу им все, о чем умалчивает Тот, с кем они в дружбе. Я огорчу их, сказав им правду, опечалю их своими трезвыми речами. Мысль моя будет для них как удар меча. И, узнав истину, они станут несчастными. Ибо один лишь обман может дать радость, и только в неведении обретается мир. Я — господин всех тех, кто изучает природу растений и животных, свойства камней, тайны огня, движение небесных светил и влияние планет на жизнь человека; потому-то люди и прозвали меня Князем Тьмы. И они зовут меня Лукавым, потому что я свил веревку, которой Ульпиан[377] укрепил пошатнувшиеся законы. И царство мое здесь, на земле. Да, я стану искушать этих монахов и докажу им, как дурны бывают их поступки и какие горькие плоды созревают на древе их милосердия. Искушать же их я буду без ненависти и без любви».
Так говорил Сатана сам с собой. Меж тем вечерние тени ложились уже у подножья холмов, струйки дыма взвились над крышами хижин и божий человек Джованни вышел из леса, где он обычно молился, и пошел по дороге, направляясь в обитель Санта-Мариа дельи Анджоли. И он сказал:
— Обитель моя, посвятив себя нищете, стала обителью радости.
Завидев на дороге фра Джованни, Сатана подумал: «Вот один из тех, кого я буду сейчас искушать».
И, окутав голову своим черным плащом, он пошел навстречу святому по дороге, обсаженной терпентиновыми деревьями.
И он принял облик вдовы, укрывшейся покрывалом, и, подойдя к фра Джованни, сладким голосом попросил у него милостыни:
— Подайте мне во имя того, кто вам друг и чье имя я недостойна назвать.
Фра Джованни ответил:
— При мне как раз есть небольшая серебряная чаша, которую один наш синьор поручил мне отдать переплавить, чтобы сделать из нее что-нибудь для украшения алтаря обители Санта-Мариа дельи Анджоли. Возьмите ее себе, сударыня, а завтра я пойду и попрошу доброго синьора дать мне для пресвятой девы другую чашу такого же веса. Таким образом желание его исполнится, а вы получите милостыню во имя божие.
Взяв чашу, Сатана сказал:
— Любезный брат, дозвольте бедной вдове поцеловать вам руку. Рука дающего нежна и благоуханна.
Фра Джованни ответил:
— Сударыня, и не вздумайте целовать мне руку. Уходите лучше немедля отсюда. Ведь если я не ошибаюсь, вы прекрасны лицом, хоть и черны, как тот из волхвов, который принес мирру[378]. И мне не следует разглядывать вас. Ибо все на свете пагубно для отшельника. Позвольте же мне теперь уйти и вверить вас милости божьей. И простите, если я был недостаточно учтив с вами. Ведь еще наш добрый святой Франциск говорил всегда: «Сыны мои должны украшать себя учтивостью, как холмы украшаются цветами».
Но Сатана сказал еще:
— Любезный отец, укажите мне какую-нибудь пристойную гостиницу, где я могла бы провести ночь.
Фра Джованни ответил:
— Ступайте, сударыня, в обитель святого Дамиана к нищенствующим монахиням господа нашего. Вас примет там Клара, а душа ее чиста, как зеркало. И Нищета нарекла ее своей герцогиней.
Тогда Сатана сказал:
— Отец мой, я совершала прелюбодеяния, я отдавалась множеству мужчин.
Фра Джованни ответил:
— Сударыня, если бы я даже поверил, что на душе у вас такие тяжкие грехи, я просил бы как большой чести позволить мне поцеловать ваши ноги, ибо я сам гораздо хуже вас и преступления ваши ничего не значат по сравнению с моими. Однако мне были дарованы более великие милости, чем вам. Ведь в годы, когда святой Франциск и его двенадцать учеников пребывали на земле, я жил среди ангелов.
Тогда Сатана сказал:
— Отец мой, когда я просила у вас милостыни во имя того, кто вас любит, дурное побуждение владело мною, и я хочу вам рассказать о нем. Я иду переодетая вдовой и собираю по дороге подаяние, чтобы набрать определенную сумму денег для некоего горожанина из Перуджи, разделяющего со мною любовные утехи; за эти деньги он согласился убить из-за угла одного рыцаря, который ненавистен мне, потому что, когда я хотела отдаться ему, он пренебрег мной. Я не могла набрать нужной суммы, но серебряная чаша, полученная от вас, восполнит недостающее. Таким образом, милостыня, поданная вами, будет платой за кровь. Вы предали человека праведного, так как рыцарь этот чист душой, воздержан и набожен; за это я его и ненавижу. И причиной его смерти будете вы. Вы подбросили серебра на весы, и чаша преступления перевесила.
Услыхав эти речи, добрый фра Джованни заплакал и, отойдя в сторону, стал на колени в колючий терновник и начал молиться богу и просить его:
— Господи, сделай так, чтобы преступление это не легло своим бременем ни на эту женщину, ни на меня, ни на кого из живых тварей твоих, но да ляжет оно под пронзенные гвоздями ноги твои, и да омоет его твоя драгоценная кровь. Да падет капля иссопа на меня и на сестру мою, и да очистимся мы оба и станем белее снега.
Тем временем враг удалился; он думал: «Я не смог искусить этого человека из-за удивительной простоты его».
VII. Хитроумный доктор
Сатана вернулся на гору. Увенчанная гирляндой оливковых деревьев, гора улыбалась, глядя на город Витербо.
И Сатана сказал себе: «Я соблазню этого человека».
Мысль эта зародилась у него, когда он увидел, как фра Джованни, подпоясанный веревкой и с мешком за спиной, шел полем, направляясь в город, чтобы, следуя уставу ордена, добывать себе хлеб подаянием.
Тогда Сатана принял облик святого епископа и сошел на луг. На голове у него была сверкающая митра; драгоценные камни горели на ней разноцветными огнями. Риза его была сплошь покрыта такими вышитыми и разрисованными картинами, каких не мог бы создать ни один художник в мире.
Золотом и шелками на, ней был изображен сам Сатана в обличье св. Георгия и св. Себастьяна и он же, принявший вид девы Екатерины и императрицы Елены[379]. От красоты этих лиц веяло смятением и печалью. Риза поражала своим великолепием. Такого богатства еще не видела церковь.
Так вот, облаченный в митру и ризу и величием своим не уступая самому Амвросию[380], которым гордится Милан, Сатана, опираясь на посох, шел по цветущему лугу.
И, подойдя к божьему человеку, он сказал ему:
— Мир тебе.
Но он не сказал, какой мир, и фра Джованни решил, что это мир господа бога.
Он подумал: «Этот епископ, который приветствовал меня, пожелав мне мира, был, конечно, в своей земной жизни священнослужителем и стойким мучеником за веру. Поэтому-то Иисус Христос и превратил деревянный посох в руке верного слуги своего в золотой жезл. Теперь святой этот всемогущ на небе. И после своей блаженной кончины он прогуливается здесь по лугу, разрисованному цветами и расшитому жемчужинками росы».
Так думал божий человек Джованни, нисколько не удивляясь встрече. И, поклонившись Сатане с большим почтением, он сказал ему:
— Господин мой, вы очень милостивы, решив явиться такому недостойному человеку, как я. Но луг этот прекрасен, и не удивительно, что даже святые, пребывающие в раю, приходят сюда гулять. Он разрисован цветами и расшит жемчужинками росы, и весь он — чудеснейшее творение господа бога.
Сатана сказал ему:
— Я пришел сюда взглянуть не на луг, а на твое сердце; я спустился с горы, чтобы говорить с тобой. В течение многих веков я состязался в красноречии с отцами церкви. На собраниях ученых мужей мой голос гремел, как гром, а мысль сверкала, как молния. Я очень сведущ в науках, и меня прозвали Хитроумным доктором. Я спорил с ангелами. А теперь я хочу поспорить с тобой.
Фра Джованни ответил:
— Как же могу я, простой, недостойный смертный, вести спор с Хитроумным доктором? Я ничего не знаю, и глупость моя такова, что я запоминаю одни только народные песенки, где памяти на помощь приходит рифма, например: Сотвори, Иисус, светлое зерцало, чтоб печальным быть сердце перестало, или Дева пречистая — роза душистая. Сатана ответил:
— Фра Джованни, вот как, соревнуясь между собой в ловкости, развлекаются венецианские дамы: они укладывают в маленький ларчик из кедрового дерева различные изделия из слоновой кости, которые кажется невозможным туда вместить. Так вот и я вмещу тебе в голову такие мысли, которые, казалось бы, не могут проникнуть туда. Я наделю тебя новой мудростью. Я покажу тебе, что ты, полагая, будто идешь прямым путем, на деле шатаешься, точно пьяный, и толкаешь плуг вкривь и вкось, не считая нужным выравнивать борозды.
Фра Джованни смиренно ответил:
— Это верно, ведь я совсем глуп и делаю одно только дурное.
Сатана спросил его:
— Что ты думаешь о нищете?
Божий человек ответил:
— Я думаю, что нищета — драгоценная жемчужина.
Тогда Сатана сказал:
— Ты утверждаешь, что нищета — великое благо, а сам отнимаешь у нищих часть этого блага, подавая им милостыню.
Фра Джованни подумал и ответил:
— Милостыню, которую я подаю, я подаю господу нашему Иисусу Христу, а его нищета не может умалиться, ибо она безгранична и исходит из него, как из неистощимого источника, и Христос распространяет ее на избранников своих. И те всегда будут нищими, как обещал им это сын божий. Подавая милостыню бедным, я не даю ничего людям, а даю только богу, подобно тому как горожане платят подати, которыми обложил их подеста[381], и деньги эти, поступая в распоряжение города, идут на его же нужды. Так вот и мое подаяние идет на то, чтобы вымостить град божий. Напрасно стараться быть нищим, не став прежде нищим духом. Ибо истинная нищета — это нищета духа. Грубая одежда, веревка, сандалии, сума и деревянная чашка — это только внешнее ее обличье. Нищета, которую я люблю, есть нищета духовная, и я говорю ей: «Госпожа моя», потому что она только мысль, и в мысли этой заключена вся красота. Сатана улыбнулся и заметил:
— Фра Джованни, изречения твои напоминают мне слова греческого мудреца Диогена[382], который рассуждал о высоких материях, в то время как Александр Македонский вел войны.
Сатана спросил еще:
— Правда ли, что ты презираешь богатства мира сего?
А фра Джованни ответил:
— Да, презираю.
Тогда Сатана сказал:
— Знай же, что тем самым ты презираешь трудолюбивых людей, которые, производя эти богатства, выполняют веление господа отцу твоему Адаму, ибо ему было сказано: «Ты будешь добывать хлеб в поте лица своего». Коль скоро труд — благо, благостен и плод его. А ты меж тем и сам не работаешь и нисколько не думаешь о труде других людей. Ты просто-напросто собираешь милостыню и раздаешь ее, нарушая закон, установленный для Адама и потомства его на все века.
— Увы! — вздохнул брат Джованни, — я совершил множество преступлений, я самый большой злодей и самый никчемный человек на свете. Поэтому не глядите на меня, а читайте книгу. Господь наш сказал: «Полевые лилии не трудятся и не прядут». И он сказал еще: «Мария же избрала благую часть[383], которая не отнимется у нее».
Тогда Сатана поднял руку, как делает тот, кто в споре готовится перечислять по пальцам все свои доказательства, и сказал:
— Джованни, то, что было написано в одном смысле, ты читаешь в другом, и, изучая Писание, ты похож не на ученого, склоненного над книгой, а на осла, уткнувшего морду в кормушку. Поэтому я буду поправлять тебя, как учитель поправляет ученика. Сказано было, что полевым лилиям не надо прясть, потому что они прекрасны, а красота сама по себе — добродетель. И сказано было, что Марии не надо было занимать себя домашними заботами, потому что ее забота — отдавать свою любовь тому, кто приходит к ней. Но ты и не красив, и не совершенствуешься в любви, как Мария, ты вместо этого печально влачишь по дорогам свою постыдную жизнь.
Джованни ответил:
— Господин мой, искусный художник может изобразить на деревянной дощечке целый город со всеми его башнями и крепостными стенами; так вот и вы в нескольких словах с удивительной точностью изобразили мою душу и мое лицо. И я на самом деле таков, каким вы меня описали. Но если бы я следовал правилу, преподанному нам ангелом господним, святым Франциском, и если бы я действительно исповедовал нищету духовную, я был бы полевой лилией, и, может быть, мне бы выпала участь Марии.
Сатана прервал его и сказал:
— Ты утверждаешь, что любишь нищих, но предпочитаешь им богатого с его богатством и преклоняешься перед тем, кто владеет сокровищами и наделяет ими других.
Джованни ответил:
— Тот, кого я возлюбил, владеет не телесными, а духовными богатствами.
Сатана возразил ему:
— Всякое богатство есть богатство плотское и постигается через плоть. Это утверждал еще Эпикур, и сатирический поэт Гораций говорит об этом же в своих стихах.
Выслушав эти речи, человек божий Джованни вздохнул.
— Господин мой, мне непонятно то, что вы говорите.
Сатана пожал плечами и сказал:
— Слова мои точны и ясны, а человек этот их не понимает. Меж тем я спорил с Августином, с Иеронимом, с Григорием и с тем, кого прозвали Златоустом[384]. И они понимали меня еще хуже, чем этот монах. Все эти жалкие сыны земли бродят ощупью во мраке. Над их головами заблуждение раскинуло свой огромный шатер. Ложь всегда заманивает в свои сети ученых точно так же, как и людей простых.
И Сатана обратился снова к божьему человеку Джованни со словами:
— А ты счастлив? Если ты счастлив, то я бессилен перед тобой. Ибо человек начинает думать только в печали. Размышления приходят к нему всегда в часы скорби. И, терзаемый страхами и желаниями, он мечется в постели и рвет в клочья подушку лжи. Зачем мне искушать этого человека? Он счастлив.
Но фра Джованни вздохнул:
— Господин мой, с тех пор как я слушаю вас, я уже не так счастлив, как был. Ваши речи смущают меня.
Услыхав эти слова, Сатана отбросил свой епископский жезл, скинул митру и ризу и предстал перед монахом совершенно нагим. Он был черен и красотой своей превосходил прекраснейшего из ангелов.
Он кротко улыбнулся и сказал божьему человеку:
— Успокойся, друг мой. Я — злой дух.
VIII. Горящий уголь
Брат Джованни был прост сердцем и умом, и язык его был связан; он не умел говорить с людьми.
И вот однажды, когда он, по своему обыкновению, стоял, погрузившись в молитву, у подножия падуба, ангел господень явился ему и приветствовал его словами:
— Я пришел приветствовать тебя, ибо я тот, кто всегда приходит к людям простым и несет девам благую весть.
В руках ангела был горящий уголь. Он коснулся им губ святого. Потом продолжил речь свою и сказал:
— От этого огня губы твои сделаются чистыми и пылающими. И огненная печать останется на них. Язык твой развяжется, и ты будешь говорить с людьми. Надо, чтобы люди услыхали живое слово и знали, что они спасутся, только став простыми сердцем. Вот почему господь развязал язык тому, кто прост.
443
Ангел возвратился на небо. И страх охватил Джованни, человека божьего. Он начал молиться и сказал:
— Господи, смятение сердца моего так велико, что губы мои не чувствуют сладости огня, которым коснулся их твой ангел. Господи, как видно, ты хочешь наказать меня, посылая к людям, которые не поймут того, что я буду говорить им. Все возненавидят меня, и священники твои первыми скажут: «Он кощунствует!» Ибо правда твоя идет вразрез с правдой человеческой. Но да свершится воля твоя!
И, встав с колен, он направился в город.
IX. Дом невинности
В этот день фра Джованни вышел из монастыря рано утром, в час, когда птицы пробуждаются и начинают петь. Он шел в город. И он думал: «Я иду в город просить, чтобы мне подали хлеба, и буду потом раздавать этот хлеб тем, кто просит; так я раздам то, что получу, и получу вновь то, что раздам. Ибо всегда хорошо просить и подавать во имя божие. А получающий милостыню — брат подающего. И не все ли равно, каким из этих двух братьев ты будешь, ведь само подаяние ничего не значит, все благо в милосердии.
Получающий подаяние, если он милосерд, равен подающему. Продавая же, человек всегда становится врагом того, кто у него покупает; продающий сам делает его своим врагом. Здесь-то и скрыт корень зла, отравляющего жизнь городов, подобно тому как яд змеи скрыт у нее в хвосте. И надо, чтобы некая женщина наступила этой змее на хвост. Женщина эта — Нищета. Она уже посетила короля Франции Людовика в его башне[385]. Но к флорентинцам госпожа эта еще ни разу не приходила, ибо она непорочна и хочет, чтобы даже ноги ее не было в притоне. А лавка менялы — это тот же притон; ростовщики и менялы совершают самый страшный из всех грехов. Блудницы грешат в вертепах, но грех их не столь велик, как грех менял и всех, кто обогащается ростовщичеством или торговлей.
Поистине, ростовщики и менялы не войдут в царство небесное, точно так же как булочники, аптекари и суконщики, изделиями которых гордится город Лилии[386]. Тем, что они определяют цену золоту и устанавливают расчет для обмена денег, они воздвигают идолов, которым поклоняются люди. И говоря: „Золото драгоценно“, они лгут. Ибо золото еще более ничтожно, чем гонимые осенним ветром сухие листья, которые кружатся и шуршат у подножья деревьев, а единственная, настоящая ценность — это труд человеческий, когда на него взирает бог».
В то время как фра Джованни предавался так раздумью, он увидел, что в горе зияет расщелина и что люди добывают оттуда камень. Один из каменоломов, одетый в грубые лохмотья, лежал на дороге. Тело его было обветрено и опалено зноем. Ключицы и ребра отчетливо проступали сквозь огрубевшую кожу, и великое отчаяние было в его темных, глубоко запавших глазах. Фра Джованни приблизился к нему и сказал:
— Мир тебе.
Но каменолом ничего не ответил, даже не повернул к нему головы. И фра Джованни, решив, что бедняк его не слыхал, сказал еще раз:
— Мир тебе.
И те же слова он повторил в третий раз. Тогда каменолом злобно посмотрел на него и сказал:
— Мир у меня будет только в могиле. Убирайся отсюда, проклятая ворона! Все твои пожелания — один обман. Иди и каркай перед теми, кто поглупее меня! Я-то знаю, что участь каменолома горька с начала до конца и что никакая сила не облегчит моей доли. С утра до вечера я откалываю камни и за всю свою дневную работу получаю ломоть черного хлеба. А когда руки мои станут слабее, чем эта скала, когда тело мое будет вконец изнурено работой, я умру от голода.
— Брат мой, — сказал Джованни, человек божий, — ведь это несправедливо, что ты откалываешь столько камней, а получаешь за все только ломоть хлеба.
Каменолом вскочил на ноги.
— Скажи мне, монах, что ты видишь там, на горе?
— Брат мой, я вижу стены города.
— А выше?
— Я вижу крыши домов, которые возвышаются над городской стеной.
— А еще выше?
— Вершины сосен, купола церквей и колокольни.
— А еще выше?
— Я вижу башню, которая возвышается над всеми остальными. Она увенчана зубцами. Это башня самого подесты.
— Монах, а что ты видишь вон там, над зубцами этой башни?
— Брат мой, над зубцами башни одно только небо.
— А я, — сказал каменолом, — я вижу на этой башне безобразного великана, который размахивает палицей, и на этой палице написано: Несправедливость. И несправедливость поднялась высоко над головами всех граждан города на башне законов и судей.
Фра Джованни ответил:
— То, что видно одному, не видно другому, и возможно, что фигура, о которой ты говоришь, действительно стоит на башне подесты, возвышающейся над городом Витербо. Но, может быть, есть лекарство, которое облегчит ваши страдания, брат мой. Милосердный святой Франциск оставил на земле такой великий источник утешения, что теперь все смертные могут черпать из него силы.
Тогда каменолом ответил:
— Нашлись люди, которые сказали: «Гора эта принадлежит нам», и эти люди — мои хозяева, для них-то я и добываю камень, а они пользуются плодами моего труда.
Фра Джованни вздохнул:
— Эти люди, должно быть, сошли с ума, если они думают, что гора принадлежит им.
Но каменолом ответил ему:
— Они и не думали сходить с ума. Законы города закрепляют за ними право владеть горой. Граждане города платят им за камень, который я добываю. А это — мрамор, и притом драгоценный.
Тогда Фра Джованни сказал:
— Следовало бы изменить законы города и нравы его граждан. Ангел господа нашего, святой Франциск, показал людям пример и путь, которым надо идти. Когда, выполняя веление господне, он решил восстановить разрушенную церковь святого Дамиана, ему не нужен был владелец каменоломни. И он не говорил: «Принесите мне самый лучший мрамор, а взамен я вам дам золото». Ибо тот, кого называли сыном Бернардоне и кто был истинным сыном божьим, знал, что продавец — враг покупателя и что ремесло торговца приносит людям едва ли не больше вреда, чем ремесло воина. И он не обратился ни к владельцу каменоломни, ни к тем, у кого за деньги можно получить мрамор, дерево и свинец. Но он взошел на гору и взял, сколько мог, бревен и камня и перетащил их сам на место, где некогда высился храм блаженного Дамиана. Он сам укладывал камень, выравнивая его по шнуру, и воздвиг стены. И он сам приготовил обмазку, чтобы скрепить эти камни между собой. Стена вышла грубая и неказистая. Это был труд слабых рук. Но всякий, кто взглянет на нее глазами души, узнает замысел ангела. Ибо обмазка этой стены не была замешана на крови несчастных; ибо обитель святого Дамиана не была воздвигнута на те тридцать сребреников, которые стали платой за кровь Спасителя и, отвергнутые Искариотом, блуждают теперь по свету, переходя из рук в руки, как награда за всякую несправедливость и жестокость.
Ибо изо всех домов только один этот дом зиждется на невинности, стоит на любви, укреплен милосердием, и только один он и есть настоящий дом господень.
Истинно говорю вам, брат мой труженик, делая все своими руками, этот нищий Христов показал миру образец справедливости, и безумие его когда-нибудь назовут мудростью. Ибо все на земле принадлежит богу и все мы — дети божьи, а детям должны доставаться равные доли. Это значит, что каждый возьмет то, что ему нужно. Именно потому, что взрослые не хотят детской кашки, а дети не станут пить вина, доля каждого будет различна, но каждый получит надлежащую долю.
И радостным станет труд, освободившийся от корысти. Ведь зло все в золоте, из-за него блага земные достаются людям не поровну. Когда каждый поднимется на гору, чтобы принести на спине своей камень, камень этот, став легким, станет камнем веселья, и мы построим полный радости дом. И мы воздвигнем новый град. Там не будет ни бедных, ни богатых, но все нарекут себя нищими, потому что всем захочется носить это высокое звание.
Так говорил кроткий фра Джованни, а несчастный каменолом подумал: «Этот человек, одетый в саван и подпоясанный веревкой, сказал мне удивительные вещи. Я не дождусь конца моих мук и умру от голода и изнеможения. Но я умру счастливым, ибо глаза мои, перед тем как померкнуть, увидят зарю грядущего дня, который будет днем справедливости».
X. Друзья добра
В те времена, в знаменитейшем городе Витербо существовало некое братство, в которое входило шестьдесят старцев. Старцы эти почитались первыми людьми в городе; они были богаты, пользовались всеобщим уважением и насаждали в городе добродетель. В числе их были гонфалоньер республики, доктора канонического и светского права, судьи, купцы, на редкость благочестивые менялы и несколько одряхлевших кондотьеров.
Старцы эти объединились ради того, чтобы побуждать граждан к добрым делам, а поэтому были о себе высокого мнения и называли друг друга «Друзьями добра». Название это было написано на знамени братства, и они условились между собой уговаривать бедняков творить добро, с тем чтобы в городе никогда не могло произойти никаких перемен.
У них было в обычае собираться в последний день каждого месяца во дворце подесты и ставить друг друга в известность обо всех добрых делах, совершенных в городе за это время. А бедняков, которые совершали какой-нибудь добрый поступок, они одаривали серебряною монетой.
В тот день у Друзей добра было собрание. В глубине зала, на возвышении, покрытом бархатом, был установлен балдахин, который поддерживали четыре раскрашенные изваяния. Статуи эти олицетворяли: Справедливость, Воздержание, Целомудрие и Силу. Под балдахином восседали первые люди братства. Старейший занял место среди них, на золотом кресле, едва ли уступавшем красотою и роскошью трону, уготованному для нищего Христова на небесах, — тому самому трону, который некогда довелось увидеть ученику святого Франциска. Кресло это предназначалось для старейшего, чтобы в его лице прославить все добро, содеянное в городе.
И когда члены братства расселись в надлежащем порядке, старейший встал и начал свою речь. Похвалив служанок, которые, не получая никакой оплаты, работали на своих господ, он стал превозносить стариков, которые, не имея хлеба, ни у кого его не просили.
И он сказал:
— Они хорошо поступили, и мы вознаградим их, ибо за всякое добро полагается награда, а воздавать ее должны мы, так как мы первые и лучшие люди города.
Когда он замолчал, весь народ, который слушал его, стоя у возвышения, стал хлопать в ладоши.
Когда рукоплескания стихли, фра Джованни, попавший в самую середину этой жалкой толпы, заговорил вдруг и громко спросил:
— А что такое добро?
Тогда на собрании поднялся большой шум. Старейший воскликнул:
— Кто это сказал?
И какой-то рыжеволосый человек, оказавшийся среди бедняков, ответил:
— Это монах по имени Джованни, который постоянно позорит свою обитель. Он расхаживает совсем голый по улицам, неся одежду на голове, и вообще вытворяет всякие чудачества.
А булочник сказал:
— Это полоумный и негодяй. Он выпрашивает хлеб, стоя у дверей булочной.
Многие из присутствующих с громкими криками принялись тянуть фра Джованни за рясу, и, в то время как одни старались вытащить его из зала, другие, более нетерпеливые, хватали скамейки и били ими божьего человека. Но старейший поднялся под своим балдахином и сказал:
— Оставьте этого монаха в покое, пусть он выслушает меня и убедится, что он не прав. Он спрашивает, что такое добро, потому что в нем самом нет добра и добродетель ему чужда. И я отвечаю ему: «Только человек добродетельный знает, что такое добро. И добрым гражданам свойственно уважение к законам. Они встречают сочувственно все, что делается в городе, для того, чтобы каждый из его жителей мог пользоваться богатством, которое он приобрел. Они поддерживают установленный порядок и вооружаются, чтобы защитить его. Ибо долг бедного защищать достояние богатого. На том и держится единение граждан. И это добро. Богатый велит слуге принести корзину с хлебами и раздает их бедным, и это тоже — добро». Бот что следовало бы внушить этому невежде и грубияну.
Сказав так, старейший сел на свое место, и шепот одобрения пронесся по толпе нищих. Но фра Джованни, взобравшись на одну из скамеек, которыми кидали в него, стремясь оскорбить его и унизить, обратился ко всем и сказал:
— Услышьте слова, которые спасут вас! Добро никак не в человеке. И сам человек никогда не может сказать, что для него добро. Ибо он не знает ни своей природы, ни своего назначения. И то, что он считает хорошим, может оказаться дурным. То, что он считает полезным, может принести ему вред. И он не в состоянии выбрать то, что следует, потому что не знает своих нужд и подобен ребенку, который, сидя где-нибудь на лугу, начинает сосать, как молоко, сок белладонны. Он не знает, что сок белладонны — яд, но это знает его мать. Вот почему все добро заключается в том, чтобы исполнять волю господа.
Не надо говорить: «Я проповедую добро, а добро— в том, чтобы повиноваться законам города». Ведь эти законы созданы не богом, а человеком и несут в себе его злонамеренность и его неразумие. Законы эти напоминают правила, которые устанавливают для себя дети, играя в мяч на площади Витербо. Добро вовсе не в обычаях и не в законах. Нет, оно — в боге и в исполнении воли его на земле. А воля божья исполняется на земле отнюдь не законниками и не городскими властями.
Ибо сильные мира сего осуществляют всегда свою волю, а воля эта идет вразрез с волей бога. Но тот, кто отрешился от гордыни и знает, что в нем самом нет добра, получает великие дары, и благодать божия накопляется в нем, как мед в дупле могучего дуба.
И надо, чтобы каждый из нас мог быть таким вот дубом, полным меда и полным росы. Бога обретают люди смиренные, простые и пребывающие в неведении. Через них-то и придет царство божие на земле. Спасение — не в силе законов и не в численности солдат. Она — в нищете и в смирении.
Не говорите: «Добро во мне, и я учу добру». Скажите лучше: «Добро — в господе боге». Давно уже люди коснеют в собственной мудрости. Давно изображения Льва и Волчицы украшают ворота их городов[387]. Их рассудительность, их ум создали рабство, войны и убийства многих невинных. Поэтому вы должны положиться на бога, и пусть он ведет вас, как слепого ведет его пес. И не бойтесь закрыть глаза разума и потерять рассудок, — ведь это рассудок и сделал вас несчастными и злыми. Именно благодаря рассудку вы стали похожи на человека, который, разгадав тайну Зверя, улегшегося в пещере, возгордился и, возомнив себя мудрецом, убил отца и женился на матери[388].
Бог не был с ним. Бог — со смиренными и с простыми. Умейте же отказываться от желаний, и он вложит в вас свою волю. Не стремитесь разгадывать загадки Зверя, оставайтесь невеждами, и у вас не будет страха впасть в заблуждение. Ошибаются только одни мудрецы.
Когда фра Джованни кончил говорить, старейшин поднялся и сказал:
— Хоть этот негодяй и оскорбил меня, я ему охотно прощаю обиду. Но он посягнул на законы города Витербо и за это он должен быть наказан.
И фра Джованни был отведен к судьям, которые приказали заковать его в цепи и бросить в городскую тюрьму.
XI. Мятеж кротости
Божьего человека фра Джованни приковали цепями к большому столбу в подземелье, вырытом под рекой.
В эту слизкую темную яму вместе с ним были брошены еще двое. Оба считали существующие законы несправедливыми и высказывали свои убеждения вслух. Один из них хотел ниспровергнуть республику силой. Он убивал одних представителей власти для устрашения всех других и собирался очистить город огнем и мечом. Другой надеялся изменить человеческие сердца: он выступал с проникновенными речами. Составив мудрые законы, он рассчитывал, что его блестящие способности и безупречность его поведения помогут ему навязать эти законы своим согражданам. И оба эти человека были приговорены к одному и тому же наказанию.
Когда они узнали, что фра Джованни заковали в цепи вместе с ними за то, что он выступал против законов города, они приветствовали его. И тот из них, который составил мудрые законы, сказал:
— Брат мой, как видно, ты думаешь то же, что и я, и если нас выпустят когда-нибудь на свободу, ты поможешь мне убедить граждан, что им следует учредить у себя новые справедливые законы и подчиниться им.
Но Джованни, человек божий, ответил ему:
— Что пользы от того, что законы будут справедливы, если у нас не будет справедливости в сердце? И если в сердце нашем нет правды, что толку в самых мудрых законах?
Не говорите: «Мы учредим справедливые законы, и каждому будет воздано должное», ибо никто из нас самих не справедлив и мы не знаем, что есть должное для человека. Мы не знаем также, что для него хорошо и что худо. И каждый раз, когда правители народов и главари республики начинают любить справедливость, это стоит жизни множеству людей.
Не давайте циркуль и отвес в руки плохого землемера, ибо этим правильным инструментом он неправильно совершит дележ. И он скажет: «Смотрите, у меня есть отвес, линейка и угольник, и я хороший землемер». Пока люди будут оставаться скупыми и жестокими, они сделают жестокими самые мягкие законы и будут грабить братьев своих со словами любви на языке. Вот почему напрасный труд — открывать им слова любви и создавать для них мягкие законы.
Не утверждайте, что одни законы лучше других, и не воздвигайте людям мраморных или бронзовых скрижалей. Ибо все законы, написанные на этих скрижалях, написаны кровью.
Так говорил божий человек. И тот узник, который убивал представителей власти и собирался разрушить город, чтобы его спасти, согласился с фра Джованни и молвил:
— Ты хорошо сказал, друг. Знай же, я не считаю, что одни законы лучше других, что одни правила хороши, а другие плохи. Но я хочу разрушить закон силой и принудить граждан жить после этого счастливо и свободно. Знай также, что я убивал судей и стражников и совершал различные преступления с благими целями.
Услыхав эти слова, праведник встал, простер свои скованные цепями руки в зловещую тьму и вскричал:
— Горе насильникам! Ибо насилие порождает насилие. Тот, кто поступает так, как ты, сеет на земле ненависть и гнев; дети его, ступая по ней, изранят себя терниями, и змеи будут жалить им ноги.
Горе тебе! Ты пролил кровь неправедного судьи и жестокого воина и стал сам таким же, как тот воин и тот судья. И сам ты, как они, на всю жизнь запятнал свои руки.
Безумен тот, кто говорит: «Мы будем своим чередом творить зло, и сердцу нашему станет легче. Мы будем несправедливы и тем положим начало новой справедливости». Зло заключено в самом желании. Стоит только перестать хотеть, и зла не будет. Несправедливость вредит только людям несправедливым. Если я сам справедлив, то она бессильна причинить мне страдание. Несправедливость — это меч; рукояткой своей он ранит руку, которая его держит. Но клинок его не может поразить сердце человека простого и доброго.
Для такого нет на свете опасностей, ведь он ничего не боится. Все выстрадав, человек уже ни от чего не страдает. Будьте сами добрыми, и весь мир будет добр. Ибо весь мир будет для вас только средством проявить вашу доброту и преследователи ваши сами сделают вас и прекраснее и выше.
Вы любите жизнь, любовь эта заложена в сердце каждого человека. Любите же и страдание. Ведь жить — это страдать. Не завидуйте вашим жестоким правителям. Пожалейте откупщиков и судей. Самые надменные из них знают жало страдания и страх смерти. Будьте же счастливее, чем они, ведь вы ни в чем не виновны. И пусть страдание утратит для вас свою остроту, а смерть перестанет страшить вас.
Пребывайте в боге и скажите себе: «В нем все — добро». Остерегайтесь хотеть чего-либо слишком сильно и яро, будь то даже благо народа, чтобы ни тени жестокости не закралось в ваше стремление. Но возжелайте всем людям милосердия и вложите в это желание пыл молитвы и сладость надежды.
Как прекрасен будет тот пир, где каждый смертный получит равную долю и где сотрапезники сами омоют друг другу ноги. Но не говорите: «Я насильно заставлю накрывать праздничный стол на улицах и площадях города». Ибо не с ножом в руке надо вам созывать ваших братьев на праздник справедливости и смирения. Надо, чтобы стол этот сам воздвигнулся на поле брани силами милосердия и доброты.
И это будет чудо. Знайте же, что только вера и любовь могут творить чудеса. Если вы отказываетесь повиноваться вашим правителям, то пусть одна лишь любовь движет вами. Не заковывайте их в цепи и не убивайте их, а скажите им: «Я не буду убивать братьев моих и не буду заковывать их в цепи». Терпите, страдайте, принимайте все, возжелайте сами того, чего хочет господь, и ваша воля будет исполнена на земле и на небе. То, что кажется вам худым, — зло; то, что кажется добрым, — благо. Не будем ничего добиваться и будем жить, довольствуясь тем, что есть. Не будем разить творящих зло, дабы не уподобиться им.
Если нам выпало счастье быть действительно бедными, не станем помышлять о богатстве и отдавать сердце свое сокровищам, которые делают человека несправедливым и несчастным. Будем с кротостью переносить все преследования и станем сосудами любви, которые превращают в живительный бальзам налитую в них желчь.
XII. Слова любви
И вот судьи призвали к себе Джованни, закованного в цепи вместе с тем человеком, который поджег греческим огнем[389] дворец старейшин. Судьи сказали монаху:
— Тебя заковали вместе с преступником, потому что ты больше не с нами. А тот, кто не с добрыми, тот всегда со злыми.
Однако божий человек ответил:
— Среди людей нет ни добрых, ни злых. Но все они несчастны. И тех, кто не страдает от голода или от стыда, мучит богатство и власть над людьми. Рожденному от женщины не дано избежать горестей, и каждый смертный подобен больному, который ворочается в постели, не находя покоя, потому только, что не хочет лечь на крест Иисусов, надев терновый венец, и не умеет найти усладу в страдании. А между тем в страдании-то и заключается радость. Кто любит, тот это знает.
Мною владеет любовь, а этим человеком — ненависть. Вот почему мы никогда не сойдемся с ним. И я говорю ему: «Брат мой, ты дурно поступил, и преступление твое велико». И я говорю так, ибо милосердие и любовь заставляют меня сказать это. Вы же выносите приговор этому преступнику во имя справедливости. И, взывая к справедливости, вы клянетесь всуе. Ибо справедливости нет среди людей.
Мы все — преступники. И, когда вы говорите: «Жизнь народов — это мы», вы лжете. Вы подобны гробу, который сказал бы: «Я — колыбель». Жизнь народов — в сборе урожая на полях, золотящихся под взглядом господним. Она — в виноградной лозе, обвитой вкруг вяза, и в улыбке, и в слезах, которыми небо омывает плоды, зреющие в саду. Она отнюдь не в законах, написанных богатыми и власть имущими, дабы сохранить богатство и власть.
Вы забываете, что вы родились нищими и нагими, и тот, кто увидел свет в Вифлееме, явился в этот мир без пользы для вас. И надо, чтобы он родился еще раз нищим и был снова распят, чтобы спасти вас.
Насильник воспользовался оружием, которое вы ковали. Он похож на тех воинов, которых вы чтите за то, что они разрушили города. То, что защищается силою, то силою и берется. И, если вы умеете читать книгу, написанную вами, вы прочтете там то, что я говорю. Ведь в книге этой вы же написали, что право человека — право войны. И вы прославили насилие, воздавая почести победителям и воздвигая на ваших городских площадях памятники им самим и их коням.
И вы сказали: «Есть насилие доброе и насилие злое. И насилие — право человека, его закон». Но придут другие люди и поставят вас вне закона и учредят свои законы, так же как их учреждали вы, низвергнув тирана, который ведь тоже до вас являл собою закон.
Так вот знайте же: настоящее право — в отказе от всякого права. Нет закона святее закона любви. Только милосердие может судить справедливо. И на силу не следует отвечать силой, ибо борьба только разжигает враждующих, и неизвестно еще, какой исход примет битва. Но если на насилие ответить кротостью, то оно, не находя себе поддержки в противнике, рухнет само собой…
Мудрецы рассказывают в «Бестиариях»[390], что единорог, лоб которого украшен огненным мечом, пронзает им охотника в его железной кольчуге, но перед девственницей опускается на колени. Будьте кроткими, простыми душой и чистыми сердцем, и вы будете жить без страха.
Не полагайтесь на один только меч кондотьера, ибо и пастуху дано было разбить камнем голову великана[391]. Но укрепите в себе любовь и любите ненавидящих вас. Ненависть, за которую не платят той же монетой, становится меньше наполовину, и оставшаяся часть ее чахнет, слабеет и в конце концов умирает. Ограбьте же себя сами, чтобы вас уже никто не мог ограбить. Любите врагов ваших, чтобы они перестали быть вам врагами. Прощайте, чтобы и вам простили. Не говорите: «Кротость вредит повелителям народов», ибо вы ничего об этом не знаете. Повелители народов еще ни разу не прибегали к ней. Они думают, что суровостью они уменьшают количество зла. Но зло на земле велико, и незаметно, чтобы его становилось меньше.
Я сказал одним: «Не притесняйте людей». Я сказал другим: «Не восставайте». И ни те, ни другие не послушали меня. Они со смехом бросили в меня камень. И потому, что я был со всеми, каждый говорил мне: «Ты не со мной».
Я сказал: «Я друг несчастных», а вы не поверили, что я вам друг, потому что в гордости своей вы даже не знаете, что вы несчастны. Однако хозяин всегда несчастнее, чем его слуга. И когда я глубоко сочувствовал вам, вы решили, что я смеюсь над вами. И угнетенные думали, что я заодно с их угнетателями. И они говорили: «Он лишен сострадания». Но доля моя не в ненависти, а в любви. Вот почему вы презираете меня. И вы считаете меня безумным, потому что я возвещаю земле мир. Вам кажется, что речи мои шатки, как походка пьяного. И действительно, я прохожу вашими полями, как бродячие музыканты, которые накануне сражения начинают играть на арфе перед палатками воинов. И, слушая их, солдаты говорят: «Это безобидные простаки; они наигрывают те самые напевы, которые мы слышали в родных горах». Я — тот, кто проходит по стану воинов, бряцая струнами. И я рад тому, что я беземен, если в безумии моем могу видеть, куда ведет человека ум. И я благодарю бога за то, что он дал мне арфу, а не меч.
XIII. Истина
Божий человек Джованни продолжал сидеть в тесном подземелье, прикованный цепями к кольцам, вделанным в стену. Но душа его оставалась свободной, и пытки не поколебали его упорства. И он решил не изменять своей вере, а твердо стоять за Истину, принять за нее муку и умереть праведником. И он думал: «Истина взойдет вместе со мной на виселицу. Она взглянет на меня и заплачет. Она скажет: „Я плачу потому, что человек этот отдал жизнь за меня“».
И в то время как божий человек предавался в одиночестве всем этим размышлениям, в тюрьму к нему сквозь закрытые двери явился некий знатный дворянин. Он был одет в красный плащ и в руке держал зажженный фонарь.
Фра Джованни спросил его:
— Скажи мне, как тебя зовут, хитроумный синьор, проникающий сквозь стены?
И незнакомец ответил ему:
— Брат мой, для чего перечислять тебе все имена, которыми меня называют. Пусть именем моим будет то, которым назовешь меня ты. Я пришел к тебе с добрыми намерениями, готовый служить тебе, и, узнав, что ты пылко любишь Истину, я хочу тебе сказать несколько слов о ней, об Истине, которая стала твоей госпожой и спутницей твоей жизни.
Фра Джованни начал благодарить гостя. Но тот прервал его.
— Предупреждаю тебя, — сказал он, — что вначале слова мои покажутся тебе пустыми и ты оставишь их без внимания, подобно тому как человек безрассудный выбрасывает какой-нибудь маленький ключик, не умея воспользоваться им.
Но человек искушенный примеряет его ко множеству замков и в конце концов видит, что этим ключом он может открыть сундук, полный золота и драгоценных камней.
Вот что я тебе скажу, фра Джованни, раз уж вышло так, что ты надумал сделать Истину своей госпожой и своей подругой, тебе очень важно было бы знать о ней все, что только можно. Запомни же, что она белая. И через этот внешний признак ее, который я сейчас тебе сообщаю, ты узнаешь ее природу, а это пригодится тебе, чтобы потом сойтись с ней поближе и обнимать ее со всею нежностью, лаская ее, как друг ласкает свою подругу. Знай же твердо, любезный брат, что она белая.
Услыхав эти слова, Джованни, человек божий, ответил:
— Мессер Хитроумный, вы боялись, что я не разгадаю смысла ваших речей, но это не так уж трудно. И хоть разум мой непонятлив и туп, тонкое острие вашей аллегории сразу же его пронзило. Вы называете Истину белой, дабы не было сомнения в ее совершеннейшей чистоте и в том, что она — непорочная дева. И я представляю ее себе такой, как вы говорите, белизной своей превосходящею лилии, которые цветут в садах, и снег, покрывающий зимой вершины Альверна.
Но пришелец, покачав головой, сказал:
— Фра Джованни, смысл моих речей вовсе не в этом, и ты не дал себе труда разбить кость, чтобы достать оттуда мозг. Я сказал тебе, что Истина белая, но я и не думал говорить, что она чистая. Умный человек никогда этого не скажет.
Опечаленный тем, что услышал, фра Джованни, человек божий, ответил:
— Подобно тому как луна в тот час, когда земля застилает ей солнце, вся покрывается густою тенью нашей планеты, на которой содеяно преступление Евы, так и вы, хитроумный синьор, этими туманными речами затемнили свои прежние ясные слова. И теперь вот вам приходится брести во мраке. Ибо Истина чиста, происходя от бога — источника всего чистого.
Но Враг ответил:
— Фра Джованни, тебе надо лучше знать законы природы, и тогда ты поймешь, что чистота — качество неощутимое. Потому-то, должно быть, аркадские пастухи называли чистыми тех богов, которых они не знали.
Тогда добрый фра Джованни вздохнул и сказал:
— Мессер, слова ваши темны и окутаны печалью. Иногда во сне ко мне являлись ангелы. Слова их были непонятны, как и ваши. Но их тайная мысль несла мне радость.
Тогда хитроумный пришелец предложил:
— Фра Джованни, давай будем спорить с тобой по всем правилам.
Но божий человек ответил:
— Я не могу ни о чем спорить с вами, у меня нет на это ни желания, ни силы.
— Если так, то мне придется искать себе другого собеседника, — сказал Хитроумный.
И тут же, вытянув указательный палец левой руки, он другой рукой обмотал вокруг него край плаща, так что получилась красная шапочка, а потом, подняв этот палец и держа его перед носом, сказал:
— Вот мой палец; я произвел его в доктора и буду вести с ним ученые споры. Это платоник, если не сам Платон.
— Мессер Платон, что же такое чистота? Понимаю вас, мессер Платон. Вы утверждаете, что знание тогда чисто, когда оно лишено всего, что можно видеть, слышать, осязать и вообще постигать чувствами. Вы киваете головой, значит вы соглашаетесь, что Истина может стать чистой истиной при тех же условиях. То есть когда ее сделают немой, слепой, глухой, безногой, когда все члены ее будут разбиты параличом. Что ж, я готов признать, что в таком состоянии она перестанет поддаваться обманам, которые движут людьми, и не сможет больше таскаться по непотребным местам. Вы большой шутник, мессер Платон, и вы изрядно посмеялись над всеми. А ну-ка, снимайте вашу шапочку.
И Враг, взмахнув полою плаща, обратился снова к божьему человеку Джованни.
— Друг мой, эти софисты не знали, что такое Истина. Но я-то сам физик и много наблюдал разные диковины природы, и ты можешь поверить мне, когда я утверждаю, что она белая или даже, что это — сама белизна.
Говорю тебе, из этого не следует делать вывод, что она чиста. Неужели ты думаешь, что молочно-белые бедра госпожи Элетты из Вероны[392] — из-за того только, что они белые, порвали всякую связь со вселенной и повисли в невидимом и неосязаемом мире, единственно чистом, если верить учению Платона? Думать так было бы непростительной ошибкой.
— Я не знаю, кто такая Элетта, — пролепетал Джованни, человек божий.
— Эта женщина отдавалась со всею страстью, — сказал Враг, — двум папам, шестидесяти кардиналам, четырнадцати князьям, восемнадцати купцам, королеве кипрской, трем туркам, четырем евреям, обезьяне синьора епископа из города Ареццо, гермафродиту и дьяволу. Но мы уклонились от нашей задачи — найти, что же, собственно, такое Истина?
Так вот, если главным ее качеством, как я только что установил, вопреки самому Платону, не может быть чистота и непорочность, возможно, что это, напротив, порок, который является необходимым условием всякого существования. Ибо мы только что видели, что все непорочное лишено и сознания и жизни. А ты, мне кажется, хорошо уже понял, что жизнь и все, что имеет к ней отношение, — сложно, смешано, разнообразно и то отмирает, то снова растет, что все изменчиво, растворимо, тленно и уж никак не чисто.
— Доктор, — ответил Джованни, — ваши доводы ничего не стоят, потому что господь бог, будучи совершенно чист, тем не менее существует.
На это Хитроумный доктор возразил:
— Если бы ты лучше читал свои книги, сын мой, ты увидел бы, что о том, кого ты только что назвал, в них не сказано: «Он существует», а сказано: «Он есть». А существовать и быть — это не одно и то же, а вещи противоположные. Ты вот живешь, а разве ты не твердишь себе иногда: «Я совсем ничто, как будто меня и вовсе нет на свете». И ты не говоришь: «Я тот, кто есть», потому что жить — это значит с каждым мгновением переставать быть. Ты говоришь также: «Я полон всяких пороков», потому что ты не един, в тебе смешались разные силы, которые движутся и враждуют между собой.
— Как мудро вы говорите, — сказал божий человек. — Из речей ваших, мессер Хитроумный, сразу видно, что вы очень сведущи в науках и божественных и человеческих. Бог ведь действительно — тот, кто есть.
— Клянусь самим Вакхом, — ответил ему собеседник, он поистине есть, и есть повсюду. Чего ради мы обязаны искать его в каком-то определенном месте, коль скоро мы убеждены, что он с тем же успехом может находиться в любом другом и что на свете нет ни одной пары старых сапог, которые не вместили бы частицы его, причитающейся на их долю.
— Это изумительно верно, — ответил Джованни. — Но следует добавить, что он в большей мере находится все же в святых дарах, которые есть не что иное, как тело и кровь Христовы.
— Ну, да, — ответил доктор, — в таком виде он годен для еды. Обрати также внимание, сын мой, на то, что в яблоке он кругл, в баклажане продолговат, остр в ноже и звучен во флейте. У него есть все качества материи, и в то же время он обладает всеми формами геометрических фигур. Углы у него одновременно и острые и тупые, потому что он совмещает в себе все виды треугольников; радиусы у него все равны, и в то же время не равны между собой, потому что он и круг и эллипсис, и он к тому же еще и гипербола, а это фигура неописуемая.
В то время как божий человек Джованни раздумывал над всеми этими высокими истинами, он услыхал, как Хитроумный доктор расхохотался. Тогда он спросил:
— Почему ты смеешься?
— Я смеюсь, — ответил доктор, — думая о том, что во мне находят разные противоречия и вещи несовместимые и что меня за них горько упрекают. Во мне их действительно немало, но никто не знает, что если бы все они были у меня налицо, я походил бы на Другого.
Тогда божий человек спросил:
— О ком другом ты говоришь?
А Враг ответил:
— Если бы ты знал, о ком я говорю, ты знал бы, кто я, и тебе не захотелось бы слушать мои самые благожелательные слова; молва обо мне отвратила бы тебя от них. Напротив, я смогу быть тебе очень полезным, если ты будешь пребывать в неведении о том, кто я такой. От меня ты узнаешь, что люди крайне чувствительны к звукам, которые рождаются у них на губах, и что они идут на смерть ради слов, не имеющих смысла, как это явствует из примера мучеников и из твоего собственного примера, о Джованни. Ты ведь радуешься тому, что тебя повесят на площади в Витербо, а потом сожгут под пение семи псалмов из-за какой-то Истины — слова, точного значения которого ты и сам не мог бы как следует объяснить.
Ты, конечно, перероешь все углы и закоулки твоего темного черепа, переворошишь в них всю паутину и все сваленное там ржавое железо, но никогда не найдешь там отмычки, которой можно было бы раскрыть это слово и найти его смысл. И если бы не я, ты позволил бы, мой бедный друг, повесить тебя, а потом сжечь за какие-то три пустых слога, непонятных ни для тебя, ни для судей твоих, и ни один человек не знал бы, кто больше достоин презрения — палачи или их жертва.
Знай же, что Истина, госпожа и возлюбленная твоя, состоит из различных частиц, влажных и сухих, твердых и мягких, холодных и теплых, что все у нее — как у обыкновенной женщины, а женское тело в разных местах своих неодинаково нежно и неодинаково горячо.
Фра Джованни, по простоте своей, усомнился в благонамеренности этих речей. Враг прочел мысль божьего человека. И он успокоил его, сказав:
— Всему этому нас учат в школе. Я ведь богослов.
И, поднявшись, он добавил:
— Мне жаль покидать тебя, друг мой. Но я не могу больше пребывать возле тебя. Есть еще много противоречий, и я должен открыть на них людям глаза. И мне нет отдыха ни днем, ни ночью. Мне все время приходится кочевать с места на место, поднося мой фонарь то к столу ученого, то к изголовью больного, которого томит бессонница.
Сказав это, он удалился так же, как и пришел, и божий человек призадумался: «Почему этот доктор сказал, что Истина белая?» И, улегшись на соломе, он продолжал размышлять над этим вопросом. Волнение души его передалось и телу: он ворочался с боку на бок и не мог уснуть.
XIV. Сон
И это побудило его, в то время как он лежал так один в темнице, обратиться к богу с такими словами:
— Господи, ты безгранично милостив ко мне, и я вижу, что ты действительно сделал меня своим избранником, раз ты пожелал, чтобы я спал на гноище, как Иов и Лазарь, которых ты так любил. И ты дал мне воочию увидеть, как грязная солома становится для праведника мягкой подушкой. О сын божий, ты, который нисходил к грешникам в преисподнюю, благослови сон раба твоего, лежащего в этой темной яме. И коль скоро люди лишили меня воздуха и света за то, что я исповедовал Истину, озари меня в милости своей лучами вечной зари и напои пламенем твоей любви, о Истина живая, господь бог мой!
Слова молитвы были на устах Джованни, человека божьего, но в сердце своем он все вспоминал речи Врага, и они смущали его. И, охваченный тоской и смятением, он заснул.
Но оттого, что мысль Врага витала над ним, он уже не мог забыться сном младенца, приникшего к материнской груди, и на лице его не было прежней безмятежной улыбки. И ему приснился сон. Перед глазами его появилось огромное колесо, сверкавшее всеми цветами радуги.
Колесо это походило на пестрые светящиеся витражи над порталами храмов — создания немецких мастеров, изображавших на прозрачном стекле историю девы Марии и славные деяния пророков. Секрет этого искусства неизвестен тосканцам.
Но колесо это было в тысячу раз больше, прозрачнее и ярче, чем самая совершенная из таких вот размеченных циркулем и раскрашенных кистью картин, когда-либо созданных на германских землях. Такого блеска не мог увидеть и сам император Карл, когда его венчали на царство[393].
И единственным из смертных, которому выпало на долю видеть нечто еще более великолепное, был тот, кто, ведомый своей госпожой, в земном обличье своем вступил в рай господен[394]. Колесо это было все пронизано светом, и внутри него что-то шевелилось. Приглядываясь ближе, можно было увидеть, что оно все состоит из множества живых фигур и что толпы людей всех возрастов и состояний образуют собою втулку, спицы и обод колеса. Люди эти были одеты сообразно своему званию, и среди них легко было узнать папу, императора, королей и королев, епископов, баронов, рыцарей, дам, оруженосцев, клириков, горожан, купцов, судей, аптекарей, пахарей, блудниц, мавров и евреев. И, так как на колесе этом были представлены все, кто населяет земной шар, там можно было найти сатиров и циклопов, пигмеев и кентавров, живущих в горячих песках Африки, и людей, которых открыл в своих путешествиях Марко Поло[395], — головы эти люди совсем не имели, а лицо у них было на животе.
У каждого из толпившихся там людей изо рта вилась лента, и на каждой ленте было написано изречение. И среди бесчисленного множества лент самых разнообразных цветов нельзя было отыскать и двух, которые походили бы друг на друга. Одни были густо-пурпуровые, другие — различных оттенков неба и моря и сияния звезд. Были среди них и зеленые, как трава. Были там и совсем бледные, были и очень темные. Одним словом, на этих лентах были представлены все краски вселенной.
Божий человек Джованни принялся читать эти надписи.
Таким путем он узнал различные мысли людей. И, прочтя их немало, он заметил, что надписи эти отличались друг от друга не только цветом букв, но и смыслом, и что изречения были настолько не похожи одно на другое, что каждое из них как бы исключало все остальные.
Он заметил также, что это разнообразие, которым были отмечены начало и середина каждого изречения, пропадало по мере того, как оно приближалось к концу, и что внизу все надписи были одинаковые и каждая кончалась словами: Такова Истина.
И он подумал: «Эти изречения подобны цветам, которые юноши и девушки собирают в лугах долины Арно и связывают в букеты; стебли этих цветов легко соединяются в одно, тогда как чашечки расходятся в стороны, соперничая друг с другом великолепием красок. То же самое происходит и с мнениями этих смертных».
И, читая все эти надписи, божий человек обнаружил там множество противоречивых взглядов, относящихся к происхождению верховной власти, к источникам познания, к наслаждениям и мукам, к тому, что позволено, и к тому, что запрещено. Он обнаружил также большие несогласия по вопросу о форме земли и о божественности господа нашего Иисуса Христа, возникшие из-за еретиков, евреев, арабов, чудовищ, порожденных Африкой, и эпикурейцев, которые и сами присутствовали тут же на этом светящемся колесе и тоже с лентами, свисающими с губ.
И каждое изречение неизменно кончалось словами: Такова Истина. И человек божий Джованни поразился, увидав такое количество истин различных цветов. Там были красные, синие, зеленые, желтые, но белой среди них не было. Даже та, которую возвещал папа и которая гласила: «Камень Церкви, Петр, передал наместнику своему все венцы земные», и то не была белой; лента эта была пурпуровой и как будто обагренной кровью. И божий человек вздохнул:
— Так, значит, на этом колесе вселенной мне не увидать белой и чистой Истины, белоснежной, непорочной Истины, которую я ищу.
И он стал призывать Истину, заливаясь слезами:
— Истина, за которую я иду на смерть, предстань перед взором мученика своего.
И в то время, когда он так стенал, живое колесо начало вдруг вращаться, надписи все перемешались, и их уже нельзя было прочесть. И в среднем кругу появились другие круги всевозможных цветов, и круги эти становились все больше, по мере того как они удалялись от центра.
А когда движение ускорилось, круги эти одни за другими начали исчезать; самые большие исчезли первыми, потому что у обода колесо вращалось быстрее. Когда же колесо завертелось с такой быстротой, что глазу, который уже не мог за ним уследить, стало казаться, что оно замерло на месте, меньшие круги померкли, как меркнет утренняя звезда, когда холмы Ассизи бледнеют под лучами восходящего солнца.
Тогда колесо стало совершенно белым, и в сиянии своем оно было ярче того прозрачного светила, в котором флорентинец увидел окруженную сиянием Беатриче. Казалось, что ангел, стерев все пятна с небесной жемчужины, положил ее прямо на землю, — до такой степени колесо это походило на луну, светящуюся где-то высоко в небе сквозь легкую дымку облаков. На ее опаловом лице нельзя тогда разглядеть ни человека с вязанкою дров и никакого иного изображения. Точно так же ни малейшего пятнышка не было и на этом лучистом колесе.
И божий человек Джованни услышал голос, который говорил ему:
— Смотри, вот она, та белая Истина, которую ты хотел видеть. И знай, что она вся состоит из истин противоположных друг другу, точно так же, как белый цвет состоит из всех цветов вместе взятых. И это знают даже дети в Витербо, видя, как на базарной площади кружится пущенный ими пестрый волчок. А доктора из Болоньи так и не могли разгадать причину этого явления. На самом же деле в каждом из этих определений заключается частица Истины, а из всех их составляется одно, настоящее ее определение.
— Горе мне, — ответил божий человек. — Как же мне теперь прочесть его? Свет этот слепит меня.
А голос продолжал:
— Ты прав, там ничего нельзя разобрать. Это определение никогда не может быть выражено буквами ни латинскими, ни арабскими, ни греческими, ни какими-либо магическими символами, и нет руки, которая могла бы огненными знаками начертать его на стенах дворцов. Друг мой, не упорствуй в своем желании прочесть ненаписанное. Знай только, что все, что человек передумал, все, во что он верил в течение своей короткой жизни, — только одна частица этой бесконечной Истины. Совершенно так же, как то, что мы называем миром, порядок его, устройство и вся чистота содержат в себе немало грязи, так и мысли людей злобных и сумасшедших, — а ведь их-то больше всего на свете, — в какой-то мере причастны к всемирной Истине — абсолютной, божественной и неизменной. Поэтому я начинаю опасаться, что ее, может быть, и вовсе не существует.
Последовал громкий раскат смеха, и голос умолк.
И божий человек увидел, как откуда-то появилась нога, обутая в красный чулок, и сквозь этот чулок было видно, что кончается она копытом, похожим на козлиное, но во много раз больше. И нога эта ударила светящееся колесо по самому краю обода, и так сильно, что искры посыпались оттуда, как из подковы, по которой бьет молот кузнеца. И вся эта громада подскочила вверх, а потом, рухнув где-то вдалеке, разбилась вдребезги. В это время воздух огласился таким пронзительным смехом, что божий человек проснулся.
И, лежа в мертвенном полумраке тюрьмы, он с грустью подумал: «Теперь мне нечего больше надеяться узнать Истину, ведь она, как мне только что открылось, обнаруживается в одних лишь противоположностях и противоречиях. Могу ли я решиться муками и смертью подтверждать мою веру, после того как явление колеса вселенной разъяснило мне, что всякая ложь есть тоже частица совершенной и непознаваемой. Истины? Господи, как же ты мог допустить, чтобы я все это видел, чтобы, перед тем как почить вечным сном, мне открылось, что Истина всюду и что ее нет нигде?»
И, закрыв лицо руками, божий человек заплакал.
XV. Суд
Фра Джованни предстал перед судьями республики, которые должны были судить его по законам города Витербо. И один из судей сказал страже:
— Снимите с него цепи, ибо каждый обвиняемый должен приходить сюда свободным.
А Джованни подумал: «Для чего это судье понадобилось произносить такие двусмысленные речи?»
И первый из судей начал допрашивать божьего человека. Он сказал ему:
— Какой ты негодяй, Джованни! Будучи закован в цепи высочайшей милостью закона, ты вздумал осуждать этот закон и, вместе со злодеями, оказавшимися в одной тюрьме с тобой, вступил в заговор против порядков, установленных в городе.
Божий человек Джованни ответил:
— Я стоял за справедливость и за Истину. Если законы города находятся в согласии с истиной и со справедливостью, то я ничего не сказал против них. Я говорил слова любви. Я сказал: «Не пытайтесь уничтожить силу с помощью силы. Несите в себе мир посреди войны, чтобы дух божий снизошел на вас, как птичка садится на вершину тополя в долине, по которой струится горный поток». Я сказал; «Будьте кротки с насильниками».
Тогда судья гневно вскричал:
— Говори же! Разъясни нам, кто, по-твоему, насильник.
И божий человек ответил:
— Вы собрались доить корову, которая уже выдоена; вы хотите узнать от меня больше, чем сам я знаю.
Но судья, приказав божьему человеку замолчать, сказал:
— Язык у тебя неплохо подвешен. Стрела твоего красноречия метила прямо в князей республики. Но она упала ниже и теперь обратилась против тебя самого.
Тогда божий человек возразил:
— Вы судите меня не по делам моим и не по словам, которые явны, но по намерениям, которые видимы одному только богу.
Судья ответил:
— Если бы взгляду нашему не было доступно невидимое и если бы мы не были богами здесь, на земле, то как могли бы мы тогда судить людей? Разве ты не знаешь, что в Витербо только что издан закон, который наказует человека даже за самые тайные его помыслы? Ибо городские власти непрерывно совершенствуют свои знаниями мудрый Ульпиан, который во времена Цезаря держал в своих руках линейку и угольник, поразился бы, увидав, что наши линейки и угольники измеряют все точнее.
И судья сказал еще:
— Джованни, находясь в тюрьме, ты замыслил свергнуть существующий порядок.
Но божий человек отрицал, что он покушался на порядок, существующий в городе Витербо. Тогда судья сказал:
— Это подтвердил тюремщик.
Божий человек сказал:
— Какой же вес могут иметь мои слова, если на другую чашу попали слова тюремщика?
Судья ответил:
— На весах твоя чаша окажется легче.
Услыхав это, божий человек замолчал. А судья сказал:
— Ты только что говорил, и слова твои изобличали твое вероломство. А сейчас ты молчишь, и молчание твое только подтверждает, что ты совершил преступление. Стало быть, ты уже дважды признал себя виновным.
А тот из судей, кого называли обвинителем, поднялся и сказал:
— Знаменитый город Витербо говорит моими устами, и голос мой будет спокоен и тверд, потому что это голос народа. И вам покажется, что с вами говорит статуя из бронзы, потому что я обвиняю не сердцем моим и не чревом моим, а начертанным на бронзовых скрижалях законом.
И тут же он вышел из себя и стал произносить неистовые речи. И он начал выдумывать и декламировать целые сцены в духе трагедий Сенеки[396]. Сцены эти изобиловали преступлениями, совершенными божьим человеком Джованни. И обвинитель последовательно сам разыграл все роли своей трагедии. Он изобразил жалобы пострадавших и подражал голосу Джованни, чтобы сильнее потрясти зрителей. И всем казалось, что они видят и слышат самого Джованни, опьяненного ненавистью и преступлениями. Обвинитель рвал на себе волосы, раздирал одежду и, совсем обессилев, упал в свое почетное кресло.
Тогда тот из судей, который допрашивал обвиняемого, снова взял слово и сказал:
— Полагается, чтобы кто-нибудь из граждан города защищал этого человека. Ведь по законам города Витербо никого нельзя осудить, не выслушав сначала защиты.
Тогда один из адвокатов города Витербо встал на скамейку и заявил:
— Если этот монах сказал и сделал то, в чем его обвиняют, то он большой преступник. Но нет никаких доказательств тому, что он действительно говорил или поступал так. К тому же, добрые синьоры, если бы даже мы и располагали этими доказательствами, следовало бы принять во внимание крайнюю простоту этого человека и его слабоумие. На городской площади он стал посмешищем детей. Это невежда. Он вытворял много всяких нелепостей; я считаю, что он не в своем уме. То, что он говорит, не имеет никакого значения, а совершить он ничего не способен. По-моему, он просто связался с дурными людьми; он повторяет то, что слышал от них, сам того не понимая; наказывать его нельзя — он слишком глуп. Ищите тех, кто его надоумил. Они-то и есть настоящие преступники. В этом деле много неясного, а мудрец сказал: «Если сомневаешься, воздержись от решения».
Окончив свою речь, адвокат сошел со скамьи, и брат Джованни был приговорен к смерти. И ему было сказано, что его повесят на площади, где крестьянки продают фрукты, а дети играют в бабки.
И тогда некий знаменитый доктор права, который был в числе судей, поднялся с места и сказал:
— Джованни, ты должен подписаться под приговором, вынесенным тебе. Приговор этот, будучи вынесен от имени граждан города, тем самым вынесен и от твоего имени, ибо и ты относишься к числу этих граждан. Тебе выпала большая честь, и я докажу тебе, что ты должен быть доволен тем, что тебя повесят в согласии с законами. В самом деле, интерес целого имеет в виду и заключает в себе интерес отдельных его частей, а коль скоро ты являешься не чем иным, как последней и ничтожнейшей частицей благородного города Витербо, то Приговор, вынесенный в интересах его жителей, вынесен и в твоих собственных интересах.
Я докажу тебе также, что ты должен считать свой смертный приговор обстоятельством для тебя подобающим и благоприятным. Ибо нет ничего столь полезного и достойного, как право, которое является справедливою мерою всех вещей, и ты должен радоваться тому, что к тебе подошли с этой мерой. В соответствии с законоположениями, учрежденными цезарем Юстинианом, ты получил по заслугам. Приговор этот справедлив, к тем самым он уже хорош и несет тебе радость. Но будь он даже незаконен, запятнан невежеством и несправедливостью (чего не дай бог), тебе все равно следовало бы его одобрить.
Ибо приговору, пусть несправедливому, если только он облечен в должные формы, передается достоинство этих форм, и благодаря этому достоинству он становится священным, действенным и исполненным добродетели. Все, что в нем есть плохого, преходяще и не имеет большого значения, влияя только на отдельные его стороны, тогда как его положительные качества идут от незыблемости и вековечности правосудия и тем самым выражают суть дела. По этому случаю Папиниан[397] утверждает, что лучше судить неправильно, чем вовсе не судить, ибо люди, у которых совсем нет правосудия, живут как звери в лесу, тогда как через правосудие обнаруживается их благородство и достоинство, как это видно на примере судей Ареопага, которые пользовались исключительным почетом среди афинян. А так как судить бывает и необходимо и полезно, судить же без ошибок невозможно, то отсюда явствует, что ошибки и промахи тоже относятся к достоинствам правосудия и являются их неотъемлемой частью. Поэтому, даже если бы ты счел свой приговор несправедливым, ты должен был бы радоваться его несправедливости, поелику она смешана со справедливостью и составляет с нею единый сплав, подобно тому как олово и медь, переплавленные вместе, образуют бронзу — драгоценный металл, употребляемый для самых благородных изделий, как об этом рассказывает Плиний[398] в своих трудах.
Доктор перечислил тут же все удобства и преимущества искупления, которые смывают вину так же, как служанки каждую субботу смывают с пола скопившуюся грязь. И он объяснил божьему человеку, какое благодеяние для него смертный приговор, вынесенный высочайшею волею республики Витербо, которая обеспечила его и судьей и защитником. И когда доктор, закончив свою речь, умолк, фра Джованни тут же снова заковали в цепи и увели обратно в тюрьму.
XVI. Князь мира
На рассвете того дня, когда должна была состояться казнь, божий человек Джованни спал глубоким сном. И вот, растворив двери темницы, Хитроумный доктор дернул спящего за рукав и вскричал:
— Эй! Сын человеческий, поднимайся! День уже приоткрывает свои серые глаза. Поет жаворонок, и утренний туман ласкает склоны гор. Видно, как по холмам стелятся нежные розовато-белые облака — груди, животы и бедра бессмертных нимф, божественных дочерей воды и неба, — девушек, поднявшихся чуть свет, которые, следуя за стариком Океаном, волокнистой стаей тянутся по горам, а потом, на ложе из гиацинтов и анемонов, открывают свои объятия богам — повелителям мира, и пастухам — любимцам богинь. Ибо есть пастухи, наделенные природной красотой и достойные ложа нимф, живущих в рощах и родниках. И я, так много изучавший диковины природы, видя, как сладострастно эти облака льнут к обнаженному телу горного склона, сам воспламенился к ним какими-то желаниями, о которых я ничего не знаю, кроме того, что, рождаясь возле чресел моих, они, как Геркулес, давали почувствовать свою силу уже с младенческих лет. Но желания эти устремлялись не к одним только легким облакам и розовой дымке тумана: мне совершенно отчетливо представлялась деревенская девка, мона Либета, с которой я встретился, проезжая через Кастро, в харчевне, где она была служанкой и услаждала солдат и погонщиков мулов.
И утром, в то время как я шел по уступам холма, тот образ моны Либеты, который я носил в себе, стал еще чудеснее от сладостных воспоминаний и сожалений о том, что сейчас ее нет со мной. И образ этот украсился мечтами о ней, которые, рождаясь, как я тебе уже говорил, где-то около чресел, переливали свое благоуханное пламя из тела в душу, наполняя ее горячей истомой и сладостными страданиями.
Только надо, чтобы ты знал, о Джованни, что эта девка, если спокойно взглянуть на нее со стороны, ничем уже особенно не отличалась от любой из деревенских девок Умбрии и Романии, которые ходят на луга доить коров. У нее были черные глаза, томные и какие-то дикие, смуглое лицо, широкий рот, тяжелые груди, желтоватый живот, а ноги ее спереди были покрыты волосами. Обычно она всегда смеялась звучным смехом, но в минуты наслаждения лицо ее вдруг становилось сумрачным, словно она изумлялась тому, что видит некоего бога. Это и привязало меня к ней, и я много думал потом о природе этого чувства, потому что я ведь доктор и умею отыскивать причины явлений.
И я открыл, что сила, которая притягивала меня к моне Либете, служанке харчевни в Кастро, была той же силой, которая управляет планетами в небе, что на свете есть только одна сила — любовь, она же и ненависть, как это явствует опять-таки из примера моны Либеты, которую много целовали, но, пожалуй, и били не меньше.
И мне вспомнилось, как папский конюх, который был ей самым любезным другом, так исколотил ее однажды ночью на чердаке, где они с ней спали, что и сам решил, что она уже больше не встанет. И тогда он стал ходить по улицам и кричать, что девчонку задушили вампиры. Обо всем этом надо поразмыслить, если хочешь получить некоторое представление об истинной сущности вещей и о философии природы.
Так говорил Хитроумный доктор. А божий человек Джованни, поднявшись на своем ложе из гнилой соломы, ответил:
— Доктор, подобает ли вести такие споры тому, кто будет сейчас повешен? Слушая тебя, я начинаю сомневаться, действительно ли твои слова исходят от человека праведной жизни и к тому же знаменитого богослова, или все они слышатся мне во сне, навеянном ангелом тьмы?
Хитроумный доктор ответил:
— Откуда ты взял, что тебя повесят? Знай, Джованни, что я пришел сюда на заре, чтобы освободить тебя и помочь тебе бежать. Смотри, я переоделся тюремщиком; ворота тюрьмы открыты. Иди же за мной. Скорее!
А божий человек, поднявшись на ноги, возразил:
— Доктор, подумайте о том, что вы сказали. Я пожертвовал собой, и, признаться, мне это далось нелегко. Если же дело обстоит так, как вы говорите, и мне дарована жизнь, то меня опять поведут на суд, и мне придется жертвовать собой вторично, что будет еще мучительнее, и пережить две смерти вместо одной. А, сказать по правде, у меня уже пропало желание принимать муки, и мне захотелось подышать горным воздухом под тенью сосен.
На это Хитроумный доктор ответил:
— Я как раз и хотел отвести тебя под тень сосен, которые звенят на ветру печально и сладостно, как флейта. Мы с тобой позавтракаем на мшистом склоне, откуда виден город. Иди же. Чего ты медлишь?
Тогда божий человек сказал:
— Прежде чем идти с вами, я хотел бы все же знать, кто вы такой. Я уже не так непреклонен, как был. Прежних добродетелей нет и следа, а мужество мое только соломинка на опустошенном гумне. Но у меня осталась вера в сына божия, и я не хотел бы погубить свою душу для того, чтобы спасти тело.
— Так ты вообразил, — сказал Хитроумный доктор, — что мне понадобилась твоя душа! Неужели это такая уж милая девица и такая красотка, что ты боишься, как бы я у тебя ее не отбил? Оставь ее при себе, мой друг, она мне ни на что не нужна.
Божьего человека не слишком-то успокоили эти слова, от которых ни с какой стороны не веяло святостью. Но, так как ему очень хотелось выйти на волю, он не стал добиваться объяснений и, последовав за доктором, переступил вместе с ним порог темницы.
И только когда они уже вышли, он спросил:
— Кто ты такой, что можешь посылать людям сны и освобождать узников? Ты красив, как женщина, и силен, как мужчина, и я преклоняюсь перед тобой, но любить я тебя не могу.
А Хитроумный доктор ответил:
— Ты полюбишь меня, как только я причиню тебе зло. Люди могут любить лишь тех, кто их заставляет страдать, и только в страдании — любовь.
Разговаривая так, они вышли из города и стали подниматься вверх по горным тропинкам. И, пройдя довольно долго, они увидели на лесной опушке домик, крытый красною черепицей. С другой стороны дома, на уступе горы, был фруктовый сад, окаймленный виноградниками.
Они уселись во дворике под тронутыми золотом листьями виноградной лозы, с которой свисали спелые гроздья. И молоденькая девушка подала им туда меда, молока и маисовых лепешек.
Тогда Хитроумный доктор, протянув руку, сорвал румяное яблоко, надкусил его и отдал божьему человеку. И Джованни стал есть и пить, борода его вся побелела от капелек молока, и глаза весело засветились, глядя на небо, которое наполняло их лазурью и радостью. И девушка улыбнулась.
А Хитроумный доктор сказал:
— Посмотри на это дитя. Право же, она красивее, чем мона Либета?
И божий человек, опьянев от молока и меда и радуясь сиянию дня, запел вдруг песенки, которые пела еще его мать, нося его на руках. Это были песенки пастухов и пастушек, говорившие о любви. Девушка слушала их, стоя на пороге домика, и вот божий человек вскочил, побежал, пошатываясь, к ней, заключил ее в свои объятия и осыпал щеки ее звонкими поцелуями, от которых веяло радостью, смехом и запахом молока.
Хитроумный доктор заплатил за еду, и оба путника стали спускаться вниз по тропинке.
Когда они проходили под серебристыми ивами, раскинувшими свои ветви по берегу реки, божий человек сказал:
— Давай отдохнем, я немного устал.
И они уселись под ивой и увидели, как ирисы склоняют к реке похожие на острые сабли лепестки и как яркие стрекозы летают над водой.
Но Джованни уже не смеялся, лицо его было печально.
И Хитроумный доктор спросил его:
— Чем ты озабочен?
Джованни ответил:
— Ты дал мне почувствовать, сколько ласки во всем живом, и смятение охватило мое сердце. Я попробовал молока и меда, я видел девушку у порога дома и понял, что она хороша собой. И теперь беспокойство закралось в душу мою и плоть.
Какой длинный путь я прошел с тех пор, как встретил тебя. Помнишь рощу, где я тебя увидел впервые? Я ведь узнал тебя.
Это ты посетил меня в моем уединении. Это ты явился ко мне, сверкая глазами женщины из-под легкого покрывала, в то время как твои прекрасные губы произносили замысловатые речи о том, что такое добро. Это ты предстал передо мной на лугу, в золотой ризе, похожий на Амвросия и на Августина. Тогда меня еще не коснулось то зло, которое приходит вместе с мыслью, но ты научил меня думать. И, как горящий уголь, ты возложил на уста мои гордыню. И я стал размышлять. Но ум мой был еще молод и неповоротлив, я туго соображал и все принимал за правду. И ты снова пришел ко мне и заставил меня усомниться во всем и напоил меня сомнением, как вином. И вот благодаря тебе же сегодня я вкусил всю мимолетную сладость мира и вместе с воздухом вбираю в себя душу рощ и ручейков, и неба, и земли, и всех живых тварей.
И я несчастен оттого, что последовал за тобой, князь мира.
И Джованни посмотрел на своего спутника, прекрасного, как день и как ночь, и сказал ему:
— Из-за тебя я страдаю, и я люблю тебя. Я люблю тебя потому, что ты — мое ничтожество и моя гордость, моя радость и моя скорбь, потому что ты — все великолепие и вся жестокость мира, потому что ты — мысль и желание, слитые в одно, и потому что ты сделал меня подобным тебе. Ибо то, что ты обещал там, в саду, на заре земных дней, ты обещал не напрасно, и я вкусил от древа познания, о Сатана!
Джованни сказал еще:
— Я знаю, я вижу, я чувствую, я хочу, и я страдаю. И я люблю тебя за все то зло, которое ты мне причинил. Я люблю тебя за то, что ты погубил меня.
И, склонившись на плечо ангела, человек заплакал.
VIII. ТАИНСТВО КРОВИ
Феликсу Жанте
La bocca sua non diceva se non Jesu e Catarina, e cosi dicende ricevetti el capo nelle mani mie, fermando l'occhio nella Divina Bontà e dicendo: Io voglio…
(Le lettere di S. Caterina da Siena. — XCVII, Gigli e Burlamacchi.)[399].
Город Сиена подобен был больному, который тщетно старается лечь поудобнее и мечется в постели, надеясь заглушить боль. Несколько раз менял он власть в республике, передавая ее от консулов к собраниям горожан, так что из рук дворянства власть попала к менялам, суконщикам, аптекарям, скорнякам, торговцам шелками и прочим представителям старших цехов. Но так как эти именитые горожане показали себя слабыми и корыстными правителями, народ избавился и от них, а власть вручил мелким ремесленникам. В год тысяча триста шестьдесят восьмой по достославном воплощении сына божия в синьорию входило четырнадцать городских советников, избранных из числа шапочников, мясников, слесарей, сапожников и каменщиков, которые составили большой совет, названный Советом Преобразователей. Это были суровые плебеи, истые отпрыски бронзовой волчицы, эмблемы их города, которую они любили грозной сыновней любовью. Однако народ, поставивший их во главе республики, сохранил и двенадцать старейшин, по преимуществу банкиров и богатых купцов, подчинив их Совету Преобразователей. По наущению императора, старейшины вступили в заговор с дворянством, дабы продать город папе.
Душою заговора был германский цезарь; он обещал прислать на помощь своих ландскнехтов, чтобы обеспечить успех. Ему не терпелось поскорее завершить дело и на полученные от этого торга деньги выкупить корону Карла Великого, заложенную у флорентийских банкиров за тысячу шестьсот двадцать флоринов.
Однако «преобразователи», составлявшие синьорию, крепко держали в руках кормило власти и бдительно охраняли безопасность республики. Эти ремесленники, правители свободного народа, отказали в хлебе, воде, соли и огне императору, проникшему в пределы их города; дрожа и стеная, убрался он прочь, заговорщиков же они приговорили к смертной казни. Поставленные оберегать город, который был основан легендарным Ремом, они уподоблялись в строгости первым римским консулам. Но их Сиена, облаченная в золото и шелка, ускользала у них из рук, как похотливая и вероломная куртизанка. Неуверенность делала их непреклонными.
В год тысяча триста семидесятый им стало известно, что некий дворянин из Перуджи мессер Никколя Тульдо послан папой, дабы склонить сиенцев, по уговору с цезарем, сдать город святому отцу. Этот вельможа был в самом цвете молодости и красоты и, вращаясь в обществе дам, изучил искусство пленять и обольщать, которым и пользовался сейчас во дворце Саламбени и в лавках менял. Невзирая на ветреный нрав и суетность помыслов, он умудрился склонить на сторону папы немало купцов и даже кое-кого из ремесленников. Прослышав о его кознях, члены Совета Преобразователей повелели привести его в их высокое собрание и, допросив под знаменем республики, где изображен лев, изготовившийся к прыжку, объявили, что он уличен в посягательстве на свободу их города.
Он же отвечал лишь веселым презрением этим башмачникам и мясникам. Услышав, что ему произносят смертный приговор, он был совершенно ошеломлен, и в таком оцепенении его увели в тюрьму. Но, как только двери темницы закрылись за ним, он очнулся и со всем жаром молодой крови и пылкой души пожалел о жизни; образы земных утех — оружие, женщины, лошади — теснились перед его взором, и при мысли, что ему больше никогда не доведется насладиться ими, он испытал прилив неистового отчаяния и принялся стучать кулаками и биться головой о стены темницы, испуская такие вопли, что они разносились далеко вокруг, вплоть до купеческих домов и лавок суконщиков. Прибежавший на крики тюремщик увидел, что он весь покрыт кровью и пеной.
Три дня и три ночи мессер Никколя Тульдо, не умолкая, рычал от бешенства.
Об этом донесли Совету Преобразователей. Члены высокой синьории, наспех покончив с неотложными вопросами, занялись делом несчастного, приговоренного к смерти.
Леоне Ранкати, по ремеслу кирпичник, сказал:
— Человек этот должен заплатить головой за преступление против Сиенской республики; всякий, кто избавит его от этой кары, тем самым посягнет на священные права нашей матери Сиены. Он должен умереть. Однако душа его принадлежит богу, который ее создал, и не гоже, чтобы по нашей вине он умер в грехе и отчаянии. Обеспечим же ему вечное спасение всеми средствами, какие только в нашей власти.
Вслед за тем встал Маттеино Ренцано, булочник, известный своей рассудительностью, и сказал:
— Ты правильно говоришь, Леоне Ранкати! А потому надо послать к осужденному Екатерину, дочь сукновала.
Это мнение было поддержано всей синьорией, постановившей попросить Екатерину, чтобы она посетила в темнице Никколя Тульдо.
В те времена вся Сиена благоухала добродетелями Екатерины, дочери Джакомо, сукновала. Девушка устроила себе келью в доме своего отца и носила одежду ордена кающихся. Под платьем из белой шерсти она опоясала тело железной цепью и по часу в день бичевала себя. А потом, показывая израненные плечи, говорила: «Вот мои розы!» В своей каморке она выращивала лилии и фиалки, из которых сплетала венки на алтарь богоматери и святых угодников. Свивая гирлянды, она на родном итальянском языке славила песнопениями Иисуса и Марию. В те безрадостные годы, когда город Сиена был пристанищем скорби и домом разврата, Екатерина посещала заключенных и говорила публичным женщинам: «Сестры мои, как бы я желала укрыть вас стигматами любви спасителя нашего Иисуса Христа!» Столь чистая дева, пылающая огнем милосердия, могла взрасти лишь в Сиене, при всей своей скверне, среди всех злодейств все же остававшейся городом пресвятой девы.
По зову синьории Екатерина отправилась в городскую тюрьму утром того дня, в который мессеру Никколя Тульдо предстояло умереть. Он лежал на полу и выкрикивал проклятия. Тогда, приподняв белый покров, который блаженный Доминик, спустившись с небес, собственными руками возложил на ее голову, Екатерина открыла перед узником лицо, преисполненное неземной красоты. И пока он в изумлении смотрел на нее, она склонилась над ним и отерла пену с его губ.
Обратив к ней еще сверкающий яростью взгляд, мессер Никколя Тульдо крикнул:
— Ступай прочь! Я ненавижу тебя! Ведь ты дочь Сиены, моей убийцы. Да, Сиена воистину волчица, она осмеливается вонзить свои подлые клыки в горло дворянина из Перуджи. О, распутная гнусная и жестокая волчица!
— Брат мой, — ответила ему Екатерина, — что значит один город, что значат все земные селения рядом с горней обителью бога и ангелов? Я — Екатерина, и я пришла звать тебя на небесный брачный пир!
От ее нежного голоса и ясного лица в душе Никколя Тульдо мгновенно разлился покой и свет.
Он вспомнил годы младенческой невинности и заплакал, точно дитя.
Солнце, взойдя над Апеннинами, осветило темницу первыми своими лучами.
— Вот и заря! — сказала Екатерина. — Вставай на небесный брачный пир, вставай, брат мой!
И, приподняв его, увлекла в часовню, где фра Каттанео ждал его для исповеди.
Исповедавшись, мессер Никколя Тульдо благоговейно прослушал святую мессу и приобщился тела Христова.
Затем, обратившись к Екатерине, он сказал:
— Останься со мной; не покидай меня, и мне будет хорошо, и я умру счастливым.
Зазвонили колокола, возвещая казнь преступника.
— Сладчайший брат мой, — ответила Екатерина, — я буду ждать тебя на месте казни.
В ответ мессер Никколя Тульдо улыбнулся и сказал, словно завороженный:
— Как! Радость души моей будет ждать меня на святом месте казни!
Екатерина задумалась, творя такую молитву:
— Господи, ты озарил его великим светом, ибо он называет место казни святым.
А мессер Никколя добавил:
— Да, я пойду радостно и спокойно. Мне кажется, будто ждать осталось тысячу лет, так мне не терпится очутиться там, где я вновь встречусь с тобой.
— Иди же на брачный пир, небесный брачный пир! — повторила Екатерина, выходя из тюрьмы.
Осужденному принесли немного хлеба и вина; на него накинули черный плащ; а затем повели крутыми улицами, под звуки труб, меж городскими стражниками, которые держали над ним знамя республики. Весь путь был запружен любопытными, женщины поднимали на руках малолетних детей, чтобы показать того, кому предстояло умереть.
А Никколя Тульдо думал о Екатерине, и его уста, столько времени сведенные горечью, теперь нежно приоткрылись, словно для того, чтобы облобызать образ святой.
Пройдя некоторое расстояние в гору по мощенной камнем дороге, шествие достигло возвышенности, господствующей над городом, и перед глазами осужденного, которым вскоре предстояло угаснуть, открылись вдруг кровли, купола, колокольни и башни Сиены, а вдали по откосу холмов протянулась лента городских стен. Это зрелище напомнило ему родной город, нарядную Перуджу, окаймленную садами, где резвые родники журчат среди плодовых деревьев и цветов. Он вновь увидел земляную террасу над Тразименской долиной, откуда взор с упоением впивает сияние дня.
И ему вновь стало мучительно жаль расставаться с жизнью.
— О мой город! Отчий дом! — простонал он.
Но тут же мысль о Екатерине снова овладела его душой и до краев наполнила ее блаженством и покоем.
Наконец процессия вышла на рыночную площадь, где каждую субботу крестьянки из Камиано и Гранайолы раскладывают свой товар: виноград, лимоны, винные ягоды и помидоры, и со смачными прибаутками весело зазывают хозяек. А сейчас тут был воздвигнут эшафот. Мессер Никколя Тульдо увидел, что Екатерина молится, стоя на коленях и склонив голову на плаху.
С радостным нетерпением взошел он по ступеням.
Когда он приблизился, Екатерина встала и повернулась к нему, точно супруга навстречу супругу; она пожелала сама расстегнуть ему ворот и положить друга на плаху, как на брачное ложе.
А потом преклонила колени рядом с ним. После того как он трижды благоговейно произнес: «Иисусе, Екатерина», палач опустил меч, и отрубленная голова упала на руки девы. И вдруг Екатерине почудилось, будто вся кровь казненного разлилась по ней, наполнив все ее тело теплым, точно парное молоко, потоком; ноздри ее затрепетали от чудесного благоухания; перед подернутым слезами взором замелькали тени ангелов. В изумлении и восторге она мягко погрузилась в бездонную глубину неземных утех.
Две женщины из мирской конгрегации ордена святого Доминика, стоявшие у подножья эшафота, увидели, что она лежит неподвижно, и поспешили поднять и поддержать ее. Придя в себя, святая Екатерина сказала им:
— Я увидела небо!
А когда одна из женщин собралась смыть губкой кровь, запятнавшую одежды непорочной девы, Екатерина с живостью удержала ее:
— Нет, не стирайте с меня эту кровь. Не отнимайте у меня мой пурпур и мои ароматы.
IX. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО
Анри Лаведану[400]
…Par cest уmage
Те doing en pleige Jhesu-Crist
Qui tout fist, ainsi est escript:
II te pleige tout ton avoir;
Ne peuz nulz si bon pleige avoir.
(«Miracles de Notre-Dame parpersonnages», publ, par G. Paris et U. Robert)[401].
Из всех венецианских купцов Фабио Мутинелли был самым щепетильным в исполнении взятых на себя обязательств. Он неизменно проявлял щедрость и широту, особенно в отношении дам и лиц духовного звания. Изысканное благородство его поведения славилось на всю республику, и в церкви Сан-Дзаниполо каждый мог любоваться золотым алтарем, принесенным им в дар святой Екатерине из любви к Екатерине Манини, красавице, супруге сенатора Алессо Корнаро. Как у человека очень богатого, у Фабио Мутинелли было много друзей, которым он задавал пиры и щедро помогал деньгами. Но война с генуэзцами и междоусобица в Неаполе нанесли ему большой урон. А вдобавок тридцать его кораблей были частью захвачены ускоками[402], частью пошли ко дну. Папа, которому он ссудил крупные суммы, отказался вернуть хотя бы малую толику их. И вышло так, что блистательный Фабио в короткий срок лишился всех своих богатств. Продав дворец и ценную утварь, чтобы расплатиться с долгами, он остался ни с чем. Но как человек умелый, мужественный, сведущий в торговых делах и полный сил, он помышлял лишь о том, чтобы поправить свое состояние. Он долго прикидывал в уме и решил, что без пяти сотен дукатов ему никак нельзя вновь пускаться в море и пытать счастья в таких новых предприятиях, которые принесли бы ему верную прибыль. Он попросил синьора Алессо Бонтура, самого богатого гражданина Венецианской республики, сделать милость и одолжить ему эти пятьсот дукатов. Но почтенный синьор рассудил, что смелость, правда, способствует приобретению богатств, однако лишь осторожность помогает сохранить их, а посему он отказался подвергать столь большие деньги всем превратностям моря и фортуны. Вслед за тем Фабио обратился к синьору Андреа Морозини, которому в свое время оказал множество разнообразных услуг.
— Любезнейший Фабио, — ответил ему Андреа, — всякого другого я охотно ссудил бы такими деньгами. Я вовсе не дрожу над золотыми монетами, следуя в этом правилам сатирика Горация. Но дружба ваша, Фабио Мутинелли, мне дорога, и я боюсь утратить ее, ссудив вас деньгами. Ибо между должником и заимодавцем чаще всего не бывает сердечного лада. Слишком много я видел тому примеров.
Сказав так, синьор Андреа с притворной нежностью облобызал купца и захлопнул перед его носом дверь.
На следующий день Фабио отправился к ломбардским и флорентийским банкирам. Но никто не согласился дать ему взаймы хотя бы двадцать дукатов без залога. Целый день он бегал из одной ссудной кассы в другую. Повсюду он слышал один ответ:
— Синьор Фабио, мы знаем вас как самого честного купца во всем городе и с великой жалостью отказываем в вашей просьбе. Но этого требует осмотрительность в делах.
Вечером, когда он печально возвращался к себе домой, куртизанка Занетта, купавшаяся в это время в канале, ухватилась за гондолу и устремила влюбленный взгляд на Фабио. В пору своего богатства он позвал ее на одну ночь к себе во дворец и ласково обошелся с ней, ибо был от природы веселого и приветливого нрава.
— Хороший мой синьор Фабио, — сказала она, — я слыхала о ваших бедах, весь город только о них и толкует. Послушайте, что я вам скажу: я не богата, но у меня в ларчике хранится несколько драгоценных украшений. Если вы примете их от вашей служанки, душа моя Фабио, я поверю, что господь бог и пресвятая дева благосклонны ко мне.
И в самом деле Занетта, при всей своей цветущей юности и красоте, была бедна.
— Прелестная Занетта, — ответил ей Фабио, — в твоем убогом жилище кроется больше благородства, чем во всех венецианских дворцах.
Еще целых три дня Фабио обивал пороги банков и ссудных касс и не нашел никого, кто бы согласился дать ему взаймы. Повсюду он получал неблагоприятный ответ и слушал речи, сводившиеся примерно к следующему:
— Вы поступили опрометчиво, продав ценную утварь, чтобы уплатить долги. Можно дать взаймы человеку, обремененному долгами, но никак не тому, у кого нет ни мебели, ни посуды.
На пятый день он, отчаявшись, направился в Корте делле Галли, или иначе гетто, как называется квартал, где живут евреи.
«Как знать, — думал он, — быть может, я добьюсь от обрезанного того, в чем отказывают мне христиане».
Итак, он пустился в путь между улицами Сан-Джеремиа и Сан-Джироламо, по узкому, зловонному каналу, вход в который по приказу сената на ночь перегораживается цепями. Затрудняясь решить, к какому ростовщику обратиться сперва, он вдруг вспомнил, что слышал о некоем иудее по имени Елеазар, сыне Елеазара Маймонида, который слыл богачом и человеком на редкость тонкого ума. Итак, узнав, где живет еврей Елеазар, Фабио остановил гондолу у его дома. Над входом был изображен семисвечник — обрезанный приказал вылепить его здесь, как знак надежды, что наступит обетованный день, когда Храм воздвигнется из пепла.
Купец вошел в залу, освещенную медной лампой с двенадцатью коптящими фитилями. Еврей Елеазар сидел там перед весами. Окна его дома были замурованы, как полагалось для неверных.
Фабио Мутинелли обратился к нему с такими словами:
— Елеазар, я не раз обзывал тебя собакой и богомерзким язычником. Когда я был помоложе и позадорнее, мне случалось бросать камнями и комьями грязи в проходивших по краю канала людей с нашитым на плече желтым кружком; не мудрено, если бы я попал в кого-нибудь из твоих домашних или в тебя самого. Я говорю все это вовсе не в обиду тебе, но я пришел просить о большой услуге и хочу быть чистым перед тобой.
Еврей поднял руку, сухую и узловатую, как виноградная лоза.
— Фабио Мутинелли! Отец, сущий на небесах, рассудит нас с тобой. О какой услуге пришел ты просить?
— Дай мне на год взаймы пятьсот дукатов.
— Без поручительства никто взаймы не дает. Надо полагать, ты осведомлен об этом от своих соплеменников. Чем ты можешь мне поручиться?
— Не утаю от тебя, Елеазар, что у меня не осталось ничего, ни одной золотой чаши, ни одного серебряного кубка. Не осталось и ни единого друга. Все отказали мне в той услуге, о которой я прошу тебя. Единственное, что осталось мне на этом свете, — честное купеческое слово и вера истого христианина. Предлагаю тебе в поручители пресвятую деву Марию и ее божественного сына.
Выслушав такой ответ, еврей склонил голову, как человек, углубившийся в размышления.
— Фабио Мутинелли, — начал он немного погодя, поглаживая свою длинную седую бороду, — покажи мне твоих поручителей. Ибо заимодавцу полагается своими глазами увидеть то, что должно служить ему порукой.
— Ты вправе требовать этого, — ответил купец. — Встань же и иди за мной.
И он повел Елеазара в церковь дель Орто, близ местности, именуемой Мавританским лугом. Там, указывая на мадонну, стоящую на алтаре в венце из драгоценных каменьев и в шитой золотом мантии, с младенцем Иисусом на руках, разубранным так же пышно, как и мать, купец сказал еврею:
— Вот мои поручители!
Елеазар перевел проницательный взгляд с купца-христианина на мадонну с младенцем, а затем наклонил голову и сказал, что согласен на такое поручительство. Он вернулся с Фабио к себе в дом и дал ему пятьсот полновесных дукатов.
— На год считай это своим. Но если день в день, ровно через год ты не возвратишь мне всю сумму с процентами, установленными венецианским законом и ломбардским обычаем, сам посуди, Фабио Мутинелли, каково будет мое мнение о купце-христианине и его поручителях.
Фабио, не мешкая, купил корабли, нагрузил их солью и разными другими товарами, которые с большой прибылью распродал в городах на побережье Адриатики. Взяв новый груз, он поплыл в Константинополь, где закупил ковры, благовония, павлиньи перья, слоновую кость и черное дерево и в прибрежной полосе Далмации выменял этот товар через своих помощников на строевой лес, заранее запроданный венецианцам. Таким способом он за полгода в десять раз увеличил полученную сумму.
Но как-то раз, когда он совершал увеселительную прогулку по Босфору с гречанками, лодка его чересчур отдалилась от берега, он был захвачен в плен пиратами и увезен в Египет. К счастью, золото его и товары были в сохранности. Пираты продали Фабио сарацинскому вельможе, а тот заковал его в кандалы и отправил в поля взращивать хлеб, который прекрасно родится в том краю. Фабио предложил своему хозяину большой выкуп, но дочь сарацинского вельможи влюбилась в него и хотела склонить к любви, а потому уговорила отца не отпускать его на волю ни за какие деньги. Видя, что ему не от кого ждать спасения, кроме как от самого себя, он распилил свои оковы землепашеским орудием и убежал; достигнув Нила, он бросился в лодку и выплыл в море, до которого было недалеко. Много дней он носился по волнам и совсем уже изнемог от голода и жажды, когда его подобрал испанский корабль, направлявшийся в Геную. Но после недельного плавания разразилась буря и отшвырнула корабль к берегам Далмации. Пытаясь пристать, корабль разбился о подводные камни. Вся команда пошла ко дну, а Фабио, держась за птичью клетку, с трудом добрался до берега и сразу же лишился сознания. Его нашла здесь недурная собой вдова по имени Лорета, проживавшая на побережье. Она приказала перенести его к себе в дом, уложила в своей собственной спальне, не покидала его и самоотверженно ухаживала за ним.
Придя в себя, он почувствовал благоухание миртов и роз и в окно увидел сад, уступами спускавшийся к морю. Синьора Лорета, не отходившая от его изголовья, взяла виолу и стала извлекать из нее нежные звуки.
Исполненный признательности и восторга, Фабио покрыл бессчетными поцелуями ее руки. Горячо поблагодарив ее, он присовокупил, что не столько рад своему спасению, сколько тому, что обязан им такой прекрасной даме.
Он поднялся и вместе с синьорой Лоретой пошел погулять по саду и тут, расположившись в миртовой беседке, привлек к себе молодую вдову, бессчетными ласками доказывая свою признательность.
Она не осталась холодна к его ухаживаниям, и несколько часов прошло в блаженном упоении; но вдруг Фабио озабоченно нахмурился и спросил свою хозяйку, какой сейчас идет месяц и какой нынче день этого месяца.
Он принялся стенать и сетовать, узнав из ее ответа, что ровно через сутки сравняется год с того дня, как еврей Елеазар дал ему пятьсот дукатов. Ему была нестерпима мысль, что он может не сдержать обещания и подвергнуть укоризнам обрезанного своих поручителей. Синьора Лорета спросила, в чем причина его отчаяния, и он рассказал ей все. Тогда она, будучи весьма благочестивой и особенно почитая матерь божию, опечалилась вместе с ним. Достать пятьсот дукатов было не так уж сложно. В соседнем городе обитал банкир, у которого уже полгода лежала эта сумма к услугам Фабио. Но немыслимо было за сутки доплыть с побережья Далмации до Венеции по бурному морю да еще при противном ветре.
— Прежде всего надо раздобыть деньги, — решил Фабио.
И когда один из слуг синьоры Лореты привез их, благородный купец попросил подтянуть к самому берегу лодку, положил в нее мешки с дукатами, потом взял из молельни синьоры Лореты особо чтимую статую пресвятой девы с младенцем Иисусом, вырезанную из кедрового дерева. Поставив ее в челноке возле руля, он сказал ей:
— Владычица небесная, ты моя поручительница. Завтра еврею Елеазару должен быть отдан долг. Это дело твоей и моей чести, от этого зависит доброе имя сына твоего. Что не под силу мне, смертному и грешному человеку, то без труда осуществишь ты, чистейшая звезда моря, своею грудью вскормившая того, кто ходил по водам. Отвези же эти деньги еврею Елеазару в венецианское гетто, дабы обрезанные не могли ославить тебя как ненадежную поручительницу.
И, столкнув челнок в море, он снял шапку и чуть слышно прошептал:
— Прощай, владычица!
Лодка вышла в открытое море. Купец и вдова долго провожали ее взглядом. Сгущались сумерки. По успокоившемуся морю тянулась светлая полоска.
И вот наутро Елеазар, раскрывши свою дверь, увидел, что по узкому каналу через гетто плывет лодка, нагруженная мешками и ведомая статуэткой темного дерева, сияющей в лучах зари. Лодка остановилась перед домом, над которым был вылеплен семисвечник. Еврей увидел деву Марию с младенцем Иисусом — поручителей купца-христианина.
X. ИСТОРИЯ ДОНЬИ МАРИИ Д'АВАЛОС И ДОНА ФАБРИЦИО, ГЕРЦОГА АНДРИИ
Анри Готье-Виллару[403]
…Донья Мария д'Авалос, одна из прекраснейших дам в стране, супруга князя Венозского, влюбилась в графа д'Андриане, который тоже был одним из прекраснейших кавалеров в стране, и они сговорились вкусить блаженство, и муж, разведав о том, приказал своим людям подстеречь и убить обоих; так что назавтра эти две прекрасных половины, эти два создания были найдены лежащими на мостовой у дверей дома уже мертвыми и застывшими, выставленные напоказ перед всеми прохожими, кои со слезами сострадали их несчастному положению.
Пьер де Бурдей, аббат и синьор Брантома («Сборник о дамах», часть вторая)Большие празднества состоялись в Неаполе по случаю бракосочетании князя Венозского, богатого и могущественного вельможи, с доньей Марией из славного рода д'Авалос. Изукрашенные чешуей, перьями и мехами кони, под видом драконов, грифов, львов, рысей, пантер и единорогов, влекли двенадцать колесниц; в них по всему городу разъезжали нагие мужчины и женщины, позолоченные с головы до пят и изображавшие богов Олимпа, которые сошли на землю, чтобы отпраздновать бракосочетание в княжеском доме Веноза. На одной из колесниц красовался крылатый отрок, попиравший ногами трех уродливых старух. На дощечке, прибитой к колеснице, стояло: «Амур — победитель трех Парок». Под этим подразумевалось, что супругам суждено вкусить вместе долгие годы счастья. Однако предсказание, что любовь возьмет верх над роком, оказалось лживым. Через два года после свадьбы, отправляясь на соколиную охоту, донья Мария д'Авалос увидела прекрасного, статного герцога Андрии и полюбила его. Но, будучи женщиной честной и высокородной, она пеклась о своем добром имени и по юности лет еще не способна была без оглядки удовлетворять свои желания, а потому и не подумала послать к кавалеру сводню, дабы назначить ему свидание в церкви или у себя дома. Она ничем не обнаружила своих чувств и стала ждать, чтобы ее счастливая звезда вновь привела к ней того, кто во мгновение ока стал ей дороже, чем божий день. Ждать ей пришлось недолго. Ибо она тоже приглянулась герцогу Андрии, и он поспешил во дворец к князю Венозскому отдать долг вежливости. Повстречав донью Марию с глазу на глаз, он очень нежно и настойчиво стал домогаться того, на что она была готова и рада согласиться. Не медля ни минуты, она повела герцога в свою опочивальню и не отказала ему ни в чем. Когда же он стал благодарить за то, что она уступила его желанию, она дала такой ответ:
— Монсеньер, это скорее было мое желание, нежели ваше. Мне первой захотелось, чтобы мы лежали в объятиях друг друга, как лежим сейчас у меня в постели, где я неизменно, когда бы вы ни пришли, окажу вам радушный прием.
С этого дня донья Мария д'Авалос принимала у себя в опочивальне герцога Андрии всякий раз, как могла улучить время, что бывало очень часто, ибо князь Венозский много охотился и по целым неделям пировал с приятелями в каком-нибудь из своих поместий.
Все время, пока донья Мария лежала в объятиях своего возлюбленного, ее кормилица Лусия сторожила за дверью, бормоча молитву, перебирая четки и непрестанно дрожа, как бы князь не нагрянул раньше срока.
Он всем внушал страх своим ревнивым и вспыльчивым нравом. Враги обвиняли его в коварстве и жестокости, обзывали гнусным смердящим псом, помесью лисицы с волком. Друзья же хвалили за то, что он крепко помнит людям добро и зло и не может стерпеть обиду.
Целых три месяца любовники дарили друг другу наслаждение и удовлетворяли свою страсть без помех и без боязни, как вдруг однажды утром кормилица вошла в спальню доньи Марии и сказала:
— Послушай, звездочка моя ненаглядная, не сладки и не радостны будут мои слова, ибо я принесла тебе важную и грозную весть. До монсеньера князя Венозского дошли злые толки про тебя и про герцога Андрии. Я только что видела во дворе, как он садился на коня и при этом кусал усы, а это недобрый знак. Он что-то наказывал двум подозрительным с виду молодчикам; я слышала лишь, как он говорил им: «Вы должны видеть все, а сами быть невидимы». Вот какие наставления давал благородный князь! Жаль, что он замолчал, увидев меня. Как непреложно присутствие господа в святом причастии, так же непреложно и то, что князь убьет вас обоих, если застигнет тебя с синьором герцогом Андрии. Ты умрешь, звездочка моя ясная, а что станется тогда со мной?
Долго еще говорила и умоляла кормилица. Но донья Мария д'Авалос отослала ее, не ответив ни слова.
Дело было весной, и донья Мария в тот день отправилась за город на прогулку с другими дамами. Идя по дороге, окаймленной цветущим терновником, одна из дам сказала ей:
— Донья Мария, случается, что собаки увязываются за путниками. Вот и за нами следует большой пес, черный с белым.
Оглянувшись, княгиня увидела монаха-доминиканца, каждый день приходившего во двор княжеского дома полежать в тени, а в зимнюю пору погреться на кухне.
Между тем кормилица, поняв, что госпожа ее ничего не желает слушать, побежала к герцогу Андрии, дабы остеречь его. У него и у самого были причины опасаться, что его прекрасная любовь, на беду, перестала быть тайной. Накануне вечером, заметив, что за ним следом крадутся двое бездельников, вооруженных мушкетонами, он ударом шпаги убил одного из них. Другой успел убежать. Теперь для герцога Андрии не было сомнений, что двух этих разбойников к нему подослал князь Венозский.
— Лусия, — сказал он кормилице, — опасность страшит меня, раз она вместе со мной угрожает синьоре Марии д'Авалос. Скажи ей, что я больше не приду к ней в опочивальню, как мне это ни тяжко, пока подозрения князя не будут усыплены.
В тот же вечер кормилица передала его слова донье Марии, которая выслушала их с досадой, до крови кусая губы.
Узнав, что князь в отсутствии, она приказала кормилице тотчас же пойти за герцогом Андрии и привести его к ней в спальню. Едва он явился, она сказала ему:
— Для меня нет страшнее пытки, нежели день, проведенный вдали от вас, монсеньер. Я найду в себе мужество умереть. Но у меня нет мужества жить без вас. Незачем было любить меня, если вы для этого недостаточно сильны духом. Незачем было любить меня, если вы ставите выше моей любви что бы то ни было, будь то моя честь и моя жизнь. Выбирайте же: либо вы будете видеться со мной каждый день, либо никогда больше не увидите меня.
— Ну что ж, синьора, в добрый час, — ответил он, — раз для нашей любви отныне не должно быть злого часа! Ибо я люблю вас так, как вы того желаете и даже больше вашей жизни.
В тот день, в четверг, они долго пробыли в объятиях друг друга. Ничего примечательного не произошло вплоть до понедельника на другой неделе, когда после обеда князь сообщил супруге, что, по приглашению папы, родственника своего, отправляется с немалочисленной свитой в Рим. И, правда, во дворе уже дожидалось под седлом не менее двадцати коней. Итак, князь поцеловал у жены руку, как всегда, когда расставался с ней на продолжительное время. А сев на коня, еще раз обернулся к ней со словами:
— Храни вас господь, донья Мария!
И выехал со двора в сопровождении свиты. Дождавшись, когда, по ее расчетам, весь отряд был уже за городскими стенами, княгиня приказала кормилице позвать герцога Андрии. Старуха слезно молила ее помедлить со свиданием, от которого могла произойти беда.
— Голубка моя, — говорила она, стоя на коленях и молитвенно сложив руки, — не принимай сегодня герцога Андрии! Я слышала, как княжеские слуги целую ночь оттачивали мечи. И вот что послушай еще, цветик мой: монашек, который каждый день приходит на кухню за пропитанием, только что рукавом опрокинул солонку. Дай на время отдых своему милому, душенька моя! Тем радостнее будет потом ваша встреча и тем крепче он будет любить тебя.
Но донья Мария д'Авалос твердила свое:
— Если он не будет здесь через четверть часа, я отошлю тебя к твоим братьям в горы. Слышишь, кормилица!
Когда герцог Андрии пришел, она бросилась обнимать и целовать его, не помня себя от восторга.
— Повелитель мой, — говорила она, — день сулит нам много радости, а ночь еще больше. Я не отпущу вас до рассвета.
И они тотчас принялись целоваться и расточать друг другу нежности. А затем, сняв одежды, легли в постель и так долго не могли насытиться ласками, что сумерки застали их в объятиях друг друга. Оба они очень проголодались, и донья Мария достала из свадебного ларя пирог с курицей, цукаты и фляжку вина, запасливо припрятанные ею. Пока они угощались вволю со всевозможными милыми шалостями, взошла луна и так дружелюбно заглянула в окошко, что им захотелось поздороваться с ней. Стоя на балконе, они дышали благодатной свежестью ночного неба и смотрели, как среди темных кустов точно искры мелькают светляки. Все было безмолвно, только цикады стрекотали в траве. Но тут на улице раздались шаги, и донья Мария узнала нищенствующего монаха, который вечно терся на дворцовой кухне и во дворе, его же она встретила однажды на окаймленной цветами дороге, когда прогуливалась в обществе двух дам. Она бесшумно закрыла окно и снова легла вместе с возлюбленным в постель. Около часу пролежали они, обнявшись и нашептывая друг другу все те нежные слова, какие только амур когда-либо внушал любовникам в Неаполе и в целом свете, как вдруг услышали на лестнице шум шагов и бряцание мечей; в ту же минуту сквозь дверную щель просочился красный свет и послышался голос кормилицы, кричавшей: «Иисусе, Мария! Умираю!» Герцог Андрии вскочил и схватился за шпагу со словами:
— Скорее, донья Мария, надо выпрыгнуть в окно!
Но, выйдя на балкон и перевесившись через перила, он увидел, что улица оцеплена и вся ощетинилась остриями пик.
Тогда он вернулся в комнату к донье Марии, и она сказала ему:
— Все кончено! Но я ни о чем не сожалею, дорогой мой повелитель!
— В добрый час! — ответил он.
И торопливо натянул чулки.
А между тем снаружи с такой силой колотили в дверь, что она вся сотрясалась и доски уже начали расходиться.
— Хотел бы я знать, кто же предатель, выдавший нас, — сказал еще герцог.
Но не успел он надеть башмаки, как створка подалась и в комнату, потрясая факелами, ворвались вооруженные люди. Находившийся среди них князь Венозский кричал:
— Смерть любезнику! Бей! Бей!
Герцог загородил собой кровать, где находилась донья Мария, и оборонялся от трех мужчин, которые набросились на него (всего князь привел шестерых своих приближенных и слуг). Хотя свет факелов слепил ему глаза, герцог Андрии успешно оборонялся и сам нанес несколько сокрушительных ударов. Но, споткнувшись о посуду, которая валялась на полу вместе с остатками пирога и сластей, он упал навзничь. Лежа на спине и чувствуя у горла лезвие шпаги, он схватил шпагу левой рукой; нападающий хотел выдернуть ее и отрезал ему три пальца, шпага при этом согнулась. А когда герцог Андрии оторвался от пола плечами, пытаясь подняться, один из убийц нанес ему сильный удар по голове и размозжил череп. Тогда все шестеро накинулись на него и с такой яростью поспешили его добить, что изранили друг друга.
Когда с ним было покончено, князь Венозский приказал своим подручным не трогаться с места, а сам направился к донье Марии, которая продолжала сидеть на кровати, и острием шпаги загнал ее в угол, к свадебному ларю. Приставив к ее груди клинок, он крикнул:
— Puttana![404]
Она устыдилась своей наготы и попыталась натянуть на себя одеяло, которое свешивалось с кровати.
Но он не пустил ее, поранив при этом ей бедро острием шпаги.
Тогда она прижалась к стене и ждала, прикрывшись руками.
А он, не переставая, кричал:
— Puttaccia!
Ей стало страшно, почему он не убивает ее. Заметив это, он злорадно спросил:
— Тебе страшно?
Но она, указывая на безжизненное тело герцога, ответила ему:
— Глупец, чего мне теперь бояться?
Чтобы скрыть страх, она постаралась припомнить песенку, которую часто пела до замужества, и принялась насвистывать ее сквозь зубы.
Разъярившись от того, что она бросает ему вызов, князь вонзил острие ей в живот и крикнул:
— Ах ты, sporca puttaccia!
Она перестала петь и сказала:
— Синьор, я два года не была у исповеди.
Эти слова озадачили князя Венозского: если Мария умрет без покаяния, она, чего доброго, явится к нему ночью и увлечет за собой в ад.
— Позвать к вам духовника? — спросил он.
Она задумалась, а потом покачала головой:
— Бесполезно! Мне нет спасения! Я ни в чем не раскаиваюсь. Я не хочу и не могу раскаиваться. Я люблю, люблю его! Пустите меня. Я хочу умереть в его объятиях.
Внезапным движением она отстранила шпагу, одним прыжком очутилась возле окровавленного тела молодого герцога и, упав на него, сжала его в объятиях.
Князь Венозский хотел было сперва поизмываться над ней, а потом уж убить ее, но при виде этого зрелища он вышел из себя и пронзил ее тело клинком. Она вскрикнула: «Иисусе!», перевернулась, вскочила, выпрямилась во весь рост и, содрогнувшись, упала бездыханная.
Он нанес ей еще несколько ударов в живот и в грудь. Затем, указывая слугам на трупы, распорядился:
— Бросьте эту падаль к подножью парадной лестницы и откройте настежь входные двери. Пусть все сразу видят и оскорбление и месть.
Он приказал сорвать одежды с тела любовника.
Слуги исполнили его повеление. И целый день тела герцога Андрии и доньи Марии лежали обнаженные на нижних ступенях. Прохожие останавливались посмотреть на них. Весть об убийстве облетела весь город, и толпа любопытных теснилась перед дворцом.
— Поделом им! — говорили одни. А других, и таких было большинство, охватывало сострадание при виде столь горестной картины. Но они не смели высказывать жалость к жертвам князя, боясь, как бы с ними не обошлись круто вооруженные прислужники, охранявшие трупы. Молодые люди искали на теле княгини следы той красоты, что была причиной ее гибели, а дети по-своему толковали небывалое зрелище.
Донья Мария лежала распростертая на спине. Зубы оскалились между мертвыми губами, и казалось, будто она смеется. Широко раскрытые глаза были заведены, и виднелись одни белки. Шесть ран зияли у нее на теле, три на животе, сильно вздувшемся, две на груди и одна на шее. Последняя сильно кровоточила, и собаки лизали ее.
С наступлением ночи князь приказал вставить, как в дни празднеств, смоляные факелы в бронзовые кольца, укрепленные на стенах дворца, и разжечь во дворе костры, чтобы каждый мог видеть преступников. В полночь какая-то благочестивая вдовица принесла простыни и прикрыла трупы. Но по приказу князя покровы эти были тотчас же сорваны.
Испанский посол, узнав о надругательстве над дамой из испанского рода д'Авалос, самолично явился к князю с просьбой положить конец оскорблениям, кои позорят память герцога Пескарского, родного дяди доньи Марии, и возмущают вечный покой стольких славных полководцев, предков этой дамы. Но ему пришлось удалиться, ничего не добившись. Тогда он написал о происшедшем его католическому величеству. А тела были по-прежнему выставлены на посрамление. Под утро, видя, что поток любопытных иссяк, слуги тоже ушли.
Тогда простоявший весь день у дверей монах-доминиканец прокрался на лестницу при дымном свете догорающих смоляных факелов, дополз до тех ступенек, где лежала донья Мария д'Авалос, и, накинувшись на мертвое тело, осквернил его.
XI. БОНАПАРТ В САН-МИНЬЯТО
Арману Жене
Когда, народа сын, простой солдат свободы,
В стране, где льется Тибр, Адидже плещут воды,
Тиранов черных он с их тронов низвергал
И наций стонущих оковы разбивал…[405]
(Мари-Жозеф Шенье[406], «Прогулка»)
После Ливорнской экспедиции Наполеон, будучи во Флоренции, переночевал в Сан-Миньято у старика аббата Буонапарте.[407]
(«Мемориал Св. Елены» графа Ласказаса[408], новое изд. в 1823–1824 гг., т. 1, стр. 149).
Под вечер я приехал в Сан-Миньято. У меня там был родственник, старый каноник…
(«Мемуары доктора Антомарки о последних минутах Наполеона», 1825, т. 1, стр. 155).
Завладев Ливорно и закрыв доступ в этот порт английским судам, генерал Бонапарт отправился во Флоренцию для встречи с Фердинандом, великим герцогом Тосканским, единственным из всех европейских государей, свято выполнившим свои обязательства перед республикой[409]. В знак уважения и доверия генерал явился без охраны, только со своим штабом. Ему показали герб рода Буонапарте над дверью старинного дома. Он знал, что одна из ветвей его семьи в свое время благоденствовала во Флоренции, а ныне от нее уцелел один последний отпрыск. Это был каноник при монастыре Сан-Миньято, восьмидесятилетний старик. Наполеон Бонапарт почитал своим долгом навестить его, хотя и был обременен делами. Родственные чувства имели над ним большую власть.
Вечером, накануне отъезда, он поехал с несколькими своими офицерами в Сан-Миньято. Башни и стены обители увенчивают холм в полумиле к югу от Флоренции.
С радушием, исполненным достоинства, принял старик каноник Буонапарте своего молодого родственника и сопутствующих ему французов.
То были Бертье, Жюно[410], обер-кригс-комиссар Шове и лейтенант Тезар. Им подали ужин по-итальянски с неизбежными перетольскими журавлями, молочным поросенком, сдобренным пряностями, и с лучшими винами Тосканы, Неаполя и Сицилии. Сам хозяин выпил за успехи французского оружия. А гости, республиканцы брутовского образца, выпили за родину и свободу. Хозяин поддержал и этот тост. Затем, обратясь к генералу, которого посадил по правую руку от себя, он сказал:
— Дорогой племянник, не желаете ли взглянуть на родословное древо, изображенное на стене этой комнаты? Вам приятно будет убедиться, что мы происходим от ломбардских Кадолингов, которые с десятого по двенадцатый век стяжали себе добрую славу верностью германским императорам; от них-то в начале одиннадцатого века произошли тревизские и флорентийские Буонапарте, из коих последние особо прославили свое имя.
Офицеры начали перешептываться и посмеиваться. Комиссар Шове спрашивал на ухо у Бертье, неужто республиканскому генералу лестно, что среди его предков были покорные рабы двуглавого орла?[411] А лейтенант Тезар готов был присягнуть, что генерал — отпрыск честных санкюлотов. Тем временем аббат Буонапарте не уставал славить благородство своего рода.
— Знайте, дорогой племянник, — заявил он в заключение, — что наши флорентинские предки заслужили свое имя. Они всегда стояли за buona parte, за правое дело и защищали церковь.
Генерал все время был рассеян и слушал невнимательно, но при этих словах, произнесенных громким и звучным голосом, он поднял голову, и глаза его на худощавом и бледном лице, вылепленном по античному образцу, метнули такой разящий взгляд, что у старика язык прилип к гортани.
— Дядюшка, полно заниматься этой чепухой, — сказал он, — не будем отнимать ветхие пергаменты у крыс на вашем чердаке.
И звенящим, как металл, голосом добавил:
— Знатность моя в моих деяниях. Она ведет свое начало с тринадцатого вандемьера четвертого года, когда я на паперти церкви святого Роха[412] смел картечью роялистские секции. Выпьем же за республику! Республика — это стрела Эвандра. Она не падает наземь, но обращается в звезду.
Офицеры встретили его слова восторженными возгласами. Даже Бертье почувствовал себя в этот миг республиканцем и патриотом.
Жюно твердил, что Бонапарт не нуждается в предках; достаточно того, что при Лоди солдаты произвели его в капралы[413].
При этом они пили сухое вино с привкусом кремня и запахом пороха. И пили немало. Лейтенант Тезар уже не был властен над своими мыслями. Гордясь ранами и поцелуями, в изобилии полученными им за этот веселый и доблестный поход, он напрямик заявил радушному хозяину, что по стопам Бонапарта французы обойдут весь земной шар, повсюду ниспровергнут троны и алтари, наградят девушек младенцами и вспорют животы фанатикам.
Старик священник, по-прежнему улыбаясь, ответил, что готов отдать в жертву их похвальной ярости не девушек, нет, девушек следует щадить, а фанатиков, злейших врагов святой церкви.
Жюно пообещал деликатно обходиться с монашенками, ибо они угодили ему и мягким сердцем и белоснежной кожей.
Комиссар Шове подтвердил, что монастыри оказывают благотворное влияние на девичий цвет лица. Он был человек философического склада.
— По дороге от Генуи до Милана, — сказал он, — мы вдоволь отведали от этого запретного плода. Хоть и считаешь себя свободным от предрассудков, однако ж красивая грудь куда соблазнительнее под рясой. Монашеского обета я не признаю, но, каюсь, очень ценю ляжку монашенки. Вот они — противоречия человеческого сердца!
— Фу! Фу! Что за удовольствие нарушать покой этих несчастных жертв фанатизма, — возразил Бертье, — мало ли в Италии женщин высшего круга, которые на празднествах охотно выслушают ваши признания, закутавшись в домино, столь удобное для интрижек? К чему же тогда красота и доступный нрав Пьетры Груа Мариани, синьоры Ламбер, синьоры Монти, синьоры Герарди де Брешиа?
Перечисляя итальянских дам, он прежде всего имел в виду княгиню Висконти; ей не удалось соблазнить Бонапарта, тогда она отдалась начальнику Бонапартова штаба и любила его с пылкой истомой, с лукавым сладострастием, отравившим слабодушного Бертье на всю жизнь.
— А я, — вставил лейтенант Тезар, — век не забуду, как девчонка — продавщица арбузов на паперти собора…
Генерал в досаде поднялся. Для сна у них осталось не больше трех часов. Им предстояло выехать на рассвете.
— Дядюшка, прошу вас, не хлопочите о нашем ночлеге, — сказал он священнику, — мы ведь солдаты. И обойдемся охапкой соломы.
Но гостеприимный хозяин уже распорядился приготовить постели. В доме у него было мало мебели и украшений, но много простора. Он проводил каждого из французов в предназначенную ему комнату и всем пожелал покойной ночи.
Когда Наполеон остался один в своей комнате, он сбросил мундир, шпагу и карандашом намарал письмецо Жозефине[414], двадцать неразборчивых строк, вопль его страстной и расчетливой души. Сложив записку, он прогнал образ этой женщины так же решительно, как задвигают ящик. Затем развернул план Мантуи[415] и наметил пункт, на котором следует сосредоточить огонь.
Он был всецело поглощен стратегическими расчетами, когда в дверь постучали. Он решил, что это Бертье. Оказалось, это каноник пришел просить, чтобы он уделил ему минутку для беседы. Под мышкой старик держал несколько тетрадей, переплетенных в пергамент. Генерал с легкой усмешкой поглядел на эту бесполезную кипу бумаги. Он не сомневался, что тетради содержат родословную семейства Буонапарте, и предвидел, что они дадут пищу для нескончаемых разговоров. Однако ничем не проявил нетерпения.
Он бывал хмурым и сердитым, только когда настраивал себя на такой лад. А тут ему отнюдь не улыбалось предстать перед добрым дядюшкой в невыгодном свете; наоборот, ему хотелось понравиться старику. Кстати, сейчас, когда офицеры-якобинцы отсутствовали и некому было поднять его на смех или взять под подозрение, он не прочь был узнать, сколь знатен его род. Он попросил священника присесть.
Тот уселся в кресло, реестры свои положил на стол и заговорил:
— Вот что, дорогой племянник! За ужином я начал рассказывать вам о флорентинской ветви Буонапарте; но по вашему взгляду я понял, что время было неподходящее для такого разговора. Я замолчал и приберег самое главное для настоящей нашей беседы. Прошу вас, дорогой племянник, внимательно выслушать меня.
Тосканская ветвь нашего рода дала замечательных отпрысков, среди коих необходимо назвать Якопо ди Буонапарте[416], свидетеля разграбления Рима тысяча пятьсот двадцать седьмого года, написавшего отчет об этом событии, а также Николо, автора комедии «La Vedova»[417], которую почитали достойной пера самого Теренция[418]. Однако я намерен говорить с вами не об этих двух прославленных предках, но о третьем, чей ореол затмил их обоих, как солнце гасит свет звезд. Знайте же, что к членам нашей семьи принадлежит фра Бонавентура, последователь святого Франциска, капуцин, в тысяча пятьсот девяносто третьем году принявший блаженную кончину.
Произнося имя святого, старик преклонил голову. Затем продолжал с горячностью, неожиданной для его преклонных лет и мягкого нрава:
— Фра Бонавентура! Именно ему, этому благочестивому предку, обязаны вы, дорогой племянник, успехом своего оружия. Без сомнения, он был подле вас в тот день, когда вы, по вашим словам, смели врагов своих картечью на паперти святого Роха. И никто как он, этот брат капуцин, направлял вас на полях сражений. Без него вы никогда не преуспели бы ни при Монтенотте, ни при Миллезимо, ни при Лоди. Знаки его покровительства столь явны, что они бросаются в глаза, и я почитаю ваши успехи чудом блаженного фра Бонавентуры. Но вот что надлежит вам узнать: у святого были свои умыслы, когда он помогал вам, дорогой племянник, взять верх над самим Болье[419] и, ведя вас от победы к победе, привел под этот старинный кров, где мое старческое благословение будет охранять ваш покой нынешней ночью. Ибо я здесь, чтобы открыть вам его волю. Фра Бонавентура пожелал, чтобы вам стали ведомы подвиги святости, совершенные им, чтобы вы узнали о его постах и умерщвлениях плоти, о молчании, на которое он по году обрекал себя. Он пожелал, чтобы вы прикоснулись к его власянице и к веревке, служившей ему поясом, к его коленям, до того одеревеневшим от стояния на ступенях алтаря, что ходил он весь согнувшись. И в Италию он привел вас для того, чтобы вы оказали ему услугу за услугу. Ибо, да будет вам известно, дорогой племянник, как брат капуцин помог вам, так и вы можете быть ему весьма полезны.
С этими словами каноник положил руку на толстые тетради, загромоздившие стол, и перевел дух.
Бонапарт молча ждал продолжения этой речи, немало его забавлявшей. Его и вообще очень легко было развлечь.
Старик отдышался и продолжал:
— Да, дорогой племянник, вы можете быть весьма полезны блаженному фра Бонавентуре; положение его таково, что он нуждается в вас. Вот уж сколько лет, как он причислен к сонму блаженных, а по сей день не внесен в святцы. Совсем истомился фра Бонавентура! А как могу я, ничтожный каноник обители Сан-Миньято, добиться для него должного призвания? Внесение в святцы требует издержек, которые превосходят и мое собственное состояние и средства, которыми располагает епархия! Бедный каноник! Бедная епархия! Бедное герцогство Тосканское! Бедная Италия! Дорогой племянник, попросите папу, чтобы он признал фра Бонавентуру. Вам он не откажет. Что стоит его святейшеству из уважения к вам внести в святцы лишнего угодника! А отблеск его славы падет на вас и на ваше семейство, и брат капуцин никогда не оставит вас своим попечением. Разве вы не понимаете, какое счастье иметь в семье святого?
Указывая на тетради в пергаментном переплете, старик попросил генерала взять их с собой. Они содержат представление о канонизации блаженного брата Бонавентуры с приложением оправдательных документов.
— Обещайте мне заняться этим делом, — добавил он, — важнее дела у вас быть не может.
Бонапарт с трудом удержался от смеха.
— Я самый неподходящий человек для того, чтобы хлопотать о канонизации, — сказал он. — Вам, надо полагать, известно, что Французская республика требует от Римской курии удовлетворения за предательское убийство посла Бассвиля[420].
— Corpo di Bacco![421] — воскликнул каноник. — Римская курия и извинения принесет, и согласится на любое удовлетворение, и впишет нашего капуцина в святцы.
— Переговоры подвигаются очень туго, — возразил республиканский генерал, — надо еще, чтобы Римская курия признала гражданский статут, введенный для французского духовенства[422], и собственными руками уничтожила инквизицию, которая оскорбляет человеческое достоинство и посягает на права государств.
Старик улыбнулся:
— Mio caro figliuolo Napoleone[423], папа знает, что надо не только брать, но и давать. Он умеет уступить кстати. Он вас ждет. Он снисходителен и миролюбив.
Бонапарт задумался; казалось, новые планы роятся в его могучем мозгу.
— Вам незнаком дух времени, — внезапно начал он. — Во Франции религия совсем не в почете. Нечестие пустило там глубокие корни. Вы не знаете, какой успех имеют идеи Монтескье, Рейналя и Руссо[424]. Религиозные обряды упразднены. Ничего святого не существует. Вы сами могли об этом судить по непристойным речам моих офицеров за ужином.
Старик каноник покачал головой.
— Велика беда, что эти милые молодые люди беспечны, ветрены и живут не задумываясь. С годами это пройдет. Лет через десять они меньше будут бегать за женщинами и начнут ходить в церковь. Карнавал длится всего несколько дней. Недолговечен будет и карнавал вашей французской революции. А церковь непреходяща.
Бонапарт признался, что и сам он совсем не религиозен, и ему не пристало вмешиваться в чисто церковное дело.
Тогда каноник посмотрел ему в глаза и сказал:
— Дитя мое, я знаю людей. И вас я разгадал: вы не философ. Займитесь же блаженным отцом Бонавентурой. Он воздаст вам за сделанное ему добро. Я же слишком стар, мне не доведется увидеть торжество этого великого дела, Я скоро умру. Но умру спокойно, зная, что оно в ваших руках. И главное, помните, дорогой племянник, что всякая власть от бога, и дается она через посредство его священнослужителей.
Он встал, воздев руки благословил своего молодого родственника и удалился.
Оставшись один и перелистывая при дымном огоньке свечи объемистый труд, Бонапарт размышлял о могуществе церкви и о том, что папство, как установление, прочнее Конституции Третьего года[425].
В дверь постучались. Это Бертье пришел доложить генералу, что все уже готово к отъезду.
ПЬЕР НОЗЬЕР[426]
КНИГА ПЕРВАЯ. ДЕТСТВО
I. Библия и Ботанический сад[427]
Первое представление о вселенной возникло у меня, когда я рассматривал картинки в старинной библии. На этих гравюрах XVII века от изображения земного рая веяло простодушием голландского пейзажа. Тут были брабантские кони, кролики, поросята, куры, курдючные бараны. Среди этих созданий во всем блеске пышной фламандской красоты разгуливала Ева. Но на нее я смотрел равнодушно. Гораздо больше мне нравились кони.
На седьмой странице (как сейчас вижу ее) изображено было, как в Ноев ковчег грузят парами животных. В моей библии Ноев ковчег представлял собой нечто вроде длинной баржи, на которой возвышался деревянный домик с двухскатной крышей. Этот Ноев ковчег напоминал тот, который мне подарили на Новый год и от которого так чудесно пахло смолой, — для меня это сходство было неоспоримым доказательством истинности Священного писания.
Мне не надоедало любоваться ни раем, ни потопом. Мне очень нравился Самсон[428], похищающий ворота Газа. Город Газ с его башнями, колокольнями и зелеными кущами окрестных рощ был прелестен. Самсон удалялся, унося под мышками створы городских ворот. Он очень привлекал меня. Он стал моим другом, В этом отношении, как и во многом ином, я остался верен себе. Я и доныне люблю Самсона. У него столько силы и простодушия и ни тени лукавства; он был первым романтиком и несомненно одним из самых искренних.
Признаюсь, я плохо разбирался в последовательности событий, излагавшихся в моей старой библии; меня сбивали с толку войны филистимлян с амалекитянами. Всего более восхищали меня головные уборы этих народов, я до сей поры изумляюсь их разнообразию. Там были шлемы, короны, шляпы, колпаки, прелестные тюрбаны. Никогда не забуду головного убора, который Иосиф[429] носил в Египте. Пожалуй, то был тюрбан, даже очень пышный тюрбан, но увенчанный островерхим колпаком, над которым колыхался султан из двух страусовых перьев, — в общем, весьма сложный головной убор, вполне заслуживавший внимания.
От Нового Завета моей старинной библии веяло более задушевным очарованием, и я храню светлое воспоминание об огороде, в котором Христос явился Магдалине: «И она подумала, — гласит текст, — что то был садовник». Наконец, в семи деяниях милосердия Иисус Христос, который бывал то нищим, то узником, то странником, видит, как к нему приближается дама, разряженная, словно Анна Австрийская, в высоком воротнике из венецианских кружев. Кавалер в широкополой фетровой шляпе со страусовыми перьями, в плаще и в щегольских сапогах с раструбами, подбоченившись, стоит на крыльце кирпичного замка и приказывает маленькому пажу, несущему кувшин и серебряный кубок, налить вина бедняку, над головой которого сияет светлый нимб. Как все это было мило, таинственно, непритязательно! Насколько Иисус Христос, сидящий в виноградной беседке близ павильона времен короля Генриха, под нашим влажным нежным небом, казался более близким к людям, более причастным к их повседневным делам!
Каждый вечер, при свете лампы, я перелистывал мою старинную библию, и сон, чудесный детский сон, непреодолимый, как желание, окутывал меня, еще полного священных образов, теплой сладостной мглой. Патриархи, апостолы, дамы в гипюровых воротниках продолжали жить в моих сновидениях сверхъестественной жизнью. Моя библия превратилась для меня в бесспорную реальность, и я пытался включить в нее вселенную.
Вселенная простиралась для меня всего лишь до пределов набережной Малакэ, где я увидел свет, как говорит кроткая дева из Альбы[430]. С упоением вдыхал я воздух, овевающий эту область красоты и славы: Тюильри, Лувр, дворец Мазарини. Когда мне было пять лет, я еще плохо знал ту часть света, которая лежала позади Лувра, на правом берегу Сены. Левый берег я знал лучше, ибо жил там. Я доходил до конца улицы Малых Августинцев и был уверен, что вселенная кончается тут.
Ныне улицу Малых Августинцев переименовали в улицу Бонапарта. Но в ту пору, когда она замыкала для меня всю вселенную, я видел, что с этой стороны края бездны охраняет чудовищный кабан и четыре каменных великана в ниспадающих до полу одеждах, — они сидели с книгой в руке под кровлей открытой беседки вокруг наполненного водой бассейна среди равнины, окаймленной деревьями, а неподалеку возвышалась огромная церковь. Вы меня не понимаете? Не знаете, о чем я говорю? Увы! Прожив позорную жизнь, несчастный кабан дома Бальи давно издох. Новые поколения не видели его, обреченного сносить поношения школьников. Не видели, как он лежал, полузакрыв глаза, безропотно покоряясь судьбе. Он жил когда-то на углу улицы Бонапарта в сарае, окрашенном в желтый цвет и расписанном фресками, на которых изображены были фургоны, запряженные серыми в яблоках битюгами, — а теперь на этом месте высится пятиэтажный дом. И когда я прохожу мимо фонтана на площади св. Сульпиция, то четыре каменных великана уже не внушают мне мистического ужаса. Мне, как и прочим, известны их имена, их дарования, их история: это Боссюэ, Фенелон, Флешье и Массильон[431].
С западной стороны я тоже доходил до края вселенной. Взрытые высоты Шайо, холм Трокадеро, в ту пору еще не тронутый, поросший белой диванкой и душистой мятой, были для меня действительно пределом вселенной, краями той бездны, где увидишь только нагого человека, передвигающегося прыжками, человека-рыбу и человека без головы, у которого лицо помещается на груди. Близ моста, замыкавшего с этой стороны вселенную, набережные были такие сумрачные, серые, пыльные, редко проезжали экипажи, немного попадалось и пешеходов. Там и сям, облокотившись о перила, стояли солдаты, строгали палочку и глядели, как течет река. У подножья римского всадника, на правом углу Марсова поля, старуха, притулившись у парапета набережной, продавала яблочные пирожки и лакричную воду. Графин с этим напитком она затыкала лимонной коркой. Пыль и безмолвие реяли надо всем. Ныне Иенский мост соединяет между собой новые кварталы. Он утратил сумрачный, угрюмый облик, отличавший его в пору моего детства. Пыль, которую ветер вздымает теперь на мостовой, — уже не прежняя пыль. Римский всадник наблюдает теперь новые лица и новые нравы, — это не печалит его: он каменный.
Но лучше всего я знал и больше всего любил берега Сены. Моя старая няня Нанетта ежедневно водила меня туда гулять. Я видел там Ноев ковчег, такой же как в моей библии с картинками. Ведь я твердо был уверен, что плавучая купальня с ее пальмами, над которыми, непонятно откуда, вился черный дымок, не что иное, как бывший ковчег; теперь не бывает потопа, поэтому его переделали в купальню.
С восточной стороны находился Ботанический сад, где я не раз бывал, и Аустерлицкий мост, — тут был конец пути. Даже наиболее отважные исследователи природы в конце концов достигают определенного рубежа, преступить который они не в силах. Дальше Аустерлицкого моста я идти не мог. Мои ножки были малы, а ноги моей няни Нанетты стары, и, вопреки моей и ее любознательности, как нам ни нравились наши прекрасные прогулки, мы всегда вынуждены бывали присаживаться на скамью под деревом, откуда виден был мост, и около него — торговка яблочными нантерскими пирожками. Нанетта ростом была не намного выше меня. Это была святая женщина в ситцевом платье с разводами и в чепце с плоёной оборкой. Вероятно, ее представление о вселенной было столь же наивно, как то, которое я составил себе, живя бок о бок с нею. Мы болтали очень непринужденно. Правда, она никогда не слушала меня. Но в этом не было никакой необходимости. Ее ответы были всегда кстати. Мы нежно любили друг друга.
Когда она, сидя на скамье, кротко размышляла о вещах обычных, но недоступных ее уму, я то копал совочком землю у подножья дерева, то глядел на мост, замыкавший для меня знакомый мир.
Что было там, за пределами этого известного мне мира? Подобно ученым, я довольствовался предположениями. Но разум мой создал весьма осмысленную гипотезу, мне она казалась истиной: я полагал, что за Аустерлицким мостом тянутся волшебные библейские земли. На правом берегу был холмик, в моем воображении тот самый холм, который возвышался над купальней Вирсавии[432].
За ним я помещал Святую землю и Мертвое море. А если углубиться еще дальше, то, пожалуй, увидишь и бога, облаченного в лазоревое одеяние с развевающейся по ветру белоснежной бородой, и Христа, грядущего по волнам, и, может быть, избранника моего сердца Иосифа, — ведь он мог еще быть жив, ибо в ту пору, когда братья продали его в рабство, Иосиф был еще очень молод.
Во всех этих мыслях меня укрепляло то соображение, что ведь Ботанический сад не что иное, как земной рай, — правда, он несколько утратил свою первоначальную свежесть, но не так уж сильно изменился. В этом я был убежден тверже, чем во всем прочем, у меня имелись на это свои доказательства. В моей старой библии был изображен земной рай, и матушка говорила мне: «Земной рай — это прелестный сад с великолепными деревьями и всеми животными». Итак, несомненно Ботанический сад и есть тот самый земной рай, который изображен в моей библии и о котором говорила мне матушка; правда, животные жили там за загородками и в клетках, но вызвано это было прогрессом искусства и утратой первородной невинности. Вместо ангела с огненным мечом, когда-то стоявшего на страже, теперь у входа стоял солдат в красных шароварах.
Мне лестно было воображать, что я сделал важное открытие. Я хранил его про себя. Я не поверял его даже отцу, которого, однако, непрестанно расспрашивал о происхождении, причинах и конце всех явлений, как видимых, так и невидимых, но о тождестве земного рая с Ботаническим садом я молчал.
Молчать меня заставляло множество причин. Во-первых, в пятилетнем возрасте трудно бывает объяснить взрослым некоторые вещи. В этом виноваты сами взрослые, — они очень плохо понимают объяснения маленьких детей. Во-вторых, я был доволен, что истина известна лишь мне одному. Это давало мне преимущество над всеми. Я предчувствовал, что стоит мне только обмолвиться, как надо мной начнут подшучивать, будут меня высмеивать и моя великолепная идея пострадает, что сильно огорчило бы меня. Признаться, я инстинктивно чувствовал шаткость этой идеи. Может быть, в глубине души я и сам смутно чувствовал, что гипотеза моя слишком смелая, дерзкая, ошибочная, греховная. Все это было очень сложно. Но трудно даже представить себе, какие сложные мысли гнездятся в голове пятилетнего ребенка. Прогулки в Ботаническом саду — вот последнее воспоминание, которое удержалось в моей памяти о няне Нанетте, — она была так стара, когда я был так мал, и так мала ростом, когда я был совсем крошечным. Мне не было еще шести лет, когда она, к великому сожалению моих родителей и меня самого, покинула нас. Она покинула нас не потому, что умерла, а не знаю почему — куда-то уехала, не знаю куда! Она исчезла из моей жизни; так по деревенскому поверью добрые феи, приняв образ ласковой старушки, беседуют с людьми в вдруг исчезают, испаряются в воздухе.
II. Торговец очками
Как радостно жилось в ту пору! Малейший ветерок вызывал восхитительный трепет. Круг времен года шел, исполненный увлекательных неожиданностей, вселенная сияла в своей чудесной новизне. Так мне казалось, ибо мне было шесть лет. Уже в ту пору меня терзала неутомимая любознательность, которая впоследствии стала мукой и счастьем моей жизни и обрекла меня на поиски того, чего никогда не находишь.
Моя космография, — у меня имелась своя космография, — была беспредельна. Я полагал, что набережная Малакэ, где находилась моя комната, является центром вселенной. Зеленая комната, в которой матушка ставила мою кроватку рядом со своей, казалась мне, в величавой святости своей и домашней прелести, тем средоточием мира, на которое небо изливало свою лучезарную благодать, подобно тому как это изображают на священных картинках. А между тем стены моей комнаты, столь хорошо изученные мною, насыщены были какой-то тайной.
Ночью, когда я лежал в кроватке, мне мерещилась вереница причудливых образов, и вдруг комната, так крепко замкнутая, уютная, освещенная последними отблесками потухающего камина, открывала широкий доступ вторжению сверхъестественного мира.
Легион рогатых чертенят водил в ней хороводы, медленной поступью, рыдая, проходила женщина из черного мрамора, и только впоследствии я узнал, что пляшущие чертенята были плодом моего воображения, а тихая и печальная черная женщина — моей собственной выдумкой.
Согласно моей системе мироздания, отличавшейся очаровательной непосредственностью, как и первобытные теогонии, земля вокруг моего дома образовала обширный круг. Ежедневно, когда я шел на прогулку и возвращался обратно, мне встречались различные люди, и все они, как мне казалось, играли в какую-то очень сложную и очень занимательную игру: игру в жизнь. На мой взгляд, их было множество. Пожалуй, больше сотни.
Убежденный в том, что вся их работа, все их уродства и все их страдания — не что иное, как забава, я все же не был уверен, что они живут под столь же благостным влиянием, как я, под надежным покровом, защищающим их от всяких невзгод. По правде говоря, я не верил, что они столь же реальны, как я, и не был убежден в том, что они подлинно живые существа, а когда из своего окна я наблюдал, как эти крошечные существа движутся по мосту Святых отцов, то принимал их за игрушечных, а не за живых людей, и был почти столь же счастлив, как тот сказочный ребенок-великан, который, сидя на горе, играл елями, хижинами, коровами, овцами, пастухами и пастушками.
Короче говоря, вселенная в моем представлении была большим деревянным игрушечным ящиком из Нюрнберга, крышку которого задвигали каждый вечер после того, как заботливо и в полном порядке укладывали спать маленьких человечков — мужчин и женщин.
Утра были в ту пору тихие, ясные, от легкого ветерка чуть трепетали зеленые листья на моей прекрасной набережной Малакэ, куда после няни Нанетты меня водила гулять г-жа Матиас, старуха с жгучими глазами и мягким, как воск, сердцем; на этой набережной в витринах антикварных лавок сверкало драгоценное оружие, на горках расцветал, как цветы, хрупкий саксонский фарфор. Сена, катившая передо мной свои воды, пленяла меня той естественной красотой, которая присуща воде — началу всего сущего и источнику жизни. Я простодушно любовался изумительным чудом — рекой, которая днем несла на себе суда и отражала небо, а ночью украшала себя драгоценными сверкающими уборами и пышными цветами. И мне хотелось, чтобы эта чудесная река никогда не изменялась, ибо я любил ее. Матушка говорила мне, что реки впадают в океан и воды Сены непрерывно струятся вдаль, но я отгонял от себя эту мысль, находя ее слишком печальной. Пожалуй, в данном случае я грешил отсутствием научного понимания, но я лелеял драгоценную иллюзию; ведь из всех жизненных зол болезненней всего ранит душу сознание тщеты всего земного.
Лувр и Тюильри, величественно простиравшиеся передо мной, были для меня загадкой. Я не мог представить себе, что эти дворцы были созданиями рук обыкновенных каменщиков, а вместе с тем мое понимание мира уже не допускало мысли, что такие чертоги могли возникнуть по волшебству. Путем долгих размышлений я пришел к выводу, что эти дворцы воздвигнуты прелестными дамами и блистательными кавалерами, разодетыми в бархат, атлас, кружева, людьми, чьи одежды расшиты были золотом, драгоценными камнями, а шляпы украшены страусовыми перьями.
Быть может, вас удивит, что шестилетний мальчик имел столь смутное представление о вселенной, но надо принять во внимание, что я почти никуда не выезжал за пределы Парижа, где мой отец, доктор Нозьер, вынужден был оставаться круглый год.
Правда, я совершил две-три недалеких поездки, но не извлек из них никакой пользы с точки зрения географической. В ту пору этой наукой сильно пренебрегали. Может показаться странным и то, что о мире нравственном я имел представление, очень мало соответствующее действительности.
Но не забудьте, что я был счастлив! А ведь счастливые так мало знают о внешнем мире! Страдание — великий наставник. Оно научило людей искусствам, поэзии, морали; оно вдохнуло в них героизм и жалость; оно придало жизни ценность, открыв нам возможность приносить себя в жертву другим; страдание, великое и благостное страдание, вдохнуло бессмертие в любовь.
В ожидании его уроков я стал свидетелем ужасного события, которое потрясло мое представление о физическом и нравственном устройстве вселенной.
Но прежде всего необходимо вам рассказать, что в те времена некий торговец очками выставлял свои витрины на набережной Малакэ, вдоль стен прекрасного особняка Шимэ, двери которого в стиле Людовика XIV, резные с фронтоном, с таким благородным изяществом распахиваются на парадный двор.
Я был очень дружен с этим торговцем очками. Г-жа Матиас, ежедневно отправляясь со мной на прогулку, останавливалась возле его витрины.
— Ну, как идут дела, господин Амош? — участливо спрашивала она. Затем между ними завязывался разговор.
А я, прислушиваясь к их беседе, разглядывал очки с темными стеклами, пенсне, деревянную чашу с медалями, образцы минералов — все, что составляло достояние торговца очками, казавшееся мне несметным богатством. Сильнее всего меня изумляло обилие синих стекол в маленьких витринах г-на Амоша. Мне и до сей поры кажется, что г-н Амош несколько преувеличивал значение синих стекол в повседневной оптике.
Впрочем, как бесцветные, так и синие очки безмятежно почивали в своих коробках, никто не глядел на них, никто не глядел на древние медали, на минералы, а стальную оправу очков разъедала ржавчина.
— Ну что, поправляются ваши дела? — спрашивала г-жа Матиас. Г-н Амош, скрестив руки на груди, сумрачно глядел вдаль и молчал.
Это был человечек низенького роста, лысый, с выпуклым лбом, темными горящими глазами, бледный, с длинной иссиня-черной бородой.
Его одежда была столь же своеобразна, как и его внешность. На нем был длинный до пят суконный сюртук бутылочного цвета, порыжевший на плечах и на спине. На голове он носил самый высокий цилиндр, какой мне когда-либо доводилось видеть, весь изломанный, весь лоснящийся, — чудовищный памятник нищеты и тщеславия. Нет, как видно, дела шли из рук вон плохо! Г-н Амош отнюдь не походил на человека, успешно торгующего очками, а очки его отнюдь не походили на очки, которые охотно раскупаются.
Лишь превратность судьбы заставила его торговать очками, и здесь, подле стен особняка Шимэ, он хотел казаться Наполеоном на острове Св. Елены, Ведь и он был поверженный титан!
Поскольку я могу судить по уцелевшим у меня в памяти отрывкам разговоров, которые он вел с моей старой няней, речь шла о его необычайных приключениях, происходивших в далеких краях. Он рассказывал о длительном плавании по Тихому океану, о привалах под сенью могучих кедров с красными стволами, о китайцах, курильщиках опиума.
Он рассказывал, что на темной улице в Сакраменто его ударил ножом какой-то испанец, и что малайцы украли у него все его золото. Руки г-на Амоша дрожали, он без конца повторял роковое слово: «Золото».
Подобно многим, г-н Амош отправился в Калифорнию искать золото. Он бредил золотоносными жилами, которые тянутся почти на поверхности земли, мечтал об этой сказочной земле, которую стоило лишь копнуть, чтобы найти богатейшие сокровища.
Увы! Из Сьерры-Невады он привез только лихорадку, нищету, ненависть да неисцелимое отвращение к труду и бедности.
Госпожа Матиас, скрестив на переднике руки, внимательно слушала его и, покачивая головой, отвечала:
— Да, господь не всегда справедлив!
И мы оба, взволнованные, задумчивые, направлялись к Елисейским полям. Тихий океан, Калифорния, испанцы, китайцы, малайцы, золотоносные жилы, золотые горы и золотые реки — все это, конечно, не совпадало с тем представлением о вселенной, которое я создал себе: из слов торговца очками явствовало, что земля отнюдь не кончается у площади св. Сульпиция и Иенского моста.
Господин Амош приобщил меня к иному миру, и я не мог видеть его худое, возбужденное и болезненное лицо, не испытывая трепета перед неведомым. Он открыл мне, что земля велика, так велика, что на ней можно заблудиться, полна непонятных и страшных явлений. В его присутствии жизнь не казалась мне игрой, я постигал, что существует страданье. Последнее поражало меня сильнее всего, ибо я понимал, что г-н Амош действительно несчастлив.
— Он несчастлив, — говорила г-жа Матиас.
— Несчастный человек! Как он бедствует! — твердила матушка.
Свершилось! Я утратил свою первоначальную веру в благостность природы, и, разумеется, никого не удивит, если я скажу, что с той поры я никогда уже не обрел ее вновь.
Господин Амош сильно тревожил меня, но вместе с тем и глубоко интересовал. Порой мне случалось встречаться с ним вечером на нашей лестнице. В этом не было ничего необычайного, так как он жил в одной из мансард нашего дома. В сумерки он взбирался по лестнице, держа под мышками два длинных черных ящика, в которых несомненно лежали очки и минералы. Но оба эти ящика напоминали два маленьких гробика, и я боялся г-на Амоша, словно этот несчастный человек был гробовщиком.
Не мою ли доверчивость и уверенность в безопасности уносил он? Теперь я сомневался во всем, ибо, живя под нашей благословенной кровлей, этот человек все же был несчастлив.
Его мансарда выходила окнами во двор, и няня сказала мне, что для того, чтобы стоять во весь рост, г-н Амош вынужден просовывать голову в окно, проделанное в крыше; а в ту пору я не всегда бывал серьезен и смеялся от души, представляя себе, как г-н Амош никогда не снимает в своей комнате цилиндра; шляпа эта чудовищно высока и вздымается над крышей выше всех труб, — ей недостает лишь жестяного флюгера.
В шестилетнем возрасте ум человека изменчив. Я уже забыл о продавце очков, о его цилиндре, о двух гробиках, но вот однажды, — помню, то было весной, в половине седьмого, — мы все сидели за столом. В то времена на набережной Малакэ обедали рано. Итак, однажды г-жа Матиас, которую все в доме очень уважали, подошла к отцу и сказала:
— Торговец очками, что живет наверху, очень болен, у него сильный жар.
— Сейчас иду, — ответил отец, вставая.
Спустя четверть часа он возвратился.
— Ну как? — спросила матушка.
— Ничего определенного пока еще сказать нельзя, — ответил отец и спокойно взял свою салфетку, как человек, привыкший к людским страданиям. — Полагаю, что у него воспаление мозга, он страшно возбужден, но о больнице и слышать не хочет, а все же, пожалуй, придется отправить его в больницу; там будут ухаживать за ним по-настоящему.
— А он умрет? — спросил я.
Отец ничего не ответил, только пожал слегка плечами.
На следующий день ярко светило солнце. Я был в столовой один. Со двора вместе с чириканьем воробьев в раскрытое окно врывались потоки света и благоухание сирени, которую выращивал наш привратник, большой любитель цветов. У меня был новенький Ноев ковчег, пачкавший пальцы краской и еще не утративший запаха новой игрушки, который я так любил! Я расставлял на столе попарно животных; и вот конь и медведь, слон и олень, баран и лисица уже направлялись парами к ковчегу, который должен был спасти их от потопа.
Кто может угадать, какие грезы порождают игрушки в детской душе!
Это безмятежное шествие крошечных первозданных животных внушало мне таинственное и сладостное представление о природе. Меня обуревали нежность и любовь. Я ощущал неизъяснимую радость при мысли, что живу.
Вдруг во дворе послышался глухой звук падения. Звук глубокий, тяжкий, неслыханный, я оледенел от ужаса.
Почему, от какого бессознательного чувства я вдруг содрогнулся? Никогда прежде не доводилось мне слышать подобного звука. Почему я сразу постиг весь его ужас? Я. подбежал к окну — и увидел во дворе нечто жуткое! Бесформенную массу, кровавое месиво, напоминавшее, однако, человека. Весь дом наполнили женские вопли, зловещие крики. В столовую вошла моя няня, мертвенно-бледная.
— Боже мой! Продавец очков в припадке горячки выбросился из окна!
С этого дня я навсегда утратил веру в то, что жизнь — игра, а мир — нюрнбергский ящик с игрушками. Космогония маленького Пьера Нозьера рухнула в бездну человеческих заблуждений вместе с представлением древних о карте вселенной и системой Птолемея.
III. Госпожа Матиас[433]
Госпожа Матиас была одновременно экономкой и няней; в силу преклонного ее возраста и скверного характера окружающие питали к ней глубокое уважение. Отец и матушка, поручив ей ухаживать за моей маленькой особой, звали ее не иначе, как г-жа Матиас; однажды я был очень изумлен, узнав, что у нее есть имя, девичья фамилия, имя уменьшительное и что зовут ее Виргиния. Г-жа Матиас испытала в жизни много несчастий и гордилась этим. Ее впалые щеки, глаза, горевшие словно угли, космы седых волос, выбивавшиеся из-под чепца, смуглая кожа, худоба, молчаливость, беззубый рот, выдающийся подбородок — словом, вся ее внешность и угрюмый нрав действовали на отца угнетающе.
Матушка, правившая домом с бдительностью пчелиной матки, признавалась, однако, что не смеет делать замечаний этой пожилой женщине, смотревшей на нее взглядом затравленной волчицы. Все побаивались г-жи Матиас. Только я один не страшился ее. Я понял ее, я разгадал ее, я знал, что она уязвима.
Восьмилетним ребенком я лучше постиг эту душу, чем мой сорокалетний отец, хотя он обладал созерцательным умом, достаточным для идеалиста запасом наблюдений и некоторыми сведениями по физиогномике, почерпнутыми у Лафатера[434]. Я помню его рассуждения о маске Наполеона, которую доктор Антомарки привез с острова Св. Елены. Гипсовый слепок с этой маски, висевший у отца в кабинете, внушал мне в детстве ужас.
Но надо сознаться, что у меня было перед отцом огромное преимущество: я любил г-жу Матиас, и г-жа Матиас любила меня. Меня вдохновляла симпатия, отцом же руководил рассудок. Кроме того, он и не старался уяснить себе характер г-жи Матиас. Не испытывая при взгляде на эту мрачную старуху никакого удовольствия, он и не желал смотреть на нее. Быть может, если бы он вгляделся в нее, то заметил бы, какой маленький приплюснутый носик невинной пуговкой примостился на самой середине ее хмурого лица. Под личиной суровости, которую она обычно напускала на себя, носик этот был еле виден, он словно исчезал на фоне страстной и глубокой скорби, омрачавшей лицо г-жи Матиас. А между тем лицо это было достойно внимания. До сих пор я вижу его своим мысленным взором, и оно умиляет меня каким-то неуловимым выражением страдальческой нежности и скорбной покорности. Только я один в целом мире обратил на это внимание, но по-настоящему понимать это я стал лишь тогда, когда образ г-жи Матиас превратился в отдаленное воспоминание, хранимое лишь мной одним.
Особенно теперь я думаю о ней с нежной приязнью. Ах, г-жа Матиас! Чего бы я не отдал сейчас, чтобы вновь увидеть вас такою, какою вы были в вашей земной жизни, когда вязали чулок, заткнув запасную спицу за ухо, в плоеном чепце, с огромными очками на кончике носа, слишком маленького для того, чтобы выносить такую тяжесть. Очки постоянно сползали вниз, это выводило вас из себя, ибо вы никогда не умели покорно сносить житейские неприятности. Душа ваша полна была возмущения.
Ах, г-жа Матиас, г-жа Матиас, чего бы я не отдал, чтобы вновь увидеть вас такой, какой вы были, или хотя бы узнать, что сталось с вами за эти тридцать лет, с тех пор как вы покинули сей мир, где познали так мало радости, где были так незаметны, мир, который вы так сильно любили! Я чувствовал, что вы любили жизнь, цеплялись за земные дела с упорством отчаяния, свойственным всем обездоленным. Если бы я получил от вас весточку, г-жа Матиас, то обрел бы бесконечное удовлетворение и покой. В один чудесный весенний день, в один из тех прелестных дней, очарованием которых вы так глубоко наслаждались, вас похоронили в жалком гробу бедняков, но вы унесли с собой множество переживаний, принадлежавших одинаково как мне, так и вам, множество трогательных впечатлений, целый мир грез, возникших в дни союза нашей старости и моего младенчества. Что сделали вы со всем этим миром, г-жа Матиас?
Там, где вы сейчас, вспоминаете ли вы еще о наших долгих прогулках? Мы отправлялись гулять ежедневно, после завтрака. Мы выходили на пустынные авеню, на скучные набережные Жавель и Бильи, на сумрачную площадь Гренель, на которой ветер уныло взметал пыль. Вложив свою маленькую ручку в морщинистую руку г-жи Матиас, что придавало мне уверенности, я окидывал взором суровую мощь окружающего. Между пожилой женщиной, маленьким мечтательным мальчиком и исполненной грусти картиной предместья царила глубокая гармония. Запыленные деревья, окрашенные в темно-красный цвет кабаки, инвалид, проходивший мимо нас в фуражке с кокардой, торговка яблочными пирожками, присевшая у парапета набережной около своих графинов с лакричной водой, заткнутых лимонной коркой, — вот мир, в котором г-жа Матиас чувствовала себя привольно. Г-жа Матиас была простолюдинкой.
И вот однажды летом, когда мы шли по набережной д'Орсэ, я попросил нянюшку спуститься по крутому откосу берега, — мне хотелось взглянуть поближе на лебедки, выгружавшие песок; г-жа Матиас тотчас же согласилась. Она всегда соглашалась на все, о чем я просил, так как любила меня, и это делало ее бессильной. Стоя у самой воды, уцепившись за край пестрой ситцевой юбки г-жи Матиас, я с любопытством глядел, как машина, словно птица-рыболов, схватывала с корабля корзины, полные песку, и, описав в воздухе полукруг, высыпала песок на берег. По мере того, как куча песку росла, нагие по пояс люди, в синих холщовых шароварах, с торсом кирпичного цвета, просеивали его сквозь грохот.
Я дернул няню за ситцевую юбку.
— Госпожа Матиас, что они делают? Зачем?
Она не ответила. Она нагнулась и подняла что-то с земли.
Мне показалось, будто это булавка. Она ежедневно находила их две-три и закалывала себе в корсаж. Но на этот раз она нашла не булавку. Это был перочинный ножичек, медная ручка которого изображала Вандомскую колонну[435].
— Покажи, покажи мне ножичек, госпожа Матиас. Дай его мне, почему ты не даешь? Почему?
Она стояла неподвижно, молча и с таким пристальным вниманием, с таким смятением разглядывала найденный ножичек, что мне стало как-то не по себе.
— Что с тобой, госпожа Матиас? Что с тобой?
Она прошептала тихим, слабым голосом, каким никогда прежде не говорила:
— У него был точь-в-точь такой же.
— У кого, госпожа Матиас? У кого был такой ножик?
Я дергал ее за юбку. Она посмотрела на меня жгучими черными глазами с красной каемкой воспаленных век, будто изумляясь тому, что я возле нее, и ответила:
— Да у Матиаса, у Матиаса!
— Кто это — Матиас?
Она провела рукой по сморщенным, полузакрытым векам, заботливо положила ножик в карман под носовой платок и ответила:
— Матиас — мой муж.
— Так, значит, ты вышла замуж за Матиаса?
— Да, на свою беду, я вышла за него замуж! Я богатая была, держала мельницу в Оно возле Шартра. Он спустил и муку, и осла, и мельницу — все! Разорил вконец, а когда я осталась без гроша, бросил меня. Он был отставной императорский гренадер, раненный при Ватерлоо. В армии-то он и испортился.
Все это очень поразило меня, и, подумав, я сказал:
— Так, значит, твой муж был не такой, как мой папа?
Госпожа Матиас перестала плакать и гордо ответила:
— Таких мужчин, как Матиас, больше нет. Вот уж, можно сказать, всем взял: рослый, красивый, сильный, ловкий да такой веселый. Одевался чисто, розу в петличке носил, а что за выправка! Сразу видать — военная косточка. Чего уж там говорить — красавец мужчина!
IV. Уличный писец
В скромном хозяйстве, которым так мудро управляла матушка, г-жа Матиас была ни горничной, ни няней, хотя она убирала в комнатах и ежедневно гуляла со мной. Ее преклонный возраст, ее надменное лицо, ее мрачный, нелюдимый характер придавали ей известную независимость; будучи прислугой, исполняя самые обыденные дела, она держалась с достоинством, как человек, который много страдал. Воспоминание о пережитых страданиях было ей дорого, и она бережно хранила его в сердце. От привычки к молчанию ее губы были всегда крепко сжаты, она не любила рассказывать о своей жизни.
Мое детское воображение видело в г-же Матиас нечто подобное дому, испепеленному пожаром. Я знал о ней только то, что родилась она в Босской долине, «в год смерти короля»[436], была дочерью богатого фермера, рано осиротела и в 1815 году, двадцати двух лет, вышла замуж за капитана Матиаса, очень красивого мужчину, который при Бурбонах был уволен в отставку с половинным окладом и резал правду-матку придворным лисам, которых вежливо величал спутниками Улисса[437]. Мои родители знали о г-же Матиас несколько больше. Для них не являлось тайной, что, прокутив деньги фермерши в ресторации Канкальская Скала, он покинул свою несчастную жену в нищете и начал волочиться за девками. В первые годы Июльской монархии, благодаря какой-то счастливой случайности, г-жа Матиас вновь встретила его в ту минуту, когда он выходил из кабака на улице Рамбюто отменно выбритый, румяный, седой, с розой в петличке, — в этом питейном заведении он ежедневно давал советы разорившимся торговцам, которых преследовали судебные приставы.
За бутылкой белого вина он составлял всевозможные документы, памятуя прошлое, так как до своего вступления в армию был мальчишкой-рассыльным в конторе нотариуса. Г-жа Матиас снова обрела его и, ликуя, увезла к себе. Но он прожил у нее недолго и однажды исчез, захватив с собой, как говорят, несколько экю, запрятанных в ее соломенном тюфяке. С той поры о нем не было ни слуху ни духу. Полагали, что он умер где-нибудь на больничной койке, и очень хвалили его за это.
— Он развязал вам руки, — говорил г-же Матиас мой отец.
Тогда на глаза ее набегали горячие, словно обжигающие, слезы, губы начинали дрожать, и она не отвечала ни слова.
Итак, однажды весной, закутавшись в свою поношенную черную шаль, г-жа Матиас в обычный час отправилась со мной на прогулку. Но на этот раз она повела меня не в наш излюбленный царственный сад Тюильри, где я столько раз, отбросив мяч и шарики, приникал ухом к подножию статуи Тибра, прислушиваясь к звучавшим в ней таинственным голосам. Она не повела меня по тем безлюдным, тихим бульварам, где над запыленными вершинами деревьев блестит золоченый купол, под которым в своей пурпуровой гробнице покоится Наполеон[438]. Г-жа Матиас не повела меня по однообразным проспектам, где, усевшись на скамью, она тешилась болтовней с каким-нибудь инвалидом, а я устраивал в сырой земле садик.
В этот весенний день она избрала необычный путь: пошла по улицам, которые забиты были прохожими, экипажами, по шумным улицам, вдоль которых тянулись лавочки, полные разнообразных предметов, формой которых я любовался, хотя не уяснял себе их назначения. Особенно сильное впечатление на меня произвели своим размером и блеском стеклянные шары в витринах аптек. Некоторые лавки были уставлены огромными размалеванными и вызолоченными статуями. Я спросил:
— Госпожа Матиас, что это такое?
И г-жа Матиас уверенно, как и подобает женщине, выросшей в предместьях Парижа, ответила:
— Да так, пустяки, это — боги.
Таким образом, в самом юном возрасте, когда матушка кротко внушала мне почитать священные изображения, г-жа Матиас учила меня презирать суеверие. В конце узкой улички, по которой мы шли, передо мной внезапно возникла обширная площадь, окаймленная подстриженными деревьями. Я узнал ее и вспомнил нянюшку Нанетту, увидав тот странный павильон, в котором сидят каменные священники, погрузив ноги в широкую плоскую чашу фонтана. В какие-то смутные далекие времена я вместе с Нанеттой посещал эти места. Когда я увидел их вновь, меня охватила тоска по утраченной няне Нанетте. Мне захотелось бежать, плакать, кричать: «Нанетта!» Но то ли из малодушия, то ли по бессознательной душевной чуткости, то ли по незрелости ума я никогда не говорил с г-жой Матиас о Нанетте.
Мы пересекли площадь и углубились в неровно вымощенные переулки, сумрачные от густой тени, отбрасываемой высоким собором. На порталах собора, украшенных пирамидами и обомшелыми каменными шарами, там и сям стояли статуи, простирая руки благословляющим жестом; из-под наших ног взлетали парами голуби.
Обогнув собор, мы направились по улице, вдоль которой тянулись дома с подъездами, разукрашенными резьбой по камню, и старые ограды, с которых свисали цветущие грозди белой акации. Налево, во внутреннем углу, образуемом стенами, находилась маленькая застекленная будка с вывеской: «Уличный писец». На всех стеклах налеплена была писчая бумага и конверты. Над цинковой крышей вздымалась печная труба, увенчанная широким колпаком. Г-жа Матиас повернула дверную ручку и, подтолкнув меня, вошла в будку. Сидевший за столом старик при нашем появлении поднял голову. Его щеки были обрамлены бакенбардами в форме подковы, седые волосы вихрились над лбом, словно взметенные бурным порывом ветра. Черный сюртук побелел по швам и лоснился. В петлице торчал букетик фиалок.
— Вот как! Да ведь это моя старуха! — сказал он, не вставая.
И, взглянув на меня не очень приветливо, спросил:
— А это кто? Твой барчук, что ли?
— Он славный мальчик, хотя иногда изводит меня, — ответила г-жа Матиас.
— Гм, — промычал уличный писец, — что это он у тебя такой бледный? Заморыш! Из него никогда не выйдет хорошего вояки.
Госпожа Матиас, не отрываясь, смотрела на старого уличного писца, в глазах ее светилась нежность, и мягким голосом, которого я никогда не слыхал у нее, она спросила:
— Ну как тебе живется, Ипполит?
— Ничего, на здоровье пожаловаться не могу, желудок варит хорошо. Вот только дела идут скверно. Три-четыре письма по пяти су за штуку, да и то лишь по утрам, — ответил он.
Затем, словно стряхивая с себя заботы, он повел плечами и, вытащив из-под стола бутылку, налил нам по стакану белого вина.
— За твое здоровье, старуха!
— За твое здоровье, Ипполит!
Вино было терпкое; пригубив, я поморщился.
— Неженка! — заметил старик. — В его годы я знал толк и в вине и в девчонках. Но другого такого молодца, как я, больше не отлить, — должно быть, форма разбилась.
И, тяжело опустив мне руку на плечо, он сказал:
— Знаешь ли, мой друг, что я служил при Маленьком капрале[439] и проделал с ним всю французскую кампанию? Я участвовал в боях при Кране и при Фер-Шампенуазе. Однажды, в утро сражения под Атисом[440], Наполеон попросил у меня понюшку табаку. Так вот и вижу его, нашего императора! Роста небольшого, плотный, смуглый, в глазах огонь, а сам всегда спокоен. Ах, если бы они не предали его!.. Но все белые[441] — негодяи!
Он налил себе еще вина. Г-жа Матиас словно очнулась от своего безмолвного созерцания.
— Ну, мне пора домой из-за малыша.
Вытащив из кармана две монеты по франку каждая, она сунула их в руку уличному писцу; тот принял дар с величественным безразличием.
Когда мы вышли, я спросил, кто же этот господин.
— Матиас, деточка, это Матиас! — с оттенком гордости и любви ответила она.
— Но ведь мама и папа говорят, что он умер.
Она радостно покачала головой.
— О нет! Он переживет и меня, и еще многих переживет, молодых и старых.
И, приняв вдруг озабоченный вид, она сказала:
— Пьер, ты только не проговорись маме, что видел Матиаса.
V. Матушкины сказки[442]
— У меня нет никакого воображения, — говорила матушка.
Она утверждала это, полагая, что обладать воображением — значит писать романы; она не подозревала, что одарена редкой и пленительной фантазией, которая не выражается в краснобайстве. Матушка была хорошей хозяйкой, поглощенной домашними заботами. Ее воображение оживляло и расцвечивало все ее скромное хозяйство. У нее был дар одушевлять и заставлять говорить сковороду и котелок, нож и вилку, пыльную тряпку и утюг; в душе она была прирожденным баснописцем. Чтобы позабавить меня, матушка рассказывала мне сказки, а так как она не чувствовала себя способной придумать что-либо самостоятельно, то сочиняла их по моим картинкам.
Вот некоторые из ее сказок. Я сохранил, насколько возможно, ее манеру повествования, ибо нахожу эту манеру превосходной.
ШКОЛА
Я заявляю, что школа мадемуазель Жансень — лучшая в мире школа для девочек. Я объявляю еретиками и клеветниками всех, кто думает и утверждает противное. Все ученицы мадемуазель Жансень благоразумны, прилежны, и нет приятнее зрелища, чем эти маленькие неподвижные фигурки. Словно это ряд каких-то крошечных бутылочек, которые мадемуазель Жансень наполняет знаниями.
Мадемуазель Жансень сидит выпрямившись на высоком стуле. Лицо у нее серьезное и кроткое; волосы гладко зачесаны на уши, на плечах черная пелерина. Весь ее вид внушает почтение и симпатию.
Мадемуазель Жансень, женщина очень ученая, преподает своим маленьким ученицам арифметику — правила вычитания. Она спрашивает Розу Бенуа:
— Роза Бенуа, если из двенадцати вычесть четыре, сколько останется?
— Четыре, — отвечает Роза Бенуа.
Мадемуазель Жансень не удовлетворена таким ответом.
— Скажите вы, Эммелина Капель, если из двенадцати вычесть четыре, то сколько останется?
— Восемь, — отвечает Эммелина Капель.
Роза Бенуа погружается в глубокую задумчивость. Она слышит, что у мадемуазель Жансень останется восемь, но не знает восемь — чего. То ли восемь шляп, то ли восемь платков, а может быть, восемь яблок или восемь перьев. Этот вопрос уже давно ее мучает. Когда ей говорят, что шестью шесть — тридцать шесть, то она не понимает тридцать шесть — чего? Тридцать шесть стульев или тридцать шесть орехов? Она ничего не понимает в арифметике.
Зато Роза Бенуа прекрасно знает священную историю. Ни одна ученица мадемуазель Жансень не умеет лучше, чем она, описать земной рай или Ноев ковчег. Розе Бенуа известны все райские цветы, все животные Ноева ковчега. А басен она знает не меньше, чем сама мадемуазель Жансень. Она знает все разговоры Вороны и Лисицы, Осла и маленькой Собачки, Петуха и Курицы. Ее нисколько не удивляет, когда ей говорят, что животные некогда обладали даром речи. Она больше удивилась бы, если б ей сказали, что теперь животные не умеют говорить. По глубокому убеждению Розы, она понимает, что говорит ее большая собака Том и маленький чижик Кюип. Она права: животные всегда умели говорить, говорят они и теперь, но только с друзьями. Роза Бенуа любит животных, и они любят ее. Потому она и понимает их. Чтобы понимать друг друга, надо друг друга любить — вот и все.
Сегодня Роза Бенуа ответила свой урок без запинки. Она получила хорошую отметку. Эммелина Капель тоже получила хорошую отметку за прекрасное знание арифметики.
Выйдя из школы, она говорит маме, что получила хорошую отметку.
— А что дает хорошая отметка, мама? — спрашивает Эммелина.
— Хорошая отметка ничего не дает, — отвечает мать, — и потому ею следует гордиться. Когда-нибудь ты поймешь, дитя мое, что самая достойная награда — это та, что приносит бескорыстную честь.
МАРИ
Маленьким девочкам хочется срывать цветы и звезды — это естественно. Но звезды не позволяют, чтоб их срывали, и вот маленькие девочки начинают понимать, что в мире есть неосуществимые желания. Мари с няней отправилась на прогулку в парк. Там она увидела клумбу гортензий, узнала, что гортензии — прекрасные цветы, и сорвала один. Сорвать цветок было трудно. Мари тащила его обеими ручками, чуть не упала навзничь, когда сорвала. Она очень горда своим успехом и очень довольна, — ведь цветок так красив! Бледно-розовый шар с голубоватыми жилками: цветок состоит из множества маленьких цветков. Но няня наблюдает за Мари, — она подбегает к своей питомице, сердито хватает ее за руку и кричит на нее. Она просто ужасна! Мари изумленно глядит на няню наивными глазками и, смутившись, задумывается. Вы и представить себе не можете, как трудно вопрошать свою совесть, когда тебе семь лет. Согрешив, она осталась непорочной, и все же ее ждет кара. В наказание няня усаживает ее не в темную комнату, а под высокое каштановое дерево, в тени большого китайского зонтика. Задумчивая, изумленная, пораженная, сидит Мари и размышляет. Под прозрачным зонтиком, с сорванным цветком в руках, она похожа на своеобразного маленького идола.
Няня говорит: «Теперь, барышня, отдайте мне цветок». Но Мари крепко зажала в ручке цветущий стебель, покраснела, наморщила лоб, вот-вот заплачет! Няня не хочет, чтобы она плакала, и потому не отняла у нее гортензию. Она только говорит: «Не смейте брать цветок в рот, если вы ослушаетесь, то ваша собачка Тото откусит вам уши».
Сказав это, няня уходит. Маленькая грешница, сидя неподвижно под ярким полосатым зонтиком, оглядывается и видит небо и землю. Небо огромное, и земля огромная; на некоторое время это может развлечь маленькую девочку. Но больше всего ее занимает цветок гортензии. Это красивый цветок, и цветок запретный. Именно по этим двум причинам он и нравится ей больше всего. Мари думает: «Должно быть, он хорошо пахнет», и подносит цветущий шар к носику. Она хочет понюхать его. Напрасно! Малютка Мари еще не умеет нюхать. Недавно она дула на розы вместо того, чтобы вдыхать их аромат. Не следует смеяться над ней: всему научиться сразу нельзя. Сперва учатся пить молоко, затем уже нюхать цветы: это менее полезно. Кроме того, будь у Мари даже такое тонкое обоняние, как у ее мамы, все равно она ничего не почувствовала бы. Цветок гортензии не душистый и потому, несмотря на красоту, быстро надоедает. Но мадемуазель Мари изобретательна. Она начинает размышлять: «А вдруг этот цветок сахарный?» И, собираясь проглотить цветок, она широко открывает ротик. Вдруг раздается: «Гам!»
Это лает собачка Тото. Перескочив бордюр из цветущей герани, она останавливается перед Мари и, навострив уши, глядит на нее своими живыми круглыми глазами. Это няня, притаившаяся за деревом, послала Тото. Мадемуазель Мари поражена.
ПО ПОЛЯМ
После завтрака Катрина с маленьким братцем Жаном отправилась в поле. Когда они выходили из дому, день казался свежим и юным, как они. Небо было не голубым, а сероватым, нежного оттенка, который красивее любой голубизны, — вот такого же цвета у Катрины глаза: они словно кусочки утреннего неба.
Катрина и Жан отправляются в поле одни. Их мама — фермерша и сейчас работает во дворе фермы. У них нет няни, некому гулять с ними, но они и не нуждаются в няне. Они знают дорогу; им знакомы леса, поля, холмы. Катрина умеет определять время по солнцу, она разгадала множество прекрасных тайн природы, о которых городские дети и не подозревают. Даже малютка Жан и тот знает многое, что сродни лесам, прудам, горам, ибо у этого малыша душа крестьянина.
Катрина и Жан бредут цветущими лугами. Катрина на ходу составляет букет. Она любит цветы. Она любит цветы за то, что они прекрасны, и она права! Красивые вещи радуют, они украшают жизнь. Прекрасное столь же хорошо, как и доброе; собрать красивый букет — добрый поступок.
Катрина срывает васильки, маки, кукушкины слезки, лютики, которые называют также куриной слепотой. Она срывает и те прелестные лиловые цветы, которыми пестрят межи хлебных полей, — их называют «зеркалами Венеры». Она срывает темные колосья тимофеевки и желтые петушьи гребешки, розовые грабельцы и лилии долин, белые колокольчики, которые при малейшем ветерке восхитительно благоухают. Катрина любит цветы за то, что они прекрасны; она любит их еще и потому, что они украшают. Катрина — простая маленькая девочка, прелестные волосы ее забраны под коричневый чепчик, бумажный фартучек прикрывает гладкое платьице, на ногах — сабо. Пышные одежды она видела только на богоматери и на св… Екатерине в приходской церкви. Но есть вещи, о которых маленькие девочки знают с самого рождения. Катрина знает, что цветы — пристойное украшение и что прелестные дамы, которые прикалывают цветы к своему корсажу, становятся еще краше. Катрина думает и о том, что сейчас она кажется очень нарядной, ведь в руках у нее большой-большой букет, больше, чем ее головка. Катрина довольна, что она такая нарядная, и мысли у нее такие же светлые и благоуханные, как ее цветы. Эти мысли словами не выразишь. Нет таких прекрасных слов, которые могут выразить мысли счастливой маленькой девочки. Передать их могут только песенки, самые веселые, самые нежные песенки, самые наивные песенки, такие, как «Жирофле-Жирофля» или «Товарищи Маржолены». Катрина собирает букет и поет: «Пойду я в лес одна-одинешенька», потом другую: «Отдам ему свое сердце».
У маленького Жана иной характер. Он мыслит по-иному. Это настоящий весельчак, Штанишек он пока еще не носит, но он умен не по годам и какой молодчина! Одной рукой он держится за передник сестры, боясь упасть, а другой, словно здоровенный парень, размахивает кнутом. Вряд ли даже самый лучший работник на ферме его отца так лихо щелкает кнутом, когда ведет лошадей с водопоя и встречает на пути свою невесту. Маленький Жан не убаюкивает себя сладостными мечтами. Его не интересуют полевые цветы. Он мечтает о тяжелых работах, о подводах, завязших в грязи, о першеронах, которые тянут телегу, поощряемые его криками и ударами кнута. Жан полон силы и гордости. Он семенит по лугам, спотыкаясь о камни, уцепившись за фартук старшей сестры.
Катрина и Жан прошли полями вдоль холма и поднялись на косогор, откуда видны все дворы деревушки, разбросанные среди зелени, а вдали, на горизонте высокие колокольни шести приходских церквей. Вот откуда земля кажется огромной. И тут Катрина лучше понимает все истории, которым ее учили: о голубке, вылетевшей у Ноева ковчега, о евреях Земли обетованной, о Христе, странствовавшем из города в город.
— Сядем, — предлагает она.
Она садится. Подняв руки, осыпает она себя своей цветущей жатвой. Она благоухает, словно цветы, а вокруг нее уже порхают бабочки. Она выбирает, она связывает цветы. Она сочетает оттенки, чтобы они радовали глаз. Чем ярче окраска, тем сильнее это радует ее. Ее глазки не утомлены, и ярко-красный цвет не раздражает их. В угоду пресыщенному глазу горожанина осмотрительный художник вынужден смягчать тона. У Катрины хорошие глазки, им любо смотреть на маки. Маки — любимые цветы Катрины. Но их недолговечный пурпур уже увял, и легкий ветерок срывает лепестки с блистающего венчика в руках ребенка. Катрина глядит, очарованная, на эти цветущие стебли и видит множество разнообразных крошечных насекомых, ползущих по листьям и цветам. Сорванные растения служили убежищем этим маленьким мушкам и жучкам, и теперь они тревожатся и волнуются, видя, что их домик гибнет. Катрину не заботит судьба букашек. Они кажутся ей чересчур крохотными созданиями, и ей их не жаль. Однако можно быть очень маленьким и все же очень несчастным. Но это рассуждение философское, а, на беду букашек, философия не умещается в голове Катрины. Она плетет гирлянды, венки, подвешивает к ушам лиловые колокольчики, — теперь она разукрашена, словно сельская статуя богоматери, которую чтят пастухи. Ее маленький брат Жан в это время поглощен тем, что погоняет воображаемых лошадей, но вдруг он замечает, как сестра убрала себя. Он приходит в восторг. Его маленькую душу охватывает благоговение. Он останавливается, роняет бич. Он понимает, что Катрина прекрасна. Ему тоже хочется быть прекрасным и украшенным цветами. Он тщетно пытается выразить это желание смутным и трогательным лепетом. Но она поняла его. Маленькая Катрина — старшая сестра, а старшая сестра — это маленькая мать; она все угадывает, все понимает.
— Сейчас, душенька! — восклицает Катрина. — Сейчас я сплету тебе красивый венок, и ты будешь похож на маленького короля.
Она переплетает цветы голубые, цветы желтые, цветы красные и хочет увенчать брата. Она возлагает венок на головку маленького Жана, и тот весь вспыхивает от радости. Катрина целует его, берет на руки и, убранного цветами, ставит на большой камень. Она любуется им, потому что он прелестен, и любит его, потому что красотой своей он обязан ей.
Стоя на грубом постаменте, маленький Жан понимает, что он хорош. Это внушает ему глубокое почтение к себе. Он понимает, что он священная особа. Он стоит, выпрямившись, стараясь не двигаться, широко раскрыв глазки, сжав губы, свесив руки и расставив пальчики, как колесные спицы; он вкушает благоговейную радость оттого, что превратился в божка. Над его головой небо, у ног его — леса и луга. Он — средоточие вселенной! Лишь он велик, лишь он прекрасен!
Вдруг Катрина рассмеялась:
— Ах, какой ты забавный, мой маленький Жан, какой ты забавный!
Она бросается к Жану, обнимает его, тормошит. Тяжелый венок сползает ему на нос. А Катрина повторяет:
— Ax, какой ты забавный, какой забавный!
И она от всей души хохочет.
Но маленький Жан не смеется. Он печален и удивлен, что всему пришел конец, что он больше не прекрасен. Так неприятно вновь стать обыкновенным мальчиком.
Венок расплелся и валяется на земле, а маленький Жан стал таким же, как все. Он больше не прекрасен. Но все же он крепенький, коренастый мальчуган. Он опять хватает кнутик и пытается вытащить из грязи завязшую шестерку воображаемых коней. Маленькие дети легко воображают то, что им хотелось бы иметь и чего они не имеют. Если эту чудесную способность они сохраняют и в зрелом возрасте, то про них говорят, что они или поэты, или безумцы. Маленький Жан кричит, щелкает кнутом, надрывается.
А Катрина все играет сорванными цветами. Но некоторые уже увяли, другие уснули, — ведь цветы, как и животные, засыпают. Вот колокольчики, сорванные несколько часов тому назад. Они закрывают лиловые чашечки и засыпают в маленьких ручках, которые разлучили их с жизнью. Катрина взволновалась бы, узнай она это. Но Катрина не знает, что растения засыпают, и не знает, что они живут. Она ничего не знает. Мы тоже ничего не знаем, а если и узнаём, что растения живут, то знаем немногим больше Катрины, ибо нам неведомо, что значит жить. Быть может, нам не следует слишком сетовать на свое неведение. Если бы нам было все известно, то мы ничего не осмелились бы делать; и мир перестал бы существовать.
В воздухе проносится легкий ветерок. Катрина вздрагивает. Наступает вечер.
— Я есть хочу, — говорит маленький Жан.
Вполне справедливо, что возница ест, когда голоден. Но у Катрины нет ни кусочка хлеба для маленького брата.
Она говорит:
— Пойдем домой, братец.
Оба мечтают о капустном супе, как он славно бурлит в котелке, подвешенном над огнем в большом очаге. Катрина собирает в охапку все цветы, берет братишку за руку, и они идут домой.
Солнце медленно заходит на пламенеющем горизонте. Ласточки, пролетая, задевают детей распростертыми крылами. Наступил вечер. Катрина и Жан крепко прижимаются друг к другу.
Один за другим роняет Катрина на дорогу цветы. Среди величавого безмолвия дети слышат неустанное стрекотание кузнечиков. Оба боятся, оба печальны, вечернее уныние проникает в их маленькие души. Все окружающее такое привычное, родное, но они не узнают даже того, что им более всего знакомо.
Земля как будто стала слишком велика и слишком стара для них. Они устали и боятся, что никогда не доберутся до дома, где их мать варит суп для всей семьи. Маленький Жан не щелкает больше бичом. Из усталой руки Катрины упал последний цветок. Она тащит братишку за руку, и оба молчат.
Наконец вдали показалась кровля их дома, над ней вьется дымок, уходя в потемневшее небо. Они остановились, радостно закричали, захлопали в ладоши. Катрина поцеловала Жана, и оба пустились бежать так быстро, как только несли их уставшие ножки. Когда они вошли в деревню, женщины, возвращавшиеся с полей, кричали: «Добрый вечер!» Дети облегченно вздохнули. На пороге дома стояла мать в белом чепце, держа в руках половник.
— Скорее, ребятки, скорее! — звала она.
Они бросились в ее объятия.
Войдя в комнату, где дымился капустный суп, Катрина вновь вздрогнула. Она вспомнила, как ночь спускалась на землю. Жан, сидя на скамейке и едва доставая подбородком до стола, уже ел суп.
ОШИБКИ ВЗРОСЛЫХ
Проезжие дороги похожи на реки. Ведь реки — те же проезжие дороги. Но это дороги природные, и путешествуют по ним в семиверстных сапогах. Каким же иным словом точнее определить, что такое барки? Проезжие дороги — те же реки, но проложенные человеком для человека.
Проезжие дороги, великолепные проезжие дороги, гладкие, как поверхность рек, дороги, на которых колеса повозок и подошва пешехода находят прочную и мягкую опору, дороги — совершенное достижение наших далеких предков, которые не увековечили своих имен и известны лишь своими благодеяниями. Да будут благословенны эти дороги, по которым в изобилии притекают к нам плоды земные и которые приближают к нам наших друзей!
Роже, Марсель, Бернар, Жак и Этьен отправились навестить своего приятеля Жана. Они идут по дороге, озаренной солнцем; дорога вьется красивой желтой лентой вдоль полей и лугов, пересекает маленькие города и деревушки и тянется, говорят, до самого моря, по которому плавают корабли.
Путь пятерых товарищей не очень далек, но не так уж и близок, — им предстоит пройти целый километр, чтобы навестить своего друга Жана.
Итак, они отправились. Им разрешили идти одним, — ведь они обещали вести себя благоразумно, не сворачивать с дороги, сторониться лошадей и повозок, не покидать самого младшего из них — Этьена.
Итак, они отправились. Согласно данному обещанию все идут рядом. Лучше идти нельзя. Однако в их великолепном строю есть изъян, — Этьен слишком мал.
Он преисполнен мужества. Он старается шагать в ногу со всеми. Он машет ручками, но он слишком мал и не поспевает за своими большими друзьями. Он отстает. Это неизбежно. Философы знают, что одинаковые причины вызывают всегда одинаковые следствия. Но ни Жак, ни Бернар, ни Марсель, ни даже Роже — не философы. Они идут соразмерно силе и быстроте своих ног, а бедняжка Этьен — соразмерно скорости своих ножек, и тут никакой согласованности быть не может. Этьен бежит, задыхается, кричит, но отстает.
Вы скажете, что старшим следовало бы подождать Этьена, приноровиться к его шагам. Увы! Это было бы с их стороны слишком высокой добродетелью! В данном случае они похожи на взрослых. «Вперед!» — говорят сильные мира сего и опережают слабых. Но подождите конца этой истории.
Внезапно наши большие, наши сильные четыре молодца останавливаются. Они приметили на земле прыгающее животное. Животное прыгает — это лягушка, ей хочется попасть на луг, который тянется вдоль дороги. Этот луг — ее родина; он дорог ей, а там, у ручья — ее домик. Она прыгает.
Лягушка — настоящее чудо природы.
Зеленая лягушка — словно живой зеленый листок, и это сходство придает ей что-то волшебное. Бернар, Роже, Жак и Марсель бросаются в погоню за ней. Прощай Этьен и прекрасная желтая дорога! Прощайте все обещания! Дети уже на лужайке и вдруг чувствуют, что у них ноги вязнут в тучной земле. Густая трава скрывала топь.
С большим трудом они вылезли оттуда. У всех у них и башмаки, и носки, и ноги по колено — черного цвета. Нимфа зеленого луга натянула гетры из грязи на ноги четырех ослушников.
Запыхавшийся Этьен нагоняет их. Глядя на их ноги, он недоумевает, — радоваться ему или огорчаться. Он размышляет о несчастьях, которые постигли взрослых и сильных. А четверо пострадавших смиренно поворачивают обратно и плетутся домой, ибо мыслимо ли идти в таком виде в гости к Жану? Когда они придут домой, матери, поглядев на их ноги, узнают о непослушании шалунов, а невинность маленького Этьена будет доказана: розовые икры его ножек будут блистать чистотой…
ЖАКЛИНА И МИРО
Жаклина и Миро — давние друзья. Жаклина — маленькая девочка, Миро — большая собака.
У них общий мир, оба — сельские жители, в этом секрет их взаимной глубокой привязанности. Как давно знают они друг друга? Этого они не помнят, это выходит за пределы памяти и собаки и маленькой девочки! Да им и нет необходимости знать это, у них нет ни желания, ни потребности что-либо знать. Им известно, что они давно знают друг друга, с самого возникновения мира, оба уверены, что до них вселенная не существовала. Мир, который они воспринимают, столь же молод, прост и наивен, как они. В самом средоточии вселенной Жаклина видит Миро, а Миро — Жаклину. Жаклина составила себе замечательное представление о Миро, но выразить его словами нельзя. Слова для этого слишком грубы! Что же касается мыслей Миро, то, конечно, у него добрые и верные мысли, но — увы! — мы не знаем их. Миро не умеет говорить, не может выразить своих мыслей, он и сам в них плохо разбирается.
Несомненно он обладает разумом, но в силу тысячи причин разум этот подсознателен. Миро каждую ночь видит сны. Ему снятся такие же собаки, как он, такие же девочки, как Жаклина, и еще снятся нищие. Словом, ему снится нечто радостное и нечто печальное. Поэтому он то лает, то скулит во сне. Все это лишь сновидения и обманчивые представления, но Миро не отличает их от действительности. Сны и явь переплетаются в его мозгу и мешают ему понимать то, что понятно людям. А поскольку Миро — собака, то и мысли у него собачьи. А разве вы способны понять мысли собаки лучше, чем собака понимает мысли людей? Но все же человек и собака могут понять друг друга, ибо порой собака мыслит, как человек, а человек мыслит по-собачьи. Этого достаточно, чтобы завязать дружбу. Вот потому Жаклина и Миро — добрые друзья.
Миро гораздо крупнее и сильнее Жаклины. Когда ой кладет передние лапы ей на плечи, то он на голову и на грудь выше, чем она. Он мог бы проглотить ее в три глотка. Но Миро знает, чувствует, что, как бы мала ни была Жаклина, она в чем-то превосходит его и что она драгоценна. Он по-своему любуется ею. Она кажется ему изящной. Он восхищается тем, как Жаклина умеет играть, как она болтает. Он ее любит, из чувства симпатии он лижет ее.
Жаклина, со своей стороны, находит Миро восхитительным. Она понимает, что он силен, а ей нравится сила. Иначе она не была бы маленькой девочкой. Она понимает, что он добр, а доброта нравится ей. Доброта — чувство, которое отрадно встретить!
Миро внушает ей почтение. Она приметила, что ему известно множество тайн, которые ей неведомы, и что в нем таится смутный дух земли. Она видит в нем существо сильное, степенное и доброе. Она чтит его, как некогда, под иным небом, человечество чтило мохнатых лесных богов.
Но вот она поражена, встревожена, изумлена. Она увидела своего древнего духа земли, своего мохнатого идола, Миро, привязанным длинной веревкой к дереву около колодца. Жаклина смотрит на него, она в замешательстве. Миро глядит на нее своими прекрасными правдивыми и покорными глазами. Он не удивлен и не возмущен тем, что его посадили на цепь. Он любит своих хозяев и, не подозревая, что он дух земли и мохнатый лесной божок, покорно сидит в ошейнике на цепи. Но Жаклина не осмеливается приблизиться к нему. Она не может понять, в чем провинился ее божественный и таинственный друг, и смутная печаль охватывает ее детскую душу.
VI. Двое портных[443]
Форменный мундир отнюдь не кажется мне подходящей одеждой для школьников, так как это одежда не штатская, и, навязывая ее школьникам, без всякого основания посягают на их независимость. Мне приходилось носить мундир, и я не поминаю его добром.
Надо вам сказать, что в мое время в коллеже, где я мало что усвоил, был искусный портной, по имени Грегуар. Грегуар не имел соперников в искусстве придавать крою форменного мундира то, что этому мундиру присуще: плечи, грудь, бока.
Господин Грегуар умел придать полам мундира особенно изящные линии. Соответственно мундиру он кроил и панталоны: они лежали сборками на бедрах и слегка облегали ботинки.
И если вы были одеты Грегуаром, умели носить кепи, лихо задрав козырек, как то полагалось по тогдашней моде, то вы были щеголем.
Господин Грегуар был художником. Когда в понедельник, во время большой перемены, он появлялся во дворе, неся под мышкой зеленый холст, где завернуты были два-три изумительно скроенных мундира, то ученики, которым предназначались эти изумительные произведения искусства, прекращали играть в горелки или в чехарду и вместе с Грегуаром отправлялись в комнату нижнего этажа на примерку. Внимательно и сосредоточенно рисовал Грегуар мелом на сукне всевозможные знаки. Неделю спустя он приносил, в том же зеленом холсте, безукоризненно сшитый мундир.
К несчастью, Грегуар очень дорого брал за шитье форменного мундира. Он имел на это право: равных Грегуару не было. Роскошь всегда стоит дорого! Грегуар был портным для богатых. Я как сейчас вижу его, бледного, задумчивого, с великолепной седой шевелюрой и утомленными глазами, смотревшими из-под очков в золотой оправе. Он отличался безупречным благородством манер, и если бы не носил под мышкой узла в зеленой холстине, то его можно было бы принять за чиновника. Грегуар был сущим Дюсотуа[444] для воспитанников. Он вынужден был оказывать долгосрочный кредит, так как его клиенты были богатые люди, то есть люди, всегда оттягивающие плату по счетам. Только бедняки платят наличными, но не в силу своей добродетели, а потому что им никто не верит в долг. Грегуар знал, что дешевых или хотя бы умеренных цен от него не ждут, что он обязан перед своими клиентами и перед самим собой не спешить с предъявлением счета, но зато предъявлять его на крупную сумму.
У Грегуара было две расценки, в зависимости от качества поставляемого им приклада. Например, он различал в подаваемых счетах два рода вышивок: пальмовые ветви, вышитые золотыми тонкими нитями на самом воротнике, и пальмовые ветви, вышитые заранее, менее тщательно, на маленьком овальном кусочке сукна, который потом пришивали к воротнику. Таким образом, существовали две расценки: одна подешевле, другая — подороже. Но даже первая была разорительна. Ученики, одевавшиеся у Грегуара, составляли своего рода аристократию, и она делилась на две категории: те, у которых были вышитые воротники, и те, у которых воротники были с нашивкой. Денежные средства моих родителей не позволяли мне надеяться стать когда-либо клиентом Грегуара.
Моя матушка была очень бережлива, но она была также и очень милосердна. В ее милосердных поступках всегда сказывалась ее добрая душа; такой доброты я не встречал в мире, но она причиняла мне большие неприятности. Узнав каким-то образом, что на улице Канетт живет портной-швейцар Рабиу (низенький, рыжеволосый и косолапый человечек, у которого была голова апостола, а тело гнома), что он страшно нуждается и заслуживает лучшей участи, матушка тотчас же решила помочь ему. Прежде всего она ему подарила кое-что. Но Рабиу был обременен семьей, кроме того отличался гордостью, а я уже говорил вам, что матушка моя была небогата. Ее помощь не могла выручить его из беды. Наконец матушке пришла мысль подыскать ему работу, и начала она с того, что стала заказывать ему для моего отца такое количество брюк, жилетов, сюртуков и пальто, какое только допускалось благоразумием.
Однако мой отец от этой затеи ничего не выиграл. Одежда, сшитая портным-швейцаром, сидела на нем нескладно, но так как отец был очень невзыскателен, то не замечал этого. Впрочем, матушка сама увидела это, но вполне справедливо решила, что отец настолько представительный мужчина, что сам придает своей одежде элегантный вид; даже и тогда, когда эта одежда не красит его, можно считать, что он одет прилично, если на нем достаточно теплая одежда, прочно сшитая богобоязненным человеком и к тому же отцом двенадцати детей.
Несчастье заключалось в том, что, сшив моему отцу больше платья, чем то было ему необходимо, Рабиу нисколько не улучшил своего материального положения. Его жена страдала чахоткой, а дети были до крайности малокровны и худосочны. Швейцарская на улице Канетт отнюдь не была помещением, которое способствовало бы крепкому здоровью детей, каким награждает маленьких англичан гребля и иные виды спорта. У несчастного портного-швейцара не было денег на лекарства, и тогда матушка придумала заказать ему мундир для меня. С таким же успехом она могла бы заказать ему платье для самой себя.
При мысли о мундире Рабиу заколебался. Холодный пот увлажнил его апостольское чело. Но он был человеком мужественным и до суеверия набожным. И вот он приступил к делу. Он молился, он выбивался из сил, не спал, был взволнован, серьезен, сосредоточен. Подумайте только, мундир! Форменная одежда! А я к тому же был долговязый, худой, нескладный мальчик, и любая одежда висела на мне, как на вешалке. В конце концов бедняга состряпал мне мундир, но какой мундир! Плечи отсутствовали, на груди он западал, на животе пузырился. С покроем еще можно было кое-как примириться, но мундир был ярко-голубого цвета, от которого рябило в глазах, а на воротнике вышиты были не пальмовые листья, а лиры. Лиры! Рабиу не предвидел, что со временем я буду знаменитым поэтом, и не знал, что в уголке своей парты я прячу тетрадь стихов, озаглавленных «Первые цветы»! Это заглавие я придумал сам и был им доволен. Ничего этого портной-швейцар не подозревал, но, повинуясь вдохновению, вышил на воротнике моего мундира две лиры. К довершению несчастья, воротник сзади сильно оттопыривался и, казалось, бесцеремонно зевал.
У меня была длинная, как у аиста, шея; вылезая из широкого воротника, она казалась особенно худой и жалкой. Уже во время примерки я смутно предвидел это и поделился своими опасениями с портным. Но этот превосходный человек, справившись кое-как при помощи собственных рук и при поддержке небесных сил с шитьем мундира, не пожелал в нем ничего переделывать, боясь все испортить. Он, конечно, был прав. Я с некоторой тревогой спросил матушку, как она меня находит. Но ведь я говорил вам, что она была святая женщина, — она ответила мне, как г-жа Примроз[445]:
— Ребенок всегда хорош, если добр.
И посоветовала мне смиренно носить мой мундир. Это была новая одежда, и потому в первый раз я облачился в нее, как и полагалось, в воскресенье. О, какой прием мне был оказан в тот день, когда я явился в нем в час рекреации. «Сахарная голова! Сахарная голова!» — кричали хором товарищи.
Мне пришлось туго. В один миг они приметили общее неизящное очертание моей фигуры, слишком яркое голубое сукно, лиры и оттопыренный сзади воротник. Все принялись запихивать мне камешки за шиворот. Они сыпали одну пригоршню за другой и не могли заполнить бездны.
Нет! Никогда портной-швейцар с улицы Канетт не мог предвидеть, какое количество камешков вместит сделанная им на спине мундира складка.
Напичканный до отказу этими камешками, я принялся раздавать тумаки, мне давали сдачи, но я не унимался, и в конце концов меня оставили в покое. На следующее воскресенье битва возобновилась. И все время, пока я носил этот пагубный мундир, меня всячески дразнили, и я постоянно ходил с песком и камешками за воротником.
Это было отвратительно! К довершению злоключений, наш классный надзиратель, молодой аббат Симлер, вместо того чтобы оказать мне поддержку, безжалостно предоставил меня моей горькой судьбе. А ведь прежде он, заметив мой кроткий нрав и преждевременную серьезность, включил меня в число тех примерных учеников, которых удостаивал беседы; очарование и моральную ценность этих душеспасительных бесед я отлично понимал. Я был в числе тех избранников, перед коими аббат Симлер во время длительных воскресных часов отдыха превозносил величие звания священнослужителя и рассказывал, какие затруднительные случаи могут выпасть на долю священника во время совершения таинств.
Аббат Симлер говорил на эти темы так торжественно, что приводил меня в восторг. Однажды, в воскресенье, не спеша прогуливаясь по двору, он начал рассказывать о священнике, который после преосуществления даров нашел в чаше паука.
— Как ни велико было его отчаяние и ужас, — сказал аббат Симлер, — при этом страшном обстоятельстве он оказался на высоте: осторожно схватив наука двумя пальцами, он…
Но тут колокол прозвонил к вечерне, аббат Симлер, обязанный следить за порядком, умолк и построил нас в ряды. Мне было очень интересно узнать, что же сделал священник с пауком, но мой мундир навсегда лишил меня возможности узнать об этом.
В следующее воскресенье, увидав меня в таком нелепом наряде, аббат Симлер сдержанно усмехнулся и не подозвал меня к себе. Он был превосходным человеком, но всего лишь человеком. Он отнюдь не хотел оказаться, подобно мне, мишенью для насмешек и умалять достоинство своей сутаны соседством с моим мундиром. Ему казалось непристойным находиться в моем обществе в то время, когда мне засовывали камешки за воротник, что составляло, как я уже говорил, непрестанную заботу моих товарищей. Он был по-своему прав. Он опасался соседства со мной еще и потому, что в меня непрерывно бросали мячи, — и это опасение также было разумно. А может быть, мой мундир возмущал его эстетическое чувство, развитое религиозными обрядами и пышностью церковных служб, но, как бы то ни было, он отстранил меня от воскресных собеседований, которыми я так дорожил.
Он достиг этого очень ловко, путем всевозможных искусных обходов, не сказав мне ни одного обидного слова, так как отличался отменной вежливостью.
Когда я приближался к нему, аббат старался отвернуться и говорил так тихо, что я ничего не мог расслышать; если я застенчиво просил его разъяснений, он притворялся, будто не слышит, а может быть, и действительно не слыхал. Я скоро понял, что становлюсь назойливым, и больше не пытался смешиваться с толпой любимцев аббата Симлера.
Эта немилость причинила мне некоторое огорчение. Насмешки товарищей мне в конце концов надоели. Я научился сторицей отплачивать за удары, которые получал. Наука полезная! Впрочем, к стыду моему, должен признаться, что я не воспользовался ею в дальнейшей жизни. Но несколько товарищей, получивших от меня основательную взбучку, почувствовали ко мне большую симпатию. Таким образом, благодаря неискусному портному я так и не узнал продолжения истории о священнике и пауке.
Я служил мишенью бесчисленных издевательств и вместе с тем приобрел друзей, откуда следует, что в делах человеческих зло всегда переплетается с добром. Но в данном случае зло перевешивало добро, мундиру же моему не было сносу. Напрасно пытался я испортить его. Матушка была права. Рабиу оказался человеком честным, богобоязненным и поставил добротное сукно.
VII. Господин Деба[446]
I
Может быть, в интересах прогресса было необходимо, чтобы на месте оплакиваемых мною развалин Счетной палаты воздвигли вокзал, чтобы выкорчевали на наших прекрасных набережных деревья, а вдоль мирного берега провели метро и трамвай.
Я ожидаю, что вскоре на этих овеянных славой берегах, на этих величавых набережных я увижу дома, воздвигнутые и разукрашенные в том отвратительном американском вкусе, который ныне получил признание у французов после того, как они в течение многих веков проявляли в зодчестве и здравый смысл и изящество. Меня уверяют, что от этого зависит процветание города, что уже пора лавкам книгопродавцев и ларькам букинистов уступить место барам и кафе.
Я не ропщу, зная, что изменение — необходимое условие жизни и что города, подобно людям, существуют, непрерывно видоизменяясь. Примиримся с неизбежным, но расскажем по крайней мере, как прекрасен был прежний пейзаж, древние четкие линии которого мы уже никогда больше не увидим. Если когда-нибудь я ощущал ликующую радость от сознания, что появился на свет в городе возвышенных идей, так именно в те часы, когда бродил по набережным, где от Бурбонского дворца до Собора Парижской богоматери сами камни рассказывают одну из великолепнейших историй человечества: историю древней Франции и Франции современной. Вы видите Лувр, чеканный, словно драгоценность; Новый мост, который более трехсот лет выносил на своей могучей и когда-то очень горбатой спине парижан, то глазевших при возвращении с работы на фокусников и фигляров, то кричавших при проезде раззолоченных карет: «Да здравствует король!», то тащивших на себе в революционные дни пушки, то провозглашавших свободу и уходивших добровольцами, разутыми, раздетыми, служить под трехцветным знаменем, когда отчизна была в опасности. Вся душа Франции пронеслась над этими почтенными арками мостов, где резные каменные уроды, одни — усмехаясь, другие — гримасничая, рассказывают о бедствиях, о славе, об ужасах, надеждах, злобе и любви, свидетелями которых они были в течение долгих веков. Вот площадь Дофины с такими же кирпичными домиками, какими они были в те времена, когда в одном из них жила в своей девичьей келье Манон Флипон[447], вот древний Дворец правосудия, а вот вновь восстановленная игла Сент-Шапель, городская ратуша и башни Собора Парижской богоматери. Там сильнее, чем где-либо, ощущаешь труд былых поколений, многовековой путь развития и непрерывность жизни народа, святость труда наших предков, которым мы обязаны свободой, знанием и досугом. Там я с особой силой ощущаю неявную и искреннюю любовь к своей отчизне. Именно там становится мне ясным, что назначение Парижа — просвещать мир. С мостовых Парижа, где столько раз поднимались восстания в защиту правды и свободы, родниками били те истины, которые утешают и освобождают. И среди этих красноречивых камней я снова обретаю уверенность в том, что Париж никогда не изменит своему призванию!
Согласимся, что поскольку Сена является подлинной рекой славы, то несомненно ящики с книгами, выставленные на набережных, являются для нее достойным венком.
Я только что перечитал прекрасную книгу г-на Октава Юзана[448], посвященную старинным книгам и гравюрам, которыми торговали уличные букинисты. Он рассказывает о том, что обычай выставлять книги на парапетах набережных восходит, по меньшей мере, к XVII столетию и что во времена Фронды[449] закраины Нового моста были тоже завалены книгами. Присяжные книгопродавцы, владельцы лавок с живописными вывесками не могли примириться с существованием скромных конкурентов, и уличные букинисты были изгнаны особым указом одновременно с Мазарини, — а это подтверждает истину, что и у малых мира сего, как и у великих, бывают свои огорчения.
Во всяком случае, любители книжной старины сожалели об их исчезновении с Нового моста: до сих пор уцелела докладная записка одного библиофила, составленная в 1697 году в защиту букинистов, то есть более чем сорок лет спустя после их изгнания.
«В прежнее время, — говорит этот ученый, — изрядная часть ларьков на Новом мосту принадлежала книготорговцам, и они продавали там прекрасные книги по весьма сходной цене. Это было большим подспорьем для пишущей братии, ибо сочинители в большинстве своем народ безденежный.
В сих ларьках попадались небольшие, но редкие и весьма своеобычные трактаты, почти неизвестные, а также и такие, кои хоть и стали известны, но сбыта в лавках не имели, а здесь их покупали, ибо просили за них недорого. Тут можно было найти и старинные издания древних авторов. Они стоят дешево, и покупают их люди, не имеющие средств на покупку новых».
Эта защитительная записка составлена была Этьеном Балюзом[450], достойным человеком, который целиком ушел в книги, но не обрел в них желанного покоя. Вот как заканчивает он свою запись:
«А посему я полагаю, что как то имело место до сей поры, продажу книг на развале следовало бы допустить как в интересах несчастных книгопродавцев, впавших в крайнюю нужду, так и из уважения к ученым людям и сочинителям, коим во Франции всегда оказывали внимание и кои в силу этого запрещения лишены теперь возможности покупать хорошие книги по доступной цене».
В XVIII веке, к великой радости собирателей редкостей, букинисты вновь воцарились на парапетах Нового моста. Г-н Юзан сообщает, однако, что в 1721 году их снова обеспокоили. В тот год под угрозой конфискации, штрафа и тюремного заключения приказом короля воспрещено было торговать старыми книгами с лотков. В защиту интересов несчастных букинистов появились даже рифмованные ходатайства. Одному из них, как говорит Никола, приписана была следующая речь, якобы произнесенная на Парнасе:
Бедняги! В холод, в дождь и в зной — без всякого различья Они приходят по утрам, надеясь на добычу, Вот вся семья пришла сполна: Сын, подмастерье, дочь, жена. На шее груз, и полны руки Старьем сомнительной науки. А чтобы соблазнить народ, Купец товар лицом кладет На радость всем, кто отдыхает И проповеднику внимает. А он все дни — за исключеньем Лишь праздников и воскресений, — Завидев публики поток И книжный свой открыв ларек Сбывает в виде откровенья Всем надоевшее ученье. Для заполнения мозгов Его любой принять готов![451]Разумеется, это не стенания Элегии, облеченной в длинное траурное одеяние, и я но буду утверждать, что эти жалобы красноречивы. Но они вразумительны! И им вняли. Букинисты поспешили вновь воцариться на набережных. Я вырос на набережной Вольтера и в пору своего детства знавал букинистов счастливыми и спокойными. Г-н де Фонтен де Ребек[452] прославлял их тогда в небольшой книжице, название которой я забыл, что немало смущает меня. Барон Осман[453], очень любивший правильные линии, желая придать более четкое очертание тротуарам набережных, замыслил снова изгнать букинистов. Но его образумили. У букинистов не оставалось иных врагов, кроме «собак полицейских», которые, нагрянув неожиданно, принимались вымерять длину книжного ларя, желая проверить, не превышает ли он участка, отведенного ему на парапете. Уверяют, будто у букинистов была к этому склонность. Однако я считаю их честными людьми. Мне пришлось довольно близко узнать одного из них, г-на Деба, который не принадлежал к числу самых преуспевающих книгопродавцев и о котором я не могу вспоминать без умиления.
II
В течение более чем полстолетия он выставлял свои лари на парапете набережной Малакэ, против дворца Шимэ. На склоне своей смиренной жизни, проведенной на ветру, под дождями, на солнце, он уподобился тем источенным годами каменным изваяньям, которые стоят под церковными сводами. Он еще держался на ногах, но постепенно словно испепелялся, превращаясь в тот прах земной, в который превращаются в конце концов все земные твари. Он пережил все, что было ему близко и знакомо. Его выставка книг дичала словно заглохший фруктовый сад. Опадавшие с деревьев листья смешивались с листами рукописей, а птицы небесные роняли на них то, что лишило зрения старца Товию[454], уснувшего в своем саду. Казалось, будто осенний ветер, круживший по набережной семена платанов и овес, выпавший из торбы извозчичьих лошадей, того и гляди унесет в Сену и самого книгопродавца и его товар. Однако он умер не на свежем и вольном воздухе набережных, где проходила его жизнь. Однажды утром его нашли мертвым в чулане, в котором он обычно ночевал.
Я знавал его в пору моего детства и могу утверждать, что торговля заботила его очень мало. Не следует думать, что г-н Деба всегда был тем безжизненным и угрюмым человеком, каким он стал в старости, когда время преобразило его в каменнообразного букиниста. Отнюдь нет, — в зрелом возрасте он отличался живым умом, замечательной подвижностью и был погружен в дела.
Он женился на очень кроткой и до такой степени простодушной особе, что даже детям, осыпавшим ее насмешками на улице, не удавалось ее смутить. Предоставив этой доброй женщине стеречь книжные лари с тем же смиренным видом и усердием, с каким деревенская девушка пасет стадо гусей, г-н Деба предавался таким разнообразным занятиям, какие обычно бывают не под силу одному человеку. На все дела его вдохновляла только любовь к ближнему. Эта любовь придавала единство его чрезмерно разносторонней жизни. Обладая прекрасным тенором, он пел по воскресеньям за вечерней в часовне «Бедных сестер». Он был писцом и, обладая красивым почерком, писал для служанок письма, а для странствующих торговцев — ярлыки с наименованием товаров. Искусно владея пилой и рубанком, он смастерил ящики со стеклом для торговки галантереей г-жи Пети, торговавшей на открытом месте, — ее покинул муж, и она должна была сама прокормить четверых детей. Он делал мальчишкам змеев из бумаги, бечевы и ивовых прутьев, сам запускал их, и беспокойный сентябрьский ветер уносил их в поднебесье.
Ежегодно он, словно заправский печник, складывал в мансардах печи. У него было достаточно медицинских познаний, чтобы оказать первую помощь раненым, эпилептикам и утопленникам. Если он встречал шатающегося, почти падающего пьяницу, то поддерживал его и отчитывал. Если лошадям случалось понести, он первый бросался им наперерез; он преследовал бешеных собак. Его заботливость простиралась и на богатых и на счастливых. Он безвозмездно загребал для них жар своими руками. Если какая-нибудь дама с набережной Малакэ приходила в отчаяние из-за того, что у нее улетел попугай или чижик, то г-н Деба бегал по крышам, лазал по трубам и ловил птицу на виду у глазевших на него зевак. Список его трудов был подобен поэме Гесиода[455]. Г-н Деба брался за все из чувства человеколюбия.
Но его основным занятием было — пещись о делах общественных. В этом отношении он был подобен какому-нибудь герою Плутарха[456]. Обладая благородной душой, проводя дни на вольном воздухе, завтракая и ужиная на скамейке, он создал себе образ жизни, достойный афинянина. Величие и слава родины были его ежечасной заботой. За двадцать лет своего царствования император ни разу не угодил ему. Г-н Деба витийствовал против тирана с присущим ему красноречием, уснащая свою речь обрывками риторических тирад, так как был большим любителем литературы и иногда читал те книги, которых никто не хотел покупать. Обладая благородным вкусом, он все же придавал порой своему возмущению несколько фамильярный тон. Отделенный от дворца, над которым развевалось трехцветное знамя, лишь рекой, он чувствовал себя на короткой ноге с тем, кого называл «квартирантом Тюильри».
Случалось, что иногда Баденге[457] проходил мимо витрины г-на Деба. Г-н Октав Юзан вспоминает об одной такой прогулке Наполеона III по набережной Вольтера, в начале его царствования. Стоял пасмурный и холодный зимний день. Букинистом, ящики которого простирались в те времена от одной из статуй Святых отцов до ларей г-на Деба, был в ту пору старый философ, похожий характером на философов-киников времен упадка Греции. Он, как и его сосед, презирал наживу и обладал высшей мудростью. Но мудрость его была бездеятельной и молчаливой. Однажды мимо него проходил император, а в это время старик, желая погреть свои закоченевшие руки, жег в жаровне рукопись. Он напоминал собою ту прекрасную мраморную статую из Тюильри, которая стоит под одним из каштанов. Статуя изображает старца, простершего руку над огнем жаровни, которую он прижимает к груди. Любопытствуя узнать, какие книги жжет книгопродавец, чтобы согреться, Наполеон приказал адъютанту спросить старика.
Адъютант повиновался и, возвратившись, доложил:
— Это «Победы и завоевания»[458].
В тот день Наполеон и г-н Деба стояли так близко друг от друга! Но они не перемолвились ни единым словом. Если бы я не любил сыновней и преданной любовью истину, то, конечно, придумал бы какое-нибудь приключение об императоре, его адъютанте и двух книгопродавцах, которое несомненно могло бы сравниться с волшебными историями о калифе Гарун-аль-Рашиде и великом визире Джафаре, бродившими ночью по Багдаду. Чтобы быть правдивым, я должен сказать, что лица частные, но весьма достойные и высокопоставленные, охотно беседовали с г-ном Деба. Назову Амедея Энекена, Луи де Роншо, Эдуарда Фурнье, Ксавье Мармье[459], — но их уже нет в живых! Самыми близкими друзьями г-на Деба были два священника, превосходные люди как по своим убеждениям, так и по моральным качествам, но весьма различные по характеру и настроениям. Г-н Треву, каноник Собора Парижской богоматери, был приземистый толстяк, с ярким румянцем на щеках, как будто их раскрасили те самые духи чревоугодия, приставленные к каноникам, которых видел Никола Депрео[460] в своих поэтических грезах. Все знания и силы его были направлены на то, чтобы обнаружить какого-нибудь забытого бретонского святого, и душа его была полна елейной радости. Другой, аббат Ле Блатье, духовник женского монастыря, был высок ростом, худощав. Строгий, важный, красноречивый, он долгими прогулками утишал в себе обиду, нанесенную галликанству[461]. И тот и другой, проходя по набережной, в стеганых ватных сутанах, карманы которых были битком набиты старинными книгами, всегда милостиво беседовали с г-ном Деба.
Однажды г-н Блатье двумя словами определил душевное благородство г-на Деба. «В вас, сударь, низкое — лишь имя»[462], — сказал он.
Когда г-н Блатье или г-н Треву спрашивали его, как идут дела, г-н Деба неизменно отвечал:
— Так себе… Нет уверенности в завтрашнем дне. Но это вина режима! — И широким жестом указывал на дворец Тюильри.
Вот уже десять лет, как в один холодный, зимний день г-н Деба тихо отбыл на нищенских похоронных дрогах. Быть может, нас осталось всего лишь двое-трое, кто еще помнит этого маленького человечка в длинной выцветшей синей блузе, который продавал нам греческих и латинских классиков и говорил, вздыхая:
— В несчастной нашей Франции государственные перевелись мужи!
Быть может, изгнанные с набережных книгопродавцы уже не возвратятся, и выставки их будут служить как бы расплатой за прогресс. Как и во времена Этьена Балюза, о них пожалеют лишь скромные, любознательные и простодушные ученые. Что касается меня, то я сохраню светлое воспоминание о тех долгих часах, которые проводил перед ящиками букинистов, под чистым, прозрачным небом, расцвеченным тысячью нежных оттенков, горящим пурпуром и золотом, а порою просто серым, но такого нежного тона, что он умилял до глубины души.
III
Как бы то ни было, я не знаю более безмятежной радости, чем удовольствие порыться на набережных в ящиках букинистов. Одновременно с пылью дешевых книжек будишь тысячу милых или жутких теней. В этих скромных ларях, точно по волшебству, возникают видения. Ты беседуешь с усопшими, они теснятся перед тобою. Елисейские поля, столь превозносимые древними, не предлагали усопшим мудрецам ничего такого, чего любой парижанин не мог бы найти при жизни на набережных от Королевского моста до Собора Парижской богоматери. На мой взгляд, мирты Вергилия[463] не милее, чем низкие платаны, осеняющие место стоянки извозчиков у Монетного двора и обреченные ныне на корчевку. Они низкорослые, хилые, но есть в них какое-то очарование. Без них прекрасный Монетный двор, построенный в стиле Людовика XVI, полном такого спокойствия, сдержанности, степенности, будет менее привлекателен. Любая самая искусная резьба по камню покажется грубой, если над нею не трепещет зеленая листва. И перед дворцами должны расти деревья, чтобы напоминать человеку о природе.
Многие, состарившиеся и сморщенные библиофилы, которых я встречал в часы моих долгих прогулок, поверяли мне свои обманутые надежды. «Теперь ничего не найдешь в этих грошовых ящиках», — говорили они и восхваляли те времена, когда г-н де ла Рошбильер каждое утро находил между Новым и Королевским мостами великолепные первые издания классиков. Мне никогда не попадалось на набережных ни одного редкостного издания Мольера или Расина, но я находил то, что дороже всякого непереплетенного «Тартюфа» или «Гофолии»[464] инкварто, — я находил там уроки мудрости! Вся эта испачканная типографской краской бумага внушала мне мысль о тщете, о суетности преходящих успехов, о призрачности славы. Я никогда не мог рыться в этих «грошовых ящиках», не испытывая при этом чувства тихой и мирной грусти. Я говорил себе: «К чему добавлять ко всей этой исписанной бумаге еще несколько лишних страниц? Лучше совсем ничего не писать!»
VIII. Лейб-гвардеец[465]
Выросши на набережной Вольтера, в пыли книг и старинных безделушек, среди книгоедов и охотников за редкостями, я ребенком знавал любителей фаянса, оружия, картин, медалей; знавал и таких, которые собирали только изделия из железа, и таких, которые собирали лишь деревянные изделия. Я знавал и библиофилов и библиоманов и решительно не вижу, чтобы они заслуживали те насмешки, которыми их осыпают пошляки. Могу вас уверить, что все эти чудаки обладают изысканным вкусом, просвещенным умом, кротким нравом, и мое расположение к этим славным людям, собирающим в свои шкафы всевозможные сокровища, живет во мне с младенческих лет.
В ту пору, когда я был самым худым, самым застенчивым, самым неуклюжим и самым мечтательным из учеников класса риторики, я с наслаждением проводил дни каникул у Леклера-младшего, продававшего в низенькой лавочке на набережной Вольтера старинное оружие. Леклер-младший был стар. Этот низенький, взъерошенный, хромой, как Вулкан[466], старичок, подпоясавшись саржевым передником, с утра до ночи отшлифовывал на краю своего верстака оружие, зажатое в ручные тиски.
Он беспрерывно полировал старинные шпаги, которые должны были, выйдя из его рук, стать уже совершенно безобидными и завершить свою судьбу в каком-нибудь замке, на каком-нибудь щите, обтянутом бархатом или сукном, среди набора рыцарского вооружения. Его лавочка была полна алебард, касок, шлемов, нашейных частей шлема, лат, набедренников и шпор. Помню, я видел у него четырехугольный щит XV века, изукрашенный галантными девизами, — тот, кто не видел его, лишился удовольствия вдохнуть аромат чудесного цветка рыцарства. Там были толедские шпаги, сарацинские воинские доспехи изумительного изящества, шлемы овальной формы, с которых ниспадала тонкая, как кисея, сетка из стальных колец; дамасские щиты с золотой насечкой вызывали у меня в пору моего детства горячий восторг перед очаровательными и вместе с тем жестокими эмирами, которые сражались против христианских баронов в Аскалоне и Газе. И, если я и доныне, читая трагедию «Заира»[467], испытываю наслаждение, то несомненно потому, что мое воображение любит украшать милого и несчастного Оросмана прекрасными доспехами. По правде говоря, каски и шпаги Леклера-младшего не относились к эпохе крестовых походов, но я склонен был видеть в лавочке моего старого друга кольчугу Вилардуэна[468] и ятаган Саладина[469].
Это было следствием моей восторженной мечтательности, но сам оружейник отнюдь не подогревал моего энтузиазма. Он усердно полировал клинки и почти все время безмолвствовал. Никогда он не расхваливал своего оружия, за исключением двух-трех мечей, достойных, на его взгляд, внимания, — некогда они принадлежали палачам. Леклер-младший был честным человеком, отставным королевским гвардейцем; клиенты очень уважали его.
Самым постоянным и самым аккуратным его посетителем был г-н де Жербуаз, старый роялист, с которым Леклер в 1832 году воевал шуаном вместе с герцогиней Беррийской[470] и который на старости лет тешился тем, что украшал историческими шпагами оружейную залу своего замка Мофеж в Розье. Этот высокий старик, некогда бывший телохранителем Карла X, всегда рассказывал что-нибудь о придворной жизни, о всевозможных дворянских родословных, причем говорил он громовым голосом и таким языком, который казался мне старомодным, а в сущности был лишь провинциальным. Г-н де Жербуаз был истым дворянином, но отличался внешностью простолюдина и крестьянским говором. Старик царедворец с багровым лицом и пышной белой гривой волос, высокий, плотный, все еще гордившийся своими икрами, которые в 1827 году слыли самыми красивыми в королевстве, проклинавший бога и всех анжуйских святых, властный и хитрый, задира и распутник, он своими едкими речами и бесчисленными анекдотами чрезвычайно занимал меня. К Леклеру-младшему он относился с известным уважением, ибо тот тоже был когда-то гвардейцем, а теперь своим трудолюбием и простотой больше походил на ремесленника, чем на антиквара. Достигнув возраста, когда бывают утрачены все товарищи юности, старый шуан 1832 года любил вспоминать вместе с солдатом времен Реставрации о той поре, когда оба они были молоды.
Я прислушивался к их беседам, стараясь совсем стушеваться в своем уголке. Какое множество раз слышал я рассказы о революции 1830 года и об отъезде короля в Шербур! Рассказ этот г-н Жербуаз неизменно заключал восклицанием:
— Маршал Мезон[471] — вот кто был негодяй!
А Леклер всегда добавлял:
— Целых три дня, господин маркиз, мы ничего не ели, кроме картошки, да и ту воровали в поле, и один крестьянин так сильно ударил меня вилами, что я остался хромым на всю жизнь.
Вот и все, чего он добился, состоя на службе короля, и тем не менее на всю жизнь остался роялистом и бережно хранил в ящике комода лоскут белого знамени, которое некогда разделили между собою солдаты его полка во дворе замка Рамбулье.
Помню, как однажды г-н де Жербуаз спросил своим громким и сочным голосом:
— Леклер, где вы стояли гарнизоном летом тысяча восемьсот двадцать восьмого года?
Оружейник, выглянув из-за своего верстака, ответил:
— В Курбевуа, господин маркиз.
— Отлично. Я знавал вашего командира, маленького де ла Морс, его сыновья сейчас служат при дворе Баденге.
И презрительным жестом он указал на дворец, крыло которого с длинными фронтонами смутно виднелось сквозь оконные стекла, возносясь на том берегу реки.
— А я, милейший Леклер, был в тысяча восемьсот двадцать восьмом году в личной охране, в замке Сен-Клу. Вторая рота, зеленая перевязь через плечо! А, черт возьми! Мы не были наряжены, словно карнавальные шуты, как лейб-гвардейцы Бонапарта. Только такому выскочке, как он, могло прийти в голову вырядить правительственные войска райскими птичками. На нас, старина Леклер, были серебряные каски с черным шелковым шнуром и с белым султаном, светло-синие мундиры с пурпуровыми воротниками, эполеты, серебряные галуны и аксельбанты, и белые казимировые штаны.
И звонко шлепнув себя по ноге, он добавлял:
— И ботфорты для верховой езды… В двадцать лет — гвардеец в чине лейтенанта, каждый вечер— свидание, каждую неделю — дуэль. Есть чему позавидовать!.. Ах, Леклер, чудесное было время!
— Да, господин маркиз, — тихо ответил оружейник, продолжая полировать шпагу, — в некотором смысле, конечно, это были хорошие времена… Но все же в отношении товарищей по комнате мне очень не повезло, они как-то нашли у меня в вещах грамматику. Я, видите ли, стал обучаться грамоте в полку и на свои сбережения купил грамматику. Но меня подняли на смех, принялись подбрасывать на простынях и целых полгода в казарме распевали обо мне песенку:
Видел ли ты бабушку, Видел ли ты бабушку Нашего Леклера?— Они по-своему были правы, — важно ответил г-н де Жербуаз. — Нечего было в вашем положении изучать грамматику, — это все равно, как если бы я ни с того ни с сего начал изучать еврейский язык. Мой командир граф д'Андив высмеял бы меня и был бы, черт возьми, прав. Я уже говорил вам, Леклер, что служил в охране во дворце Сен-Клу; на мне был голубой мундир и белые панталоны, так как стояло лето. Зимой мы носили панталоны светло-синие, такого же цвета, как и мундир.
— У нас тоже летом панталоны были из белой нанки, — заметил оружейник.
— Да, — подтвердил маркиз, — и нельзя сказать, чтобы это вас очень красило, но все же вы были молодцами. Если я посмеиваюсь над вами, то вовсе не хочу вас обидеть, Леклер. Итак, в то время как вас подкидывали на простынях в Курбевуа, я был в охране в Сен-Клу, стоял в карауле под окнами короля и никогда не забуду того, что мне пришлось увидеть в ту ночь… Все было, как быть должно, в полном порядке. Над замком реял флаг. Комендант, в чине генерал-лейтенанта, спокойно спал в постели, положив ключи под подушку. Только стрекотанье сверчков нарушало глубокое безмолвие ночи; луна, выплывшая из-за деревьев, серебрила аллеи пустынного парка. С мушкетом в руке я стоял, прислонившись к каменному крыльцу, и думал о своих делах, о развлечениях, как вдруг заметил, что окно спальни распахнулось и на балконе появился Карл Десятый в ночном колпаке с лентами, в пестром халате. С неба лился бледный свет, озаряя крупные приятные и благородные черты короля. Полуоткрыв, по обыкновению, рот, он имел несвойственный ему грустный вид. Долго глядел он то на луну, стоявшую в зените, то на какую-то вещицу, которую он держал на ладони левой руки, — мне показалось, что это медальон. Вдруг король протянул правую руку по направлению к луне, как бы беря ее в свидетели, и стал нежно целовать медальон. По щекам его катились слезы. Зрелище это так потрясло меня, что я задрожал, и дуло моего ружья застучало о патронташ. Несколько минут длились поцелуи и слезы. Затем король скрылся в спальню и затворил окно… Леклер, неужели вы не были бы растроганы таким зрелищем? Дряхлый король в ночном колпаке целует портрет, прядку волос — словом, какую-то памятку от женщины, — что именно, я не мог разглядеть. Король призывает в свидетельницы своих слез, своей верности, нежности и скорби луну. Бедный король! Тогда уж только луна знала тайну его юной любви! Мне думается, Леклер, что в ту ночь Карл Десятый грезил о госпоже де Поластрон, любившей его, когда он был блестящим графом д'Артуа; она последовала за ним в армию Конде[472], где он переносил все тяготы изгнания. Она принесла с собой в его походную палатку, окруженную солдатами, свои бриллианты, драгоценности, собранное наспех золото, принесла ему в жертву и богатство свое и честь. Что вы об этом думаете, Леклер?
Оружейник покачал головой: он, видимо, ничего об этом не думал.
Тогда г-н де Жербуаз заговорил вновь: — Да, Леклер, мне приятно думать, что в ту ночь, в Сен-Клу, спустя тридцать пять лет после смерти госпожи де Поластрон, Карл Десятый оплакивал своего лучшего друга. Он был чертовски прав, Леклер, а мы с вами не правы, что так упрямо цепляемся за жизнь.
— Но почему же, господин маркиз? — спросил оружейник.
— А потому, друг мой, что нелепо жить на свете, когда нельзя больше волочиться! К тому же мы никогда больше не увидим наших королей.
С тех пор я имел основание убедиться, что Карл X отличался удивительным легкомыслием и совсем не блистал умом. Я прочел многое из истории его царствования и не обнаружил ничего, что послужило бы к его чести. Самую симпатичную его черту запечатлело воспоминание г-на де Жербуаза о том, как старик король в ночном колпаке призывал луну в свидетельницы его верности первой любви.
IX. Госпожа Планшоне[473]
Весной того года мне исполнилось семнадцать лет. Это было самым счастливым событием в моей жизни. На пасхальные каникулы отец отправил меня в Корбей к тетушке Фелиси, которая жила в сельском домике на берегу Сены, погруженная в набожность и заботы о своем здоровье. Она приняла меня радушно, обняла по-родственному, поздравила с благополучной сдачей экзаменов на бакалавра, нашла во мне большое сходство с отцом, посоветовала не курить в постели и предоставила до обеда самому себе.
Я вошел в комнату, приготовленную мне старой служанкой Евфимией, и вынул из чемодана рукопись своего первого произведения, старательно запрятанную между рубашками.
То был исторический очерк «Клеманс Изор»[474]. В нем я излагал все, что усвоил в жизни о любви и искусстве. Я был доволен очерком. Слегка почистившись, я отправился побродить по городу. Тихие бульвары, обсаженные вязами, пленили меня своей меланхолической прелестью. Проходя по одному из них, я заметил на дверях приземистого домика, увитого глициниями, большую белую карточку, на которой было написано черными буквами: «Независимый. Ежедневная политическая, коммерческая, сельскохозяйственная и литературная газета». Эта надпись пробудила но мне мечты о славе. Ведь уже несколько месяцев меня терзало желание увидеть в печати мой исторический очерк, и мне показалось, что этот изысканный и скромный домик, притаившийся в зелени дерев, будет достойным приютом для моего первого произведения; с той поры мысль отнести мою рукопись в «Независимый» прочно засела у меня в голове.
Я вел в Корбейе безмятежную и однообразную жизнь. За обедом тетушка рассказывала мне о своей ссоре с доктором Жермоном, произошедшей десять лет тому назад, но до сих пор занимавшей ее. Вторым ее коронным номером было повествование об аббате Лакланше, замечательном человеке, утомленном жизнью, собственной дородностью и засыпавшем во время исповеди, когда тетушка каялась ему в своих грехах, — повествование это она приберегала на закуску и излагала в конце обеда за чашкой кофе. После этого милейшая женщина отправляла меня спать, советуя не курить в постели. Однажды, оставшись один в гостиной, я принялся от скуки разглядывать газеты, лежавшие на столике красного дерева. Это были номера газеты «Независимый», которую выписывала тетушка. Газета была маленького формата, напечатана сбитым шрифтом на тонкой бумаге и вообще выглядела так скромно, что я приободрился.
Я просмотрел четыре, пять номеров. Единственным произведением художественной литературы в нем оказался рассказ «Маленькая сестра Фабиолы». Автором его была женщина. Я с удовлетворением отметил, что оно написано в стиле моего очерка, но слабее. Это соображение навело меня на мысль отнести свою рукопись главному редактору газеты. В подзаголовке газеты стояло его имя: Планшоне.
Свернув трубочкой «Клеманс Изор» и не предупредив тетушку о своей смелой попытке, я с некоторым волнением отправился к дому, увитому глициниями. Г-н Планшоне тотчас же принял меня. Он сидел в своем кабинете без сюртука, без жилета и что-то писал. Такого волосатого гиганта, как он, мне еще никогда не приходилось встречать. Он был смуглый, при каждом его движении слышался шорох, словно терли обо что-то жесткую шерсть, и пахло от него хищным зверем. При моем появлении он продолжал писать. Потея, пыхтя, распахнув на груди рубашку, он закончил статью. Затем положил перо и знаком предложил мне объяснить цель моего прихода. Я пробормотал свое имя, имя тетушки, причину своего посещения и, дрожа, протянул ему рукопись.
— Я прочту, — сказал он, — заходите в субботу.
Я ушел в большом смятении и желал лишь одного: чтобы суббота никогда не начиналась, чтобы до этого рокового дня произошли всемирный переворот и конец света, — так мне было страшно еще раз встретиться с главным редактором. Но мир продолжал существовать, суббота наступила, и я вновь увидел г-на Планшоне.
— Что ж, — сказал он, — я прочел ваше произведение, очень мило написано, я напечатаю его как приманку. А что вы делаете завтра вечером? Приходите ко мне обедать. Я живу на площади Сен-Гено, против Квадратной башни. Приходите запросто. Мы будем в семейном кругу…
Я с величайшей признательностью принял приглашение.
На следующий день, в шесть часов вечера, я пришел к г-ну Планшоне. Он сидел с двумя или тремя детьми на коленях и с таким же количеством малышей на плечах и даже в карманах. Все называли его папа, дергали за бороду. На нем был сюртук, чистая сорочка, и пахло от него лавандой.
Вошла женщина, бледная и хрупкая, слегка увядшая, но приятная. Волосы у нее были цвета тусклого золота, глаза цвета барвинка, и, несмотря на располневший стан, она была изящна.
— Это госпожа Планшоне, — представил ее муж.
Дети (их оказалось шестеро) все были толстые крепыши, румяные и по-своему даже красивые. Их голые руки и ноги, кольцом окружившие отца-великана, блистали свежестью детского тела; все одновременно взглянули на меня пугливыми глазами.
Госпожа Планшоне извинилась за их невоспитанность.
— Мы никогда не заживаемся подолгу на одном месте, и они не успевают привыкнуть к кому-нибудь. Они у нас маленькие дикари, ровно ничего не знают, да и разве могут они чему-нибудь научиться, когда каждые полгода им приходится менять школу? Старшему Анри уже двенадцатый год, а он еще ни одного слова не усвоил из катехизиса. Право, не знаю, как он пойдет к первому причастию. Прошу к столу, сударь!
Обед был обильный. Молодая крестьянка, за которой г-жа Планшоне внимательно следила, подавала одно блюдо за другим: курник, жаркое, паштеты, фрикасе, откормленную домашнюю птицу, которую по требованию хозяина ставили перед ним, и он, держа в одной руке вилку, в другой — нож с рукояткой вроде козьей ножки, обнажив зубы и страшно вращая глазами, сверкавшими на его бородатой физиономии, округлив руки, ловко разрезал белое и черное мясо, щедро наделяя себя, детей, жену, гостя и, смеясь жутким смехом, болтал невинные вещи.
Но только тогда, когда он начал разливать вино, обнаружился весь широкий размах его натуры. Бутылки стояли на полу, у его ног, и этот великан-людоед, не нагибаясь, огромной рукой поднимал за горлышко то одну, то другую бутылку и наливал полные стаканы жене, которая тщетно отказывалась, детям, которые дремали, припав щекой к тарелке, и мне, несчастному; я без разбору глотал красные, розовые, белые, янтарные и золотистые вина; их возраст и происхождение хозяин выкликал веселым голосом, вполне полагаясь на слова лавочника, продавшего ему вино. Таким образом, мы опустошили изрядное количество самых разнообразных бутылок, после чего я высказал хозяйке пылкие и благородные чувства. Все, что таилось в моей душе героического и нежного, слетало с моих уст. Я направил разговор на самые возвышенные темы, но мне было очень трудно поддерживать его, так как Планшоне лишь кивками одобрял мои трансцендентальные умозрения, ничем, однако, не поощряя их дальнейшего развития, и продолжал толковать о сборе и способах засола грибов и о прочих кулинарных вопросах. У него в голове была образцовая поваренная книга и наилучшая гастрономическая география всей Франции. Впрочем, иногда он для моего развлечения пересказывал какие-нибудь забавные словечки своих ребятишек. Мне было гораздо легче столковаться с г-жой Планшоне, ибо она несколько раз повторяла, что ее влечет к возвышенным темам. Она сообщила мне, что когда-то прочла стихотворение, которое привело ее в восторг, но не помнит имени автора, так как стихотворение было помещено в сборнике, где были стихи и других поэтов.
Я декламировал все элегии, какие помнил, но большинство их пропадало зря, так как дети дрались под столом и ужасно шумели. Во время десерта я понял, что влюблен в г-жу Планшоне, и эта любовь была столь благородна, что я не стремился изгнать ее из своего сердца; я бросал на предмет своей страсти умильные долгие взгляды и взволнованно говорил о жизни, о смерти, открывая г-же Планшоне всю душу, а она, прикрыв ресницами свои прелестные голубые глаза и склонив осунувшееся от усталости лицо, томным голосом говорила мне:
— В самом деле, сударь? — и пыталась улыбнуться.
Мне еще многое хотелось сказать ей, как вдруг она покинула нас и пошла укладывать малюток, которые, высоко задрав ноги, уже крепко спали на своих стульях. После ее ухода я продолжал задумчиво сидеть против г-на Планшоне, а он все подливал мне ликеров. Он показался мне скотом. Его невозмутимое спокойствие раздражало меня, но, обуреваемый самыми возвышенными чувствами, я хотел, чтобы и он обладал благородной душой, а я еще более благородной. Одним словом, чтобы г-жа Планшоне была любима двумя достойными ее людьми.
И потому я решил исследовать сердце г-на Планшоне:
— Сударь, — сказал я, — какой прекрасной работой вы занимаетесь!..
— Вы полагаете, что редактировать провинциальные газетки — прекрасное занятие? — спросил он. — Да к тому же еще газеты клерикальные… Да, я работаю на попов… Но не всегда человек волен поступать так, как хочется, не правда ли?
И он спокойно принялся покуривать свою пенковую трубку, на которой была вырезана красавица в сладострастной позе.
Я спросил:
— Господин Планшоне, вы знакомы с моей тетушкой?
— Я ни с кем не знаком в Корбейе, — ответил он, — всего лишь полгода назад я жил в Гапе… Еще рюмочку анисовки?
Огромная потребность нежности охватила меня. Я почувствовал дружбу к г-ну Планшоне. Я стал с ним фамильярен, я высказал ему свое сочувствие, а главное — доверие. Я описал ему мою жизнь, я поделился с ним моими надеждами и мечтами. Он перестал курить. А я все говорил, говорил. Наконец, заметив, что он дремлет, я встал, пожелал ему спокойной ночи и выразил желание засвидетельствовать мое почтение г-же Планшоне. Он дал мне понять, что это невозможно, ибо она уже легла спать. Я выразил сожаление и с трудом разыскал свою шляпу. Планшоне с лампой в руке проводил меня до площадки лестницы и напутствовал советами, которые дают обыкновенно подвыпившим гостям: как надо держаться за перила, как спускаться по ступенькам; по-видимому, все это оказалось не так просто: спускаясь, я то и дело спотыкался. Планшоне же, свесившись через перила, спрашивал, найду ли я тетушкин дом. Вопрос этот оскорбил меня. Я дал себе слово сразу же, безошибочно найти дом, но это оказалось большой самонадеянностью с моей стороны, — в поисках дома я провел большую часть ночи, возмущаясь собственной неуклюжестью, ибо я то и дело попадал в лужи. В то же время я тщетно обдумывал, какой блестящий подвиг можно было бы совершить, чтобы вызвать восхищение г-жи Планшоне. Я мечтал о ее красивых голубых глазах и искренне был расстроен, что стан ее менее красив, чем глаза.
Наутро я проснулся, когда солнце поднялось уже высоко. Язык у меня пересох, кожа горела. Но сильнее всего я страдал оттого, что никак не мог припомнить, о чем беседовал накануне с г-жой Планшоне, И был склонен предположить, что наговорил ей всяких глупостей.
Тетушка не сочла нужным скрыть от меня, что столь позднее возвращение она считает неуважением к ее дому. Когда же я сообщил ей, что мое произведение «Клеманс Изор» принято в газете. «Независимый», то она покраснела от гнева и тотчас же потребовала, чтобы я взял рукопись обратно и тем пресек всякую возможность появления моего очерка в печати, — одна мысль об этом приводила ее в ужас.
Поникнув головой, я отправился к Планшоне просить его вернуть мне рукопись, что он и сделал с таким же легким сердцем, с каким взял ее.
— Что вы делаете сегодня вечером? — спросил он. — Приходите, будем вместе доедать остатки.
Но, вспомнив тетушку, я отказался.
Несколько дней спустя я нанес г-же Планшоне визит. Я застал ее сидящей перед большим букетом полевых цветов, она клала заплату на штанишки старшего сына. Мы оба были очень сдержанны. Лил дождь. Мы говорили о дожде.
— Как грустно, — сказал я.
— Не правда ли? — сказала она.
— Вы любите цветы, сударыня?
— Обожаю.
И на меня с увядшего лица глянули прекрасные блестящие глаза.
Через неделю я покинул Корбей и никогда больше не видал г-жу Планшоне.
X. Два друга[475]
Это было в последние годы Второй империи. Жан Менье и Жак Дюброке снимали пополам мастерскую в глубине двора, около кладбища Монпарнас. Нижним этажом завладели мраморщики, и весь двор был загроможден белыми мраморными надгробиями, памятниками, крестами и погребальными урнами.
По земле грязным саваном расстилалась мраморная и гипсовая пыль. Над мастерскими кладбищенских каменотесов высилась, словно огромная клетка, мастерская художников. В ней была чугунная печь, в глубине стояли два мольберта и несколько соломенных продырявленных стульев. Мраморная пыль, проникавшая сквозь щели в дверях и оконных рамах, покрывала холодные голые стены и каменные плитки пола.
Жак Дюброке писал картины на исторические сюжеты, а Жан Менье — пейзажи. Пейзажист был похож на дерево: корявый, могучий, мирный и спокойный. Его густые волосы вздымались над шишковатым лбом, словно побеги ивы с обрезанной верхушкой.
Он говорил мало, так как не располагал большим запасом слов, но рисовал много. Встав рано утром и подкрепившись стаканчиком белого вина, он отправлялся в пригород на этюды, по которым писал потом у себя в мастерской картины, насыщенные какой-то грубой силой и упорным трудом.
Крестьянин по происхождению, осторожный, недоверчивый, хитрый, с лицом таким же немым, как и его язык, он мало заботился об участи своего товарища. Для него на всем свете существовала только молочница Евфимия с бульвара Монпарнас, полная ласковая женщина лет пятидесяти, у которой он столовался и которую любил спокойной и несколько насмешливой любовью.
Жак Дюброке, художник исторического жанра, был на несколько лет старше пейзажиста и обладал характером совсем иного склада.
Это был мыслитель. Он хотел походить на Рубенса и потому отрастил себе длинные волосы, остроконечную бородку и носил широкополую шляпу, бархатную куртку и широкий плащ. Неизбежная мраморная пыль гробниц омрачала всю эту пышность. Жан Менье тоже был покрыт этой пылью, но она как-то смягчала и даже скрашивала его облик. А красоту художника-историка пыль эта словно оскверняла, он непрестанно, но тщетно чистил свою бархатную куртку и страдал.
Любезный по природе, веселый, расточительный, он обладал возвышенной душой и, опасаясь, что имя Жак Дюброке недостаточно звучно, переименовал себя в Якобуса Дюброкенса; имя это, по его мнению, более соответствовало его дарованию. По возрасту Дюброкенс принадлежал к поколению последних романтиков, а по чувствам примыкал к республиканцам. Учился он живописи в ателье Ризенера[476] в конце царствования Луи-Филиппа.
Он был большим любителем чтения и усердно посещал библиотеку благодушной г-жи Кардиналь, где студенты-медики зубрили анатомию, положив на стол рядом с учебником большую берцовую или лучевую кость, и, не отрываясь от книги, завтракали маленьким хлебцем. Он читал самые разнообразные книги, а затем шел спорить о прочитанном с товарищами в питомник Люксембургского сада перед статуей Велледы[477].
Он был красноречив! Революция 1848 года прервала его занятия живописью. Его страстное стремление служить человечеству еще возросло в клубах, и, осознав свое новое призвание, он задумал создать новое искусство.
С той поры у Якобуса Дюброкенса возникало множество замыслов картин, но, чтобы осуществить их, ему необходимо было полотно в шестьдесят квадратных метров. Шестьдесят квадратных метров полотна, а иначе не стоит ничего и затевать, — вот положение, в котором он находился. И нет ничего удивительного, что Якобус Дюброкенс в том возрасте, в котором я познакомился с ним, то есть когда уже седина блестела у него в волосах, не написал еще ни одной картины.
У него было слишком много замыслов. Кроме того, Империя его связывала. Он ждал ее падения. Среди посетителей молочной, на бульваре Монпарнас, он прославился копией одной из сирен Рубенса, которую сделал в Лувре в 1847 году. В этой картине были места, исполненные, пожалуй, хорошо, но общий колорит был холодный, серый, так что копия не похожа была на оригинал. Когда ему об этом говорили, он отвечал, улыбаясь:
— Ведь это понятно. Рубенс прыгает вот как, — и он протягивал руку на уровне колена, — а я прыгаю вот так… — и он поднимал руку над головой.
Кроме «Сирены», его кисти не принадлежала ни одна картина. Особенность, довольно необычная для художника, но она нисколько не волновала его.
— Мои картины вот где! — говорил он, хлопая себя по лбу.
Действительно, в этой голове под широкополой рубенсовский шляпой таились два-три необыкновенных замысла картин-апофеозов, в которых он неизменно соединял Анаксагора, Будду, Зороастра, Христа, Джордано Бруно и Барбеса[478].
Как часто в ту далекую пору я, будучи еще совсем юным студентом, предпочитал пыльную мастерскую двух друзей и эстетическую теорию Якобуса Дюброкенса посещениям юридического факультета и лекций г-на Деманжа[479].
Красивый голос пылкого клубного оратора заглушал визг неутомимой пилы мраморщиков, чириканье воробьев и крик дерущихся во дворе детей. Как красноречиво описывал Якобус Дюброкенс свои будущие картины: «Марш человечества», «Дух религии», «Прогресс демократии» и «Всеобщий мир»! Как убежденно утверждал, что ему предназначено при помощи живописи найти синтез различных философских систем!
Тем временем Жан Менье, безмолвный, как сама природа, стоя у мольберта, писал на маленьком полотне с медлительным крестьянским упорством могучее дерево.
Порой он быстро взглядывал на широкое окно, из которого падал свет, и ворчал:
— Вот мешает мне! Чертова перечница… как бишь эта штука называется?
Мы не догадывались. Наконец, Жан Менье, напрягши память, восклицал:
— Да ведь это солнце! Понимаете? Солнце слишком ярко светит.
Иногда мы обедали втроем в молочной, в маленькой комнатке, украшенной большим полотном Жана Менье. Это была странная композиция, изображавшая уродливые и уморительные деревья, которую он писал, внутренне посмеиваясь. Талантливый пейзажист ощущал красоту и уродство лишь в мире растительном. Он забавлялся, как дикарь, рисуя карикатуры на дубы и молодые вязы.
Что же касается царства человеческого, то в нем для Жана Менье существовала лишь Евфимия, которая несомненно казалась ему очень приятной женщиной. Перед обедом, при отблесках огня, пылавшего под плитой, он кружил вокруг Евфимии в кухне, а Якобус Дюброкенс, сидя за столиком перед солонкой и горчичницей, объяснял мне смысл галльской триады.
Как великолепно изобразил бы он эту триаду в живописи! Ему не хватало только полотна в двадцать квадратных метров и Республики!
А пока что он придумывал платья для кукол, рисовал «три момента уничтожения мозолей по способу доктора Эдуарда» и тщательно разрисовывал розовые веночки, сделанные из сердцевины бузины. Славный это был человек! Никогда и никому не открывал он скорбной тайны своей жизни и при каждой встрече кротко и миролюбиво спорил об искусстве и философии.
Но все мы идем туда, куда влечет нас судьба, и даже самые верные из нас покидают один за другим своих старых товарищей на дороге жизни, на каменистом жизненном пути. В последний год пребывания на юридическом факультете я потерял из виду обоих своих приятелей-художников. Впоследствии Жан Менье стал знаменитостью, имя его ежедневно появлялось в газетах и журналах. О нем отзывались с похвалой. Я видел его картины и в Салоне, и на частных выставках, и у любителей живописи, и у модных женщин. Я мог сколько угодно любоваться его фотографией, которую охотно выставляли в витринах писчебумажных магазинов; на меня смотрело знакомое лицо древнего сельского божества.
Зато о бедном Якобусе Дюброкенсе ничего не было слышно. Я думал, что его уже нет в живых, что милосердная смерть унесла его из этого мира, который он всегда видел как бы во сне, сквозь пелену мечтаний. Но в один погожий осенний день 1896 года я пошел на пристань, близ Тюильри, собираясь сесть на пароход, который должен был отплыть вниз по реке, и вдруг я заметил старика, сидевшего на носовой части палубы. На нем был старый заплатанный плащ, на голове дряхлая романтическая шляпа, надвинутая набекрень; рука, еще прекрасная, покоилась на папке с рисунками, и весь его облик напоминал задумчивого гения.
Я сразу узнал в нем добряка Якобуса Дюброкенса, хотя ему было уже семьдесят лет. По морщинистому лицу ему можно было дать даже больше, но в голубых глазах по-прежнему горело пламя непобедимой юности.
Он ответил на мой поклон, не зная, кто я, и не пытаясь узнать, привыкнув в кофейнях и молочных к тому безыменному братству, которое как бы сливает воедино всех собеседников.
— Вы видели мою картину? — спросил он. — Мою большую картину? Они требуют, чтобы я уменьшил ее, кое-что переделал и исправил.
— Кто требует, мэтр Якобус?
— Они! Мастерская, правительство, министры, муниципальный совет, да мало ли кто еще! Разве я знаю! Я ведь не вожу знакомство с этими лавочниками. Я не обращаю внимания на случайное и презираю все, что не осуществлено в абсолюте. Они хотят исказить мою великую идею. Но не беспокойтесь, я не войду с ними в сделку.
Итак, Империя пала. Республика существовала уже двадцать пять лет, а Якобусу Дюброкенсу все еще не удалось написать свою большую картину.
Впрочем, он был вполне доволен своей участью. Чтобы прокормиться, он рисовал для некоего торговца, конкурента Гамбье[480], модели для трубок и виньетки для ярлыков, предназначенных украшать коробки сардинок. Видя его таким удовлетворенным, я не мог понять, кто он — старый безумец или мудрец.
Уходя, он широким жестом указал на розовеющее небо, на серебристую реку и на берега, как будто запорошенные сияющей световой пылью светло-желтого цвета.
— Вот, — сказал он, — прекрасный фон для моей картины «Апофеоз свободной женщины»! Надо, конечно, усилить все эти тона. На этот раз я напишу картину в духе Веронезе[481], но только более сочно. Веронезе прыгает вот так, а я…
Он сделал свой былой жест. И крикнул мне со сходней:
— Заходите навестить меня в мастерскую на Пуэн-дю-Жур. Улица там, на правой стороне, дом номер шесть. Звоните сильнее.
Я собрался к нему лишь два месяца спустя. Перед домом, в котором жил Якобус, я встретил Жана Менье, коренастого и узловатого, словно дуб. На лацкане его безукоризненного сюртука алела розетка Почетного легиона. Он казался каким-то древним сатиром, превратившимся в изысканно светского человека.
— А, это вы!.. Давненько не виделись! А бедняга-то Дюброке! Воспаление легких, крышка ему!
Он стал подыматься впереди меня по старой деревянной лестнице, дрожавшей под его тяжестью. Пыхтел, задыхался и ворчал:
— Вот чертова перечница!
На верхней площадке какая-то женщина в широкой кофте, очевидно консьержка, печально покачала головой и тихо сказала:
— Он и дня не проживет. Войдите, господа.
За перегородкой на убогой складной кровати перед «Сиреной» 1847 года хрипел Якобус.
Он поманил нас к себе и свистящим, очень слабым, но отчетливым голосом сказал:
— Конец!.. Уношу с собой философскую живопись. Мои картины все здесь, у меня в голове… Пожалуй, даже лучше, что их никто не видел. Это причинило бы товарищам слишком много огорчений.
Агония, довольно легкая, длилась пять часов; конец наступил около полуночи.
Жан Менье закрыл глаза старому товарищу и, задумавшись, припомнив всю свою жизнь, ощутил тайну бытия; словно осененный взмахом невидимых крыл, он провел рукой по лбу и в горестном изумлении воскликнул:
— Ах, чертова перечница!
XI. Онезим Дюпон[482]
Я познакомился с Онезимом Дюпоном, когда он был уже в преклонном возрасте. Через него я как бы соприкоснулся с поколением Армана Карреля[483] и сотрудников журнала «Глоб»[484], чье учение и нравы он хранил. Его имя, когда-то славное, теперь забыто. Он принадлежал к людям 48-го года — к «красным». Он любил музыку, цветы. Я изредка встречал его у моего отца. Он всегда был одет во все черное и очень изысканно. В его осанке и в каждом движении сквозило никогда его не покидавшее чувство собственного достоинства. В восемьдесят лет он казался отставным военным. Всю жизнь он так боялся запачкаться, что почти никогда не снимал светлых перчаток и почти никому не подавал руки. Это был невероятно щепетильный, чистоплотный и добросовестный человек, в нем жила постоянная потребность в чистоте, моральной и физической. Я никогда не встречал человека более учтивого, так поражавшего своей ледяной вежливостью. Блеск его глаз, горевших на продолговатом желтом лице, склад тонких губ оттолкнули бы всякого, если бы старомодная внешность его не производила впечатления благородства, натуры героической и безрассудной. Онезим Дюпон не был беден. Он слыл богачом, так как иной раз нарушал свою строгую бережливость какой-нибудь тратой широкого размаха, странной и необычайной щедростью.
Заговорщик во времена Июльской монархии, представитель народа в 1848 году, изгнанник в 1852 году, депутат в 1871 году, он был республиканцем и трудился во имя установления на земле свободы и всеобщего братства. Его верования были верованиями современных ему республиканцев, но удивительной его чертой являлось то, что он, будучи самым благородным другом человечества, вместе с тем был мрачным мизантропом. Человечество в целом он любил так пламенно, что готов был ради его счастья принести в жертву и свое состояние, и свою свободу, и свою жизнь, а в отдельности каждого из людей он презирал и, как позора, избегал всякого общения с ними. Но не только в этом сказывались противоречия его натуры: он стойко провозглашал независимость мысли, порицал насилие и отстаивал с оружием в руках свои убеждения, сражаясь во имя этих принципов на баррикадах. До глубокой старости он был ярым борцом, верным своей партии.
Его высокомерие, надменность и неподкупное чувство чести сделали его своего рода красным дворянином. Он был сыном торговца фарфором из предместья Пуассоньер. Сперва он решил стать купцом, но первые же его шаги на поприще торговли фарфором были отмечены своеобразным происшествием. Я передам вам эту историю так, как слышал ее сам от стариков, ныне давно умерших.
Старик Дюпон, человек честный и деловой, достиг в 1835 году преклонного возраста. Сколотив к этому времени довольно крупное состояние, он решил поселиться в деревне вместе с женой Элоизой, урожденной Рибу, которая получила наконец наследство после отца, старика Рибу, каменщика, ставшего скупщиком национального имущества. Итак, однажды, в 1835 году, старик Дюпон позвал сына в забранную решеткой клетушку, служившую ему в течение тридцати лет конторой, откуда он наблюдал за приказчиками, хлопотавшими в магазине, и в то же время занимался делами, и обратился к Онезиму со следующей речью:
— Я уже не молод, и мне хочется на склоне лет заняться садоводством. Я всегда мечтал заняться прививкой груш. Жизнь коротка, но человек вновь переживает ее в своих детях. Творец даровал нам такого рода бессмертие на земле. Тебе двадцать лет. В твои годы я торговал на ярмарках посудой. Я разъезжал на тележке по всем департаментам Республики, и не раз мне приходилось ночевать под брезентом на краю дороги, под дождем и снегом. На твою долю выпала более легкая жизнь, чем моя. Я рад этому, так как твоя жизнь — продолжение моей жизни. Дочь я выдал замуж за адвоката. Твоей достойной матери и мне уже пора на покой, — мы заслужили его. Я собственными силами выбился в люди и завоевал себе положение в обществе своими трудами. Образование я получил, читая календари и воззвания, которые распространялись во Франции в ту пору, когда страна среди смут и волнений устанавливала новый строй. Ты получил образование в коллеже. Ты изучал латынь и право. И то и другое украшает ум, но самое главное в жизни — быть честным человеком и зарабатывать деньги. Я положил начало солидной фирме. Теперь твоя очередь поддержать и расширить дело. Фарфор — прекрасный товар, отвечающий всем нашим жизненным потребностям. Пора тебе, Онезим, заменить меня! Сейчас ты еще не способен справляться с делом самостоятельно, и первое время я буду тебе помогать. Необходимо добиться, чтобы клиенты привыкли к тебе. Начиная с сегодняшнего дня принимай поступающие к нам заказы. В ящике письменного стола находится список цен, он очень облегчит тебе работу, а мои советы и время дополнят остальное. Ты не глуп и не зол. Я не корю тебя за то, что ты носишь жилеты а-ля Марат[485], причуды свойственны твоему возрасту. Я тоже был молод. Садись, голубчик, вот за этот стол…
И добряк Дюпон указал сыну на старомодное бюро, которое он сохранял из бережливости, так как не любил никакой роскоши. Этот стол наборной работы, отделанный медью, старик Дюпон купил лет тридцать тому назад на аукционе; когда-то он служил господину де Шуазелю[486] во время его министерства. Онезим Дюпон повиновался и молча сел на указанное ему место. Отец отправился прогуляться, уверенный в сыне, так как полагал, что добрая порода всегда скажется, и довольный тем, что обратил франта в солидного купца. Онезим, оставшись один, принялся изучать цены прейскуранта. Он всегда склонен был исполнить свой долг и относиться вдумчиво к своим обязанностям. Он занимался рассмотрением ценника около получаса, как вдруг приехал г-н Жозеф Пеньо, торговец фарфором в Дижоне. Это был весьма бодрый человек, весельчак и лучший клиент фирмы Дюпон.
— Вот вы где, господин Онезим! Не на бульваре? Не прогуливаетесь больше в великолепном голубом фраке с золотыми пуговицами!.. Хорошенькие девушки из «Китайских бань», наверное, очень сожалеют о вашем отсутствии. Но вы правы: все в свое время, делу время — потехе час. Я приехал повидать вашего батюшку.
— Батюшку заменяю я.
— Очень рад. Он мой друг. Я работаю с ним уже десять лет, надеюсь поработать с вами не менее, а то и больше. Вы похожи на него, но больше на матушку. Это я вам делаю комплимент. Госпожа Дюпон очень милая дама. А как чувствует себя ваш батюшка? Я хочу пообедать с ним на этих днях в ресторане «Канкальская Скала», как мы это делали постоянно в течение вот уже десяти лет. Скажите, как он себя чувствует?
— Благодарю вас, сударь, он здоров. Что же вам угодно?
— Видите ли, мне пора пополнить запас товара. Я хочу сделать вам свой ежегодный заказ. Приехал я только сегодня утром и, как всегда, остановился в гостинице «Победа» на улице Кок-Эрон.
И, вынув из кармана список товаров, г-н Жозеф Пеньо принялся перечислять необходимые ему предметы: столько-то дюжин столовых сервизов, столько-то сот тарелок, тазы для умывания, кувшины. Великолепный заказ!
— Я постараюсь удовлетворить вас, сударь, — сказал Онезим.
Заглядывая в прейскурант, он тщательно помечал цены тех товаров, которые заказывал купец. Двадцать четыре сервиза «в память конституции», белых с золотом… двенадцать сервизов «Ламартин», шестьдесят туалетных гарнитуров…
— Как видите, я не боюсь много покупать! Хочешь побольше продать, покупай, не скупясь. Вы видите, я действую смело и не боюсь риска. Такого хорошего клиента, как я, вам не найти, — добавил он с добродушным смешком. И тотчас же приняв угнетенный вид, жалобно вздохнул и промолвил: — Вы сделаете мне, конечно, обычную небольшую скидку? Вы берете слишком дорого, а ведь времена теперь тяжелые. Деньги во Франции хоть и не перевелись, но где-то притаились. Никто не уверен в завтрашнем дне. Сделайте мне небольшую скидочку…
— К сожалению, сударь, не могу исполнить вашей просьбы, — с ледяной вежливостью ответил Онезим.
— Как! Вы не можете скинуть мне пять процентов против продажной цены? Да вы шутите!
— Нет, сударь, не шучу.
— Ваш отец тотчас же сделал бы мне эту маленькую скидку. Он всегда соглашался, когда, я просил его об этом. Он ни в чем не отказывал своему старому другу Пеньо. Папаша Дюпон славный человек!
— Закончим, сударь, на этом наш разговор, — сказал Онезим, вставая. — После того, что вы сказали мне, я могу разговаривать с вами только через посредство двух моих друзей.
— Что вы такое говорите?! — воскликнул дижонец, невинная душа которого преисполнилась изумления.
— Я говорю, сударь, что буду иметь честь послать вам моих секундантов, и они сочтут своим долгом вступить в переговоры с вашими секундантами.
— Я не понимаю вас.
— Очевидно, сударь, я говорил недостаточно ясно. Прошу извинить меня! Я пошлю к вам секундантов, потому что вы оскорбили моего отца.
— Я оскорбил вашего отца, с которым дружен уже десять лет? Моего собрата, которого я уважаю и почитаю? Да в своем ли вы уме, молодой человек?
— Вы оскорбили, сударь, моего отца, ибо, утверждая, что он сделает вам скидку, вы тем самым намекали, что прибыль его слишком велика, а следовательно, незаконна, — раз он, как вы полагаете, готов ее снизить по вашей просьбе. Кроме того, вы намекнули на то, что, если б вы не попросили скидки, он в ущерб вам мог бы воспользоваться разницей в ценах, а следовательно, вы обвинили его в недобросовестности. Таким образом, вы оскорбили его. Надеюсь, теперь вы меня поняли?
Слыша все это, дижонец широко открыл глаза и даже разинул рот. Он ничего не мог понять в доводах молодого Дюпона, и это угнетало его, а главное, его пугало необыкновенное спокойствие и сдержанность, с какими тот делал свои умозаключенья. Действительно, Онезим Дюпон говорил с ним неторопливым и мелодичным голосом, — совершенно так же, как он впоследствии отстаивал в клубах и в Национальном собрании самые жестокие предложения.
— Молодой человек, — бледнея, проговорил дижонский торговец, — один из нас несомненно сошел с ума, но я твердо уверен, я готов поклясться, что сошли с ума именно вы. Я не уеду из Парижа до тех пор, пока не повидаюсь с вашим отцом и не переговорю с ним. Все это в высшей степени странно; мне кажется, что ни со мной, ни с кем иным ничего подобного никогда не приключалось.
Он вышел изумленный, подавленный, чувствуя, что сейчас заболеет. Действительно, он заболел и слег в постель в гостинице «Победа» на улице Кок-Эрон.
Между тем Онезим Дюпон написал двум сержантам в казармы Шато-До, что просит их оказать ему услугу. Оба эти щеголеватые вояки постоянно выступали секундантами в дуэлях сотрудников газеты «Насиональ» и членов клуба «Надежда».
Но на следующий день старик Дюпон занял вновь свое место в конторе. Он так и состарился в ней, и не пришлось ему заняться ни садоводством, ни прививкой груш, о чем он так мечтал.
Онезим, освобожденный от коммерческих дел, посвятил себя исключительно общественной деятельности и основал тайное общество «Совок и отвес», которое непрерывными нападками беспокоило Июльское правительство и трижды приводило его на край гибели.
КНИГА ВТОРАЯ. ЗАПИСИ, СДЕЛАННЫЕ ПЬЕРОМ НОЗЬЕРОМ НА ПОЛЯХ ТОЛСТОЙ КНИГИ ПЛУТАРХА[487]
Недавно я перелистывал «Достоинства женщин», дорогое издание с золотым обрезом, переплетенное в сафьян вишневого цвета. Я нашел книгу в ящике секретера после смерти бабушки, где эта превосходная женщина хранила вещи, самые дорогие ей по памяти.
Золото на обрезе стерлось во многих местах, а между страницами книги заложены были увядшие цветы. Несомненно бабушка в пору своей юности с умилением читала эту поэму. Она находила в ней то, чего не нахожу я. Для нее это был живой источник, благоуханное дыхание. Нелепо было бы осуждать ее. Прелестное создание воспринимало правильно то, что читало. Она была молода, а стихи непосредственны.
Хотя Габриэль Легувэ[488] писал свою поэму, устремив взор в будущее (таким он изображен на портрете), но несомненно книга эта была написана для моей бабушки, которая в 1801 году была очаровательной девочкой в белом муслиновом платьице, а не для нас, ибо нас в ту пору еще и на свете не было. А потому я склонен утверждать, что поэма «Достоинства женщин» была когда-то поэмой превосходной, но со временем испортилась, иначе я никак не могу объяснить себе, почему бабушка сушила цветы именно в этой книге.
Правда, мне неизвестно, о чем размышляла бабушка, читая «Достоинства женщин». Может быть, она ни о чем не думала, когда читала, а может быть, сама хотела поведать книге больше, чем книга говорила ей. Но поэты привычны к подобного рода излияниям. Мы не любили бы их так сильно, если бы они не были созданы для того, чтобы выслушивать наши признания гораздо чаще, чем открывать перед нами свое сердце. В тех случаях, когда они не служат нам посредниками, они бывают нашими наперсниками.
Но что действительно прелестно в «Достоинствах женщин» — это цветы, вложенные туда моей бабушкой.
* * *
Разум, великолепный разум, капризен и коварен. Зато святое простодушие инстинкта никогда не обманывает нас. Только в инстинкте скрыта истина. Он единственное реальное, чему человечество может верить в нашей иллюзорной жизни, в которой три четверти всех зол являются результатом размышлений.
Мой старый Кондильяк[489] уверяет, что чаще всего ошибаются самые разумные существа.
* * *
Нравственность и познание не обязательно связаны друг с другом. Те, которые воображают, что, просвещая людей, они тем самым могут их исправить, не являются глубокими знатоками человеческой природы. Они не замечают, что разум разрушает предрассудки, то есть основу нравов. Очень рискованно приводить научные доказательства в подтверждение какой-либо моральной истины, получившей всеобщее признание.
* * *
Педанты желают установить какие-то законы для письма, — словно для этого существуют иные законы, кроме обычая, вкуса и страстей, наших добродетелей и наших пороков, всех наших слабостей и всех наших возможностей.
Я считаю наличие французской грамматики общественным бедствием. Преподавать ученику родной язык по книге — чудовищно. Изучать живой язык по способу изучения языка мертвого! Какая нелепость! Родной язык — это наша мать, наша кормилица; надо питаться из первоисточника. А грамматика — это соска. Вергилий утверждал, что дети, вскормленные искусственно, не достойны ни пищи богов, ни ложа богинь.
* * *
Я только что узнал о смерти моего старого товарища Шандево. Это был низенький пухленький человечек, скитавшийся по свету и никогда не терявший при этом своего благодушия. Черты лица были у него такие мелкие, что никто их не замечал, — в глаза бросалась и все затмевала его широкая радушная улыбка. С самого рождения он не знавал горя, словно жизнь никогда не противоречила вполне естественному его стремлению к счастью. Он одобрял вселенную, он восхищался миром, частью которого являлся сам. Это не значило, что на него никогда не обрушивалось горе, — ведь он был человеком, и человеком очень добрым, но горе у него всегда бывало внезапным и скоро проходящим. Простак Шандево огорчался ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы успеть утереть кулаками свои маленькие глазки. Он женился на молодой благовоспитанной девице ростом еще ниже, чем он, приземистой, круглолицей, похожей на него, точно родная сестра. Он любил ее. Она умерла. Он удивился. На этот раз удивление было длительным. Он плакал, словно ребенок. Тяжело было видеть слезы на этом всегда счастливом лице. Добрый священник, друг их семьи, попытался утешить его.
— Бог дал, бог и взял, — сказал он.
— Никогда этого не ожидал от него, — ответил Шандево.
Спустя три месяца, будучи проездом в городе Туре, где он жил, я зашел навестить его. Стояла весна. Я застал его в саду, — накрыв голову широкополой соломенной шляпой, он поливал гряды, на которых, казалось, вырос и он сам. Обратив ко мне свое доброе, благодушное лицо, он торопливо поставил на землю лейку, и мы обменялись рукопожатием. Он умолял меня взглядом отбросить всякие мрачные мысли и, воздев маленькие ручки к небу, проговорил:
— Видишь, мой милый, я вновь стал молодым!
Скажу откровенно: простодушный Шандево был ближе к природе, чем те гордецы, которые оскорбляют ее горестными воспоминаниями, не предавая ничего забвению и яростно возмущаясь. На следующий год этот счастливец, почти не выходя из огорода, нашел себе вторую жену, чудесным образом походившую на утраченную супругу. Только она оказалась пониже ростом, да щеки у нее были еще круглее. Он очень счастливо прожил с ней до смерти, постигшей его внезапно спустя четыре года после брака. Апоплексический удар хватил его в ту минуту, когда он подстригал деревья. Для него это явилось последней неожиданностью.
* * *
Если бы мы так же ясно разбирались в особенностях каждой души, как разбираемся в геометрических фигурах, то относились бы к ограниченному уму столь же спокойно, как математик относится к острому углу, которому не хватает пяти-шести градусов для того, чтобы обладать свойствами прямого угла.
* * *
Я не мыслю себе ничего равного поразительной быстроте, с которой женщины забывают того, кто был для них всем. Благодаря этой устрашающей мощи забвения и присущей женщине способности любить она поистине является стихийной силой природы.
* * *
Сегодня утром я завтракал у N., бывшего министра просвещения и изящных искусств, дом которого посещают самые блестящие художники, скульпторы, литераторы, ученые, политические деятели и светские люди. Мне приходилось встречаться там с художником Жаррасом, скульптором Латайем, N ***, знаменитым актером, депутатом В *** и двумя-тремя академиками, людьми чрезвычайно разнообразными по складу ума, характера, но родственными друг другу тем отпечатком самоудовлетворенности, который накладывает слава. Большинство придерживалось строгого режима питания, и на столе всегда стояло множество бутылок минеральной воды. Каждый жаловался на какое-нибудь недомогание: кто на желудочное, кто на печень, кто на почки. Все интересовались состоянием здоровья кого-нибудь из сотрапезников, чтобы сравнить это состояние со своим. В беседе затрагивали всевозможные темы: толковали о театре, о литературе, политике, искусстве, о делах, о скандальных происшествиях, о злободневных новостях, но обо всем говорили вскользь, всего касались слегка. У этих людей выработалась с годами довольно приятная манера обращения. Время отполировало их поверхностно. Мудрый житейский опыт и полное равнодушие к чужой мысли придавали оттенок приятной терпимости их обхождению. Но очень скоро становились заметны их разногласия в серьезных вопросах: во взглядах на религию, на государство, на общество и на искусство; сближали их узы осмотрительности, безразличия; если порой эти люди и сходились во мнении, то причиной такого единомыслия были либо косность, либо трусость, либо отсутствие интереса к данному вопросу, и высказывали они тут общие места. Я заметил еще, что, если в споре они обнаруживали у противника, даже в отвлеченной теории или в форме неосуществимой утопии, угрозу их интересам и их благополучию, то тотчас, отбросив всякую благожелательность, превращались в его яростных врагов. Потому-то Жаррас, клиентуру которого составляли аристократы, бледнел от ужаса и багровел от ярости при одном лишь упоминании слов «социализм» и «коллективизм». Во всем прочем он был самым кротким в мире существом.
Моим соседом за столом был старейший гость Антонен Фюрн, знаменитый своей ученостью и любовными похождениями, член Академии надписей. Некоторое время он наблюдал за мной, а затем с насмешливой важностью шепнул:
— Подражайте мне. Обратили вы внимание, что я стараюсь разбить яйцо обязательно с тупой стороны?
— Почему?
— Хочу слыть человеком учтивым. Я много путешествовал, вращался в разнообразнейших кругах и приметил, что вежливость заключается в том, чтобы сообразоваться с обычаями. Если сообразуешься с обычаями даже в мелочах, то наверняка прослывешь самым учтивым человеком. Вот почему, господин Нозьер, я советую вам разбивать яйцо с тупого конца.
— Благодарю вас за добрый совет, — ответил я. — Постараюсь следовать ему. Я склонен думать, как и вы, что при помощи учтивости и соблюдения установленных правил можно выйти из любого затруднительного положения как на этом, так и на том свете, если последний существует. Но беда в том, что я человек рассеянный.
— В таком случае, — ответил старый ориенталист, — советую вам избегать общества сильных мира сего и постараться быть независимым.
Беседа за столом становилась все оживленнее, все беспорядочнее, но я не почерпнул из нее ничего важного для себя.
По окончании завтрака, за кофе, г-н Антонен Фюрн рассказал мне следующее.
— Лет тридцать тому назад, когда я жил в Париже, ко мне пришел араб, которого я за год до этого встречал в Маскате, куда меня командировало правительство. Это был красивый и чрезвычайно образованный человек; он обладал живым умом, но абсолютно не воспринимал ничего, что было чуждо его расе. На всем Востоке лишь армяне способны понимать европейские идеи. Но туркам, а тем более арабам наши взгляды совершенно чужды. Араб весьма радушно принял меня в своем доме в Маскате и вообще отличался необыкновенной вежливостью, сдержанностью и церемонностью. Я уже говорил вам, что это был ученый, историк. Пожалуй, он был самым образованным человеком в Маскате. Он был историком-философом, равным нашему Фруассару[490]. Я охотно сравниваю его с Фруассаром, ибо современный араб, по своей рыцарской ребячливости, сродни нашим сеньорам четырнадцатого века. Имя его было Джебер-бен-Хамса. Он с изысканной вежливостью объяснил мне, чего ожидает от меня. Он приехал в Европу изучать нравы Запада, хочет начать с Франции, ибо нашей страной интересуется больше всего, так как французы с необычайным блеском проявили на Востоке свою силу и заботу о правосудии[491]. Он намеревался посетить Англию, Германию. Ему хотелось быть принятым в высшем обществе, и вот он пришел просить меня ввести его в светские салоны. Я охотно согласился. В Париже в ту пору высший свет был очень приятным; я и до сего времени с удовольствием вспоминаю о том, что был в нем принят. Вы представить себе не можете, чем в ту отдаленную пору было искусство светской болтовни. Правда, Джебер-бен-Хамса ни в коей мере не мог наслаждаться речами господина Гизо[492] или господина Ремюза[493], мадам *** или мадам ***. Он хорошо знал английский, — с тех пор как в Адене водворились англичане, арабы на Оманском побережье стали сносно владеть английским языком. Но по-французски он и двадцати слов не мог сказать. Я постарался ввести его главным образом в те дома, где бывали концерты, где много танцевали и где можно было встретить женщин изумительной красоты. Я ездил с ним на самые блестящие балы сезона, к мадам X., мадам Y., мадам Z. Прекрасные черты лица моего араба, величавая осанка, изящный его жест, когда он, в знак преданности, подносил руку ко лбу и к губам, образность речи, когда он благодарил на арабском языке (я по мере сил старался перевести его слова хозяйке дома), все его своеобразные и прелестные манеры вызывали любопытство, интерес к нему, уважение и симпатию. Я пригласил его как-то на бал в Тюильри. Там он был представлен императору и императрице. Ничему он не удивлялся, никогда не высказывал изумления. Через полтора месяца он уехал из Франции, так как хотел посетить и другие страны Европы.
Я совсем уже забыл о нем, как вдруг, спустя пять-шесть лет после его отъезда, получил описание его путешествия, которое он сделал мне честь прислать в подарок из Маскаты. Книга вышла на арабском языке в типографии «Уильсон и сын», в Адене. Я довольно небрежно перелистал ее, не рассчитывая прочесть ничего интересного. Но вдруг одна глава привлекла мое внимание: «Балы и танцы» — так она была озаглавлена. Прочитанный отрывок показался мне очень забавным. Привожу его почти дословно:
«У западных народов, главным образом у французов, — писал Джебер-бен-Хамса, — существует обычай устраивать „балы“. Обычай этот заключается в следующем. Одев своих жен и дочерей как можно соблазнительней, обнажив им руки и плечи, надушив их волосы и одежду, посыпав мелкой пудрой кожу, украсив цветами и драгоценностями и научив их улыбаться, даже тогда, когда им улыбаться совсем не хочется, европейцы приезжают с ними в просторные, жарко натопленные залы, освещенные таким количеством свечей, сколько звезд на небе, устланные пушистыми коврами, уютно уставленные глубокими креслами с мягкими подушками. Гости пьют хмельные напитки, шутят, пляшут с женщинами, быстро кружатся с ними в танцах, на которых я сам не раз присутствовал. Затем наступает минута, когда все с неистовой яростью удовлетворяют свои вожделения, потушив на время свечи или удобно развесив для этого ковры. Таким образом, каждый наслаждается с той, которая ему нравится, или же с той, которая ему предназначена. Я утверждаю, что все происходит именно так, — не потому, что я бывал свидетелем этого, мой спутник всегда уводил меня прочь до начала оргии, но было бы нелепо и противно вероятности думать, что вечер, подготовленный таким образом, заканчивался бы иначе».
Эти рассуждения араба Джебер-бен-Хамсы показались мне забавными, и я поделился ими с женой моего товарища по Академии, красавицей мадам ***. Заметив, что она не очень шокирована, я стал настойчиво добиваться ответа на следующий вопрос: «Ну, скажите, сударыня, зачем вы, как говорит мой араб, душите свои обнаженные плечи, украшаете себя золотом и драгоценными камнями и танцуете?» Я думал, что приведу ее в замешательство, но она, взглянув на меня с состраданием, ответила: «Зачем? Да ведь у меня две дочери на выданье».
* * *
Человек несомненно зависит от природы, но и природа зависит от человека. Она создала его, он преобразует ее и неустанно меняет облик своей создательницы, придавая ей новые черты, которых у нее до появления человека не было.
* * *
АРИСТ, ПОЛИФИЛ И ДРИАС
Полифил. Как можете вы утверждать, Арист, что разум присущ человеку? Отнюдь нет! Разум, достигший высшей ступени своего развития, то есть способность усваивать некоторые незыблемые соотношения в многообразных явлениях природы, — явление очень редкое и непрочное у животных нашей породы. Не разум управляет человеком, — ведь разум не может утолить ни его голода, ни его потребности в любви, и разум не участвует в кровообращении. Чуждый природе человеческой, он безразлично относится к морали, если она не враждебна ему. Отнюдь не разум определяет глубокие инстинкты живых существ, единодушие народов, нравы, обычаи. Не он учредил религию и господствующие законы; они возникли в древности на основе общей житейской практики. Я утверждаю это не с целью умалить величие священных и человеческих законов. Вы понимаете меня? Трогательная пышность богослужений возникла из бесформенных, случайно уцелевших пережитков первобытных верований. Основой теологии является отсутствие разума и священный ужас наших предков перед картиной вселенной. Законы — не что иное, как рычаги, управляющие инстинктами. Стремясь подчинить себе обычаи, они сами им подчиняются, что делает законы приемлемыми для общества. Когда разум забрезжил в человеческом сознании, у людей уже были и своя вера, и свои нравы, чувство любви и ненависти, свои господствующие понятия о добре и зле. Разум — недавнее приобретение. Эра его начинается со времен греков, египтян, или акадийцев, или атлантов[494], если хотите. Он возник после учения о нравственности, — да что я говорю? — после флейты, после благовонного розового масла! В человеке, этом древнем животном, разум — чудесное и мало ценимое новшество. Не спорю, там и сям он воссиял светлыми лучами. Дивно сиял он в Эмпедокле[495], в Галилее, которые могли бы прожить свой век счастливее, не будь они наделены способностью улавливать какую-то постоянную связь в бесконечном разнообразии явлений. Да, разум обладает некиим очарованием, прелестью. В некоторых людях он пленяет. Ныне разум — редкое явление; встречается он у небольшого количества презираемых людей и остается наивным. Но не следует обольщаться: он в сущности противоречит самому духу человечества. Если, по несчастью, которого опасаться нечего, он вдруг да проникнет в массы, — влияние его будет подобно действию нашатырного спирта на муравейник. Жизнь внезапно остановится. Люди существуют только потому, что плохо понимают даже то малое, что они вообще понимают. Неведение и заблуждение необходимы для жизни так же, как хлеб и вода. Чтобы быть безвредным для общества, разум должен быть свойством немногих людей и притом не располагающих силой.
Так обычно и бывает. Не потому, что все в мире приспособлено для того, чтобы сохранить живые существа, а потому, что живые существа могут жить только в благоприятных условиях. Следует признать, что человечество в целом питает безотчетную ненависть к разуму. Его толкает на это темное, неосознанное, но глубокое стремление защитить свои интересы.
Арист. Разум, каким он предстает в вашем определении, — это разум умозрительный, способность к философским наукам. И, конечно, это дарование возникло не вчера, как вы утверждаете, — напротив, оно старо, как само человечество. Первобытный человек, который жарил в своей пещере на раскаленных камнях очага медвежье бедро, был не только поваром, но и химиком, и философское мышление не было ему чуждо. Однако верно то, что люди ухитряются делать ошибочные выводы из самых правильных положений. Пагубой для человечества является не разум, а заблуждения разума. Способность определенным образом воспринимать вселенную посредством органов чувств присуща животному, носящему имя «человек», — он родился мудрецом. Льщу себя надеждой, что останусь верен природе, если по-прежнему буду трудиться в области земледельческой химии и археологии; но я согласен с вами, Полифил, что готовность верить всякому вздору встречается в людях очень часто и человеку свойственно заблуждаться.
Дриас. Это связано с тем, что мы только что вступили в период позитивного мышления.
Полифил. Во всяком случае, вы, как и я, признаете, что верования, мораль и законы отнюдь не вытекают из разумного понимания явлений природы, что свободное толкование этих явлений ослабляет необходимые обществу предрассудки и способность многое постигать — гибельна.
Дриас. Это не совсем верно.
Полифил. Нет, это так, и теологи, которые мыслили бога как существо высшего интеллекта, не могли допустить, чтобы оно было нравственным. Действительно, мысль о каком-то нравственном боге нелепа.
Дриас. До сей поры нравственность зиждилась на идеях богословских. У нас была мораль, соответствовавшая различным системам: фетишизму, многобожию, единобожию. Последняя оказалась самой жестокой. Теперь пришло время утвердить мораль на научном основании.
Полифил. Я не упрекаю вас в том, что науки вы противопоставляете религиям. Но, Дриас, если над этим задуматься, то скажите, чем, как не древними науками, являются все религии: вы найдете в религиях туманные, искаженные сведения по астрологии, арифметике, метеорологии, древние врачебные предписания, старые полицейские законы далеких стран, смесь кулинарных и гигиенических рецептов и дикарской цивилизации. Древние позитивные понятия и рациональная практика, которым время придало своеобразный таинственный налет, вылились в догматы веры и обряды культа.
Наша наука также породит суеверия. От них не уйти. Природе человека разум ненавистен. Религии возникают на наших глазах. В данное время спиритизм вырабатывает свои догматы, свою мораль. У него свои обряды, церковные соборы, отцы церкви и миллионы последователей. Кроме того, у спиритов верования зиждутся на химии, основоположником которой был Лавуазье. Они воображают, что исповедуют самые передовые взгляды на строение материи. По их мнению, они создали самую лучшую и правильную физику. «Мы ученые!» — восклицают они. Как говорит Арист, «люди ухитряются делать из самых верных положений самые ошибочные выводы».
Арист. Я замечаю, Полифил, что у вас любовная размолвка с разумом. Вы упрекаете его за то, что он не царит над миром. Его власть не абсолютна, но он подобен почтенному и обходительному человеку, которого уважают и охотно принимают во многих хороших домах и чья глубокая кротость оказывает свое влияние даже в этом городе, расположенном на берегу широкой реки среди плодородной долины.
КНИГА ТРЕТЬЯ. ПРОГУЛКИ ПЬЕРА НОЗЬЕРА ПО ФРАНЦИИ
I. Пьерфон[496]
Валуа — край великого покоя; я сейчас объезжаю его и готов целовать его землю, ибо она — главная кормилица нашего народа.
Все поколения оставили тут свой отпечаток; Валуа является как бы ковчежцем с древними святынями страны в юном и очаровательном обрамлении. Моя она, эта земля. Ее засевали мои предки. Конечно, все провинции Франции — французские, и между землями, которые были вотчинами первых королей-монахов третьей династии[497], и теми, что последними вступили в этот священный союз[498], заключен нерасторжимый договор. Но старому парижанину-археологу дозволительно особой любовью любить Иль-де-Франс и соседние области — славный центр нашей родины. Там создалось сладостное романское наречие, наречие Амио[499] и Лафонтена, родной французский язык. Да, там моя отчизна в отчизне.
Я нахожусь в Пьерфоне, в комнате, которую снял у крестьян. В ней стоит ореховый шкаф, кровать, осененная белым бумажным пологом с бахромой из помпончиков. На узкой доске камина под стеклянным колпаком красуется венок из флердоранжа — подвенечный убор хозяйки. На выбеленных стенах в узких черных рамках висят цветные олеографии времен Июльской монархии. «Милость Наполеона к г-ну Сен-Симону[500]», внизу надпись: «Герцог Сен-Симон, французский эмигрант, взявший в руки оружие (sic!), был приговорен к смерти и подлежал казни. Тогда дочь его подала Наполеону прошение о помиловании. „Я дарю жизнь вашему отцу, — ответил Наполеон, — да будут ему карой угрызения совести при мысли, что он дерзнул поднять оружие против Отечества“».
По обеим сторонам зеркала висят олеографии «Жених» и «Невеста», «Пастушка Эстелла», держащая посох, обвитый розами, «Жозефина» с фероньеркой на лбу. Подписанное внизу двустишье разоблачает тайну Жозефины:
В пустых забавах жизнь твоим кумиром стала; Ты ищешь суть ее в беспечном вихре бала.Ныне олеографии исчезли навсегда. Их убили фотографические снимки. Вокруг меня на стенах десятка два снимков: гладко прилизанные головы, вытаращенные глаза. По сходству заметно, что это все родственники, вероятно двоюродные и троюродные сестры и братья; а вот и дети, у самых маленьких пухлые щеки, глазки — щелочками, губы надуты. Теперь крестьяне не покупают картинок вроде «Эстеллы», теперь они ходят сниматься. Единственная гравюра, висящая в этой комнате, — удостоверение о первом причастии. На ней стоит подпись кюре; виньетка изображает шеренгу стоящих перед алтарем на коленях мальчиков и девочек; вверху отец небесный благословляет их.
Из моего окна виден пруд, рощи и замок. В ста шагах от дома купа красивых буков, шелестящих при малейшем ветерке. Солнце заливает их и, пронизывая листву, рассыпает на дорожку пятна света. В здешних местах много лесной малины, — только надо знать, где найти заросли ее кустов, у которых листья сверху зеленые, а с изнанки белые, — малинники любят расти на жарких лесных прогалинах.
В лесу растут цветы, которые я предпочитаю цветам садовым; по форме они изящнее, благоухают сильнее, и названия их красивы. Они не носят имен генералов, подобно садовым розам. Вот их названия: серебряная почка, венечная корониль, жерманде, полевой гиацинт, зеркало Венеры, волосы епископа, перчатки богородицы, соломонова печать, венерин гребешок, медвежье ушко, кавалерские шпоры.
Слева от меня вздымается каменный фасад замка Пьерфон. Говоря по правде, замок Пьерфон ныне представляет собою лишь огромную игрушку. В давние времена, когда его воздвигли, он был «изрядно к обороне приуготовлен и оружием всяческим, для бранного дела пригодным, в изобилии снабжен». На его беду, проклятый порох изобретен был раньше, чем замок успели достроить[501]. Надменно стоял он под градом первых чугунных и каменных ядер, но в начале XVII века залпы тридцати пушек быстро пробили брешь в его стенах. Башни были проломлены. Для нас, уже освоивших тяжелые орудия Круппа, башни Пьерфона кажутся просто игрушечными.
На фасаде каждой башни высится изваяние богатыря. Всего башен восемь: башня Карла Великого, башня Цезаря, башня Артура, Александра Македонского, Готфрида Бульонского, Иисуса Навина, Гектора и Иуды Маккавея[502]. Эти восемь богатырей — герои различных эпох и стран, но все они благородного происхождения, знатные рыцари, и все облачены в военные доспехи начала XV века.
В своем обрамлении из зелени остролистника они похожи на фигуры старых игральных карт. Скульптор, который ваял их, не имел ни малейшего представления о местном колорите. Он без всякого стеснения нарядил Гектора Троянского в такие же одежды, что и Готфрида Бульонского, а Готфрида Бульонского одел точно так же, как герцога Людовика Орлеанского. В ту пору доктор Шлиман еще не пытался установить, где в точности была Троя, и разыскать оружие и доспехи пятидесяти сынов Приама. Никто не был археологом, и никто не ломал головы над тем, как жили когда-то люди. Забота эта присуща нашему веку. Мы стремимся изобразить Гектора в кнемидах и всех действующих лиц Троянской легенды наделить исторически верным характером.
Рвение, конечно, величественное и благородное чувство. Я и сам испытываю его, по примеру великих мастеров. Я до сих пор продолжаю восхищаться мощными талантами, которые пытаются возродить прошлое в поэзии и искусстве. Но я спрашиваю себя, осуществима ли подобная задача и достаточно ли обладать сведениями о былом, чтобы заставить его вновь ожить со всеми его красками, укладом и бытом, свойственным ему одному. Сомневаюсь! Говорят, что мы, люди XIX века, отличаемся чрезвычайно глубоким пониманием истории. Допускаю, Но это понимание свойственно только нам, а у людей следующего поколения оно окажется иным. У них будет свое понимание, лучше или хуже нашего. Не в этом дело. Но оно будет иным, чем у нас. У них выработается иной взгляд на прошлое, и они с уверенностью заявят, что воспринимают его правильнее, чем мы. То, что мы возрождаем в поэзии и живописи, внушит им скорее изумление, чем восторг. Ведь жанры быстро отживают.
Однажды крупный ученый филолог, проходя со мной мимо Собора Парижской богоматери, указал на изваяния королей, украшающие главный фасад собора:
— Старинные ваятели стремились изобразить царей иудейских, а изваяли королей тринадцатого века; с этой стороны они нас и интересуют. Правильно изображать можно только самих себя или своих современников.
Именно так и поступали ваятели в Пьерфоне. Артур был доблестный рыцарь. Чувствуя приближение смерти, он пожелал, чтобы его славный меч не попал в чьи-нибудь недостойные руки. Он приказал своему оруженосцу бросить меч в море. Бесчестный оруженосец, видя, что это меч прекрасный и дорогой, спрятал его в расщелину скалы. Вернувшись, он доложил доброму Артуру, что меч теперь покоится на дне морском. Но Артур, презрительно улыбаясь, указал ему на висевший у его пояса меч, который возвратился к рыцарю, не желая быть участником изменнического поступка.
Башня, возведенная в память храбреца, чей меч был столь честным, оказалась бесчестной и вероломной. В ее недрах таятся темницы — каменные мешки, которые Виоле ле Дюк[503] описывает следующим образом:
«Под первым этажом существует еще подвальный этаж со сводчатым потолком, а под ним подземелье в семь метров глубины со сводом эллиптической формы, выгнутым наподобие скуфьи. В это подземелье можно попасть только сквозь отверстие, пробитое в верхней части свода, спустившись вниз либо при помощи лестницы, либо при помощи веревки с узлами. В центре подземелья вырыт колодец в четырнадцать метров глубиной — колодец, отверстие которого, имеющее метр тридцать сантиметров в диаметре, соответствует дыре эллиптической формы, находящейся в потолке подземелья; свет и воздух проникают сюда лишь через узкую бойницу; в толще стены устроен стульчак для отхожего места. Следовательно, эта башня принимала в свои недра живое существо, и, по всей вероятности, колодец, вырытый в середине подземелья, являлся всегда отверстой могилой…»
Восемь богатырей размещены на балконе наверху крепостной стены в нишах, обрамленных листвой. Каменная листва — чудо готического зодчества. Скульпторы той эпохи знали лишь флору родных полей и лесов; они не подозревали о существовании греческих акантов и о благородном изяществе коринфских завитков. Но они умели красиво расположить остролист, плющ, крапиву и чертополох на капителях колонн, размещали по карнизам стен букеты нежных цветов земляники и гирлянды дубовых листьев.
Итак, ниши богатырей, хотя и расположенные не-, сколько высоко, украшены цветочным обрамлением. Стоит только приглядеться к ним в бинокль, как увидишь, что каждая ниша окружена другой листвой.
В так называемые времена готики в декоративной скульптуре полновластно царило разнообразие. Виоле ле Дюк, восстановивший все орнаменты в замке Пьерфон, старательно следовал этой их особенности. Ни одного одинакового фриза, ни одной одинаковой розетки: разнообразие придает бесконечное очарование ранним постройкам Возрождения. Да и само Возрождение в пору своего расцвета не порвало с этой очаровательной традицией — разнообразить орнаменты.
В Пьерфоне, право, слишком много новых камней. Я убежден, что реставрация, предпринятая в 1858 году Виоле ле Дюком и законченная в дальнейшем по его чертежам, вполне обоснована. Я уверен, что вышки замка и все внешние оборонительные сооружения приняли свое былое обличье. Но старые камни, старые свидетели прошлого, исчезли, и перед нами уже не замок Людовика Орлеанского, а рельефная модель этого старинного здания в натуральную величину. Руины разрушили, а это — своего рода вандализм.
II. Городок[504]
Дерош (осматривая в бинокль пейзаж). Э! Насколько могу судить при моей близорукости, место очень живописное.
Делиль. А я тебе что говорил! Вот он, этот городок, расположенный по косогору.
Дерош. Кажется, будто он нарисован на склоне холма.
Делиль. А река, омывающая его стены!
Дерош. И текущая затем по прелестной долине!
Делиль. А густая роща, защищающая ее от холодных ветров!
Пикар. «Городок», д. I, сц. 3.[505]Это маленький городок, расположенный на границе Бовези и Нормандии, в старинной области Вексен. У его подножия протекает Сена, окаймленная ивами и тополями. Увенчивают его леса. Это маленький городок, шиферные кровли которого отливают на солнце голубизной, а надо всем царит круглая башня и три колокольни древнего собора. Долгое время городок был неприступным и воинственным. Но вот он расстегнул свой каменный пояс и теперь, безмолвный и тихий, мирно почиет от былых трудов. Это маленький городок Франции. Тени предков еще посещают порой его серые стены и липовые аллеи, подрезанные в виде зеленых сводов. Городок полон воспоминаний. Он благостен и величав.
Если хотите знать его имя, то взгляните на герб, вырезанный на фасаде богадельни, основанной Людовиком Святым. Герб лазоревый, на нем три золотые лилии, ибо городок был городком королевским, а на серебряном поле — три зеленых пучка салата.
В ту пору добрые люди очень просто объясняли происхождение трех пучков салата. Однажды, говорили они, в наш городок прибыл король Людовик IX. Было очень жарко, король почувствовал сильную жажду; ему подали кресс-салат, король нашел его очень свежим и съел с удовольствием. В награду король нанес три пучка кресс-салата на герб своего славного города.
Я нисколько не удивлю вас, если скажу, что современные ученые не придают никакого значения этому преданию.
Они видели печати XIII века и знают, что в ту пору гербы города и замка были иными, чем теперь. Герб, о котором идет речь, относится к XIV веку. Во время Столетней войны городку пришлось многое претерпеть[506], и он мужественно выполнял свой долг. Однажды им чуть не овладели англичане, напав на него врасплох. Но некий человек, живший в окрестностях, перерядился крестьянином и проник в крепость с корзиной овощей за плечами. Он предупредил защитников города, они усилили бдительность, и им удалось отбросить врага. Местные ученые полагают, что с этих пор и появились в гербе города три пучка салата. Ради их удовольствия я готов с ними согласиться, к тому же легенда эта очень почтенна, хотя совсем не убедительна. Впрочем, эмблема в виде пучков салата вполне уместна в гербе скромного городка, который может гордиться только своими садами и фонтанами. На его гербе — латинская надпись, представляющая собою игру слов: «Весна не всегда бывает цветущей, Вернон же цветет всегда» (Ver non semper viret, Vernon semper viret). Ибо городок, куда я привел вас, — Вернон. Надеюсь, вы не пожалеете, что совершили эту небольшую прогулку. Каждый город Франции, даже самый незначительный, — драгоценное украшение на ризе отчизны. Мне кажется, нельзя взглянуть ни на одну старинную колокольню, каменное кружево которой потемнело и разорвалось от времени, чтобы не вспомнить о тысячах наших безвестных предков и не почувствовать горячей сыновней любви к Франции.
Те, кто прочел «Роб Роя» (не знаю, много ли их еще), пусть вспомнят сцену, в которой романтическая героиня Вальтера Скотта, прекрасная и гордая Диана[507], показывает кузену фамильные портреты, на которых готическим шрифтом выписан девиз шотландских лордов Вернон.
«Вы видите, — говорит Диана, — что мы умеем соединять два понятия в одно слово».
Действительно, девиз этот очень хорошо подходит нашему маленькому городку. Возможно, что прежние бароны, которые последовали за герцогом Вильгельмом[508] в Англию, увезли с собой девиз Вернона. Выяснить тот вопрос — благодарная задача археолога! Мне же кажется он сомнительным. При изучении истории приходится мириться с тем, что многое остается неизвестным.
Но как бы то ни было (по излюбленному выражению ученых в конце любого их умозаключения), в первый раз имя города Вернона упоминается в истории в связи со смертью святой Онофлетты, или Нофлетты, которая преставилась и вознеслась к иной жизни в середине VII века христианского летоисчисления. История этой святой очень занимательна. Она была передана старым сказителем столь наивно, что я попытаюсь, насколько мне дозволит современный язык, сохранить манеру его повествования.
ПОВЕСТЬ О БЛАЖЕННОМ ЛОНГИСЕ И БЛАЖЕННОЙ ОНОФЛЕТТЕ
В царствование Клотария II жил в Мене священник по имени Лонгис; он основал близ Мамера аббатство. Случилось ему повстречать однажды молодую девицу по имени Онофлетта, каковая девица была крестьянского рода, но не крепостная. Лонгиса сразу пленили ее добродетели и великая набожность, которую он обнаружил в ней. Желая вырвать из суетного мира и спасти от соблазнов столь драгоценное сокровище, он увез девицу в аббатство и, ревнуя о вере Христовой, склонил на постриг.
Подобно многим святым того времени, Лонгис был наделен сильной волей и склонен к быстрым действиям. В пылу усердия своего он и не подумал посоветоваться или хотя бы предупредить родителей Онофлетты.
Те сильно разгневались и обвинили его в совращении их дочери, которая до той поры была чиста и невинна; они утверждали, будто Лонгис вступил с нею в преступное сожительство и для того держит ее в аббатстве. О поведении святого они судили лишь по внешним обстоятельствам, исходя из здравого смысла. Если поступок Лонгиса рассматривать с этой стороны, то несомненно он мог возбудить подозрения. Обвинение родителей поддержали соседи и друзья. Против аббата поднялась в тех краях буря возмущения. Лонгису угрожала гибель. Но он не терял присутствия духа. Прежде всего на его стороне было свидетельство самой Онофлетты, ни в чем его не обвинявшей и ручавшейся за невиновность своего благочестивого наставника. Она благодарила его за то, что он наставил ее на стезю праведную. Чтобы оправдаться, Лонгис отправился с нею в Париж. «И бог, — говорит сказитель, — в присутствии короля и знатных сеньоров многими чудесами, которые совершили Лонгис и Онофлетта, подтвердил их невиновность». Их оправдали и отпустили с миром. Родители Онофлетты вынуждены были со стыдом признать всю гнусность своих наветов.
Возвратившись в монастырь, Лонгис и Онофлетта еще долгое время жили близ друг друга в добром согласии, ревностно подвизаясь в благочестии. Но жизнь земная бренна, и пробил час, когда Онофлетта, отправившись в Вернон на Сене, опочила в сим городе. Лонгис, узнав о смерти набожной подруги, прибыл за ее телом, предал его земле близ своего монастыря, и впоследствии на месте том была воздвигнута приходская церковь.
Согласно постановлению церкви блаженный Лонгис и блаженная Онофлетта были причислены к лику святых.
В ту пору, когда они вместе спасались в тиши лесов, в священных источниках еще резвились нимфы! На ветвях священного дуба по-прежнему висели жертвенные приношения. Не все смиренные крестьянские божества исчезли от крестного знамения и святой воды. По всей вероятности, маленькие простодушные сельские фавны, ничего не ведая о благой вести, следили сквозь ветви за Онофлеттой и Лонгисом, принимая их за пастуха и пастушку, и беспечно наигрывали им на свирели, когда они проходили мимо.
Потребовалось много заклинаний, чтобы изгнать эти низшие божества. Еще до сих пор в окрестностях Вернона сохранились следы древних языческих празднеств. Вечером накануне Иванова дня деревенские жители гуляют в полях под деревьями с большими факелами и поют старинные песни заклятия. Эти добрые люди, бессознательно оставшиеся верными культу праматери своей Цереры, воспроизводят таким образом древние мистерии и в игрищах довольно правильно изображают богиню, искавшую свою дочь Прозерпину[509] при отблеске пламени Этны. Привожу этот факт со слов г-на Адольфа Мейера, ученого историка города Вернона.
Не всегда пышные памятники много говорят уму и сердцу человека, — порой наш взор и мысль не могут оторваться от скромного камня, запечатленного резцом варвара. В Верноне, неподалеку от собора, превратившегося ныне в приходскую церковь, есть маленькая уличка, которая спускается к Сене. На берегу стоят низенькие покосившиеся лачуги, еле-еле подпирающие друг друга. Среди лачуг высится каменный дом, в котором, говорят, некогда жил сборщик «водяных податей».
В доме два окна и дверь. Над дверью, под навесом, какой-то скромный ваятель, живший во времена Генриха IV или Людовика XIII, изобразил подобие лодки с двумя мужчинами. У одного из них в знак отличия — посох и митра. Я уверен, что это Гуго, состоявший архиепископом Руанский в 1130 году. Другой, с развевающимися по ветру волосами, — сам святой Аджутор. Третью фигуру источили время и непогода. Она изображала бедного лодочника, направлявшего лодку архиепископа и святого. Смысл этого барельефа вам объяснит любой местный лодочник. Здесь не забыли, что святой Аджутор вместе с архиепископом Гуго отправились засыпать бездонную пропасть, образовавшуюся в ложе реки напротив монастыря св. Магдалины. Над этой бездной образовался водоворот, который втягивал плывущие барки. Уже великое множество кораблей погибло около монастыря св. Магдалины, и по ночам на крутых берегах реки начали появляться страждущие неприкаянные души. Святой Аджутор засыпал пропасть звеньями той цепи, в которую его некогда заковали неверные. Правда, заполнить бездну немногими звеньями цепи очень трудно, но ведь праведник бросил в реку вместе с цепями свои страдания и святое смирение. Ныне милосердие не совершает подобных чудес, теперь для таких целей употребляют землечерпалки.
В XVII веке это чудо воспели в жалостных строках следующей песни:
Страшен поток, что несется вдоль Сены, Волны коварные с белою пеной! И моряков, и пловцов, и суда Крутит, и топит, и губит вода! Но Аджутор наш недолго страдал, Как ни бесились и ветер и вал: Буря бушует, а он в грозный час Гуго-прелата на помощь зовет. Внял его просьбе прелат наш, и вот С ним Аджутор всех от гибели спас!Великий святой Аджутор бросил, как мы уже говорили, свои цепи в «жестокие воды», и тотчас же они потекли мирно и спокойно.
Помни, читатель, и знай, маловерный: Случай поистине был беспримерный! Стихло мгновенно пучины волненье, Бури губительной шум и смятенье, — Приступ дробящихся в пене валов; Солнце блеснуло сквозь тьму облаков, И, пораженный, глядит капитан, Как по зеркальной поверхности вод Тихо корабль его дальше плывет. Вот как окончился тот ураган![510]Святого Аджутора почитают еще и под именем Ажутра и Астра. Этот святой Аджутор, Ажутр или Астр был, по-видимому, очень своеобразным человеком. Трудно в настоящее время представить себе его истинный облик. Но, судя по тому глубокому впечатлению, которое он оставил в памяти народа, Аджутор Вернонский обладал сильной и пламенной душой.
ПОВЕСТЬ О СВЯТОМ АДЖУТОРЕ
Он был потомком Роллона[511], сына герцога Жана и герцогини Розамунды де Бларю. Святой Бернар, настоятель Тиронского аббатства, воспитал его в правилах истинной христианской веры. Аджутор, должно быть, внес в эту новую веру мечтательный и предприимчивый дух своих предков той поры, когда они, распевая песни, плавали на барках по морям.
Рассказывают, будто свое отрочество святой Аджутор провел в лесах, увлекаясь охотой, потом стал впадать в экстаз и его начали посещать восторженные видения. В это время Петр Пустынник[512] собирал крестовый поход против неверных. Аджутор из Вернона вступил в 1095 году в число крестоносцев. Собрав двести воинов, он отправился в святые места и, молясь и сражаясь, прошел всю Палестину. Два года спустя он добрался до Никеи и после взятия Иерусалима продолжал воевать. Попав в окрестностях Тамбира в засаду, он пробился сквозь ряды сарацин, которые тысячами пали на поле брани.
В это время неверные завладели гробом господним. Проведя семнадцать лет в бранных трудах, Аджутор попал в плен к туркам, и его увели в Иерусалим. Он был закован очень крепко, но утешался тем, что и в узилище находится на той же земле, где пребывает гроб господень. В темнице он неустанно молился.
Однажды ему приснилась святая Магдалина, стоявшая справа от него, и святой Бернар из Тирона, стоявший слева, которых он перед сном призывал в молитвах. Они подняли его и в одну ночь перенесли из Иерусалима в деревушку близ Вернона. Подобные путешествия в те времена не были необычайным явлением.
Достигнув Вернонского леса, Магдалина и святой Бернар из Тирона покинули Аджутора.
«Вот место твоего успокоения, выбранное нами», — возвестили они на прощанье и исчезли.
С радостью рыцарь узнал леса, где провел свою юность. Заметив вблизи пастушонка, пасшего стадо овец на склоне холма, он подозвал его и приказал пойти в замок Бларю и сообщить герцогине Розамунде о возвращении ее сына. Но Розамунда не поверила пастуху.
— Сын мой скончался в Иерусалиме, и мне не суждено встретиться с ним, — ответила она и осталась в замке.
Пастух пошел к пославшему его и передал ему слова герцогини.
— Возвращайся в Бларю, — повелел Аджутор, — и скажи герцогине, что в честь моего возвращения три церковных колокола будут звонить без звонаря.
Не успел пастух дойти с этой вестью до герцогини, как раздался колокольный звон. Но Розамунда покачала головой.
— Нет, колокола звонят не в честь возвращения моего сына, — сказала она.
Пастух опять возвратился к Аджутору, и тот в третий раз послал его в Бларю.
— Иди и скажи в третий раз, что я вернулся, и, если мать опять не поверит, тогда трижды пропоет тот петух, что жарится сейчас на вертеле в поварне.
Не успел пастух передать герцогине эти слова, как в поварне трижды пропел петух, что жарился на вертеле.
Тут Розамунда поверила и отправилась в лес обнять свое дитя, столь чудесным образом возвращенное ей. Но пришла она слишком поздно. Бога прогневили сомнения герцогини в его милосердии и могуществе, и он призвал к себе своего слугу.
Когда Розамунда дошла до того места, которое ей указал пастух, Аджутор уже испустил дух. Так сбылись слова, сказанные святой Магдалиной и преподобным Бернаром: «Вот место твоего успокоения, выбранное нами».
Весть о святости его подобно благоуханию распространилась окрест.
Розамунда де Бларю постриглась в монахини, и ее похоронили в одной могиле с сыном.
Гробница святого Аджутора сохранилась. На ней крест-накрест вырезаны две флейты. Это тоже эмблема лордов Вернон. Вот почему прелестная Диана, о которой мы только что упоминали, сказала своему кузену:
— Узнаете вы наш герб — эти две флейты?
Не следует ли заключить отсюда, что не только девиз, но и герб лордов Вернон был увезен из Франции соратниками герцога Вильгельма? Не знаю, какими родственными узами связаны святой Аджутор и прелестная Диана. В этом я не намерен разбираться. Мне остается лишь объяснить, каким образом святой Аджутор, переселившийся из мира земного в мир вечный в день своего возвращения в Вернон, все же успел сбросить в Сомму цепи, которые заполнили водную пучину. Но это только кажется необъяснимым, — святой просто-напросто вернулся ненадолго на землю, чтобы совершить это чудо.
Быть может, вас заинтересуют прогулки по местам более новым и воспоминания о временах не столь древних? Тогда пересечем маленький городок, для этого достаточно пяти минут, и сядем под большими ровно подстриженными деревьями парка Бизи. Их насадил герой, маршал де Белиль[513], унаследовавший широкий размах своего деда Фуке; во время своего краткого пребывания в Верноне маршал и насадил парк Бизи. «Когда он не жил в Меце, — говорит Барбье[514], — то проводил время в своем поместье под Верноном, руководя работами целой армии землекопов, каменщиков, садовников и декораторов». Не завиден был его роскошный досуг, если вспомнить, какими тяжкими трудами маршал заслужил его. Перечтите историю отступления от Праги, осажденной неприятелем: маршал вышел из крепости с пятнадцатитысячной армией, столь искусно замаскировав своих воинов, что враги их не заметили, и в суровую зимнюю стужу за семь дней довел их до Эгера. Офицеры и солдаты спали на снегу, завернувшись в плащи. Старику маршалу, страдавшему подагрой, устраивали постель в коляске, которую ставили под защиту снежной стены. Поход был, говорят, очень труден и требовал большого военного опыта. Но оценить все искусство этого отступления могут только специалисты. Прочих оно нисколько не восхищает. Пражское отступление увеличило славу маршала Белиля, но окончательно лишило его популярности. Про знаменитого полководца сложили множество песенок, в которых его высмеивали; есть среди них очень неплохие. Вот, например, довольно остроумные куплеты:
Когда Белиль все войско спас
Под Прагой, — тайно в этот раз
Дав к отступлению приказ, —
Взошла луна в полночный час,
И он (так это было!) Сказал:
«О дней моих светило!
Судьбы моей звезда!
Свети мне так всегда!»[515]
В Бизи некогда жил превосходный человек — герцог Пентьевр. О его душевном благородстве и доброте могут порассказать кустики лесной земляники. В 1777 году герцог писал своему управителю: «Слышал я, будто жителям Вернона не разрешают собирать землянику в моих лесах и сие очень их обижает. Вот вы и нашли способ возбудить против меня ненависть, а мне доставить одно из самых глубоких огорчений, какие еще могут меня мучить в сем мире».
Цитирую это письмо по тексту оригинала, которое приводит Адольф Мейер в истории города Вернона. Право, из этого письма выступает облик очень доброго человека.
В воззрениях герцога Пентьевра весьма своеобразно сочеталась христианская вера с философскими добродетелями. В силу своего происхождения он тяготел к старому режиму, но по складу характера его привлекал дух нового времени. Так как он всегда держался в стороне от общественных дел, то даже в самый разгар революции его благотворительность снискала ему, как редкое исключение, любовь и уважение его бывших вассалов. Взамен титулов, которых его лишили, он получил звание командира национальной гвардии Вернона. Спустя три года, 20 сентября 1792 года, муниципалитет города Вернона отправился в Бизи и посадил там дерево Свободы, на которое привесили дощечку со следующей надписью: «Слава добродетели!»
Тем временем бедняга умирал от горя. Он ненадолго пережил ужасную смерть своей невестки принцессы де Ламбаль[516].
Близ парка, в конце обсаженной деревьями дороги, которую с одной стороны окаймляют последние дома городского предместья, а с другой — виноградники и яблони, высится гранитная пирамида — нечто вроде менгира строго геометрической формы, — производящая мрачное и величественное впечатление. На памятнике выгравированы гербы городов Вернона и Прива и надпись:
ОПОЛЧЕНЦАМ АРДЕША
Вернон, 23–26 ноября 1870 года.
Вражеское нашествие разрасталось. Немцы захватили Эвре. Четыре роты второго Ардешского батальона и третий батальон, составлявшие вместе отряд в полторы тысячи человек, выступили из Сен-Пьер-де-Лувье 21 ноября в одиннадцать часов вечера с заданием прикрывать подступы к Вернону, которые враг должен был атаковать на следующий день. Воинский поезд, везший их, двигался медленно, при погашенных сигнальных фонарях. Около трех часов ночи он остановился в четырех километрах от города. Отряд тотчас же высадился и в кромешной тьме, под дождем направился к лесистым бизийским холмам, прикрывавшим Вернон со стороны Паси, куда еще накануне неприятель стянул многочисленные войска.
Подполковник Тома приказал местным жителям провести французский отряд в лес. Вдоль лесных дорог он расставил стрелков, запретив им стрелять без приказа. Он намеревался дать пруссакам возможность пройти через леса, обстрелять их с возвышенности и, загнав в Вернон, повести осаду города. Все меры были приняты. На восходе солнца оглушительный грохот повозок и сигналы рожков возвестили о приближении неприятеля. Продвижение врага длилось около часу. Когда головная колонна достигла города, национальная гвардия встретила ее ружейными залпами. Такая встреча встревожила пруссаков, и только часть отряда вступила в город, остальные построились в боевом порядке за городом. Узнав от шпионов, что лес занят французами, и учтя критическое свое положение, немцы думали лишь об одном — обеспечить себе отступление. Тотчас же они выслали вперед кавалерию произвести разведку. Им удалось обнаружить лесные тропы, не охранявшиеся французами. Они спешно направили свою артиллерию по этим дорогам, меж тем как пехота, выйдя на большую дорогу, пыталась с боем пробиться вперед. После часовой ожесточенной перестрелки они рассыпались по всему лесу и двинулись к Паси. В бою и в беспорядочном отступлении немцы потеряли полтораста солдат, несколько офицеров и оставили в руках врага двенадцать фургонов боеприпасов и продовольствия.
В продолжение трех дней неприятель не давал о себе знать. Батальон Ардешской подвижной гвардии, остававшийся в Бернэ, прибыл в Вернон, где все три батальона соединились. 26 ноября утром шестая рота третьего батальона, стоявшая в заслоне, в двухстах метрах от опушки леса на дороге в Иври, около деревушки Кантемарш, неожиданно подверглась нападению немецкого отряда в восемьсот человек. Невзирая на внезапность нападения и на численное превосходство противника, французы держались стойко. Заметив, что враг обходит их с тыла, они отступили к лесной опушке. Они укрылись за железнодорожной насыпью и продолжали стрелять до тех пор, пока не израсходовали всех патронов. Тогда капитан Рувер отдал приказ: «В штыки!», бросился вперед и тут же, раненный насмерть, упал. Немногочисленный отряд кинулся вслед за отступающим неприятелем. В это время подошло подкрепление: два батальона, притаившись за деревьями, открыли жестокий огонь по немцам. Те ввели в бой несколько полевых орудий. Но около четырех часов они отступили, оставив на поле битвы двести человек убитыми. Потери французов составляли восемь убитых и двадцать раненых. Тело капитана Рувера осталось у немцев, которые отдали ему последние почести. Кавалерийский отряд под командой старшего офицера доставил его останки в гробу, увенчанном лаврами.
При известии о падении Руана гвардейцы Ардеша получили приказ покинуть город Вернон, который они так доблестно защищали. В память этого события и воздвигнута гранитная пирамида в Бизи.
Я хотел, перелистывая, словно книгу, этот городок, рассказать вкратце содержание двух-трех каменных его страниц. Разве города не те же книги? Чудесные книги с картинками, на которых изображены наши предки!
III. Сен-Валери-на-Сомме[517]
Сен-Валери-на-Сомме, пятница 13 августа
Из окна комнаты, в которой я пишу, видна вся бухта Соммы; песчаный ее берег простирается до синеющих на горизонте очертаний Кротуа и Урделя. От заходящего солнца пурпуровым отсветом пламенеют края тяжелых темных облаков. Поднимается прилив, и с открытого моря на волне прилива идут уже рыбачьи лодки. Под моим окном на мачтах баркасов, бросивших якорь в узком канале, вместо парусов развешены просыхающие сети. Пять-шесть рыбаков, стоя по пояс в мелководном протоке, выслеживают рыбу, которую вспугивают вокруг них загонщики, сильно ударяя по воде шестами. Рыбаки вооружены тонкими заостренными палочками, которыми они очень ловко прокалывают свою добычу. Всякий раз, когда из воды в воздух взвивается их гибкое орудие, видно, как на кончике его трепещет пронзенная камбала.
Соленый ветер ворошит на моем столе бумаги и доносит до меня терпкий запах прилива. У берега канала плавают бесчисленные стаи уток, слышно их веселое кряканье, всплески крыльев; слышно, как они ныряют в тину, как целой компанией идут вразвалку по отмели, все говорит о том, что они довольны. Одна, запрятав клюв под крыло, отдыхает в сторонке. Она счастлива. А ведь на днях ее съедят. Но всем придется умирать, наша жизнь имеет предел. Не в том беда, что тебя съедят, а в том, что ты знаешь об ожидающей тебя участи; а утки о ней и не подозревают. Нас всех когда-нибудь поглотит небытие, умейте забывать об этом — вот в чем заключается мудрость.
Пройдемся вдоль дамбы, пока море, уже затопившее мели Кайе и Урдель, стремительным потоком хлынет в бухту и принесет на волнах флотилию ловцов креветок. Слева от нас возвышаются крепостные стены, их когда-то омывали воды Соммы и моря, а ныне они покрыты налетом золотистой ржавчины. Над стенами возносятся пять остроконечных коньков собора XV века с высокими стрельчатыми окнами, с шиферной кровлей, по форме напоминающей опрокинутое судно, и с колокольней, увенчанной флюгером в виде резного петуха. В XI веке здесь возвышалась другая церковь, тоже с флюгером. В сентябре 1066 года Вильгельм Завоеватель каждое утро приходил на это место и наблюдал по флюгеру за направлением ветра. Его дружина в шестьдесят семь тысяч человек, не считая слуг, рабочих, поставщиков провианта и фуража, ждала за городом. Флот, уцелевший от кораблекрушений, стоял в бухте на якоре. Северный ветер две недели держал в плену все это скопище людей и судов. Пащенок[518], которому не терпелось завоевать Англию, одержав победу над Гарольдом и саксами, приходил в отчаяние, — ведь в дни этой задержки его корабли, чего доброго, получат повреждение, а воины разбегутся. Мечтая о попутном ветре, он приказал отслужить большое молебствие и пронести по лагерю раку с мощами святого Валерия. Этот праведник несомненно не любил саксонцев, ибо тотчас же подул попутный ветер, и флот мог отчалить.
Четыреста кораблей с поднятыми парусами и более тысячи транспортных барок по данному сигналу отчалили от берега. Во главе флотилии плыло судно Вильгельма, на мачте его развевался стяг, присланный папой, и знамя герцога со знаком креста. Паруса флагманского судна были разноцветные, и на нескольких нарисованы были три льва — герб Нормандии. На носу судна была вырезана фигура ребенка, державшего туго натянутый лук с готовой взвиться стрелой.
Отплытие имело место 29 сентября. Неделю спустя Вильгельм завоевал Англию.
Вдоль крепостного вала змеится вверх дорога по направлению к старинным, еще сохранившимся городским воротам; с двух сторон их подпирают башни, уже лишившиеся зубцов. Башни поросли мелкой розовой гвоздикой. Одна из башен еще таит под буйной зарослью трав и диких цветов корону бойниц. У подножия руин какая-то старуха насадила капусту. Зимой в ее садик дождем сыпятся увесистые камни. Ее лачуга, притулившаяся над древними подземельями, растрескалась и грозит развалиться от любого оползня. А между тем незлобивое создание любит ворота Вильгельма. «Конечно, — говорит она мне, — когда-нибудь они обрушатся на меня, но все же они так величественны!» Пройдите по деревушке, — приземистые домики, крытые соломой, выкрашены в веселый светло-голубой цвет, — улица приведет вас к оконечности Рогатого мыса. Здесь стоит часовня, затененная купой вековых вязов. Это современная постройка в ложнороманском стиле. Но стены, выложенные из камня и гальки, похожи на шахматные доски, и этим часовня напоминает старые нормандские строения. Называется она часовней св. Валерия или Часовней моряков, построена на месте древней церквушки и укрывает гробницу Вимейского апостола.
Моряки ходят сюда на богомолье. К своду новой часовни уже подвешены четыре-пять маленьких корабликов, все они — подношения моряков, спасшихся от кораблекрушения. Эти простодушные люди мыслят себе бога столь же ребячливым и вспыльчивым, как они. Они знают, что он грозен в гневе своем, но что не следует на него сердиться. Дружеские отношения с ним они поддерживают маленькими подарками. Чтобы позабавить господа бога, они приносят ему игрушки. Правда, это игрушки символические, — детские кораблики изображают те самые суда, которые столь чудесно спас вседержитель. Полагаю, что и святой Валерий получает свою долю скромных подношений; кораблики сделаны прекрасно и должны ему нравиться, ибо в земной своей жизни он был другом соммских рыбаков.
Рогатый мыс — дикий и великолепный утес; тут все насыщено воспоминаниями. Право, следует задержаться под этими раскидистыми вязами, листва которых трепещет от морского ветра, у подножия Часовни моряков, в нескольких шагах от оконечности каменного рога, откуда видны слева — скалы Ко, справа — бухта Соммы, дальше — плоские берега Пикардии, а вдали катит свои волны открытое море. Мне хотелось бы напомнить в нескольких словах о жившем некогда мужественном человеке, пребывание которого на земле оставило в здешних краях глубокий след.
ПОВЕСТЬ О СВЯТОМ ГУАЛАРИКЕ, ИЛИ ВАЛЕРИИ
Гуаларик, или Валарик, прозванный впоследствии Валерием, не был уроженцем прибрежной области, где его имя дано двум городам и множеству церквей. Он сын бедных крестьян из провинции Овернь. В детстве он был пастухом, и все имущество его заключалось в пастушеском посохе. Но он был одарен умом, здравым рассудком и отличался благочестием.
В раннем возрасте он покинул свой край и поступил в услужение к святому Жермену епископу Оссерскому. Затем он принял постриг в Люксейском аббатстве, которым в ту пору мудро правил Коломбан Ирландский. Однако монахи сбросили с себя бремя пастырской власти, и святой Коломбан, изгнанный паствой, отправился в дальний путь. Вместе с ним исчезли из аббатства набожность, смиренномудрие и умеренность. Валерий, глубоко оскорбленный, тоже покинул тихую гавань, превратившуюся в пагубную подводную скалу, и решил жить уединенно, вдали от злых людей. «Я пойду туда, куда укажет мне перст божий», — сказал он. Спустя несколько дней он дошел до реки Соммы и, направившись вниз по течению, достиг побережья морского. Утомленный, он остановился там на берегу некоего источника и отряхнул пыль от ног своих. На том месте впоследствии и воздвигнули город Сен-Валери.
В ту пору до самого моря спускался дремучий лес. В нем жили зайцы. Лес укрывал в своей глуши болота, кишевшие чибисами, бекасами, дикими утками, лысухами. На обнаженных вершинах скал чайки клали яйца. Пронзительный крик цапли, стон трескуна доносились с белесоватого берега, у которого лебеди, дикие гуси и чомга, вспугнутые холодами, зимовали в плавнях. Дикие места эти были почти необитаемы; тут жили бедняки, рыбачившие в богатом рыбой устье Соммы. Рыбаки эти были язычниками. Они поклонялись деревьям, ручьям. Напрасно святые Квентин, Мелон, Фирмен, Лупп, Ле, а впоследствии святой Бернар, епископ Амьенский, тщились обратить их в христианство, — они не отступали от веры своих предков. Они верили в земных духов и полагали, что в каждом предмете живет душа.
Этих простосердечных рыбаков охватывал священный трепет, когда они углублялись в чащу леса, покрывавшего в те времена все побережье. Им всюду чудились лесные божества. На берегу ручья в лунном сиянии являлись им обольстительные нимфы и феи. Рыбаки им всем поклонялись и, трепеща, приносили им в дар гирлянды цветов. Язычникам казалось, что, любя их, они поступают правильно, ибо виденья эти были прекрасны.
Разумеется, ручей, сбегавший по густолиственному склону холма, на котором остановился праведный Валерий, был священным источником. Язычники приносили ему жертвы. Он и сейчас струится у подножия часовни, со стороны бухты. Как и в былые дни, вода в ручье прохладна и чиста. Но он уже не журчит, не струится вольно, как в те времена, когда его причисляли к сельским божествам. Он замкнут в каменную купель, добираться до которой надо по ступеням. Во времена святого Валерия этот ручей был нимфой. Никто не смел приостановить ее бега. Свободно неслась она под ветлами. Подобно другим источникам, которых так много в местных долинах, ручей разливался небольшими озерками, где на плавучем ложе из темно-зеленых листьев дремал бледный цветок водяной лилии. Туда, в воды этих лесных источников, и скрылись последние, изгнанные епископом, нимфы. Этих диких богинь преследовали беспощадно. В одной из статей указа короля Хильдеберта[519] сказано: «Те, кто приносит жертвы источникам, деревьям и камням, будут преданы анафеме».
Валерий почел это место подходящим для себя. Король Франции разрешил ему поселиться в любом месте своего государства — всюду, где ему понравится. Валерий собственными руками выстроил себе келью и отдался молитве и созерцанию. Несколько учеников его последовали за ним, желая жить той же жизнью и следовать его благочестивому примеру. Они построили себе кельи рядом с его кельей, на опушке леса, у края пропасти, на дне которой плескалось море. Говорят, будто епископ Берхунд каждый год приезжал в эту обитель и проводил там дни великого поста. Валерий, насколько можно судить по робким и неуклюжим попыткам набожных агиографов нарисовать черты его духовного облика, был наделен твердой волей и вместе с тем кротостью. Ему приписывают такую доброту, которая редко бывала свойственна суровым проповедникам христианства, просветителям варварского Запада. Рассказывают, будто он впоследствии, подобно св. Франциску Ассизскому, изливал даже на животных доброту, переполнявшую его сердце. Птицы прилетали клевать корм из его рук. «Дети мои, — говорил он своим последователям, — не будем причинять им зла, пусть клюют крохи нашего хлеба».
Зато на лесных нимф и русалок этот святой муж ополчился с превеликим гневом. А они были невиновны. Рыбачки и горожанки втихомолку приходили к ним, умоляя открыть им тайну зарождения красивых детей, но ведь в этом не было ничего дурного. Эти нимфы, эти феи, эти волшебницы были пленительны. Они заронили в простые сердца чувство изящного. Это были скромные божества, понятные скромным людям. Святой Валерий считал их отвратительными демонами и решил истребить. Ради такой цели он отказался от своей созерцательной жизни, столь милой его наболевшему сердцу, и пустился странствовать, обращая в христианскую веру язычников и проповедуя евангелие из селения в селение.
Однажды, проходя мимо городка Э, он заметил дерево, к ветвям которого на красных шерстяных тесемках были подвешены глиняные фигурки. Они изображали Амура, Геркулеса и богинь плодородия. Богинь плодородия очень чтили в Западной Галлии. Местные горшечники постоянно лепили их фигурки, и этих божков и теперь еще во множестве находят на берегах Атлантического океана, Соммы и Луары. Иногда это две матери, которые сидят рядом, каждая с ребенком на руках; иногда изображается одна мать. И крестьяне, которые при вспашке своего поля находили такую фигурку, полагали, что это богоматерь. Но это был языческий кумир.
Увидя эти фигурки, святой Валерий преисполнился возмущения и подумал: «На ветвях этого дерева, словно ядовитые смертоносные плоды, висят демоны…» И, выхватив топор, заткнутый у него за поясом, он с помощью своего спутника, монаха Вальдолена, срубил дерево, в густой листве которого хоронились идолы. Когда местные жители увидели, как рухнуло их священное дерево, отягощенное жертвоприношениями, и как соки древесные, подобно каплям крови, проступили на искалеченном стволе, их обуяли ужас и горе. Святой Валерий крикнул им: «Это я срубил дерево, которому вы, слепцы, поклонялись»; тогда они бросились на него и хотели его погубить, как он погубил зеленый купол их храма.
Но тут праведник простер руки и воскликнул: Если господу угодна моя смерть, да будет воля его!
Но потому ли, что люди почувствовали в нем святого, или еще почему-нибудь, они оставили его в покое.
Он пожелал остаться с ними, чтобы проповедовать им евангелие. Было справедливо, что взамен низвергнутого божества он предлагал им другое, ибо жестоко поступают те, кто убивает надежду в человеческих душах.
Одержав над язычниками благочестивую победу, Валерий возвратился в свою келью.
Труд проповедника бывал порой весьма тяжелым. Однажды, рассказывает его биограф, этот божий слуга зимой возвращался пешком к себе в монастырь из местечка Кайе; стояла лютая стужа, он зашел обогреться в дом священника. Этот священник и его гости, вместо того чтобы отнестись с должным, уважением к такому посетителю, начали вместе с местным судьей говорить непристойные, бесстыдные слова.
Верный своей привычке всегда прикладывать к гнойным и страшным язвам целительный бальзам божьего слова, он попытался их образумить.
— Дети мои, — сказал он, — разве вы не читали, что сказано в евангелии: «За каждое праздное слово вы дадите ответ на Страшном суде?»
Они же, презирая его предупреждение, принялись еще пуще сквернословить и грубиянить. Тогда, отряхнув прах от ног своих, он вышел, сказав:
— Я хотел погреть возле вашего очага свое усталое тело, но преступные ваши речи вынуждают меня уйти, не согревшись.
И он ушел.
Может быть, этот рассказ где-нибудь в ином краю покажется пресным, но здесь, в стране, где он возник и ароматом которой овеян, я нахожу его прелестным и с наслаждением вдыхаю его терпкое благоухание.
В декабре 622 года Гуаларик, именуемый также Валерием, старец, одряхлевший от дней и трудов, перед заутреней встал со своего ложа из сухих листьев и повел учеников к вязу, окруженному ежевикой, у подножья которого он всегда молился. Там, воткнув в землю две палки, он отметил место, равное длине его тела, и сказал:
— Когда по воле божьей кончится мое земное скитание, похороните меня здесь.
По установившемуся обычаю святые древней Галлии сами выбирали себе место последнего успокоения. В Трегие святой Ренан не успел перед смертью выразить ученикам свою волю, и те, положив его тело на телегу, запряженную волами, предоставили им идти, куда вздумается. Похоронили святого на том месте, где волы остановились.
Святой Валерий скончался в воскресенье, на следующий день после того, как указал, где его похоронить. Всё исполнили согласно его воле, и епископ Берхунд приехал предать земле тело усопшего праведника.
Но история святых отнюдь не заканчивается с их смертью и погребением. Обычно она продолжается в тех чудесах, которые происходят на могиле праведника. Мы уже знаем, что Вильгельм Завоеватель устроил крестный ход с мощами святого Валерия, молясь о даровании попутного ветра. Восемьдесят лет спустя во Фландрии жил князь по имени Арнульд, по прозвищу Благочестивый. Он глубоко верил в чудотворную силу святых и особое благоговение питал к мощам святого Валерия. Доказал он это на деле. Он явился со своей дружиной, осадил город Сен-Валери и, желая овладеть мощами святого, перебил всех жителей и разгромил монастырь. Мощи святого Валерия вместе с прахом святого Рикье он увез в свое графство и был уверен, что таким образом вполне обеспечил себе божественное покровительство, — настолько сильна была его вера.
В это самое время Гуго Капет[520] был графом Франции. Однажды, когда он уснул в гроте, ему во сне явились два старца в белых одеждах.
— Я аббат Валерий, — сказал один из них. — Я жил на морском берегу. Мой прах, а также прах святого Рикье, который сейчас стоит возле меня, был похищен из гробницы и похоронен в чужой земле. Пробил час, когда наши мощи должно перенести туда, где мы некогда жили. Предсказываю тебе: когда мой прах будет похоронен в родной земле, ты взойдешь на престол, и род твой будет царствовать более семисот лет.
Сказав это, старец и его спутник исчезли. Граф Гуго потребовал у Арнульда Благочестивого священные мощи, желая вернуть их аббатству святого Валерия и стать королем.
Предсказание святого исполнилось. Но многие историки утверждают, будто это пророчество было выдумано задним числом, после происшедшего события.
Я мог бы еще дополнить эту картину из эпохи раннего средневековья рассказами о множестве других чудес. Но пора вспомнить, что я не агиограф. Сидя под старыми вязами Рогатого мыса, я набросал, как умел, образ великого вимейского проповедника лишь потому, что в основных чертах он похож на всех древних просветителей Галлии. Именно по этой причине его образ заслуживает внимательного изучения со стороны тех, кого интересует история нашей страны.
Будучи одновременно и монахами и колонистами, они загрубевшими руками разрыхлили ту землю, на которой мы ныне живем, и смягчили души древнего ее населения. Они оставили неизгладимый след среди французов. Для нас жизнь этих проповедников имеет немалое значение. Мы им обязаны. В каждом из нас живет частица того благого наследия, которое они завещали нашим предкам. С яростной силой боролись они против варварства. Они распахали землю, они внесли в жизнь дикарей, наших предков, первые начатки искусства и высокие стремления.
— Но, увы! — возразите вы, — они убили скромных лесных и горных духов. Добрый святой Валерий умертвил нимфу источника. Очень жаль!
— Да, это было бы очень печально. Но не грустите. Скажу вам по секрету: эти святые люди не погубили ни одного, даже самого скромного божка. Святой Валерий не уничтожил нимфу, и славные демоны, которых он вспугнул с одного дерева, спрятались на другом. Духи, нимфы и феи порой скрываются, но никогда не умирают. Они не боятся кропила святых проповедников.
В одной толстой книге я прочел, что после смерти святого Валерия жители бухты Соммы вновь впали в идолопоклонство. Они опять встретились с таинственными волшебницами источников, вернулись к своей первой любви; Пока есть леса, долины, горы, озера, реки, пока белые утренние туманы клубятся над ручьями, до тех пор нимфы, дриады и феи не умрут. Они — красота мира и потому никогда не погибнут.
Взгляните — на кровли домов пала ночь. Все исполнилось тихого, задумчивого, сладостного очарования. Призрачные тени реют при лунном сиянии. Это нимфы водят хороводы и поют песни любви вокруг усыпальницы доброго святого Валерия.
Сен-Валери-на-Сомме, 14 августа
Мы находимся в суровой стране. Море тут желтоватое, — очень редко оно голубеет вдали, на горизонте. У взморья темно-зеленой полосой простирается лес. Серое, пасмурное небо грозит дождем. Ручьи не смеются, ветер не ласкает. Бухта Сен-Валери, куда вместе с норвежскими шхунами, груженными строительным лесом и железной рудой, врывается северный ветер, не нравится иностранцам. Потому-то мы и любим ее. Здесь — море и моряки; наблюдаешь жизнь маленького торгового порта, рыбачьей бухты. Живешь среди рыбаков. Это достойные люди, простые сердца. Они населяют Грошовый квартал. «Название подходящее», — говорят местные жители, ибо те, кто живет в этом квартале, зарабатывают гроши. Он тянется позади улицы Ферте по довольно крутому откосу. Маленькие домики, которые были бы похожи на игрушечные, не будь они такими дряхлыми, жмутся друг к другу, словно боятся, что их сдует ветром. Из всех дверей высовываются детские измазанные мордашки, а вон на солнышке старик чинит невод, а тут, у окна, украшенного горшком герани, шьет женщина. Мне говорили, что этим людям в настоящее время очень тяжело живется.
Иностранные рыболовы, обильно снабжающие наши рынки рыбой, разорили их. У этих простодушных людей нет иного орудия борьбы, кроме лодок и сетей. Это большие дети, им хорошо известны рыбьи уловки, но они понятия не имеют об уловках хитрых людей. При встречах с ними чувствуешь к ним симпатию и дружбу. Как время точит камень, так их подтачивает жизнь, не затрагивая их сердец. Даже старость не превращает их в скупцов. Они помогают друг другу. Это единственные бедняки, которые друг друга не избегают. Под моим окном проходит местный старожил. Он напоминает стариков с полотен Коро. Он чистоплотен, в ухе у него блестит маленькая золотая серьга в виде кольца. Морская соль выдубила его кожу, тяжелые сети согнули ему спину.
Я гляжу на него, и невольно мне вспоминается эпитафия, которую греческая поэтесса[521] во времена Муз посвятила бедному лесбосскому рыбаку. В эпитафии всего лишь несколько слов. Простой и строгий стиль стиха свидетельствует о его древнем происхождении. Перевожу буквально это надгробное двустишие:
«Здесь погребен рыбак Пелагон. На его надгробии вырезали невод и сеть — памятники суровой жизни».
Так, сострадая, поет греческая Муза, но не плачет, ибо слезы осквернили бы ее красоту.
Старый Пелагон забрасывал сети у подножия белых скал. В часы своих тяжких трудов он видел морского старца, грозного Протея[522], встававшего, словно облако, из глуби морской. Быть может, он слышал пение сирен в лазоревом море. На опасных песчаных отмелях Ламанша нет никаких сирен. Седовласый Протей не бродит у подножия скалистых круч. Но старый морской волк, что проходит сейчас по набережной, видел, как души утопленников, словно чайки, метались над гребнями морских валов, он видел на земле священные огни, и, быть может, богоматерь, спасительница погибающих, вставала для него из морских туманов. Увы! Сквозь какие бури проглядывало для него голубое небо! Ныне, как и во времена Сафо, барка, челн и невод — памятники суровой жизни.
Вчера в бухте утонул одиннадцатилетний мальчик. Он был родом из Кайе. Кайе — рыбачья гавань, расположенная в трех лье от Сен-Валери. Гавань не защищена от западных и северо-западных ветров, некогда приносивших с собой на улицы такое количество песку, что в нем увязали по колено. Теперь галька, намытая морем, образует естественную плотину и защищает от ветра и гавань и часть полей. Как раз на этом месте, чуть не умер от холода и усталости добрый святой Валерий, когда постучался у дверей дома, где грелся у огня священник в обществе судьи. Жизнь тут трудна для всех. Несчастное семейство, о котором я рассказываю, жестоко мучилось. Все дети в этой семье умирали. Один утонул в бочке. Когда мать и отец переселились в Сен-Валери, из девяти детей в живых осталось только двое, — тот, который утонул вчера, да старший, призванный в солдаты. Горе ожесточило мать, будущее представлялось ей в таком же мрачном свете, как и прошлое, и она ежедневно с ужасом повторяла: «Я знаю, что и младший утонет, как все».
Такие несчастные случаи в Валери происходят редко. Бухта и песчаные отмели похищают лишь две-три жертвы в год. А между тем несчастная мать уже заранее ежедневно оплакивала сына.
Он отправился в пятницу, в четыре часа, один, на лодке, хотя родители ему это строго запретили. Он утонул среди бела дня, при ярком солнце, в спокойном море, в виду родного дома, где его ждала мать. Прилив выбросил на берег его лодку и одежду. Восемь часов подряд родители не сводили глаз с этого спокойного моря, которое поглотило труп их сына. Наконец ночью, когда начался отлив, пятнадцать — двадцать рыбаков, взяв фонари, отправились на песчаные отмели искать утопленника. Они нашли его труп в яме. Крабы успели отъесть у него часть уха и принялись уже за щеку.
Сегодня в старую церковь, возвышающуюся над морем, принесли маленький гроб, покрытый белой погребальной пеленой. Во главе процессии шли женщины из Кайе с родителями погибшего ребенка. Все были в черных шубках — обычный род одежды, которую носили в прежние времена женщины Фландрии и Пикардии. Медленно поднимаясь по крутой дороге к церкви, они похожи были на жен-мироносиц у подножия распятия, какими их писали фламандские мастера, заимствуя модели из окружающего мира. Длинные шубки переходили по наследству от матери к дочери, и, может быть, некоторые более чем сотню лет были свидетельницами смиренных горестей. Молодые женщины презирают ныне это традиционное одеяние. В торжественные дни они облачаются в модные парижские шляпы и, воображая себя «нарядными», надевают накидки, обшитые стеклярусом, поверх которых скрещивают свои красные руки.
Процессия вошла под древний крытый портик церкви, и началось отпевание. Позади гроба под белым погребальным покровом, шнуры которого несли четыре маленьких мальчика в одеждах из грубого черного сукна, стояли мать и отец, держась за руки. Отец не плакал, но заметно было, что слезы долго струились по его дряблым бурым щекам. Он всхлипывал, запрокинув назад голову, и от рыданий тряслась его борода ошейником и высокие плечи. Он кривил рот в какую-то деланую усмешку, на которую страшно было смотреть, и качался, словно пьяный, присоединяя к пению псалмов и молитвам священника заунывную, равномерную, тихую жалобу, похожую на колыбельную песню. Это было тихое стенание; казалось, однако, вся церковь им полнилась. Но она, мать! Выпрямившись, неподвижная, безмолвная, в своей старинной шубке, она стояла недвижно и, надвинув капюшон до самого подбородка, хоронила под ним свою скорбь. Когда прочли отпущение грехов, процессия направилась в Кайе. Родители пожелали, чтобы их ребенок покоился на кладбище, овеваемом морским ветром. Быть может, они надеялись, что эта земля, столь суровая для живых, будет легкой для усопшего? Быть может, они хранили в сердцах нежную любовь к этому суровому краю, где они родились и которому отдавали ныне то, что им было дороже всего? Вот немногочисленная толпа медленно удаляется по каменистой дороге. Никогда в жизни не приходилось мне видеть зрелища более величественного. Ибо нет ничего на свете более высокого, чем скорбь. В городах она прячется. Сегодня она предстала передо мной при ярком солнце на холме, похожем на Голгофу.
В воскресенье улицы разукрашены флагами. Сегодня городской праздник. Большие желтые афиши оповещают о том, что по этому случаю состоятся парусные гонки под покровительством Французского яхт-клуба. Состязаться будут лодки Кайе и Сен-Валери. На набережной воздвигнуты трибуны, украшенные гербами состязающихся городов. Горожане, одетые в черное, собираются вокруг членов городского управления. В половине двенадцатого пушечный выстрел возвещает, что празднество началось. В неподвижном воздухе над пушкой высоко взвивается белое облако дыма. Опасаются, что ветер слаб и не натянет парусов. Но мало-помалу, пока яхты и парусные лодки маневрируют, подымается свежий северо-западный ветер и, рыбачьи лодки Сен-Валери и Кротуа выстраиваются в ряд при попутном ветре. Это ходкие суда. Они ежедневно выходят в море, когда начинается отлив, и тянут сети по отмелям, которые постепенно возникают вдали по мере того, как спадает вода, образуя желтые островки в зеленом или голубом море. Они вылавливают серых креветок, которые в изобилии водятся на отмелях между Удрельской косой и Сен-Кантенскими дюнами. Маленькие лодки вносят оживление в картину бухты. Они — ее жизнь, а следовательно — радость. Прилив доставляет их обратно. Приятно следить издали за серыми, белыми и черными парусами, когда они все вместе плывут к берегу, словно стая птиц.
16—18 августа
Сегодня раздавали награды школьницам. При выходе налетает шквал и ливень. Бумажные лавровые и дубовые венки, обрамлявшие лбы и щеки награжденных, линяют, и от потеков краски девочки становятся мертвенно-бледными; при поцелуях эта бледность передается и лицам растроганных родителей. Все делаются зелеными.
Для девочек в Сен-Валери имеются две монастырские школы, которыми руководят сестры Общины провидения. Община августинок держит в городе пансион, где преподавание закона божия обязательно, но светских школ для девочек в городе нет.
Для мальчиков нет ни одного учебного заведения при монастырях. Две монастырские школы недавно были превращены в светские. После этого монахи не открывали частных школ. Они удалились из города, обманув таким образом тайные надежды муниципалитета, полагавшего, что, пригласив светского преподавателя, он тем самым породит плодотворное соревнование между казенной школой и частной.
Обязательное обучение успеха здесь не имело. Нищета — могучая сила. Как может закон с ней бороться? Как помешать ребятишкам, умирающим с голоду, воровать картошку, вместо того чтобы учиться. Я присутствовал в сенате, когда обсуждали закон об обязательном обучении. Обсуждение было торжественным. Был принят закон имевший большое значение. Но я вижу, как трудно подчинить этому закону маленьких бедняков, у которых нет даже штанишек, чтобы посещать школу.
Благородное стремление дать всем детям образование не чуждо было и нашим предкам. Доказательство этому я нашел в собрании предписаний и указов города Сен-Валери, хранящихся в городской ратуше, который г-н Ванье, городской советник, дал мне прочесть. Здесь имеется письмо кардинала Бурбонского, наместника Вимэ, написанное им около 1536 года своим «дорогим, горячо любимым мэру и старшинам города Сен-Валери но поводу городских школяров». Он напоминает о своем «праве распоряжаться народным просвещением» и требует, чтобы в учителя брали людей порядочных и по-настоящему грамотных. Других пожеланий у него нет. Если лицо, выдвигаемое старшинами, отвечает этому требованию, то наместник готов его утвердить. «Ибо, — говорит он, — я хочу, чтобы ваши дети были образованными, в этом заключается ваше благо».
Документы, лежащие у меня перед глазами, охватывают первую половину XVI века; тут есть весьма любопытный указ относительно греха «прелюбодеяния», относящийся приблизительно к 1533 году. Приведу его полностью, но прежде напомню, что город Сен-Валери в XVI веке был важным портом для каботажных судов. Пусть город множество раз опустошали военные набеги, но бухта продолжала оставаться источником его благосостояния. В ту эпоху, когда мореплавание, сильно возросшее благодаря открытию компаса, и торговля привлекали богатство в страну, у моря поистине было золотое дно. Жители Сен-Валери, разбогатев, спешили наслаждаться жизнью, ввели у себя роскошь, неведомую тем храбрецам, которые некогда защищали крепость от нашествия англичан. Женщины рядились в дорогие ткани, в меха, вывезенные из Индии или из Америки, в великолепные шелка и шерсть. Их любили, и они дозволяли любить себя. В роскошных одеждах они казались еще красивее. Нравы стали более вольными. В городе, ныне таком простом, суровом, в ту пору царила распущенность. Поэтому городское управление издало в 1533 году указ, который читатель, думается мне, поймет без труда, хотя он написан на старофранцузском языке да еще с легкой пикардийской окраской.
Воспроизвожу буквально текст, любезно предоставленный мне.
«Принимая во внимание, что как мирские, так и церковные законы и заповеди господа нашего Иисуса Христа в сем приходе повседневно поношению подвергаются через многие преступления и величайшие пороки, кои непрестанно повторяются, и прежде всего через явный всенародный позор прелюбодеяния, совершаемого мужчинами и женщинами, оскверняющими таинство брака. За каковые преступления и гнусные грехи, навлекающие на нас гнев божий, было решено и постановлено его преосвященством официалом и бальи нашего города провозгласить в храмах и в местах общественных, что женщинам и мужчинам, в браке состоящим, впредь запрещается прелюбодействовать, а иначе будут они подвешены к качалу, укрепленному над водами нашего города и окунаемы будут в них с головой. Постановляется, что всякий, кто впервые будет пойман с поличным в прелюбодеянии или застигнут в месте, подходящем для совершения сего греха, трижды будет окунаем в воду, а помимо сего взята с них будет пеня в шестьдесят парижских су, каковые деньги пойдут на Христову милостыню беднякам, а также на вознаграждение доносителям, уличившим прелюбодеев.
А ежели вторично поймают их, то будут рукою палача биты плетьми на перекрестках улиц и изгнаны вон из прихода и из города».
Не мешает пояснить, что представляло собою «качало», к которому подвешивали злосчастные жертвы любовных страстей. На пикардийском наречии «качало» — это коромысло, рычаг, приводящий в движение поршень водоотливного насоса на судах, а городские воды — это обширные пруды. Городское управление Сен-Валери наказывало купаньем в них за те самые преступления, за которые, по свидетельству Данте, в аду карают дыханием бури[523]. Один из прудов, в который окунали преступников, предававшихся плотскому греху, до сих пор можно видеть близ ворот Вильгельма Завоевателя. Воду из него спустили, но городское управление решило его сохранить как исторический памятник.
Пятнадцатого августа в городе ярмарка; на маленькой площади Лоцманов расположились всякие балаганы. Ясновидящая и гадалка на картах выпрягли лошадей из своего домика на колесах, где у них сверкает белизной чистенькая постель. Появилась женщина-людоедка. На полотне, натянутом по стене балагана, изображено, как она пожирает белого человека. В действительности «женщина-людоедка» — скромнейшая особа, вымазанная ваксой, как кожаный сапог, и хранящая под этим слоем черной мази наивно-простодушный вид; у нее кроткие голубые глаза, и вся она — воплощенный образ беспомощности, смиренного страдания, покорности. И такому существу приходится изображать женщину-людоедку! Вот вам яркий пример царящего на земле хаоса.
На площади Лоцманов весь вечер вертится карусель, завывает шарманка, примешивая к шуму набегающих волн мотивы кабацких плясовых. Деревянные лошадки, осаждаемые нарядными девицами из Парижа и оборванными ребятишками рыбаков, кружатся без остановки.
Я долго раздумывал о каруселях. Я хотел основательно изучить их. Но меня устрашила широта темы. Прежде всего передо мной встало следующее препятствие. Если попытаться определить болевые ощущения человеческого организма, то это может удаться. Например, мы говорим: боль острая, тупая, боль пронизывающая, молниеносная, — и нас понимают. Но очень трудно передать словами приятные ощущения, даже такие, которые возникают при правильной работе организма, даже самые обычные, — они не поддаются хотя бы приблизительному определению. Сказать, что они ярки или приятны, это значит ничего не сказать. Шаблонные определения наслаждения или восторга весьма зыбки. Ощущение физического удовольствия воспринимается менее отчетливо, чем боль. Поэтому-то я и не надеюсь выразить в словах ту радость, которую доставляет карусель. Несомненно она очень велика, Карусель крутится, оттуда доносятся восторженные крики, перекрывающие вой шарманки и рев тромбонов. После того как карусель сделает несколько кругов, видишь глаза, затуманенные негой, влажные уста, запрокинутые в истоме головы. У молодых женщин выражения лиц, словно у античных статуй, изображающих вакханок. Дети, не столь искушенные в страстях, важно сидят на лошадках, вытянувшись, с пылающими щечками, отдавшись власти неведомого бога. Я не говорю о тех, кому становится дурно, кого тошнит. Бывают и такие. Но это исключение. Я имею в виду большинство. Взрослые и дети испытывают нечто упоительное.
На каруселях, на русских горах, на качелях их встряхивает, качает, подымает; все их существо возбуждено, кровь быстрее струится по жилам, они живут полной жизнью. Они радуются той легкости, которую ощущают во всем теле, они вздыхают, замирают; невидимые ласки вызывают у них трепет, они счастливы.
Карусель будет жить до тех пор, пока живет человечество, ибо она отвечает глубокому инстинкту детства, юности, жажде движения, потребности в головокружительной быстроте, желанию быть унесенным, восхищенным, убаюканным, которое переживаешь в детстве, в пору девственности души. Позже мы боимся этих кружащихся машин, мы избегаем малейшего толчка, который может пробудить уснувшие страдания. Но в божественную пору каруселей всякий толчок пробуждает сладостное чувство.
Сен-Валери, 22 августа
Сегодня из своего окна я наблюдал скромное торжество освящения лодки. Это был небольшой рыбачий баркас. На его мачте развевался французский флаг. На палубе стоял столик, покрытый белой скатертью. На нем — пирог, бутылка вина и стаканы. Священник, предшествуемый причетником, взошел на судно, чтобы благословить его. За ним следовали певчий и мальчик из хора, хозяин лодки я его жена. Супруги в праздничных бедных одеждах держались застенчиво и с наивной важностью. Оба уже не молоды. Загорелые, загрубевшие от работы, они суровой простотой черт напоминали статуи древних времен. Священник взял с подноса, который ему подал клирошанин, горсть соли и зерен пшеницы и рассыпал их по баркасу как символ силы и изобилия. Потом он омочил в святой воде ветвь букса, прообраз той ветви, которую голубь принес в Ноев ковчег, и, окропив судно, окрестил его и благословил.
Певчий спел «Те Deum»[524], сто шестой псалом и «Ave maris stella»[525]. Когда он кончил, жена рыбака разрезала пирог, который благословили одновременно с судном. Она налила в стаканы вина, предложила закусить и выпить священнику и всем присутствующим. Существует обычай — на крестинах большого судна разбивать о форштевень полную бутылку вина. Этот обычай не соблюдается хозяевами-бедняками, владельцами скромных рыбачьих лодок. Они говорят: вино лучше выпить, чем зря выливать. Я спросил у одного старого моряка, для чего разбивают бутылку. Он, смеясь, ответил, что нос корабля быстрее скользит по воде, если его оросить вином. И серьезно добавил:
— Если бутылка не разбивается — это плохая примета. Лет десять тому назад я был на крестинах большого судна. Бутылка скользнула по форштевню — и не разбилась. При первом же плавании судно затонуло.
Почему разбивают бутылку прежде, чем пустить судно в море? Почему? Потому же, почему Поликрат бросил перстень в море[526], чтобы умилостивить злые силы. Мы говорим злым силам: «Я приношу вам в дар вот это. Будьте же милостивы! Примите вино мое и не берите у меня больше ничего». Поэтому евреи, соблюдая старинные обычаи, разбивают на свадьбе чашку. Разбитая бутылка — уловка ребенка и дикаря, хитрость слабого существа, желающего провести судьбу.
5, 23 августа.
С высоты холма Сен-Лоран виден город Э, мирно покоящийся в глубине долины. Как хорош этот город с остроконечными кровлями домов, с извилистыми улицами и деревянной колокольней изящной церкви! Мы с восхищением глядим на него. Когда смотришь на какой-нибудь красивый город с птичьего полета, то это приятное, пленительное зрелище волнует душу. Вместе с дымом, вьющимся над кровлями, стремится ввысь и человеческая мысль. Возникают веселые мысли, грустные, они сливаются, наполняя душу сладкой печалью, более сладостной, чем веселье. Ты думаешь: «Вот стоят на солнце домики, такие маленькие, что, кажется, их всех можно накрыть ладонью, но они веками укрывали под своей сенью любовь и ненависть, радость и печаль. Они хранят страшные тайны, они многое знают о жизни и смерти. Они рассказали бы нам столько сокровенного, что мы заплакали бы или засмеялись, если б камни могли говорить». Но камни беседуют только с теми, кто умеет им внимать. Городок говорит путешественникам, глядящим на него с высокого холма:
«Смотрите на меня, — я стар, но я прекрасен; мои набожные дети вышили на моей одежде красивые узоры — башни, колокольни, кружевные коньки островерхих крыш, каланчи. Я, как хорошая мать, учу их труду, учу мирным ремеслам. Всех детей моих я вырастил на своих руках. А завершив свою задачу на земле, они уходят один за другим и покоятся у моего подножия, под травами, на которых пасутся стада овец. Они умирают, а я продолжаю жить и храню их воспоминания. Я — их память! Они всем обязаны мне, ибо человек только тогда человек, когда он ничего не забывает. Мой плащ был разорван, а тело мое истерзано войнами. Я бывал ранен тяжело, и, как говорили, даже смертельно ранен, но выжил, ибо никогда не терял надежды. Научитесь у меня хранить священную надежду, она спасает отечество. Думайте обо мне, вырываясь из тесного круга себялюбивых забот. Взгляните вон на тот фонтан, на эту больницу, на этот рынок, которые отцы завещали детям. Трудитесь для вашего потомства, как ваши предки трудились для вас. Каждый мой камень приносит вам благо и учит вас исполнять ваш долг. Взгляните на мой собор, на мою ратушу, на мой старинный „дом призрения“ и уважайте прошлое. Но думайте и о будущем, и тогда ваши сыновья тоже будут знать, какие украшения прибавили вы к моей каменной одежде».
Пока я слушаю голос города, наши лошади спускаются по склону холма, и мы проезжаем по главной улице города безлюдной и тихой. Кажется, будто он уже целый век спит мертвым сном. В гостинице, где мы остановились, потух огонь в очаге. Просьба дать нам позавтракать повергла несчастного трактирщика в большое смятение.
Что ж, город Э мало чем может привлечь к себе путешественника, особенно теперь, когда замок и парк закрыты. Уже никто не гуляет под буками, посаженными некогда для герцогов Гизов. Парк, прежде открытый для публики по воскресеньям и четвергам, теперь постоянно закрыт. Замок больше не посещают. Приходится довольствоваться осмотром фасада сквозь ограду двора. Фасад, сложенный из кирпича и камня, производит величественное впечатление только благодаря высоте крыши. Стиль у него безвкусный, тяжелый и грубый. Таким его замыслил Фонтэн[527], реставрировавший замок в 1821 году для герцога Орлеанского.
Обычно Фонтэн не очень-то уважал творения наших старых зодчих. Он решил, что фасад замка Э «сделан без всякой системы», и, как он сам выразился, решил его «исправить». И Фонтэн так хорошо исправил его, что теперь замок напоминает казармы.
Наши вкусы сильно изменились со времен Персье и Фонтэна. Ни один замок не кажется нам теперь достаточно древним, но архитекторы, как и в былые времена, не упускают случая применять свое пагубное искусство. Когда-то они разрушали, чтобы омолодить, а ныне разрушают, чтобы состарить. Памятник восстанавливают таким, каким он был при возникновении. Больше того: строению придают тот вид, какой он должен был бы иметь.
Возможно, что Виоле ле Дюк и его последователи за короткий срок своей системой и искусством разрушили больше памятников старины, чем их уничтожили государи и народы за несколько столетий — из ненависти и презрения к прошлому, казавшемуся им варварским. Возможно, что наши средневековые церкви больше пострадают от бесцеремонного усердия новых архитекторов, чем от длительного небрежения, дозволявшего им спокойно разрушаться. Виоле ле Дюк ставил себе задачу, поистине превышающую человеческие силы: восстановить какой-нибудь замок или собор согласно их первоначальному плану, хотя этот план на протяжении веков подвергался изменениям, а чаще всего вовсе не осуществлялся. Жестокие намерения! В жертву им Виоле ле Дюк готов был принести даже такие величественные и прелестные здания, как Собор Парижской богоматери, превратив этот собор, полный жизни, в нечто абстрактное. Такая цель враждебна любви, природе, жизни. Памятник старины редко бывает однороден. Он жил, а поскольку жил, — видоизменялся. Ибо изменение первичных форм — непременное условие жизни. Каждое столетие отмечает памятник своей печатью. Это книга, в которую каждое поколение вписывает свою страницу. Ни одной из них не следует извращать. Они написаны различными почерками, потому что писали их разные руки. Безграмотно и безвкусно придавать им всем общий стиль. Это свидетели разнообразные, но все одинаково правдивые.
В искусстве значительно больше видов гармонии, чем их допускает философия архитекторов-реставраторов. У бокового фасада храма, между высокими сводами двух древних стрельчатых арок, — портик эпохи Возрождения, в котором возносятся стройные колонны Витрувия[528], а на них — хрупкие ангелы в легких туниках. Это прекрасное сочетание. Под карнизом времен Людовика Святого с орнаментом из резных земляничных и крапивных листьев видна маленькая дверка эпохи Людовика XV с легкомысленными завитками и ракушками, постепенно, с годами, ставшими более строгими. В этом тоже много гармонии. Через великолепный неф XIV столетия переброшены легкие хоры эпохи Валуа: в одном из боковых приделов церкви пестрый дождь драгоценных самоцветов льется из старинного витража на алтарь эпохи упадка с витыми колонками красного мрамора, по которым вьются виноградные золотые лозы. Сколько в этом гармонии! Что может быть красивей этих гробниц всех стилей, всех эпох! Как много тут разных образов и символов! Гробницы же эти стоят под сводами, унаследовавшими от геометрии совершенную чистоту линий.
Помню, что в Бордо я видел у одной из боковых стен Собора богоматери контрфорс, который по массивности и пропорциям немногим отличается от окружающих его более древних контрфорсов. Но по своему стилю и орнаменту он очень своеобразен. Он лишен заостренной кверху крыши, лишен украшений, узких и высоких глухих арок, которые делают соседние контрфорсы более плоскими и придают им легкость. Этот контрфорс украшен двумя колоннами в античном духе, медальонами и вазами. Таким задумал его один из современников Пьера Шамбижа и Жана Гужона[529], руководивший работами по реставрации Собора, когда треснула одна из первых арок. Этот рабочий, не обладавший столь изысканным вкусом, как наши архитекторы, не пытался, как они, подражать старому, уже утраченному стилю. Он отнюдь не имел поползновения дать ученую подделку. Он следовал своему прирожденному дарованию и духу своего времени, то есть поступил очень умно. Он не был способен работать в стиле зодчих XIV века. Если бы он был более образованным, то сделал бы лишь бесцветную, ничтожную копию. По счастью, невежество вынудило его быть изобретательным. Он выстроил контрфорс в виде маленького здания-храма или усыпальницы, создав при этом настоящий шедевр, проникнутый духом французского Возрождения, и добавил таким образом к старому Собору новую очаровательную деталь, не разрушив целого. Этот неведомый каменщик был ближе к истине, чем Виоле ле Дюк и его школа. Надо удивляться, что до сей поры ни один ученый архитектор не разрушил этого контрфорса эпохи Возрождения и не заменил его контрфорсом XIV века.
Любовь к точному соблюдению правил не раз толкала наших архитекторов на варварские поступки. В том же самом городе Бордо я видел у ворот какого-то дома две фигурные капители колонн, служившие тумбами. Мне объяснили, что они доставлены из *** монастыря, откуда архитектор, который производил реставрацию этой обители, выбросил их, так как одна капитель относилась к одиннадцатому веку, а другая — к тринадцатому, что, по его мнению, было совершенно недопустимо, так как монастырь принадлежит к XII веку и его следовало восстановить в этом стиле. Поэтому архитектор заменил их капителями XII столетия — собственной работы. Мне не нравится, когда произведения XII века создаются в XIX веке. Это именуется подделкой, а всякая подделка отвратительна.
Ученики Виоле ле Дюка не довольствуются тем, что разрушают то, что не принадлежит к избранной ими эпохе. Они без всякого основания и повода заменяют старинные потемневшие камни новенькими, белыми. Копиями заменяют подлинники. Этого я тоже не прощаю. Я глубоко скорблю, когда вижу, как гибнет даже самый незаметный камень какого-либо старинного памятника. Пусть его обтесывал грубый и неискусный каменщик, но закончен он был самым великим ваятелем — временем. Оно работало не молотком и не резцом, — инструментами служили ему дождь, лунный свет, северный ветер. Время чудесно завершило работу зодчих. Трудно учесть его работу, но ценность ее неизмерима.
Дидрон[530], любивший памятники старины, незадолго до смерти написал в альбом друга следующий мудрый совет, которым, однако, все пренебрегают: «Памятники старины лучше укреплять, чем исправлять, и лучше уж исправлять их, чем реставрировать; лучше реставрировать их, чем приукрашать, и ни в коем случае не следует тут ничего добавлять, ничего убавлять».
Хорошо сказано! Если бы архитекторы ограничивались тем, что укрепляли старинные памятники, а не переделывали бы их, они заслужили бы благодарность всех, кому дорого наше прошлое и наши исторические памятники.
Ле Трепор, 23 августа
Какая очаровательная картина! Перед нами Мер и его белые скалы. Справа — луга, на которых пасутся коровы и овцы; налево — море, по нему скользят лодки, паруса которых подобраны фестонами. У наших ног — мол. Он усеян пестрой толпой купальщиц и купальщиков. Красные, белые, голубые береты, светлые платья, соломенные шляпы — все так и играет на солнце, так и блещет перед глазами. Вдруг раздаются громкие крики, в воздух взлетают шляпы. Это миноносец покидает порт, проплывает через шлюз и выходит в открытое море, направляясь в Булонь. Всего проходят три миноносца, и все три вызывают одинаковый энтузиазм. Люди кричат, машут шляпами, носовыми платками, зонтиками.
Миноносцы популярны, их несомненно любят за особо грозный их облик, — они отвечают кровожадным инстинктам, которые каждый буржуа бессознательно таит в своей чувствительной душе. На самом деле миноносцы не красивы. Они похожи на китов, но на таких, которых в природе нет, на китов, одетых в стальную броню и выбрасывающих черный дым вместо водяных фонтанов.
Когда-то Ренан, разглядывая миноносец, стоявший на якоре в водах Сены, около набережной д'Орсе, высказал пожелание, чтобы командование миноносцами поручили не морякам, а ученым и философам, которые, находясь на корабле, размышляли бы о вечных истинах в ожидании той минуты, когда придется взлететь на воздух. Такие необычайные люди могли бы примирить непримиримое. Эти солдаты-созерцатели своей жизнью отвечали бы требованиям идеала, а своей смертью — требованиям реальной действительности. Мысль, конечно, прекрасная, но, пожалуй, не так-то легко внушить ее морскому министру. Кроме того, боюсь, что сами философы не очень-то стремились бы попасть, подобно библейскому Ионе[531], во чрево этих бронированных китов.
IV. Льесская богоматерь[532]
Сен-Тома, 11 августа
В этом уголке Ланэ нет широких горизонтов. Но земля здесь холмистая, покрытая купами дерев. Узкая белая дорога, которая проходит мимо моей двери, благоухает мятой; она углубляется в сырые луга и бежит полями, покрытыми клевером, овсом, свекловицей, туда, к лесу, где Красная Шапочка еще собирает орешки. Приятно ежедневно по утрам идти этой узкой извилистой дорогой тому, кто испытывает радость и гордость при мысли, что во время прогулки он посетит в ее скромном величии царицу лугов и вдохнет аромат душистой жимолости, вьющейся по кустарникам.
Вчера я нашел на этой дороге маленького неподвижного ежика, свернувшегося клубочком. Он был ранен. Я взял его в карман, отнес домой, дал чуточку молока, и он ожил. Он высунул рыльце, словно вырезанное из черного дерева, открыл глазки, и я возомнил себя милосердным самаритянином[533]. Сегодня мой приятель уже бегал по саду, обнюхивал влажную землю, и все колючки его спинки так и сверкали. Вот найдешь ежика, или сорвешь кустик богородициной травки на лесной опушке, или прочтешь старинную эпитафию на сельском кладбище, — и весь день отшельника заполнен.
У нас здесь есть лагерь Цезаря и небольшая гора, которую однажды Гаргантюа уронил из своей корзины. Но самое очаровательное — это огромный бук с совершенно круглой кроной; если верить крестьянам, на нем созревают очень вкусные орехи. Бук Домреми[534], который посещали феи и на который крестьянские девушки вешали гирлянды и венки, наверно, был не лучше, да и почитали его, должно быть, не больше. Жаль, что миновали те времена, когда люди поклонялись деревьям и источникам. Я бы тогда привязывал к ветвям нашего прекрасного бука шерстяными тесемками терракотовые статуэтки и, может быть, прикрепил бы к стволу дощечку с эпиграмматической надписью в стихах, подражающих Авзонию[535]. Этот знаменитый в краю бук высится на холме между Сен-Тома и Сент-Эрмом, где стоит такая бедная и такая очаровательная старинная церковь с маленькой изящной звонницей, сельской кровлей, с крытыми сенями времен Возрождения, которые кропит дождь, и с флюгером, на котором тонкая резьба изображает святого Антония и сопутствующего ему кабана[536]. Внутри церкви в небольшом и голом нефе, на романской капители, вырезана птица, клюющая виноградную гроздь. Эта капитель оставалась единственной свидетельницей тех дней, когда церковь Сент-Эрма в белом своем одеянии господствовала над верующими. От XI до XV века церкви Суассона, Реймса и Лана процветали в христианской Галлии, и если любишь старину, то Лан очаровывает памятниками прошлого. Степи, покрытые мхом и дикими левкоями, говорят. На расстоянии одного лье от Лана, в сторону Суассона, расположен Корбени, где короли Франции, возвращаясь с коронования, прикасались к золотушным. В трех лье по направлению к северу, в Пикардии, находится храм Льесской богоматери; в старой Франции туда стекались многочисленные паломники.
Бельфоре в первом томе своей «Космографии», опубликованной в 1575 году, говорит:
«Неподалеку от Лана находится Лианс, он же Льес, место прославленное, ибо в нем обретается храм божьей матери, пресвятой девы Марии; сюда в старину ходили на поклонение наши короли, и господь по неизреченному милосердию своему и предстательству возлюбленной матери своей являл тут чудеса».
Из Сен-Тома в Льес ведет меловая дорога, пересекающая каменистую равнину, усеянную старыми ветряными мельницами с поломанными крыльями и кое-где перерезанную березовыми перелесками; ветер клонит низкорослый овес. Указывая кнутовищем на однообразный и унылый горизонт, кучер рассказывает мне о мельнике, который повесился на своей мельнице, о сборщике податей, которого убили на большой дороге, а тем временем перед нами сквозь густую завесу дерев возникает замок Марше, построенный во времена Карла IX кардиналом Лотарингским. Проехав около двух километров, мы справа видим три вяза, осеняющие обнесенную решеткой часовню Трех рыцарей; и тотчас же стук колес нашей двуколки разносится по пустынной деревенской улице с низкими домами и высокими островерхими крышами. Мы подъезжаем к храму Льесской богоматери — месту, которое когда-то привлекало множество паломников, а ныне пришло в упадок. Лурдская богоматерь нанесла большой ущерб богоматери Льесской, так же как и всем богоматерям древней Франции. Прекрасная богоматерь Лурда в голубом покрывале привлекает в город, к своему источнику, всех богомольцев, всюду только и разговоров что о ней. Одна набожная дама, скорбевшая о старых святых местах, сказала мне: «Конечно, Лурдская богоматерь услужлива, любезна, сведуща, усердна, — скажу даже — угодлива. Она прямо на части разрывается, чтобы услужить паломникам. Она и больных исцеляет, и дает советы молодым людям, как выдержать экзамены, и заключает браки, и торгует шоколадом. Между нами говоря, я нахожу, что она немного интриганка».
Льесская богоматерь не умеет так ловко устраивать свои дела. Она забыта: это сразу чувствуется, как только въезжаешь в сонный городок. Мне сказали, будто он вскоре пробудится, в следующем месяце сюда хлынет поток богомольцев; но я прекрасно вижу, что эта богоматерь, некогда привлекавшая паломников и паломниц королевской крови, ныне даже в престольный праздник привлечет лишь горсточку набожных дам из Реймса, Лана и Сен-Кантена.
Ее время миновало. Все проходит, пройдут и для Лурдской богоматери счастливые дни. Пусть эта мысль утешает Льесскую богоматерь, которая понимает, конечно, что ее время ушло безвозвратно. Густая пыль оседает на соседние с церковью лавочки, где под тусклыми стеклами витрин выставлены медали, образки, четки, ладанки. В XV веке под навесами этих домиков продавали прекрасные свинцовые и оловянные образки с ажурными краями, которые благочестивые люди пришивали к широкополым шляпам. Прикреплял их и Людовик XI, и среди образков, пришитых к его колпаку, был, конечно, и образок Льесской богоматери, которую этот набожный король особо чтил.
Больше всего сейчас в этих лавочках удивляют бутылочки с запаянными пробками, в которых плавают в воде, привязанные стеклянной ниточкой к полым шарам, принадлежности страстей господних: крест, гвозди, губка, пропитанная уксусом, копье, трость, изображавшая скипетр, терновый венец, плат с нерукотворным образом Спасителя, затмившееся солнце и луна, всплывшая, когда Христос испустил дух.
Эти маленькие вещички из цветного стекла наивны, словно игрушки. Смешно себе представить, что есть такие непритязательные души, которые любуются этими варварскими чудесами. Церковь, где уцелели некоторые детали XV века, мала. Портал увенчан полукруглым окном и высокой кровлей со щипцом, по сторонам которого поднимаются две колоколенки. Ансамбль этот довольно красив, а взгляд любителя старины тут могут порадовать два шлема с подбородниками, высеченные из камня на контрфорсах, поддерживающих окно. Они выразительны, словно живые лица, у них маленькие, заостренные черепа, носы, словно птичьи клювы, насмешливые губы и огромные шеи. Но все это пустяки, это тешит нас, ибо мы на отдыхе.
При входе в церковь вы прежде всего обращаете внимание на прекрасную галерею эпохи Возрождения, перекинувшую над нефом изящные арки белого и черного мрамора. На балюстраде этой галереи стоят четыре раскрашенные статуи. Они изваяны в дурном вкусе эпохи Реставрации. Это три рыцаря с пышными султанами на шлемах и красавица девушка, наряженная турчанкой. Все четверо нелепы: кажется, будто они играют «Заиру» перед герцогиней Ангулемской[537]. Сейчас я объясню вам, кто эти три рыцаря и молодая мусульманка, пока же довольствуйтесь кратким сообщением, что они привезли с собой из Египта чудотворное изображение, которому с той поры поклоняются в церкви, где мы находимся.
Чтобы взглянуть на маленькую статую Льесской богоматери, находящуюся на хорах над алтарем, надо пройти под галереей. Богоматерь — черного цвета. Мне всегда очень правились и всегда интересовали богоматери черного цвета; все они очень древнего происхождения. Их мантии похожи на широкие круглые абажуры. Это впечатление получается оттого, что фигура дана в сидячем положении, а статуэтку обрядили так, словно она стоит, — в этом кроется какое-то трогательное презрение к формам человеческого тела. У греков тоже были черные идолы, такие же как и у нас, бесформенные и чудесные деревянные статуи. Греки относили их происхождение ко временам Дедала[538] и поклонялись этим грубым потемневшим от времени изображениям. Они тоже окутывали их драгоценными тканями. Культ и тут и там имеет общие черты. Если бы старую крестьянку, которая сейчас бормочет молитвы, низко опустив свой черный шерстяной капюшон, внезапно перенесли в Пессинунт, в античный храм, восстановленный и вновь посвященный древним культам, она, нисколько не удивившись, закончила бы у подножия «Милостивой богини» молитву, начатую у подножия статуи богоматери. Следует сказать, что подлинная черная Льесская богородица сгорела в 1793 году. Статуя, которой ее заменили, по-моему, недостаточно черна и недостаточно стара. Говорят, будто кусочек прежней статуи был спасен из огня и добавлен к новой, это несколько утешает богомольцев, ибо они почитают эту щепочку черного дерева больше, чем Ноев ковчег. Но скажите, кто вернет маленького идола, обряженного в абажур, тем, кто вместе с епископом Синезием[539] полагает, что все древности достойны почитания?
В глубине церкви, налево от алтаря, воздвигнутого во времена Людовика XIII, находится сильно оскудевшая сокровищница Льесской богоматери: сердечки из позолоченного серебра, часы с цепочками, большие круглые часы, так называемые «луковицы», стенные часы с разрисованным циферблатом, палки и костыли, несколько крестов Почетного легиона, несколько кирас с офицерских мундиров, две пары эполет.
Я с умилением обнаружил в углу часовни одну из тех запаянных бутылочек, о которых мы говорили выше, — тех самых, в которых плавают стеклянные эмблемы. Вероятно, какая-нибудь старушка, принесшая этот дар черной богоматери, сказала: «Это для твоего малютки, пресвятая владычица». Действительно, на коленях Льесской богоматери стоит, растопырив ручки, младенец Христос. Но тщетно будем мы искать в этой убогой сокровищнице, где паук плетет паутину, золотое сердце, которое пожертвовала настоятельница Жуарского аббатства, серебряные города, принесенные в дар жителями Буржа, Реймса, Мезьера, Амьена, Лана, Сен-Кантена; судно, которое пожертвовал муниципалитет города Дьеппа, серебряную руку капитана Аль, корабль Генриетты Французской, впоследствии королевы английской, и отлитую из золота грудь польской королевы. Все эти драгоценные дары исчезли. В 1690 году Людовик XIV приказал расплавить и отправить на Монетный двор все, что оставалось от сокровищ Льесской богоматери. Необходимо было спасать отечество. В 1792 году снова нужно было спасать отечество[540]. Однородные обстоятельства вызывают однородные действия.
Маленькая черная богоматерь Лана разбогатела главным образом благодаря исцелениям. Она изгоняла также нечистую силу из бесноватых. Рассказывают, будто одну женщину из Вервена по имени Николь, у которой были все признаки одержимости, привезли в Льес, и она сразу почувствовала облегчение. Но окончательное изгнание бесов последовало, как уверяет преуспевавший в XVII веке каноник Виллет, несколько позднее, при содействии епископа, на богослужении в Ланском соборе. Перед его преосвященством предстал Вельзевул и по секрету сказал ему: «Дева Мария лишила меня помощи двадцати шести моих слуг, изгнав их из тела этой женщины».
Богоматерь Льесская возвратила сиру Куси двух его потерявшихся детей. Снизойдя к мольбам грабителя, взывавшего к ней, когда ему накидывали на шею петлю, она пресвятыми своими руками, пестовавшими младенца Христа, поддерживала вора все трое суток, которые он висел на виселице. Но если не ошибаюсь, точно такое же чудо, воспетое в стихах труверами, приписывают Шартрской богоматери. Богоматерь Льесская устраивала заключенным побег из темниц и охотно препятствовала закону карать виновных. Я не порицаю ее, а хвалю, ибо закону предпочитаю милосердие. В продолжение пяти или шести веков ее осаждали верующие. Со всех концов королевства стекались паломники и, сложив молитвенно руки, упрашивали прекрасную богоматерь Льесскую не спать, пока они изложат свои горести и желания. Теперь она мирно дремлет в своем опустевшем храме. Не будем нарушать ее покоя, будем чтить в ее лице веру, надежду, милосердие множества душ, которые жили до нас на нашей родной земле, где живем теперь мы с вами.
Если ехать со стороны замка Марше, то справа от дороги, как мы уже упоминали, увидишь три вяза у часовни, обнесенной решеткой. Их называют «три рыцаря» в память трех сыновей г-жи д'Эпп, — тех, что привезли из Египта в Пикардию чудотворную статую, которой потом поклонялись в Лиансе, впоследствии превратившемся в Льес.
Вот история трех рыцарей д'Эпп и прекрасной Исмерии.
ИСТОРИЯ ТРЕХ РЫЦАРЕЙ Д'ЭПП И ПРЕКРАСНОЙ ИСМЕРИИ
В ту пору Фульк — граф Анжуйский, Турэнский и Майенский, король Иерусалимский — взял приступом Кесарию Филиппову, бывший старинный город Дана, расположенный на окраине его королевства. Он восстановил замок Вирсавии, находившийся на другой окраине королевства, и таким образом вновь возродил царство Давида и Соломона, которое, как гласит Священное писание, простиралось от Дана до Вирсавии.
Охрана замка Вирсавии поручена была рыцарям ордена святого Иоанна Иерусалимского, который лет за тридцать до того при Бодуэне I был преобразован на военный лад. Итак, в числе рыцарей-иоаннитов были три брата, принадлежавшие к прославленному в Пикардии знатному роду. Старшего звали рыцарь д'Эпп, второго — рыцарь де Марше, а младшего — рыцарь Белого Герба. Г-жа д'Эпп, их мать, владела обширными и прекрасными поместьями в земле Лан. Но все три брата стали крестоносцами и понесли в землю, освященную кровью Христовой, стяг рода д'Эпп, на котором блестел золотой распростерший крылья орел. Фульку Анжуйскому были известны их осторожность и мужество, и он вверил им оборону замка Вирсавии, расположенного в шестнадцати милях от Аскалона и непрерывно осаждаемого сарацинами.
Действительно, Аскалон, древний город филистимлян, находился под властью калифа египетского, который четыре раза в год морем или сушей отправлял туда оружие, продовольствие и свежие войска. Население города было многочисленно и состояло из военных. Каждый младенец мужского пола с самого рождения получал от калифа жалованье, полагающееся солдату в походе. Гарнизон города, состоящий из свирепых воинов, часто предпринимал вылазки.
Однажды, когда трое сыновей г-жи д'Эпп ехали верхом, несколько удалившись от замка, на них неожиданно напали сарацины и, несмотря на упорное сопротивление, взяли их в плен и отправили в Каир.
В то время в Каире находился калиф. Узнав, что три пленных христианина отличаются поразительной красотой, повелитель неверных полюбопытствовал взглянуть на них и приказал привести их в сад, где он наслаждался прохладой под сенью розовых кустов возле журчащих фонтанов. Сыновья г-жи д'Эпп превосходили ростом всех своих стражей в высоких тюрбанах и были широки в плечах. Калиф убедился, что ему сказали правду о их красоте. Желая удостовериться, что они столь же умны, сколь и хороши, он задал им несколько вопросов, на которые юноши отвечали так разумно и скромно, что он был очарован. Но он и виду не подал, что доволен ими, — напротив, отослал их с деланным презрением, приказал заковать их в цепи и бросить в мрачную темницу.
Путем жестокого обращения он хотел заставить их отречься от христианской веры и поклониться идолу Магоме, которому поклоняются все сарацины. Он заключил трех рыцарей в подземелье, над которым протекал Нил.
Затем через одного из своих визирей он велел передать им, что если они поклонятся идолу Магоме, то он подарит им дворец с садами, великолепное оружие, оседланных арабских коней и красавиц рабынь, искусных в игре на гитаре.
Иные путешественники утверждают, будто сарацины не воздвигают идолов по образу и подобию Магомы. Если это правда, то следует предположить, что калиф сулил рыцарям соблазнительные блага при условии следовать закону Магомы, что по существу ничего не меняет в правдивости рассказа.
Когда визирь передал рыцарям, что им обещает калиф и какие условия он ставит, то рыцарь д'Эпп представил себе сады, полные журчащих фонтанов, и вздохнул. Рыцарь де Марше подумал о прелестных рабынях и запечалился. Рыцарь Белого Герба представил себе арабских коней, дамасские клинки — и громкий боевой клич вырвался из его груди. Но все трое отвергли соблазны калифа.
Тщетно тюремщик, болтливый старик, рассказывал им прекрасные арабские притчи, восхвалявшие басурманскую веру, ничто не могло их соблазнить, — ни ловко придуманные сказки, ни пример какого-то нормандского барона, который стал поклоняться Магоме, жил в Смирне, ел шербеты, держал в гареме целую дюжину жен и сбывал их на невольничьем рынке, когда они ему надоедали.
Из всех донесений о трех рыцарях калиф убедился в их стойкости и понял, что ему не обратить их в сарацинскую веру ни пытками, ни соблазнами богатства, ни женской прелестью. Он надеялся убедить их, — направил к ним в подземелье самых прославленных арабских ученых, которые ежедневно, устроив прения о вере, приводили рыцарям самые хитроумные доводы. Ученые знали Аристотеля, искушены были в математике, медицине, астрономии. Трое сыновей г-жи д'Эпп не знали ни астрономии, ни медицины, ни математики, ни трудов Аристотеля, но знали наизусть «Отче наш» и другие прекрасные молитвы. Арабским ученым не удалось совратить рыцарей, и они со стыдом удалились.
Калиф, обладавший настойчивым характером, не счел себя побежденным, когда потерпели поражения Аристотель и ученые мужи. Он решил прибегнуть к надежной уловке, от которой ждал верного успеха. У него была дочь, юная, прекрасная собою, стройная девушка, пленявшая слух людей своей игрой на лютне и пением, а в рассуждениях способная заткнуть за пояс любого ученого. Звали ее Исмерия. Отец приказал ей облачиться в лучшие одежды, умастить тело благовониями и посетить в темнице трех рыцарей.
«Ступайте, дочь моя, — сказал он, — употребите все свое обаяние, обольстите, очаруйте этих трех христиан».
Им овладело такое религиозное рвение, что он даже посоветовал дочери пожертвовать самым драгоценным своим достоянием, если эта жертва послужит ко славе Магомы.
Совет калифа показался некоторым авторам повествования о трех рыцарях чересчур бесстыдным. Но монах Виллет заявляет, что для идолопоклонника такие мысли вполне естественны. Подобный же мерзостный совет, говорит он, дал лжепророк Валаам дочерям Мадиана и Моава[541], отправляя их к сынам Израиля, дабы соблазнить и обратить в язычество. Дочери Аммона так сильно пленили царя Соломона, что обратили его в свою веру.
Итак, царевна Исмерия предстала перед тремя рыцарями. Они были ослеплены ее красой. Она заговорила. Уста ее были еще опаснее ее речей. Рыцари любовались прекрасной девой. Они боялись ее гораздо сильнее, чем визиря и ученых, и, опасаясь, как бы она не заставила их изменить своей вере, решили уговорить ее отречься от веры магометанской.
— Наставим ее в истинной вере, которую она достойна исповедовать, — сказал братьям рыцарь д'Эпп. — Хотя мы искуснее умеем метать копье, чем говорить речи, но, может быть, с помощью господа нашего Иисуса Христа нам удастся убедить ее. Христос сказал ученикам своим: «Если вам надо будет свидетельствовать обо мне, не пекитесь о том, что говорить, я сам вложу в уста ваши разумные речи».
Младшие братья тотчас же согласились с ним, и все трое принялись обращать Исмерию в истинную веру.
Они наставляли ее в учении Христовом, говорили о чудесах и пророчествах. Но особенно много они рассказывали ей о святой деве Марии, которую чтили более всего. Они рассказали Исмерии обо всех чудесах, какие богоматерь совершила в христианских землях, особенно в земле Ланской. Услышав столько необычайного о царице небесной, Исмерия была поражена и спросила, не могут ли они показать ей изображение богоматери, какое бывает в христианских храмах. Рыцари ответили, что у них такого изображения при себе нет, но если Исмерия принесет кусок дерева, то они постараются вырезать статую богоматери наподобие тех ее изваяний, которые они видели в своей стране. Все это они говорили от чистого сердца. Но когда царевна Исмерия приказала доставить им дерево, резец и молот, то все трое пришли в сильное замешательство. Уменье изваять статую так, что кажется, будто она живет и дышит, дается путем долгих лет учения и опыта. А у наших рыцарей древесина нисколько не поддавалась резцу. То был ствол одного из могучих деревьев, которые росли в земном раю и которые Нил на своих волнах приносит к берегам Египта.
Три сына г-жи д'Эпп так и уснули близ неподатливой колоды, не сумев ее даже обтесать.
Проснувшись, они были потрясены, увидав, что кто-то уже исполнил их работу, — изображение пречистой девы сияло в подземелье дивной красой, Перед ними на троне восседала богоматерь, держа на руках божественного младенца. На всем протяжении от Лана до Суассона сыновья г-жи д'Эпп никогда еще не видели такого прекрасного изваяния. Пресвятая дева была вырезана из того самого дерева, которое им доставили по приказанию царевны Исмерии, и было оно черное, такое же черное, как тот глубокий мрак, что окутывал душу дочери калифа. Но в знак того, что свет рассеет черную тьму, статую окружало божественное сияние. Следует сказать, что дерево, приплывшее из той страны, где в земном раю обитала Ева, запятнано было грехом первой женщины, но статуя пресвятой девы казалась от этого еще лучезарней, ибо грех праматери Евы был искуплен той, кому архангел сказал: «Радуйся!»[542]
Подобные мысли недоступны современным людям, но они были понятны отшельникам, которые предавались размышлениям в монастырях и пустынях.
При виде чудесного изображения все три брата вскрикнули от изумления, и каждый спросил другого, как же ему удалось в одну ночь совершить столь трудный подвиг. Но каждый, поклявшись страшной клятвой, ответил, что не прикладывал рук к этому изваянию. Действительно, вряд ли кто-нибудь из них мог так искусно и быстро закончить столь трудную работу.
Возможно, что изваяние было вырезано ангелами или, вернее, самой пречистой девой, — ведь все три брата с особым усердием молились ей и призывали ее помочь их беде. Когда царевна Исмерия вновь спустилась в темницу, то, взглянув на сиявшую черную богоматерь, заплакала и поклонилась ей. Тут поняла она всю ложь магометанской веры и обратилась в веру Христову. Три сына г-жи д'Эпп, предчувствуя, что через эту статую совершится их освобождение, прозвали ее богоматерь Льесская, что значит богоматерь радости[543].
Между тем калиф ежедневно спрашивал у дочери, скоро ли трое рыцарей обратятся в новую веру, а царевна Исмерия уклончиво отвечала, что кое-что остается еще завершить. Она отвечала так для того, чтобы ей позволили посещать рыцарей в темнице, но в душе решила устроить им побег и бежать вместе с ними.
Когда все было подготовлено к осуществлению этого замысла, дочь калифа взяла свои драгоценности, все самоцветы, какие могла найти во дворце, и ночью вышла через потайную дверь в сад.
Не осуждайте поведения царевны, вспомните, что ее отец был неверным, сарацином, а похищенные драгоценности впоследствии украсили храм Льесской богоматери. Забрав сокровища, Исмерия отправилась в темницу и, освободив пленников, провела их на берег Нила, где оказался лодочник, державший переправу, и он перевез беглецов на другой берег. Затем все уснули. Проснувшись, три рыцаря увидели на горе Ланский собор и весь Ланский край. Они были чудесным образом перенесены туда во время сна вместе с царевной Исмерией.
Черная богоматерь была с ними: ведь она-то и перенесла их. На том месте, где она спустилась на землю, забил источник, исцеляющий от лихорадки.
Рыцари возликовали, увидав кровлю родного дома и поседевшую мать, которая при виде сыновей заплакала от радости. Узнав, кто была прекрасная сарацинка, г-жа д'Эпп пожелала быть ее крестной матерью. Когда царевна Исмерия начала искать на берегу ручья черную богоматерь, ее там не оказалось. Статуя сама отошла на двести шагов в сторону от источника. Найдя статую, Исмерия хотела взять ее на руки, но не могла даже поднять, настолько черная богоматерь была тяжела, — этим она явно выразила свое желание, чтобы на том месте, где ее нашли, был воздвигнут храм. Сокровища калифа послужили этой цели. Исмерия была крещена.
Три рыцаря женились и жили в вере и благочестия до конца своих дней. Царевна Исмерия удалилась в монастырь, являя собой пример высоких добродетелей. До сих пор, как мы уже говорили, в церкви Льесской богоматери показывают статую, стоящую над хорами. Но прежней богоматери уже нет: совершив множество чудес, она в 1793 году была сожжена патриотами, чудесным образом уцелел только кусочек дерева.
Нет более печального зрелища, чем этот чудотворный источник, который теперь обложили камнями. Вплотную к нему построили домик, похожий на Санта-Каза-да-Лоретто. К нему ведет аллея из пихт и высоких тополей. По аллее бродят нищие и убогие, а перед самым источником старик сторож, растянувшись на травке, поджидает богомолок, которые время от времени приходят с бутылочкой, сделанной наподобие статуи мадонны. За одно су старик наполняет ее чудодейственной водой. Бесконечно грустным зрелищем предстает перед нами эта агония богов.
V. В Бретани[544]
С мыса Раз (Финистер), 23 июля
Поселок Плогоф и ловцы сардинок остались позади, у залива Одьерн. Теперь кругом — тощие одичавшие поля; вместо цветущих изгородей и подстриженных деревьев их окружают низкие гранитные стены. За одной из таких оград стоит боковая плита обвалившегося дольмена[545], немого свидетеля бесконечно далеких времен. Когда-то, давным-давно, земля, верно, застонала от тяжкого его падения. В этом заброшенном дворце обитают черные гномики, «пульпике» и «кориданы», которые по вечерам, как только пастуший рожок созовет стадо в хлева, пляшут при свете луны и манят прохожих в свой хоровод. Все бретонские крестьяне знают, что дольмены — жилище гномов. Им также хорошо известно, что Карнакские менгиры — это великаны-язычники, превращенные святым Корнелием в камни.
Слева от нас возвышается ажурная каменная колокольня церкви св. Колледока. Этот святой жил во времена короля Артура. Его жизнь была несомненно известна канонику Треву, заполнявшему свою безгрешную жизнь составлением перечня бретонских святых.
В детстве я знавал каноника Треву, и, по всей вероятности, ныне я единственный человек, который знал его. Образ каноника, пока его навек не поглотило время, еще жив в моей памяти. Воспоминание об этом старом священнике каким-то странным образом всплыло в моей памяти на пустынной Одьернской дороге. Это случилось не по моей воле. Есть люди, которые владеют своими впечатлениями и воспоминаниями. Я ими восхищаюсь и завидую им. Но подражать им я не в состоянии. Ежеминутно за пиршественный стол моей фантазии присаживаются то улыбающиеся, то мрачные гости, которых я не звал и прогнать которых не умею. И вот каноник Треву, к великому моему удивлению, спустя тридцать лет после своей славной кончины предстает передо мной в своей старой треуголке и со знакомой мне табакеркой в руках. Добро пожаловать! Канонику, как видно, было присуще благодушное настроение. Его щеки лоснились, и на них играл такой яркий румянец, словно их вылепили маленькие толстощекие херувимы, которые парят на церковных хорах над его деревянным креслом с подъемным сиденьем. У каноника были самые мирные склонности, а так как длительные путешествия по каменистым ландам и песчаному берегу совсем не подходили для его тучного телосложения, он разыскивал бретонских святых на набережной Вольтера, в ларях букинистов. Каждый божий день он ходил от моста Собора богоматери до Королевского моста, только бы господь сделал этот день погожим, ибо мой славный каноник не любил ни туманов, ни дождей и изо всех божьих творений предпочитал те, в которых милость господня выявлена ярче всего. Тем не менее однажды, когда он по своему обыкновению бродил по набережной, отыскивая у букинистов всевозможных бретонских святых, забытых неблагодарным веком, его настигла близ купальни страшная гроза и, по собственному выражению каноника, трепала его сильнейшим образом. Он потерял даже свой огромный зонтик, который вихрь унес в Сену. Словом, он перенес одно из самых страшных испытаний в своей жизни. Стоило ему вспомнить об этом, как он переставал улыбаться и бледнел.
Вскоре после этого каноник Треву скончался, оставив после себя историю святых всей Бретани. Эта книга характеризует его душевную чистоту и его незлобивую мысль.
К стыду своему должен признаться, что я прочел ее без должного внимания. Зато теперь, как только я возвращусь в Париж, даю слово, если мне под руку попадется хороший экземпляр этой книги, прочесть в ней историю святого Колледока: кружевная колокольня его часовни, оставшейся далеко позади нас, четко вырисовывается на фоне голубого неба. Святой Коллидор, или Колледок, был Камбрийским епископом и прибыл в Арморику из Уэльса. По всей вероятности, он переправился через пролив в каменной колоде, ибо таков в ту пору был обычай английских святых. Причалив в Плогофе, он зажил отшельником в ландах, в этих каменистых степях, поросших дикой гвоздикой, карликовыми кустиками шиповника и мелкими цветами бессмертника, что стелется по самой земле, под небом, в котором морские птицы (иные из них были душами усопших) бороздили облака, похожие на видения из Апокалипсиса; святой Колледок воссылал хвалу вседержителю, размышлял, а иногда впадал в экстаз и тогда проникал в сущность как видимых, так и невидимых явлений. И нет ничего удивительного, что какими-то таинственными путями до него доходили вести обо всех мирских событиях, хотя он жил вдали от суеты мирской. Несомненно он первый из всех обитателей Одьерна и Плогофа узнал о кровавом камланском побоище, о смерти Артура, чей заколдованный меч не мог отразить удара меча рыцаря-предателя. Не менее таинственным путем святому Колледоку стало известно, что Ланселот, рыцарь Озера, любит супругу Артура — прекрасную королеву Джиневру. Колледок знал и о том, что Ланселот является цветом рыцарства. Вскормленный на коленях феи, он таил в себе ее очарование. И так как он был очарователен, Джиневра любила его.
Но святой Колледок, много размышлявший в своем уединении, знал то, что сокрыто от людей, живущих в миру. Он знал, что любовь человеческая проходит, и тот, кто возлагает надежды свои на земные создания, вскоре разочаровывается. Полагая также, что Джиневра и Ланселот жестоко оскорбят бога, если их вожделение увенчается успехом, он решил, с божьей помощью, отвратить столь страшное несчастье. Он взял посох и отправился во дворец к королеве Джиневре. Побеседовав с нею наедине, он убедил королеву отречься от любви Ланселота, рыцаря Озера, внушил ей страстное стремление посвятить себя богу и поверг ее, прелестную, счастливую, нарядную, еще полную грешной любви, к стопам Христа, который не привык к тому, чтобы его возлюбленные дочери отрекались от мира, будучи в таком блистательном состоянии. Что говорил ей святой? Маленькая книжица, которую я купил у странствующего барда, слепого, как Гомер, и пьяного от тростниковой водки, маленький сборничек «гверзов» и «сонн», в котором я прочел много легенд о святых, не говорит о том, какие слова нашел отшельник Колледок, чтобы тронуть сердце Джиневры. Г-н Треву, что он сказал ей, а? Вы же так хорошо знали жития бретонских святых при жизни вашей, когда спокойно бродили по залитой солнцем прекрасной набережной Вольтера, неся в кармане стеганой сутаны две-три старинных книжицы, купленные у букинистов. Так неужели вы не знали, что именно Колледок сказал Джиневре, и неужто не упомянули об этом в вашей обширной агиографической компиляции?
Увы! Как могли вы об этом знать, если беседа королевы со святым отшельником происходила наедине? Вы скажете мне, что Колледок изобразил ей всю гнусность, всю мерзость плотских грехов. Но ведь этого недостаточно, г-н Треву. Вы и представить себе не можете, каково положение человека, ставшего между женщиной и ее любовью! Вас повергнут ниц, растопчут, сотрут в порошок. Я понимаю вас! Выскажете, что святой Колледок угрожал Джиневре божьим гневом и вечным проклятием, изобразил ей разверстый ад. Но этого мало, г-н Треву. Влюбленная женщина не боится ада; ее не манит рай, г-н Треву. Право, мне очень хотелось бы знать, что сказал святой Колледок из Плогофа королеве Джиневре, разлучая ее с Ланселотом Озерным, которого она любила и которым была так любима. Ведь для того, чтобы одержать победу над этой любовью, надо было найти слова более красноречивые, чем таинственные руны, которые были понятны только древним скандинавам, такие слова, которые заставили бы океан выйти из берегов, в прах обратили бы землю, ибо любовь сильнее смерти, г-н Треву. А между тем кроткая королева действительно вняла словам отшельника и поступила в монастырь. И об этом сложили в Бретани жалостные «плачи» и песни.
Но вот мы приближаемся к пределу вселенной. Мы миновали ланды, поросшие дроком и колючим терновником, и чувствуем, как западный ветер веет над голыми, бесплодными песками. Вот Лескоф, его колокольни и менгиры. Еще несколько шагов — и мы доходим до мыса Раз. Справа от нас уже видна белесоватая отмель, которую бороздят пенные волны, бурлящие вокруг подводных камней. Это бухта Усопших.
Здесь, на высоком утесе, который выдается в море между двумя каменистыми дугами берега, окаймленного рифами, кончается суша. Внизу бушует море, и, когда мы идем узкой тропинкой, прибой обдает нас мелкими брызгами.
Перед нами океан, на пурпуровое ложе его опускается солнце. Океан расстилает вдали великолепную пелену вод, прорезанную там и сям черными скалами, с белой каемкой пены, и вдалеке мрачный и плоский, почти в уровень с волнами, покоится остров Сэн.
Это священный остров Вещих Снов, где, говорят, жили девы-прорицательницы. Но эти своеобразные сивиллы, по всей вероятности, существовали лишь в воображении мореплавателей. Быть может, матросы принимали издали чаек, гревшихся на солнце среди черных скал, за жриц в белых одеждах. Воспоминание об этих девах смутно, словно мечта. Тонкий слой почвы, скопившейся в гранитных впадинах, разрыхлили, и ныне на нем растут тощие, жидкие колосья ячменя — скудная пища рыбаков. В земле этого острова не нашли ни одного обтесанного камня — только небольшие медали, по форме похожие на маленькие чаши; на выгнутой стороне их отчеканено изображение мужской головы с кудрявыми волосами, перевитыми нитями жемчуга. Неизвестно, кто это — герой или бог. На вогнутой стороне медали изображен конь с человечьей головой. Трудно изобразить себе обитель прорицательниц на этой плоской и голой бесплодной отмели, которую вечно затягивают туманы, а во время бури затопляет море. Но, может быть, остров Сэн был некогда больше, тенистее, и океан, непрерывно подтачивающий его берега, поглотил ту часть острова, где был храм и священная роща дев.
Вот где океан грозен, вот где он могуч! Бесчисленные скалы, меж которых бурлят пенные волны, кажутся остатками берега, затопленного пучиной морской со всеми его древними городами и жителями. Сейчас океан спокоен, он дремлет и во сне величаво, спокойно рокочет. Лишь маслянистые длинные полосы, лоснящиеся на его серо-зеленой поверхности, изобличают коварное подводное течение. Древний бог[546], покоясь на останках прекрасной Атлантиды, доволен, он нежится под золотым дождем солнечных лучей, он широко и благостно улыбается. Но за этим покоем вы чуете силу. Волны, разбиваясь в сорока футах под нами, захлестывают скалу и обдают наши лица брызгами горькой росы. После каждого спада волны по склонам обнажившегося утеса со звучным шелестом струятся серебристые потоки.
Слева от нас, вплоть до мрачных скал Пенмарха, круглится пустынная полоса бухты Одьерн. Справа берег, будто утыканный колючками, утесами и подводными скалами, идет под уклон, образуя бухту Усопших. Вдали блещет огненным светом Козий мыс. Еще дальше — побережье Бреста; на горизонте синеют острова, сливаясь с нежной лазурью неба.
Океан и скалы ежеминутно меняют облик. Волны катятся то белые, то зеленые, то лиловые, а скалы, только что ярко блестевшие прожилками слюды, вдруг стали черны, как смоль. Широкими взмахами крыл спускается мрак. В море гаснут последние огненные пятна. Только широкий оранжевый отблеск указывает на то место, где зашло солнце. Мы еле различаем в сумраке уцелевшие или развалившиеся гранитные стены, замыкающие бухту Усопших. В вечерней тишине сквозь глухой рокот волн отчетливо слышится меланхолический крик больших бакланов.
Этот час полон смертельной тоски; всё здесь — и утес, и ланды, и море, и свинцовый песок бухты — всё вопрошает: зачем жить? Лишь небо, где загораются первые звезды, осеняет нас нежным покровом. Небо Бретани прозрачно и глубоко. Его часто заволакивают туманы, они быстро сгущаются и тают вновь; небо почти всегда покрыто тяжелыми облаками, похожими на горы, и кажется, будто над тобой нависла какая-то иная земля, и только сквозь разрывающийся облачный покров порой проглядывает синь неба, влекущая к себе, словно бездна. В такие мгновения я понимаю, почему бретонцы любят смерть. Она влечет их к себе, и нередко кельтскую душу прельщает небытие. Но они ее и страшатся, ибо для всякого живого существа смерть страшна!
Над этими берегами реет смерть, она проносится на крыльях морского ветра над нашими головами, касается наших волос. Весь этот безотрадный залив Ируаз, простирающийся от острова Уэссан до острова Сэн, — гроза мореплавателей. Кораблекрушения здесь случаются часто. Для судов, направляющихся из Ла-манша в океан, Бек-дю-Раз является самым опасным в силу изменчивых морских ветров, дующих с океана, невидимых подводных скал, подводных течений, кружащих пену вокруг них, и чудовищных морских валов, разбивающихся о крутые утесы. Бретонские рыбаки, проплывая по фарватеру мимо Бек-дю-Раза, поют: «Спаси меня, боже, мой челн так мал, а море так велико!»
Трупы утопленников, погибших в Ируазе, прибивает течением в бухту Усопших. Не за то ли и дали этой бухте такое мрачное название, что она стала гостеприимной обителью мертвецов и хранит человеческий прах в белом песке, похожем на костяную пыль. По преданию, на ее берега привозили умерших жрецов древней Галлии, друидов, бывших скорее монахами, переправляли их в ладье на Сэн и там хоронили. Другие предания, собранные поэтом Бризе[547], рисуют этот мрачный залив как место встречи набожных усопших, желающих покоиться на острове Вещих Снов.
Во время оно грозный дух безлунными ночами Являлся в полночь — каждый раз в грозу — за мертвецами. И в бухте, в лодке, находил он мертвецов немало; Полным-полнехонька ладья, чуть воду не черпала. Но не страшась ни бурных волн, ни ветра грозового, Он мертвецов всех довозил до острова святого.[548]Здесь еще живо предание, будто на этом берегу, стеная, бродят грешные души, а скелеты моряков, погибших при крушении кораблей, стучатся в двери рыбачьих хижин, моля о погребении. Крестьяне твердо верят, что в ночь на второе ноября, в день поминовения усопших, души несчастных утопленников несметными сонмами собираются на берегу бухты и из тумана доносится заунывное пение. Это покойники возвращаются на землю, «их больше, чем листьев, опадающих с деревьев, толпа их гуще, чем трава, растущая в поле».
Когда мы шли вдоль мрачных скал, поднялся ветер; налетевший шквал принес с собой тучи, сумрак и дождь. Мы зашли в деревушку Керхерно обсушиться в кабачке. В комнате с низким потолком косматые люди в коротких старинного покроя штанах сидели возле очага, где пылали охапки дикого терновника и вереска, пили светлый сидр и водку из сахарного тростника; и тут я думал об этом береге неприкаянных душ, чье жалостное стенание все еще звучало в моих ушах, думал и о священном острове Вещих Снов, который океан одевает пеной холодных волн; та пена белее, чем одежды дев-прорицательниц, и холоднее душ усопших. На крыше ухала сова. Рядом со мной — за кружкой сидра или за стаканом водки — степенно и молчаливо сидели длинноволосые бражники.
В ожидании ужина, который собирала хозяйка, я вынул из кармана единственную книгу, захваченную мною на этот туманный берег. Это поэма, вернее ряд напевных сказаний, изложенных с детской серьезностью сказителями, не умевшими писать, для слушателей, не умевших читать: это «Одиссея». Я открываю книгу на одиннадцатой песне, на песне усопших, которую древние озаглавили «Некия». «Некия» дошла до нас в сильно измененном виде: греческие певцы — аэды, распевавшие на пирах отрывки из нее, добавляли в первоначальный текст вставки, чуждые эпохе создания «Одиссеи» и характеру поэмы. Эти древние певцы включили в нее длинное перечисление любовниц богов, которое словно заимствовано из какого-то перечня, составленного в набожную эпоху Гесиода и поэтов следующего поколения. Они дополнили поэму картиной мучений, которые испытывают в аду противники богов, — картиной, составляющей полное противоречие с тем простодушным представлением о смерти, какое сложилось у первых последователей Гомера. Со мной не было ни одного эллиниста, который помог бы мне разобраться в многочисленных чужеродных вставках в «Одиссею», — единственными толкователями, окружавшими меня в этой таверне бретонских рыбаков на берегу мрачной бухты, были совы, стонавшие над моей головой, и морские чайки, дремавшие вдали на скалах. Но иных мне и не надо было, ибо они говорили о ночном унынии и об ужасе смерти.
Начало «Некии» относится к тем событиям странствования хитроумного Улисса, когда судно его пересекло океан, отделяющий мир живых от царства теней; он пристал к острову киммерийцев, над которым никогда не всходило солнце. Ступив на сырой берег, окутанный вечной тьмой, он под сенью пирамидальных тополей и бесплодных ив Персефоны направился в сырую обитель Аида. Там, близ утеса, у которого сливаются две реки смерти, на лугу, поросшем асфоделями, он вырыл мечом яму и совершил жертвенное возлияние меда и вина в честь душ, сошедших в царство теней. Не суетное любопытство привело его в это безмолвное царство, куда до него не спускался ни один живой человек. Он хочет вызвать тени усопших, скитающихся на угрюмом киммерийском острове. Вняв совету волшебницы Цирцеи, он явился сюда, чтобы вопросить тень божественного Тиресия, каким путем ему суждено будет вернуться в Итаку, ибо престарелый вождь, видевший лотофагов, циклопов, лестригонов, сирен и деливший ложе с богинями и волшебницами, снедаем желанием увидеть вновь родной остров, жену и сына.
Тиресий, бродивший в царстве умерших с жреческим посохом в руках, был выдающимся человеком; нет ничего удивительного, что Улисс отправился на остров киммерийцев, чтобы посоветоваться с ним. Правда, в «Одиссее» образ Тиресия обрисован довольно смутно. Он в этой поэме похож на чародеев из «Тысячи и одной ночи» и на всех колдунов наших народных сказок. Но он был прославлен среди древних эллинов не меньше, чем волшебник Мерлин среди бретонцев, и, как только фантазия греков вышла из колыбели, поэты сложили множество волшебных сказаний о древнем чародее. Если верить им, то однажды Тиресий был превращен в женщину за то, что волшебным жезлом разъединил двух сочетавшихся змей, а затем вновь стал мужчиной, но воспоминание об этом перевоплощении дало ему своеобразные познания по самым щекотливым вопросам. Будучи слепым, он разумел птичье щебетанье и провидел будущее. Этот мудрец прожил семь человеческих жизней, несказанно страдая оттого, что обречен жить так долго и знать слишком многое. Свою печаль он излил однажды в чудесной жалобе.
— О Зевс, отец и владыка, — воскликнул престарелый колдун, — почему ты не обрек меня на жизнь более короткую и не даровал мне человеческого неведения? Нет, не из любви ко мне ты продлил мою жизнь среди смертных до семи человеческих поколений.
Наконец, чтобы сделать облик Тиресия еще более трагичным, поэты изображают его хранящим даже среди усопших горестное для него знание. Конечно, в «Некии» нет и следа этой глубокой печали. Самого древнего аэда, создавшего основную часть XI книги, не больше, чем нашу Матушку Гусыню[549], тревожила печаль, которая сопровождает всякое размышление и познание.
Он твердо знал, что кто умер, тот умер.
— Увы! — восклицает Ахилл. — В подземном царстве Аида есть и души и призраки, но они бесчувственны.
Просты были верования тех героических времен! Для бродячего певца «Некии», Тиресий, каким бы ни был он чародеем в своей земной жизни, под землей столь же нечувствителен, как и все усопшие. Он слеп и глух.
Но Улисс, наученный волшебницей Цирцеей колдовству, знает, как хоть ненадолго возвратить теням умерших дар мыслить и говорить. Ему известно, что мертвецы оживают, напившись теплой крови. Поэтому он режет овец на краю вырытой им ямы, и тотчас из Эреба целым роем слетаются души усопших: молодые женщины, юноши, много пережившие старцы, кроткие девы с неутихнувшей еще скорбью в сердце, множество тех, кто пал, пронзенный медным копьем, сраженные в битвах воины в окровавленных доспехах, — громко стеная, все теснятся вокруг ямы.
Улисс испугался, а уж он ли, кажется, не насмотрелся в своих плаваниях на всякие ужасы, от которых волосы вставали дыбом. Он принялся отгонять мечом тени, которые, словно туча мух, носились вокруг закланных овец и жертвенной крови. Узнав в толпе душ свою мать, он отогнал прочь и ее, ибо желал, чтобы первым выпил крови прорицатель Тиресий. Он любил свою мать, но хотел, чтобы прежде всего ему предсказали судьбу. Впрочем, если предположить, что рапсод, исполнявший поэмы Гомера, очень близко держался некоторых народных сказаний, то для всякого, кто хоть немного знаком с обычными приемами фольклора, не покажется удивительным ни наивная грубоватость повествования, ни жестокость героя. Однако первым пророчествует не Тиресий, а Элпенор, который не выпил живой крови. По-видимому, он был введен в эту сцену заклинания каким-нибудь новым певцом, нисколько не стремившимся следовать старому ритуалу колдовства.
Но надо сказать, что положение Элпенора необычное. У него пока еще нет своего места в царстве теней. Он принадлежит к числу усопших, которые, не будучи похоронены, уныло скитаются вокруг жилищ и являются по ночам просить у тех, кого они покинули в мире, немного земли для погребения их бренного тела. Это страждущая душа. Элпенор сопровождал Улисса в его странствиях и состоял при нем еще на острове Эа. Находясь ночью на плоской кровле дома Цирцеи, Элпенор нечаянно упал и при падении сломал себе шею. Никто не пожалел его, ибо он был неуклюжий человек и пьяница. Улисс, покинувший своего спутника на месте его падения, был очень изумлен, встретив его у киммерийцев.
— Как это? — спросил он. — Ты шел пешком по подземному царству, а добрался сюда быстрее, чем я на своем корабле?
Аристарх[550] почитал этот вопрос нелепым. Алексис Пьеррон, издатель Гомера, утверждает, что вопрос этот наивен, но отнюдь не нелеп. Вероятно, ответить на него было не так-то просто, ибо Элпенор промолчал. Он, стеная, умолял Улисса похоронить его согласно обряду.
— Когда ты возвратишься на остров Эа, не покинь меня здесь неоплаканным и непогребенным, сожги меня вместе с моими доспехами, воздвигни мне на берегу белопенного моря курган и укрепи на вершине его мое весло, которым я при жизни греб с товарищами.
Так стонала тень Элпенора у ног Улисса. Но поскольку Элпенор до той поры не был погребен, он утратил свое место среди живых и не приобрел права на место среди усопших в царстве теней. Печально бродит он между живыми и мертвыми. Может быть, поэтому он и прорицает, не испив живой крови. Полагаю, однако, что это просто искажение текста. Вся «Некия» заштопана наподобие гобелена, изображающего историю Александра Македонского, который четыреста лет подряд вывешивают в дни празднеств на фасаде одного старинного дома в Брюгге. В таком виде история эта очень занимательна и очень почтенна.
Первая тень, которой Улисс разрешает приблизиться к яме и испить живой крови, чтоб обрести силу чувствовать и говорить, — это Тиресий. Выпив крови, он тотчас начинает прорицать, причем начало прорицания посвящено странствиям героя, а последняя часть, несомненно извлеченная из очень древних сказаний, связана с какими-то своеобразными и ребяческими преданиями, совершенно чуждыми «Одиссее», и во всем противоречит духу поэмы, ибо хитроумный Улисс, любимец девственной богини Афины, в этой поэме обречен на судьбу отверженных и нечестивцев, — его ждет кара, постигающая Каинов и Агасферов[551]. Если прорицатель и говорит туманно о грядущем прощении, то угрозы, которые он произносит, совпадают, однако, с дошедшими до нас легендами и придают характер отверженца герою, который в гомеровских сказаниях нарисован как образец совершенного эллина. В данном случае к старому гобелену пришили еще более старый и более потемневший лоскут.
Выслушав прорицание Тиресия, Улисс пожелал вопросить тень своей матери, и, судя по одному из вопросов, который он задает Тиресию, следует предположить, что он пока еще не вызывал многолюбимую тень лишь потому, что не знал, как к этому приступить. Значит, мы напрасно обвиняли в равнодушии сурового царя-пирата, долго бороздившего пустынное море и столь любимого эллинскими матросами и рыбаками. Но нам известно, что, наученный колдовству волшебницей Цирцеей, он, сам того не желая, уже вызвал тень матери, и допускаем, что он нарочно обманул Тиресия. Он был лжецом, и богиня, любившая его, однажды сказала ему: «Я тебя люблю потому, что ты хорошо умеешь лгать». Действительно, его неведение кажется непонятным, — ведь Цирцея научила же его искусству вызывать тени усопших. Мы только что убедились в том, что он великолепно усвоил наставления волшебницы. А может быть, гобелен и в этом месте заштопан.
Все смутно в этой чудесной поэзии боязливых детей. Но в самой ее смутности таится очарование и несказанная прелесть. Когда почтенная мать Улисса, старая Антиклея, пьет черную кровь и говорит с сыном, нас охватывает благородное и глубокое волнение, пронизанное таким чувством прекрасного, что надо признаться: эллинский гений уже на заре жизни народа одарен был инстинктом гармонии, и ему доступен был тот род истины, который превосходит истину научную: приобщают нас к ней лишь поэты и художники.
— Дитя мое, как сумел ты живым проникнуть в эту беспросветную тьму? Ибо трудно живому видеть все это. Ни искусный лучник своими стрелами, ни тяжкие болезни не отняли у меня сладостной жизни, но тоска, тревога за тебя и воспоминание о твоей нежности — вот что обрекло меня на смерть.
Так сказала она. Сын хотел обнять ее. Трижды пытался он приблизиться, алкая любящим сердцем прикоснуться к ней, и трижды, подобно тени иль сонному видению, она исчезала.
Тогда с глубокой болью в сердце он сказал:
— Мать моя, почему ты ускользаешь от меня, когда я приближаюсь к тебе, ведь даже в Аиде, сжимая друг друга в объятиях, мы можем найти утешение в слезах.
А старая мать отвечала:
— Увы! дитя мое, таков удел усопших: кожа и мышцы отпадают от костей, огонь пожирает их тотчас же, как только дух покидает белое тело и тогда душа, как сон, улетает.
Бесконечно трогательные слова, полные неизреченной человеческой нежности! Слова эти — вымысел какого-то древнего сказителя, жившего на берегу «фиолетового» моря в ту пору, когда люди не умели еще седлать коней и варить мясо. Сказителю неизвестны были живопись и скульптура; единственные алтари богов, которые он знал, были грубые каменные плиты в священных рощах. Он все время занят был добычей пищи. Среди людей, поглощенных заботами о пропитании, воюющих ради того, чтобы умыкать женщин и бронзовые треножники пифий, он вел жизнь более жалкую, чем бродячий певец Оверни. Однако в своей первобытной и суровой душе он нашел слова, которые для благородных душ остались бессмертными: «Дитя мое, ни искусный лучник своими стрелами, ни тяжкие болезни не отняли у меня сладостной жизни, но тоска, тревога за тебя и воспоминание о твоей нежности — вот что обрекло меня на смерть».
Так древний певец изливал благозвучную жалобу матери и уже являлся подлинным эллином по тому чувству красоты, которое единственное из человеческих чувств не обманывает, ибо оно единственное человечно и только человечно.
Я закрываю сборник ионийских песен и отворяю окно в своей деревенской комнате. Передо мной в ночи вновь возникает бухта Усопших. Только что я был с Улиссом, но и тут я почти не отрешаюсь от античного мира. «Некия», созданная каким-то гомеридом, и «гверзы» бардов из Брейз-Изеля не так уж далеки друг от друга. Все старинные верования схожи между собой своей простотой. Эти родившиеся в незапамятные времена легенды об усопших остались в христианской Бретани мало христианскими. Вера в загробную жизнь в них столь же смутна и зыбка, как во времена Гомеровы. Для сына Арморики, как и для древнего эллина, умершие продолжают уныло влачить свое существование. Оба народа одинаково верят, что, если тела усопших не похоронены в родной земле, тени их, стеная и моля, взывают о погребении. Тень Элпенора молит Улисса о могиле; утопленники Ируаза своими костями стучатся в двери рыбачьих хижин.
В мире кельтском, так же как и в мире эллинском, у мертвецов есть свое царство, отделенное от нас океаном, — покрытый туманом остров, где они обитают во множестве. У эллинов — остров киммерийцев, а здесь, поближе к берегу, — священный остров Вещих Снов. Гробницы как в героической Греции, так и у кельтов имеют одинаковую форму[552].
Что я говорю! В Карнаке я видел могилу Элпенора. Недоставало только весла, и археологи при раскопке унесли мирно покоившееся оружие и кости: это могильный курган архангела Михаила, возвышающийся на берегу «белого моря».
Хозяйка зовет меня ужинать. На столе золотится подрумяненный омлет, да еще комнату наполняет аппетитный запах баранины, приправленной тмином. Оставляю Гомера и свои мечты. Не думайте по крайней мере, что кельты были когда-то пелазгами и что в Кемпере говорили по-гречески не хуже, чем в Микенах.
Карнак (Морбиан), 11 августа
С вершины кургана архангела Михаила перед вами открываются угрюмые просторы: берег и море. На западе океан простирается до самой лазурной дуги горизонта. Слева тянется темное побережье Локмариакера, где с незапамятных времен под бесформенным укрытием из обломков скал почиет прах какого-то вождя варварского племени. Дальше исчезает в тумане острый шпиль церкви св. Жильдаса, где невежественные монахи, ненавидевшие музыку и философию, угрожали смертью Абеляру[553]. Направо — мрачный полуостров Киберон; вдали, словно волнорез, его отгораживает от моря Бель-Иль.
Но если вы повернетесь так, чтобы Киберон оказался у вас слева, то увидите, что ланды тянутся вплоть до сосновых лесов, прочерчивающих по краю неба темно-синюю полосу. Над каменистой степью, которую вереск окрашивает в бледно-розовый цвет, проплывает густая тень облаков. Это Карнак, Каменные Столбы.
Полчище менгиров словно выстроилось в боевом порядке. Прямо против вас — ряды менгиров Менека, несколько правее — менгиры Кермарио. Небольшая возвышенность скрывает от вас камни Керлескана. Две тысячи бесформенных каменных великанов, стоящих или поверженных на землю, все еще занимают свой пост. Говорят, будто некогда их было более десяти тысяч.
Чьи руки воздвигли их в ландах? Неизвестно. Их возраст, их назначение — тайна. Кажется, будто они в своей величавой суровости хранят безмолвное воспоминание о давно угаснувших народах. От них веет чем-то мрачным. Мысль рисует нам образы свирепых воинов, вождей диких племен, покоящихся под их огромной тяжестью. Однако когда под этими менгирами производили раскопки, то не нашли ничего, что указывало бы на захоронение.
Господин де Мортийе[554] предполагает, что ряды менгиров являются архивом народа, жившего на этой полосе земли еще до прихода кельтских племен, и каждый каменный столб является памятником, воздвигнутым в честь какого-нибудь события, память о котором хотели сохранить. Таким образом, Карнакская ланда была книгой, в которую эти люди каменными письменами вписывали войны, союзы, особливо удачные охоты, плавания на челнах, выдолбленных из стволов дерева, и родословную вождей.
Жители Карнака приписывают этим камням совершенно иное, чудесное происхождение. Они утверждают, что некогда за святым Корнелием погналась толпа язычников. Как известно, язычники были великанами. Слуга божий побежал к берегу в надежде, опередив преследователей, вскочить в лодку и спастись от страшной гибели, но, не найдя лодки, он повернулся лицом к нечестивцам и, простерши руки в их сторону, превратил их в камни. Еще доныне эти камни зовут «Камнями святого Корнелия».
С той поры как исчезли великаны-идолопоклонники, святой Корнелий стал исключительно покровителем рогатого скота.
Святой Корнелий был большим оригиналом, и мне досадно, что я в свое время не поговорил о нем с достойным каноником Треву, который с таким увлечением изучал жизнь бретонских святых. Он, конечно, поведал бы мне много чудесного. Весьма соблазнительна мысль, что святой Корнелий — не кто иной, как папа Корнелий, который в 251 году получил перстень с папской печатью и претерпел на папском престоле множество неприятностей. Так утверждают агиографы, и я не сомневаюсь, что г-н Треву им верил. Он верил всему, и эта счастливая склонность читалась на его румяном лице. Он был человеком благодушным, и оттого ему спокойно жилось на свете. Надеюсь, что ныне он вкушает покой и на небесах. Приятно думать, что святой Корнелий является именно папой Корнелием. Но следует сказать, что в Бретани он стал истым бретонцем. Он усвоил и дух и обычаи крестьян Карнака, выбравших его своим покровителем и ходатаем перед богом. Он забыл свирепого и коварного Новасьена, который так досаждал ему во время его пребывания папой. Я только что видел на дверях приходской церкви вырезанное из дерева и раскрашенное изображение святого Корнелия. Он стоит в папском облачении между двумя быками, которые повернули к нему покорные морды. Вот святой, вполне подходящий для местности, состоящей преимущественно из пастбищ. Его память празднуют 13 сентября, день этот совпадает с осенним равноденствием, и, по-видимому, престольный праздник святого Корнелия заменил собою какое-то языческое сельское празднество, о чем г-н Треву вряд ли упомянул бы. Несомненно, даже имя святого Корнелия[555] предназначено было для замены наименования древнего бога — покровителя рогатого скота. Жаль, что я не могу остаться до 13 сентября в Карнаке. Этот день празднуется там торжественно. Со всей Бретани стекаются паломники, все прикладываются к золотой, усыпанной драгоценностями раке с мощами святого. Затем, держа под мышкой шляпу и перебирая четки, богомольцы шествуют к устроенному возле церкви фонтану, возносящему на четырех арках худосочную пирамиду, увенчанную шаром и крестом. Став на колени, люди пьют воду, которую им подносят в кружках нищие. Омочив лицо и руки, они воздевают их к небу и, совершив этот древний обряд, возвращаются в церковь, чтобы возложить подношения к подножию святого покровителя скота.
Святой водой из источника кропят также тех животных, которые были исцелены предстательством святого Корнелия. Он столь милостив к стадам, что порой к нему ночью вереницей приводят быков. Подобно сельскому божку, место которого он занял, святой Корнелий принимает жертвоприношения. Ему приносят в жертву коров, но коров этих не закалывают. Их продают в пользу церкви. Продают и поводки, на которых приводят эти жертвы к алтарю. Существует поверье, будто скотина, привязанная в стойле этими поводками, не заболеет. Как видите, скупым и бедным бретонским скотоводам небесный ветеринар оказывает большие услуги.
Курган, на который вы взошли, тоже свидетельствует о бретонской набожности. Апостолы Арморики освятили этот курган, воздвигнув на его вершине часовню архангела Михаила. Он по воле своей то мечет молнию, то отводит ее; ему любы высокие места. Жены рыбаков приходят в эту часовню молить архангела отвратить от их мужей гибель в море. Ежегодно в ночь на 23 июня местные парни при восторженных криках зажигают костры Ивановой ночи, и на всех соседних холмах загораются в ответ такие же костры. Возможно, что обычай этот восходит к самым древним временам. Взгляните теперь на невысокие холмики, разбросанные у подножия кургана, — теперь они хорошо заметны, когда низкие лучи солнца удлинили их тени. Это Босенно, то есть бугры, рассеянные между менгирами и океаном. Рассказывают, будто они прикрывают монастырь красных монахов. Там, говорят, происходили такие ужасы, что ни земля, ни небо не могли этого стерпеть, и в одну роковую ночь монастырь пожрало пламя.
И доныне место, где погребены красные монахи, пользуется дурной славой. В сумерках на буграх вспыхивают огни и слышатся голоса, говорящие на незнакомом для христиан наречии. В Босенно вели раскопки. Английский археолог г. Мильн, принимавший в них участие, действительно обнаружил стены со следами пожарища. Но это не монастырские стены. Босенно прикрывает галло-римскую виллу, которая высилась тут, на краю света, со своими стенами из камня и кирпича, покоями, расписанными светлыми веселыми красками, с мызой, башнями и храмом — одним словом, римскую виллу, какую описывает Колумелла[556].
Искусство Помпеи возрождается в этих фризах, разрисованных греческим орнаментом и гирляндами и в кессонах потолков, инкрустированных раковинами. В первые века христианского летоисчисления латиняне, подобно современным англичанам, распространяли свою цивилизацию по всем известным тогда странам мира. Они брали с собой свои лары и пенаты. В sacellum[557] этой виллы найдены были терракотовые статуэтки, поставленные там набожными руками. Это изображения Венеры Анадиомены и Богинь-Матерей. Последние облачены в длинную, ниспадающую складками тунику, сидят в высоком плетеном кресле, держа на руках младенца, и очень похожи на христианскую богоматерь. Те, что найдены в Карнаке, перенесены были в хижину, недалеко отстоящую от деревни и заменяющую музей. Другие статуэтки того же стиля постигла совсем иная участь. Их приняли за изображения пресвятой девы Марии, решили, что они чудотворные, и, выкопав из земли, поставили в часовню, куда они привлекли новые вереницы паломников.
Вот все, что с вершины кургана архангела Михаила нам надо узнать во времени и пространстве. Курган возведен руками людей и представляет собой нагромождение камней и морской тины. Г-н Ренэ Галь повел на нем раскопки и обнаружил дольмен, под которым похоронен был вождь. Найдены кости его скелета, обгоревшие в пламени костра, оружие из яшмы и фибриолита и ожерелья из красной яшмы. По некоторым признакам полагают, что под этим же курганом покоится его товарищ, прах которого еще не потревожен. Так Ахилл пожелал, чтобы, когда тело его будет сожжено, пепел смешали бы с прахом Патрокла и похоронили их под одним могильным курганом. Тень Патрокла сама явилась ему ночью во сне, моля об этом. Она сказала: «Молю тебя, пусть прах мой будет неотделим от твоего праха, Ахилл. Мы выросли вместе в доме твоем, так пусть и прах наш будет покоиться вместе в золотой урне». И когда друг его скончался, Ахилл приказал насыпать над ним сперва низкий курган.
«Когда я умру, — сказал он, — то вы, которые переживете нас, воздвигните нам высокий и широкий курган».
Курган, на котором мы топчем травы, пропитанные соленой влагой, высок и широк, подобно кургану Ахилла и Патрокла. Воины, что покоятся под ним, были, конечно, вождями, прославленными среди народов. Но никакой Гомер не сохранил для нас их имена.
На том месте, где мы стоим, какая-нибудь девушка варварского племени, более нежная, чем Поликсена[558], дочь Приама, так же как и она, была принесена в жертву. И между ландами и морем, под низко нависшим небом, возмущенная душа ее уносится вдаль.
Сент-Анн д'Орэ, 28 июля
Это был день прощения. Известно, что в Бретани днем прощения называют день престольного праздника. В этот день в церковь или часовню стекаются богомольцы, чающие получить отпущение грехов ценой исполнения благочестивых обрядов и какими-нибудь дарами святому или святой. В своей вотчине бретонские святые не утратили сельской простоты. Дары они принимают натурой. Но эту повинность им следует выплачивать согласно правилам и обычаям. Богоматерь Релекская желает получать в дар только белых куриц. Святая Анна, мать ее, не столь прихотлива: она ни от чего не отказывается, и венец ее украшен драгоценностями лорианских и кемперских дам.
От станции до Сент-Анн расстояние невелико. Когда мы направились к деревне по дороге, пересекающей ланды, она уже пестрела богомольцами. Чепцы крестьянок сверкали на солнце белизной, словно крылья морских птиц. Мужчины в коричневых куртках и широкополых шляпах, с которых свисали черные ленты, шли медленно, опираясь на кизиловые палки. А вдоль всей дороги, по обе ее стороны, расположились нищие.
Вот слепые, седые, косматые старцы, возложившие руку на голову ребенка; в жалком величии своем они кажутся последними бардами. Впереди женщина, стеная, поднимает к голубому простертому над ландами небу руку, так изуродованную, в таких клочьях мяса, так искромсанную и так неожиданно заканчивающуюся двумя пальцами, что кажется, будто это олений рог, обагренный кровью распоротых им собак. Поодаль высится некое подобие человека с кровоточащей и гноящейся маской вместо лица, и только по тому, что она находится на том месте, где должно быть лицо, вы понимаете, что это оно и есть. А вон, опираясь друг на друга, идут дурачки с одинаково бессмысленным взглядом, одинаково застывшей улыбкой, одинаковой дрожью, сотрясающей их тело; их отличает явное семейное сходство, ибо это братья и сестры, и, может быть, опираясь друг на друга, они смутно это чувствуют. Один из них, высокий молодой человек с вьющейся бородой, обряженный в женское платье, так таращит голубые глаза, что становится жутко. Вы чувствуете, что эти глаза вбирают в себя картины мира лишь для того, чтобы их утратить. Но в этом сером древнего покроя платье он не кажется смешным, а только странным; он похож на статую, созданную в старину ваятелем, мертвую статую, в которую, как рассказывают легенды, какая-то таинственная сила вдохнула жизнь. Эти нищие — одна из красот Бретани, они слиты воедино с окружающими ландами и скалами. Дорога, по которой змеится процессия паломников, приводит к большой площади, где стоит храм св. Анны. Площадь заполнена толпой крестьян. Богомольцы собрались со всех приходов Морбиана и патриархальных островов Уа и Эдик. Много явилось паломников из Трегье, Леонуа и Корнуайя. Мужчины прикрепили к шляпам веточки терновника и вереска. Но ни на ком уже не увидишь старинной кельтской одежды, — бретонские крестьяне теперь уже не носят безрукавку, сборчатую рубашку и широкие шаровары. На всех, даже на жителях Финистера, — черные брюки, как на сенаторе Субигу. Женщины сохранили, к счастью, свои национальные головные уборы. Их белые чепцы, то поднятые над головой в форме раковины, то ниспадающие на плечи, придают всему сборищу очень трогательный и печальный оттенок. Высокий чепчик жительниц Ванна, накрахмаленные круглые чепцы орэйских женщин, пуританские головные повязки, скрывающие волосы девушек из Кемперле, крылатые приподнятые вверх чепцы Понт-Авена, кружевной головной убор Роспордена, парчовая пурпурово-золотая повязка Пон-л'Абе, туго накрахмаленные лопасти чепцов Сен-Тегонека, наконец, натянутые, словно паруса, наколки Ландерно, — все эти головные уборы, украшавшие на протяжении стольких веков все новые и новые головы, придают чертам бретонок отпечаток давнего прошлого. Как быстро увядают эти женские лица, низко склоненные к земле, и, быть может, недалек уже час, когда она покроет их, но до последнего дня жизни они сохраняют в полной неприкосновенности форму своих старинных чепцов. Переходя от матерей к дочерям, эти головные уборы напоминают им, что одно поколение сменяет другое, и только род незыблем и долговечен. Итак, складка, заложенная на куске белого полотна, внушает людям мысль о времени, более длительном, чем человеческая жизнь.
Одевшись в черное, закутав щеки и шею, женщины Морбиана похожи на монахинь. Главная их прелесть в кротости. Усевшись в привычной для них позе на корточки, они исполнены безмятежной тяжеловесной, но довольно трогательной грации. В такие же головные уборы и одежды, как у них, наряжены и маленькие девочки — их дочери; они очаровательны, тем более что строгость одеяния еще сильнее выделяет детскую свежесть и жизнерадостность. Ничего нет прелестней этих семи-восьмилетних монашек. Они охотно борются друг с другом на траве. Их толкает на это инстинкт рода. Ведь они дочери храбрых воинов.
Церковь св. Анны совершенно новая, и пышность ее убранства еще не потускнела от времени. Г-н де Перт, может быть, талантливый архитектор. Но лишь время владеет тайной величайшей гармонии. Площадь, на которой стоит церковь, окружена лавчонками, где женщины покупают образки, четки, свечи, молитвенники на бретонском и французском языках и лубочные картинки.
Я не видел, как прошла процессия. Не знаю, сохранила ли она тот наивный характер, которым отличалась некогда. Я увидел только хоругви; но они показались мне слишком новыми и слишком роскошными.
Некогда в этой процессии принимали участие моряки, они тащили обломки судна, на которых спаслись при его крушении, за ними шли выздоравливающие, держа в руках предназначенный для них, но теперь уже ненужный саван; затем брели погорельцы, неся веревку или лестницу, благодаря которым они спаслись во время пожара. Особенно выделялись матросы Арзона. Это были потомки сорока двух моряков, которые во время войны с Голландией в 1673 году посвятили себя святой Анне и тем спаслись от пушек Рюйтера[559]. Впереди несли серебряный крест из церкви их прихода, а следом за распятием шли моряки, держа на плечах модель судна, наставившего на врага семьдесят четыре пушки, украшенного всеми флагами, и пели:
Сорок два лихих арзонца,
Смерть Голландии суля,
Бились мы за наше солнце:
Защищали короля.
Завещаем нашим детям
Вспоминать про жаркий бой,
Что в году семьдесят третьем
Был в июня день седьмой!
Пушки яростно гремели,
Дым окутал небеса;
Ядра, словно град, летели,
Рвя в лохмотья паруса…
И считать, конечно, надо
Чудом величайшим то,
Что из нашего отряда
Там не пострадал никто.
Брат наш, не теряя чести,
Сделал только шаг назад, —
А врагу, на том же месте
Угодил в лицо снаряд!..
Наш арзонец под ногами
Будто пропасть ощутил,
И несчастного мозгами
В этот миг обрызган был…
Только так, святая Анна,
Мы узнали в грозный час,
Что небесная охрана
Простирается на нас![560]
Это не чисто народная песня. Это плод творчества какого-нибудь почтенного настоятеля церкви, знавшего французскую грамматику. Мелодия песни так печальна, что хочется плакать.
Против церкви построена двойная лестница неплохого стиля. Она представляет собою подражание Scala santa[561] в Риме, ступени которой весь год покрыты деревянным чехлом. По орэйской лестнице, так же как и по римской, полагается подыматься только ползком, на коленях. За каждую пройденную таким образом ступень получают отпущение грехов за девять лет. Я наблюдал около сотни женщин, занятых этим душеспасительным делом. Но должен сказать, что большинство мошенничало. Я заметил, как некоторые очень ловко ставили на ступеньки ногу. Плоть немощна! Помимо того, мысль обмануть апостола Петра, естественно, должна нравиться женщине.
Эта лестница выдержана в стиле Людовика XIII, так же как примыкающий к церкви монастырь. Культ святой Анны Орейской восходит не более чем к XVII веку. Происхождением своим он обязан видениям бедного фермера из Керанны по имени Ив Николазик.
Этот добрый человек страдал зрительными и слуховыми галлюцинациями. Порой ему виделась зажженная свеча, — например, когда он вечером возвращался домой, рядом с ним по воздуху двигалась свеча, и ветер не колыхал ее пламени. Как-то раз летним вечером он пригнал волов к источнику на водопой и увидел там прекрасную даму в ослепительно белой одежде. С тех пор эта дама часто являлась ему и дома и на гумне.
Однажды она сказала ему:
— Ив Николазик, не страшись ничего: я Анна, мать пресвятой девы Марии. Скажи настоятелю вашего прихода, что в Босенно была некогда, еще до того, как там возникло селение, часовня, посвященная мне. Она была первой в этой местности, но вот уже девятьсот восемьдесят лет и шесть месяцев, как она разрушена. Я желаю, чтобы она была как можно скорее восстановлена, и вы должны об этом позаботиться. Богу угодно, чтобы мне поклонялись в сей часовне.
В видениях фермера Николазика нет ничего странного. До него такие видения являлись Жанне д'Арк, затем кузнецу из Салона, которого привели к Людовику XIV, а позже — землепашцу Мартену из Галлардона, и все получали от небожителей особые поручения. Как Жанна д'Арк, как и кузнец, как и Мартен, фермер из Керанны сначала противился божественному голосу, ссылаясь на свою немощность, невежество и на трудность задания. Но дама, явившаяся ему у источника, настаивала; слова ее стали звучать более властно. Чудеса умножились — то неожиданно вспыхивало сияние, то падал звездный дождь. Когда пристально изучаешь галлюцинирующих, то поражает сходство, более того — тождество их психического состояния и поступков, Николазик, преследуемый навязчивой идеей, отправился к приходскому священнику в Плюмере; тот принял его очень сурово и отправил обратно: сей рожь и разводи скотину. Но ясновидящий не пал духом и в конце концов преодолел все препятствия. Николазик был человеком простым, безграмотным, говорившим только по-бретонски.
Его искренность столь же мало подлежит сомнению, как искренность Жанны д'Арк, кузнеца из Салона и Мартена из Галлардона. Но возможно, что около него подвизались ловкие и хитрые люди. Мне не удалось ознакомиться с его историей по подлинным текстам, она мне известна только по трудам современных агиографов, назидательная и ханжеская манера которых исключает всякую критику. Но мне кажется, что бедняга, сам того не ведая, действовал по указке г-на де Керложена. Этот сеньор уже пожертвовал участок земли, на котором следовало построить часовню. Вполне понятно соображение, побуждавшее в ту пору бретонских католиков поощрять ясновидящих и множить всяческие чудеса. Католиков испугали успехи реформации, и опасения их еще не утихли. Дело происходило в 1625 году. Как раз в это время герцог Субиз[562] получил от ларошельской кальвинистской армии назначение командовать войсками в провинциях Пуату, Бретани и Анжу; встав во главе армии, он захватил в плен королевскую эскадру в устье Блаве. Необходимо было разжечь старую веру, нанести протестантам сокрушительный удар. Видения добряка Николазика попали как раз в точку. Ими воспользовались.
Мы говорили выше, что ясновидящие, получая повеление от ангела или святого, действуют совершенно одинаково. Все они подают «знамение». Жанна д'Арк, когда ее вооружали, послала в церковь богоматери за мечом, отмеченным пятью крестами, который действительно там оказался. С тех пор пошло предание, будто этот меч замурован в церковной стене.
Ив Николазик дал приблизительно такое же знамение чуда. Следуя за свечой, которую держала невидимая рука, чудак спустился в ров, вскопал землю и извлек деревянную статую, изображающую святую Анну. Место, где была найдена статуя, называлось Кер-Анна. И возможно, что здесь некогда стояла часовня, освященная матери богородицы. Но невозможно поверить, что эта часовня была разрушена девятьсот восемьдесят лет и шесть месяцев тому назад, как утверждала дама в белой одежде. В VI веке ни святой Анне, ни ее дочери не посвящали часовен и статуй. А если эта дама в белой одежде была сама святая Анна, то, следовательно, она не знала своей собственной иконографии. Но это нисколько не смущает бретонцев, которых я видел в день прощения.
Столь чтимая в Орэ святая Анна, изображение которой венчает замкнутый ореол, каким до сей поры иконописцы окружали лишь чело богоматери, не имеет легенды. Евангелие даже не упоминает о ней. Святой Епифаний, кажется, первым говорит о долгом бесплодии, тяготевшем над ней как позор. На празднике Ковчега священник отверг ее дары. Она таилась от всех в своем доме в Назарете и вдруг, уже на склоне лет, зачала Марию. Паломники поют на голос «Амариллис, как ты чиста» — песнопение, в котором Анна в следующих строках просит небо даровать ей ребенка:
О боже! — ты, кого я так люблю и почитаю, Бесплодью моему пошли скорей конец! Уж двадцать лет, как от бесчестья я страдаю! Бездетна я! Дай мне дитя, творец! Я обещаю — сердцем всем, а не устами, боже, Плод посвятить тебе супружеского ложа! Не смею ни к одной прийти я из подруг. Сними с меня, господь, пятно позора! Лишь оскорбленья слышу я вокруг И от стыда поднять не смею взора! Взгляни, господь, хоть раз единый с состраданьем На бедное, тебе покорное созданье![563]Что за беда, если крестный ход в Орэ, объединяющий такое множество людей общими для них верованиями, своим происхождением обязан галлюцинациям невежественного больного? Бретонец не одарен исследовательской мыслью. Он не умеет критиковать, и, право, ему не следует ставить это в вину. Критический дух развивается в особых, весьма редких условиях, а посему не может оказывать действенного влияния на верования человечества. Эти верования совершенно ускользают из-под контроля разума. Они могут быть нелепыми, бессмысленными и все же обладать властью над человеческими душами. Вера, говорят, утешает. Избитая фраза. Если над этим задуматься, то, может быть, поймешь, что верующих чаще обуревает страх, чем радость. Верования бретонцев кажутся мне исключительно мрачными. Во всяком случае, они доставляют им не больше удовольствия, чем трубочка-носогрейка и бутылка водки. Эти упрямые, дикие и молчаливые люди подобны краснокожим, и, глядя на них, невольно предвидишь день, когда, бормоча псалом, выпивая и покуривая, они покорно умрут, глядя на ланды или на море.
КЛИО[564]
КИМЕЙСКИЙ ПЕВЕЦ
Он шел берегом по тропинке, вдоль холмов. Открытый лоб его был изборожден глубокими морщинами и стянут красной шерстяной повязкой. Завитки седых волос на висках разлетались от морского ветра. Белоснежная борода ниспадала на грудь густыми прядями. Хитон и босые ступни его были того же цвета, что и дороги, по которым он бродил столько лет. На боку у него висела самодельная лира. Звали его Старцем, звали и Певцом. А дети, которых он обучал поэзии и музыке, именовали его Слепцом, потому что на зрачки его, с годами утратившие блеск, тяжело опускались веки, распухшие и воспаленные от дыма: он имел обыкновение петь, сидя у очага. Однако он не жил в беспросветной тьме, и говорили, что он видит то, чего другие смертные не видят. Уже сменилось три поколения людей, а он все ходил из города в город. И вот, пропев целый день у Эгейского царя, возвращался он в свой дом, дымок которого уже виднелся вдали; он шел без остановки всю ночь, остерегаясь дневного зноя. И с первыми проблесками зари увидел белую Киму, город, где он родился. Сопровождаемый псом, он медленно шагал, опираясь на кривой посох; выпрямившись всем телом, закинув голову, он из последних сил преодолевал крутой спуск в узкую долину. Солнце, всходя над вершинами азиатских гор, одевало розовым светом легкие облака, а также и возвышенности островов, разбросанных в море. Берег сверкал. Но цепь холмов на востоке хранила в тени венчавших ее мастиковых и фисташковых деревьев сладостную прохладу ночи.
Старец отмерил на покатой поверхности земли двенадцать раз длину двенадцати копий и увидел, налево от себя, в теснине двух скал-близнецов, вход в священную рощу. Там, у самого источника, стоял алтарь, воздвигнутый из каменных глыб.
Лавр в ярком цвету почти совсем закрывал его своими тяжелыми ветвями. На утоптанной площадке перед алтарем белели кости жертв. Кругом, на сучках олив, было развешено множество даров. А еще дальше, в грозном сумраке ущелья, высились два древних дуба с пригвожденными к их стволам истлевшими головами быков. Зная, что алтарь этот посвящен Фебу, старик вошел в рощу и, вынув из-за пояса небольшую чашу из обожженной глины, наклонился к ручью, который длинными излучинами струился к лугу меж берегов, поросших крессом и дикой петрушкой. Он наполнил чашу холодной водой, но из благочестия, прежде чем напиться, вылил несколько капель на землю перед алтарем. Он чтил бессмертных богов, которым неведомы смерть и страдания в противоположность жалким человеческим поколениям, чередою проходящим по земле. Его охватил трепет, он устрашился стрел сына Латоны[565]. Он был изможден недугами и обременен годами, но любил жизнь и боялся умереть. Вот почему его осенила благая мысль. Он нагнул гибкий ствол молодого вяза и, притянув его к себе, повесил глиняную чашу на верхушку деревца, которое, выпрямившись, унесло дар Старца в небесный простор.
Белая Кима, обнесенная стенами, вставала на морском берегу. Неровная дорога, вымощенная плоскими камнями, вела к воротам города. Ворота эти были сооружены в давно забытые времена, и создание их приписывалось богам. На поперечном камне виднелось несколько высеченных знаков, которые никто не умел истолковать, но все почитали счастливым знамением. Недалеко от ворот раскинулась городская площадь, где под сенью деревьев блестели скамьи старейшин. Как раз возле этой площади, на стороне противоположной морю, и остановился Старец. Тут было его жилище. Тесное и приземистое, оно не могло соперничать с красивым домом соседа, знаменитого прорицателя, обитавшего в нем со своими детьми. Вход был до половины завален навозной кучей, которую свинья подкапывала рылом. Куча эта была гораздо меньше любой из тех, что виднелись перед жилищами богачей. Однако за домом тянулись виноградник и хлева, собственноручно сложенные Старцем из грубого камня. Солнце в побелевшем небе достигло зенита; морской ветерок упал. Неуловимое пламя веяло в воздухе, обжигая легкие людей и животных. Старец на миг остановился на пороге, отирая со лба пот тыльной стороной руки. Пес его замер, не спуская глаз с хозяина, высунув язык, тяжело дыша.
Старая Меланто вышла из глубины жилища и, остановившись в дверях, произнесла слова приветствия. Она не поспешила навстречу хозяину, потому что какое-то божество наслало на ее ноги злого духа, который раздувал их так, что они становились тяжелее мехов с вином. Это была карийская рабыня[566], в юные годы пожалованная одним из царей певцу, тогда еще молодому и полному сил. И на ложе своего нового господина зачала она много детей. Но никто из них не остался с нею. Одни умерли, другие ушли далеко, в Ахейские города, чтобы там стать искусными в пении или колесничном деле, ибо все они были от природы хитроумны. А Меланто жила в опустевшем доме со своей невесткой Арете и ее двумя детьми.
Она последовала за своим господином в большую комнату с закопченными балками, посреди которой, перед домашним алтарем, распластался камень-очаг, покрытый раскаленными докрасна углями и растопленным жиром. В эту комнату выходили расположенные в два яруса тесные каморки; деревянная лестница вела наверх, в помещение, предназначенное для женщин. У опорных столбов, поддерживавших кровлю, было сложено бронзовое оружие, которое старик носил в молодости, когда сопровождал царей, отправлявшихся на колесницах во вражеские города, чтобы отнять у героев похищенных ими кимейских дев. К одной из потолочных балок была подвешена задняя четверть бычьей туши.
Старейшины города прислали ее накануне, чтобы почтить певца. Это порадовало его. Он глубоко вздохнул иссушенной летами грудью и, не присаживаясь, вытащил из-под хитона, вместе с несколькими дольками чеснока — остатками грубого ужина, — дарованный ему Эгейским царем камешек, упавший с неба и очень ценный: то был кусочек железа, но слишком маленький, чтобы из него можно было сделать наконечник для копья. Принес он с собой и найденный им в пути булыжник. Булыжник этот, если смотреть на него с определенной стороны, напоминал человеческую голову. И Старец, показывая его Меланто, сказал:
— Смотри, женщина, до чего этот булыжник похож на кузнеца Пакороса; не будь на то воли богов, камень не мог бы так походить на Пакороса.
Когда же старуха Меланто, облив водой его ладони и ступни, смыла с них пыль, он сорвал тушу и, обхватив ее обеими руками, отнес на алтарь и стал сдирать с нее шкуру. Мудрый и осмотрительный, он не позволял ни женщинам, ни детям готовить еду и по примеру царей сам жарил мясо.
Тем временем Меланто разжигала огонь в очаге. Она до тех пор дула на сухие хворостинки, пока бог не объял их пламенем. Как только огонь взвился, старик бросил в него нарезанное мясо и стал перевертывать куски бронзовыми вилами. Он сидел на корточках и вдыхал наполнявший комнату едкий дым, от которого у него слезились глаза; однако это не раздражало его, потому что он к этому привык и знал, что такой дым — признак довольства. По мере того, как жесткое мясо уступало непреодолимой силе огня, он молча клал себе в рот кусок за куском и медленно пережевывал их остатками зубов. Старуха Меланто, — она не отходила от него, — подливала ему черное вино в глиняную чашу, подобную той, что он принес в дар богу.
Утолив голод и жажду, он спросил, все ли благополучно в доме и в хлеву. И осведомился, сколько шерсти напрядено в его отсутствие, сколько сыра положено на круг и много ли созрело маслин. Он подумал о том, что достояние его скудно, и сказал:
— Герои взращивают на пастбищах стада быков и телок. У них много красивых и сильных рабов; двери их жилищ сделаны из слоновой кости и меди, а столы ломятся от золотых кратеров. Непоколебимое мужество — залог их богатств, которое они нередко сохраняют до преклонных лет. В молодости я, конечно, не уступал им в отваге, но у меня не было ни коней, ни колесниц, ни слуг, ни даже прочных доспехов, и поэтому я уступал им в умении сражаться и захватывать золотые треножники и прекрасных женщин. Тот, кто сражается пешим и плохо вооруженным, не может убить много врагов, так как сам боится смерти. Вот почему мне, сражавшемуся под стенами городов в безвестной толпе прислужников, никогда не перепадала богатая добыча.
Старуха Меланто отозвалась:
— Война приносит людям богатство и отнимает его у них. Родитель мой, Кифос, владел в Милате дворцом и несметными стадами. Но люди в доспехах все у него забрали, а самого его убили. Меня же увели в рабство, однако я не знала жестокого обращения, потому что была молода. Вожди возводили меня на свое ложе; и у меня никогда не было недостатка в пище. Ты — мой последний господин и притом самый бедный.
В речи ее не слышалось ни радости, ни печали. Старец ответил ей:
— Меланто, ты не можешь пожаловаться на меня, ибо я всегда был к тебе добр. Не кори меня за то, что я не снискал больших богатств. Богатыми бывают оружейники и кузнецы. Много получает за свою работу тот, кто искусен в изготовлении колесниц. Щедро одаривают прорицателей. Но певцам живется тяжело.
Старуха Меланто заметила:
— Многим живется тяжело.
И грузной поступью вышла из хижины, чтобы с помощью невестки принести дров из подполья. Стоял час, когда палящий зной обессиливает людей и животных, так что даже голосистые птицы умолкают в неподвижной листве. Старец растянулся на циновке, прикрыл лицо и уснул.
Пока он спал, его посетило несколько видений, не менее прекрасных, не менее причудливых, чем те, что являлись ему каждый день. В этих снах пред ним возникали образы животных и людей. И, узнавая в них тех смертных, которых он знал, когда они еще жили на цветущей земле, и которые, с тех пор как угас для них белый свет, лежали под могильной насыпью, он убеждался в том, что души усопших реют в воздухе, но что они бессильны и призрачны, как тени. В снах ему открывалось, что животные и растения, которые порой грезятся нам, — тоже тени. Он понял, что мертвые, блуждающие в царстве Аида, сами создают свой образ; ведь никто другой не мог бы сделать это за них, разве только кто-нибудь из богов, которым по нраву морочить слабый ум людей. Но он не был толкователем снов и не умел отличать лживые видения от истинных; и, устав искать разгадку грядущего в смутных образах ночи, он безучастно смотрел, как они проходят за его сомкнутыми веками.
Пробудившись, он увидел перед собой почтительно выстроившихся кимейских детей, которых он учил поэзии и музыке, как его самого когда-то учил отец. Среди них находились и оба сына его невестки. Было здесь много слепых, ибо к певческому званию охотнее всего предназначали мальчиков, лишенных зрения, которые не могли ни работать в поле, ни сопутствовать героям в военных походах.
Дети держали в руках приношения — плату за уроки: плоды, сыр, мед в сотах, овечье руно — и ждали, пока учитель одобрит приношения, чтобы возложить их на домашний алтарь.
Старец встал с циновки, взял лиру, подвешенную к потолочной балке, и благосклонно сказал:
— Дети, справедливость требует, чтобы богатые дарили больше, а бедные — меньше. Отец наш Зевс разделил блага между людьми не поровну. Но он покарает ребенка, который присвоит себе дань, уготованную божественному певцу.
Бдительная Меланто поспешила убрать приношения с алтаря. А Старец, настроив лиру, стал разучивать с детьми песнь, и они, скрестив ноги, уселись вокруг него на земляном полу.
— Слушайте, — обратился он к ним, — «Единоборство Патрокла с Сарпедоном»[567]. Эта песнь прекрасна.
И он запел. Он добивался силы и разнообразия звучания, оставляя ритм и темп для всех стихов неизменными; а чтобы поддержать свой слабеющий голос, через равные промежутки времени извлекал звук из трехструнной лиры. Перед тем же, как сделать паузу, он издавал резкий крик, сильно ударив по струнам.
Когда число проскандированных им стихов дважды сравнялось с числом пальцев на обеих руках, он велел мальчикам повторить эти стихи, и они произнесли их хором, тонкими голосами, прикасаясь по примеру учителя к своим игрушечным лирам, собственноручно вырезанным ими из дерева и совершенно беззвучным.
Старец терпеливо повторял одни и те же стихи до тех пор, пока маленькие певцы не затвердили их. Детей, слушавших внимательно, он хвалил, а тех, кому не хватало ума или способностей, колотил своей лирой, и они в слезах отходили к опорному столбу. Он показывал, как надо петь; но не давал никаких правил, полагая, что сущность поэзии издревле определена и не людям судить о ней. Наставления его касались только требований благопристойности.
Он внушал ученикам:
— Чтите царей и героев, стоящих над обыкновенными людьми. Называйте героев по их именам и по именам их отцов, дабы имена эти не забылись. Если вам доведется бывать в собраниях, то, садясь, не задирайте хитон до ляжек, и да будет осанка ваша воплощением изящества и скромности.
И еще внушал он им:
— Не плюйте в реки, ибо реки священны. Ни по забывчивости, ни по прихоти ничего не меняйте в песнях, которым я вас учу; а когда какой-нибудь царь молвит вам: «Прекрасные песни! Кто выучил тебя им?» — отвечайте: «Я перенял их от кимейского Старца, который перенял их от своего отца, а тот сложил их, вдохновленный, верно, некиим божеством».
От туши осталось несколько отличных кусков. Старец съел один из них возле очага и раздробил кости бронзовым топором, чтобы извлечь мозг, которым только он один в доме был достоин питаться, затем он разделил остатки мяса между женщинами и детьми так, чтобы им хватило на два дня.
Тут он увидел, что скоро в его доме совсем не останется сытной еды, и подумал: «Богачи любимы Зевсом, а бедняки нет. Видно, я, сам того не ведая, оскорбил кого-нибудь из богов, обитающих в тайниках лесов и гор, а скорее всего — дитя одного из бессмертных; вот мне и приходится, во искупление невольного греха, в старости влачить нищенскую жизнь. Порою поступки, достойные кары, совершаются нами без дурного умысла, а потому лишь, что боги не вполне открыли людям, что им дозволено, а что запрещено. Воля богов непостижима». Долго еще рассуждал он так с самим собою, и в страхе, что к нему может вернуться жестокий голод, решил не проводить эту ночь в праздности дома, а снова пуститься в путь, на сей раз в те края, где среди скал течет Гермос и откуда видны Орнея, Смирна и красавица Гиссия, что лежат на горах, врезающихся в море, точно нос финикийского корабля. И вот в час, когда первые звезды дрожат в бледном небе, он, стянув ремень своей лиры, ушел берегом по направлению к жилищам богачей, которые любят слушать во время долгих пиршеств хвалы героям и родословную богов.
Он провел, по обыкновению, всю ночь в пути, а в розовых лучах утреннего солнца заметил какой-то город, расположенный на высоком мысе, и узнал в нем роскошную Гиссию, облюбованную голубями, которая смотрит с вершины утеса на белые острова, подобные нимфам, резвящимся в искристом море. Не доходя до города, он присел возле родника, чтобы передохнуть и подкрепиться луковицами, принесенными из дома.
Он еще не успел как следует поесть, когда какая-то девушка с корзиной на голове пришла к источнику стирать белье. Сперва она посмотрела на старика недоверчиво, но, увидев, что у него поверх рваного хитона висит лира, что он дряхлый и еле живой от усталости, безбоязненно подошла ближе и, охваченная внезапно нахлынувшим чувством жалости и благоговения, зачерпнула руками немного воды и освежила уста путника.
Тогда он нарек ее царевной; и, пророча ей долгую жизнь, сказал:
— Девушка, рой желаний вьется вокруг твоего пояса. Счастлив тот, кто поведет тебя на свое ложе. Но хвала твоей красоте в устах старца звучит как крик ночной птицы на кровле новобрачных. Я бродячий певец. Девушка, напутствуй меня добрым словом.
И девушка отозвалась:
— Если, судя по словам твоим и виду, ты музыкант, играющий на лире, то не злой рок ведет тебя в этот город. Сегодня богач Мегес принимает у себя дорогого гостя и задает в честь него пир для знатных граждан. Он пожелает, конечно, чтобы они послушали хорошего певца. Ступай к Мегесу. Дом его виден отсюда. Добраться до него со стороны моря невозможно, потому что он расположен на том высоком мысе, что выдается среди волн, и доступен одним лишь зимородкам. Но если ты поднимешься со стороны суши по ступеням, вырубленным в скале, и пойдешь, держась холмов, поросших виноградниками, то легко узнаешь дом Мегеса. Он свежевыбелен и просторнее других.
И Старец встал на одеревенелые ноги, взобрался по ступеням, вырубленным в скале людьми стародавних времен, и, достигнув плоскогорья, на котором раскинулся город Гиссия, без труда узнал дом богача Мегеса.
С первых же шагов все здесь ему благоприятствовало: по двору струилась кровь только что заколотых быков и далеко разносился запах горячего сала. Он переступил порог, вошел в обширный пиршественный зал и, коснувшись рукой алтаря, приблизился к Мегесу, который отдавал распоряжения слугам и рассекал туши. Гости уже весело расположились вокруг очага в ожидании обильных яств. Было среди приглашенных немало царей и героев. Но гость, которого Мегес желал почтить этой трапезой, был Хиосский царь — он в погоне за богатством долго плавал по морям и претерпел много бед. Он звался Ойнеем. Все приглашенные смотрели на него с восхищением, потому что он, как некогда богоравный Одиссей, пережил множество кораблекрушений, делил на островах ложе с волшебницами[568] и вернулся с несметными сокровищами. Он был одарен лукавым умом и к повести о своих странствиях и треволнениях приплетал всякие небылицы.
Узнав певца по лире, висевшей у него на боку, богач Мегес обратился к Старцу:
— Добро пожаловать. Что ты можешь нам спеть?
Старец ответил:
— Я знаю «Ссору царей, которая причинила большие беды ахейцам»[569], знаю «Бой у стены»[570]. Прекрасная песнь! Я знаю также песни «Обманутый Зевс», «Посольство», «Погребение мертвых»[571]. Прекрасные песни! Я знаю еще шесть раз шестьдесят очень красивых сказаний.
Так давал он понять, что знает их великое множество. Но числа им он сам не ведал. Богач Мегес насмешливо возразил:
— Все бродячие певцы в надежде на щедрое угощение и богатый подарок уверяют, будто знают много песен; но на деле убеждаешься, что они затвердили лишь несколько стихов и повторяют их без конца, утомляя слух героев и царей.
Старец дал достойный ответ.
— Мегес, — сказал он, — ты славен своим богатством. Знай же, что число известных мне песен равно числу быков и телок, которых твои волопасы выгоняют на горные пастбища.
Мегес, дивясь уму Старца, ласково сказал:
— Нужна немалая память, чтобы удержать в голове столько песен. Но скажи, известна ли тебе правда об Ахиллесе и Одиссее? Ведь чего только не выдумывают об этих героях!
И певец ответил:
— Все, что мне известно об этих героях, я узнал от отца, которому поведали о них сами Музы, ибо в стародавние времена бессмертные Музы посещали в пещерах и лесах божественных певцов. Я не стану приукрашивать вымыслами древние сказания.
Он говорил так из благоразумия. А между тем он имел обыкновение прибавлять к песням, знакомым ему с детства, стихи из других сказаний или им самим придуманные. Он сочинял чуть ли не целые песни. Но он скрывал, кто их творец, боясь придирок. Герои чаще всего требовали от него древних сказаний, которые, как они думали, он перенял у какого-то божества, и недоверчиво относились к новым песням. Поэтому, скандируя стихи, созданные его талантом, он тщательно скрывал их происхождение. А так как он был отличным поэтом и точно следовал установленным канонам, то стихи его ни в чем не уступали стихам прадедов; они были равны им по форме и по красоте и, едва родившись, заслуживали неувядаемой славы.
Богач Мегес был человек умный. Угадав в Старце хорошего певца, он отвел ему почетное место у очага и сказал:
— Старец, когда мы утолим голод, ты споешь нам все, что знаешь об Ахиллесе и Одиссее. Постарайся очаровать слух Ойнея, гостя моего, ибо это герой, исполненный мудрости.
Ойней, много лет скитавшийся по морям, спросил музыканта-лирника, известно ли ему что-либо о странствиях Одиссея. Но судьба героев, возвратившихся из-под Трои, была еще окутана тайной, и никому не было ведомо, что перенес Одиссей, скитаясь по бесплодному морю.
Старец ответил:
— Я знаю, что богоравный Одиссей взошел на ложе Цирцеи и ловко обманул Циклопа. Женщины передают друг другу об этом всякие небылицы. Но возвращение героя в Итаку скрыто от певцов[572]. По словам одних — он снова завладел своей женой и сокровищами; по словам других — прогнал Пенелопу за то, что она стала наложницей своих женихов; а сам, наказанный богами, бродит, не находя покоя, среди народов, с веслом на плече.
Ойней отозвался:
— В странствиях моих до меня дошла весть, что Одиссей пал от руки сына.
Тем временем Мегес оделял гостей мясом. Он подносил каждому приличествующий ему кусок. За это Ойней удостоил его высокой похвалой:
— Сразу видно, Мегес, что ты привык задавать пиры, — сказал он ему.
Быки Мегеса питались душистыми травами, покрывавшими склоны гор, и мясо их так благоухало, что герои ели, ели и не могли наесться. А Мегес беспрестанно наполнял вином глубокую чашу, которой обносил гостей, и трапеза затянулась на весь день. Такого прекрасного пира никто не помнил.
Солнце уже почти опустилось в море, когда волопасы, стерегшие в горах стада Мегеса, пришли за своей долей мяса и вина. Мегес чтил их за то, что им, в отличие от беспечных пастухов равнинных пастбищ, приходилось в панцире, с медным копьем в руке оберегать стада от нападения азиатских племен. И волопасы эти, ничем не отличаясь от царей и героев, не уступали им и в бесстрашии. Их сопровождали два начальника — Пейрос и Тоас, которых хозяин поставил во главе, как самых храбрых и самых умных. Больших красавцев, и вправду, трудно было бы сыскать. Мегес принял их у очага, как славных защитников своих богатств. Он дал им вина и мяса, сколько их душе было угодно.
Любуясь ими, Ойней обратился к хозяину дома:
— Сколько я ни странствовал, мне нигде не встречались люди с такими крепкими и мускулистыми руками и ногами, как у этих молодцов.
Тут Мегес обронил неосторожное слово. Он произнес:
— Пейрос сильнее в борьбе, зато Тоас превосходит его в беге.
При этих словах волопасы обменялись злобными взглядами, и Тоас сказал Пейросу:
— Видно, ты опоил господина зельем, отнимающим разум, если он мог сказать, что ты сильнее меня в борьбе.
А Пейрос, рассвирепев, ответил:
— Тешу себя надеждой одержать над тобой верх в борьбе. А в беге оставляю тебе оценку, какую ты получил от господина. Ничего удивительного, что у тебя оленьи ноги, ведь у тебя оленье сердце.
Но мудрый Ойней утихомирил ссорившихся волопасов. Он рассказал несколько остроумных притч, показавших, как опасны перебранки на пирах. Он говорил хорошо и заслужил всеобщее одобрение. Спокойствие восстановилось, и Мегес попросил Старца:
— Воспой, друг мой, гнев Ахиллеса и собрание царей[573].
И Старец, настроив лиру, огласил густой воздух чертога громовыми раскатами песнопения.
Дыхание властно вырывалось из его груди, и гости постепенно умолкали, вслушиваясь в размеренную речь, воскрешавшую достопамятные времена. И многие думали: «Удивительно, как может такой старый человек, иссушенный годами, словно виноградная лоза, лишенная плодов и листьев, извлекать из груди столь могучее дыхание».
Одобрительный шепот то и дело поднимался над собранием, словно дыхание бурного зефира в лесах. Вдруг ссора волопасов, на миг затихшая, вспыхнула с неудержимой яростью. Разгоряченные вином, они вызывали друг друга на состязание в борьбе и беге. Дикие крики их заглушали голос певца, который тщетно повышал благозвучное свое стенание и усиливал звуки лиры. Захмелевшие пастухи, которых привели с собой Пейрос и Тоас, давали волю рукам и грубо переругивались. Они давно уже разделились на два стана, охваченные такой же враждой, как и их главари.
— Собака! — крикнул Тоас.
И он так сильно ударил соперника кулаком по лицу, что у того кровь ключом брызнула изо рта и из носа. Пейрос, невзвидев света, головой толкнул Тоаса в грудь, и тот упал навзничь с переломанными ребрами. В тот же миг враждующие волопасы сшибаются, осыпая друг друга бранью и ударами.
Тщетно Мегес и цари пытаются разнять безумцев. Даже мудрого Ойнея и того отшвырнули от себя озверевшие противники, которых кто-то из богов лишил рассудка. Медные кубки летят во все стороны. Большие бычьи кости, дымящиеся факелы, бронзовые треножники взлетают вверх и падают на дерущихся. Сплетенные тела валятся на очаг, который гаснет в потоках вина, льющегося из прорванных мехов.
Глубокий мрак окутывает зал, где раздаются хула на богов и вопли раненых. Неистовые руки хватают горящие поленья и бросают их во тьму. Пылающая головня попадает в лоб певцу; он стоит безмолвный и недвижимый.
Тогда голосом, покрывшим шум схватки, проклял он эту обитель раздора и всех собравшихся тут нечестивцев. Затем, прижав к груди лиру, он вышел из дома и побрел к морю вдоль по высокому мысу. Гнев его сменился глубокой усталостью и отвращением к людям и к жизни.
Желание слиться с богами переполняло его грудь. Все вокруг было окутано мягким сумраком, дружелюбной тишиной и ночным покоем. На западе, в тех пределах, где, говорят, витают тени умерших, божественная луна, повисшая в прозрачном небе, усыпала серебристыми цветами улыбающееся море. А старый Гомер до тех пор шел по высокому мысу, пока земля, так долго носившая его, не оборвалась у него под ногами.
KOMM, ВОЖДЬ АТРЕБАТОВ[574]
I
Атребаты жили в туманном краю, у всегда неспокойного моря, на побережье, пески которого вздымались от порывистых ветров, подобно волнам океана. Племена их селились по зыбким берегам широкой реки, в местах, огороженных поваленными деревьями, среди запруд, в дубовых и березовых лесах. Они разводили там большеголовых, короткошеих коней с широкой грудью, прекрасным крупом, крепкими ногами — превосходных упряжных животных. Они откармливали на лесных опушках огромных свиней, диких, как вепри. Они охотились с собаками на хищных зверей, головы которых пригвождали к стенам своих деревянных хижин. Пищей им служило мясо этих животных, а также морская и речная рыба. Атребаты жарили ее и приправляли солью, уксусом и тмином. Они утоляли жажду вином и во время своих львиных трапез за круглыми столами напивались допьяна. Были среди них женщины, знавшие свойства разных трав; они собирали белену, вербену и целебное растение селагинеллу, которое находили в сырых расщелинах скал. Из смолы тиса женщины приготовляли яд. Были у атребатов также жрецы и поэты, которые знали то, что неведомо другим людям.
Эти жители лесов, болот и плоских песчаных берегов были рослы и белокуры; волосы свои они никогда не стригли, а крупные белые тела закутывали в шерстяные плащи багряного цвета всех оттенков, в какие осень окрашивает виноградники. Они подчинялись вождям, стоявшим над племенами.
Атребаты знали, что римляне пришли воевать с народами Галлии и что целые племена со всем их достоянием были проданы как военная добыча. Вести обо всем происходившем на берегу Роны или Луары доносились до них очень быстро. Знаки и слова летят, как птицы. И то, что говорилось на восходе солнца в Генабоме Карнутском, становилось известным на песках океана в первую же вигилию ночи. Но они нисколько не тревожились об участи своих братьев, а, наоборот, завидуя этим братьям, радовались бедам, которые обрушивал на них Цезарь. Они не питали ненависти к римлянам, ведь они их не знали. Они не боялись римлян, потому что им казалось невероятным, чтобы какое-нибудь войско могло проложить себе путь сквозь чащи и трясины, окружавшие их жилища. У атребатов совсем не было городов, хотя они дали такое название Неметосенне, обширному месту, обнесенному частоколом, которое в случае нападения служило убежищем воинам, женщинам и стадам. Как было уже сказано, на всем протяжении атребатской земли было много таких убежищ, но более мелких. Их тоже называли городами.
Атребаты нисколько не рассчитывали на то, что засеки окажутся достаточной преградой для римлян, которые, как им было известно, умели брать даже города, защищенные каменными стенами и деревянными башнями. Они скорее полагались на полное отсутствие дорог в их местности. Но римские солдаты сами прокладывали пути, по которым шли. Они копали землю с силой и быстротой, непостижимыми для галлов, обитателей лесных недр, у которых железо встречалось реже золота. И вот однажды атребаты с глубоким изумлением узнали, что длинный, прекрасно выложенный щебнем римский тракт со столбами, расставленными от мили к миле, уже приближается к их зарослям и топям. Тогда они заключили договор с народами, рассеянными по лесу, прозванному Бескрайним, и противопоставили Цезарю союз многочисленных племен. Атребатские вожди бросили воинственный клич, надели через плечо перевязь из золота и кораллов, на голову — шлем, украшенный рогами оленя, буйвола или лося, и извлекли мечи, которые ничего не стоили против римских обоюдоострых мечей. Они были побеждены, а так как отличались храбростью, то дали разбить себя дважды.
И вот был среди них очень богатый вождь по имени Комм. В ларях его хранилось множество ожерелий, запястий и колец. Там же хранил он и человеческие головы, пропитанные кедровым маслом. То были головы неприятельских вождей, убитых им самим или его отцом или же отцом его отца. Комм наслаждался жизнью человека сильного, свободного и могущественного.
Оружие, кони, колесницы, британские доги, толпа воинов и жен сопутствовали ему, когда, следуя своему желанию, он отправлялся то в лес, то на берег реки, где находились его необъятные владения, и останавливался в каком-нибудь приюте под сенью рощ, в одном из тех уединенных поместий, каких у него было так много. Там, спокойный, окруженный верными людьми, он охотился на диких зверей, удил рыбу, объезжал коней, вспоминал свои бранные подвиги. И снова пускался в путь, как только ему становилось скучно. Это был человек очень жестокий, коварный, проницательного ума, превосходный в действии, превосходный в своем красноречии. Когда атребаты кликнули клич, он не надел шлема, украшенного рогами зубра, а преспокойно остался в одном из своих деревянных жилищ, полных золота, воинов, коней, жен, диких свиней и копченой рыбы. После разгрома его соплеменников он пошел к Цезарю и поставил свой ум и влияние на службу римлянам. Он встретил благосклонный прием. Рассудив, и не без основания, что ловкий и могущественный галл может умиротворить край и держать его в повиновении римлянам, Цезарь дал ему большие полномочия и провозгласил его царем атребатов. Так вождь Комм стал Commius Rex[575]. Он облачился в пурпур и повелел изображать себя на монетах, в остроконечной тиаре, как у эллинских и варварских царей, корона коих зависела от расположения Римского народа.
Он нисколько не отвратил от себя атребатов. Его поведение, своекорыстное и осторожное, отнюдь не повредило ему во мнении народа, у которого в отношении родины и гражданского долга не было правил греков и латинян; дикий, чуждый честолюбия и всякой общественной жизни, народ этот уважал хитрость, уступал силе и восхищался царской властью, как великолепным новшеством. К тому же у галлов, в большинстве своем нищих рыбаков с туманного побережья и суровых лесных охотников, была более веская причина относиться снисходительно к поведению и богатству вождя Комма: не подозревая, что сами они — атребаты и что вообще на свете имеются атребаты, они мало думали о царе атребатов. Следовательно, нельзя сказать, чтобы Комм был нелюбим народом. И если дружба римлян подвергла его опасности, то опасность эта угрожала ему не со стороны его народа.
И вот на четвертый год войны, в конце лета, Цезарь снарядил флот, чтобы высадиться у бриттов[576]. Задавшись целью расположить к себе умы на большом острове, он решил отправить Комма послом к кельтам, жившим на берегах Темзы, и предложить им дружбу римского народа. Комм с его изворотливым умом и тонкой речью вполне подходил к такой роли и по характеру своему и по происхождению, роднившему его с бриттами. Атребатские племена населяли тогда оба берега Темзы.
Комм гордился дружбой Цезаря. Но он отнюдь не торопился выполнить его поручение, предвидя, насколько оно может оказаться опасным. Чтобы побудить его к этому, пришлось предоставить ему весьма большие преимущества. Цезарь освободил от дани, которую платили все галльские селения, Неметосенну, превращенную уже в город и столицу, потому что римляне спешили поднять благосостояние завоеванных земель. Он вернул Неметасенне ее права и законы, другими словами, несколько ослабил в ней невыносимый гнет поработителей. Больше того, он дал Комму царство моренов[577], расположенное на берегу океана, рядом с атребатским.
Комм отплыл вместе с Гаем Волусеном Квадратом[578], начальником конницы, которого Цезарь послал на разведку острова. Но когда корабль причалил к песчаному взморью, лежавшему у подножия белых скал, где водились птицы, римлянин, испугавшись неведомых опасностей и верной смерти, отказался высадиться. Комм со своими конями и верной дружиной сошел на сушу и вступил в переговоры с британскими вождями, которые встретили его на берегу. Он обратился к ним с речью, советуя предпочесть выгодную дружбу римлян их беспощадному гневу. Но эти вожди, потомки Ги Могучего и его приверженцев, были свирепы и надменны. Они с нетерпением ждали конца этой речи. Лица их, грубо раскрашенные вайдой, вспыхнули гневом. Они поклялись защищать свой остров от римлян.
— Пусть только они высадятся здесь, — кричали бритты, — они пропадут, как пропадает на прибрежном песке снег, которого коснулся южный ветер.
Советы, преподанные Цезарем, они приняли за оскорбление и уже выхватывали мечи из ножен, чтобы предать смерти вестника позора.
Стоя в умоляющей позе, склонившись на щит, Комм сослался на свое право называть их братьями. Они были сынами одних отцов[579].
Вот почему бритты не убили Комма. Они связали его и отвели в соседнее большое селение на берегу. Проходя по площади, простиравшейся между соломенными хижинами, он заметил высокие плоские камни, воткнутые в землю через неравные промежутки и покрытые какими-то знаками, которые он счел священными, так как не мог понять их смысла. Он увидел, что хижины этого большого селения ничем не отличаются от атребатских, разве только чуть победнее. Перед хижинами вождей стояли шесты с надетыми на них кабаньими мордами, рогами северного оленя и белокурыми человеческими головами. Комма ввели в хижину, где ничего не было, кроме очага — камня, еще покрытого пеплом, — ложа из сухих листьев и деревянного идола. Привязанный к опорному столбу, поддерживавшему кровлю, атребат размышлял о своей несчастной участи и старался припомнить какое-нибудь заклинание, обладающее волшебной силой, или придумать какую-нибудь уловку, чтобы избежать гнева британских вождей.
А чтобы развеять тоску, он стал слагать песню в духе предков, песню, полную угроз и жалоб, всю расцвеченную картинами родных гор и лесов, воспоминания о которых оживали в его сердце.
Женщины с младенцами у груди пришли из любопытства поглядеть на него и приступили к нему с расспросами о родине, народе и событиях его жизни. Он отвечал им с кротостью. Но душу его одолевала печаль и жестокая тревога.
II
Цезарь, задержавшись до конца лета у моря, в царстве моренов, как-то ночью, к началу третьей вигилии, поднял паруса и в четвертом часу дня показался в виду острова. Бритты ждали его на плоском песчаном берегу. Однако ни стрелы из затверделого дерева, ни колесницы, вооруженные косами, ни косматые кони, приученные плавать в океане среди рифов, ни устрашающая татуировка на лицах бриттов — ничто не остановило римлян. Орел, окруженный легионерами[580], вступил на землю варварского острова. Бритты бежали под градом камней и свинца, пущенных боевыми машинами, которые показались им чудовищами. Пораженные ужасом, они неслись, словно стадо лосей от рогатины охотника.
Добежав к вечеру до соседнего прибрежного селения, вожди сели на камни вокруг площади и стали держать совет. Всю ночь обсуждали они, как им быть, а когда на горизонте забрезжил рассвет и в сером небе зазвучала песнь жаворонка, они отправились в хижину, где Комм-атребат провел в узах целых тридцать дней. Они посмотрели на него с уважением (памятуя о римлянах), развязали его, поднесли ему напиток из перебродившего сока лесной вишни, вернули ему оружие, коней, боевых товарищей и, обратившись к нему со льстивыми речами, умоляли его пойти с ними в лагерь римлян и испросить им прощение у Цезаря Всемогущего.
— Уговори его быть нам другом, — сказали они, — ведь ты мудр, и слова твои проникают в душу подобно стрелам. Среди наших предков, память о которых дошла до нас в песнях, не было ни одного, кто превосходил бы тебя в осмотрительности.
Комм-атребат повеселел, услыша такие речи. Но он не показал вида, что они обрадовали его, и с горькой усмешкой на дрогнувших губах сказал британским вождям, указав на опавшие с берез листья, кружившиеся на ветру:
— Мысли людей суетных мечутся, как эти листья, их беспрестанно кружит во все стороны. Вчера вы считали меня безумцем и говорили, что я объелся эринского зелья, которое одурманивает животных. Сегодня вы находите во мне мудрость предков. А между тем советы, которые я даю, хороши в любой день, ибо слова мои не зависят ни от солнца, ни от луны, а исходят от моего разума. В отместку за вашу злобу следовало бы предоставить вас гневу Цезаря, который повелит отрубить каждому из вас руку и выколоть глаза, чтобы, обходя селения и выпрашивая хлеб и пиво, вы служили всему Британскому острову свидетельством его, Цезаря, силы и правосудия. Однако я пренебрегу обидой, которую вы мне нанесли, помня, что мы братья, что бритты и атребаты — плоды одного дерева. Я буду действовать на благо моих братьев, пьющих воду Темзы. Я привез на их остров дружбу Цезаря, которой они по своему безрассудству лишились; теперь я сделаю все, чтобы вернуть ее им. Цезарь, любя вождя Комма, которого он поставил царем над атребатами и моренами, носящими ожерелья из раковин, полюбит и британских вождей, окрашенных в огненные цвета; он упрочит их богатство и власть, потому что они друзья вождя Комма, пьющего воду Соммы.
И еще сказал Комм-атребат:
— Вот что скажет вам Цезарь, когда вы склонитесь на свои щиты у подножия его трибуны, и вот какой ответ должна подсказать вам разумная осторожность. Он скажет: «Дарую вам мир. Дайте мне в заложники детей благородной крови». А вы ответите: «Мы дадим тебе наших детей благородной крови. Некоторых из них мы доставим тебе сегодня же. Но большинство детей благородной крови находится в отдаленной части нашего острова, и пройдет много дней, пока их привезут сюда».
Вожди удивились проницательности Комма-атребата. Один из них сказал:
— Комм, ты человек мудрый, и я верю, что сердце твое полно дружбы к твоим британским братьям, пьющим воду Темзы. Будь Цезарь простым смертным, у нас хватило бы смелости сразиться с ним, но мы поняли, что он бог и что его корабли и боевые снаряды наделены разумом, подобно живым существам. Идемте, умолим его простить нас за непокорство и не лишать нас власти и богатства.
Рассудив так, вожди туманного острова вскочили на коней и помчались к той бухте, занятой римлянами, где стояли на якоре их либурны[581], а вблизи на отлогом песчаном берегу сохли вытащенные из воды галеры. Комм не отставал от своих братьев. Когда они увидели римский лагерь, обнесенный рвами и частоколами, прорезанный широкими, правильно расположенными проходами и сплошь усеянный палатками с золотыми орлами и с венцом штандартов наверху, они в изумлении остановились, вопрошая друг друга, каким чудом сумели римляне в один день воздвигнуть город, красивее и обширнее которого не было на туманном острове.
— Что это? — воскликнул один из них.
— Рим, — ответил атребат. — Римляне всюду носят с собой Рим.
Их впустили в лагерь, и они направились к подножию трибуны, где в окружении ликторов восседал проконсул. Он был одет в пурпур, на его бледном лице горели орлиные глаза.
Комм-атребат стал в позу, выражающую мольбу, и попросил Цезаря простить британских вождей.
— Сражаясь с тобою, — сказал он, — вожди эти шли против требования сердца, которое всегда благородно, когда повелевает. Посылая свои боевые колесницы против твоих солдат, они повиновались, а не повелевали, они уступали воле бедных и ничтожных людей своего племени. Множество их сплотилось на борьбу с тобой, ибо они неспособны понять твою силу. Ты знаешь, что бедняки не так щедры, как богачи. Не откажи в дружбе вот этим, обладателям больших достояний, ведь они заплатят тебе дань.
Цезарь, уступая мольбе вождей, даровал им прощение и сказал:
— Дайте мне в заложники детей ваших нобилей.
Старейший из вождей ответил:
— Мы дадим тебе наших детей благородной крови. Некоторых из них мы доставим тебе сегодня же. Но большинство детей благородной крови находится в отдаленной части нашего острова, и пройдет много дней, пока их привезут сюда.
Цезарь наклонил голову в знак согласия. Так, благодаря совету атребата вожди выдали только небольшое число мальчиков, и то не самых знатных.
Комм остался в лагере. Ночью ему не спалось, и он с высоты утеса взглянул на море. Прибой с яростью разбивался о подводные камни. Морской ветер примешивал к реву волн зловещее завывание. Рыжая луна в своем неподвижном беге среди туч бросала на океан обманчивые блики. Атребат, чей острый взор пронизывал мрак и пелену брызг, рассмотрел застигнутые бурей корабли, которые под напором ветра и бушующих вод качались во все стороны. Одни без парусов и руля неслись по прихоти волн, пена которых тусклыми искрами мерцала на их бортах; другие снова уходили в открытое море. Паруса их скользили по воде, как крылья зимородка. Корабли эти, рассеиваемые бурей, везли сюда конницу Цезаря. С наслаждением вдыхая морской воздух, галл некоторое время шел по краю утеса, и вскоре взор его отыскал бухту, где сохли на песке вытащенные из воды римские галеры, так испугавшие бриттов. Он видел, как прибой мало-помалу настигал их, теснил, сталкивал друг с другом, разбивал, а в это время бешеный ветер срывал с якорей стоявшие в бухте глубокие либурны и уносил их мачты и снасти, как соломинки. Он смутно различал движения легионеров, беспорядочной толпой прибежавших на берег. Тогда он поднял глаза к божественной луне, которой поклонялись атребаты, жители побережья и глубоких лесов. Она была здесь, в тревожном небе бриттов, и походила на щит. Он знал, что это она, медноликая, вступив в полнолуние, вызвала прилив и причинила бурю, которая в эту минуту разрушала римский флот. И тут, на белесом утесе, в священную ночь, перед лицом бушующего моря, Комму-атребату открылась таинственная сила, более сокровенная и более непреодолимая, чем сила римлян.
Узнав о гибели флота, бритты, к радости своей, поняли, что Цезарь не повелевает ни океаном, ни луной — подругой пустынных отмелей и глубоких лесов — и что римские галеры отнюдь не всепобеждающие драконы, — ведь морской прилив разбил их вдребезги и выбросил на берег с распоротыми чревами. Вновь обретя надежду уничтожить римлян, бритты задумали большую часть их поразить стрелами и мечами, а остальных бросить в море. Вот почему бритты неизменно каждый день являлись в лагерь Цезаря. Они приносили легионерам копченое мясо и лосьи шкуры. Они рядились в личину дружбы, расточали медовые речи и с восхищением ощупывали мускулы на руках центурионов.
Чтобы лучше притвориться покорными, вожди выдали заложников, но это были либо сыновья врагов, которым они мстили, либо некрасивые мальчики, чьи семьи вели свой род отнюдь не от богов. Когда же вожди убедились, что смуглые человечки вполне полагаются на их дружбу, они собрали воинов из всех селений, расположенных на берегах Темзы, и с громким криком ринулись к воротам лагеря. Ворота были защищены деревянными башнями. А бритты не знали искусства разрушать укрепления, поэтому им не удалось взять стену, и многие вожди, с лицами, раскрашенными вайдой, пали у подножия римских башен. Бритты еще раз убедились, что римляне наделены нечеловеческой силой. Поэтому они на другой день снова явились к Цезарю с повинной и обещали ему свою дружбу.
Цезарь принял их с каменным лицом, но в ту же ночь посадил свои легионы на спешно починенные либурны и отплыл к моренскому берегу. Не надеясь уже на конницу, рассеянную бурей, он на сей раз отказался от завоевания туманного острова.
Комм-атребат вместе с армией Цезаря пристал к моренскому берегу. Он находился на корабле, который вез проконсула. Цезарю хотелось познакомиться с обычаями варваров, и он полюбопытствовал, не мнят ли себя галлы потомками Плутона и не поэтому ли они исчисляют время не днями, а ночами. Атребат не мог разъяснить ему, откуда пошло такое обыкновение. Но он сказал, что при сотворении мира ночь, думается ему, предшествовала дню.
— Я полагаю, что луна древнее солнца, — прибавил он. — Это божество очень могущественно, оно благоволит галлам.
— Божественность луны признают и римляне и греки, — отозвался Цезарь. — Но напрасно ты воображаешь, Комм, что светило, которое сияет над Италией и над всей землей, особенно благосклонно к галлам.
— Берегись, Юлий, — ответил атребат, — и взвешивай свои слова. Луна, которую ты видишь здесь бегущей среди туч, не та луна, что светит в Риме над вашими мраморными храмами. Как она ни велика, как ни ярок ее свет, она не может быть видна в Италии. Расстояние не позволяет.
III
Пришла зима и покрыла Галлию сумраком, льдом и снегом. Воины, сидя в камышовых хижинах, сокрушались, вспоминая вождей и слуг, убитых Цезарем или проданных с торгов. Порою у дверей хижин появлялся какой-нибудь нищий, показывавший руки с кистями, отрубленными ликтором. И воины возмущались в сердце своем. Их речи били полны гнева. По ночам в глубине лесов и в скалистых пещерах собирались сходки.
А тем временем царь Комм со своей верной дружиной охотился в лесах атребатского края. Каждый день к царю никому неведомыми тропами прибывал гонец в полосатом плаще и красных штанах; поравнявшись с атребатом, он сдерживал коня и тихо спрашивал:
— Комм, неужели ты не хочешь жить свободным в свободном краю? Комм, доколе будешь ты сносить рабское иго римлян?
И гонец удалялся по узкой тропе; устилавшие ее листья приглушали конский топот.
Комм, царь атребатов, оставался другом римлян. Но мало-помалу он пришел к убеждению, что атребатам и моренам не пристало быть зависимыми, раз он их царь. С неудовольствием смотрел он, как римляне, водворившись в Неметосенне, восседают в трибуналах и вершат суд, а геометры, прибывшие из Италии, намечают проведение дорог через священные рощи. Наконец он уже меньше восхищался римлянами с тех пор, как увидел их либурны, разбитые о британские скалы, а легионеров — плачущими ночью на песчаном берегу. Он по-прежнему правил именем Цезаря, пользуясь неограниченной властью. Однако в разговорах со своими приверженцами он туманно намекал на грядущие битвы.
Три года спустя час этот настал: в Кенабе пролилась римская кровь. Вожди, состоявшие в заговоре против Цезаря, собирали войско в Арвернских горах. Комм отнюдь не любил этих вождей; наоборот, он их ненавидел, одних — потому что они были богаче его людьми, табунами, землями, других — за то, что они в избытке владели золотом и рубинами, а многих — оттого что они выдавали себя за более храбрых и родовитых, чем он. Тем не менее он принял их гонцов и сам послал им в знак приязни дубовый листок и верхушку орешника. Он снесся с вождями — недругами Цезаря — посредством древесных веток, срубленных и связанных так, что они приобретали смысл, понятный галлам, которым был знаком язык листьев.
Он не кликнул клич. Но, объезжая атребатские селения, заходил в хижины к воинам и говорил:
— Три творения были созданы первыми: человек, свобода, свет.
Он удостоверился, что по его зову пять тысяч моренских и четыре тысячи атребатских воинов застегнут пряжки на своих бронзовых перевязях. Затем с радостью думая о том, что в лесу тлеет под пеплом огонь, он тайно отправился к тревирам[582], чтобы привлечь их на сторону галлов.
И вот, в то время как он со своей верной дружиной скакал вдоль мозельских ив, какой-то гонец в полосатом плаще вручил ему ветку ясеня с привязанным к ней стебельком вереска — весть о том, что римляне догадываются о его намерениях, и предостережение о грозящей опасности. Ибо таково было значение ясеня в соединении с вереском. Но он продолжал свой путь и вступил на тревирские земли. Тит Лабий[583], наместник Цезаря, стоял там с десятью легионами. Предупрежденный о тайном приезде царя Комма к тревирским вождям, он заподозрил, что это посещение имеет целью отвратить их от дружбы с Римом. Он приставил к Комму соглядатаев и убедился в справедливости своего предположения. Тогда он решил избавиться от этого человека. Лабий был римлянином, сыном города-бога, единственного во всей вселенной, и он с оружием в руках нес римский мир во все концы света. Он был хорошим полководцем, сведущим в математике и механике. Отдыхая от ратных трудов на своей кампанийской вилле, он под сенью фисташковых деревьев беседовал с чиновниками о законах, нравах и обычаях различных народов. Он превозносил доблести древних и свободу. Он читал труды греческих историков и философов. Это был ум, исполненный благородства и изящества. А так как Комм-атребат был варвар, чуждый делу римлян, Лабию казалось, что он поступит правильно, если велит его убить.
Он разузнал о месте пребывания Комма и подослал к нему начальника своей конницы Гая Волусена Квадрата, который знал Комма, так как им обоим было поручено перед походом Цезаря разведать берега Британского острова; но Волусен не рискнул высадиться там. Итак, по приказу Лабия, наместника Цезаря, он выбрал несколько центурионов и повел их в селение, где, как ему было известно, находился атребатский царь. Волусен мог на них рассчитывать. Центурион был воин, выслужившийся из легионеров, и знаком отличия ему служила виноградная лоза, которой он бил своих подчиненных. Начальники делали с ним все что хотели. Он был после землекопа первым орудием победы. Волусен сказал своим центурионам:
— Ко мне приблизится один человек, не задерживайте его. Я протяну ему руку. Тогда вы нападете на него сзади и убьете его.
Распорядившись так, Волусен со своим отрядом пустился в путь. Недалеко от селения, на дороге, покрытой рытвинами, он повстречался с Коммом и его дружиной. Царь атребатов, зная, что он на подозрении у римлян, повернул было назад. Но начальник конницы окликнул его по имени, заверил в своей дружбе и протянул ему руку.
Ободренный этим знаком расположения, атребат подъехал ближе. В тот миг, когда он собирался пожать протянутую ему руку, один из центурионов ударил его мечом по голове и выбил из седла. Тут верные спутники царя бросились на небольшой отряд римлян, рассеяли его, а Комма, истекавшего кровью, подняли и отвезли в ближайшее селение. Волусен и его всадники, считая свое дело сделанным, помчались во весь опор обратно в лагерь.
Царь Комм не был мертв. Его тайно перевезли в край атребатов, где он исцелился от своей страшной раны. Оправившись после недуга, он дал такой зарок:
— Клянусь, что каждый римлянин, с которым я встречусь лицом к лицу, будет мною убит.
Вскоре он узнал, что Цезарь потерпел большое поражение в предгорье Герговии и что сорок шесть центурионов его армии пали под стенами города. Затем он получил известие о том, что союзные племена, под предводительством Верцингеторикса[584] осаждены в Алезии Мандубской, знаменитой галльской крепости, возведенной Геркулесом Тирским. Тогда Комм выступил со своими моренскими и атребатскими воинами к границе эдуев[585], куда стекалось войско, которому предстояло прийти на помощь алезийским галлам. Подсчет показал, что войско это состоит из двухсот сорока тысяч пехотинцев и восьми тысяч всадников. Предводительство было возложено на Вирдумара и Эпоредорикса — эдуев, на Вергасиллавна[586] — арверна и на Комма — атребата.
После многодневного тяжелого перехода Комм с начальниками отрядов и с воинами достиг гористого края эдуев. С одной из возвышенностей, окружавших Алезийскую равнину, он увидел римский лагерь и землю вокруг него, всю изрытую смуглыми человечками, воевавшими больше заступом и лопатой, чем дротиком и мечом. Он счел это дурным предзнаменованием, ибо знал, что галлам труднее устоять перед рвами и машинами, чем перед натиском людей. Да и сам он, знаток военных хитростей, мало смыслил в искусстве римских инженеров. После трех больших сражений, в ходе которых укрепления римлян нисколько не пострадали, Комм был, как соломинка бурей, подхвачен беспорядочным отступлением галлов. Недаром, когда в самой гуще боя перед ним мелькнул красный плащ Цезаря, в нем зародилось предчувствие поражения. Теперь Комм бежал по дорогам, проклиная римлян, взбешенный, но довольный, что беда, обрушившаяся на него, не миновала и галльских вождей, которым он завидовал.
IV
Комм целый год скрывался в атребатских лесах. Там ему ничто не угрожало, потому что галлы, покорившись ненавистным римлянам, глубоко уважали тех, кто им не повиновался. Сопутствуемый своей верной дружиной, он на реке и в высокоствольном лесу вел существование, мало чем отличавшееся от того, какое он вел, будучи вождем многих племен. Он охотился, ловил рыбу, вынашивал коварные замыслы и пил хмельные напитки, которые, отнимая у него разумение человеческих дел, наделяли его разумением дел божеских. Но душа его изменилась, и он страдал, потому что не чувствовал себя больше свободным. Все вожди племен были либо убиты в сражениях, либо засечены розгами, либо в оковах отправлены ликтором в тюрьмы Рима. Его больше не мучила острая зависть к ним, и вся его ненависть теперь сосредоточилась на римлянах. Он привязывал к хвосту своего коня золотой обруч, который получил от диктатора, как друг Сената и Римского народа. Он давал своим псам имена: Цезарь, Гай, Юлий. Когда ему на глаза попадалась свинья, он называл ее Волусен и швырял в нее камнями. И он слагал песни в подражание тем, какие слышал в юности, и в сильных образах выражал в них любовь к свободе.
И вот однажды, охотясь за дичью, он отбился от спутников и один взобрался на плоскогорье, поросшее вереском, которое господствовало над Неметосенной, и, к изумлению своему, увидел, что на месте снесенных хижин и частоколов его города возвышаются, в кольце стен, портики, храмы, дома дивной архитектуры, и он ощутил такой страх и ужас, словно перед ним были порождения колдовства; ведь ему не приходило в голову, что здания эти могли быть выстроены в такой короткий срок без вмешательства сверхъестественной силы.
Он бросил преследовать дичь в зарослях вереска и, лежа на глинистой земле, долго глядел на чудный город. Любопытство, более сильное, чем страх, настолько овладело им, что он не мог оторваться от этой картины. Он созерцал это зрелище до самого вечера. И в душе его зародилось непреодолимое желание пробраться в город. Он спрятал под камнем, в вереске, свои золотые ожерелья, запястья, пояса, украшенные драгоценными каменьями, и свое охотничье снаряжение, оставив при себе только один спрятанный под плащом нож, и спустился по лесистым склонам. По пути, в сырых рощах, он собрал немного грибов, чтобы сойти за бедняка, который надеется продать свою поживу. И в третью вигилию ночи он вошел в Неметосенну через Золотые ворота. Ворота охранялись легионерами, свободно пропускавшими в город крестьян, которые несли туда снедь. Вот почему атребатскому царю, прикинувшемуся бедняком, легко удалось пробраться на Юлианскую дорогу. Окаймленная виллами, она вела к храму Дианы, вознесшийся белый фронтон которого был украшен орнаментом, расцвеченным лазурью, пурпуром и золотом. В серых лучах рассвета Комм увидел картины, нарисованные на стенах домов. Это были воздушные образы танцовщиц и эпизоды из истории, совершенно ему незнакомой[587]: юная дева, приносимая в жертву героями, исступленная мать, закалывающая своих грудных младенцев, человек с козлиными ногами, в изумлении настороживший остроконечные уши: сорвав покров с девы, распростертой перед ним в глубоком сне, козлоногий видит, что в ней сочетаются мужчина и женщина. Были на широких улицах и другие рисунки, показывавшие различные способы любви, неведомые народам Галлии. Хотя Комм безумно любил вино и женщин, он ничего не смыслил в авзонских[588] наслаждениях, потому что не имел ясного представления о разнообразии телесных форм и не томился желанием красоты. Этот город, — некогда его город, — куда он пришел удовлетворить свою ненависть и дать пищу гневу, разжигал в его сердце ярость и отвращение. Он презирал римское искусство и таинственные ухищрения художников. Из всего, что было представлено под портиками, он постигал лишь очень немногое, потому что глаза его умели распознавать только листву деревьев и облака хмурого неба.
Весь его сбор сморчков уместился в складке плаща, и он нес их с собою по дорогам, вымощенным широкими плитами. Возле одного из домов, дверь которого была увенчана фаллусом, озаренным огоньком светильника, стояли одетые в прозрачные туники женщины, подстерегавшие прохожих. Он подошел к ним, готовый на любое насилие. Перед ним выросла, словно из-под земли, какая-то старуха, и пронзительно заверещала:
— Проходи своей дорогой! Этот дом не для деревенщины, от которого разит сыром. Ступай к своим коровам, волопас!
Комм ответил ей, что у него пятьдесят жен, первых красавиц среди атребатских женщин, и ларцы, полные золота. Куртизанки подняли его на смех, а старуха крикнула:
— Проваливай, пьяница!
Старуха походила на центуриона, замахивающегося виноградной лозой; так величие Римского народа сказывалось во всей Империи!
Атребат кулаком свернул ей челюсть и спокойно удалился, а узкий коридор дома наполнился пронзительными воплями и жалобным плачем. Оставив слева храм Дианы Арденской, он пересек форум между двумя рядами портиков. Узнав в статуе, стоявшей на мраморном цоколе, бога Рима, с каской на голове и дланью, простертой для усмирения народов, он совершил намеренное святотатство, удовлетворив на этом месте постыднейшую из естественных надобностей.
Он миновал всю застроенную часть города и оказался перед каменным кругом только что заложенного, но уже огромного амфитеатра. Он вздохнул:
— О, чудовищный народ!
И он пошел по развалинам галльских хижин, соломенные кровли которых еще недавно тянулись, как ряды неподвижного войска, а теперь превратились даже не в обломки, а просто в удобрение. И он подумал: «Вот что осталось от людских поколений! Вот что они сделали из жилищ, где висело оружие атребатских вождей!»
Первые лучи восходящего солнца скользнули по ступеням амфитеатра, и галл с ненасытным и злобным любопытством обозревал обширный склад кирпича и камней. Его голубые глаза всматривались в суровое зрелище этих памятников победы, и он с яростью встряхивал в прохладном воздухе косматой гривой своих рыжих волос. Думая, что он один, атребат бормотал проклятия. Но на некотором расстоянии от склада, у подножия какого-то кургана, увенчанного дубами, он заметил человека, который сидел на мшистом камне, склонив голову, покрытую плащом. На нем не было никаких знаков отличия, только на пальце виднелось кольцо всадника, и Комм — прежний завсегдатай римского лагеря — сразу же узнал в этом человеке военного трибуна. Воин что-то писал на вощеных дощечках и, казалось, весь ушел в свои мысли. Долгое время просидел он неподвижно, потом поднял голову, задумчиво, приложив палочку к губам, посмотрел вокруг невидящим взором, затем опустил глаза и снова принялся писать. Комм увидел его лицо и заметил, что молодость сочетается в нем с благородством и нежностью.
Тут вождь атребатов вспомнил свою клятву. Нащупав под плащом нож, он гибким, звериным движением проскользнул за спиной у римлянина и вонзил ему клинок чуть повыше ключицы. То был римский клинок. Трибун протяжно вздохнул и осел. Струйка крови потекла из уголка его рта. Вощеные дощечки остались лежать на тунике, меж колен. Комм взял в руки эти дощечки и бросил жадный взгляд на покрывавшие их письмена, думая, что это магические знаки, знание которых даст ему большую власть. Буквы эти, которые он не мог прочесть, были буквами греческого алфавита, предпочитавшегося тогда молодыми образованными римлянами латинскому. Большая часть букв была сглажена плоской стороной стилоса. А из уцелевших рождались стихи, сложенные на латинском языке греческим размером, и смысл их местами проступал очень ясно.
ВОРОБЫШЕК ФЕБЫ
О сокровище Вара, твой Вар удручен, Под рыдающим небом скитается он По Галатии… И две пташки, поющие в клетке златой Феба светлая! Пленнице нежной зерно Ты на пальчике дай, подожди терпеливо: Это мать; материнское сердце пугливо Не ходи к океану на берег туманный, Бойся, Феба… … и уста, гибкий стан, Чьи движенья сливаются с ритмом кротала И ни золото Креза, ни пурпур Аттала, — Твои нежные руки и грудь…[589]От проснувшегося города поднимался слабый шум. Атребат миновал развалины галльских хижин, где еще жило, окопавшись в земле, несколько варваров, жалких и одичалых, и через пролом в стене выпрыгнул в поле.
V
Когда мечом легионера, розгой ликтора и вкрадчивыми речами Цезаря Галлия была, наконец, вся усмирена, в Неметосенну атребатскую прибыл на зимние квартиры квестор Марк Антоний[590]. Он был сыном Юлии, сестры Цезаря. В его обязанности входило выплачивать жалование войскам и делить, в соответствии с установленными законами, военную добычу, которая на сей раз была огромной, ибо победители нашли в святых местах, под камнями, в дуплах дубов, в спокойных водах прудов слитки золота и рубины, а в хижинах вождей и истребленных племен собрали много золотой утвари.
Марк Антоний привез с собой много писцов и межевщиков, которые приступили к разделу движимого имущества и земель и стали было делать множество никому ненужных записей; но Цезарь приказал им действовать просто и быстро. Азиатские купцы, переселенцы, рабочие, законоведы толпами приходили в Неметосенну; а атребаты, покинувшие город, один за другим возвращались, исполненные любопытства, изумления, восторга. Большая часть галлов теперь гордилась тем, что носит тогу и говорит на языке благородных сынов Рема[591]. Сбрив свои длинные усы, они стали похожи на римлян. Каждый, у кого сохранились хоть какие-нибудь крохи богатства, просил римского зодчего выстроить ему дом с внутренним портиком, женскими покоями и фонтаном, украшенным раковинами. Они приказывали нарисовать на стенах своих трапезных Геркулеса, Меркурия и Муз и ужинали, возлежа на ложах.
Комм — сам именитый и сын именитого отца — все же потерял большинство своих приверженцев. Однако он ни за что не хотел подчиниться и вел бродячую и воинственную жизнь вместе с теми немногими, кого связывало с ним острое желание свободы, ненависть к римлянам и привычка к грабежу и насилию. Они следовали за ним в непроходимые леса, в болота, вплоть до зыбких островов, намытых реками в широких устьях. Люди эти были ему преданы, но говорили с ним непочтительно, как говорят с равными себе, потому что они и в самом деле так же мужественно терпели бесконечные страдания, лишения и беды. Кровом им служили ветвистые деревья и расселины скал. В глубине узких долин они выискивали пещеры, промытые в рыхлой породе бурными потоками. В те дни, когда им не удавалось убить какого-нибудь зверя, они питались тутовыми ягодами и плодами земляничника. Они не решались проникнуть ни в те города, которые охранялись римлянами от их вторжения, ни в те, где они только опасались встретиться с врагом. В большинстве селений их принимали неохотно. Комм все же нашел убежище в хижинах, рассеянных на прибрежных песках, где всегда дует жестокий ветер, у обмелевшего устья реки Соммы. Жители этих дюн питались рыбой. Нищие, затерянные в голубом чертополохе, который заполонил их бесплодную землю, они не изведали на себе римского могущества. Они давали Комму и его спутникам приют в землянках, укрытых камышом и камнями, окатанными морем. Они жадно внимали атребату, ибо никогда ни от кого не слышали таких прекрасных речей. Он говорил им:
— Да будет вам известно, кто друзья атребатов и моренов, живущих на берегу моря и в дремучем лесу. Друзья моренов и атребатов — луна, лес и море. И ни море, ни лес, ни луна не любят смуглых человечков, приведенных сюда Цезарем.
Море сказало мне: «Комм, я укрываю твои венетские корабли[592] в пустынных бухтах моего берега».
Лес сказал мне: «Комм, я дам тебе — знаменитому вождю — и твоим верным товарищам надежное убежище».
Луна сказала мне: «Комм, ты был на острове бриттов и видел, как я разбила корабли римлян. Я, повелительница облаков и ветров, не стану светить возницам, которые доставляют в Неметосенну припасы римлянам; поэтому ты можешь во тьме напасть на них».
Вот что сказали мне море, лес и луна. А я говорю вам: бросьте ваши лодки и сети и ступайте со мной. Все вы станете военачальниками и героями. Мы будем биться с врагом, и сражения эти нас прославят и. обогатят. Мы добудем себе в изобилии пищу, сокровища и женщин. Вот слушайте.
Я так хорошо знаю край атребатов и моренов, что нет в этом краю ни реки, ни пруда, ни утеса, расположение которых не было бы мне известно. Память моя хранит все дороги, все тропы на земле наших праотцев, их точную длину и направление. Царственно велик должен быть ум, чтобы вмещать в себе всю атребатскую землю. А мой ум вмещает еще и много других стран — британских, галльских, германских. Вот почему, будь я предводителем союза племен, Цезарь потерпел бы поражение, и римлянам пришлось бы отсюда бежать. Поэтому мы нападем вместе с вами на гонцов Марка Антония и на обозы с продовольствием, предназначенным для города, который они украли у меня. Нам нетрудно будет захватить их, потому что я знаю дороги, по которым они едут, а их солдаты не смогут напасть на нас, потому что они не знают дорог, по которым поедем мы. А если им и удастся пойти по нашему следу, мы ускользнем от них на моих венетских кораблях, которые отвезут нас на остров бриттов.
Такими речами Комм внушил большое доверие своим гостеприимцам с туманного берега. Он окончательно привлек их на свою сторону, подарив им несколько кусочков золота и железа — остатки сокровищ, которыми он прежде владел. Они сказали ему.
— Мы пойдем за тобой всюду, куда тебе будет угодно нас повести.
Он повел их неведомыми тропами до самых подступов к римской дороге. Каждый раз, когда вблизи жилища какого-нибудь богатого человека ему на росистом пастбище попадались кони, он отдавал их своим спутникам.
Так создал он отряд всадников, к которому не замедлили примкнуть многие атребаты, жаждавшие войной стяжать себе богатства, и несколько перебежчиков из римского лагеря. Вождь Комм не допускал их к себе, дабы не нарушить клятву — никогда не смотреть в лицо римлянину. Он поручал умному человеку допросить их и отправить назад. Не раз бывало, что в каком-нибудь селении все мужчины, молодые и старые, умоляли принять их в число его приверженцев. Это были люди, начисто обобранные чиновниками Марка Антония, которые взимали с них не только дань, положенную Цезарем, но и всякие незаконные поборы, а вождей штрафовали за разные вымышленные проступки. И действительно, эти сборщики, наполнив государственную казну, старались и сами обогатиться за счет варваров; они считали их тупицами и знали, что всегда могут отдать их в руки палача и таким образом избавиться от докучных жалоб. Комм отбирал только самых выносливых; остальных он прогонял, невзирая на их слезы, вызванные, как они объясняли, боязнью умереть с голоду или от рук римлян. Ему не, нужна была многочисленная армия; он не собирался, подобно Верцингеториксу, затевать большую войну.
Со своим немногочисленным отрядом он в несколько дней отбил много обозов с мукой и живностью, вырезал почти под самыми стенами Неметосенны отдельных легионеров и держал в страхе римское население города.
— Галлы — бессердечные варвары, хулители богов, враги рода человеческого, — говорили трибуны и центурионы. — Вопреки данной клятве они оскорбляют величие Рима и Мира. Они заслуживают примерного наказания. Долг перед человечеством обязывает нас покарать виновных.
Жалобы переселенцев, крики солдат вознеслись к трибуне квестора. Сперва Марк Антоний оставил их без внимания. Он был занят тем, что вместе с гистрионами и куртизанками представлял в запертых и хорошо натопленных залах подвиги Геркулеса, на которого он походил чертами лица, короткой завитой бородой и исполинским сложением. Покрытый львиной шкурой, с палицей в руках, могучий сын Юлии рубил воображаемых чудовищ и пронзал стрелами чучело, изображавшее гидру. Затем, мгновенно переодевшись из львиной шкуры в одежды Омфалы[593], он в соответствии с этим воспламенялся иными страстями.
Между тем обозы были в панике; отряды солдат, захваченные врасплох, приведенные в замешательство, были повержены в бегство; а однажды утром на дереве, которое росло вблизи Золотых ворот, был обнаружен повешенный, с рассеченной грудью, центурион Г. Физий.
В римском лагере знали, что зачинщиком этих зверств был Комм, некогда царь милостью Рима, а ныне предводитель разбойников. Марк Антоний приказал решительными действиями обеспечить безопасность солдат и переселенцев. Но он предвидел, что не скоро удастся поймать хитрого галла, и поэтому предложил претору[594] немедленно дать устрашающий пример. Претор, послушный воле начальника, велел привести в трибунал двух самых богатых атребатов из числа жителей Неметосенны.
Одного из них звали Вергал, другого — Амбров. Оба они были знатного рода и раньше всех атребатов выказали дружбу Цезарю. Но они были плохо вознаграждены за свое поспешное смирение, лишились всех почестей и большей части достояния, терпели постоянные притеснения от грубых центурионов и алчных законоведов и поэтому раза два-три осмелились робко пожаловаться. Простодушные и тщеславные подражатели всему римскому, они облачились в тоги и чванились, хоть и вели в Неметосенне самое унизительное существование. Претор учинил им допрос, приговорил их к казни за измену родине, и в тот же день передал в руки ликторов. Они умерли, усомнившись в римском правосудии.
Так квестор своими быстрыми действиями укрепил дух переселенцев, и они осыпали его похвалами. Муниципальные советники Неметосенны, благословляя его отеческую неусыпность и благочестие, решили воздвигнуть ему бронзовую статую. После чего несколько римских купцов, рискнувших выйти за черту города, были схвачены и убиты дружинниками Комма.
VI
Начальником конницы, расквартированной в Неметосенне атребатской, был Гай Волусен Квадрат — тот самый, что недавно заманил в ловушку царя Комма, приказав одному из своих центурионов: «Когда я в знак дружбы протяну ему руку, ударьте его сзади». Гая Волусена Квадрата уважали в армии за приверженность долгу и стойкую отвагу. Он получил большие награды и пользовался почестями, сопутствующими воинским доблестям. Марк Антоний возложил на него поимку царя Коммиуса.
Волусен рьяно взялся за выполнение порученного ему дела. Он устроил повсюду засады и, держась в постоянной близости к шайке Комма, не давал ей покоя. Однако атребат, большой знаток военных хитростей, изматывал римскую конницу быстротой своих передвижений и нападал на отдельных солдат. Он из религиозных побуждений убивал пленников, надеясь тем умилостивить богов. Но боги таят свои помыслы, так же как свой лик. И именно после того как вождь Комм совершил одно из этих благочестивых деяний, он подвергся величайшей опасности. Это случилось во время его скитаний по моренскому краю; ночью в лесной чаще он на камне перерезал горло двум юным и прекрасным пленникам, а утром, когда он с дружиной выезжал из леса, на них неожиданно напала конница Волусена; она была лучше вооружена, более искусна в маневрировании, и она окружила и перебила у Комма много всадников и коней. Все же ему и нескольким самым ловким и сильным атребатам удалось прорваться. Они бежали; кони их мчались во весь опор по равнине к взморью, туда, где угрюмый океан перекатывает камни на песке. Оборачиваясь назад, всадники видели сверкающие каски римлян.
Вождь Комм тешил себя надеждой ускользнуть от преследования. Его кони были гораздо быстрее и не так навьючены, как неприятельские. Он рассчитывал добраться до кораблей, которые ожидали его в ближайшей бухте, погрузиться на них со своей дружиной и отплыть к британскому острову.
Так размышлял вождь; его всадники ехали молча. Порою какой-нибудь овраг или купы карликовых деревьев заслоняли от них конницу Волусена. Затем оба отряда снова оказывались на виду друг у друга в бескрайной, серой равнине, но их разделяло огромное, все возраставшее пространство. Оставив далеко позади блестящие бронзовые каски, Комм различал лишь небольшой столб пыли, передвигавшийся на горизонте. Галлы уже с радостью вдыхали морской воздух, насыщенный солью. Но по мере приближения к берегу по пыльной дороге, поднимавшейся вверх, бег галльской конницы замедлялся, и расстояние между ней и отрядом Волусена стало уменьшаться.
Варвары своим чутким слухом уже улавливали слабые, еле различимые и страшные для них возгласы римлян, как вдруг с вершины песчаного холма из-за лиственниц, которые гнулись от ветра, они увидели мачты кораблей, сгрудившихся в бухте, вблизи пустынного берега. Они издали протяжный ликующий крик. А вождь Комм порадовался своей осмотрительности и удаче. Но вот они стали спускаться к морю и, дойдя до половины холма, остановились, охваченные тревогой и ужасом: они с отчаянием увидели, что прекрасные венетские корабли с широкой подводной частью и высоким носом и кормой лежат на песке, тогда как далеко-далеко впереди сверкают волны отлива. При этом зрелище они замерли и оцепенели, припав к луке седла, а взмыленные кони их, у которых от усталости подгибались колени, наклоняли головы до самой земли, потому что ветер с суши застилал им глаза длинными прядями их собственных грив.
Среди всеобщего оцепенения и безмолвия послышался крик вождя Комма:
— Всадники! К кораблям, ветер нам благоприятствует! К кораблям!
Они повиновались, ничего не понимая.
И, пригнав их вплотную к кораблям, Комм приказал развернуть паруса. Они были сшиты из шкур, окрашенных в яркие цвета. Не успели их развернуть, как они надулись, ибо ветер крепчал.
Галлы спрашивали себя, к чему приведет такой ход и не надеется ли вождь, что могучие дубовые корабли рассекут песок, словно морскую воду. Одни думали, как бы убежать, другие — как бы перед смертью уничтожить побольше римлян.
Тем временем Волусен во главе своей конницы уже взбирался на холм, протянувшийся вдоль песчаных берегов, усеянных валунами. Он увидел высящиеся в глубине бухточки мачты венетских кораблей. Разглядев развернутые и надутые попутным ветром паруса, он приказал отряду остановиться, излил поток страшных проклятий на голову Коммиуса, пожалел о напрасно загнанных конях и, поворотив назад, велел своим людям вернуться в лагерь.
«К чему продолжать погоню за этим разбойником? — размышлял он. — Коммиус погрузился на корабли, он плывет, подгоняемый ветром, и ему не страшны теперь никакие дротики».
Немного погодя Комм и его дружина добрались до густолиственного леса и зыбких островов и огласили их взрывами гомерического хохота.
Еще полгода провоевал вождь Комм. Однажды Волусен захватил его, а с ним человек двадцать его всадников врасплох на открытом месте. Начальника конницы сопровождало приблизительно такое же число верховых. Он приказал атаковать. Но атребат, то ли испугавшись, что ему не выдержать такого удара, то ли задумав какой-то хитрый ход, подал своим приверженцам знак бежать, а сам понесся в бешеной скачке по необъятной равнине и долго мчался так, преследуемый по пятам Волусеном. Потом он вдруг резко повернул коня и вместе с приверженцами яростно набросился на начальника конницы и вонзил ему копье в ляжку. Увидев своего военачальника поверженным наземь, пораженные римляне ускакали прочь. Затем, послушные военной дисциплине, которая взяла верх над естественным чувством страха, они вернулись, чтобы подобрать Волусена, и подоспели как раз в ту минуту, когда торжествующий Комм, осыпал его самыми грубыми ругательствами. Галлы не устояли перед небольшим, но сплоченным отрядом римлян, которые, воспрянув духом, мужественно атаковали их, убив и пленив большую часть вражеских воинов.
Почти никто из атребатов не уцелел, кроме Коммиуса, который спасся лишь благодаря быстроте своего коня.
А Волусен был привезен в лагерь умирающим. Однако искусство лекарей, а может быть и крепкий организм, помогли ему исцелиться от раны.
В этой битве Коммиус утратил сразу все: и своих верных воинов и свою ненависть. Удовлетворенный местью, отныне довольный и спокойный, он послал гонца к Марку Антонию. Гонец, которого квестор принял в трибунале, сказал:
— Марк Антоний, царь Коммиус обещает удалиться в любое место, указанное тобою, исполнить все твои повеления и дать тебе заложников. Он просит только одного — избавить его от позорной для него встречи с римлянами.
Марк Антоний был великодушен:
— Я понимаю, что неприятно Коммиусу встречаться с нашими военачальниками, — произнес он. — Избавляю его от необходимости видеться с кем-нибудь из нас. Дарую ему прощение и принимаю от него заложников.
Никому не ведомо, что сталось потом с Коммом-атребатом; о дальнейшей его жизни до нас не дошло никаких сведений.
ФАРИНАТА ДЕЛЬИ УБЕРТИ[595], ИЛИ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
А он, чело и грудь вздымая властно,
Казалось, Ад с презреньем озирал
Данте, «Ад», песнь X[596]Старый Фарината дельи Уберти сидел на балконе башни и пристально смотрел вниз на ощетинившийся зубцами город, Фра Амброджо, стоя рядом с ним, созерцал пышно расцвеченное вечерними огнями небо, осенявшее своими яркими цветами гряду холмов, опоясывающих Флоренцию. С ближних берегов Арно, наполняя тихий воздух, подымался запах миртов. Последние крики птиц доносились со светлой крыши Сан-Джованни. Вдруг по острому булыжнику, извлеченному с глубокого речного дна, чтобы замостить дороги, зазвенели копыта лошадей, и два молодых всадника, прекрасных, как два святых Георгия, выехали из узкой улицы и проследовали мимо глухой стены дворца дельи Уберти. Поравнявшись с подножием башни гибеллинов, один из них плюнул в знак презрения, а другой высоко поднял руку, вложив большой палец между указательным и средним. Потом оба, пришпорив коней, галопом промчались до деревянного моста. При виде оскорбленья, нанесенного его имени, Фарината остался неподвижным и безмолвным. По его иссохшим щекам пробежала дрожь, и слезы, в которых было больше соли, чем влаги, медленно заволокли его желтые зрачки. Потом он трижды покачал головой и промолвил:
— За что ненавидит меня народ?
Фра Амброджо ничего не ответил. Фарината продолжал глядеть на город сквозь едкий туман, обжигавший его веки. Потом, обратив к монаху худое лицо с орлиным носом и резко очерченными челюстями, он снова спросил:
— За что ненавидит меня народ?
Монах отмахнулся, словно отгоняя муху.
— Какое вам дело, мессер Фарината, до непристойной дерзости этих юнцов, вскормленных в гвельфских башнях Ольтарно?
Фарината. Меня и в самом деле мало беспокоят эти два Фрескобальди, любимчики Рима и сыновья сводников и проституток. Я не страшусь их презрения. Ни друзья мои, ни тем более враги не могут презирать меня. Я страдаю оттого, что чувствую на себе ненависть флорентинского народа.
Фра Амброджо. Ненависть царствует в городах с той. поры, как сыновья Каина принесли туда вместе с искусством и гордыню, с той поры, как два фиванских рыцаря[597] утолили кровью свою братскую ненависть. Обида порождает гнев, и гнев порождает обиду. Ненависть с неизменной плодовитостью порождает ненависть.
Фарината. Но как любовь может породить ненависть? И отчего ненавистен я горячо любимому мною городу?
Фра Амброджо. Раз вы этого хотите, я отвечу вам, мессер Фарината. Но из уст моих вы исторгнете только слова правды. Ваши соотечественники не могут простить, что вы сражались при Монтаперто под белым знаменем Манфреда[598] в тот день, когда Арбия обагрилась кровью флорентинцев. Они считают, что в этот день в роковой долине вы не были другом родного города.
Фарината. Как! Я ли не любил его! Жить его жизнью, жить только для него, переносить усталость, голод, жажду, лихорадку, бессонницу и ни с чем не сравнимую муку изгнания; ежечасно стоять перед лицом смерти, подвергаться опасности оказаться в руках тех, которые не удовольствовались бы одной моей смертью; идти на все, все претерпеть ради него, ради его блага, ради того, чтобы вырвать его у моих врагов, бывших и его врагами, ради того, чтобы освободить его от бесчестья, чтобы понудить его волей или неволей следовать спасительным советам и стать на правильный путь, думать то, что думал я сам вместе с благороднейшими, лучшими людьми; желать, чтобы он был прекрасен, искусен и великодушен, и этому единственному желанию, отдавать в жертву свое состояние, своих сыновей, своих близких, своих друзей; ради одной его пользы становиться то щедрым, то скупцом, то честным, то коварным, то праведником, то преступником, — это ли не любить свой город? Так кто же его любил, если я не любил его?
Фра Амброджо. Увы, мессер Фарината, вы своей безжалостной любовью вооружили против города насилие и хитрость, и любовь эта стоила жизни десяти тысячам флорентинцев.
Фарината. Да, любовь моя к родному городу была именно так сильна, как вы говорите, фра Амброджо, и поступки мои, внушенные ею, должны послужить примером нашим сыновьям и сынам наших сыновей. Дабы память о них сохранилась в потомстве, я бы сам продиктовал их, если бы ум мой был более склонен к писанию. В дни молодости мне удавались любовные песенки; они приводили в восторг женщин, и писцы заносили их в книги. Вообще же я всегда презирал литературу, как и искусство, и писание занимало меня не более, чем тканье шерсти. Пусть каждый, следуя моему примеру, действует сообразно занимаемому положению. Но вам, фра Амброджо, вам, человеку, столь искушенному в письменности, следовало бы написать повесть о великих делах, которыми я руководил. Это принесло бы вам славу, в том случае, конечно, если бы вы повели рассказ не как монах, а как дворянин, ибо действия эти — действия дворянина и рыцаря. Такое повествование открыло бы людям, как много сделано мною. И ни об одном из своих поступков я не сожалею.
Я был изгнан. Гвельфы убили трех моих родственников. Сиена приняла меня. Мои враги так озлобились на нее за это, что убедили флорентинский народ выступить против гостеприимного города с оружием в руках. Ради Сиены, ради изгнанников я обратился за помощью к сыну цезаря, королю Сицилии.
Фра Амброджо. Да, к сожалению, это так: вы были союзником Манфреда, друга люцерийского султана[599], астролога, вероотступника и отлученного от церкви.
Фарината. В те времена папское отлучение проглатывалось нами, как вода. Не знаю, выучился ли Манфред читать судьбу по звездам, но своих сарацинских рыцарей он ценил очень высоко. Храбрость его не уступала его осторожности; то был мудрый государь, скупой на кровь своих воинов и на золото своих сундуков. Он отвечал сиенцам, что окажет им помощь. Он дал им щедрые обещания, чтобы получить столь же щедрую благодарность. В действительности же он сделал очень мало, частью из лукавства, частью из боязни ослабить самого себя. Он послал свое знамя с сотней германских всадников. Обманутые и раздосадованные сиенцы готовы были отклонить эту смехотворную помощь. Мне удалось внушить им некоторую прозорливость и научить искусству пропускать простыню через перстень. Однажды, до отвала накормив и напоив германцев мясом и вином, я коварно подговорил их на столь неудачную вылазку, что они попали в засаду и были все перебиты флорентинскими гвельфами, которые захватили белое знамя Манфреда и протащили его по грязи привязанным к ослиному хвосту. Я тотчас же уведомил сицилийца о нанесенном ему оскорблении. Он на него отозвался именно так, как я это предвидел, и чтобы отомстить за обиду, послал восемьсот всадников с достаточным числом пехотинцев под началом графа Джордано, которого молва равняла с Гектором троянским. Между тем Сиена и ее союзники набирали ополчение. Вскоре в нашем распоряжении было уже тринадцать тысяч бойцов. Это было меньше того, чем располагали флорентинские гвельфы. Но среди последних были ложные гвельфы, только и ждавшие подходящего случая, чтобы обратиться в гибеллинов, в то время как к нашим гибеллинам не примешивалось ни одного гвельфа. Имея таким образом на своей стороне хотя и не все благоприятные возможности (этого вообще не бывает), но все же весьма значительные и совсем непредвиденные, повторения которых нельзя было ожидать, я горел нетерпением дать сражение, ибо при счастливом исходе оно уничтожило бы моих врагов, а при несчастном нанесло бы урон только моим союзникам. Я алкал и жаждал этого сражения. Чтобы вовлечь в него флорентинскую армию, я прибегнул к лучшему средству, имевшемуся в моем распоряжении: я отправил во Флоренцию двух монахов с поручением тайно уведомить совет, будто я, движимый глубоким раскаянием и желая ценою крупной услуги добиться прощения соотечественников, готов за вознаграждение в десять тысяч флоринов открыть им одни из сиенских ворот; и что будто для успешного осуществления этого предприятия флорентинской армии необходимо продвинуться с возможно большими силами до берегов Арбии, под предлогом оказания помощи гвельфам из Монтальчино. Когда монахи тронулись в путь, я выплюнул прощение, которого просили только мои уста, и, охваченный страшным беспокойством, предался ожиданию. Я боялся, как бы дворянская часть совета не поняла, каким безумием будет отправка войска к Арбии. Но я надеялся, что план этот понравится плебеям своим сумасбродством и они тем более охотно примкнут к нему, что не внушающие им доверия дворяне будут его оспаривать. И действительно, дворянство пронюхало ловушку, зато ремесленники попались в мои тенета. Они составляли большинство в совете. По их приказанию флорентинская армия выступила в поход и выполнила план, который я начертал для ее погибели. Сколь прекрасно было утро, когда, выехав верхом, с небольшим отрядом изгнанников, в окружении сиенцев и германцев, я увидел, как солнце, прорвавшее белое покрывало утра, осветило лес гвельфских копий, усеявших склоны Малены! Враги были в моих руках. Еще немного хитрости, и я мог быть уверен в их гибели. По моему совету граф Джордано трижды пропустил перед гвельфами пехотинцев сиенской общины, каждый раз меняя цвет одежды, чтобы они казались втрое более многочисленными, чем были на самом деле. Он показал их гвельфам сначала в красном в предвестие крови, затем в зеленом в предвестие смерти, и, наконец, полубелыми-получерными в предвестие неволи. То было правдивое предсказание! Какую радость восчувствовал я, когда, бросившись в атаку на флорентинскую конницу, я увидел, как, не вынеся нашего удара, она взвилась с места, словно стая галок; когда увидел я, как купленный мною человек, чье имя я не произношу из боязни осквернить свои уста, одним ударом меча сшиб то самое знамя, которое он шел защищать; когда я увидел, как всадники, уже тщетно искавшие белые и синие цвета, чтобы примкнуть к их рядам, мчались в полном смятении, давя друг друга, между тем как мы бросились в погоню за ними и рубили их словно свиней на базаре. Одни только ремесленники флорентинской общины еще держались; их пришлось перебить вокруг окровавленного кароччо[600]. Наконец перед нами уже никого не осталось, кроме мертвых и трусов, вязавших друг другу руки, чтобы с большим смирением, на коленях, просить у нас пощады. А я, довольный делом рук своих, стоял в стороне.
Фра Амброджо. Увы! Проклятая долина Арбии! Говорят, что и теперь, после стольких лет, она еще пахнет смертью и что, безлюдная, наводненная диким зверьем, она по ночам оглашается воем белых волчиц. Ужели ваше сердце было настолько черство, мессер Фарината, что не изошло слезами, когда увидели вы в этот мерзостный день, как цветущие склоны Малены упиваются флорентинской кровью?
Фарината. Я страдал только от мысли, что указал таким образом моим врагам путь к победе, и, разбив их после десяти лет их могущества и величия, дал им почувствовать, на что и они могут рассчитывать по прошествии стольких же лет. Я думал, что, раз при моей помощи был дан такой оборот колесу Фортуны, колесо это, совершив еще один оборот, свалит и моих приверженцев. Предчувствие это омрачило ослепительный свет моей радости.
Фра Амброджо. Мне показалось, что вы чувствуете отвращение и, конечно, не без оснований, к предательству человека, повергшего в грязь и кровь то знамя, под которым он был призван сражаться. Я сам, зная о беспредельной милости господа бога, все же сомневаюсь, не уготовано ли для Бокки место в аду рядом с Каином, Иудой и отцеубийцей Брутом[601]. Но если преступление Бокки до такой степени гнусно, не раскаиваетесь ли вы, что были его вдохновителем? И не думается ли вам, мессер Фарината, что сами вы, завлекши в ловушку флорентинскую армию, оскорбили всеправедного бога и совершили деяние недозволенное?
Фарината. Все дозволено тому, кто действует силою ума и крепостью сердца. Обманув врагов, я выказал себя не предателем, а великодушным. И если вы считаете преступным, что ради спасения своей партии я воспользовался человеком, низринувшим собственное знамя, вы глубоко не правы, фра Амброджо. Ибо природа, а не я, сделала его подлецом, зато я, а не природа, обратил эту подлость на доброе дело.
Фра Амброджо. Но раз вы любили родину, даже сражаясь против нее, вам, без сомнения, было тяжело одержать над ней победу только с помощью врагов ее, сиенцев. Не повергло ли вас это в смущение?
Фарината. Чего же мне было стыдиться? Мог ли я иным способом восстановить господство своей партии? Я вступил в союз с Манфредом и сиеицами. Если бы того потребовали обстоятельства, я вступил бы в союз с африканскими великанами, у которых, по словам видевших их венецианских мореплавателей, только один глаз во лбу и которые питаются человеческим мясом. Преследовать такую цель — это не то, что разыгрывать по всем правилам игру, вроде шахмат или шашек. Неужели вы думаете, что если бы я начал рассуждать, что один прием дозволен, а другой запрещен, то мои противники стали бы играть так же, как и я? Нет, там, на берегах Арбии, мы, конечно, не разыгрывали партию в кости, под сенью зеленой беседки, держа на коленях таблички для записи и белые камешки для подсчета очков. Надо было победить. И та и другая сторона сознавали это.
Однако я согласен с вами, фра Амброджо, что спор лучше было бы разрешить в своей среде, между флорентинцами. Гражданская война — дело столь прекрасное, столь благородное и вместе с тем вещь столь тонкая, что, если бы это было возможно, в нее не следовало бы вмешивать чужестранцев. Хотелось бы целиком предоставить ее согражданам и предпочтительнее дворянам, способным приложить к этому делу не знающую устали руку и проницательный ум.
Не скажу того же о внешних войнах. Они — предприятие полезное и даже необходимое, к которому прибегают для сохранения или расширения границ государства или для улучшения торговли. Обычно нет ни особой выгоды, ни особой чести в том, чтобы лично участвовать в этих больших войнах. Расчетливый народ охотно слагает ведение их на наемных солдат и передает командование опытным полководцам, умеющим достигнуть многого с малым числом людей. Для этих войн требуется только знание дела, и в них следует расходовать больше золота, нежели крови. В такие войны не вкладывают сердца. Ибо неразумно ненавидеть чужестранца за то, что интересы его противны нашим, в то время как вполне естественно и разумно ненавидеть соотечественников, противящихся тому, что нам самим кажется полезным и хорошим. Только в гражданской войне можно действительно выказать проницательность ума, непреклонность души и силу сердца, преисполненного гнева и любви.
Фра Амброджо. Я беднейший из служителей бедных. Но у меня один владыка — царь небесный, и я бы изменил ему, мессер Фарината, если бы не сказал вам, что истинной похвалы достоин лишь воин, идущий под знаком креста и с песней на устах:
Vexilla regis prodeunt.[602]Блаженный Доменико[603], душа которого, подобно солнцу, поднялась над церковью, омраченной мраком лжи, поучал, что война против еретиков тем благодатнее и милосерднее, чем она более пламенна и сурова. Это, конечно, понимал тот, кто именуется князем апостолов и кто сам, будучи камнем пращи, как некоего Голиафа, поразил в голову ересь. Он принял мученичество между Комо и Миланом. Он — слава моего ордена. Обнаживший меч против такого воина подобен Антиоху[604] в глазах господа нашего Иисуса Христа. Но, учредив империи, королевства и республики, господь дозволяет защищать их с оружием в руках и милостиво взирает на полководцев, которые, помолившись ему, обнажают меч для блага своего временного отечества. Однако, напротив того, он отводит взгляд свой от гражданина, который нападает на родной город и заливает его кровью, как это с такой охотой делали вы, мессер Фарината, не страшась того, что истощенная и истерзанная вами Флоренция окажется не в силах противиться своему врагу. Старые летописи говорят нам, что города ослабленные междоусобными войнами, становятся легкой добычей для подстерегающего их чужестранца.
Фарината. Монах, когда следует нападать на льва: во время его бодрствования или во время сна? Я же всегда держал флорентинского льва в бодрствующем состоянии. Спросите-ка у пизанцев, не пожалели ли они о том, что напали на льва, которого я разъярил? Поройтесь-ка в старых летописях, и, быть может, вы из них также узнаете, что города, кипящие внутри, всегда готовы обдать кипятком внешнего врага, зато народы, остуженные мирною жизнью, лишены горячности, необходимой для сражения в открытом поле. Знайте же, что весьма опасно нанести оскорбление городу, достаточно воинственному и отважному для ведения внутренней войны, и не говорите мне больше о том, что я ослабил силы своей родины.
Фра Амброджо. Однако вам известно, что после рокового сражения при Арбии родина была очень близка к окончательной гибели. Перепуганные гвельфы покинули стены города и добровольно последовали по скорбному пути изгнания. Совет гибеллинов, созванный графом Джордано в Эмполи[605], постановил разрушить Флоренцию.
Фарината. Это правда. Все они хотели, чтобы от нее не осталось камня на камне. Все они говорили: «Сокрушим это гнездо гвельфов». Один я встал на ее защиту. Один я уберег ее от гибели. Дыханием жизни флорентинцы обязаны мне. Если бы в сердцах тех людей, что оскорбляют меня и плюют у моего порога, имелась хоть малая доля уважения к старшим, они чтили бы меня как своего отца. Я спас свой город.
Фра Амброджо. Предварительно погубив его. Но да будет этот день в Эмполи зачтен вам и в этом мире и в будущем, мессер Фарината! И да будет угодно покровителю Флоренции, святому Иоанну Крестителю, донести до слуха господня слова, произнесенные вами в совете гибеллинов! Повторите, прошу вас, эти слова, достойные всяческой похвалы. Их передают по-разному, а мне хотелось бы знать их содержание точно. Правда ли, как говорят многие, что вы воспользовались двумя тосканскими пословицами, гласящими одна об осле, а другая — о козе?
Фарината. О козе я что-то позабыл, об осле мне помнится тверже. Возможно, как говорили некоторые, я действительно перепутал эти две пословицы. Это меня ничуть не трогает. Я поднялся и сказал приблизительно следующее: «Осел крошит репу по своему разумению. И вы, по примеру его, не разбирая, крошите и завтрашний день и вчерашний, не ведая, что подлежит разрушению и что следует сохранить. Но знайте, я страдал и сражался только для того, чтобы жить в своем городе. Поэтому я буду его защищать и, если надо, умру с мечом в руке».
Я больше ничего не сказал им и вышел. Они бросились за мной, стараясь успокоить меня мольбами, и поклялись пощадить флорентинцев.
Фра Амброджо. Да будет дано сыновьям нашим забыть о том, что вы были при Арбии, и помнить, что вы были в Эмполи. Вы жили в жестокое время, и я думаю, что ни гвельфу, ни гибеллину не легко будет обрести спасение. Да избавит вас господь от ада, мессер Фарината, и да приютит он вас после смерти в своем пресвятом раю.
Фарината. Рай и ад существуют только в нашем сознании. Так учил Эпикур, и многие после него знают об этом. Разве вам самим, фра Амброджо, не случалось читать в книге: «Человек умирает так же, как умирает животное. Свойства их одинаковы»[606].
Но если бы я верил в бога, как верят заурядные души, я просил бы его оставить меня после смерти здесь, всего целиком, и заключить мою душу и тело в гробницу под стенами моего прекрасного Сан-Джованни. Кругом видны вместилища, высеченные римлянами для их мертвецов, ныне пустые и открытые. На одном из этих лож хотел бы я, наконец, найти себе вечное успокоение. В жизни своей я жестоко страдал от изгнания, а ведь я был на расстоянии всего одного дня пути от Флоренции[607]. В большем отдалении от нее я страдал бы еще сильнее. Я хочу навсегда остаться в моем возлюбленном городе. Да останутся в нем и близкие мои!
Фра Амброджо. Я с ужасом слушаю ваши кощунственные речи, хулящие бога, который сотворил небо и землю, и холмы, и фьезоланские розы. А особенно страшит меня то, мессер Фарината дельи Уберти, что душа ваша придает злу какой-то благородный характер. Если же, вопреки еще теплящейся во мне надежде, вы будете покинуты беспредельным милосердием, то ад, пожалуй, извлечет себе из вас некоторую славу.
КОРОЛЬ ПЬЕТ
В лето от Р. X. тысяча четыреста двадцать восьмое в городе Труа капитул провозгласил каноника Гийома Шапделена крещенским королем, следуя обычаю, который в те времена соблюдала вся христианская Франция. У каноников было заведено избирать кого-нибудь из своей среды и нарекать его королем, ибо он должен был замещать Царя царей, объединяя всех каноников за трапезой, пока сам господь Иисус Христос не соединит их, как они уповали, в своем святом раю.
Мессир Гийом Шапделен был избран в воздаяние его добронравия и щедрости. Он был богат. Его виноградники не пострадали ни от арманьякских, ни от бургундских главарей, опустошавших Шампань, и этим благополучием он был обязан прежде всего богу, а затем самому себе, ибо он обращался обходительно с обеими партиями, раздиравшими королевство лилий[608]. В тот год мера зерна стоила восемь франков, четверть сотни яиц шесть су, а небольшой поросеночек семь франков, и служители церкви были вынуждены, как простой народ, питаться всю зиму капустой; поэтому богатство мессира Гийома немало способствовало его избранию.
Итак, в день святого крещения мессир Гийом Шапделен в полном облачении, держа в руке, как скипетр, пальмовую ветвь, занял место на клиросе собора, под балдахином из золотой парчи. Тем временем три каноника с венцами на головах вышли из ризницы. Один из них был одет в белое, другой в красное и третий в черное. Изображая волхвов, они проследовали в ту часть церкви, которая символизирует подножие креста, распевая стихи из евангелия от святого Матфея. Дьякон с шестом, на конце которого горело пять светильников, в память чудесной звезды, приведшей волхвов в Вифлеем, направился к главному нефу и взошел на клирос. Каноники с пением проследовали за ним, и когда дошли до места в евангелии: «И вошедши в дом, увидели младенца с Мариею, матерью его, и, падши, поклонились ему», — остановились перед мессиром Гийомом Шапделеном и преклонили перед ним колена. Трое детей шли за ними следом, предлагая крупицы соли и пряности, которые мессир Гийом милостиво принял в подражание царственному младенцу, благосклонно приявшему смирну, золото и ладан от царей земных. После сего было благочестиво совершено божественное служение.
Вечером каноники отправились ужинать к крещенскому королю. Дом мессира Гийома прилегал к алтарю храма. Его отличала золотая шапка, высеченная на каменном щите над входной дверью. Парадная зала была в эту ночь усыпана листвой и освещена двенадцатью смоляными факелами. Каноники в полном составе заняли места за столом, на котором был подан целый ягненок. Тут были монсеньеры Жан Брюан, Тома Алепе, Симон Тибувиль, Жан Кокмар, Дени Пти, Пьер Корнель, Барнабе Виделу и Франсуа Пигушель, каноники святого Петра, мессир Тибо де Сож, дворянин, наследственный светский каноник, а в самом конце стола сидел Пьероле, молоденький служка, хотя и не знавший грамоте, но состоявший секретарем у мессира Гийома Шапделена и прислуживавший ему за обедней. Он был похож на девочку, переодетую мальчиком. Именно он появлялся на сретенье в ангельском одеянии. Был также обычай: в среду рождественского поста читать за обедней о том, как архангел Гавриил возвестил Марии, что от нее родится сын божий. На помост ставилась девушка, а ребенок с крылышками благовестил ей, что она станет матерью сына божия. Над головой девушки подвешивали голубя из пакли. Пьероле уже два года изображал ангела-благовестителя.
Но душа его была далеко не столь же нежной, как лицо. Был он горяч, дерзок, охотник до ссор и любил задирать мальчишек старше себя. Подозревали, что он якшается с девками. Пример военных, стоявших гарнизоном в городах, оправдывал это, и никто не обращал внимания на его дурные наклонности. Более огорчало мессира Гийома Шапделена то обстоятельство, что Пьероле был арманьяком и напрашивался на ссоры с бургундцами. Каноник постоянно напоминал ему, что такой образ мыслей крайне опасен и что он воистину внушается дьяволом, особенно в славном городе Труа, где покойный король Генрих V Английский отпраздновал свою женитьбу на мадам Екатерине Французской и где ныне англичане являются законными господами[609], ибо всякая власть от бога — omnis potestas a Deo.
Когда приглашенные заняли места, мессир Гийом Шапделен прочитал Benedicite[610], после чего все молча приступили к трапезе. Мессир Жан Кокмар заговорил первым. Обратясь к соседу, мессиру Жану Брюану, он сказал:
— Бы человек осмотрительный и ученый. Вы постились вчера?
— Вчера надлежало поститься, — ответил мессир Жан Брюан. — Священные книги называют крещенский сочельник днем бдения, а кто говорит — бдение, тот говорит — пост.
— Простите, — возразил мессир Жан Кокмар. — Я, в согласии с прославленными учеными, полагаю, что строгий пост не согласуется с радостью, которую вселяет в верующих рождение спасителя, память о чем церковь хранит до крещения.
— Ну, а я, — возразил мессир Жан Брюан, — считаю, что тот, кто не постится в эти дни бдения, отступается от древнего благочестия.
— А я, — воскликнул мессир Жан Кокмар, — считаю, что тот, кто готовит себя постом к самому радостному из наших праздников, достоин кары, ибо придерживается обычая, осужденного большинством отцов церкви.
Ссора каноников начинала обостряться.
— Не поститься! Какая изнеженность! — говорил мессир Жан Брюан.
— Поститься! Какое упрямство! — говорил мессир Жан Кокмар. — Вы человек высокомерный и дерзкий, не желающий ни с кем считаться.
— Вы слабый человек, безвольно следующий за развращенной толпой. Но даже в наши лихие времена у меня имеются авторитетные указания: Quidam asserunt in vigilia Epiphaniae jejunandum[611].
— Вопрос решен. Non jejunetur![612]
— Тише! Тише! — закричал со своего высокого и широкого кресла мессир Гийом Шапделен. — Вы оба правы: достойно похвалы, что вы, Жан Кокмар, принимаете пищу в крещенский сочельник, в знак радости, а вы, Жан Брюан, правильно поступаете, что поститесь в этот день с надлежащим весельем.
Капитул единодушно одобрил его решение.
— Соломон не рассудил бы лучше! — воскликнул мессир Пьер Корнель.
Тут мессир Гийом Шапделен поднес к губам свой позолоченный кубок, а мессиры Жан Брюан, Жан Кокмар, Тома Алепе, Симон Тибувиль, Дени Пти, Пьер Корнель, Барнабе Виделу и Франсуа Пигушель разом воскликнули:
— Король пьет! Король пьет!
Обычай требовал, чтобы все присутствующие подхватили эти слова, и сотрапезник, нарушивший его, подвергался строгому взысканию.
Мессир Гийом Шапделен заметил, что кувшины опустели, и приказал подать вина; слуги натерли хрена, чтобы возбудить у гостей жажду.
— За здоровье сеньора епископа Труа и регента Франции, — провозгласил мессир Гийом, приподнявшись со своего пастырского кресла.
— С удовольствием, мессир, — отозвался оруженосец Тибо де Сож, — но ни для кого не тайна, что наш сеньор епископ в ссоре с регентом из-за взимания двойной десятины, которую монсеньер Бедфорд[613] требует от служителей церкви под предлогом, что она пойдет на поддержку крестового похода против гуситов[614]. И мы тут смешаем два враждебных здоровья.
— Э! Э! — ответил мессир Гийом, — здоровья надо желать ради мира, а не ради войны. Я пью за регента Франции, местоблюстителя короля Генриха Шестого, и за монсеньера епископа Труа, избранного всеми нами два года тому назад.
Каноники, подняв кубки, выпили за здоровье епископа и регента Бедфорда.
Но тут с дальнего конца стола раздался молодой, еще не окрепший голос:
— За здоровье дофина Людовика, истинного короля Франции![615]
То был маленький Пьероле, арманьякский дух которого, подогретый вином, взбунтовал.
Но никто не обратил на это внимания, а тем временем мессир Гийом снова выпил, и опять прозвучал громкий возглас:
— Король пьет! Король пьет!
Между сотрапезниками велась оживленная беседа как о священных, так и мирских делах.
— Известно ли вам, — спросил Тибо де Сож, — что регент направил десять тысяч англичан на штурм Орлеана?[616]
— В таком случае, — сказал мессир Гийом, — они его заберут, как уже взяли Жаржо и Божанси и еще немало наших славных городов.
— Ну это еще как сказать! — проговорил, весь вспыхнув, маленький Пьероле.
Но так как он сидел на самом конце стола, его и на этот раз не услышали.
— Выпьемте, монсеньеры, — сказал мессир Гийом, радушно потчуя гостей, и, подавая пример, поднял свою золоченую чашу.
Раздался еще более громкий возглас:
— Король пьет! Король пьет!
Но когда прокатился этот гром голосов, мессир Пьер Корнель, сидевший в дальнем конце стола, сварливо проговорил:
— Монсеньеры, выдаю вам с головой маленького Пьероле; он не кричал «Король пьет» и тем самым грубо нарушил установленный порядок. Надо его наказать.
— Надо его наказать! — воскликнули в один голос мессиры Дени Пти и Барнабе Виделу.
— Да понесет он заслуженную кару, — промолвил и мессир Гийом Шапделен. — Надо вымазать ему сажей руки и лицо. Таков обычай.
— Таков обычай! — закричали хором каноники. Тут мессир Пьер Корнель пошел к камину за сажей, между тем как мессиры Тома Алепе и Симон Тибувиль, захлебываясь от смеха, бросились на юношу, стараясь удержать его руки и ноги.
Но Пьероле выскользнул у них из рук и, прислонясь к стене, выхватил из-за пояса маленький кинжал; он побожился вонзить его в горло каждому, кто к нему подойдет.
Эта дерзость очень рассмешила каноников и в особенности мессира Гийома Шапделена; поднявшись с кресла, он подошел к своему юному секретарю вместе с Пьером Корнелем, державшим совочек сажи в руке.
— Стало быть, — промолвил он слащавым голосом, — в наказание я переделаю этого непослушного мальчика в негра, служителя черного царя Валтасара[617], пришедшего поклониться Христу. Пьер Корнель, подайте мне лопатку.
И жестом, столь же медлительным, как если бы он кропил святой водой верующего, он бросил щепотку сажи в лицо подростку, а тот, кинувшись на него, воткнул ему в живот кинжал.
Мессир Гийом Шапделен издал глубокий вздох и ничком рухнул на землю. Гости засуетились вокруг него. Они увидели, что он мертв.
Пьероле исчез. Его искали по всему городу, но не нашли. Позднее стало известно, что он поступил в отряд капитана Лагира[618]. В сражении при Патэ он, на глазах у Девы, взял в плен английского командира и был посвящен в рыцари.
«МЮИРОН»
Иной раз, коротая с нами долгие вечера, главнокомандующий увлекал нас рассказами о привидениях — повествовательный жанр, в котором он был весьма искусен.
«Мемуары графа Лавалета»[619], изд. 1831 г., т. I, стр. 335.Не получая больше трех месяцев вестей из Европы Бонапарт, по возвращении из Сен-Жан-д'Акра[620], послал парламентера к оттоманскому адмиралу, якобы договориться относительно обмена пленными, а на самом деле в надежде, что сэр Сидней Смит[621] остановит этого офицера в пути и ознакомит его с последними событиями, если, как можно было предвидеть, события эти неблагоприятны для республики. Генерал не ошибся в своих расчетах. Сэр Сидней пригласил парламентера подняться к нему на корабль и принял его с почетом. Завязав беседу, он не замедлил убедиться, что французская армия, находящаяся в Сирии, не получала ни депеш, ни каких бы то ни было других сообщений. Он показал офицеру развернутые на столе газеты и с коварной любезностью предложил ему взять их с собою.
Бонапарт в своей палатке читал эти газеты всю ночь. К утру он принял решение вернуться во Францию и взять в свои руки ослабевшую власть. Пусть только нога его ступит на территорию республики, он тут же раздавит слабое и разнузданное правительство[622], отдавшее родину на растерзание глупцам и мошенникам, и, расчистив место, займет его сам. Для осуществления этого замысла нужно было переплыть под противными ветрами Средиземное море, усеянное английскими крейсерами. Но Бонапарт видел перед собой только намеченную цель и верил в свою звезду. Ему везло непостижимо — Директория предоставила ему право в любое время оставить египетскую армию, назначив преемника по своему выбору.
Он призвал к себе адмирала Гантома[623], который со времени гибели флота находился при главной квартире, и приказал ему в спешном порядке и в строжайшей тайне снарядить два венецианских фрегата, стоявших на якоре в Александрии, и привести их в указанное ему пустынное место на берегу. А сам, оставив в запечатанном пакете письменное распоряжение, возлагавшее верховное командование на генерала Клебера[624], отправился, будто бы для инспекторского объезда, с эскадроном кавалерии в бухту Марабу. Вечером 7 фрюктидора VII года[625], на перекрестке двух дорог, откуда взору открывалось море, он неожиданно столкнулся с генералом Мену[626], возвращавшимся со свитой в Александрию. Сохранять тайну не было больше ни возможности, ни смысла, поэтому Бонапарт коротко попрощался со своими солдатами и, настоятельно призывая их твердо держаться в Египте, сказал:
— Если мне посчастливится вступить во Францию, царству болтунов придет конец!
Казалось, он говорил так по наитию и как бы помимо своей воли. В действительности же он рассчитывал таким образом оправдать свое бегство и внушить мысль о будущем своем могуществе.
Он прыгнул в лодку, которая с наступлением ночи причалила к фрегату «Мюирон». Адмирал Гантом принял его на борт со словами:
— Веду корабль под вашей звездой.
И тут же подал знак к отплытию. Генерала сопровождали его адъютант Лавалет, Монж[627] и Бертолле[628]. Фрегат «Каррер» — конвоирное судно — взял на борт генералов Ланна[629] и Мюрата[630], — оба были ранены, — господ Денона[631], Костаза[632] и Парсеваль-Гранмезона[633].
С первой же минуты наступил штиль. Адмирал предложил возвратиться в Александрию, чтобы утром не оказаться в виду Абукира[634], где стоял на якоре неприятельский флот. Преданный Лавалет умолял генерала внять этому совету. Но Бонапарт указал на открытое море:
— Не беспокойтесь, пройдем!
После полуночи поднялся свежий ветер. Утром флотилия была уже вне поля видимости. Воспользовавшись тем, что Бонапарт в одиночестве прохаживался по палубе, Бертолле подошел к нему.
— Генерал, — сказал он, — как хорошо, что вам пришла мысль успокоить Лавалета и внушить ему уверенность, что мы пройдем.
Бонапарт усмехнулся:
— Я ободрял преданного, но слабого духом человека. У вас же другой склад характера, и с вами, Бертолле, у меня будет иной разговор. Будущим можно пренебречь. Только настоящее достойно внимания. Нужно уметь в одно и то же время дерзать и рассчитывать, а в остальном полагаться на удачу.
И, ускорив шаг, он прошептал:
— Дерзать… рассчитывать… не замыкаться в рамки составленного плана… Применяться к обстоятельствам и позволять им управлять собою, не упускать ни одного мелкого обстоятельства, ни одного крупного события. Делать только возможное и делать все возможное.
В тот же день за обедом генерал упрекнул Лавалета в малодушии, выказанном им накануне, но адъютант ответил, что страхи его не улеглись, однако причина их теперь иная и что ему не стыдно признаться в своих опасениях, ибо он тревожится за участь Бонапарта, а следовательно, за судьбы Франции и всего мира.
— Я слышал от секретаря сэра Сиднея, — добавил он, — что, по мнению командора, выгоднее всего вести блокаду, оставаясь невидимым. Зная излюбленный способ действия сэра Сиднея и его нрав, мы должны ожидать встречи с ним на нашем пути. Стало быть…
Бонапарт перебил Лавалета:
— Стало быть, вы сомневаетесь в нашей способности отразить опасность. Впрочем, этому юному безумцу не дано действовать последовательно и методично. Смиту надо было бы командовать брандером.
Бонапарт пристрастно относился к опасному человеку, который выиграл у него сражение при Сен-Жан-д'Акре; такая большая неудача несомненно была бы для него не столь жестокой, если бы она постигла его по воле случая, а. не по воле одаренного полководца.
Адмирал поднял руку, как бы призывая небо в свидетели своей решимости:
— Если нам доведется столкнуться с английскими крейсерами, я перейду на борт «Каррера» и оттуда, поверьте, доставлю им столько хлопот, что «Мюирон» успеет ускользнуть.
Лавалет открыл было рот. Ему очень хотелось возразить адмиралу, что «Мюирон» — тихоходное судно, которое не в состоянии воспользоваться перевесом, если бы оно его получило. Однако, побоявшись вызвать недовольство генерала, адъютант затаил тревогу. Но Бонапарт прочел его мысли. И, потянув его за пуговицу мундира, сказал:
— Лавалет, вы благородный человек, но никогда не будете настоящим военным. Вы недостаточно цените свои преимущества и придаете значение неустранимым препятствиям. Не в нашей власти сделать этот фрегат быстроходным. Но надо помнить, что его команда, воодушевленная лучшими чувствами, способна на чудеса, если понадобится. Вы забываете, что фрегат называется «Мюирон». Я сам дал ему это имя. Дело было в Венеции. Я был приглашен на крестины только что построенного фрегата и воспользовался случаем, чтобы прославить память дорогого мне человека — моего адъютанта Мюирона, который пал на Аркольском мосту[635], грудью заслонив своего генерала от града сыпавшейся на него картечи. Этот фрегат и везет нас сегодня. Неужели вы не видите в его имени доброго предзнаменования?
Он еще некоторое время пытался огненными словами зажечь сердца. Потом сказал, что идет спать. Наутро стало известно его решение плыть недели четыре-пять вдоль берегов Африки, чтобы избежать встречи с неприятельскими крейсерами.
И вот потянулись однообразные, томительные дни. «Мюирон» плыл вдоль плоского и пустынного побережья, ознакомиться с которым корабли никогда не стремятся, и лавировал в полумиле от него, не решаясь выйти в открытое море. Бонапарт проводил целые дни в беседах и думах. Порою с уст его срывалось шепотом произнесенное имя Оссиана или Фингала[636]. Иногда он просил адъютанта почитать ему вслух «Революции» Верто или «Жизнеописания» Плутарха[637]. Он казался беззаботным и спокойным и полностью сохранял присутствие духа, не столько силою воли, сколько благодаря врожденной способности жить целиком настоящей минутой. Он даже испытывал мрачное удовольствие, глядя на море, которое, смеялось ли оно, или хмурилось, угрожало его счастью и отдаляло его от цели. После обеда, в хорошую погоду, он, поднявшись на палубу, располагался на лафете пушки в той непринужденной странной позе, в какой ребенком полулежал на камнях родного острова. Вокруг него собирались оба ученых, адмирал, капитан фрегата и адъютант. Завязывалась беседа, которую Бонапарт то прерывал, то возобновлял, — чаще всего она касалась новых научных открытий. Монж выражался тяжеловесно. Но речи его всегда обнаруживали ясный и прямой ум. Склонный к поискам полезного, он даже в физике проявлял себя патриотом и честным гражданином. Бертолле, отличаясь умом более философского склада, охотно строил общие теории.
— Не следует, — говорил он, — делать из химии науку таинственных превращений, новую Цирцею, поднимающую над природой свою волшебную палочку[638]. Подобные взгляды тешат живое воображение, но не удовлетворяют созерцательные умы, стремящиеся подвести превращение тел под общие законы физики.
Он предчувствовал, что всякая реакция, которую вызывает и наблюдает химик и которая происходит с чисто механической точностью, будет в будущем подчинена строгому вычислению. И постоянно возвращаясь к этой мысли, он подводил под нее уже известные или предполагаемые факты. Однажды вечером Бонапарт, не любивший отвлеченных размышлений, резко прервал его:
— Что за теория!.. Это мыльные пузыри, что возникают от одного дуновения и от одного дуновения лопаются. Химия, Бертолле, лишь забава, если ее не применять для нужд войны или промышленности. Ученый в своих изысканиях должен ставить себе цель определенную, большую, полезную, — как Монж, который для изготовления пороха искал селитру по погребам и конюшням.
Монж, а с ним и Бертолле, твердо стояли на том, что самое важное — обуздать силы природы и подчинить их общим законам, а потом уже можно дать им полезное применение; действовать же иначе — значит погрязнуть в пагубном мраке эмпиризма.
Бонапарт согласился с этим. Но эмпиризм пугал его меньше, чем отвлеченные идеи. Вдруг он резко спросил Бертолле:
— Не думаете ли вы вашими толкованиями проникнуть в бесконечную тайну природы, познать неведомое?
Бертолле ответил, что, даже не стремясь проникнуть в тайны мироздания, ученые оказывают человечеству величайшую услугу уже тем, что рассеивают ужасы невежества и суеверия разумным взглядом на явления природы.
— Разве не благодеяние для всего мира, — добавил он, — освободить людей от призраков, созданных страхом перед воображаемым адом, спасти их от гнета прорицателей и священников, избавить их от кошмара дурных предзнаменований и снов?
Ночь окутала мглою широкое море. В безлунном и безоблачном небе мерцали звезды, словно сияющие снежинки, застывшие в беспредельном пространстве. Генерал с минуту задумчиво молчал. Затем он выпрямился и, подняв голову, широким движением руки описал кривую небосвода, и в тишине послышался его резкий голос, голос молодого пастыря и античного героя:
— Моя душа — мрамор, ей чужды тревоги; сердце мое недоступно обычным человеческим слабостям. Но вы, Бертолле, достаточно ли вы изучили жизнь и смерть[639], достаточно ли пытливо заглянули в глубь явлений, чтобы утверждать, что в них нет тайн? Уверены ли вы, что все призраки — плод больного воображения? Можете ли вы объяснить все предчувствия? Генерал Лагарп[640] обладал душой и телом истого гренадера. Ум его обретал силу в сражениях. Там он блистал. Лишь один раз в жизни, в Фомбио, вечером накануне смерти, он оцепенел от незнакомого ему леденящего ужаса. Вы отрицаете призраки. Монж, знавали ли вы в Италии капитана Обеле?
Монж подумал немного и отрицательно покачал головой. Он совершенно не помнил капитана Обеле.
Бонапарт продолжал:
— Я отличил его в Тулоне[641], он тогда заслужил эполеты. Он был молод, хорош собою и доблестен, как воины, сражавшиеся при Платеях[642]. В нем было что-то античное. Начальники, пораженные его строгим видом, безукоризненной правильностью черт, мудростью, сквозившей в выражении его молодого лица, прозвали его «Минервой»[643], а за ними и гренадеры дали ему это прозвище, не понимая его значения.
— Капитан Минерва! — воскликнул Монж, — вы бы сразу так и сказали! Капитан Минерва был убит под Мантуей за несколько недель до моего приезда в этот город. Смерть его сильно подействовала на пылкие умы, ибо обстоятельствам, сопровождавшим ее, приписывалось нечто сверхъестественное; мне об этом рассказывали, но я ничего толком не запомнил. Помню только, что по приказу генерала Миоллиса[644] шпагу и наградной знак капитана Минервы, увитые лаврами, как-то в праздник пронесли во главе колонны, которая продефилировала мимо грота Вергилия, чтобы почтить память поэта, воспевшего героев.
— Обеле обладал той спокойной отвагой, какую я встретил еще у одного лишь Бессьера[645], — продолжал Бонапарт. — Капитана вдохновляли самые возвышенные чувства. В своих высоких душевных порывах он доходил до самоотверженности. У него был собрат по оружию, несколькими годами старше его, капитан Демарто, которого он любил всей силой великодушного сердца. Демарто не походил на своего друга. Горячий, порывистый, он с одинаковым пылом искал наслаждений и опасностей, а на бивуаках заражал всех своей жизнерадостностью. Обеле был благородным рабом долга, Демарто — беспечным любовником славы. Он платил своему собрату по оружию такой же горячей дружбой. Они воскрешали под нашими знаменами Ниса и Эвриала[646]. Смерть Обеле, как и смерть Демарто, сопровождалась странными обстоятельствами. Я был извещен о них так же, как и вы, Монж, но отнесся ко всему этому гораздо внимательнее, хотя был занят в ту пору очень важными делами. Я торопился взять Мантую прежде, чем вновь сформированная австрийская армия успеет войти в Италию. Однако я прочел донесение о том, что случилось до и после смерти капитана Обеле. Некоторые обстоятельства, указанные в этом донесении, могут сойти за чудо. Приходится объяснять их либо неведомыми свойствами, которые человек приобретает в исключительные минуты, либо вмешательством разума более высокого, нежели наш.
— Генерал, вы должны отбросить вторую гипотезу, — отозвался Бертолле. — Еще ни один исследователь природы не уловил в ней присутствия высшего разума.
— Я знаю, что вы отрицаете провидение, — возразил Бонапарт. — Такая вольность позволительна кабинетному ученому, но не тому, кто ведет за собой народы и властвует над чернью, лишь придерживаясь ее взглядов. Чтобы управлять людьми, надо разделять их представления обо всем великом и подчиняться общепринятым воззрениям.
И, подняв глаза на верхушку большой мачты, где во тьме мерцал огонек, Бонапарт тут же заметил:
— Ветер дует с севера.
Он переменил тему разговора с обычной для него резкостью, которая давала основания г-ну Денону говорить: «Генерал захлопнул ящик».
Адмирал Гантом сказал, что не приходится ожидать перемены ветра раньше первых осенних дней.
Язычок пламени был повернут к Египту. Бонапарт смотрел в ту сторону. Глаза его пристально вглядывались в пространство, слова срывались с уст четко и раздельно:
— Только бы они там продержались. Уход из Египта будет военной и торговой катастрофой. Александрия — центр европейского владычества. Оттуда я разорю английскую торговлю и открою Индии небывалые пути развития… Александрия для меня, как для Александра Македонского, плацдарм, порт, склад, откуда я устремлюсь на завоевание мира и куда направлю приток богатств из Африки и Азии. Англию можно победить только в Египте. Если Египет попадет в ее руки, то не мы, а она станет владычицей мира. Турция умирает. Египет обеспечивает мне обладание Грецией. Имя мое станет бессмертным и будет начертано рядом с именем Эпаминонда[647]. Судьба мира зависит от моего ума и от стойкости Клебера.
Все последующие дни генерал был молчалив. Он просил читать себе вслух «Революции Римской республики», но рассказ о них казался ему невыносимо растянутым. Адъютанту Лавалету приходилось нестись галопом по всему произведению аббата Верто. Но вскоре Бонапарт нетерпеливо вырывал книгу из его рук и требовал заменить ее «Жизнеописаниями» Плутарха, которые всегда слушал с удовольствием. В них, по его словам, он за недостатком широких и ясных взглядов, находил могучее ощущение судьбы.
И вот однажды после полуденного отдыха он призвал своего чтеца и приказал ему продолжить чтение «Жизнеописания Брута»[648] с того места, где Лавалет остановился накануне. Лавалет открыл книгу на отмеченной странице и прочел:
Итак, в то время, когда оба они, Кассий и Брут, собирались со всем своим войском покинуть Азию (стояла глухая ночь; палатку озарял лишь слабый светильник; во всем лагере царила глубокая тишина), Бруту, погруженному в думы, показалось, будто кто-то вошел. Устремив взор ко входу в палатку, он заметил страшный призрак — лицо его было странным и жутким. Призрак безмолвно приблизился и остановился. Брут отважился заговорить с ним. «Кто ты, — спросил он, — человек или бог? И зачем явился сюда?» — «Брут, — ответил призрак, — я твой злой гений, и ты увидишь меня под Филиппами». Брут же, не смутившись, ответил: «Увижу». Привидение тотчас исчезло, а Брут, которому слуги, коих он призвал, сказали, что ничего не видели и не слышали, до утра занимался своими делами.
— Здесь, в пустыне моря, подобная сцена особенно потрясает ужасом, — воскликнул Бонапарт. — Плутарх — хороший повествователь. Он умеет оживить рассказ. Он четко обрисовывает характеры. Но связь событий от него ускользает. От судьбы не уйдешь. Брут, посредственный ум, верил в силу воли. Человек выдающийся не станет так заблуждаться. Он видит неизбежность, ограничивающую его свободу. Он не восстает против нее. Быть великим — значит зависеть от всего. Я завишу от событий, в которых каждый пустяк может быть решающим. Нам ли, жалким существам, идти против природы вещей! Своевольны только дети. Иное дело великий человек. Что такое человеческая жизнь? Кривая полета ядра.
Адмирал явился к Бонапарту с вестью, что ветер, наконец, переменился. Надо было попытаться пройти. Опасность была нешуточной. Между Тунисом и Сицилией, где предстояло пройти фрегатам, море охранялось крейсерами, высланными английским флотом, который стоял на якоре близ Сиракуз. Им командовал адмирал Нельсон. Стоило одному только крейсеру обнаружить корабли Бонапарта, как через несколько часов грозный адмирал оказался бы перед ними.
Гантом приказал обогнуть мыс Бон при потушенных огнях. Ночь стояла светлая. Дозорный заметил на северо-востоке огни какого-то корабля. Беспокойство, снедавшее Лавалета, передалось даже самому Монжу. Бонапарт, сидя, по своему обыкновению, на лафете, выказывал спокойствие, которое можно было счесть и подлинным и притворным, в зависимости от желания видеть в этом спокойствии фатализм, полный надежд и стремлений, или же невероятную способность скрывать свои чувства. Обсудив с Монжем и Бертолле различные вопросы физики, математики и военного искусства, он заговорил о некоторых суевериях, от которых его ум, возможно, был не вполне свободен.
— Вы отрицаете чудесное, — обратился он к Монжу. — Однако мы живем и умираем среди чудес. Вы мне однажды сказали, что пренебрежительно выбросили из памяти необычайные обстоятельства, сопровождавшие смерть капитана Обеле. Быть может, легковерные итальянцы преподнесли их вам сильно приукрашенными. Это ваше единственное оправдание. Выслушайте меня. Вот голая истина. Девятого сентября, в полночь, капитан Обеле стоял на бивуаке перед Мантуей. На смену удушливо-знойному дню пришла сырая прохладная ночь, над болотистой равниной поднимался туман. Обеле пощупал свой плащ: он был весь влажный. Чувствуя легкий озноб, капитан подошел к костру, на котором гренадеры варили себе похлебку, сел на вьючное седло и протянул ноги к огню. Ночь и туман заставили их подсесть ближе к костру. Вдали слышалось конское ржание и равномерные окрики часовых. У капитана было тяжело и тоскливо на душе, и он некоторое время пристально глядел на догоравшие угли, как вдруг какая-то высокая фигура бесшумно выросла рядом с ним. Он чувствовал ее подле себя, но не смел повернуть головы. Наконец он принудил себя обернуться и увидел своего друга, капитана Демарто, который стоял в своей обычной позе, упершись левой рукой в бок и слегка покачиваясь. При виде его капитан Обеле почувствовал, что волосы у него на голове встали дыбом. Он не сомневался, что собрат по оружию стоит возле него, но поверить этому он не мог, так как знал, что капитан Демарто находится на Майне с Журданом[649], на которого наступал тогда эрцгерцог Карл. Но больше всего его ужаснуло нечто новое, чего не было прежде в облике его друга. Это был Демарто и вместе с тем какое-то другое существо, на которое ни один смертный не мог бы взглянуть без содрогания. Обеле открыл рот, но ужас сковал его язык, он не в состоянии был произнести ни одного членораздельного звука. Заговорил тот, другой:
— Прощай! Ухожу туда, куда должен идти. Завтра увидимся.
И он удалился неслышными шагами.
На следующий день Обеле был послан в разведку в Сан-Джорджо. Перед уходом он подозвал к себе старшего по возрасту лейтенанта и дал ему необходимые указания на случай, если тому придется исполнять обязанности капитана.
— Сегодня меня убьют, — добавил он. — Это так же верно, как то, что вчера убили Демарто.
И он рассказал нескольким офицерам о привидении, явившемся ему ночью. Те подумали, что у него приступ лихорадки, которая начинала уже трепать армию в мантуанских болотах.
Рота Обеле без помех произвела разведку крепости Сан-Джорджо. Выполнив задачу, рота отошла на наши позиции и продвигалась под прикрытием оливковой рощи. Старейший лейтенант, подойдя к капитану, сказал:
— Можете больше не сомневаться, капитан Минерва: мы доставим вас обратно живехоньким.
Обеле собрался было ответить, как вдруг пуля просвистела в листве и попала ему в лоб.
Две недели спустя письмо генерала Жубера[650], которое Директория переслала в итальянскую армию, известило о смерти храброго капитана Демарто, доблестно павшего на поле брани девятого сентября.
Окончив свой рассказ, генерал протеснился сквозь кольцо притихших слушателей и стал молча, большими шагами ходить взад и вперед по палубе.
— Генерал, — обратился к нему Гантом, — опасный переход остался позади.
На следующий день адмирал направил судно на север, намереваясь идти вдоль побережья Сардинии до Корсики, а затем повернуть к берегам Прованса, но Бонапарт пожелал высадиться где-нибудь в Лангедоке, опасаясь, что Тулон занят неприятелем.
«Мюирон» взял курс на Пор-Вандр, однако внезапный шквал отбросил его к Корсике и вынудил войти в Аяччо. Жители острова, сбежавшиеся приветствовать своего соотечественника, усеяли сплошь все скалы, возвышающиеся над заливом. Отдохнув несколько часов и получив сведения, что все побережье Франции свободно, поставили паруса на Тулон. Ветер был попутный, но слабый.
Среди всеобщего самим Бонапартом внушенного спокойствия только он один начинал терять невозмутимость: ему не терпелось поскорее очутиться на суше, и он то и дело порывистым движением маленькой руки хватался за шпагу. Его воспламеняло неуемное стремление к власти — искра, зароненная еще под Лоди и тлевшая в его душе целых три года. Как-то вечером, когда справа от него терялись из виду зубчатые берега его родного острова, он вдруг заговорил с такой торопливостью, что слова путались в его устах:
— Если не навести порядок, болтуны и тупицы окончательно погубят Францию. Германия потеряна для нас при Штокахе, Италия — при Треббии[651]; армии наши разгромлены, наши представители убиты[652], поставщики купаются в золоте, на складах — ни продовольствия, ни амуниции; час неприятельского вторжения близок; вот во что нам обходится бессильное и бесчестное правительство. Только честные люди — надежный оплот власти, — добавил он. — Продажные душонки внушают мне непреодолимое отвращение. Управлять с ними невозможно.
Монж — истый патриот — твердо сказал:
— Честность неотделима от свободы, как коррупция от деспотизма.
— Честность — естественное и своекорыстное свойство людей, рожденных для власти, — добавил генерал.
Солнце в кольце туманов, затушевывавших горизонт, погружало в воду свой расплывшийся и побагровевший диск. Небо с восточной стороны было усеяно облаками, легкими, как лепестки осыпавшейся розы. Мягко колыхались серебристо-лазурные складки светящейся морской пелены. Вдали показался парус какого-то корабля, и дежурный офицер разглядел в подзорную трубу английский флаг.
— Нужно же, — воскликнул Лавалет, — нужно же было избежать столько опасностей, чтобы погибнуть у самого берега!
Бонапарт пожал плечами:
— Можно ли еще сомневаться в моей удаче и в моей судьбе?
И он возвратился к своим мыслям:
— Надо смести с дороги всех этих мошенников и бездарностей и заменить их надежным правительством, способным действовать с львиной быстротой и решимостью. Порядок необходим. Где нет порядка — нет руководства, а без руководства нет ни кредита, ни денег — одно только разорение государства и отдельных лиц. Пора положить конец разбою, грабежу, спекуляции, разлагающим общество. Что такое Франция без правительства? Тридцать миллионов пылинок. Власть — всё. Остальное — ничто. Во время вандейских мятежей[653] сорок человек держало в повиновении целый департамент. Все население поголовно во что бы то ни стало жаждет покоя, порядка и прекращения распрей. Из страха перед якобинцами, эмигрантами и шуанами оно бросится в объятия любого повелителя.
— И этим повелителем, — вставил Бертолле, — по-видимому, будет какой-нибудь полководец?
— Вовсе нет, — с живостью возразил Бонапарт, — вовсе нет! Никогда солдату не стать повелителем народа, просвещенного наукой и философией. Если бы кто-нибудь из генералов попытался захватить власть, он тут же был бы. наказан за свою дерзость. Гош возымел такую мысль[654]. Не знаю, что его остановило — склонность к наслаждениям или правильная оценка положения: ведь такая попытка обернется против всякого солдата, который решится на нее. Я вполне одобряю французов за то, что им ненавистен гнет военного режима, и решительно склоняюсь к мысли, что первенство в государстве принадлежит гражданской власти.
Услышав эти слова, Монж и Бертолле удивленно переглянулись. Они знали, что Бонапарт шел через все опасности и неизвестность к захвату власти, и ничего не понимали в его речах: ведь он как бы отказывал самому себе в праве на столь вожделенную власть. Монж, который в глубине души любил свободу, возликовал, но генерал, угадывая мысли своих собеседников, сразу же ответил на них:
— Конечно, если народ откроет в солдате гражданские доблести, необходимые для управления и руководства страной, он поставит его во главе государства. Но в таком случае это будет глава гражданского правительства, а не военного. Того требует состояние умов в народе просвещенном, рассудительном и разумном.
И, помолчав с минуту, Бонапарт добавил:
— Я член Академии наук.
Английский корабль еще несколько мгновений скользил по багровой полосе горизонта, а затем исчез.
На следующее утро дозорный дал сигнал, что показались берега Франции. Корабль находился в виду Пор-Вандра. Бонапарт устремил взгляд на бледную полоску земли. Буря мыслей и чувств поднялась в его душе. На миг перед ним возникло какое-то ослепительное и смутное видение оружия, тог; в тишине моря ему слышался неумолчный ликующий гул. И среди образов гренадеров, сановников, законодателей, среди народных толп, проходивших у него перед глазами, он увидел томно улыбающуюся Жозефину с платочком у рта и полуоткрытой грудью, Жозефину, воспоминания о которой воспламеняли его кровь.
— Генерал, — обратился к нему Гантом, указывая на берег, белевший в лучах утреннего солнца. — я доставил вас туда, куда призывает вас ваша судьба. Вы, подобно Энею, пристаете к обетованным берегам[655].
Бонапарт высадился во Фрежюсе 17 вандемьера VIII года[656].
Примечания
1
В мае 1893 г. Франс совершает путешествие в Италию. Вместе со своим другом, г-жой де Кайаве, он осматривает итальянские города, посещает музеи и соборы, восхищается живописной природой. Здесь, в Италии, окончательно оформляется замысел романа «Красная лилия». Франс начинает работу над ним в августе 1893 г., а весной 1894 г., с апреля по июнь, после многочисленных рукописных правок печатает его частями в «Revue de Paris». Отдельное издание романа выходит в свет 18 июля 1894 г.
Успех «Красной лилии» превзошел все ожидания. Друзья присылали Франсу восторженные письма. Видные критики, Ж. Пелисье, Т. Визева и Э. Род, в том же году опубликовали хвалебные рецензии. И все же никто в сущности не сумел правильно оценить произведение. «Красную лилию» рассматривали как типичный светский роман, как трагедию чувственной любви, неизбежно разрушаемой ревностью. Аналогичные мнения высказывали и более поздние исследователи, увидевшие в книге отражение личной драмы Франса.
Нет сомнения, что многие детали романа (а частично и замысел его) были подсказаны Франсу г-жой де Кайаве или выработаны совместно с нею. Совершенно очевидно также, что в рассуждениях персонажей, и прежде всего Поля Ванса, получили выражение идеи самого автора, а в некоторых ситуациях отразился и его собственный жизненный опыт. Однако это не дает никакого основания считать «Красную лилию» романизированной автобиографией. Характерно, что Франс отказался от первоначального намерения сделать писателя Ванса главным сюжетным героем.
В «Красной лилии» изображен парижский свет и действие многих сцен протекает в великосветском салоне. Но всем содержанием своего романа Франс борется с той идеологией, которая насаждалась «салонными» романистами эпохи, идеализировавшими высшие круги общества. «Если бы я обладал достаточным талантом для того, чтобы полностью выразить свою мысль, — писал он одному из своих критиков, — вы бы ясно увидели, что „Красная лилия“ не является книгой консервативной и светской». Любовно-психологический роман стал под пером Франса романом философским и политическим с отчетливой демократической тенденцией.
Отношения Терезы и Дешартра освещены с большой психологической глубиной. Однако любовная драма отнюдь не играет здесь самодовлеющей роли. Она неразрывно связана с основной философско-психологической проблемой романа — проблемой взаимоотношения мысли и чувства, которая проходит через все творчество Франса и в «Красной лилии» получает новое разрешение, прежде всего в образе Дешартра.
Трагедия Дешартра — в его обостренном интеллектуализме, мешающем ему как человеку и художнику: размышления отвлекают его от творчества и губят его любовь; его ревность — плод его болезненной мысли. Характерно и отвращение Дешартра к политике. Он презирает политику не только потому, что политиканы Третьей республики действительно достойны презрения; ему, человеку интеллекта, чуждо всякое действие вообще, в том числе и политическое. Дешартр противопоставляет себя окружающей действительности, не видя в ней ничего, достойного внимания, и вместе с тем в поисках своих художественных идеалов теряет ощущение реальной жизни. Это типичный художник «конца века» — периода широкого распространения декадентства. Развенчивая Дешартра, Франс тем самым отвергает попытку уйти от реальной действительности в замкнутый мир чистой мысли.
Идея, заложенная в образе Дешартра, получает своеобразное подтверждение и в образе Вивиан Белл. Так же, как ее прототип, английская писательница Вернон Ли, она не живет по-настоящему, а как бы «эстетизирует» жизнь, принимая в ней только то, что связано с искусством. Поэтому она плохо разбирается в людях, и ее первое серьезное увлечение — насквозь фальшивый князь Альбертинелли.
С точки зрения Франса, люди, подобные Дешартру или Вивиан Белл, всегда противопоставляют себя народу, «толпе», они антидемократичны. Дешартр враждебно говорит о революции, а Вивиан Белл ценит народность только в искусстве и резко выступает против равенства в общественной жизни, которое понимает как всеобщую нивелировку.
Прежде Франс прославлял чувство как единственно действенное творческое начало. В период создания «Красной лилии» он приходит к убеждению, что одним только чувством и инстинктивным действием невозможно преодолеть социальное зло. Для того чтобы спасти и исправить общество, нужно сочетать мысль и действие.
Философско-психологическая проблема мысли и чувства, мысли и действия становится для Франса важнейшей общественной проблемой, и в этом отражается растущее возмущение писателя буржуазной современностью, его желание включиться в общественную борьбу.
Поэта, христианского социалиста Шулетта, отвергающего мысль ради наивного чувства, Франс осуждает так же, как осудил Дешартра. В отличие от Дешартра, Шулетт живет чувством, а не мыслью, и творит легко, талантливо и просто. Но как только он переходит из области творчества в область практической жизни, он становится фальшив. Его нападки на разум, восхваление безумных и смиренных — в значительной мере поза, так же как и расшитая цветами красная котомка, экстравагантные выходки и манера одеваться. Эпизодический образ убогого флорентинского сапожника, которым восхищается Шулетт, еще раз развенчивает и самого Шулетта и его идеалы.
Создавая образ Шулетта, Франс использовал многие черты французского поэта-символиста Поля Верлена и частично — клерикального публициста Николардо. Вместе с тем он вложил в уста Шулетта и свои собственные политические идеи: Шулетт бросает резкие обвинения французской революции конца XVIII в. как революции буржуазной, страстно обличает современную ему демократию, основанную на социальном неравенстве, и мечтает о будущем справедливом строе. Но путь к всеобщей справедливости он видит в религии, в христианском социализме, и здесь Франс остро иронизирует над своим героем.
Оторванным от жизни мыслителям, проповедникам бездумного чувства и дельцам-политиканам противопоставлена героиня романа как образец гармоничного человека, соединившего в себе глубину чувства и тонкую работу мысли. Именно в этом оправдание Терезы, секрет ее жизненной силы и даже возможность дальнейшего счастья после трагического разрыва с Дешартром.
Важнейшая задача Франса заключалась в изображении социальной среды, в которой живут его основные герои. В «Красной лилии» показаны несколько общественных сфер: французское светское общество конца XIX в., академические круги, мир искусства, высшие политические и военные сферы Третьей республики. Круг наблюдений здесь значительно шире, чем в любом салонном романе.
Светскую жизнь Франс рисует как жизнь банальную и пустую. Представители света — это либо опустошенные циники (княгиня Сенявина, маркиз де Ре), либо духовно ограниченные и убогие люди (г-жа Марме), либо корыстные и фальшивые интриганы (Даниэль Саломон, князь Альбертинелли). В «утонченном» свете отсутствует подлинная культура, здесь все равнодушны к искусству.
Еще в «Суждениях господина Жерома Куаньяра» Франс иронически изобразил Французскую академию и академиков. В «Красной лилии» замечания Куаньяра получают свое развитие и образное воплощение. Безмерно тщеславный филолог Шмоль, бездарный академик — «этруск» Марме и старый светский астроном Лагранж, глубоко равнодушный к науке, — все эти люди ярко воплощают честолюбивое убожество академического мира. Иного типа профессор Арриги, но Франс не случайно делает этого талантливого и жизнерадостного ученого итальянцем и помещает его в среду художников и поэтов.
Артистический мир изображен Франсом с явной симпатией. Поль Ванс и Дешартр, Вивиан Белл и даже Шулетт выше, глубже, чище светского и политического окружения Терезы. Талантливые, подлинно оригинальные натуры, они живут вне политических и светских интриг, живут своей напряженной духовной жизнью. Их разговоры об искусстве — постоянный фон «Красной лилии».
Тема искусства неразрывно сплетается с темой Италии. Франс знал и любил Италию, и прежде всего ее великое прошлое — античный Рим и итальянское Возрождение с его непревзойденными образцами искусства. «Красную лилию», полную итальянских образов и мотивов, он вначале предполагал назвать «Землею мертвых». Италия, воспроизведенная в романе, — это страна искусства, страна поэтов и артистов, столь не похожих на посредственных буржуа и аристократов современной писателю Франции. Роман Терезы и Дешартра развивается во Флоренции и Фьезоле, на фоне итальянской природы и итальянского искусства. Красная лилия, герб Флоренции, — это символ Италии. Красная лилия становится также символом любви Терезы.
И все же Франс отнюдь не призывает читателя уйти от французской действительности в «итальянскую» стихию любви и искусства. Люди искусства — Дешартр, Шулетт и Вивиан Белл — в свете основной психологической проблемы романа оцениваются Франсом как люди ущербные. В то же время острая политическая критика, направленная в адрес современной Франции, преобладает над эстетическим любованием старой Италией — «землею мертвых».
Рисуя политические кулуары Третьей республики, Франс ярко освещает разложение правящих французских кругов и обличает весь механизм политического управления страной. Политиканы «Красной лилии» говорят о высших интересах, которым они якобы подчиняют свои личные интересы и взгляды. Но все они беспринципны и глубоко враждебны народу. Интригуя и расставляя друг другу ловушки, они заботятся только о своей карьере. Циничный дележ портфелей на «деловом завтраке» у Мартен-Беллема отчетливо вскрывает истинные мотивы всей этой политической возни, от которой ничего не меняется в реальном положении страны и судьбе народных масс. Атмосфера Третьей республики начала 1890-х годов воскрешена в «Красной лилии» с большой полнотой. Мощный политический фон иногда даже заглушает психологическую драму. Перед читателем проходит целая галерея государственных деятелей, каждый из которых глубоко типичен. Среди них — и «немыслящий» политик депутат Гарен и влиятельный Бертье д'Эзелль, связанный с финансовыми кругами, и умный и циничный сенатор Луайе, открыто говорящий о своей ненависти к народу, и — полнейшее ничтожество — политик Гаво, и честолюбивый, посредственный Мартен-Беллем, и беспринципный и глупый генерал Ларивьер — все эти дельцы порождены гнилой системой буржуазно-республиканского государства. Позади депутатов и министров — направляющая рука финансиста Монтессюи, одного из хозяев Третьей республики.
В этом романе Франс еще не прибегает к гротеску, свойственному его более поздней манере письма. В обличении политиканов он нарочито сдержан и часто ограничивается отдельными штрихами, кратким диалогом, беглыми зарисовками. Но в этой сдержанности легко уловить сатирические интонации. Поэзия Франса, его отношение к персонажам и событиям выступают совершенно отчетливо.
В «Красной лилии» Франс не показал народа, не показал и растущего социалистического движения. Пути борьбы с общественным злом ему еще неясны. Но та острая критика Третьей республики, которая содержится в романе, является критикой подлинно демократической. «Красная лилия» — первое крупное произведение Франса, в котором писатель, не прибегая к помощи прошедших эпох, разоблачает современную ему общественно-политическую жизнь.
В сотрудничестве с сыном г-жи де Кайаве, Гастоном, Франс драматизировал роман, и в 1899 г. пьеса была поставлена на сцене театра «Водевиль». Несмотря на блестящую игру актеров, она не имела успеха и бесследно исчезла с французской сцены. Текст этой пьесы не был напечатан.
В 1921 г. Франс выпустил в свет новое издание своего романа, в котором несколько изменил страницы, посвященные итальянскому искусству.
В мае 1955 г. автору «Красной лилии» поставлен во Флоренции памятник.
(обратно)2
Перевод Э. Александровой.
(обратно)3
Дорогая (англ.).
(обратно)4
Вернон Ли — литературный псевдоним английской писательницы Вайолет Пейджет (1856–1935), автора романов, новелл и литературно-эстетических очерков. Увлекалась итальянским искусством раннего Возрождения и почти всю жизнь провела во Флоренции; Франс бывал в ее «вилле цветов» Пальмерино, у окраин Флоренции.
(обратно)5
Мэри Робинзон (1758–1800) — английская актриса, поэтесса и романистка.
(обратно)6
Берн-Джонс Эдуард (1833–1898) — английский художник, писавший картины на сюжеты легенд и рыцарских романов. «Тристан» — одна из его акварелей, стилизованных под «наивное» искусство раннего Возрождения.
(обратно)7
…под портретом герцога Орлеанского. — Речь идет о графе Парижском (1838–1894), представителе орлеанской династии, свергнутой после революции 1848 г., претенденте на французский престол. Орлеанисты — монархическая группировка во Франции, приверженцы орлеанской династии.
(обратно)8
…входил в состав кабинета в период изгнания принцев. — Закон, запрещавший пребывание во Франции главам двух династий — Орлеанской и Бонапартов, был проведен 22 июня 1886 г.
(обратно)9
«Журналь де Деба» («Journal des Debats») — газета, представлявшая финансовые круги французской буржуазии.
(обратно)10
Биметаллизм — двойная монетная система, при которой чеканились в определенной пропорции и золотая и серебряная монета. Споры о преимуществах биметаллизма приобрели особенно большой размах с конца 1880-х годов.
(обратно)11
Антология — сборник древнегреческих эпиграмм, составленный в XIV в. греческим монахом Максимом Планудом на основе не дошедших до нас антологий I–VI вв.
(обратно)12
Иезекииль (VI в. до н. э.) и Иеремия (VII–VI в. до н. э.) — по библейскому преданию, древнееврейские проповедники-пророки, именами которых названы книги Ветхого Завета, отличающиеся мрачным тоном.
(обратно)13
Перевод Э. Александровой.
(обратно)14
Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк и филолог, главный редактор издания латинских надписей.
(обратно)15
Ренан Эрнест (1823–1892) — французский философ-идеалист, филолог и историк религии.
(обратно)16
Опперт Юлий (1825–1905) — востоковед-ассириолог, по происхождению немецкий еврей, работал во Франции, по-видимому, явился прототипом Шмоля.
(обратно)17
…в историческом замке Жуэнвиле… — В сведениях, сообщаемых о замке Жуэнвиль, А. Франс отступает от исторических фактов. Замок был построен в первой половине XVI в. первым герцогом Гизом на левом берегу р. Марны, а не Уазы. Архитекторы и декораторы Лево, Лебрен и Ленотр создавали в 1650-е годы не Жуэнвиль, а Во-ле-Виконт, роскошный замок близ г. Мелена, принадлежавший Фуке, министру финансов Людовика XIV.
(обратно)18
…и либеральной Империи. — «Либеральной Империей» назывался последний период Второй империи (1860–1870), когда правительство было вынуждено издать декрет о расширении прав Законодательного корпуса и сената и провести некоторые другие реформы.
(обратно)19
…у старой шуанки, как она сама себя называет. — Французские аристократы-легитимисты называли себя шуанами в память контрреволюционных, роялистских мятежей «шуанов» (конец XVIII в.).
(обратно)20
Лене Жозеф-Луи-Жоашен, виконт (1767–1835) — французский политический деятель, бонапартист, в дальнейшем роялист. В 1813 г. возглавлял комиссию, изучавшую отношения со странами коалиции, и в своем докладе в Законодательном корпусе подверг критике внешнюю политику Франции. Разгневанный Наполеон распустил Законодательный корпус и на ближайшей аудиенции в Тюильри назвал Лене мятежником, продавшимся Англии.
(обратно)21
Удри Жан-Батист (1686–1755) — французский художник-анималист.
(обратно)22
Альбигойцы (XII–XIII вв.) — религиозная ересь в южной Франции, выражавшая протест социальных низов против католической церкви. Папа римский организовал против альбигойцев кровавый крестовый поход.
(обратно)23
Вальденсы — приверженцы средневековой ереси, возникшей в XII в. на юге Франции и широко распространившейся в европейских странах; в XVI в. по существу слилась с движением Реформации.
(обратно)24
…притча о трех кольцах. — Имеется в виду восточное сказание о богаче, который тайно вручил каждому из своих трех сыновей, в знак особой власти, по одинаковому перстню. Боккаччо в новелле о мудром еврее Мельхиседеке использовал это сказание для доказательства равноценности иудейской, магометанской и христианской религий. Позднее, в целях борьбы с религиозным фанатизмом, эту новеллу обработал немецкий писатель-просветитель Лессинг в драме «Натан Мудрый» (1779).
(обратно)25
…Норвен и Беранже, Шарле и Раффе создавали о нем легенду… — Норвен Жак-Марке, барон (1769–1854) — государственный деятель Первой империи; написал «Историю Наполеона» (1827–1828). Многие песни Беранже эпохи Реставрации посвящены солдатам наполеоновской армии. Шарле Никола (1792–1845) и Раффе Мари (1804–1860) — французские литографы и художники-баталисты, в своих картинах и рисунках прославлявшие Наполеона и его армию.
(обратно)26
…тэновского кондотьера, который ударил Вольнея ногой в живот. — Французский историк Ипполит Тэн в своей книге «Происхождение современной Франции» называл Бонапарта «кондотьером» (начальником наемного войска). Ссылаясь на сомнительные источники, Тэн утверждал, что Бонапарт, будучи консулом и рассердившись на сенатора графа Вольнея, иронически отозвавшегося о проекте конкордата, ударил его ногой в живот с такой силой, что Вольней лишился сознания. Полемизируя с Тэном, Франс еще в 1887 г. отрицал достоверность этого эпизода («Тэн и Наполеон» — «Temps», 2 октября).
(обратно)27
…от самого Мунье-сына. — Мунье Жан-Жозеф — французский политический деятель эпохи Революции и консульства; его сын барон Эдуард Мунье (1784–1843) занимал во время Империи высокие административные должности и играл видную роль в государственном аппарате вплоть до своей смерти.
(обратно)28
Антомарки Франческо (1780–1838) — корсиканец по происхождению, последний врач Наполеона на острове Св. Елены, снявший с него посмертную маску. Автор мемуаров «Последние дни жизни Наполеона».
(обратно)29
Галль Франц-Иосиф (1758–1828) — немецкий врач, основатель френологии, антинаучной теории о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека.
(обратно)30
«Мемориал» (точнее «Мемориал Св. Елены», 1823) — дневник Э. Ласказеса, секретаря Наполеона на острове Св. Елены; вплоть до ноября 1816 г. он записывал все разговоры и замечания Наполеона.
(обратно)31
Бюффон Жорж-Луи Леклер (1707–1788) — французский естествоиспытатель.
(обратно)32
…в Люксембургском дворце… — В Люксембургском дворце происходят заседания сената. Купол библиотеки был расписан французским художником Э. Делакруа в 1845–1847 гг.
(обратно)33
Преступление 2 декабря. — Имеется в виду государственный переворот, совершенный Луи Бонапартом 2 декабря 1851 г., уничтоживший республику и установивший во Франции Вторую империю.
(обратно)34
…гобелены, ткавшиеся в Менси для Фуке… — В поселке Менси, близ замка Во-ле-Виконт, Фуке основал мануфактуру гобеленов, на которой работали фламандские мастера под руководством Лебрена.
(обратно)35
Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор и декоратор, создатель парков Во-ле-Виконта, Версаля, Трианона и др., разработавший особый «французский» (регулярный) тип парка.
(обратно)36
…мозаик святого Виталия и двух святых Аполлинариев… — Церковь св. Виталия в Равенне, архитектурный памятник VI в., построена в византийском стиле и украшена монументальной мозаической живописью; два святых Аполлинария — две раннехристианские базилики, украшенные мозаиками в VI в.
(обратно)37
Галла Плацидия (ум. 450) — дочь римского императора Феодосия I. Претерпев многие превратности судьбы, сумела возвести на трон Западной Римской империи своего несовершеннолетнего сына и правила от его имени. Мавзолей Галлы Плацидии, находящийся в Равенне, построен самой императрицей.
(обратно)38
Вителлий Авл — римский император (69 г. н. э.); был ненасытным обжорой и, судя по дошедшему до нас мраморному бюсту (хранится во Флоренции), отличался необыкновенной тучностью.
(обратно)39
Анненков. — Имеется в виду русский генерал Михаил Николаевич Анненков (1835–1899) — строитель Закаспийской ж. д. (1886–1888), вызвавшей интерес в политических кругах Европы.
(обратно)40
Казимир-Перье Жан-Поль-Пьер (1847–1907) — премьер-министр (с декабря 1893 г. по май 1894 г.), в дальнейшем президент Третьей республики. Мартен-Беллем имеет в виду сближение умеренных республиканцев с монархистско-клерикальными кругами, происходившее в начале 1890-х годов.
(обратно)41
…вернуть конгрегации святого Франциска ее первоначальную чистоту. — Монахи нищенствующего ордена францисканцев, основанного в 1209 г. итальянским мистиком Франциском Ассизским, носили самую простую одежду и опоясывались белой веревкой, покрытой узлами.
(обратно)42
…придворные епископы и театральные поэты семнадцатого века. — Имеются в виду религиозные стихи драматурга Пьера Корнеля (1606–1684), поэта Жоржа де Бребефа (1617–1661) и поэта-епископа Антуана Годо (1605–1672). Поль Ванс точно воспроизводит здесь суждения самого Франса о стихотворениях современного ему поэта Поля Верлена, основного прототипа Шулетта.
(обратно)43
Виоле ле Дюк Эжен-Эмманюэль (1814–1879) — французский архитектор; реставрировал архитектурные памятники средневековья (Собор Парижской богоматери, замок Пьерфон и др.), производя при этом их полную реконструкцию.
(обратно)44
…молния, упавшая на пути в Дамаск. — Согласно евангельской легенде гонитель христиан Савл (будущий апостол Павел) по дороге из Иерусалима в Дамаск был ослеплен небесным видением, в результате которого немедленно обратился в христианство.
(обратно)45
…это не в вашей витрине? — Слова: «Это не моя витрина» — приведены Франсом в одной из его статей (см. «Сад Эпикура») и затем в «Автобиографии» (1904).
(обратно)46
Местр Жозеф де (1753–1821) — французский реакционный писатель, страстный клерикал.
(обратно)47
Шамбор Анри-Шарль, граф (1820–1883) — внук короля Карла X и после его смерти претендент на престол.
(обратно)48
…на гробницах Алискана. — Вдоль аллеи Алискан, близ г. Арля, были расположены гробницы, со временем почти полностью разрушенные; воспеты Данте.
(обратно)49
Арен Поль (1843–1896) — французский (провансальский) поэт и писатель. Франс неоднократно писал о его провансальских песнях и посвятил статью его повести «Золотая коза» («Temps», 2 июня 1889 г.).
(обратно)50
Донателло (1386–1466) — выдающийся итальянский скульптор. Известна его вырезанная из дерева статуя «Магдалина». Статуи св. Марка и св. Георгия, о которых неоднократно говорится в романе, принадлежат к лучшим работам Донателло.
(обратно)51
…всем этим мисс Белл… — по-английски слово «Белл» (bell) значит колокол.
(обратно)52
Гирландайо (Доменико Бигорди, 1449–1498) — выдающийся флорентинский живописец.
(обратно)53
Чимабуэ (1240 — ок. 1302) — флорентинский живописец. Так называемая «Мадонна Руччелаи» в церкви Санта-Мария-Новелла приписывалась ему ошибочно.
(обратно)54
Ворт (1825–1895) — дамский портной, англичанин по происхождению, работавший в Париже; законодатель дамских мод.
(обратно)55
Лев XIII — римский папа (1878–1903). Призвал французских католиков признать Третью республику. Под предлогом заботы о трудящихся, а на деле для борьбы с революционным движением, стремился создать во всех странах католические партии и профсоюзы.
(обратно)56
Макиавелли Никколо (1469–1527) — итальянский писатель и политический деятель; считал, что только сильная монархическая власть способна объединить Италию, и рекомендовал правителям не считаться с правилами морали (трактат «Государь»).
(обратно)57
Петр, Лин, Клет, Анаклет и Климент. — Петр (апостол), Лин, Анаклет и Климент I — папы I в., причисленные католической церковью к лику святых. Анаклет и Клет — одно и то же лицо, папа с 76 по 88 г.
(обратно)58
Альдинские буквы. — Альды — семья венецианских типографов (конец XV–XVI вв.); применили в своих изданиях новый шрифт с наклоном вправо — так называемый «итальянский курсив».
(обратно)59
Франсуа Вийон (род. 1431) — французский поэт, представитель демократических слоев средневекового города. В своих статьях Франс называл Верлена «мистическим Вийоном» и постоянно сравнивал обоих поэтов.
(обратно)60
Перевод Э. Александровой.
(обратно)61
О, светлый король Завтра! (англ.).
(обратно)62
…он ставил в вину дому Медичи… — Медичи — итальянский купеческий род, правивший во Флоренции в XV–XVIII вв. Флорентинский купеческий род Питти (XIV–XV вв.) своими колоссальными богатствами соперничал с Медичи.
(обратно)63
Беноццо Гоццоли (1420–1498) — флорентинский живописец.
(обратно)64
«Трубадур» — опера итальянского композитора Верди (1853).
(обратно)65
Лоренцо Гиберти (1378–1455) — флорентинский скульптор.
(обратно)66
Джотто и Мазаччо. — Джотто (род. 1266 или 1276 г., ум. 1337) — выдающийся флорентинский живописец, первый в западноевропейском средневековом искусстве обратился к реалистическому изображению человека, основатель так называемой «флорентинской школы». Мазаччо (1401–1428) — итальянский художник, один из наиболее замечательных представителей искусства раннего Возрождения.
(обратно)67
…дщерь Святого Людовика… пресвятой Елизаветы Венгерской. — Св. Людовик — Людовик IX, французский король (1226–1270), причисленный церковью к лику святых за участие в крестовых походах. Елизавета Венгерская (1207–1231) — дочь венгерского короля Андрея II, также причисленная к лику святых.
(обратно)68
Фра Анджелико (1387–1455) — итальянский живописец, доминиканский монах, творчество которого носит религиозный характер.
(обратно)69
Св. Себастиан — по церковному преданию, христианский мученик III в.; изображался обычно в виде красивого юноши, пронзенного стрелами.
(обратно)70
Савонарола Джироламо (1452–1498) — флорентинский религиозно-политический реформатор. С позиций аскетизма выступал против искусства Возрождения, которое считал частью роскоши, окружавшей городскую знать. После народного восстания 1494 г. фактически стоял во главе Флорентинской республики. Сожжен на костре после подавления восстания.
(обратно)71
Манфред (1232–1266) — король Сицилии, покровительствовавший жившим в Сицилии маврам (сарацинам) и пополнявший ими свои войска.
(обратно)72
Гвидо Кавальканти (1259–1300) — итальянский поэт.
(обратно)73
Перуджино (Пьетро Ваннучи, ок. 1446–1523) — итальянский живописец, один из учителей Рафаэля.
(обратно)74
Дафнис — юноша-пастух, герой древнегреческого романа «Дафнис и Хлоя», приписываемого Лонгу (между II–IV вв.).
(обратно)75
…жестокий римлянин… — Имеется в виду Юлиан Отступник, римский император (361–363), пытавшийся восстановить господствующее положение языческой религии.
(обратно)76
Поллайоло Антонио (ум. 1498) — флорентинский живописец и скульптор. В галерее Уффици находятся две его картины, изображающие подвиги Геркулеса.
(обратно)77
«Ослиная Шкура» — волшебная сказка Ш. Перро (1715). Ее героиня — королевская дочь, бежала от отца, одетая в ослиную шкуру, скрывалась на крестьянском дворе и делала черную работу на кухне в замке.
(обратно)78
Метастазио Пьетро (1698–1782) — итальянский поэт и драматург, автор многочисленных либретто для опер.
(обратно)79
Перевод Э. Александровой.
(обратно)80
…на выставке Марсова поля и у Дюран-Рюэля. — На Марсовом поле в Париже Академия художеств регулярно организовывала выставки произведений современных художников. В салоне Дюран-Рюэля, как правило, выставлялись произведения импрессионистов.
(обратно)81
Перевод Э. Александровой.
(обратно)82
Любовь моя (англ.).
(обратно)83
…мода на Гвидо и Карраччи. — Гвидо (Гвидо Рени, 1575–1642) — итальянский живописец «болонской школы», имевшей большое значение в Италии в XVII в. и впервые сформулировавшей принципы академического искусства. С середины XIX в. болонская школа рассматривалась как начало упадка итальянской живописи. Карраччи Аннибале (1560–1609), Лодовико (1555–1619) и Агостино (1557–1602) — итальянские живописцы болонской школы.
(обратно)84
Мантенья Андреа (1431–1506) — итальянский живописец.
(обратно)85
Альбани Франческо (1578–1660) — итальянский живописец болонской школы, ученик Карраччи.
(обратно)86
Палаццо Барджелло (XIII–XIV вв.) — дворец во Флоренции, в котором находится Национальный музей.
(обратно)87
Беатриче Портинари (ум. 1290) — реальное лицо, флорентинка, воспетая Данте в «Божественной Комедии».
(обратно)88
…был настоящим доктором Болонского университета… — то есть ученым-схоластом. В 1058 г. в Болонье возник старейший в Европе университет, знаменитый своей школой права.
(обратно)89
Жебар Эмиль (1839–1908) — французский литературовед, автор работ по итальянскому Средневековью и Возрождению.
(обратно)90
…песнь, в которой Беатриче объясняет пятна на луне. — «Божественная Комедия», ч. III, песнь 2.
(обратно)91
…фреске, которую они… видели вместе… Флоренцию и семь кругов. — Речь идет о фреске Доменико Никкелино (1465) в соборе Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции; фреска изображает Данте в лавровом венке с «Божественной Комедией» в руках, на фоне Флоренции (справа), ада (слева) и чистилища, состоящего из семи кругов (в глубине).
(обратно)92
Детайль Эдуард-Жан-Батист (1848–1912) — французский живописец-баталист.
(обратно)93
Гупиль Адольф (род. 1806) — издатель гравюр, основавший в 1827 г. граверное предприятие и художественный магазин.
(обратно)94
Симон (конец V — нач. IV в. до н. э.) — последователь Сократа. Некоторые его сочинения долго приписывались Платону.
(обратно)95
Виктор-Эммануил II (1820–1878) — король Сардинии и первый король объединенной Италии (1861–1878). Будучи наследным принцем, носил титул герцога Савойского.
(обратно)96
Либеччо — юго-западный ветер (итал.).
(обратно)97
«Воистину, это дивный святой Георгий». — Этих слов в трагедии Шекспира нет.
(обратно)98
Орканья Андреа (ок. 1308 — после 1368) — флорентинский живописец, скульптор и архитектор. В церкви Ор-Сан-Микеле находятся его главные скульптурные работы.
(обратно)99
Квентин Массейс (1465 или 1466–1530) — выдающийся нидерландский живописец. Его работы отличаются правдивостью психологических характеристик и бытовых деталей.
(обратно)100
…Панург у всех спрашивает, надо ли ему жениться… — Колебания Панурга (веселого спутника великана Пантагрюэля), намеревающегося жениться, описаны в 3-й книге романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)101
Розальба (1675–1757) — венецианская художница-портретистка, известная своими пастелями.
(обратно)102
Св. Клара (ок. 1193–1253) — монахиня, основавшая в монастыре св. Дамиана женский францисканский орден «клариссинок».
(обратно)103
Тогда он сочинил ликующий гимн… — В «Гимне солнцу», который согласно преданию сложен был Франциском Ассизским, автор называет солнце братом, а воду — сестрой. Ниже, в стихах Шулетта, приводится содержание этого гимна.
(обратно)104
…похожа на мать Андре Шенье. — Мать французского поэта Андре Шенье (1762–1794) была гречанка.
(обратно)105
Левантинка — жительница Леванта, то есть Ближнего Востока.
(обратно)106
Бедекер — путеводитель для путешественников; назывался по имени немецкого издателя путеводителей Карла Бедекера (1801–1859).
(обратно)107
Св. Антонин (1389–1459) — настоятель монастыря св. Марка во Флоренции, в дальнейшем с 1456 г. архиепископ Флоренции.
(обратно)108
Холодные напитки (итал.).
(обратно)109
Болонья Джованни (1529–1608) — нидерландский скульптор, работавший во Флоренции. Его скульптура «Похищение сабинянки» находится в галерее деи Ланци во Флоренции.
(обратно)110
Весна (итал.).
(обратно)111
Боттичелли Сандро (1444–1510) — флорентинский живописец.
(обратно)112
Моррисон Альфред (1821–1897) — английский коллекционер произведений искусства и автографов.
(обратно)113
Элиза, рожд. Бонапарт, по мужу Бачоки (1777–1820) — сестра Наполеона I, который в 1809 г. сделал ее великой герцогиней Тосканской. В этом звании она оставалась до 1814 г.
(обратно)114
Парки — у древних римлян богини жизни и смерти, прявшие нить человеческой жизни. Кипарисы сажали на кладбище, как символ скорби.
(обратно)115
…историю молодой любящей четы… — Эту христианскую легенду Франс пересказал в рассказе «Схоластика» (сб. «Перламутровый ларец»).
(обратно)116
Макаронический стиль — шуточный литературный стиль, при котором слова родного языка перемежаются с искаженными иностранными словами или сами принимают иностранные (обычно латинские) окончания.
(обратно)117
Лоэнгрин — герой одноименной оперы (1850) Р. Вагнера. Неизвестный рыцарь (Лоэнгрин), прибыв в ладье, влекомой лебедем, в страну герцогини Эльзы, женился на ней при условии, что она не попытается узнать его имени. После того как Эльза нарушила это условие, Лоэнгрин уплыл от нее в той же ладье, в которой прибыл. Франс посвятил опере Вагнера статью, в которой осуждал любопытство Эльзы («Temps», 17 апреля 1887 г.).
(обратно)118
Мино да Фьезоле (ок. 1430–1484) — флорентинский скульптор.
(обратно)119
Перевод Л. Успенского.
(обратно)120
…как тот отшельник на фреске Кампо Санто в Пизе… — Речь идет о фреске «Триумф смерти», написанной Пизанским живописцем Франческо Траини: на ней, среди других фигур, изображен отшельник — единственный, кто спасся от смерти во время флорентинской чумы 1348 г.; опираясь на посох, он поднимается в гору.
(обратно)121
Флора — в древнеримской религии богиня цветов и садов.
(обратно)122
Рикар Луи-Гюстав (1823–1872) — французский художник.
(обратно)123
Карпо Жан-Батист (1827–1875) — французский скульптор. Речь идет о копии статуи наследного принца Наполеона, сына Наполеона III.
(обратно)124
… в Бурбонском дворце… — В Бурбонском дворце в Париже заседала палата депутатов.
(обратно)125
Могила Шатобриана. — французский писатель Шатобриан (1768–1848) был похоронен в Бретани, на мысе, вдающемся в море, поблизости от курорта Динара, где отдыхает Тереза.
(обратно)126
Всякого рода амуры для синьоры Терезины (итал.).
(обратно)127
Каде де Гассикур Шарль-Луи (1769–1821) — придворный фармацевт Наполеона I.
(обратно)128
…я как бы явился некиим Моисеем. — Согласно библейскому преданию во время бегства евреев из Египта древнееврейский пророк и законодатель Моисей извлек воду из скалы, ударив по ней жезлом, и тем спас свой народ от гибели.
(обратно)129
Анна и Кайафа — по евангельской легенде два иерусалимских первосвященника, добивавшихся осуждения Христа. Один из двух разбойников, распятых вместе с Христом, пожалел Христа, между тем как другой оскорблял его.
(обратно)130
Перрель Габриэль (ок. 1602–1677) — французский художник, автор серии гравюр, изображающих виды Парижа и Версаля.
(обратно)131
…чтобы новое министерство отвечало требованиям нового духа. — Речь идет о сближении в 1890–1893 гг. умеренных республиканцев с клерикально-монархическими кругами. 3 марта 1894 г. министр просвещения Спюллер призвал палату депутатов отказаться от антиклерикальной борьбы и назвал эту позицию «новым духом» Третьей республики.
(обратно)132
…правительство шестнадцатого мая действовал наперекор республиканцам. — Речь идет о монархистском кабинете герцога де Брольи (17 мая 1877 г. — 19 ноября 1877 г.), образовавшемся в результате попытки президента Мак-Магона произвести во Франции монархический переворот; 16 мая 1877 г. президент сместил республиканский кабинет Жюля Симона и поставил у власти монархистов.
(обратно)133
…поддержку, которую целых пятнадцать лет правая оказывала нам… — После неудавшегося монархического переворота Мак-Магона и укрепления у власти буржуазных республиканцев (1877) различные секции монархистов составляли правую оппозицию. К 1893 г. монархистско-клерикальные круги признали республиканский строй.
(обратно)134
С 4 сентября 1870 года… — 4 сентября 1870 г. во Франции была провозглашена республика.
(обратно)135
…узник Пелажи времен Баденге… — Сент-Пелажи — парижская тюрьма для политических заключенных (1792–1899). Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III.
(обратно)136
Левый центр — самая правая группировка буржуазных республиканцев, представлявшая интересы финансовых кругов и сохранявшая контакт с клерикалами.
(обратно)137
…того, которому я предложил войти в состав кабинета. — Речь идет, по-видимому, о генерале Буланже, получившем портфель военного министра в 1886 г. и возглавившем в 1887–1889 гг. реакционно-шовинистическое движение («буланжизм»). Опасаясь государственного переворота, республиканцы во главе с президентом Жюлем Греви (1879–1887) вывели Буланже из состава правительства (май 1887 г.), однако в дальнейшем не сумели приостановить рост буланжистского движения.
(обратно)138
…коллегу по Сен-Жерменскому бульвару. — На Сен-Жерменском бульваре помещалось Военное министерство.
(обратно)139
Бюлье — танцевальный зал в Париже, посещавшийся главным образом студентами.
(обратно)140
Здесь: времен королевы Анны (англ.).
(обратно)141
…на арку гнусного Тита… — На триумфальной арке, воздвигнутой в Риме императору Титу (39–81) после победы над Иудеей, изображены римские солдаты, уносящие из иерусалимского храма священные предметы, в том числе канделябр с семью разветвлениями.
(обратно)142
…от Елисейского дворца к набережной Вольтера. — Елисейский дворец — с 1873 г. резиденция президента республики; на набережной Вольтера в Люксембургском дворце помещается сенат.
(обратно)143
Гамбетта Леон (1838–1882) — лидер буржуазных республиканцев, председатель палаты депутатов (1879–1881) и премьер-министр (ноябрь 1881 г. — январь 1882 г.).
(обратно)144
В свидетели и в судьи дайте людям Иронию и Сострадание. — Ванс почти дословно цитирует слова А. Франса, высказанные им на страницах «Temps» и перепечатанные затем в «Саде Эпикура». Самая мысль об иронии и сострадании принадлежит Ренану (предисловие к «Философским драмам», 1888). Предыдущие слова Поля Ванса о власти голода, любви и смерти также воспроизводят рассуждения самого Франса в «Литературной жизни» и «Саде Эпикура».
(обратно)145
…чудовища, которое унесло поэта Ариона на мыс Тенар… — Арион — древнегреческий поэт VII–VI вв. до н. э. По преданию, был брошен в море пиратами, но спасен дельфином, зачарованным его пением и перенесшим его на своей спине к мысу Тенар.
(обратно)146
Перевод Э. Александровой.
(обратно)147
…сторонником Конкордата… — то есть сторонником соглашения между государством и церковью (намек на сближение правых республиканцев с клерикальными кругами в начале 1890-х годов).
(обратно)148
«Сад Эпикура» является одним из самых своеобразных произведений Франса. Первую часть его составляют фрагменты статей, опубликованных в «Temps» в 1886–1893 гг. и затем частично перепечатанных в «Echo de Paris». Фрагменты эти различны по размеру — от одной фразы до нескольких страниц, — но всегда содержат в себе какую-нибудь законченную мысль. Статьи, составляющие вторую часть книги, первоначально появлялись в тех же газетах в 1892–1894 гг. В четыре серии «Литературной жизни» эти материалы не включены. «Сад Эпикура» вышел в свет в издательстве Кальман-Леви 7 ноября 1894 г., хотя и был помечен 1895 годом. Второе издание, напечатанное при жизни автора, датировано 1922 годом.
Объединяя в книге статьи различных лет и разного содержания, Франс отнюдь не заботился о последовательности изложения. Мысли общефилософского характера чередуются с декларациями по эстетике и рассуждениями о психологии игрока или библиофила. За филологическим экскурсом в историю происхождения алфавита следуют размышления о женском образовании. Фрагменты, извлеченные из статей 1880-х годов, перемежаются с более поздними отрывками, иногда содержащими принципиально иную точку зрения Франса, — в начале 1890-х годов писатель во многом отошел от своих взглядов предыдущего десятилетия. Так, рассказ 1886 г. о двух монахинях, включенный в статью «О женских монастырях», еще поэтизирует христианские обряды и говорит о своеобразном очаровании монастырской жизни, между тем как статья 1894 г. «О чуде», рационально объясняющая лурдские чудеса, исключает самую возможность эстетического оправдания чуда. Все это нисколько не смущало Франса. Автор «Литературной жизни» и «Сада Эпикура» вслед за философом-позитивистом Э. Ренаном неоднократно заявлял, что не стремится создать ни систему, ни догму, а лишь высказывает свои субъективные мнения, ничуть не навязывая их читателю и сохраняя при этом интимный тон беседы. Такая «свободная» форма представлялась Франсу не только возможной, но и наиболее пригодной для выражения философских взглядов: она не содержала ничего догматического.
И все же, при всей фрагментарности своей формы, «Сад Эпикура» с большой полнотой отразил мироощущение Франса конца 1880-х — начала 1890-х годов. Здесь нашли свое воплощение философские и этические взгляды писателя, его идейная эволюция этих лет — вся сложная система его воззрений. Называя книгу «Садом Эпикура», Франс хотел воскресить «атмосферу» сада, в котором древнегреческий мыслитель Эпикур, окруженный учениками, неторопливо беседовал на философские темы. Вместе с тем он хотел подчеркнуть свою близость к античному материалисту, утверждавшему смертность души и развивавшему философию душевного покоя, разумного наслаждения жизнью вдали от общественной борьбы.
Уже в ранней юности, читая античных мыслителей и энциклопедистов XVIII в., Франс воспринял сенсуалистические взгляды, имевшие большое значение для всего дальнейшего его развития. В 1860—1870-е годы, в период его увлечения физиологией и экспериментальными науками, Дарвином и Тэном, он усваивает идею естественно-научного детерминизма и эволюционного развития природы. В «Саде Эпикура» Франс выступает как стихийный материалист. Он убежден в объективном существовании реального мира, ведущая роль в котором, по его мнению, принадлежит стихийным физическим силам. То, что представляется человеку сверхъестественным и магическим, имеет свои вполне естественные причины. В противовес религиозным доктринам Франс отрицает бессмертие души и самое понятие чуда, утверждает безграничность вселенной, а жизнь определяет как «деятельность организованной субстанции». Умирать — значит рождаться, и смерть солнца есть, быть может, лишь рождение планеты.
С точки зрения естествоиспытателя Франс рассматривает и человеческое общество. Он видит в человеке биологического индивида, находящегося во власти своих инстинктов. Люди никогда не руководствуются рассудком, они послушны своим страстям — любви, ненависти и страху. Голод и любовь — вот две оси мира. Перенося на развитие общества биологические законы, Франс говорит о естественном отборе, о жизненной конкуренции в обществе, о «битве за жизнь». Он отрицает социальные революции, сопоставляя их с разрушительными, не подготовленными всей предыдущей эволюцией геологическими катаклизмами, о которых говорил французский естествоиспытатель Кювье, и признает лишь медленные эволюционные изменения, «милосердную медлительность естественных сил».
Франс все еще движется в русле современного ему буржуазного позитивизма. Однако уже к началу 1890-х годов его философско-социологические построения приобретают иное значение, чем в системах его учителей-позитивистов, так как служат уже не оправданию, а критике буржуазной действительности. Утверждая, что человек от природы зол, Франс имеет в виду буржуазного человека и созданные им законы и институты. Он говорит о страданиях и преступлениях, сопутствующих общественной «борьбе за существование», и тем самым выражает свое отрицательное отношение к захватническим войнам и колониальной политике Третьей республики. Свое неприятие современной действительности Франс распространяет на весь космос. «Сад Эпикура» поражает своим мрачным, пессимистическим тоном. Земля — это «капля грязи», ее орошают слезы и кровь, и если другие планеты походят на Землю, то и там господствует то же зло, те же несчастья, скорбь и безумие.
Центральное место в «Саде Эпикура» занимают вопросы гносеологии. Франс признает ощущения единственным источником человеческого познания, но в ощущениях видит непроходимую стену на пути к «вещи в себе». Подобно Конту, Спенсеру и Ренану, в вопросах познания он стоит на позициях агностицизма и субъективного идеализма. Сущность вещей, первопричины или конечные цели навсегда сокрыты от человека. Видимый мир, доступный нашим чувствам, ни в какой мере не соответствует истинной природе вещей. Поэтому всякое человеческое познание относительно, условно и субъективно. Философские трактаты, — так же как и труды историков, — это романы, менее занимательные, чем другие романы, и не более истинные. Они ценны лишь как духовные памятники, отражающие различные состояния, которые прошел человеческий дух. Можно строить различные предположения о вселенной, и каждое из них, одинаково далекое от истины, будет правомочным. «Что такое душа?» — спрашивает Пиррон в главе «В Елисейских полях» (1893) и слышит в ответ противоречащие друг другу мнения. Франс прибегает здесь к форме беседы, характерной также для Ренана и позволяющей сталкивать противоположные точки зрения, не становясь в то же время ни на одну из них. Релятивизм и скептицизм Франса распространяются и на область положительных знаний. Наблюдения ученого ограничиваются видимостью и явлением, утверждает он. Ученый только констатирует факты.
Однако и эти окрашенные агностицизмом суждения Франса приобретают критический смысл по отношению к современной ему метафизике и позитивистской науке. Аргументация Полифила («Арист и Полифил, или Язык метафизики»), осмеивающего метафизический язык и обнаруживающего в терминах «бог», «душа» и «дух» их первоначальный мифологический смысл, насквозь неверна: он разрывает единичное и общее и отрицает в принципе научную абстракцию. Но пафос диалога — в разоблачении бесплодных, оторванных от жизни философских спекуляций. Та же тенденция — в статьях о науке. Франс критикует школьные программы и всю современную ему систему обучения, основанную на запоминании позитивных фактов и усвоении научной терминологии; преподавание должно преследовать практические цели и укреплять связи человека с природой («Я совсем не разделяю…», 1894). И как ни разочарован Франс в научном познании и могуществе мысли, он все же остается убежденным рационалистом: наука и мысль — величайшие ценности человеческой жизни. Франс защищает их тем активнее, чем резче критикуют их представители откровенного идеализма. В рассказе «В аббатстве» (1892) он вступает в полемику с Т. Визева, который в своих «Христианских легендах» прославлял слабоумие и невежество. С точки зрения Франса, позиция отшельника Жана, отвергшего цивилизацию и мысль, по своему существу абсурдна.
Но и всякая общественная активность представляется Франсу бесполезной и даже вредной. Она несовместима с философским сомнением, с тем «благожелательным скептицизмом», который в эти годы он настойчиво рекомендует. Зная, что все наши суждения совершенно субъективны, мы не имеем морального права что-либо отрицать. Ученый, убежденный в том, что все вокруг — лишь видимость и обман, находит удовлетворение в философской меланхолии и забывается в наслаждениях «спокойного отчаяния». Франс осуждает любую нетерпимость — политическую, религиозную, эстетическую, этическую — и хочет построить этику на сострадании и иронии, на заветах Франциска Ассизского и Эпикура. Даже боевой скептицизм гуманистов прошлых веков Франс воспринимает как своеобразный всеобъемлющий скептицизм ренановского типа: в его истолковании «Дон-Кихот» и «Кандид» — это библии благожелательности, учебники снисходительности и сострадания. Достойны сострадания одинаково и слабые и «счастливые», а ирония должна быть благожелательной и кроткой, как все мироощущение скептика в целом.
В «Саде Эпикура» получили отражение и литературные взгляды Франса — его теория импрессионистического искусства и благожелательной критики. По мнению Франса, автор воплощает в произведении свои личные ощущения и впечатления: он не может выйти за пределы самого себя. Столь же субъективно и восприятие искусства. По существу, читатель так же творит книгу, как и создающий ее поэт. Эстетика не имеет никакой твердой основы — это только «карточный домик». Франс настойчиво утверждает, что искусство и не должно стремиться к объективной правде, — его единственной целью является красота. Художник вправе приукрашивать жизнь и внушать человеку иллюзии, без которых наше существование было бы слишком тягостным.
Франс разработал эту эстетику в 1880-е годы, но мысли о субъективном восприятии искусства звучат у него и позднее. Правда, в начале 1890-х годов эти прежние положения Франса имеют другой смысл. Его статья «Карточные домики» (1892), первоначально озаглавленная «Недостоверности эстетики», в сущности направлена против французского литературоведа Брюнетьера и той догматической критики, которая предъявляла автору свои требования и навязывала читателю официальные взгляды. В ряде статей Франс провозглашает связь писателя с жизнью, восхищается полнокровным искусством Возрождения и, критикуя вычурный, претенциозный язык, отстаивает простоту и ясность литературного стиля. Тем самым, как и в серии статей «Литературная жизнь», он противопоставляет себя декадансу.
«Сад Эпикура» содержит много суждений о самых различных эстетических, исторических и психологических вопросах. Здесь есть размышления о ревности и любви, о предрассудках и религии, о взаимоотношении мысли и действия, об исторической науке. Франс оперирует в книге огромным историко-культурным материалом, постоянно использует мифологические образы и религиозные легенды. При этом, извлекая фрагменты для «Сада Эпикура» из статей, уже напечатанных им прежде, он свободно обращается со своим текстом, кое-что дополняет, кое-что выбрасывает, иногда переставляет абзацы. Многие взгляды этих лет Франс пронесет через всю свою жизнь, но от ряда своих утверждений он в дальнейшем решительно откажется. Более того, уже в 1894 г., в момент своего появления, «Сад Эпикура» с его всеобъемлющим скептицизмом, принципом иронии и сострадания и теорией «бесполезного» искусства был для Франса в значительной мере пройденным этапом. Книга интересна как свидетельство об определенной ступени в идейно-философском развитии писателя. Дополняя сборники «Литературная жизнь», «Сад Эпикура» позволяет глубже понять творчество Франса в этот сложный и трудный для него период конца 1880-х — начала 1890-х годов.
(обратно)149
Кекроп — легендарный основатель Афин, получеловек, полузмея. Садиком Кекропа названы здесь Афины, находившиеся под покровительством Афины, богини войны и мудрости; софия — по-гречески мудрость.
(обратно)150
«Кирис» — название анонимной латинской поэмы, повествующей о злоключениях Скиллы, дочери царя Ниса, превращенной в конце концов в птицу кирис (удод).
(обратно)151
…певца латинского… — Имеется в виду Лукреций Кар (первая половина I в.), ученик Эпикура, автор поэмы «О природе вещей».
(обратно)152
Фредерик Плесси (1851–1942) — французский филолог, романист и поэт. Поэтический сборник «Глиняный светильник» опубликован в 1886 г. В своих статьях Франс неоднократно писал о Плесси («Три поэта», «Temps», 5 июня 1887 г. и др.).
(обратно)153
Диоген Лаэртский (III в.) — греческий историк, автор «Жизнеописаний философов», восторженный поклонник Эпикура. Последняя, десятая, книга его труда посвящена Эпикуру и его последователям.
(обратно)154
Фенелон Франсуа де Салиньяк (1651–1715) — французский писатель и философ. Цитата — из предпоследней главы указанного сочинения под названием «Эпикур».
(обратно)155
Нам трудно представить себе… — фрагмент из статьи Франса о французском астрономе К. Фламмарионе («Temps», 18 декабря 1892 г.). Фламмариону посвящена и статья Франса «Астрономические мечтания» (там же, 24 ноября 1899 г.).
(обратно)156
…побывал Данте… — В поэме «Божественная Комедия» путешествие Данте в загробный мир начинается в пятницу на святой неделе 1300 г., однако в сферы Луны, Меркурия и Венеры он попадает несколько позже. Франс воспроизводит средневековые представления о вселенной, основанные на системе древнегреческого астронома Птолемея (II в.) и получившие отражение в поэме Данте. Согласно Птолемею небесные светила, укрепленные на различных небесных сферах, вращаются вместе с ними вокруг земли.
(обратно)157
Перводвигатель (лат.).
(обратно)158
Святая Доротея — согласно церковной легенде мученица за христианскую веру, казненная в начале IV в. По преданию, она попросила ангелов осыпать цветами и яблоками язычника Теофила, чтобы убедить его в существовании рая.
(обратно)159
Христианство оказало большую услугу любви… — фрагмент из рецензии Франса на «Feuilles detachees» Э. Ренана («Temps», 21 февраля 1892 г.).
(обратно)160
Екклезиаст — одна из книг Ветхого Завета, приписывавшаяся царю Соломону.
(обратно)161
Надо было провести свои детские годы в религиозной среде. — Франс имеет в виду детство Э. Ренана, получившего воспитание в духовной коллегии.
(обратно)162
Франческо Борджа (1510–1572) — генерал иезуитского ордена, причисленный к лику святых в XVII в. Согласно преданию в 1539 г. Борджа, служивший при дворе императора Карла V, сопровождал в Гренаду тело умершей супруги императора Изабеллы Португальской и, потрясенный видом ее обезображенного смертью лица, решил посвятить себя богу.
(обратно)163
…красоту Аспазии, Лаисы и Клеопатры… — Аспазия (V в. до н. э.) — древнегреческая гетера, подруга Перикла, славившаяся умом, образованием и красотой. Лаиса. — Из многочисленных греческих куртизанок, носивших это имя, Франс, очевидно, имеет в виду Лаису из Коринфа (конец V — начало IV в. до н. э.). В 1890 г. Франс написал две статьи о египетской царице Клеопатре («Temps», 12 и 26 октября 1890 г.), а в 1914 г. — предисловие к роману Ж. Кантеля «Царица Клеопатра».
(обратно)164
Св. Антоний — по церковной легенде христианский подвижник III–IV вв., прославившийся своей многолетней борьбой с искушениями в пустынях Фиваиды. Франс посвятил легенде о св. Антонии статью («Temps», 12 августа 1888 г.).
(обратно)165
Св. Иероним (IV в. — начало V в.) — один из «отцов церкви», по преданию, прожил несколько лет отшельником в Халкидской пустыне, а последние сорок лет своей жизни провел в одинокой келье в Вифлееме.
(обратно)166
Мулен-Руж — парижский танцевальный зал, открытый в 1889 г.
(обратно)167
«Золотая легенда» — название, данное в XV в. обширному сборнику житий святых, составленному в XIII в. доминиканским монахом Иаковом из Ворагина, епископом генуэзским.
(обратно)168
…борьба Иакова с ангелом… — Согласно библейскому преданию еврейский патриарх Иаков на пути из Месопотамии в Ханаан вступил в борьбу с ангелом и вышел из этой борьбы хромым.
(обратно)169
Люсьен Мюльфельд (1870–1902) — французский писатель, автор психологических романов из современной жизни.
(обратно)170
Гирландайо (Доменико Бигорди, 1449–1498) — выдающийся флорентинский живописец.
(обратно)171
Для истинного ревнивца… — Фрагмент из статьи Франса о французском писателе Ж. Псикари: «Жан Псикари, Ревность. Современный грек» («Temps», 13 декабря 1891 г.). Из этой же статьи — фрагмент на стр. 266: «Мы вносим в любовь бесконечность…»
(обратно)172
Гермиона — персонаж трагедии Расина «Андромаха» (1667).
(обратно)173
Дафнис — юноша-пастух, герой древнегреческого романа «Дафнис и Хлоя», приписываемого Лонгу (между II–IV вв.).
(обратно)174
В те времена, когда Берта пряла… — то есть в весьма отдаленные времена. Согласно легенде Берта (VIII в.), жена короля франков Пипина и мать императора Карла Великого, была до замужества пряхой.
(обратно)175
Герхард фон Аминтор — литературный псевдоним немецкого писателя Дагоберта Герхардта (1831–1910), автора повести «Соната си-моль» (1891), полемизирующей с «Крейцеровой сонатой» Л. Толстого. Указанную книгу Франс, очевидно, читал во французском переводе.
(обратно)176
…если только не вернутся те времена… — В тексте первого издания: «Если только социализм не вернет нас к тем временам».
(обратно)177
У Жана Беро есть маленькое полотно… — фрагмент из статьи «Социалистическая литература» («Temps», 31 января 1892 г.). Беро Жан (1849–1935) — французский художник. Его картина «Зал Граффара» написана в 1884 г.
(обратно)178
Лет сорок тому назад… — фрагмент из статьи Франса «О преподавании древних языков» («Temps», 11 октября 1891 г.).
(обратно)179
Чарльз Лайель (1797–1875) — английский геолог, впервые изложивший свою теорию «действующих причин» (медленного и непрерывного изменения земной поверхности под влиянием геологических процессов, продолжающихся и в настоящее время) в работе «Основы геологии» (1833). Франс датирует теорию Лайеля началом 1850-х годов, имея в виду появившийся в это время французский перевод указанной работы.
(обратно)180
Я только что прочел книгу, в которой поэт-философ… — Франс имеет в виду фантастический роман английского писателя Э. Бульвер-Литтона (1803–1873) «Будущая раса» (1870). Фрагмент извлечен из рецензии Франса на эту книгу («Temps», 8 апреля 1888 г.).
(обратно)181
… ни Дидоны, ни Федры… — Дидона — легендарная царица Карфагена, героиня поэмы Вергилия «Энеида». Покончила с собой из-за страстной любви к Энею. Федра (греч. миф.) — жена афинского царя Тезея, безответно полюбила своего пасынка Ипполита и, став причиной его гибели, покончила самоубийством.
(обратно)182
Сила и благость религий… — фрагмент из статьи Франса «Эдуард Род, „Личная жизнь Мишеля Тесье“» («Temps», 5 февраля 1893 г.).
(обратно)183
Попав лет десять тому назад… — фрагмент из статьи Франса «По доводу „Сильвианы“ Фердинанда Фабра» («Temps», 20 декабря, 1891 г.).
(обратно)184
Люди очень набожные или художественно-одаренные… — фрагмент из статьи Франса «О французском стихе» («Temps», 30 августа 1891 г.).
(обратно)185
Анри Эстьен (1531–1598) — французский книгоиздатель, эллинист; долго жил в Женеве, где подвергался преследованиям кальвинистов, обвинявших его в свободомыслии и атеизме.
(обратно)186
Кальвин Жан (1509–1564) — крупный деятель Реформации, добившийся в Женеве неограниченной власти и ожесточенно преследовавший своих религиозных противников.
(обратно)187
Можно утверждать… — фрагмент из статьи Франса «О французском стихе» («Temps», 30 августа 1891 г.).
(обратно)188
Познай самого себя — надпись, высеченная на фронтоне дельфийского храма Аполлона. Это изречение стало девизом Сократа.
(обратно)189
Габриэль Сеай (1852–1922) — французский философ, художественный критик и теоретик искусства, будущий соратник Франса в борьбе по делу Дрейфуса и по организации народных университетов.
(обратно)190
Я не знаю, является ли этот мир наихудшим из всех возможных миров. — Фрагмент из статьи Франса о книге французского поэта Жана Лаора «Иллюзия» («Temps», 20 марта 1893 г.).
(обратно)191
Поль Эрвье (1857–1915) — французский писатель, о котором Франс неоднократно писал в своих статьях («Temps»). Наиболее интересна статья в «Temps» 26 марта 1893 г., в которой Франс высоко оценивает роман Эрвье «Автопортреты» (1893), остро критикующий нравы французского светского общества.
(обратно)192
Флориан Жан-Пьер-Кларис де (1755–1794) — французский писатель, автор пастушеских романов, басен и небольших комедий. В ряде комедий изображал Арлекина, традиционный персонаж итальянской комедии масок. Франс поместил в «Temps» статью о Флориане (10 июля 1887 г.), которую частично использовал для новеллы 1888 г. «Записки волонтера» (сб. «Перламутровый ларец»).
(обратно)193
д'Эннери Адольф-Филипп (1811–1899) — французский драматург; поставлял в сотрудничестве с другими авторами парижским бульварным театрам множество посредственных драм и мелодрам.
(обратно)194
Царица Савская — по библейской легенде, владычица Аравии. В апокрифических сказаниях — символ чувственных земных радостей и соблазнов.
(обратно)195
Можно ли, — подумал я, читая эту книгу… — фрагмент из острополемической рецензии Франса на книгу Э. Фаге «Литературные этюды о девятнадцатом веке» («Temps», 23 января 1887 г.).
(обратно)196
Пьер Вебер (1869–1942) — французский писатель и драматург.
(обратно)197
Аббат Эжже — один из самых известных последователей шведского мистика Сведенборга. Франс цитирует его книгу «Подлинный Мессия» (1829), в которой Эжже рассказывает о своих видениях в Соборе Парижской богоматери.
(обратно)198
Каиниты — религиозно-философская секта, возникшая во II в., прославлявшая осужденных Священным писанием Каина, Иуду и др. Каиниты считали Каина созданием духа более высокого, чем бог-демиург, творец земли, породивший Авеля; предательство Иуды прославлялось как благая попытка отвратить человечество — наперекор Христу — от бога-демиурга. Каиниты имели свою апокрифическую литературу в виде евангелия от Иуды и т. д.
(обратно)199
Все, что ценится лишь за новизну… — фрагмент из статьи Франса о Л. Галеви и Р. Валье («Temps», 1 мая 1892 г.).
(обратно)200
Во времена гг. Гонкуров… — то есть в 1860-е годы. Свой импрессионистический стиль, включающий современные бытовые слова и неологизмы, писатели Жюль и Эдмон Гонкуры называли «артистическим письмом».
(обратно)201
Людовик Галеви (1834–1908) — французский романист и драматург, автор либретто оперетт «Прекрасная Елена» (1864) и «Перикола» (1868).
(обратно)202
Гиссарлык — холм в Малой Азии (в нескольких километрах от Дарданелл), где в 1871 г. немецкий археолог и коммерсант Г. Шлиман (1822–1890) произвел раскопки и обнаружил остатки древней Трои.
(обратно)203
Все непреходящие произведения — произведения на случай. — Франс не совсем точно цитирует слова Гете из его автобиографического произведения «Из моей жизни. Поэзия и правда».
(обратно)204
Августин (354–430) — один из «отцов церкви», причисленный к лику святых. В своей «Исповеди» он повествует о заблуждениях своей юности, в том числе о прежней приверженности к учению манихеев, и о своем чудесном обращении.
(обратно)205
Манихеи — ересь, возникла в III в.; основатель этой еретической секты Мани утверждал, что в основе мира — два начала: добро и зло.
(обратно)206
…Руссо… сам на себя клеветал. — Франс имеет в виду автобиографическое сочинение Руссо «Исповедь», в котором Руссо с необычайной откровенностью рассказал о событиях своей личной жизни.
(обратно)207
Хилиасты (от греч. хилиас — тысяча) — религиозная секта первых веков н. э., по учению которой мир должен был погибнуть в 1000 г.
(обратно)208
Теофиль Готье (1811–1872) — французский поэт и романист; в своих произведениях бросал вызов буржуазной морали.
(обратно)209
…так напугала маленького Астианакса. — Имеется в виду эпизод прощания Гектора с Андромахой из «Илиады» (песнь VI). Астанакс, маленький сын троянского героя Гектора, испугался конской гривы, украшавшей боевой шлем отца.
(обратно)210
…при Аврааме и Гудее… — то есть в глубокой древности. Авраам — мифический родоначальник евреев. Гудеа (XXIII в. до н. э.) — царек древнего города Лагаша, в Шумере (Месопотамия).
(обратно)211
Нет ничего нового под солнцем — изречение из библейской книги Екклезиаст (1, 9).
(обратно)212
Юстиниан — византийский император (527–565), составивший свод римских гражданских законов.
(обратно)213
Огюст Конт занял теперь свое место… — фрагмент из статьи Франса «Позитивизм во французском коллеже» («Temps», 7 февраля 1892 г.). О. Конт (1798–1857) — крупнейший представитель французского позитивизма. Франс разделял многие взгляды О. Конта, в частности его агностицизм, но резко критиковал его «научную» мораль, его политику и «религию человечества», в частности в лекции, прочитанной в Рио-де-Жанейро («Огюст Конт», 1909).
(обратно)214
Клотильда де Во — французская писательница, возлюбленная О. Конта (ум. в 1846).
(обратно)215
…двери храма на улице Месье-ле-Пренс. — На улице Месье-ле-Пренс жил О. Конт. В своем завещании Конт назначил тринадцать душеприказчиков, которым поручил сохранять в неприкосновенном виде его дом, как место, где впервые возникла его «религия человечества».
(обратно)216
…хотел ограничить эту науку изучением планет солнечной системы… — Франс намекает на полемику О. Конта с Д.-Ф. Араго (1786–1853), изучавшим звездную астрономию.
(обратно)217
«Я должен действовать, раз живу», — говорит гомункул. — Фрагмент из рецензии Франса на роман М. Барреса «Враг законов» («Temps», 22 января 1893 г.). Гомункул — человечек, искусственно созданный доктором Вагнером при помощи алхимии (Гете, Фауст, ч. II). На эти слова из «Фауста» Франс ссылался и прежде в статьях: «Серен» («Temps», 12 декабря 1886 г.) и «Фауст» Гете («Revue Bleue», 3 августа 1889 г.).
(обратно)218
…Изиду и Нефтиду. — Изида — древнеегипетская богиня плодородия; Нефтида — богиня, олицетворявшая бесплодную землю. Согласно мифу Изида и Нефтида воскресили умершего бога Озириса.
(обратно)219
…окаменевать, подобно великим нечестивцам древних мифов. — Франс имеет в виду прежде всего греческий миф о Ниобее, превращенной в камень за оскорбление богини Латоны.
(обратно)220
«Горе вам, ликующим!» — евангелие от Луки (6, 25).
(обратно)221
Дай мне плакать вместе с тобой (лат.).
(обратно)222
Не надо особенно бояться… — фрагмент из рецензии Франса на книгу французского писателя П. Бурже «Итальянские впечатления» («Temps», 4 октября 1891 г.).
(обратно)223
Возвещают, ждут, видят уже… — переработанный фрагмент из статьи Франса «Социалистическая литература» («Temps», 31 января 1892 г.).
(обратно)224
Философские системы интересны только как памятники духовной жизни… — фрагмент из статьи Франса о французском физиологе и философе Жюле Сури («Temps», 8 ноября 1891 г.). В газетной статье все эти мысли были представлены как взгляды Сури. Здесь Франс излагает их от своего имени.
(обратно)225
Альфред де Виньи (1797–1863) — французский поэт-романтик; в 1868 г. Франс написал о нем критический очерк.
(обратно)226
…томик издания Петито… — Коллекция Петито — многотомное «Собрание мемуаров, относящихся к истории Франции» (1819–1829).
(обратно)227
Де Лану Франсуа (1531–1591) — французский кальвинист, участник религиозных войн. Франс имеет в виду его «Политические и военные рассуждения», появившиеся в собрании Петито.
(обратно)228
Г-жа де Севинье (1626–1696) — автор писем, характеризующих жизнь и нравы XVII в.
(обратно)229
Беллерофонт (греч. миф.) — герой, убивший с помощью крылатого коня Пегаса огнедышащее чудовище Химеру. «Беллерофонт» — название английского корабля, командиру которого в 1815 г., после поражения при Ватерлоо, Наполеон сдался в плен.
(обратно)230
Философская скорбь… — фрагмент из статьи Франса «Жюль Сури» («Temps», 8 ноября 1891 г.).
(обратно)231
Ксенофан (конец VI–V вв. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель элейской школы, развивавший учение о неизменной сущности истинного бытия и иллюзорности всех видимых изменений и различий. Материалистические теории Демокрита, Эпикура и Гассенди имела принципиально иной смысл.
(обратно)232
Я знаю одну девятилетнюю девочку… — фрагмент из статьи Франса «Пьер Лоти. „Роман ребенка“» («Temps», 15 июня 1890 г.).
(обратно)233
Плиний Младший (конец I — начало II в.) — древнеримский историк. Извержение Везувия описано им в двух письмах к Тациту (кн. VI, письма 16 и 20); как сообщает сам Плиний, во время извержения он находился в Мисене и читал римского историка Тита Ливия. При извержении были засыпаны пеплом три города: Геркуланум, Помпеи и Стабии.
(обратно)234
Существует ли беспристрастная история? — До «Сада Эпикура» фрагмент был напечатан трижды. Франс изложил эти мысли в «Преступлении Сильвестра Бонара» устами Жели, повторил их от своего имени в статье «Тэн и Наполеон» («Temps», 13 марта 1887 г.) и включил этот отрывок как цитату из «Преступления Сильвестра Бонара» в статью «Ошибки истории» («Temps», 13 мая 1888 г.).
(обратно)235
Вейс Жан-Жак (1827–1891) — французский критик, журналист и политический деятель. Франс посвятил ему статью-некролог («Temps», 24 мая 1891 г.).
(обратно)236
Дело Фюальдеса. — Отставной имперский прокурор Фюальдес был зверски убит в г. Родезе в 1817 г. Процесс получил громкую известность, так как убийству было придано политическое значение.
(обратно)237
… Шопар, по прозвищу Милый. — Франс имеет в виду роман для детей Луи Денуайе «Приключения Жан-Поля Шопара» (1837).
(обратно)238
Светильник Психеи. — Имеется в виду древнегреческая сказка, включенная римским писателем Апулеем (II в.) в роман «Метаморфозы, или Золотой осел». Желая, вопреки запрету, рассмотреть своего супруга Амура, с которым она встречалась только в темноте, Психея склонилась над ним с зажженным светильником и, пролив каплю масла, нечаянно разбудила его. Лишь пройдя через ряд испытаний, Психея вновь обрела любовь Амура. Эта история символизировала судьбу человеческой души («психе» — по-гречески душа).
(обратно)239
О женских монастырях. — Частично статья была напечатана в «Temps» под названием «Исповедь сестры Анны. Смерть монахини» (31 октября 1886 г.) и целиком в «Echo de Paris» под названием «Монахини» (15 апреля 1894 г.).
(обратно)240
Эдуард Род (1857–1910) — швейцарский писатель; Франс напечатал две статьи о романах Рода «Три сердца» (1890) и «Личная жизнь Мишеля Тесье» (1893) («Temps», 26 января 1890 г. и 5 февраля 1893 г.).
(обратно)241
…Шатобриан устами отца Обри… — Шатобриан Франсуа-Рене (1768–1848) — французский писатель. Отец Обри — миссионер, персонаж повести Шатобриана «Атала», в которой прославляется католицизм.
(обратно)242
Морелле Андре (1727–1819) — французский публицист, просветитель, страстно боровшийся с католицизмом и религией вообще. Он написал резко полемическую рецензию на повесть Шатобриана «Атала».
(обратно)243
Монталамбер Шарль (1810–1870) — французский политический деятель, идеолог католицизма. Франс имеет в виду его наиболее известный труд: «Монахи Западной церкви от св. Бенедикта до св. Бернара» (1860).
(обратно)244
Св. Одилия. — Около 690 г. дочь эльзасского герцога Одилия основала на горе Гогенбург монастырь своего имени. В начале XII в. этот пришедший в упадок монастырь был восстановлен аббатисой Херрад фон Ландсберг, которую, очевидно, А. Франс смешивает здесь с Одилией.
(обратно)245
…Виргинию де Лейва или Джулию Каррачоло… — Виргиния де Лейва (1575–1618) — итальянская монахиня бенедиктинского ордена, сопротивлявшаяся пострижению; приобрела известность своей жизнью авантюристки. Джулия Каррачоло — также одна из жертв насильственного пострижения.
(обратно)246
…св. Терезы или св. Екатерины Сиенской. — Св. Тереза (1515–1582) — испанская монахиня, св. Екатерина Сиенская (1347–1380) — итальянская монахиня; отличались экстатической религиозностью.
(обратно)247
Учредительное собрание зря оспаривало это право… — Франс имеет в виду декрет Учредительного собрания, согласно которому монастыри были закрыты, а монахам было запрещено жить в монастырских зданиях.
(обратно)248
Беседа, которую я вел нынче ночью с одним призраком о происхождении алфавита. — Фрагмент из рецензии Франса на книгу Ф. Берже «История письма в античности» («Temps», 10 января. 1892 г.).
(обратно)249
Кадм (греч. миф.) — финикиец, основатель города Фив в Беотии. Легенда приписывала Кадму введение в Греции финикийского письма, по одной версии изобретенного им самим, по другой — заимствованного у египтян. Франс придерживается первой версии.
(обратно)250
Эрнест Ренан и Филипп Берже (1846–1912) — крупнейшие французские гебраисты, занимавшиеся вопросами финикийской истории и филологии.
(обратно)251
Кабиры — античные божества, культ которых был распространен главным образом в Финикии; считалось, что кабиры виднеются в ночном небе среди звезд. Их изображали в виде карликов, вооруженных молотом. Финикийцы помещали изображения таких карликов на носу своих кораблей и поручали им охрану корабля от бури.
(обратно)252
Разве не похитили вы… юную Ио… — Франс толкует античный миф о нимфе Ио, превращенной в корову ревнивою женою Зевса Герой, как интерпретацию реальных исторических событий, обычных в ту эпоху для средиземноморского бассейна: похищение дочери местного царька пиратами и продажу ее в другую богатую и цивилизованную страну.
(обратно)253
Гипогеи — подземные гробницы в античности.
(обратно)254
Ханаан — древнейшее название Палестины до завоевания ее древними евреями во второй половине второго тысячелетия до нашей эры.
(обратно)255
Узкую полоску земли, зажатую между Ливаном и морем… — то есть Финикию.
(обратно)256
Хиттиты или хетты — группа племен Центральной и Восточной Малой Азии, образовавших в первой половине второго тысячелетия до нашей эры военно-рабовладельческое государство и создавших высокую культуру. Сохранилось большое количество хиттитских иероглифических надписей.
(обратно)257
…Паскаля, пишущим свои «Письма к провинциалу»… — «Письма к провинциалу» (1656–1657) французского математика и физика Блеза Паскаля (1623–1662) направлены против ордена иезуитов.
(обратно)258
Ваал — один из древнефиникийских богов; слово «ваал», присовокупленное к имени человека, означало «господин».
(обратно)259
Стенли Генри (1841–1904) — американский путешественник, исследователь Центральной Африки.
(обратно)260
Я отнюдь не разделяю… — Статья первоначально опубликована под названием «Об образовании девушек» в «Echo de Paris», 8 февраля 1894 г.
(обратно)261
София Жермен (1776–1831) — французский математик.
(обратно)262
Госпожа де Лафайет Мари-Мадлен (1634–1693) — французская романистка, связанная с салонно-аристократической литературой XVII в. Однако романы г-жи де Лафайет, написанные ясным и простым литературным языком, значительно отличаются от запутанных и причудливых салонных романов того времени. Франс написал предисловия к двум романам г-жи де Лафайет: «Принцесса Клевская» (1678) и «История Генриетты Английской» (1720).
(обратно)263
Госпожа де Кэлюс Мари-Маргерит (1673–1729) — племянница г-жи де Ментенон, фаворитки Людовика XIV, автор интересных мемуаров о королевском дворе.
(обратно)264
Стааль-Делонэ (1693–1750) — горничная герцогини дю Мен, невестки Людовика XIV, затем ее фаворитка, автор мемуаров, рисующих жизнь аристократии времен Регентства.
(обратно)265
Рунические знаки (руны) — древние письмена, применявшиеся различными германскими племенами (в том числе скандинавскими); известны с III–IV вв. Рунам обычно придавался магический смысл, что и объясняет их название («рун» по-исландски — тайна).
(обратно)266
О чуде — статья первоначально напечатана в «Echo de Paris» 1 мая 1894 г. под названием: «По поводу Лурдской богоматери».
(обратно)267
Гиппократ (ок. 460–375 до н. э.) — выдающийся древнегреческий врач и естествоиспытатель.
(обратно)268
Лурд — французский город, ставший местом поклонения богородице, якобы явившейся в гроте поблизости от города в 1858 г. тринадцатилетней девочке Бернадетте; место спекуляции святыми дарами и католической пропаганды.
(обратно)269
Парис Франсуа де (1690–1727) — янсенист, протестовавший против буллы папы Климента XI, осуждавшей янсенизм (1713). После смерти диакона Париса янсенисты распространили слух о чудесных исцелениях на его могиле. Правительство запретило вход на кладбище, но тайное паломничество на могилу Париса продолжалось вплоть до революции 1789 г.
(обратно)270
…в 1866 г. в Северном Венце вдруг вспыхнула звезда… — 13 мая 1866 г. в 10 часов вечера инженер из Рошфора Курбебэс обнаружил до тех пор неизвестную звезду в Северном Венце.
(обратно)271
…увековеченное одною из Станц Рафаэля. — Имеется в виду фреска Рафаэля «Месса в Больсене».
(обратно)272
Чудодейственный микрококк (лат.).
(обратно)273
Карточные домики — глава первоначально была напечатана в виде статьи о трактате В. Шербюлье и называлась: «Недостоверности эстетики. „Искусство и природа“ В. Шербюлье» («Temps», 20 марта 1892 г.). Частично перепечатана в предисловии к 4-й серии «Литературной жизни» (1892).
(обратно)274
Зенон Элейский (V в. до н. э.) — древнегреческий философ-софист. В своих апориях (доказательствах) «Летящая стрела» и «Ахилл и черепаха» доказывал противоречивость понятия движения и отрицал возможность движения вообще.
(обратно)275
Ученая каинитка — Квинтилия (первая половина III века); она проповедовала свое учение в Африке, где имела много учеников, образовавших секту каинитов.
(обратно)276
Вспомните Паскаля. — Франс имеет в виду следующую запись Паскаля: «Кромвель готов был опустошить весь христианский мир; королевская фамилия погибла бы, а его род стал бы навсегда владетельным, если бы не маленькая песчинка, которая попала в его мочеточник. Даже Рим едва ли не трепетал перед ним, но попала песчинка, он умер, семейство его унижено, повсюду царствует мир, и король восстановлен на престоле» («Мысли», гл. II).
(обратно)277
Мишле Жюль (1798–1874) — выдающийся французский историк, автор «Истории Франции», первый том которой (1833) посвящен географии страны.
(обратно)278
Виктор Кузен (1792–1867) — французский философ идеалист, эклектик. Франс относился к философии Кузена отрицательно и в статье о Тэне назвал его «отвратительным» («Temps», 12 марта 1893 г.).
(обратно)279
Врен-Люка (род. 1818) — мошенник, подделывавший письма исторических деятелей и продававший их как подлинные. Мошенничества Врен-Люка послужили материалом для романа А. Доде «Бессмертный». А. Франс имеет в виду подделанные Врен-Люка письма Паскаля и Декарта, на основании которых французская Академия наук заявила, что Паскаль до Ньютона открыл закон всемирного тяготения. А. Франс присутствовал на процессе Врен-Люка 16 февраля 1870 г.
(обратно)280
Макферсон Джемс (1736–1796) — шотландский поэт, опубликовавший в 1760–1763 гг. цикл поэм в прозе, которые выдал за подлинные песни кельтского барда III в. Оссиана.
(обратно)281
«В Елисейских полях» — первоначально напечатано в «Temps», 30 апреля 1893 г. с подзаголовком «Диалог мертвых». Елисейские поля — в античной мифологии местопребывание душ умерших.
(обратно)282
Бурдо Луи (1824–1900) — французский философ-позитивист. Рецензируя книгу Бурдо «История и историки», Франс соглашался с Бурдо в том, что историческая наука лишена достоверности, но протестовал против предложения Бурдо заменить историографию статистикой и утверждал психологическую ценность исторических исследований («Ошибки истории» — «Temps», 13 мая 1888 г.). Возражая спиритуалисту Ж. Соэ и отрицая бессмертие души и врожденную идею бога, Франс оперировал книгой Бурдо «О проблеме смерти» («Ответ г-ну Жюлю Соэ» — «Temps», 23 апреля 1893 г.).
(обратно)283
Асфодель — дикий тюльпан; в античную эпоху цветы асфоделя сеялись на могилах, так как, по древним преданиям, эти цветы росли в подземном царстве мертвых.
(обратно)284
Пиррон (IV–III вв. до н. э.) — древнегреческий философ, основатель античного скептицизма, отрицавший возможность достоверного знания и проповедовавший воздержание от суждений.
(обратно)285
Ориген из Александрии (185–254) — христианский богослов и философ.
(обратно)286
Шопенгауэр Артур (1788–1860) — немецкий реакционный философ-идеалист и пессимист. Главное его произведение — «Мир как воля, представление» (1819).
(обратно)287
Декарт Рене (1596–1650) — выдающийся французский философ и ученый, стоявший на позициях дуализма, то есть признававший два независимых друг от друга начала: материальное (субстанция тела) и духовное (субстанция души).
(обратно)288
Дигби Кенельм (1603–1655) — английский философ и ученый, близко знавший Декарта. Франс, очевидно, имеет в виду сочинение Дигби «Трактат о душе, доказывающий ее бессмертие» (1644).
(обратно)289
Ламетри Жюльен-Офре (1709–1751) — французский философ, материалист и атеист.
(обратно)290
Минос (греч. миф.) — древний царь Крита; согласно некоторым мифам был судьей умерших в подземном царстве Аида. Эту же роль он играет в «Божественной Комедии» Данте.
(обратно)291
Альберт Великий (ок. 1193–1280) — доминиканский монах, богослов и алхимик, причисленный церковью к лику святых.
(обратно)292
Кожаный Чулок — Натти Бемпо, герой одноименного романа Купера.
(обратно)293
Маймонид Моисей (1135–1204) — еврейский богослов, философ и врач.
(обратно)294
Скот Иоанн Эригена (IX в.) — ирландский богослов, философ-неоплатоник. В своем трактате «О делении природы» утверждал, что души умерших возвращаются к богу, однако, не сливаясь с ним. Некоторые его суждения были признаны еретическими, и Скот подвергся преследованиям церкви.
(обратно)295
Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — французский богослов-ортодокс, непримиримо боровшийся со всяким свободомыслием в вопросах религии.
(обратно)296
Гаутама, или Сакья-Муни, или Будда — имя основателя древнеиндийской религии буддизма. Согласно буддийскому догмату души после смерти проходят через различные перевоплощения, стремясь достичь полного блаженства — нирваны, состояния «будды».
(обратно)297
Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120) — древнеримский историк.
(обратно)298
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — оратор, философ и политический деятель древнего Рима. Был консулом в 63 г.
(обратно)299
Сенека (ум. 65) — древнеримский философ-стоик.
(обратно)300
Папиниан Эмилий (ок. 150–212) — римский юрист.
(обратно)301
Мальбранш Никола де (1638–1715) — французский философ, последователь Декарта, пытавшийся с религиозно-идеалистических позиций устранить дуализм его философии.
(обратно)302
Клод Бернар (1813–1878) — выдающийся французский физиолог-позитивист.
(обратно)303
Менипп (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ школы киников, автор многочисленных философских сатир, в которых он рассуждал о серьезных философских вопросах в шуточном тоне. Еще в 1890 г. Франс изобразил Мениппа в статье «Новые диалоги мертвых», посвященной роману В. Шербюлье «Пари», и там тоже доверил ему заключительные слова («Temps», 16 марта).
(обратно)304
Элеаты или элейцы — древнегреческая философская школа VI–V вв. до н. э., возникшая в г. Элее (в Южной Италии). Главные представители: Ксенофан, Парменид, Зенон. Развивали учение о неподвижном бытии, отрицали объективность времени и пространства.
(обратно)305
…до современных эклектиков… — Франс имеет в виду группу французских философов-идеалистов во главе с В. Кузеном.
(обратно)306
Ляшелье Жюль (1832–1918) — французский философ-спиритуалист, высоко ценившийся в правительственных сферах Третьей республики.
(обратно)307
…«идущие после физиков». — Здесь имеется в виду сочинение Аристотеля, в котором излагаются его философские взгляды. Согласно принятому в древности порядку, в котором были расположены его сочинения, этот труд Аристотеля следовал за (греч. «мета») трактатом, в котором излагалось учение о природе. Отсюда название: «Метафизика» (точнее «Мета та физика»), то есть «сочинение, идущее после физики».
(обратно)308
Свободный, развязанный (лат.).
(обратно)309
Палимпсесты — в древности и в раннем средневековье рукописи, написанные на пергаменте по смытому или счищенному тексту.
(обратно)310
Ведийские гимны — гимны, входящие в состав Вед, древнейших священных книг Индии.
(обратно)311
«В аббатстве» — впервые опубликовано в «Temps» 7 августа 1892 г.
(обратно)312
Теодор де Визева (1863–1917) — французский писатель, поляк по происхождению, пылкий католик, автор многочисленных мистических сочинений. Франс полемизировал с Визева в «Temps» в ряде статей. После выхода в свет «Сада Эпикура» Визева опубликовал рецензию, в которой пытался изобразить самого Франса врагом науки и разума, писателем, который глубже, чем Паскаль и Толстой, «унизил человеческий разум».
(обратно)313
…о возражении, с которым вы недавно выступили на второй полосе газеты против одного пророка… — Имеются в виду статьи Франса о Теодоре де Визева, опубликованные в «Temps» 10 и 17 июля 1892 г.
(обратно)314
…Колумб, который… ходил в одежде доброго св. Франциска… — то есть в одежде нищенствующего монаха.
(обратно)315
«Новый Органон», или «Новый метод интерпретации природы» (1620) — основной труд английского философа Ф. Бэкона, В этом сочинении Бэкон подверг критике схоластические воззрения средневековья и разработал индуктивный и экспериментальный метод исследования природы.
(обратно)316
Сборник «Колодезь святой Клары» был написан почти одновременно с «Красной лилией». Еще до поездки в Италию (май 1893 г.) Франс напечатал в «Echo de Paris» две итальянские новеллы, позднее включенные в этот сборник: «Таинство крови» (8 февраля) и «Черные хлебцы» (8 марта). Но, очевидно, только в мае, под непосредственным впечатлением от пребывания в Италии, он задумывает книгу итальянских новелл. Возвратясь из Италии, Франс с увлечением работает над новеллами, большая часть которых первоначально появляется в той же газете в 1893–1894 гг. Так, новелла «Мессер Гвидо Кавальканти» была впервые напечатана в «Echo de Paris» 26 июля под названием «Мессер Гвидо Кавальканти» и 2 августа 1893 г. под названием «Истинная дама мессера Гвидо Кавальканти»; новелла «Люцифер» — впервые появилась 16 августа, «Поручительство» — 18 сентября 1893 г.; первоначальный вариант новеллы «Дама из Вероны» — 6 сентября 1893 г. под названием «Жалостные рассказы брата Оливье Майара»; «Святой Сатир» был напечатан в сентябре— октябре 1893 г. четырьмя главами: «Брат Мино», «Святой Сатир», «Нимфы» и «Ведьмы». Новелла «Бонапарт в Сан-Миньято» появилась в «Echo de Paris» 30 октября 1893 г., а «История доньи Марии де Авалос и дона Фабрицио, герцога Андрии» — 9 октября 1894 г.
Новелла «Веселый Буффальмако» печаталась отдельными главами: «Тараканы» — 9 августа 1893 г.; «Вознесение Тафи» — 4 сентября 1894 г. (под названием «Не сейчас»), «Мастер» — 23 августа 1893 г. (под названием «Буффальмако»), «Художник» — 30 августа 1893 г. (под названием «Обезьяна»).
В январе 1895 г., уже полностью составив сборник, Франс помещает в «Revue Hebdomadaire» две заключительных главы «Человеческой трагедии», которая ранее печаталась в «Echo de Paris» (октябрь 1893 г. — август 1894 г.), а также новеллу «Колодезь святой Клары», напечатанную в отдельном издании в виде пролога («Отец Адоне Дони»). Сборник вышел в свет 27 февраля 1895 г. в издательстве Кальман-Леви.
Действие всех новелл, за исключением пролога и последней новеллы о Наполеоне, происходит в конце XIII и в XIV в. Это первые проблески «нового времени», раннее Возрождение, иногда — лишь его преддверие. Франс рисует переходную эпоху, еще полную причудливых сочетаний средневекового духа и новых, гуманистических тенденций. На стенах церквей художники изображают религиозные сюжеты, но вкладывают в них иное, человеческое содержание. Монахи упорствуют в своем аскетизме, но земные соблазны лишают их покоя, а слепая вера разрушается сомнением, все более проникающим в их сознание.
Создавая свой итальянский сборник, Франс вдохновлялся в значительной мере итальянскими писателями Возрождения — Боккаччо, Вазари, Челлини. Иногда он непосредственно использует их сюжеты. Некоторые из его новелл очень близки к своим итальянским источникам. Эпоха Возрождения всегда привлекала пристальное внимание Франса, а в начале 1890-х годов, отвергая декадентскую литературу, он видит в Возрождении то здоровое начало, которое способно возродить современное ему французское искусство.
Вместе с тем на материале прошедшей эпохи Франс решает актуальные общественные вопросы, ставит волнующие его этические проблемы. Сборник насыщен острой социальной критикой. Изображая ранние итальянские республики, Франс ярко раскрывает общественное неравенство, всевластие богачей и бесправие бедняков, жестокость законов и несправедливость правосудия. Эта острая критика отличает итальянские новеллы Франса от всех предыдущих его новеллистических сборников. В «Колодезе святой Клары» нет эстетического любования христианством, свойственного новеллам «Перламутрового ларца» с их мягкой, чуть иронической стилизацией благочестивых легенд. Развенчание религии, святости и святых, ирония по отношению к христианской догматике и обрядности, пронизывающая весь сборник, придают итальянским новеллам Франса антиклерикальное и антирелигиозное звучание.
В большой новелле Веселый Буффальмако воскресают образы из «Декамерона», из «Новелл» Франко Саккетти и сочинения Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Герой новеллы, талантливый живописец, презирающий богатство, стремится только наслаждаться жизнью. Новелла по существу атеистична: в сцене чудесного «вознесения» Тафи Франс едко высмеивает и христианские чудеса и внутреннее лицемерие христианина.
Та же тенденция в новелле Поручительство. За исключением истории с богородицей, где иронически воспроизводится мотив из «Чудес богородицы, представленных в лицах», изд. Г. Париса и У. Робера, сюжетная канва новеллы довольно точно повторяет новеллу из «Декамерона» о купце Ландольфо Руффоло (4-я новелла второго дня). Франс воссоздает столь характерный для литературы Возрождения образ энергичного и предприимчивого человека, не унывающего среди различных превратностей судьбы и преодолевающего своим личным мужеством любые трудности. Рассказ о том, как друзья некогда богатого Фабио отвернулись от него в беде, звучит сатирично по отношению к власть имущим.
Еще более социально остра новелла Черные хлебы, в центре которой стоит сатирический образ банкира, добывшего несметные богатства ростовщичеством и мошенничеством. Всемогущим хозяевам купеческой республики противопоставлен нищий люд, осмелевший от жестокого голода.
Внимание Франса привлекают теперь периоды войн и гражданских волнений. Новелла Таинство крови рисует государственные и политические смуты в Сиене XIV в. Франс подчеркивает безжалостную суровость плебейского правительства, но вместе с тем отчетливо симпатизирует именно ему. Крупная буржуазия и знать, намеревающиеся продать город папе, изображены как кучка корыстных и злобствующих врагов своего народа. Новелла интересна своеобразной иронической трактовкой святости. Религиозный экстаз святой девицы Катарины лишен всякого поэтического ореола, в его основе лежит извращенная жестокость.
Сюжет новеллы История доньи Марии д'Авалос и дона Фабрицио, герцога Андрии заимствован из книги французского мемуариста Брантома, отрывок из которой приводится в виде эпиграфа. Но неожиданный конец, в котором вновь возникает отвратительный образ доминиканского монаха, придает этой новелле о страстной любви отчетливый антиклерикальный смысл.
Сюжет Дамы из Вероны также не сочинен Франсом. История прекрасной Элетты, после смерти попавшей в руки дьявола, заимствована из проповедей францисканского монаха XV в. Оливье Майара, уже изложенных Франсом в одной из статей «Литературной жизни». Но притче монаха Франс придал иронический и антирелигиозный характер. Новелла высмеивает святость брака, утверждает могущество плоти, а окончание, с точки зрения христианской религии, звучит совершенно кощунственно. Такой же кощунственный смысл имеет и новелла Люцифер, создающая величественный и прекрасный образ Сатаны-логика.
Глубоко иронична по отношению к христианской святости новелла Святой Сатир, несколько напоминающая «Таис», хотя в ней нет ничего трагического. Благочестивый эпиграф из «Римского требника» лишь резче подчеркивает иронию Франса. Как и в романе «Таис», Франс говорит о противоестественности христианско-аскетического идеала. Чувственные соблазны францисканского монаха — лишь справедливое возмездие природы, которая оказывается неизмеримо сильнее христианской догмы. Суровой догме монаха противопоставлено радостное и пантеистическое мироощущение святого Сатира, развивающего философию всеобъемлющей любви к миру, всеприятия жизни. В «Колодезе святой Клары» Франс вновь ставит проблему взаимоотношения мысли и чувства, мысли и действия в жизни человека — проблему, тесно связанную с вопросом о роли и месте человека в общественной борьбе.
Новелла Мессер Гвидо Кавальканти воспроизводит традиционный образ флорентийского поэта XIII в., одного из крупнейших представителей «нового сладостного стиля». Франс разделяет жизнь Кавальканти на два этапа, резко противопоставленные друг другу; судьба поэта подтверждает трагичность разрыва между мыслью и действием. Ни углубленные философские размышления, ни участие в бурных кровопролитных схватках с черными гвельфами не принесли ему удовлетворения и счастья. Отвлеченная мысль и бездуховная деятельность оказались в равной мере бесплодными.
В новелле Бонапарт в Сан-Миньято, где Франс близко следует за мемуарами корсиканского врача Антомарки «Последние дни Наполеона», тонко намечен путь Бонапарта к императорскому престолу и союзу с Ватиканом. Бонапарт изображен как человек, который не умел отвлеченно мыслить и потому был способен на сильное чувство и энергичное действие. «Простые чувства» Наполеона, его страстная, хотя и расчетливая душа позволили ему стать выдающимся государственным деятелем, но в то же время превратили его в посредственного человека.
В Человеческой трагедии — центральном произведении сборника, написанном в форме жития святого, Франс решительно отвергает «францисканский путь» исправления общества и так же, как в «Красной лилии», утверждает синтез мысли и чувства как необходимое условие человеческого существования.
Францисканский монах XIII в. Джованни, простой и наивный, как ребенок, живет сначала только чувством: он проповедует кроткую любовь и сострадание к людям и видит в этом единственный путь спасения. Путь монаха оказывается ложным. «Слова любви» не в состоянии убить насилие и несправедливость. Сами угнетенные, которых монах хочет спасти, отворачиваются от него и переходят на сторону его гонителей. Францисканское чувство, чувство, противопоставленное мысли, не может удовлетворить человека. И брат Джованни отрекается от своего францисканства. Под влиянием Сатаны — подлинного князя мира — монах превращается в человека, мыслящего, чувствующего и страдающего. Тема взаимоотношения мысли и чувства получает такое же решение, как и в романе «Красная лилия»: человек должен принять и мысль и чувство, в этом его страдание, но в этом и благо.
Франс не показывает дальнейшего поведения Джованни среди людей — может быть, потому, что он еще не отваживается на далеко идущие общественно-политические выводы; здесь он решает проблему «гармоничного» человека в символическом повествовании, в философско-психологическом плане. Вопрос о роли этого нового человека в общественной жизни будет окончательно решен Франсом позднее. Синтез мысли и чувства, который он намечает в преобразившемся Джованни, превратится в образе профессора Бержере в синтез мысли и действия — для активной борьбы против сил реакции.
В «Человеческой трагедии» нашли свое воплощение и развитие все основные темы сборника: страстное осуждение социальной несправедливости, развенчание христианской святости и религии. Многие страницы повести полны острой критики жестоких общественных порядков средневековья и глубокого сочувствия трудовому народу. В главе «Друзья добра» Франс срывает маску филантропии с морали власть имущих, а сценой осуждения Джованни (глава «Суд») утверждает принципиальное беззаконие института суда. Джованни мечтает о будущем справедливом царстве, в котором больше не будет угнетения и социального неравенства. Царская цензура запретила опубликование в России девятой главы «Человеческой трагедии» (в переводе начала XX в. глава озаглавлена «Дом без греха»), содержащей «краткое, но легкое и общедоступное изложение социалистических идей».
Мечту Джованни о справедливом общественном строе Франс несомненно приемлет, но путь, которым монах хотел прийти к своему царству, он решительно осуждает. В обстановке растущей активности церкви, пытавшейся «овладеть» рабочим движением, писатель отвергает идеи христианского социализма, все более укреплявшегося во Франции, и критикует францисканство как религиозное течение и этический принцип.
Образ своеобразного «гармоничного» человека, живущего одновременно разумом и чувством, появляется и в прологе. Это мудрый ученый Адоне Дони, по существу свободный от религиозных верований. Он скептически относится к государственной власти и оправдывает гражданские войны. У развалин древнего колодца, носящего имя полулегендарной ученицы св. Франциска, старый францисканец, беседуя с автором, как бы вводит читателя в итальянский колорит, которым проникнуты новеллы «Колодезя святой Клары».
(обратно)317
Эвандр — по древнеримскому преданию, грек, основавший за шестьдесят лет до разрушения Трои поселения на месте будущего Рима.
(обратно)318
Цецилия Метелла — жена Красса, сына древнеримского триумвира. Ее гробница была воздвигнута во время правления императора Августа.
(обратно)319
Пиа де'Толомеи (XIII в.) — знатная итальянка из Сиены, погубленная своим ревнивым мужем; изображена в «Божественной Комедии» Данте.
(обратно)320
«Академия глупцов» (итал.) — Академия, основанная в Сиене около 1450 г. для охраны чистоты итальянского языка. Литературные общества в Италии того времени обычно получали шутливые названия.
(обратно)321
Силен (ант. миф.) — воспитатель и неизменный спутник бога виноделия Диониса (у римлян Вакха). Изображался как веселый, толстый и пьяный старик.
(обратно)322
…лондонских революционных сборищ. — Франс имеет в виду I Интернационал, основанный в Лондоне 28 сентября 1864 г.
(обратно)323
Фарината дельи Уберти — вождь партии гибеллинов во Флоренции; гибеллины — политическая партия в Италии XII–XV вв., состоявшая в основном из феодальной знати; сторонники императорской власти Гогенштауфенов в Италии; боролись с партией гвельфов (сторонников папской власти), состоявшей преимущественно из буржуазных слоев итальянских городов.
(обратно)324
Арбия — речка, в долине которой произошло в 1260 г. сражение между гвельфами и гибеллинами, окончившееся победой последних.
(обратно)325
…Пия IX и Льва XIII — Пий IX — римский папа 1846–1878 гг. В первые годы своего правления провозглашал либеральные лозунги, затем стал одним из вдохновителей европейской реакции. Был родом из г. Синигальи. Лев XIII (родился в Карпинете близ Рима) — римский папа (см. прим. к стр. 86), добивался сближения католической церкви с рабочим движением, упрочения союза монархистов с буржуазно-республиканскими кругами Франции. Отсюда название его «орел-умиротворитель».
(обратно)326
«Цветочки» (итал.) (XIV в.) — сборник легенд о Франциске Ассизском и первых францисканцах, создание которого долго приписывалось самому Франциску.
(обратно)327
Но жители Сиены… истые сыны волчицы… — Сиена как бывшая римская колония была, по преданию, основана Ремом, одним из двух легендарных основателей Рима, вскормленных волчицей.
(обратно)328
Маргаритоне (XIII в.) — итальянский живописец, скульптор и архитектор.
(обратно)329
…оцепенение, в которое… впали ученики Христовы в Гефсиманском саду. — Согласно евангельской легенде, в ночь перед своей казнью Иисус молился в Гефсиманском саду, а ученики его, невзирая на его просьбы, трижды засыпали.
(обратно)330
Приап (греч. миф.) — бог, покровитель полей, садов и стад, изображения которого обычно помещались в садах и виноградниках.
(обратно)331
Адонис (греч. миф.) — прекрасный юноша, возлюбленный богини Афродиты.
(обратно)332
…Гораций-сатирик и Стаций… — Гораций Флакк (65—8 до н. э.), крупнейший древнеримский поэт эпохи Августа, в своих «Сатирах» критиковал нравы современников. Стаций (ум. ок. 95) — древнеримский поэт, автор эпической поэмы «Фиваида».
(обратно)333
…я был рожден Землею… Юпитер низверг Сатурна… — Согласно мифу, до Юпитера вселенной повелевал его отец Сатурн. Земля (Гея) — древнейшая богиня, мать Титанов.
(обратно)334
…когда умер великий Пан… — то есть когда язычество уступило место христианству. Пан (греч. миф.) — бог лесов и пастбищ, изображался как получеловек-полукозел.
(обратно)335
Галилеянин — одно из прозвищ Иисуса.
(обратно)336
Левиафан — морское чудовище, упоминаемое в библии; по позднейшим сказаниям — адское чудовище.
(обратно)337
Путешественник, проникший в лимб… — Очевидно, имеется в виду Данте; согласно «Божественной Комедии», лимб — часть первого круга ада, где пребывают души античных язычников. Однако встреча с мудрым кентавром Хироном происходит не в лимбе, а в седьмом круге ада. О троянце Рифее в поэме Данте не упоминается.
(обратно)338
Пирра (греч. миф.) — жена Девкалиона; вместе с мужем они спаслись во время всемирного потопа и вновь заселили мир, бросая через плечо камни, которые превращались в людей.
(обратно)339
…во времена доброго короля Беренгария. — то есть в стародавние времена. Беренгарий I — итальянский король 888–923 гг.
(обратно)340
…Сивилле, которая… возвещала народам Спасителя. — Христианская легенда использовала античное предание о сивиллах-прорицательницах, вложив в их уста христианские пророчества.
(обратно)341
…Вергилием, за то что он предрек рождение Спасителя… — Имеется в виду 4-я эклога Вергилия («Буколики»), в которой он воспевает предстоящее рождение младенца в какой-то знатной римской семье и предсказывает в связи с этим наступление золотого века. В средние века это было истолковано как предсказание появления Христа. Вергилий родился близ Мантуи и потому назван мантуанцем.
(обратно)342
Вот уже дева грядет (лат.).
(обратно)343
Гвидо Кавальканти (1259–1300) — итальянский поэт, друг Данте. Принял участие в общественно-политической борьбе своего времени на стороне «белых» гвельфов. Из указанной новеллы Боккаччо Франс заимствовал весь эпизод о столкновении Гвидо Кавальканти с флорентинскими синьорами у гробниц Сан-Джованни.
(обратно)344
Жюль Леметр (1853–1914) — французский писатель и критик-импрессионист, литературные взгляды которого были близки Франсу в 1880-е годы. К концу 1890-х годов, когда Леметр встал на реакционные позиции, писатели окончательно разошлись. Творчеству Леметра Франс посвятил большое количество статей.
(обратно)345
…Гвидо, сын Кавальканте деи Кавальканти, был из лучших логиков на свете в отличный знаток естественной философии… А так как он держался отчасти учения эпикурейцев, говорили в простом народе, что его размышления состояли лишь в искании, возможно ли открыть, что бога нет.
«Декамерон» мессера Джованни Боккаччо, день шестой, новелла IX (итал.).
(обратно)346
П(одземным) б(огам м(анам)
Меня не было. Я помню. Меня нет. Мне все равно. Донния Италия, двадцати лет, здесь я покоюсь (лат.).
(обратно)347
…трактат о любви, сочиненный… Платоном. — Имеется в виду диалог Платона «Пир», в котором развивается концепция идеальной, «платонической» любви, ведущей к совершенному познанию и красоте.
(обратно)348
Диотима. — В диалоге Платона «Пир» философ Сократ, излагая теорию идеальной любви, утверждает, что он заимствовал ее у жрицы Диотимы. (По преданию Диотима была родом из Мантинеи, а не Мегары.)
(обратно)349
…приора ремесел и свободы… гонфалоньера правосудия. — Приор свободы и ремесел — высшая выборная должность, учрежденная во Флоренции в 1282 г. Флорентинской республикой управляла коллегия из шести приоров. Гонфалоньер — должностное лицо в итальянских городах-республиках (Флоренции и Сиене).
(обратно)350
Мандетта — возлюбленная Гвидо, родом из Тулузы в южной Франции, где возникла ересь альбигойцев.
(обратно)351
Белые и черные — партии, на которые в конце XIII в. разделились флорентинские гвельфы. «Черные» ориентировались на папскую курию, «белые» выступали за независимую Флоренцию, склоняясь к союзу с гибеллинами.
(обратно)352
…сослан в зачумленный город Сарзану. — Данте, избранный в июне 1300 г. членом коллегии приоров, добился изгнания из республики вождей обеих враждующих партий. «Белые» отправились в г. Сарзану, где Гвидо Кавальканти заболел малярией.
(обратно)353
Я жду мою даму… — то есть смерть. В письме к г-же де Кайаве, не понявшей смысла новеллы, Франс объяснил, что Гвидо искал успокоения в смерти, которой он не боялся, так как был атеистом.
(обратно)354
Луи Гандеракс (род. 1855) — французский журналист и театральный критик.
(обратно)355
Спинелло — Спинелло Спинелли, прозванный Аретино (ок. 1350–1410) — итальянский живописец из г. Ареццо; выполнил фрески в ряде церквей Флоренции, Ареццо и Пизы. Вазари Джорджо (1511–1574) — итальянский живописец. Цитируемая книга — важный источник по истории итальянского искусства средних веков. В своей новелле Франс точно следует рассказу Вазари о жизни Спинелли.
(обратно)356
Тафи Андреа (XIV в.) — флорентинский живописец. Мозаика «Христос» в флорентинском храме Иоанна Крестителя — его единственная достоверная работа.
(обратно)357
…по свидетельству Давида и Сивиллы. — В церковном католическом гимне «День гнева» упоминаются пророчества иудейского царя Давида и эритрейской сивиллы Герофилы о Страшном суде.
(обратно)358
…благодаря высоким достоинствам своей дамы. — Речь идет о Беатриче, воспетой Данте в «Божественной Комедии».
(обратно)359
«Корабль дураков» (1494) — стихотворная сатира немецкого писателя Себастьяна Бранта, подвергающая осмеянию общественные пороки своего времени.
(обратно)360
…разбойнику, который покаялся, и блуднице, которая пролила слезы. — Имеется в виду евангельская легенда о разбойнике, распятом вместе с Иисусом и пожалевшем его, и о Марии Магдалине, обращенной Иисусом в христианство.
(обратно)361
Эжен Мюнц (1845–1902) — французский искусствовед, автор работ по итальянскому искусству.
(обратно)362
Буонамико да Кристофано (XIV в.) — флорентинский живописец, о котором нет никаких достоверных сведений. Биография его, написанная Вазари и явившаяся основным источником новеллы Франса, фантастична. Прозвище Буффальмако по-итальянски значит «шутник». Похождениям Буффальмако и его друзей посвящены пять новелл «Декамерона».
(обратно)363
Аполлоний (конец XIII — начало XIV в.) — живописец, грек по происхождению, работавший в Италии.
(обратно)364
Вернее было бы сказать — надкрылиями. Щиток — название неподходящее, совершенно неподходящее. Здесь речь идет о восточном таракане, распространенном по всей Европе.
(обратно)365
В России их зовут прусаками, в Пруссии — русскими, во Франции — ханжами. (Примечания автора.)
(обратно)366
Грязная богородица (итал.).
(обратно)367
…хрустальным небом-перводвигателем. — Согласно системе Птолемея, господствовавшей в средние века, все небесные сферы приводятся в движение девятым небом — так называемой сферой хрустального неба, над которой находится неподвижный «эмпирей» — местопребывание божества.
(обратно)368
Попозднее (вернись) на небо (лат.). — «Оды», I, 2, 45.
(обратно)369
За что, жестокий Ирод?.. (лат.).
(обратно)370
Гюг Ребелль — литературный псевдоним французского писателя Жоржа Грассаля (1868–1905), автора стихотворений и романов на античные и средневековые сюжеты.
(обратно)371
Латона, Леда, Семела (ант. миф.) — возлюбленные Юпитера, имевшие от него детей.
(обратно)372
Что за великий артист погибает! — по преданию, предсмертные слова римского императора Нерона (37–68). (Он часто выступал как певец и декламатор на олимпийских состязаниях.)
(обратно)373
Ж.-О. Рони — литературный псевдоним французских писателей — братьев Бе, Жюстена (1859–1948) и Оноре (1856–1940). Примыкали к «натуралистической школе» Золя, затем отошли от нее. Франс посвятил статью книге Рони «Термит, роман литературных нравов» («Temps», 9 февраля 1890 г.).
(обратно)374
Джованни ди Фиданца (1221–1274) — генерал францисканского ордена. В XV в. был причислен церковью к лику святых.
(обратно)375
Имя Бонавентура по-итальянски означает «удача», «счастье».
(обратно)376
Лючидо — по-итальянски значит «ясный», «светлый».
(обратно)377
Ульпиан Домиций (ум. 228) — выдающийся римский юрист.
(обратно)378
…черны, как тот из волхвов, который принес мирру. — Согласно библейской легенде, Валтасар, один из трех волхвов, пришедших поклониться Христу, был чернокожим царем Эфиопии.
(обратно)379
Елена (ок. 247–327) — мать римского императора Константина, причисленная церковью к лику святых.
(обратно)380
Амвросий (340–397) — один из «отцов церкви», архиепископ Милана; считался святым — покровителем этого города.
(обратно)381
Подеста — глава высшей исполнительной и судебной власти в средневековых городах-коммунах центральной и северной Италии.
(обратно)382
Диоген из Синопа (ок. 404–323 до н. э.) — древнегреческий философ-киник; проповедовал пренебрежение к общественным установлениям и богатству, ограничение потребностей и возврат к первобытному состоянию.
(обратно)383
Мария же избрала благую часть… — По евангельскому преданию, Мария предпочитала слушать поучения пришедшего в ее дом Христа, в то время как сестра ее Марфа готовила трапезу.
(обратно)384
…кого прозвали Златоустом. — Имеется в виду патриарх Константинополя Иоанн (347–407), прозванный Златоустом за красноречие.
(обратно)385
…короля Франции Людовика в его башне, — Имеется в виду король Людовик IX.
(обратно)386
Город Лилии — Флоренция.
(обратно)387
…изображения Льва и Волчицы украшают ворота их городов. — Крылатый лев был эмблемой Венецианской республики, бронзовая волчица — эмблемой Сиены.
(обратно)388
…на человека, который… убил отца и женился на матери. — Имеется в виду греческий миф о царе Эдипе.
(обратно)389
Греческий огонь — горючий состав, применявшийся в средние века византийскими греками для поджога вражеских кораблей.
(обратно)390
«Бестиарии» — иллюстрированные сборники рассказов и легенд о животных, составлявшиеся в средние века.
(обратно)391
…пастуху дано было разбить камнем голову великана. — Намек на библейскую легенду о юноше Давиде, будущем царе Израиля, убившем камнем из пращи вождя филистимлян, великана Голиафа.
(обратно)392
Элетта из Вероны — героиня новеллы Франса «Дама из Вероны».
(обратно)393
…император Карл, когда его венчали на царство. — Франкский король Карл Великий был с необычайной пышностью увенчан папой Львом III в 800 г. короной Западной Римской империи.
(обратно)394
…тот, кто, ведомый своей госпожой… вступил в рай господень. — Имеются в виду Данте и Беатриче.
(обратно)395
Марко Поло (1254–1323) — итальянский путешественник, венецианец, совершивший путешествие в Китай и ознакомивший европейцев с Центральной Азией и Дальним Востоком. Сообщенные Марко Поло реальные сведения о дальних странах причудливо смешивались в сознании современников со средневековыми небылицами.
(обратно)396
…сцены в духе трагедий Сенеки. — Древнеримский философ и писатель Сенека (ум. 65) является автором трагедий, изобилующих ужасами и преступлениями.
(обратно)397
Папиниан Эмилий (ок. 150–212) — римский юрист. Франс приписал ему тот же взгляд на право и в «Саде Эпикура».
(обратно)398
Плиний Старший (23–79) — древнеримский писатель и ученый, автор «Естественной истории» в тридцати семи книгах.
(обратно)399
Уста его твердили лишь одно: «Иисус» и «Катарина», и с этими словами он опустил голову мне на руки и смежил очи в божественной благостыни, а потом промолвил: «Я хочу…» (Письма св. Екатерины Сиенской. — XCVII, «Джильи и Бурламакки») (итал.).
(обратно)400
Лаведан Анри(1859–1940) — французский писатель, автор романов и комедий из современной французской жизни.
(обратно)401
…В обличье сем
Спасителя даю в залог,
Что выполню условье в срок.
Христос, принесший в мир добро, —
Залог мой за твое добро. (старофранц.) Перевод И. Гуровой. («Чудеса богоматери, представленные в лицах», опубликованные Г. Парисом и Ю. Робером).
(обратно)402
Ускоки — сербские повстанцы, сражавшиеся с турками на адриатическом побережье, а также захватывавшие купеческие суда, перевозившие товары между Италией и Востоком.
(обратно)403
Анри Готье-Виллар (1859–1931) — французский писатель, автор юмористических романов и музыкальный критик; писал под псевдонимом «Вилли».
(обратно)404
Шлюха (итал.).
(обратно)405
Перевод И. Гуровой.
(обратно)406
Шенье Мари-Жозеф (1764–1811) — французский поэт и драматург, участник буржуазной революции 1789–1794 гг. В патриотической элегии «Прогулка» (1805) противопоставляет свободную Францию революционных дней рабству французов при Империи, республиканского генерала Бонапарта — тирану Наполеону I.
(обратно)407
В монастырь Сан-Миньято Бонапарт заехал летом 1796 г., во время итальянского похода.
(обратно)408
«Мемориал» (точнее «Мемориал Св. Елены», 1823) — дневник Э. Ласказеса, секретаря Наполеона на острове Св. Елены; вплоть до ноября 1816 г. он записывал все разговоры и замечания Наполеона.
(обратно)409
…выполнившим свои обязательства перед республикой. — Великий герцог тосканский Фердинанд III (1769–1824) вплоть до конца 1790-х годов сохранял нейтралитет по отношению к Французской республике.
(обратно)410
Бертье, Жюно — французские генералы. Бертье Луи-Александр (1753–1815) в 1796 г. был начальником штаба итальянской армии; Жюно Андош (1771–1813) в 1796 г. был полковником и адъютантом Бонапарта.
(обратно)411
Двуглавый орел — с XV в. эмблема Священной Римской (Германской) империи.
(обратно)412
…на паперти церкви св. Роха… — 13 вандемьера IV года (5 октября 1795 г.) Бонапарт подавил роялистский мятеж в Париже, расстреляв мятежников на ступенях церкви св. Роха.
(обратно)413
…при Лоди солдаты произвели его в капралы. — 9—10 мая 1796 г. при городе Лоди генерал Бонапарт одержал крупнейшую победу над австрийской армией. После этого сражения был прозван солдатами «маленьким капралом».
(обратно)414
Жозефина, Ташер де Лапажери (1763–1814) — первая жена Наполеона Бонапарта. Брак был заключен в 1796 г., в этом году и происходит действие.
(обратно)415
Мантуя — была осаждена Наполеоном 18 июля 1796 г. в взята 2 февраля 1797 г.
(обратно)416
Якопо ди Буонапарте. — Родство Наполеона I с Якопо и Николо Буонапарте не доказано. Принадлежность Якопо Буонапарте сочинения, указанного в тексте, также оспаривается.
(обратно)417
Вдова (итал.).
(обратно)418
Теренций Публий (II в. до н. э.) — выдающийся древнеримский комедиограф.
(обратно)419
Болье (1725–1819) — генерал, командовавший в 1796 г. австрийской армией в сражениях при Монтенотте (14 апреля 1796 г.), при Миллезимо (тот же день) и при Лоди, в которых он был разбит французскими войсками под командованием Бонапарта.
(обратно)420
…предательское убийство посла Бассвиля. — Убийство в Риме посла Французской республики Гюга де Бассвиля (1753–1793) выросло в международный конфликт. Директория принудила папу Пия VI выплатить компенсацию семье убитого.
(обратно)421
Клянусь Вакхом! (итал.).
(обратно)422
…гражданский статут… для французского духовенства… — был введен декретом Учредительного собрания (12 июля 1790 г.), провозгласившим независимость французского духовенства от папского престола и выборность священников и епископов во Франции. 10 марта 1791 г. декрет был осужден Пием VI. Инквизиция во Франции была уничтожена Наполеоном в 1808 г.
(обратно)423
Мой милый сынок Наполеон (итал.).
(обратно)424
…Монтескье, Рейналя и Руссо. — Рейналь Гильом (1713–1796) — как и Монтескье и Руссо, — один из крупнейших представителей французского Просвещения.
(обратно)425
Конституция Третьего года — Конституция от 22 августа 1795 г., утвердившая власть Директории (правительства из 5 директоров) — органа диктатуры крупной буржуазии.
(обратно)426
«Пьер Нозьер», вторая часть автобиографической тетралогии Франса, вышел в свет в издательстве А. Лемерра в 1899 г. Отдельные главы печатались в периодической прессе в течение многих лет — с сентября 1883 г. по январь 1899 г. По содержанию и жанру они весьма различны: это либо воспоминания о детстве, либо законченные новеллы, психологические этюды, философские размышления и путевые заметки. Три части, составляющие книгу, не объединены между собой ни сюжетной, ни композиционной связью. «Пьер Нозьер» — это в сущности сборник новелл, очерков и фрагментов, в котором Франс воплотил свои самые разнообразные жизненные впечатления, описал близких ему людей и случайных знакомых, попытался осмыслить свой личный опыт. Однако автобиографичность этого произведения еще более условна, чем первой части тетралогии — «Книги моего друга» (1885). Вымысел и правда переплетаются здесь еще более причудливо, а маленький Пьер Нозьер, лирический герой Франса, появляется только в нескольких главах. Иногда он выступает как взрослый человек, как собеседник или рассказчик, иногда же и вовсе отсутствует.
Первая книга «Пьера Нозьера» — «Детство» — еще сохраняет сходство с «Книгой моего друга». В главах, написанных в 1880-е и в начале 1890-х годов, Франс по-прежнему пытается воссоздать психологию ребенка, характеризовать своеобразие его впечатлений от мира. Он воспроизводит фантастическое и по-детски наивное представление о вселенной, сложившееся у маленького Пьера под влиянием библейских легенд («Библия и Ботанический сад»), лирические воспоминания ребенка о его старой няне («Госпожа Матиас»). Светлая пора детства наиболее полно представлена в «Матушкиных сказках». В этих ранних главах «Пьера Нозьера» почти нет сюжета. Внешний мир существует лишь в восприятии маленьких героев либо служит поводом для философских и психологических размышлений автора. Эта «субъективная» манера письма обусловлена всей системой философских и эстетических взглядов Франса. В 1880-е годы писатель был убежден в непознаваемости мира, в невозможности проникнуть в объективный смысл событий. Единственной реальностью, доступной для познания и художественного изображения, он считал представления человека о мире, а каждое представление рассматривал как относительное и субъективное. С этой точки зрения, восприятие ребенка оказывалось столь же правомочным, как и восприятие взрослого человека, но только более свежим, непосредственным и цельным, не омраченным предрассудками и буржуазной моралью. Вот почему в ранних главах «Пьера Нозьера» Франс с такой задушевностью и лиризмом рисует детскую душу, а внешние события оказываются здесь сокращенными до предела.
Главы, написанные позднее, выдержаны в другом плане. Политическое развитие Франса вызвало значительные изменения в его философских и литературных взглядах. Уже к середине 1890-х годов искусство становится для него важнейшим общественным долгом, а писатель — активным участником политической и идеологической борьбы. Во второй половине 1890-х годов, не прекращая работы над автобиографической тетралогией, Франс публикует отдельные главы «Современной истории», выступает на митингах и собраниях, принимает участие в борьбе, развернувшейся во Франции в связи с делом Дрейфуса. В соответствии с этим и в сборник о Пьере Нозьере постепенно вливаются новые, социальные и политические темы. Ирония Франса теряет «благожелательный» характер и местами становится обличительной. События развиваются уже независимо от Пьера Нозьера и приобретают самостоятельную ценность. В некоторых главах появляется четкая фабула. В центре внимания Франса оказывается не детское восприятие жизни, а сама социальная жизнь.
При соприкосновении с реальностью гибнут прежде всего детские иллюзии. Страдания торговца очками Гамоша убивают в маленьком Пьере его прежнюю веру в благостность мира («Торговец очками»). Перед глазами мальчика проходят опустившийся императорский гренадер, превратившийся в уличного писца и принимающий подачки от брошенной им жены («Уличный писец»), нищий привратник-портной, который не может прокормить чахоточную жену и двенадцать детей («Двое портных»), букинист Деба, бескорыстно помогающий беднякам, но сам живущий в нищете («Господин Деба»), — все эти трагедии позволяют Пьеру Нозьеру увидеть неприкрашенную современную действительность. В главе «Двое портных» мальчик сам становится жертвой общественного неравенства. В радостный детский мир, разрушая безмятежную идиллию, вторгается социальная несправедливость.
Персонажи «Пьера Нозьера» выступают как социальные индивиды, представители различных политических партий или различных общественных групп. Франс отчетливо характеризует их политические взгляды и общественную позицию. Отставной гренадер превозносит павшего Наполеона, г-н Деба выступает как страстный противник Наполеона III. В главе «Онезим Дюпон» раскрывается психология республиканца, самоотверженно сражавшегося против Июльской монархии и других антинародных режимов во Франции. Некоторые страницы «Пьера Нозьера» содержат политическую критику французской действительности. Еще в ранней главе «Госпожа Планшоне» Франс изобразил беспринципного редактора провинциальной газеты, равнодушного к общественным интересам и со спокойной совестью работающего на клерикалов. В рассказе «Лейб-гвардеец» возникает сатирическая картина армейской жизни, проникнутой косностью и невежеством. Но наибольшей критической остроты Франс достигает в отрывке «Сегодня утром я завтракал…», вошедшем во вторую книгу «Пьера Нозьера» и написанном в традиции философских повестей Вольтера, в частности повести «Простодушный». Устами неискушенного араба Франс облачает нравы господствующей верхушки Второй империи и захватническую, колониальную политику Франции и Англии. Фрагмент извлечен из «Современной истории» и непосредственно связывает «Пьера Нозьера» с этим остро политическим произведением Франса.
Как и в прежних своих книгах, Франс уделяет большое внимание философской проблеме взаимоотношения разума и чувства в жизни и поведении человека. Новелла «Два друга» развивает тему его ранней повести «Тощий кот». Франс и здесь противопоставляет два противоположных психологических типа: художника, не думающего, но творящего, и художника, погруженного в непрерывные размышления, а потому не способного что-либо создать. Печальная участь Жака Дюброке, мечтавшего о монументальной философской живописи, свидетельствует о том, что чрезмерное теоретизирование пагубно действует на творческую способность художника.
Эта проблема разработана Франсом и во второй книге «Пьера Нозьера», примыкающей к «Саду Эпикура». Никогда не размышлявший Шандево (из отрывка «Я только что узнал…») следовал голосу инстинкта и сердца и потому существовал легко и благостно, — в 1891 г. подобная «инстинктивная» жизнь еще вызывала симпатию Франса. В ряде фрагментов он говорит о непобедимости инстинкта, определяющего поведение и мораль человека, а с другой стороны, вновь констатирует опасность теоретизирования, увлекающего человека на путь заблуждений. Эта мысль получает подтверждение и в первой книге «Пьера Нозьера». Бескорыстный и мужественный Онезим Дюпон был в то же время неисправимым фанатиком, рабом отвлеченного принципа чести, и во имя этого принципа совершал в своей личной жизни жестокие и нелепые поступки. Философский диалог из «Современной истории» «Арист, Полифил и Дриас», заключающий вторую книгу «Пьера Нозьера», ставит те же вопросы несколько в ином плане: сталкивая различные точки зрения, Франс критикует здесь не только пустые абстракции, но и господствовавший в те годы позитивистский научный метод, ограничивавший познание простой регистрацией фактов.
В третьей книге, «Прогулках Пьера Нозьера по Франции», проводя читателя по различным провинциям и городам, Франс сообщает множество исторических, археологических и географических сведений и излагает древние легенды, причудливо сочетая образы античной и христианской мифологии. По «каменным страницам» города, по соборам, памятникам и курганам он пытается воскресить историю тех или иных провинций и полузабытые местные традиции. Главной задачей Франса (эти очерки написаны в основном еще в 1880-е и в самом начале 1890-х годов) является воссоздание психологических особенностей народа, проникновение в национальный и народный «характер». С этим и связан интерес писателя к местным поверьям и легендам; в этот период, следуя Ренану, он видел в религии своеобразный «духовный памятник», в котором нравственные свойства народа проявляются особенно ярко. Интерес к духовному развитию народа обусловил и страстную полемику писателя с французским архитектором Виоле-ле-Дюком, восстанавливавшим здания в их первоначальном виде. В исторических памятниках Франса интересует не только их первоначальный вид, но и все позднейшие перестройки, свидетельство трудов нескольких поколений. По мнению Франса, каждый город и любой памятник искусства, запечатлевший на себе духовное творчество народа, украшают отчизну и помогают «любить Францию горячей сыновней любовью».
Любовь к родной земле, ее провинциям и столице, ее истории и природе неразрывно сочетается с глубоким уважением к простым труженикам Франции. Подлинным героем книги оказывается не Пьер Нозьер, а незаметные, скромные и мужественные люди, воплотившие в себе различные черты французского национального характера. Среди них и первая няня Пьера — кроткая старушка Нанетт, и бывшая фермерша Матиас с ее беззаветной преданностью мужу, и забитый бедняк Рабиу, скверный портной и хороший человек, и старый букинист Деба, влюбленный в людей и книги и презирающий наживу, и отважные рыбаки из Сен-Валери-на-Сомме, ведущие суровую, трудовую и полную опасностей жизнь, и мрачные, упрямые бретонцы, чем-то напоминающие их родные ланды и скалы. Симпатия к людям из народа, создателям материальных и духовных ценностей, пронизывает всю книгу Франса и как бы связывает между собой отдельные ее части.
(обратно)427
В первоначальном варианте напечатано в «Univers illustre» 5 февраля 1887 г.; в окончательном виде — в «Echo de Paris» 10 мая 1898 г.
(обратно)428
Самсон — согласно библии древнееврейский силач, национальный герой. Попав в плен к филистимлянам, он спасся, унеся ворота их города Газы.
(обратно)429
Иосиф — библейский персонаж, один из двенадцати сыновей патриарха Иакова; был продан братьями в рабство и отведен в Египет, где стал первым сановником и наместником фараона.
(обратно)430
Дева из Альбы — Сабина, персонаж из трагедии Корнеля «Гораций» (1639). Альба — древний город Италии, поблизости от Рима. Указанные слова — в д. I, явл. I.
(обратно)431
Фенелон (1651–1715), Флешье Эспри (1632–1710), Массильон Жан-Батист (1663–1742) — французские богословы-проповедники
(обратно)432
… над купальней Вирсавии. — По библейской легенде, царь Давид, увидев в купальне Вирсавию, пленился ее красотой, погубил ее мужа Урию и сделал ее своей женой.
(обратно)433
Впервые напечатано в «Univers illustre» 6 февраля 1892 г.
(обратно)434
Лафатер, Иоганн-Гаспар (1741–1801) — швейцарский ученый, основатель так называемой физиогномики — искусства определять характер человека по чертам его лица.
(обратно)435
Вандомская колонна — колонна на Вандомской площади в Париже, установленная в 1806–1810 гг. в честь побед Наполеона I и сооруженная из бронзы тысячи двухсот неприятельских пушек.
(обратно)436
…«в год смерти короля»… — то есть в год смерти Людовика XVI, казненного по постановлению Конвента 21 января 1793 г.
(обратно)437
…величал спутниками Улисса. — Намек на то, что дворяне-роялисты вместе с Бурбонами во время революции находились в эмиграции и скитались подобно Улиссу (Одиссею) и его спутникам.
(обратно)438
…золоченый купол, под которым… покоится Наполеон. — 15 декабря 1840 г. останки Наполеона, доставленные с острова Св. Елены, были водворены во Дворце Инвалидов в Париже. Величественная гробница из красного мрамора была достроена в декабре 1861 г.
(обратно)439
Маленький капрал — прозвище, полученное Бонапартом после сражения при Лоди.
(обратно)440
Кран, Фер-Шампенуаз, Атис. — В сражениях при Кране (6–7 марта 1814 г.) и Атисе (9 марта 1814 г.) французская армия одержала победу над войсками союзников; при Фер-Шампенуазе (25 марта 1814 г.) французские войска потерпели поражение.
(обратно)441
Белые — роялисты; были прозваны «белыми» во время французской революции по цвету белой роялистской кокарды.
(обратно)442
Впервые опубликовано в сборнике рассказов А. Франса «Наши дети» (изд. 1887 г.). В «Пьере Нозьере» рассказы напечатаны с небольшими изменениями.
(обратно)443
Впервые напечатано в «Univers illustre» 17 мая 1890 г.
(обратно)444
Дюсотуа Жан-Пьер (1720–1800) — парижский столяр-краснодеревец. Здесь в смысле: мастер, придающий вещам лоск.
(обратно)445
Госпожа Примроз — персонаж романа английского писателя О. Гольдсмита «Векфильдский священник» (1766).
(обратно)446
Рассказ в значительной части составлен из фрагментов статей, опубликованных Франсом в «Temps» от 3 апреля 1887 г. («На набережной Малакэ») и 4 марта 1888 г. («Библиофил») и в «Univers illustre» от 3 октября 1891 г. до 14 сентября 1895 г. В полном виде напечатан в «Echo de Paris» 15 сентября и 18 августа 1896 г.
(обратно)447
Манон Флипон, по мужу Ролан (1754–1793) — жена политического деятеля времен французской революции, жирондиста; основательница политического салона, автор известных «Мемуаров»; была гильотинирована.
(обратно)448
Октав Юзан (1852–1931) — французский писатель и библиограф.
(обратно)449
Фронда — социально-политическое движение во Франции, направленное против абсолютизма (1648–1653). Во время Фронды кардинал Мазарини (фактический правитель Франции в начале царствования Людовика XIV) был вынужден дважды покинуть Париж.
(обратно)450
Этьен Балюз (1630–1718) — французский историк.
(обратно)451
Перевод М. Сизовой.
(обратно)452
Фонтен де Ребек Адольф-Шарль-Теодор (1813–1865) — французский писатель. Имеется в виду его сочинение «Литературные путешествия по набережным Парижа» (1857).
(обратно)453
Осман Эжен-Жорж, барон (1809–1891) — префект департамента Сены во время Второй империи; проводил большие работы по благоустройству Парижа.
(обратно)454
…лишило зрения старца Товию… — Имеется в виду библейская легенда о благочестивом старце Товии, потерявшем зрение от того, что ему в глаза попал воробьиный помет.
(обратно)455
Гесиод (конец VIII или начало VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт. В поэме «Труды и дни», насыщенной размышлениями и поучениями, изобразил трудолюбивого земледельца, погруженного в сельскохозяйственные работы.
(обратно)456
… какому-нибудь герою Плутарха. — «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (II в.) содержат биографии выдающихся древнегреческих и римских деятелей.
(обратно)457
Баденге — насмешливое прозвище Наполеона III.
(обратно)458
«Победы и завоевания» (полное название «Победы и завоевания французов») — многотомное издание, публиковавшееся во Франции в 1817–1829 гг.; посвящено главным образом наполеоновским войнам.
(обратно)459
Амедей Эннекен, Луи де Роншо, Эдуард Фурнье, Ксавье Мармье — французские ученые и писатели XIX в.
(обратно)460
Никола Депрео (Буало, 1636–1711) — французский поэт, теоретик классицизма. Франс имеет в виду герои-комическую поэму Буало «Налой» (песнь II).
(обратно)461
Галликанство — религиозно-политическое направление во Франции XIII–XVIII вв., представители которого требовали ограничения прав папской курии по отношению к французской католической церкви и предоставления государственной власти права вмешиваться в церковные дела. Ватиканский собор 1870 г., провозгласивший догмат о папской «непогрешимости», решительно осудил галликанство.
(обратно)462
Имя Деба — от франц. «bas» (низкий).
(обратно)463
…мирты Вергилия… — По представлениям древних, в Елисейских полях, где пребывали души умерших, росли миртовые деревья. Елисейские поля описаны Вергилием в «Энеиде».
(обратно)464
«Гофолия» — трагедия Расина (1691).
(обратно)465
Частично напечатано в «Univers illustre» 7 марта 1885 г. и целиком — в «Echo de Paris» 15 февраля 1893 г.
(обратно)466
Вулкан — у древних римлян бог огня и покровитель кузнечного дела; согласно мифу был уродливым и хромым.
(обратно)467
«Заира» (1732) — трагедия Вольтера, обличающая христианский фанатизм. Действие ее происходит в эпоху крестовых походов. Герой трагедии, иерусалимский султан Оросман, ослепленный ревностью, убивает свою возлюбленную Заиру и кончает жизнь самоубийством.
(обратно)468
Вилардуэн (ок. 1150 — ок. 1212) — французский полководец, участник четвертого крестового похода, описанного им в хронике «Завоевание Константинополя».
(обратно)469
Саладин (Салах-ад-Дин, 1138–1193) — султан Египта и Сирии, успешно боровшийся с крестоносцами в Палестине во время третьего крестового похода.
(обратно)470
Герцогиня Беррийская (1798–1870) — мать графа Шамбора, претендента на французский престол, пытавшаяся в 1832 г., в период Июльской монархии, поднять роялистский мятеж («шуанерию») в Вандее.
(обратно)471
Мезон Никола-Жозеф (1771–1840) — маршал Франции, в 1830 г. вставший на сторону Луи-Филиппа Орлеанского. Конвоировал отрекшегося от престола Карла X до порта Шербура, откуда бывший король отправился в изгнание.
(обратно)472
Конде Луи-Жозеф де Бурбон (1736–1818) — один из руководителей контрреволюционных эмигрантов, организовавший в Кобленце роялистскую армию.
(обратно)473
Переработанный фрагмент из рассказа Франса «Граф Морен, депутат» (1886). В настоящем виде впервые напечатан в «Temps» 17 апреля 1892 г.
(обратно)474
Клеманс Изор — знатная дама, завещавшая, по преданию, в конце XV в. свое состояние Академии искусств в Тулузе и тем способствовавшая ее расцвету.
(обратно)475
Первоначальный вариант напечатан в «Univers illustre» 7 июня 1884 г.; в полном виде опубликовано в «Annales politiques et litteraires» 6 декабря 1891 г. («Два друга, правдивая история») и в «Univers illustre» 25 апреля 1896 г.
(обратно)476
Ризенер Луи-Антуан-Леон (1808–1878) — французский живописец.
(обратно)477
Велледа (I в.) — галльская жрица, персонаж поэмы Шатобриана «Мученики». Мраморная статуя Велледы в Люксембургском саду — произведение французского скульптора Мендрона (1839).
(обратно)478
…соединял Анаксагора, Будду, Зороастра, Христа, Джордано Бруно и Барбеса. Анаксагор (ок. 500–428 до н. э.) — древнегреческий философ, непоследовательный материалист; Зороастр — мифический основатель религии древнего Ирана; Барбес Арман (1809–1870) — французский политический деятель, участник революции 1848 г.
(обратно)479
Деманжа Жозеф-Шарль (1820–1896) — французский юрист, с 1852 г. профессор Парижского университета.
(обратно)480
Гамбье — фабрикант, изготовлявший особого рода курительные глиняные трубки, носящие его имя.
(обратно)481
Веронезе (Паоло Кальяри, 1528–1588) — выдающийся итальянский живописец венецианской школы, картины которого отличаются богатым колоритом.
(обратно)482
Впервые напечатано в «Echo de Paris» 3 января 1899 г.
(обратно)483
Арман Каррель (1800–1836) — французский публицист и историк-либерал, один из основателей политической газеты «Националь». Был убит на дуэли журналистом Э. де Жирарденом.
(обратно)484
«Глоб» — буржуазно-либеральный журнал, основанный во Франции в 1824 г. и вплоть до 1830 г. находившийся в оппозиции к правительству Бурбонов.
(обратно)485
…жилеты а-ля Марат… — В 1904 г., включая «Онезима Дюпона» в сб. «Кренкебиль», Франс заменил эти слова выражением: «…жилеты а-ля Робеспьер».
(обратно)486
Шуазель Этьен-Франсуа, герцог (1719–1785) — французский политический деятель, министр иностранных дел при Людовике XV с 1758 по 1770 г.
(обратно)487
Четыре первых отрывка — фрагменты из статьи Франса «Фруктовый сад» («Echo de Paris», 19 марта 1895 г.). «Я только что узнал…» — фрагмент из рецензии Франса на роман Поля Маргерита «Сила вещей» («Temps», 5 июля 1891 г.). «Сегодня утром я завтракал…» и диалог «Арист, Полифил и Дриас» — фрагменты из глав «Современной истории», не вошедших в окончательное издание этого романа («Застольная беседа» и «Речи без адреса» — «Echo de Paris» 17 января 1899 г. и 29 марта 1898 г.). В газетной редакции роли Ариста, Полифила и Дриаса исполняли герои «Современной истории» — профессор Бержере, Карло Аспертини и Мазюр. Книга Плутарха, которую читает Пьер Нозьер, — «Сравнительные жизнеописания».
(обратно)488
Габриэль Легувэ (1764–1812) — французский поэт; в поэме «Достоинства женщин» (1801) воспевает добродетельных и самоотверженных женщин.
(обратно)489
Кондильяк Этьен Бонно де (1715–1780) — французский философ-сенсуалист. Франс называл себя «учеником старого Кондильяка».
(обратно)490
Фруассар Жан (ок. 1337 — после 1404) — французский историк-летописец, описавший в своей «Хронике» события 1325–1400 гг.
(обратно)491
…французы… проявили на Востоке свою силу и заботу о правосудии. — Иронический намек на завоевательные войны и колониальную политику Франции в период Второй империи.
(обратно)492
Гизо Франсуа (1787–1874) — французский историк и государственный деятель, отличавшийся замечательным красноречием.
(обратно)493
Ремюза Шарль (1797–1875) — французский философ и политический деятель.
(обратно)494
…акадийцев или атлантов… — Акадийцы — древнейший народ в Месопотамии, культура которого предшествовала вавилонской; атланты — жители сказочного материка Атлантиды, находившегося, по древним преданиям, в Атлантическом океане и погрузившегося на дно моря.
(обратно)495
Эмпедокл из Агригента (490–430 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.
(обратно)496
Частично напечатано в «Univers illustre» 15 сентября 1883 г. и целиком — в «Echo de Paris» — 11 августа 1896 г.
(обратно)497
…первых королей-монахов третьей династии… — то есть династии Капетингов, основанной Гуго Капетом и правившей во Франции с 987 по 1328 г.
(обратно)498
…последними вступили в этот священный союз… — Бурбоны, боковая ветвь Капетингов (1589–1848).
(обратно)499
Амио Жак (1513–1593) — французский ученый-эллинист и переводчик античных писателей; своим переводом «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха (1559) способствовал развитию французского литературного языка и стиля.
(обратно)500
Сен-Симон Клод-Анн, маркиз (1743–1819) — французский фельдмаршал. Во время революции эмигрировал в Испанию, в 1808 г. сражался под Мадридом с французскими войсками и был взят в плен; по распоряжению Наполеона, смертный приговор ему был заменен тюремным заключением. С падением Наполеона возвратился в Испанию, где получил титул герцога.
(обратно)501
…проклятый порох был изобретен раньше, чем замок успели достроить. — Феодальный замок Пьерфон, воздвигнутый в XI в., достраивался после 1390 г., когда он перешел во владение герцога Людовика Орлеанского, брата французского короля Карла VI. В Европе порох был впервые применен англичанами в 1346 г. (битва при Креси). Пушки Круппа изготовлялись с 1846 г.
(обратно)502
…Артура, Александра Македонского, Готфрида Булонского, Иисуса Навина, Гектора и Иуды Маккавея. — Артур — легендарный король бриттов V–VI вв., изображенный в средневековом цикле рыцарских романов «Круглого стола»; Готфрид Бульонский (1061–1100) — герцог Нижней Лотарингии, один из вождей первого крестового похода, первый король Иерусалима (1099); Иисус Навин — по библейской легенде, вождь евреев после смерти Моисея, приведший их в землю Ханаанскую (Палестину); Гектор — один из главных персонажей «Илиады», троянский герой; Иуда Маккавей (II в. до н. э.) — иудейский национальный герой, возглавивший в 160-е годы движение за политическую самостоятельность Иудеи.
(обратно)503
Виоле ле Дюк Эжен-Эмманюэль (1814–1879) — французский архитектор; реставрировал архитектурные памятники средневековья (Собор Парижской богоматери, замок Пьерфон в 1858–1862 гг. и др.), производя при этом их полную реконструкцию.
(обратно)504
Впервые напечатано в «Temps» 14 августа 1887 г.
(обратно)505
Пикар Луи-Бенуа (1769–1828) — французский комедиограф и романист. В комедии «Городок» (1801) изобразил парижанина Дероша, попавшего со своим другом Делилем в маленький провинциальный город и ставшего здесь жертвой мещанских интриг.
(обратно)506
Во время Столетней войны городку пришлось многое претерпеть… — Во время Столетней войны (1337–1453) между Англией и Францией за французские земли, захваченные Англией (с XII в.) и Фландрией, город Вернон в течение тридцати лет находился под властью англичан (1419–1449).
(обратно)507
…прекрасная и гордая Диана… — героиня Вальтера Скотта носит имя Диана Вернон.
(обратно)508
Вильгельм I Завоеватель (1027–1087) — герцог Нормандии, в 1066 г. высадился с войском в Британии, одержал победу над англосаксами и их королем Гарольдом II и стал английским королем.
(обратно)509
…богиню, искавшую свою дочь Прозерпину… — Согласно античному мифу Прозерпина (греч. Персефона), дочь богини земледелия Цереры (греч. Деметры), была похищена богом подземного царства Плутоном (греч. Аидом).
(обратно)510
Перевод М. Сизовой.
(обратно)511
Роллон (ум. 931) — вождь нормандских пиратов, первый герцог Нормандии.
(обратно)512
Петр Пустынник (ок. 1050–1115) — один из вдохновителей первого крестового похода. Никея была захвачена крестоносцами в 1097 г., Иерусалим — в 1099 г.
(обратно)513
Белиль Шарль-Луи-Огюст, герцог (1684–1761) — французский полководец. Франс имеет в виду его отступление из-под Праги (1742) во время войны за австрийское наследство.
(обратно)514
Барбье Эдмон-Жан-Франсуа (1689–1771) — автор подневных записок о царствовании Людовика XV, напечатанных в 1847–1849 гг.
(обратно)515
Перевод М. Сизовой.
(обратно)516
Ламбаль Мари-Тереза-Луиза (1749–1792) — приближенная королевы Марии-Антуанетты; во время революции была убита в тюрьме Лафорс. Ее голову носили по улицам на пике.
(обратно)517
Сен-Валери-на-Сомме Впервые напечатано в «Temps» от 15 до 29 августа 1886 г.
(обратно)518
Пащенок — прозвище Вильгельма I Завоевателя, являвшегося незаконным сыном нормандского герцога Роберта Великолепного.
(обратно)519
Хильдеберт II (570–596) — король франкского государства Австразии и Бургундии.
(обратно)520
Гуго Капет (ок. 938–996) — граф Парижский, первый французский король (с 987 г.) династии Капетингов.
(обратно)521
Греческая поэтесса — Сафо (первая половина VI в. до н. э.), жила на острове Лесбос.
(обратно)522
Протей — в греческой мифологии морское божество, старец, менявший свой образ и превращавшийся по желанию в различных животных и чудовищ.
(обратно)523
…по свидетельству Данте, в аду карают дыханием бури. — В своей поэме «Божественная Комедия» Данте поместил грешников, предававшихся при жизни сладострастию, во второй круг ада, где их терзал адский вихрь.
(обратно)524
«Тебе, бога, хвалим» (лат.).
(обратно)525
«Радуйся, звезда морей» (лат.).
(обратно)526
…Поликрат бросил перстень в море… — По преданию, правитель острова Самоса Поликрат (ок. 537–522 до н. э.) бросил в море ценный перстень, тревожась за свое счастье и желая умилостивить богов. Море отвергло его дар.
(обратно)527
Фонтэн Пьер-Франсуа-Леонар (1762–1853) — французский архитектор, часто работавший совместно с Шарлем Персье (1764–1838).
(обратно)528
Витрувий (I в. до н. э.) — древнеримский архитектор, сочинение которого «Десять книг об архитектуре» в эпоху Возрождения служило руководством для строителей.
(обратно)529
…Пьера Шамбижа и Жана Гужона… — Шамбиж Пьер (ум. 1544) — французский архитектор, принимавший участие в создании дворца Фонтенебло. Жан Гужон (ок. 1510 — ок. 1567) — французский скульптор и архитектор, участвовавший в оформлении Лувра.
(обратно)530
Дидрон Адольф-Наполеон (1806–1867) — французский археолог.
(обратно)531
Иона — древнееврейский пророк; согласно библейскому преданию, за неповиновение богу был проглочен китом, в чреве которого пребывал трое суток.
(обратно)532
Впервые напечатано в «Temps» 14 и 21 августа 1892 г.
(обратно)533
…возомнил себя милосердным самаритянином. — Намек на евангельскую притчу о милосердном человеке из Самарии, который помог раненому путнику, в то время как двое других равнодушно прошли мимо.
(обратно)534
Домреми — поселок, в котором родилась Жанна Д'Арк.
(обратно)535
Авзоний (ок. 310–395) — древнеримский ритор и поэт, слагавший преимущественно одностишия и двустишия.
(обратно)536
…изображает святого Антония и сопутствующего ему кабана. — По преданию, св. Антоний, удалившись в пустыню в знак смирения, водил с собою свинью.
(обратно)537
Герцогиня Ангулемская (1778–1851) — дочь Людовика XVI, жена сына Карла X.
(обратно)538
Дедал — персонаж древнегреческой легенды, считался изобретателем ремесел и искусств. Ему приписывались древнейшие образцы греческого искусства.
(обратно)539
Синезий (ок. 370— ок. 413) — епископ в г. Птолемаиды (Сирия), разделявший языческие верования.
(обратно)540
… нужно было спасать отечество. — В 1686 г., в связи с отменой Людовиком XIV Нантского эдикта о веротерпимости, Австрия, Испания, Швеция и ряд германских принцев образовали так называемую Аугсбургскую лигу (к которой вскоре присоединилась и Англия) и объявили Франции войну, продолжавшуюся вплоть до 1697 г. В 1792 г. Французская республика сражалась с войсками контрреволюционной коалиции (Австрия и Пруссия), стремившейся восстановить во Франции феодально-абсолютистские порядки.
(обратно)541
…дочерям Мадиана и Моава… — Имеются в виду библейские легенды о месопотамском волхве Валааме и о царе Соломоне, обращенном своими чужестранными наложницами в языческую веру.
(обратно)542
…был искуплен той, кому архангел сказал: «Радуйся!» — то есть богородицей.
(обратно)543
На старофранцузском языке «liesse» означает радость.
(обратно)544
Впервые напечатано частями в «Temps» 3 августа 1892 г. и с 26 июля до 9 августа 1891 г.
(обратно)545
Дольмен — культовое сооружение неолитической эпохи: два вертикально поставленные огромные камня, на которые горизонтально положен третий камень. Менгиры — отдельно стоящие вертикальные камни.
(обратно)546
Древний бог — Океан (ант. миф.).
(обратно)547
Бризе Огюст (1806–1858) — французский поэт, писавший о бретонских нравах и пейзажах.
(обратно)548
Перевод М. Сизовой.
(обратно)549
Матушка Гусыня. — Волшебные сказки Франции народ приписывал Матушке Гусыне. Сборник волшебных сказок, составленный Ш. Перро (1697), носит название: «Сказки Матушки Гусыни».
(обратно)550
Аристарх (ок. 217–145 до н. э.) — древнегреческий филолог, комментировавший тексты греческих писателей, в частности Гомера.
(обратно)551
Каинов и Агасферов. — По библейскому мифу Каин, убивший своего брата Авеля, был в наказание обречен на непрерывные скитания, так же как Агасфер, прогнавший Иисуса от своего дома.
(обратно)552
В своем методическом и глубоком исследовании «Религия галлов» г-н Александр Бертран твердо установил, что народы, оставившие после себя дольмены, ничего общего не имеют с кельтами. Но здесь речь идет не об этнографии. Мы ограничиваемся общим обзором культа усопших в Бретани, где несколько народностей наслаивались одна на другую. Г-н Александр Бертран совершенно справедливо замечает: «В ходе своего развития религии вбирают в себя новые элементы, которые их омолаживают и видоизменяют, но никогда полностью не освобождают от прошлого». «Это замечание особенно применимо к тем странам, где население, как, например, в Галлии, состоит из нескольких следующих один за другим разнообразных наслоений завоевателей и поселенцев, народностей различных религиозных взглядов, каждая из которых чтила свое божество и старалась его культ обратить в общенациональную религию, а поскольку это не всегда бывало легко, то поклонение этому божеству сохраняли либо в семье, либо в племени» (указ. соч., стр. 215). — Прим. автора.
(обратно)553
Абеляр Пьер (1079–1142) — средневековый французский философ, предшественник гуманистов.
(обратно)554
Мортийе Габриэль де (1821–1898) — французский археолог, автор общепринятой периодизации каменного века.
(обратно)555
Корнелий от франц. «corne» — рог.
(обратно)556
Колумелла (I в.) — древнеримский писатель, автор трактата «О сельском хозяйстве».
(обратно)557
Святилище (лат.).
(обратно)558
Поликсена. — По позднейшим (послегомеровским) сказаниям, Ахилл пожелал вступить в брак с троянкой Поликсеной, но был убит ее братом Парисом. По возвращении из Трои греки, чтобы успокоить тень Ахилла, принесли Поликсену в жертву богам.
(обратно)559
Рюйтер (1607–1676) — голландский адмирал, участник войны между Голландией и Францией в 1670-е годы.
(обратно)560
Перевод Ю. Александрова.
(обратно)561
Святая лестница (итал.).
(обратно)562
Субиз Бенжамен де Роган (1583–1642) — один из вождей французских протестантов, сражавшихся с королевскими войсками.
(обратно)563
Перевод М. Сизовой.
(обратно)564
Сборник «Клио»(Клио — муза истории (греч. миф.).) был опубликован 11 ноября 1899 г. (с датой 1900 г.), но пять исторических новелл, составляющих книгу, появились в различных периодических изданиях уже в 1893–1897 гг.
«Кимейский певец» был напечатан в «Temps» 31 декабря 1895 г., в «Cosmopolis» в январе 1896 г. (№ 1), а затем в «Revue pour les Jeunes Filles» от 20 февраля 1896 г. (№ 18). «Комм, вождь атребатов» первоначально печатался главами в шести номерах «Echo de Paris» (от 28 сентября до 16 ноября 1897 г.), причем каждая глава носила особое название («История галльского вождя», «Галльская история» и др.), а самое разделение повести на главы не вполне совпадало с ее делением в сборнике «Клио». Новелла «Фарината дельи Уберти» была впервые напечатана в «Temps» 29 апреля 1896 г., новелла «Король пьет» — в той же газете 8 января 1893 г. и под названием «Крещенский король» — в «Echo de Paris» 7 января 1896 г. Последняя новелла сборника «Мюирон» появилась в «Cosmopolis» в мае 1897 г. (№ 17) и под названием «Вандемьер VIII года» — в «Echo de Paris» 14 сентября 1897 г.
В отличие от «Колодезя святой Клары» новеллы «Клио» не объединены какой-либо одной эпохой. Франс переносит читателя из гомеровской Греции в Галлию времен римских завоеваний и от средних веков к эпохе Наполеона. Тем не менее сборник целостен — новеллы связаны едиными историческими интересами Франса, единой трактовкой исторического материала.
Исторические темы давно привлекали Франса, однако его взгляд на историю непрерывно менялся в связи с общей эволюцией его мировоззрения.
Вплоть до начала 1890-х годов Франс считал невозможным постичь объективные закономерности истории. Историческая наука представлялась ему такой же относительной и субъективной, как и любая другая отрасль знания, — скорее искусством, чем наукой. Франс полагал, что историк не может познать ни истинной связи между фактами, ни истинных причин событий; он воссоздает при помощи воображения, руководствуясь собственными своими желаниями и потребностями, психологический облик общества и индивида прошедших эпох. Подобно Тэну и прежде всего Ренану, Франс считал историю проблемой психологической. В своих исторических произведениях он и пытался с помощью воображения, «вживания» в эпоху воскресить особый психологический мир, понятия, верования, нравы давно умерших людей. При этом психология его героев отнюдь не являлась психологией социальной. Социальные отношения эпохи оставались, как правило, вне поля его зрения.
С начала 1890-х годов история становится для Франса не только психологической, но и общественной проблемой. В произведениях куаньяровского цикла, в «Колодезе святой Клары» появляется социальная критика, а действие развивается на широком общественном фоне. Книги проникнуты подлинным сочувствием к бесправным, угнетенным низам. Франса интересуют социальные отношения эпохи, человек в его социальной обусловленности. В сборнике «Клио», создававшемся в середине 1890-х годов, эти новые интересы Франса проявляются еще более отчетливо.
Как и в прежних своих произведениях, Франс пытается воссоздать в новеллах «атмосферу» изображаемой эпохи. В предисловии к «Кимейскому певцу» он называет свой метод критическим воображением, почти интуицией. Избегая архаических терминов и специальных «ученых» слов, Франс как бы сам переносится в те отдаленные времена, хочет стать на точку зрения прежних людей, понять их чувства и мысли, не похожие на сознание современного человека. Но «вживаясь», как прежде, в психологию своих героев, Франс связывает ее теперь и с их социальным бытом. Персонажи «Клио» определены характером общественного строя и своим положением в жизни. Исторические детали помогают восстановить эти прошлые нравы и давно забытый социальный быт.
Новелла Кимейский певец воскрешает образ гениального аэда, одного из создателей «Илиады». «В этой новелле автор пытался нарисовать душу одного из старых аэдов, сложивших песни, которые долго были разрознены и из соединения которых возникла „Илиада“, — писал Франс в „Обращении к молодым девицам“ („Revue pour les Jeunes Filles“), объясняя замысел своего произведения. — Их жизнь была сурова, а мысль проста. Почти целые дни проходили у них в поисках пищи. Они не представляли себе ничего более прекрасного, чем приготовление трапезы. В то время пищу еще не умели варить. Люди запрягали лошадей, но искусство верховой езды было им незнакомо. Аэд не умел писать. Он никогда не видал ни картины, ни статуи. Вот почему прекрасную девушку он сравнивал с пальмой. Но племя, к которому он принадлежал, было искусным и чувствовало красоту… Он жил в эпоху, когда „Одиссея“ еще не была создана. Поэтому не удивляйтесь, что герои этой новеллы лишь очень смутно представляют себе странствия Улисса и даже не знают, была ли Пенелопа верной супругой.
Если учесть суровость эпохи, то мой старый кимейский певец не покажется грубым».
Не столкновение идей и философских теорий, а борьба реальных общественных сил оказывается в центре внимания Франса. Он специально избирает периоды бурных общественных событий. Действие его новелл происходит во время завоеваний, междоусобных войн и гражданских волнений. В «Клио» трудно увидеть намеки на современную французскую жизнь, но несомненно, что выбор сюжетов и самая их трактовка были подсказаны Франсу его современными интересами. Публикуя в «Echo de Paris» один из отрывков новеллы «Комм, вождь атребатов», Франс присовокупляет к нему комментарий профессора Бержере и тем самым как бы подчеркивает тесную связь своих исторических новелл с злободневной и остро политической «Современной историей», начатой им в эти же годы. Сборник «Клио» Франс не случайно посвятил Эмилю Золя, которого он горячо поддерживал в деле Дрейфуса. Вступая на путь общественного борца, он увидел и в прошлом арену жестоких битв, столкновение острых социальных противоречий.
«Комм, вождь атребатов» — это повесть о завоевании Галлии войсками Цезаря и сопротивлении варваров римскому владычеству. Франс использовал для ее создания «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря, включая восьмую книгу, составленную Авлом Гирцием. Франс понимает, что жестокий «римский мир», который Цезарь силой и хитростью насаждал в Галлии, был все же явлением исторически прогрессивным, так как римляне являлись представителями более высокой цивилизации. В повести нет ни малейшей идеализации варварских племен. Атребаты, морены и их собратья с Темзы бритты невежественны и жестоки, их инстинкты неистовы и грубы, это в сущности полузвери. И самым коварным и жестоким из них является Комм, вождь атребатов, вступивший в союз с Цезарем. Но в этом хитром, звероподобном атребате живет в то же время любовь к свободе, и именно в этом — его оправдание. Звероподобные, жестокие варвары оправданы еще большей жестокостью цивилизованных римлян и своим мужественным сопротивлением. В сострадании к варварам и их судьбе — нравственный пафос новеллы. В рассказе о далеких галльских событиях отразилось растущее возмущение Франса колониальной экспансией Третьей республики, его сочувствие современным порабощенным народам.
Уже в самом заглавии новеллы «Фарината дельи Уберти, или Гражданская война» подчеркнута тема социальной борьбы. Франс воскрешает образ Фаринаты дельи Уберти из «Божественной Комедии» и всю атмосферу политических страстей, получивших свое отражение в поэме Данте («Ад», песнь 10). Имел ли право Фарината, даже если бы он действовал ради блага родного города, пойти на предательство по отношению к флорентинцам, вероломно заманить их в долину Арбии и столкнуть с германскими войсками? Обаяние Фаринаты — в его искренности и страсти, в его мужестве и презрении к загробной жизни. Ад действительно «вправе им гордиться». Залив Арбию флорентинской кровью, Фарината затем отстоял свой город в совете гибеллинов и спас его от разрушения. И все же действия Фаринаты преступны. Его вина не столько в низких средствах, в предательстве и вероломстве, сколько в порочной и ложной цели. Он проливает кровь флорентинцев не ради свободы Флоренции и не ради счастья итальянского народа, — с точки зрения Франса, лишь эти великие цели смогли бы оправдать пролитие крови; Фарината защищает интересы гибеллинского дворянства, принимая их за интересы Флоренции, и открывает дорогу чужеземной власти. Победа его партии принесла бы народу новые неисчислимые страдания. Еще в «Суждениях господина Жерома Куаньяра» Франс четко определил свое отношение к гражданским войнам: восстания народа, ужасные, как всякие войны, порождены необходимостью — безвыходным положением, крайней нищетой народа; «бунт привилегированных», хотя и имеет больше шансов на успех, не оправдан этой необходимостью. Борьба Фаринаты — это бунт привилегированных. Его любовь к Флоренции — любовь эгоистическая. Он обречен историей и осужден Франсом.
Новелла Король пьет приоткрывает страницу из бурной французской истории XV в. Междоусобные войны феодальных клик — бургундцев и арманьяков — истощают французские земли и разоряют народ. В смутной атмосфере Столетней войны маленький клирик из Труа еще плохо разбирается в борьбе партий. Он всей душой стоит за арманьяков, считая их патриотами — борцами против английского вторжения. Но его ненависть к захватчикам-англичанам и презрение к служителям церкви, равнодушным к судьбам французского народа, дают благодатные плоды: Пьероле вырастает в настоящего патриота и в войсках Жанны д'Арк сражается за свободу родины.
Новелла Мюирон воскрешает события 1799 г.: Бонапарт возвращается из египетского похода и мечтает, свергнув Директорию, захватить власть в свои руки. Для создания этой новеллы Франс использовал «Мемуары» адъютанта Бонапарта — Лавалета. Еще в «Красной лилии», устами писателя Ванса, Франс пытался объяснить успех Наполеона активностью и одновременно посредственностью его натуры. В таком же плане он изобразил Бонапарта в книге «Колодезь святой Клары». В сборнике «Клио» тема Наполеона, постоянно интересовавшая Франса, получает наиболее полное выражение. Бонапарт предстает здесь как трезвый политик, человек действия, совершенно неспособный к отвлеченному умозрению. Он рассудителен и расчетлив, но он живет настоящей минутой, не загадывая далеко вперед. Его рассказы о привидениях не случайно занимают такое важное место в новелле — вождь управляет чернью, лишь разделяя ее представления и суеверия, утверждает сам Бонапарт; он обязан идти за общественным мнением, зависеть от преходящих событий и слепо подчиняться обстоятельствам. Отвлеченные идеи, по его мнению, правителю не нужны. Франс также считал, что чрезмерное теоретизирование мешает действию. Но вместе с тем уже в эти годы он был убежден, что подлинно плодотворная государственная деятельность не может осуществляться в отрыве от мысли. И рисуя военный гений Наполеона, Франс в то же время подчеркивает его примитивность как человека. По сравнению с окружающими его учеными будущий консул кажется ребячливым и почти смешным. Франс вновь обратится к теме Наполеона и в «Острове пингвинов» и в задуманном им романе о возвращении императора с острова Эльба (сохранился лишь набросок этого романа), но уже в ином плане и совсем с другими целями.
В 1923 г. появилось новое издание «Клио», отпечатанное у Кальман-Леви еще в 1921 г. Франс внес лишь некоторые незначительные изменения в новеллы «Кимейский певец» и «Комм, вождь атребатов». В этом новом, исправленном издании сборник был назван «По призыву Клио» и напечатан вместе с «Рассказами Жака Турнеброша». Все последующие французские издания «Клио» воспроизводят издание 1923 г.
(обратно)565
…стрел сына Латоны. — Согласно мифу у бога Аполлона, сына Зевса и богини Латоны, был серебряный лук с золотыми стрелами, которыми он поражал своих врагов. «Стрелы Аполлона» — иносказательно — жаркие солнечные лучи.
(обратно)566
…карийская рабыня… — рабыня из древнего государства Карии (юго-западная часть Малой Азии). С X в. до н. э. в Карию стали прибывать греческие переселенцы.
(обратно)567
«Единоборство Патрокла с Сарпедоном» — эпизод из 16-й песни «Илиады».
(обратно)568
…делил на островах ложе с волшебницами… — В «Одиссее» рассказывается, что во время своих странствий Одиссей провел семь лет на острове Огигии у волшебницы нимфы Калипсо и год на острове Эее, где был возлюбленным волшебницы Кирки (Цирцеи).
(обратно)569
«Ссора царей, которая причинила большие беды ахейцам» — Имеется в виду ссора Ахилла с Агамемноном, описанная в 1-й песне «Илиады».
(обратно)570
«Бой у стены» — эпизод из 12-й песни «Илиады».
(обратно)571
«Обманутый Зевс» — эпизод из 14-й песни «Илиады». «Посольство» — эпизод из 9-й песни «Илиады». «Погребение мертвых» — эпизод из 7-й песни «Илиады».
(обратно)572
Но возвращение героя в Итаку скрыто от певцов. — Эпизоды с волшебницей Киркой (Цирцеей) и одноглазым великаном Полифемом входят в состав «Одиссеи». Согласно Гомеру Пенелопа сохраняла верность мужу в течение двадцатилетней разлуки. По возвращении из странствий Одиссей вновь стал царем Итаки. Среди греческих мифов нет сюжета о единоборстве Одиссея с сыном.
(обратно)573
Собрание царей — эпизод из 9-й песни «Илиады».
(обратно)574
Атребаты — племя в Бельгийской Галлии. Юлий Цезарь покорил атребатов в основном уже к 56 г. до н. э. Тем не менее они поддержали восстание Верцингеторикса и участвовали в сражении у стен Алесии, города племени мандубиев (52 г. до н. э.). Комм (I в. до н. э.) — атребат, которого Цезарь сделал царем атребатов (царь Коммий); в 55 г. до н. э. был отправлен им послом в Британию. В дальнейшем открыто сражался против римлян. Сдался Марку Антонию ок. 50 г. до н. э.
(обратно)575
Коммиусом-царем (лат.).
(обратно)576
…чтобы высадиться у бриттов. — Речь идет о первом походе Цезаря в Британию (55 г. до н. э.), окончившемся безрезультатно.
(обратно)577
Морены — племя, жившее на приморском побережье Бельгийской Галлии. После упорного сопротивления были покорены Цезарем, который подчинил их атребатам.
(обратно)578
Гай Волусен Квадрат (I в. до н. э.) — военный трибун Цезаря, начальник конницы. Сопровождал Цезаря в Галлию.
(обратно)579
Они были сынами одних отцов. — Британию населяли кельтские племена, связанные со своими континентальными собратьями общей религией, обычаями и языком.
(обратно)580
Орел, окруженный легионерами… — В эпоху Цезаря орел был военным значком легиона; изображение орла прикрепляли к древку.
(обратно)581
Либурны — быстроходные корабли с глубоким килем.
(обратно)582
Тревиры — племя в Бельгийской Галлии, славившееся своей конницей.
(обратно)583
Лабий Тит Атий (98–45 до н. э.) — один из легатов (ближайших помощников) Цезаря в Галлии. Впоследствии изменил Цезарю и перешел на сторону Помпея.
(обратно)584
Верцингеторикс (ок. 72–46 до н. э.) — галльский вождь из племени арвернов, возглавивший в 52 г. до н. э. всеобщее восстание галлов против Рима. Одержав крупную победу у стен арвернской столицы Герговии, был окружен войсками Цезаря в Алесии, сдался Цезарю, шесть лет спустя шел перед его триумфальной колесницей, а затем был казнен.
(обратно)585
Эдуи — галльское племя; долго придерживались римской ориентации и считались союзниками римлян, но затем присоединились к восстанию Верцингеторикса. Вирдумар (Виридомар) и Эпоредорикс младший (I в. до н. э.) — вожди эдуев, занимавшие по отношению к Верцингеториксу весьма неустойчивую позицию.
(обратно)586
Вергасиллавн (Вергасивеллавн) (I в. до н. э.) — двоюродный брат Верцингеторикса; мужественно сражался у стен Алесии, где был взят в плен римлянами.
(обратно)587
…истории, совершенно ему незнакомой… — Ниже приводятся сюжеты из древнегреческой мифологии: юная дева, приносимая в жертву героями, — Ифигения, которую отец ее Агамемнон приносит в жертву Артемиде, чтобы добиться от богини попутного ветра для греческих судов. Исступленная мать — Медея, убившая своих сыновей, чтобы отомстить покинувшему ее Ясону.
(обратно)588
Авзонские — италийские; Авзония — название юго-западной части древней Италии, ставшее поэтическим названием всей Италии.
(обратно)589
Перевод И. Гуровой.
(обратно)590
Марк Антоний (83–30 до н. э.) — римский политический деятель и полководец. С 54 г. участвовал в галльской войне в качестве легата Цезаря и квестора.
(обратно)591
Рем — один из двух легендарных основателей Рима.
(обратно)592
Венетские корабли — мощные корабли галльского племени венетов, хорошо приспособленные к местным условиям и борьбе с бурями.
(обратно)593
Омфала (ант. миф.) — царица Лидии, в рабство к которой был продан на три года легендарный герой Геркулес. Издеваясь над Геркулесом, Омфала наряжала его в женские одежды и заставляла прясть и ткать со своими служанками.
(обратно)594
Претор — в эпоху Цезаря представитель высшей судебной власти.
(обратно)595
Фарината дельи Уберти — вождь партии гибеллинов во Флоренции; гибеллины — политическая партия в Италии XII–XV вв., состоявшая в основном из феодальной знати; сторонники императорской власти Гогенштауфенов в Италии; боролись с партией гвельфов (сторонников папской власти), состоявшей преимущественно из буржуазных слоев итальянских городов.
(обратно)596
В эпиграфе приведено описание Фаринаты дельи Уберти из «Божественной Комедии». Данте поместил флорентинского гибеллина в шестой круг ада (круг еретиков), так как Фарината был откровенным атеистом, последователем Эпикура.
(обратно)597
…сыновья Каина… два фиванских рыцаря… — Согласно библейскому преданию потомки Каина, основавшего первый город, изобрели искусства и ремесла. Фиванские рыцари — персонажи греческой мифологии, сыновья царя Эдипа — Этеокл и Полиник, начавшие после изгнания отца междоусобную борьбу за власть в Фивах и наконец убившие друг друга в единоборстве.
(обратно)598
… вы сражались при Монтаперто под бельм знаменем Манфреда… — Фарината был изгнан из Флоренции гвельфами и вернулся в город после сражения при Монтаперто, у речки Арбии (1260 г.), во время которого гибеллины, поддержанные своими единомышленниками из Сиены и германскими войсками, разгромили войско гвельфов и овладели Флоренцией. Вскоре после смерти Фаринаты власть снова перешла к гвельфам, и род Уберти всегда исключался из списков изгнанников, которым разрешалось вернуться во Флоренцию. Манфред (1232–1266) — побочный сын германского императора Фридриха II, король Сицилии, глава партии гибеллинов в Италии. Неоднократно сражался с папскими войсками и был отлучен от церкви.
(обратно)599
…друга люцерийского султана… — В 1233 г. германский император Фридрих II переселил в итальянский город Люцерию (Люцеру) сицилийских арабов (сарацинов) и использовал их кавалерию в своих непрерывных войнах.
(обратно)600
Карроччо — повозка, на которой везли в сражение знамя итальянских республик.
(обратно)601
…не уготовано ли для Бокки место в аду рядом с Каином, Иудой и отцеубийцей Брутом. — Бокка дельи Абати — предатель, который поднял панику среди флорентинских войск в битве при Монтаперто, бросив наземь порученное ему знамя. Брут был, по преданию, сыном убитого им Цезаря. Данте поместил Бокку в девятый круг своего ада. Иуда, Кассий и Брут терзаются в самой глубине ада, в трех пастях сатаны. Каина в Дантовом аду нет.
(обратно)602
Знамена царя идут вперед (лат.) — первая строка церковного гимна, исполнявшегося в крестовых походах; фра Амброджо хочет сказать, что достойны похвалы только войны, ведомые во славу религии.
(обратно)603
Доменико — Доминик (1170–1221), кастильский проповедник, основатель воинствующего монашеского ордена доминиканцев (1215). Причислен церковью к лику святых.
(обратно)604
Антиох IV (II в. до н. э.) — царь Сирии; хотел искоренить иудейскую религию и заменить ее греческим культом, чем вызвал восстание в Иудее, которое подавил со страшной жестокостью, истребив, по преданию, в Иерусалиме около восьмидесяти тысяч жителей.
(обратно)605
Совет гибеллинов, созванный графом Джордано в Эмполи… — После разгрома гвельфов в долине Арбии гибеллины собрались на совещание в Эмполи (1260) и требовали разрушения Флоренции. Фарината дельи Уберти протестовал против этого предложения и спас город от разрушения. Совещание в Эмполи было созвано заместителем графа Джордано, графом Гвидо Новелло.
(обратно)606
«Человек умирает так же, как умирает животное. Свойства их одинаковы». — Фарината своими словами излагает изречение одной из книг библии — «Екклезиаста» (III, 19).
(обратно)607
…одного дня пути от Флоренции. — Во время изгнания Фарината дельи Уберти находился в Сиене.
(обратно)608
…партиями, раздиравшими королевство лилий. — Лилии — геральдический цветок в гербе французских королей; «Королевство лилий» — Франция. При безумном Карле VI принцы-регенты Франции составили две боровшиеся за власть партии: арманьяков — партию герцога Орлеанского (по имени одного из ее вождей Бернара д'Арманьяка) и бургундцев — партию герцогов Бургундских. Междоусобная война прекратилась только в 1435 г.
(обратно)609
…в славном городе Труа… где ныне англичане являются законными господами… — 21 мая 1420 г. супруга Карла VI Изабелла Баварская и герцог Филипп Смелый Бургундский подписали в Труа договор с англичанами, признававший английского короля Генриха V регентом Франции и наследником престола после смерти Карла VI. Согласно договору Генрих V вступил здесь в брак (2 июня 1420 г.) с дочерью Карла VI Екатериной Французской (1401–1438).
(обратно)610
Католическая молитва.
(обратно)611
Некоторые утверждают, что крещенское бдение должно сопровождаться постом (лат.).
(обратно)612
Никакого поста! (лат.).
(обратно)613
Бедфорд Джон, герцог (1389–1435) — брат английского короля Генриха V и регент Франции при своем племяннике Генрихе VI (род. 1421), которого приверженцы бургундской партии после смерти Генриха V (1422) признавали законным королем Франции.
(обратно)614
Гуситы — участники широкого народного движения в Чехии, направленного против чешского дворянства и немецкого католического духовенства. Названы по имени их вождя Яна Гуса, выдающегося чешского реформатора, сожженного на костре в 1415 г. Германский император Сигизмунд и папа римский организовали несколько крестовых походов против гуситов.
(обратно)615
…дофина Людовика, истинного короля Франции. — Речь идет о сыне Карла VII, будущем короле Людовике XI (1423–1483), которому во время действия повести было пять лет.
(обратно)616
…на штурм Орлеана. — Осада Орлеана, начавшаяся 12 октября 1428 г., была снята французскими войсками во главе с Жанной д'Арк 8 мая 1429 г. В том же году были взяты захваченные англичанами города Жаржо и Божанси.
(обратно)617
Валтасар. — Согласно легенде Валтасар, один из трех волхвов, пришедших поклониться Христу, был чернокожим царем Эфиопии.
(обратно)618
Лагир (ок. 1390–1444) — французский полководец, ставший на сторону Жанны д'Арк и нанесший англичанам ряд крупных поражений, в частности в битве при Патэ (18 июня 1429 г.).
(обратно)619
Лавалет Антуан-Мари (1769–1830) — адъютант Бонапарта с 1796 г. Эпиграф заимствован из главы XXI его «Мемуаров», посвященной последним месяцам египетской кампании Бонапарта 1798–1799 гг.
(обратно)620
Сен-Жан-д'Акр — французское название портового города Акка в Палестине, на Средиземном море. Весной 1799 г. Бонапарт осадил город, но взять его не смог.
(обратно)621
Сидней Смит (1764–1840) — командир английской эскадры, принудивший Бонапарта снять осаду Сен-Жан-д'Акра.
(обратно)622
…слабое и разнузданное правительство… — Речь идет о Директории (1795–1799).
(обратно)623
Гантом Оноре-Жозеф-Антуан (1755–1818) — адмирал, командовавший французскими морскими силами во время египетской кампании Бонапарта.
(обратно)624
Клебер Жан-Батист (1753–1800) — французский генерал. Во время египетской кампании командовал дивизией, после отъезда Бонапарта во Францию остался главнокомандующим в Египте и был убит одним из мамелюков.
(обратно)625
…7 фрюктидора VII года… — 24 августа 1799 г. Согласно республиканскому календарю, введенному в период буржуазной революции Национальным конвентом (24 ноября 1793 г.), фрюктидор — третий летний месяц и последний месяц календаря.
(обратно)626
Мену Жак-Франсуа (1750–1810) — генерал, который во время египетской кампании командовал дивизией, а после смерти Клебера — армией.
(обратно)627
Монж Гаспар (1746–1818) — французский математик, один из основателей Политехнической школы. В 1793 г., по призыву Комитета общественного спасения, разрабатывал новый способ производства пороха и стали. Сопровождал Бонапарта в египетский поход.
(обратно)628
Бертолле Клод-Луи (1748–1822) — французский химик; совместно с Монжем организовал производство пороха. Сопровождал Бонапарта в египетский поход.
(обратно)629
Ланн Жан (1769–1809) — генерал, впоследствии маршал. Был тяжело ранен в сражениях при Сен-Жан-д'Акре и Абукире.
(обратно)630
Мюрат Жоашен (1767–1815) — получил в египетском походе, в котором блестяще отличился, звание дивизионного генерала.
(обратно)631
Денон Доминик-Виван, барон (1747–1825) — гравер и дипломат; сопровождал Бонапарта в египетский поход. В эпоху Империи был главным директором французских музеев. Франс посвятил ему статью «Барон Денон» («Temps», 20 октября 1889 г.), которая затем была напечатана в виде предисловия к повести Денона «Завтрашнего дня не будет» (изд. 1890 г.).
(обратно)632
Костаз Луи, барон (1767–1842) — инженер, участник египетского похода.
(обратно)633
Парсеваль-Грандмезон Франсуа-Огюст (1759–1834) — поэт, участник египетского похода.
(обратно)634
… в виду Абукира… — В морском сражении при Абукире 1 августа 1798 г. английский адмирал Нельсон уничтожил французский флот.
(обратно)635
…на Аркольском мосту… — В сражении при Арколе Бонапарт разбил численно превосходящие австрийские войска (15–17 ноября 1796 г.). Бонапарт сам вел войска на штурм моста в наиболее ответственный момент боя.
(обратно)636
…имя Оссиана или Фингала. — Оссиан — легендарный кельтский бард III в., сын властителя Шотландии, витязя Фингала.
(обратно)637
«Революции» Верто, или «Жизнеописания» Плутарха. — Верто Рене Обер (1655–1735) — французский историк. Бонапарт читает наиболее известную книгу Верто «История революций Римской республики» (1719), а также «Сравнительные жизнеописания» Плутарха.
(обратно)638
…Цирцею, поднимающую… волшебную палочку. — Цирцея (Кирка), волшебница из «Одиссеи», превратила спутников Одиссея в свиней, напоив их волшебным напитком и коснувшись каждого своим жезлом (песнь 10).
(обратно)639
Мы воспроизводим эту фразу так, как она была сказана. (Прим. автора.)
(обратно)640
Лагарп Амедей-Эмманюэль (1754–1796) — генерал, отличившийся в итальянской кампании Бонапарта. Был случайно убит своими же солдатами при переправе через реку По.
(обратно)641
…в Тулоне… — В 1793 г. Бонапарт отвоевал Тулон, отданный роялистскими мятежниками англичанам.
(обратно)642
…как воины, сражавшиеся при Платеях. — Во время греко-персидских войн у города Платеи (Беотия) греческие войска разбили сухопутные силы персов (479 г. до н. э.).
(обратно)643
Минерва (рим. миф.) — богиня войны и мудрости; отождествлялась с греческой богиней Афиной.
(обратно)644
Миоллис Шарль-Франсуа (1759–1828) — французский генерал, отличился в сражении с австрийцами при Мантуе и после взятия города (1797) стал его губернатором. Позднее воздвиг здесь обелиск Вергилию, родившемуся поблизости от Мантуи.
(обратно)645
Бессьер Жан-Батист (1766–1813) — генерал, участник итальянской кампании Бонапарта; с 1804 г. маршал Франции.
(обратно)646
Нис и Эвриал — легендарные персонажи, троянские герои; их дружбу, взаимную преданность и совместную гибель во время ночного сражения воспел Вергилий в «Энеиде» (песнь 9).
(обратно)647
Эпаминонд (ок. 418–362 до н. э.) — древнегреческий полководец, прославившийся победами над спартанцами и смертельно раненный в одном из сражений с ними.
(обратно)648
«Жизнеописание Брута» — одна из биографий в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха. Цитируемое Франсом место относится к событиям 42 г. до н. э., когда римские полководцы Брут и Кассий, собрав военные силы в восточных провинциях, объединились в Малой Азии и готовились двинуться навстречу своим противникам Марку Антонию и Октавиану. При Филиппах (Македония) войска Антония и Октавиана разбили войска Кассия и Брута, который после поражения покончил жизнь самоубийством.
(обратно)649
Журдан Жан-Батист (1762–1833) — французский генерал, впоследствии маршал; в 1796–1797 гг. командовал армией, действовавшей против австрийцев по ту сторону Рейна, и потерпел поражения в столкновении с австрийскими войсками, которыми командовал фельдмаршал эрцгерцог Карл (1771–1847), сын австрийского императора Леопольда II.
(обратно)650
Жубер Бартельми (1769–1799) — французский генерал; во время итальянской кампании 1796–1797 гг. проник в Тироль и завоевал всю эту австрийскую провинцию. Очень возможно, однако, что Франс написал фамилию «Жубер» по ошибке. Вероятно, он имел в виду генерала Журдена, в Майнской армии которого, как сказано было выше, находился Демарто.
(обратно)651
Германия…. при Штокахе, Италия — при Треббии…. — 25 марта 1799 г. эрцгерцог Карл разбил Журдана при г. Штокахе, на Рейне. 18–20 июня 1799 г. в долине реки Треббии союзные русская и австрийская армии под командованием Суворова нанесли поражение превосходившей их численностью французской армии Макдональда.
(обратно)652
…наши представители убиты… — После того как французская армия под командованием Журдана, отступая, перешла через Рейн, французские представители на Раштадтском конгрессе — Робержо и Бонье — были убиты у ворот города (28 февраля 1799 г.).
(обратно)653
Вандейские мятежи — контрреволюционные, роялистские мятежи в департаменте Вандея, вспыхнувшие в 1793 г, и продолжавшиеся до 1795–1796 гг.
(обратно)654
Гош возымел такую мысль. — Речь, очевидно, идет о несостоявшемся походе генерала Лазара Гоша (1768–1797) на Париж с тем, чтобы поддержать Директорию в борьбе с роялистским большинством Законодательного корпуса (1797).
(обратно)655
…подобно Энею, пристаете к обетованным берегам. — Согласно римскому преданию, использованному Вергилием в «Энеиде», троянский герой Эней покидает Трою и, руководствуясь велением богов, приплывает в Лаций (в Италию), чтобы положить начало новому государству.
(обратно)656
17 вандемьера VIII года — 9 октября 1799 г. Ровно через месяц, 18 брюмера VIII года (9 ноября 1799 г.) Бонапарт совершил государственный переворот.
(обратно)

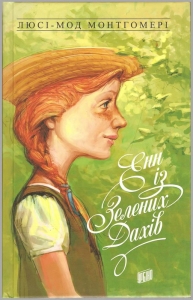

Комментарии к книге «Красная лилия. Сад Эпикура. Колодезь святой Клары. Пьер Нозьер. Клио», Анатоль Франс
Всего 0 комментариев