Предисловие
Имя индийского писателя Рабиндраната Тагора широко известно во всем мире. Прозаик и поэт, публицист и активный общественный деятель, Тагор явился одним из родоначальников прогрессивной литературы Индии.
Творчество Тагора относится к периоду конца XIX — середины XX века. Усиление господства англичан в Индии, окончательное разрушение индийской патриархальной общины, ухудшение положения многомиллионных народных масс, с одной стороны, и развитие в стране капитализма, появление новых классов — индийской национальной буржуазии и пролетариата, — с другой — таково в основном содержание этого исторического периода. В это же время растет и крепнет национально-освободительное движение индийского народа.
Для бенгальской литературы это была пора исканий, эпоха рождения новых тем, новых жанров и форм, появления новых героев.
Огромная заслуга в деле развития реалистического направления литературы Индии принадлежит Рабиндранату Тагору.
Тагор родился в Калькутте 7 мая 1861 года в состоятельной семье. Большое влияние на формирование взглядов и вкусов мальчика оказали двое его старших братьев, обладавших незаурядными литературными способностями. Благодаря им Тагор узнал и полюбил свою родную литературу. Многочисленные путешествия с отцом в Гималаи и посещения имения Тагоров на Падме также оставили неизгладимый след в душе мальчика. Во время этих странствий Тагор имел возможность увидеть многообразную, богатую красками индийскую природу, познакомиться с жизнью и бытом крестьян. За исключением путешествия в Англию в 1878 году, Тагор всю свою юность провел в Калькутте и в Шилейде, имении отца.
Тагор начал писать с пятнадцати лет. Первой его работой была «История поэта», опубликованная в журнале «Бхароти». Прекрасно зная санскрит, Тагор хорошо изучил древнюю индийскую литературу.
Как поэта его особенно привлекает вишнуитская лирика. Оптимистические мотивы поэзии вишнуизма, воспевающего радость жизни, становятся основными в творчестве молодого Тагора. В своих ранних произведениях — сборнике стихов «Вечерние песни» (1881), романе «Берег Бибхи» (1883) Тагор смело выступает против доктрины ортодоксального индуизма, проповедовавшего аскетизм, уход от мира. В этот период своего творчества наряду с работами на исторические темы Тагор обращается и к темам современности (сборники «Картины и песни» и «Диэзы и бемоли»).
С 90-х годов Тагор начинает разрабатывать новый в индийской литературе жанр рассказа. Первый рассказ «Возвращение кхока-бабу» был им написан в 1891 году. Для рассказов Тагора характерны разнообразие композиционного построения, яркая образность, живой разговорный язык. Одни из них, как «Судья», «Кабулиец», глубоко трагичны, другие («Конец») проникнуты мягким юмором, но все они правдиво рассказывают о жизни простых тружеников.
В 90-е годы Тагор основывает журнал «Шадхона», где помещаются статьи по вопросам естествознания, искусства и литературы.
В 1901 году Тагор открывает в Шантиникетоне школу, которая в 1921 году была преобразована в университет. Программа обучения в этой школе резко отличалась от программ учебных заведений, основанных англичанами. Здесь дети получали возможность глубоко изучать бенгальский язык и литературу.
Национально-освободительное движение 1905 года, связанное с проектом раздела Бенгалии, всецело захватило Тагора. Он выступает на митингах, участвует в демонстрациях протеста. Песни и стихи его пользуются огромной популярностью. Впоследствии Тагор отходит от участия в движении. В то время Тагор был сторонником реформистских путей освобождения, и размах движения пугал его.
В 1910 году Тагор создает один из своих наиболее значительных романов «Гора», в котором выступает против разобщенности индийского общества, порождаемой принадлежностью к различным религиозным сектам и течениям, говорит о необходимости отстаивания национальной независимости. Вслед за «Горой» выходит его роман «Дом и мир» (1916), посвященный движению 1905 года. Вскоре выходят его музыкальная драма «Осенний праздник» и получившие широкую известность «Воспоминания».
1928–1929 годы ознаменовались появлением еще двух романов Тагора: «Три поколения» и «Последняя поэма».
В 1930 году Тагор посетил Советский Союз. В «Письмах о России», опубликованных вскоре после возвращения на родину, Тагор пишет о глубоком впечатлении, которое произвели на него успехи молодой страны социализма.
Последнее десятилетие жизни Тагора ознаменовано развитием в его творчестве политической лирики. Великий писатель-гуманист Тагор выступает против социального и национального угнетения (поэмы «Африка», «Поклонники Будды»).
В 1941 году, будучи тяжело болен, писатель не переставал горячо интересоваться ходом войны против германского фашизма. Он до последнего часа верил в победу советского народа над фашизмом.
7 августа 1941 года Рабиндранат Тагор умер.
Наследие Тагора велико: он создал около 50 сборников стихов, более 30 поэм, более 100 рассказов, около 2000 песен, 12 романов и большое количество статей по самым разнообразным вопросам.
Роман «Крушение» был написан Тагором в 1902 году.
Ко времени создания «Крушения» Тагор был известен широкому кругу индийских читателей преимущественно как поэт и мастер рассказа.
Тагор сумел придать роману своеобразную поэтическую окраску, вдохнуть в него много свежих и оригинальных мыслей, поставить ряд острых социально-бытовых проблем.
События, описываемые в «Крушении», относятся ко второй половине XIX века, то есть к периоду, когда укрепление капитализма в Индии привело к завершению консолидации бенгальцев в нацию, вызвало ломку старых феодальных общественных отношений.
В начальный период развития капитализма в Индии буржуазная интеллигенция являлась выразителем передовых, прогрессивных идей. Ее представители выступали против разного рода пережитков: обычая самосожжения вдов, ранних браков, жестоких кастовых ограничений, строгой обрядности. В борьбе с этими пережитками деятельное участие приняло «Брахмо Самадж» — общество, основанное в 1828 году крупнейшим просветителем Бенгалии Рам Мохон Раем. Формально это общество носило религиозный характер: триаде богов индуизма, в которую входят Брахма — бог-создатель, Вишну — бог-хранитель, Шива — бог-разрушитель, противопоставлялась вера в единого, всевышнего бога Брахму. В первоначальный период деятельности общества борьба «Брахмо Самадж» с идолопоклонством, обрядностью, кастовыми ограничениями безусловно сыграла положительную роль, хотя велась не всегда последовательно и далеко не всеми членами общества.
В числе активных участников общества были дед и отец Тагора. Сам Тагор довольно критически относился к деятельности «Брахмо Самадж», ибо в его время оно чрезвычайно деградировало и утратило прогрессивные традиции, а многие его члены превратились в ханжей и лицемеров. Отношение Тагора к подобным деятелям «Брахмо Самадж» нашло известное отражение в романе.
Тагор назвал роман — «Крушение», и совершенно очевидно, что в этом названии он символизировал ломку старого жизненного уклада Бенгалии середины XIX века.
Обручение двух пар — Ромеша и Сушилы, Нолинакхи и Комолы — совершалось согласно старому индийскому обычаю: молодые люди не были знакомы до свадьбы, не любили друг друга и, вступая в брак, лишь подчинялись воле старших. Обе семьи должны были бы строить свою жизнь на той же основе, что их отцы. Но во время бури на реке гибнут участники свадебных торжеств, и автор соединяет оставшихся в живых юношу и девушку, ошибочно считающих себя мужем и женой. Эти двое поставлены в совершенно необычные условия: у них нет прошлого — оно потонуло вместе с погибшими во время бури; у них нет родных, нет дома свекра (так принято называть дом родственников мужа, где обычно селились молодые). Автор предоставил Ромешу и Комоле полную возможность близко узнать друг друга и строить жизнь по собственному усмотрению.
Давая такую завязку, Тагор тем самым ставит вопрос о том, как именно должны сложиться отношения в индийской семье при новых условиях жизни.
На первый взгляд может показаться, что в разрешении этого вопроса автор всецело оказался во власти традиции. Действительно, после ряда сложных коллизий Тагор все-таки соединяет Комолу с Нолинакхой — человеком, чьей законной женой она и была. Но концовка романа таит в себе и иной смысл.
Согласно индийской патриархальной морали, пребывание женщины под кровом постороннего мужчины считалось величайшим позором: после этого двери в дом мужа оказывались закрытыми для нее навсегда. Тагор же показывает, как сама жизнь сметает старые законы и вековые привычки.
Развязка романа оставляет уверенность в том, что путы обычаев слабеют и рвутся: стараниями самих героев «опозоренная» Комола находит счастье в доме своего супруга. Вместе с тем, решая судьбу Комолы, Тагор объективно выступает против принципа Кармы[1], которого придерживается ортодоксальный индуизм.
В «Крушении» писатель объективно показал растущий конфликт между традициями и действительной жизнью.
В романе проводится мысль, характерная для многих поэтических и прозаических произведений Тагора: разоблачение всякого рода религиозной схоластики, аскетизма и противопоставление этому собственной религии, девизом которой является — любовь и уважение людей друг к другу.
«Я не считаю, что выполнение каких-то тайных ритуалов дает особое преимущество, — говорит автор словами одного из героев романа, — скорей наоборот, от этого человек теряет душевное равновесие и делается ограниченным».
Роман «Крушение» рассказывает о жизни бенгальской интеллигенции, но подлинной его героиней является простая деревенская девушка Комола.
Тема тяжелого положения индийской женщины постоянно занимала в творчестве Тагора видное место. Решительно протестуя против жестокой тирании, на которую в Индии была обречена женщина в доме мужа, он глубоко раскрывает богатый душевный мир Комолы.
В ее образе писатель показал лучшие черты женского характера; мужество и самоотверженность отличают ее от нерешительного и эгоистичного Ромеша, от нуждающейся в постоянной поддержке и утешении Хемнолини. Одиночество юной Комолы не мешает ей сохранить чувство собственного достоинства. Так, узнав, что Ромеш не муж ей, она находит в себе силы покинуть его дом и отправиться на розыски своего настоящего супруга.
Источник самоотверженности и душевной красоты своей героини Тагор видит в той обстановке, в которой складывался ее характер: Комола выросла на лоне природы, в простой деревенской семье; ей не пришлось жить в доме свекра и быть безответной служанкой жестокой свекрови. «Ей до сих пор не приходилось слышать таких окриков, как: «Замолчи!», «Делай, что тебе приказано!», «Жена не должна отвечать «нет!» — поэтому Комола высоко держала голову: ведь в искренности она черпала и силу!»
Этой девушке, не знавшей цепей домашнего рабства, Тагор отвел в романе ведущую роль, противопоставив ей слабохарактерных и неуверенных в себе представителей бенгальской буржуазной интеллигенции.
Таков, например, адвокат Ромеш. Человек умный и честный, он в силу своего слабоволия и нерешительности, не только сам терпит крушение в личной жизни, но невольно заставляет страдать и других. Таков и учитель Джогендро, отличающийся непостоянством убеждений. Однако следует сказать, что в его едких насмешках, в стремлении противоречить всем и каждому угадывается смутное недовольство установленным порядком вещей.
Хотя сюжет романа в основном освещает круг вопросов, связанных с семьей, браком, и непосредственно не затрагивает политических проблем, тем не менее по раскрытию образов Ромеша и Джогендро можно судить об отношении Тагора к бенгальской европеизированной буржуазной интеллигенции.
В «Крушении» дана целая галерея разнообразных характеров: здесь добрый, отзывчивый дядюшка Чокроборти и хитрый Окхой, преданная подруга, образец нежной жены — Шойлоджа и чванливая, набожная Нобинкали, бездеятельный Оннода-бабу и непоседливый Умеш, горячо преданный приютившей его Комоле. В передаче богатой гаммы чувств и настроений героев, в тщательном отборе языковых средств сказалось прекрасное знание Тагором жизни всех слоев индийского общества и талант большого художника.
В своем творчестве Р. Тагор следовал лучшим традициям индийской литературы, в свою очередь развивая и обогащая их.
В «Крушении» почти нет портретных зарисовок — основная роль в раскрытии характеров героев, в развитии действия принадлежит живому диалогу и пейзажу. Перекликающиеся с настроениями героев картины природы, то гневной и грозной, то мирной и ласковой, сменяют одна другую, придавая повествованию глубоко эмоциональный характер.
Неоднократно прибегает писатель к приему контраста: постоянное противопоставление Ромеша — Окхою, внезапный переход от повествования о Комоле к рассказу о Хемнолини помогают воспринимать каждый образ с большей полнотой и яркостью. Немало способствует живости повествования и ясный образный язык романа.
В романе «Крушение» Рабиндранат Тагор проявил себя как зрелый мастер, сумевший красочно и реалистически изобразить жизнь и быт людей своей страны.
Е. Смирнова.Глава первая
Не было ни малейшего сомнения в том, что Ромеш и на этот раз сдаст свои юридические экзамены. Богиня Сарасвати — покровительница наук — неизменно устилала его путь лепестками золотого лотоса и, щедро одаривая медалями, не обделялгг в то же время и знаниями.
Сразу после экзаменов Ромешу предстояло отправиться домой, но не было заметно, чтобы он слишком торопился укладывать чемодан. На письмо отца, в котором тот требовал немедленного возвращения сына, Ромеш ответил, что приедет сразу, как только будут известны результаты экзаменов.
Рядом с Ромешем, в соседнем доме, жил его товарищ Джогендро, сын Онноды-бабу[2]. Оннода-бабу принадлежал к «Брахмо Самадж»[3]. Его дочь, Хемнолини, как раз в это время держала экзамены на бакалавра изящных искусств, и Ромеш довольно часто заходил к ним на чашку чая, а то и просто без всякого повода.
В те же часы, когда Хемнолини, расхаживая по крыше с книгой в руках, сушила волосы после купанья, Ромеш имел обыкновение тоже усаживаться с книгой на пустынной крыше своего дома, возле лестницы, ведущей на чердак.
Что и говорить, место для занятий очень удобное, но если вдуматься хорошенько, то сразу станет ясно, что и помех в данном случае тоже было достаточно. До сих пор еще ни та, ни другая сторона не начинала разговоров о свадьбе. У Онноды-бабу на это была своя причина: он держал на примете одного юношу, который уехал в Англию учиться на адвоката; этого молодого человека он втайне и прочил в мужья своей дочери.
Однажды за чайным столом разгорелся оживленный спор. Хотя товарищ Джогендро, Окхой, не очень успешно сдавал экзамены, однако он ни в чем не желал уступать каким-то жалким любителям чаепитий и прочих невинных удовольствий, а потому частенько появлялся к чаю у Хемнолини. Вот и сегодня Окхой завел разговор о том, что ум мужчины подобен мечу: даже плохо отточенный, он во многом может быть полезен уже благодаря своей тяжести; а женский ум — что перочинный ножик: как его ни точи — в серьезных обстоятельствах он ни на что не годен. И так далее, все в том же духе.
Сама Хемнолини решила пропустить мимо ушей эту наглость Окхоя, но когда и брат ее, Джогендро, стал приводить доказательства слабости женского разума, тут уж Ромеш не в силах был молчать: загоревшись, он принялся петь хвалебные гимны женской половине человеческого рода.
Охваченный вдохновенным порывом преклонения перед женщиной, он выпил против обыкновения уже две лишних чашки чая, как вдруг вошел рассыльный и вручил ему записку. На ней рукою отца было написано имя Ромеша. Прервав спор — на полуслове, Ромеш прочитал письмо и поспешно вскочил. На все вопросы он отвечал, что приехал его отец.
— Дада[4], — обратилась Хемнолини к Джогендро, — почему бы не пригласить отца Ромеша-бабу сюда, на чашку чая.
— Нет, нет, только не сегодня, — запротестовал Ромеш. — Я должен немедленно идти к себе.
Окхой, в душе чрезвычайно довольный уходом Ромеша, заметил:
— Может, ему вообще не захочется принимать пищу в этом доме…
Встретив сына, отец Ромеша, Броджмохан-бабу, сказал:
— Завтра с утренним поездом ты отправишься домой.
— Что-нибудь случилось? — растерянно сдросил Ромеш.
— Да нет, ничего особенного, — ответил Броджмохан-бабу.
Ромеш пристально вглядывался в лицо отца, стараясь угадать, в чем дело, однако Броджмохан-бабу не был склонен удовлетворить любопытство сына.
Вечером, когда отец отправился навестить своих калькуттских друзей, Ромеш уселся писать ему письмо. Но дальше обычного обращения «Склоняюсь к Вашим многочтимым лотосоподобным стопам» его послание не двигалось.
«Не могу же я скрывать от отца, что с Хемнолини меня связывает безмолвный обет», — убеждал он себя и снова принимался за различные варианты письма, но в конце концов рвал все написанное.
После ужина Броджмохан-бабу спокойно уснул, а Ромеш поднялся на крышу и, как ночной дух, стал бродить по ней, не отрывая взгляда от соседнего дома. В девять часов оттуда вышел Окхой; в половине десятого заперли входную дверь; в десять в гостиной погас свет; а после половины одиннадцатого весь дом погрузился в глубокий сон.
На следующий день с первым же поездом Ромешу пришлось покинуть Калькутту. Благодаря предусмотрительности Броджмохан-бабу юноше так и не представилось случая опоздать на поезд.
Глава вторая
Дома Ромеш узнал, что ему выбрана невеста и уже назначен день свадьбы.
В те времена, когда Броджмохан-бабу был беден, его друг, Ишан, уже имел адвокатскую практику. Именно благодаря его помощи достиг благосостояния Броджмохан. Когда Ишан неожиданно умер, выяснилось, что он не оставил ничего, кроме долгов, и вдова с маленькой дочерью оказалась в нищете. Теперь дочь Ишана стала уже невестой, и Броджмохан решил женить на ней своего сына. Кое-кто из доброжелателей Ромеша возражал против этого намерения, говоря, что девушка не очень-то красива.
— Ну для меня все это пустяки, — отвечал Броджмохан. — Человек ведь не цветок и не бабочка, внешность для него не самое главное. Если девочка будет такой же хорошей женой, какой была ее мать, Ромеш может считать себя счастливцем.
От всеобщих толков о своей скорой свадьбе Ромеш стал сам не свой. Целыми днями он бесцельно бродил, обдумывая планы освобождения, но все они казались ему неосуществимыми. Наконец, набравшись храбрости, он обратился к отцу:
— Я не могу жениться, я связан обетом с другой.
— Что ты говоришь! — воскликнул Броджмохан. — И уже состоялась помолвка?
— Да нет… не совсем… Но…
— И ты обо всем уже договорился с родителями невесты?
— Нет, разговора пока не было…
— Ах, так не было! Ну уж если ты столько молчал, то можешь помолчать и еще немного.
— Нет, — после небольшой паузы сказал Ромеш, — я поступлю нечестно, взяв в жены другую девушку.
— Но вовсе не жениться будет еще менее честно с твоей стороны.
Больше возражать было нечего. Теперь Ромешу оставалось лишь надеяться на какую-нибудь непредвиденную случайность. Указания астрологов гласили, что целый год после назначенного дня свадьбы будет неблагоприятным для совершения брачной церемонии. Поэтому юноша думал, что стоит только как-нибудь пережить один этот день, — и он получит целый год отсрочки.
К невесте надо было ехать по реке. Жила она довольно далеко, и, чтобы добраться туда, требовалось дня три-четыре.
Желая иметь в запасе достаточно времени на непредвиденные путевые задержки, Броджмохан решил отправиться в путь за неделю до назначенного дня.
Всю дорогу дул попутный ветер, и они добрались до Шимульгхата, где жила невеста со своей матерью, меньше чем за трое суток. До свадьбы оставалось еще четыре дня.
Броджмохан на это и рассчитывал: матери невесты жилось здесь очень тяжело, и ему давно хотелось перевезти ее в свою деревню, чтобы он мог, во исполнение долга дружбы, сделать ее жизнь счастливой и обеспеченной.
Между ними не было никаких родственных связей, и раньше он не считал себя вправе предложить ей это.
Теперь же, ввиду предстоящей свадьбы, Броджмохан уговорил, наконец, вдову переехать: у бедной женщины во всем мире осталась одна только дочь, и она тоже решила, что ее прямой долг жить вместе с дочерью и заменить мать рано осиротевшему зятю.
«Пусть себе говорят, что хотят, — повторяла вдова, — а мое место рядом с дочерью и ее мужем».
Прибыв в Шимульгхат за несколько дней до свадьбы, Броджмохан занялся подготовкой к перевозке имущества своей новой родственницы. Он рассчитывал, что после свадьбы они все вместе отправятся в путешествие по реке, и поэтому приехал с родными.
Во время свадебного обряда Ромеш не стал произносить полагающихся обетов; в момент «благоприятного взгляда»[5] закрыл глаза; опустив голову, молча вытерпел взрывы веселого смеха и шутки в брачном покое; всю ночь он пролежал на краешке постели, повернувшись спиной к невесте, а на заре покинул комнату.
Когда брачные церемонии кончились, все расселись по лодкам и двинулись в обратный путь: в одной лодке сидела невеста с подругами, в другой старшие родственники, в третьей жених со своими друзьями. В отдельной лодке поместили музыкантов. Они исполняли различные музыкальные пьесы и распевали свадебные песни, веселя гостей.
Весь день стоял невыносимый зной. На небе не было ни облачка, лишь горизонт был подернут какой-то тусклой дымкой, и от этого рощи по берегу реки казались пепельно-серыми. Ни один лист не шевелился на деревьях. Гребцы обливались потом. Еще задолго до наступления сумерек один из них обратился к Броджмохану:
— Господин, давайте остановимся здесь — дальше пристать будет негде.
Но Броджмохану не хотелось задерживаться в пути.
— Незачем здесь причаливать, — возразил он. — Ночь будет лунная, и вы получите хороший бакшиш, если мы сегодня же доберемся до Балугхата.
Вскоре деревня осталась позади. С одной стороны потянулись раскаленные песчаные отмели, с другой — неровная линия высокого, обрывистого берега. Взошла луна, но сквозь мглистую дымку свет ее напоминал мутный взгляд пьяного. Небо попрежнему оставалось ясным, — на нем не видно было ни одной тучки, но вдруг откуда-то донеслись глухие раскаты грома. Оглянувшись назад, путники увидели, что к ним с невероятной быстротой приближается гигантский, словно взвихренный к небу (невидимой метлой, столб из веток, прутьев, пучков травы и туч пыли с песком.
Раздались крики:
— Берегись! Спасайся! Гибнем!
Что произошло минутой позже, рассказать было уже некому. Смерч пронесся узкой полосой, все круша и сметая на своем пути. Когда он стих так же внезапно, как и начался, от злополучной флотилии не осталось и следа.
Глава третья
Туман рассеялся. Прозрачный лунный свет заливал уходящую вдаль безжизненную полосу песков, будто набрасывая на нее светлую вдовью одежду. На реке не было ни одной лодки, и водная гладь была неподвижна. Вода и земля замерли в глубоком покое, казалось наступило умиротворение, какое смерть дарует измученному болезнью страдальцу.
Очнувшись, Ромеш увидел, что он лежит на песчаной отмели. Прошло немало времени, прежде чем он вспомнил, что произошло, и, наконец, все случившееся восстановилось в его памяти, словно кошмарный сон.
Мысль о том, что стало с отцом и другими спутниками, заставила его вскочить, но, оглядевшись по сторонам, он никого не увидел. Тогда он двинулся вперед, решив просмотреть весь песчаный берег.
Белый островок покоился между двумя рукавами Падмы[6], как младенец в объятиях матери.
Ромеш прошел сначала по одной его стороне, затем перешел на другую и вдруг заметил неподалеку что-то, похожее на кусок красной одежды. Он ускорил шаги и подойдя ближе, увидел лежащую без сознания девушку в алом наряде невесты. Ромеш знал, как возвращают к жизни утопающих: долго и упорно он то вытягивал руки девушки, то снова прижимал их к телу. Наконец, она вздохнула и открыла глаза.
Ромеш сам так выбился из сил, что уже не в состоянии был расспросить девушку и сидел молча. Она же, видимо, еще не вполне пришла в себя: лишь на мгновенье приоткрылись ее глаза, но тут же она снова опустила ресницы. Прислушавшись, Ромеш заметил, что она дышит. И здесь, на пустынном берегу, между жизнью и смертью, он долго всматривался в освещенное бледным светом луны девичье лицо.
Кто сказал, что Сушила некрасива? Под огромным небесным сводом, весь залитый спокойным лунным сиянием, мир казался ему лишь рамкой для этого нежного, светившегося величавым покоем, красивого лица спящей девушки.
Ромеш забыл обо всем на свете. «Как хорошо, что я не стал смотреть на нее там, в толпе, среди свадебной суеты. Нигде не смог бы я увидеть ее такой, как сейчас. Здесь, возвратив ей жизнь, я приобрел на нее куда более законные права, чем те, которые получил бы, повторяя избитые формулы брачного обряда. Тогда я принял бы ее как принадлежащую мне по праву, теперь же она является для меня даром милостивого провидения».
Наконец, девушка очнулась. Привстав, она оправила на себе растрепанную одежду и натянула на лицо покрывало.
— Ты знаешь, что случилось с теми, кто был с тобой в лодке? — спросил Ромеш.
Она лишь молча покачала головой.
— Тогда посиди пока тут, а я еще раз взгляну, может быть, увижу кого-нибудь. Я скоро вернусь.
Девушка ничего не ответила, но всем своим видом, испуганная и дрожащая, она, казалось, говорила: «Только не бросай меня здесь одну». Ромеш понял. Не двигаясь с места, он внимательно огляделся вокруг, но ни одной живой души не было видно среди белых песков. Тогда он принялся кричать, надеясь, что кто-нибудь из его родственников откликнется на зов.
Устав от напрасных усилий, Ромеш снова опустился на землю и увидел, что девушка, закрыв лицо руками, старается удержать рыдания, от которых судорожно вздымалась ее грудь. Понимая, что сейчас слова утешения не имеют смысла, он только придвинулся к ней и молча стал гладить по голове. Не в силах более сдержать слезы, она зарыдала, в бессвязных звуках изливая свое горе. Заплакал и Ромеш.
Луна уже скрылась, когда острая боль страданий утихла и слезы иссякли. Необычайный вид придавала ночная тьма этой одинокой полоске земли: призрачными казались неясно белеющие пески, а в неверном свете звезд вспыхивала речная гладь, сверкая, как блестящая чешуя гигантской змеи. Ромеш взял в свои руки нежные, похолодевшие от страха пальчики девушки и тихонько привлек ее к себе. Испуганная, она не противилась: больше всего на свете она боялась сейчас остаться одна. В непроницаемом мраке, мирно приютившись на груди Ромеша, она успокоилась. Тут уж было не до стыда — удобно устроившись в его объятиях, девушка заснула.
Когда одна за другой стали гаснуть неяркие предрассветные звезды и на востоке, над голубой гладью реки, заалело небо, стало видно, что на песке, погруженный в глубокий сон, лежит Ромеш, а на груди его, подложив руки под голову, покоится девушка.
Наконец, ласковое утреннее солнце коснулось их век своими лучами, и оба проснулись. С минуту они удивленно оглядывались по сторонам, потом вдруг поняли, что они не дома, вспомнили, что потерпели крушение.
Глава четвертая
Утром река покрылась белыми парусами рыбачьих лодок. Ромеш подозвал одну из них, нанял с помощью рыбаков большой гребной баркас и, поручив полиции разыскивать пропавших родственников, отправился домой.
Едва лодка Ромеша причалила к деревенской пристани, ему тотчас сообщили, что полиции удалось найти трупы его отца, тещи и нескольких родственников и друзей. Не было никакой надежды на то, что спасся еще кто-нибудь, за исключением нескольких гребцов.
Бабушка Ромеша оставалась дома. Увидев внука с невестой одних, она принялась громко причитать. Поднялся плач и в соседних домах, так как многие из их обитателей тоже приняли участие в этом злосчастном свадебном путешествии.
Не играла музыка, не слышно было обычных радостных возгласов женщин, никто не приветствовал молодую девушку, никто даже не взглянул на нее.
Ромеш решил было сразу после окончания погребальных обрядов уехать с женой куда-нибудь в другое место, но не мог этого сделать, не уладив вопроса об отцовском наследстве. К тому же убитые горем родственницы просили отпустить их в паломничество, — надо было позаботиться и о них.
Среди всех своих дел не забыл он и о правах любви. Невеста его оказалась вовсе не такой уж молоденькой девочкой, как говорили. Деревенские девушки даже подсмеивались, над ней, утверждая, что она уже переросла обычный брачный возраст. Но, несмотря на все это, никакой трактат не мог дать молодому бакалавру совета, как объясниться ей в любви. Довольно долго он считал это совершенно немыслимым и невозможным. Достойно удивления, однако, что, хотя подобные вещи и не имели никакого отношения к опыту, почерпнутому им из книг, все же его высокообразованный ум мало-помалу оказался всецело во власти некоего необъяснимого чувства, которое неудержимо влекло его к девушке, В своем воображении он уже видел ее Лакшми[7] собственного домашнего очага.
В мечтах она представлялась ему то девочкой-невестой, то юной возлюбленной, то кроткой матерью его детей. Как художник или поэт, который, лишь задумав картину или поэму, уже видит свое будущее произведение в прекрасной, совершенной, законченной форме, живет одной этой мыслью, поглощен одним стремлением, — так и Ромеш, в непрестанных думах о своей будущей жене, создал в своем сердце идеально прекрасный образ.
Глава пятая
Так прошло почти три месяца. Дела были полностью улажены, родственницы собрались в паломничество, кое-кто из соседок стал, наконец, проявлять некоторое внимание к молоденькой невесте Ромеша. Узы любви между нею и Ромешем становились все крепче.
Теперь часто проводили они вечера под открытым небом, разостлав цыновки на крыше дома. Иногда Ромеш позволял себе, неслышно подойдя сзади, вдруг закрыть ей глаза руками или привлечь ее голову к себе на грудь. Когда она засыпала до наступления сумерек, не успев поужинать, Ромеш, чтобы разбудить, пугал ее чем-нибудь и в ответ получал свою долю шутливой брани.
В один из таких вечеров Ромеш, тронув ее локоны, заметил:
— Сушила, ты сегодня некрасиво причесалась.
— Почему все вы здесь зовете меня Сушилой? — вдруг спросила девушка.
Ромеш удивленно посмотрел на нее. Он не понял, что значит этот вопрос.
— Разве, переменив человеку имя, можно изменить его судьбу? — продолжала она. — Ведь я несчастна с самого детства и останусь такой же несчастной, пока не умру.
При этих словах у Ромеша вдруг перехватило дыхание, и он стал бледен, как мертвец. В уме его внезапно мелькнула страшная догадка.
— Как же так вышло, что ты стала несчастной с самого детства? — спросил он.
— Отец мой умер еще до моего рождения, а когда мне исполнилось всего шесть месяцев, умерла мать. В доме у дяди мне жилось очень плохо. И вдруг я услышала, что откуда-то приехал ты. Я тебе понравилась. И ровно через два дня устроили свадьбу. Ну, а что случилось потом, ты знаешь сам!
Ромеш так и замер, облокотившись на подушку.
В небе ярко светила луна, но ему показалось, что свет ее внезапно померк. У него не хватало духу спрашивать дальше; хотелось, чтобы все, что он услышал сейчас, исчезло, как бред, как сон.
Словно глубокий вздох очнувшегося от обморока человека, прошелестел теплый летний ветерок; звенел в лунном свете голос полуночницы-кукушки; из лодки, привязанной возле пристани, доносилась песня, которую распевали перевозчики.
Не понимая, почему Ромеш молчит, девушка, легонько коснувшись его рукой, спросила:
— Ты спишь?
— Нет, — ответил он и опять надолго замолчал.
Девушка тем временем задремала. Привстав, Ромеш пристально вглядывался в ее лицо. Оно и сейчас не обнаруживало никаких следов той тайны, которую начертал на нем всевышний. И как только могла скрываться столь страшная судьба под такой привлекательной внешностью!
Глава шестая
Теперь Ромеш знал, что это совсем не та девушка, на которой он женился. Но открыть, чьей женой она была в действительности, оказалось делом нелегким.
Однажды с тайной надеждой он спросил ее:
— Когда ты впервые увидела меня во время свадьбы, каким я тебе показался?
— Да я тебя и не видела, — ответила девушка. — Я тогда опустила глаза.
— Так ты, наверно, даже имени моего не слышала?
— Свадьба была на следующий день после того, как мне сказали о ней. Откуда же я могла знать твое имя, — ведь тетушка так спешила отделаться от меня!
— Ты ведь училась. Дай-ка я посмотрю, можешь ли ты написать хотя бы свое имя, — сказал Ромеш, подавая ей бумагу и карандаш.
— Ты что же, думаешь, что я ничего больше и не умею? — ответила девушка. — Кстати, мое имя очень легко пишется.
И она крупными буквами вывела: «Шримоти Комола Деби».
— Хорошо. А теперь имя твоего дяди, — попросил Ромеш.
Комола написала: «Шриджукто Тариничорон Чоттопадхайя» и спросила:
— Нигде не ошиблась?
— Нет, — ответил Ромеш. — Напиши-ка еще и название своей деревни.
И она снова вывела: «Дхобапукур».
Так, с большими предосторожностями, Ромеш собрал некоторые сведения о жизни девушки. Но это едва ли упрощало задачу. Он стал раздумывать, как быть дальше. Вполне возможно, что муж ее утонул. Но ведь если даже Ромеш отыщет дом свекра Комолы и отошлет ее туда, весьма сомнительно, примут ли ее там. А отправить девушку обратно, в дом дяди, было бы по отношению к ней слишком жестоко. Что она будет делать, если все это откроется, теперь, после того как она столько времени пробыла в качестве жены в доме другого мужчины? Как посмотрят на нее люди?
А если муж Комолы все-таки остался в живых? Захочет ли, посмеет он принять ее?
Где ее теперь бросишь, там и потонет она, как в бездонном океане.
Только в качестве жены мог Ромеш оставить у себя Комолу, а назвать ее своей женой он не имел права. Но вместе с тем и отправить ее было некуда.
Образ этой девушки, Лакшми домашнего очага, который кистью вдохновенной любви запечатлел он на картине будущего, пришлось стереть окончательно. Оставаться дольше в родной деревне Ромеш не мог, и с мыслью о том, что он найдет какой-нибудь выход, лишь затерявшись в сутолоке Калькутты, он отправился туда вместе с Комолой. Приехав в Калькутту, Ромеш постарался снять квартиру как можно дальше от того места, где жил раньше.
Комоле хотелось как можно скорей увидеть большой город. В первый же день по приезде она уселась у окна и с живейшим интересом принялась следить за непрерывно движущимся людским потоком. Единственной их служанке Калькутта была известна наизусть, и, считая изумление приезжей девушки невероятной глупостью, она то и дело сердито ворчала:
— Ну чего рот разинула? Выкупалась бы лучше — смотри, как уже поздно!
Вечером, закончив хозяйственные дела, служанка уходила домой. Такую, которая оставалась бы и на ночь, Ромешу найти не удалось.
«Но теперь ведь я не могу разделить ложе с Комолой. А с другой стороны, как бедная девушка одна проведет ночь в незнакомом месте?» — думал Ромеш.
После ужина, когда служанка ушла, Ромеш, указывая Комоле ее постель, сказал:
— Ложись спать, а я почитаю немного.
Затем он взял первую попавшуюся книгу и сделал вид, что читает. Усталая Комола скоро заснула.
Так прошла эта ночь. На другой день Ромешу тоже под каким-то предлогом удалось уложить Комолу спать одну. Было очень жарко, и сам он устроился на небольшой открытой веранде перед спальней. Долго лежал Ромеш, раздумывая над своим положением. Было уже поздно, когда он, наконец, заснул.
Около трех часов, ночи ему вдруг почудилось, что он не один, кто-то сидел около него и тихонько обмахивал веером. Ромеш сонно притянул к себе девушку и пробормотал:
— Спи, Сушила, не надо меня обмахивать.
Напуганная темнотой, Комола прижалась к нему и сладко заснула.
Рано утром Ромеш проснулся и вздрогнул: правая рука Комолы обвивалась вокруг его шеи, а сама она, с милой непосредственностью заявив на него свои наивные права, покоилась у него на груди. Ромеш взглянул в лицо спящей, и глаза его наполнились слезами: разве может он разорвать это доверчивое, нежное объятие? Он вспомнил, как ночью она потихоньку обмахивала его веером. Наконец, с глубоким вздохом он бережно расцепил ее руки и встал.
Поразмыслив хорошенько, Ромеш решил поместить Комолу в женский пансион. Это хоть на время избавит его от бесконечных тревог.
— Комола, ты хочешь учиться? — спросил он однажды.
Она посмотрела на него взглядом, который, казалось, говорил: «А зачем ты спрашиваешь об этом?»
Ромеш принялся рассуждать о пользе и удовольствии, которые принесут ей занятия, но его старания были совершенно излишни. Комола сразу же заявила:
— Поучи меня.
— Для этого тебе надо ходить в школу.
— В школу? — удивилась Комола. — Разве такие взрослые, как я, ходят в школу?
— Ну, в школе учится очень много девушек и старше тебя, — ответил он, улыбнувшись такому понятию Комолы о возрастных границах.
Она больше не возражала, и вот однажды Ромеш повел ее в школу. В большом здании, где помещался пансион, Комола увидела множество девушек разного возраста.
Когда Ромеш, поручив Комолу начальнице пансиона, направился к выходу, она пошла было следом за ним.
— Куда ты? — остановил он девушку. — Тебе нужно остаться здесь.
— А ты разве не будешь со мной? — испуганно спросила она.
— Нет, я не могу.
— Тогда и я не могу, — заявила Комола и ухватилась за его руку. — Возьми меня с собой.
— Стыдно, Комола, — сказал Ромеш, выдергивая руку.
От этого упрека она словно окаменела, и лицо ее сжалось. Взволнованный Ромеш быстро вышел, но перед его глазами неотступно стояло неподвижное, с выражением беспомощного испуга лицо девушки.
Глава седьмая
Ромеш думал начать свою адвокатскую практику в Алипуре, но теперь сердце его было разбито, и у него совсем не осталось той энергии, которая так помогает спокойно и сосредоточенно работать и преодолевать трудности, всегда встречающиеся на пути начинающего адвоката. Ромеш взял теперь в привычку бесцельно шагать по мосту через Ганг или бродить вокруг Голадигхи. Он даже начинал подумывать, не проехаться ли ему отдохнуть на запад, но как раз в это время пришло письмо от Онноды-бабу.
«Из газет мы узнали, — писал он, — что ты выдержал экзамены, но были огорчены, не получив известий об этом от тебя самого. Давно уже о тебе ничего не слышно. Обязательно напиши, как живешь и когда собираешься в Калькутту».
Не лишне будет заметить, что уехавший в Англию юноша, на которого так рассчитывал Оннода-бабу, уже успел стать адвокатом и вернуться на родину. Теперь он собирался жениться на девушке из богатого дома.
А тем временем Ромеш все еще не мог решить, следует ли ему после всего случившегося встречаться с Хемнолини. Наконец, он пришел к выводу, что говорить сейчас кому-нибудь о Комоле и его отношениях с ней значило бы очернить ни в чем не повинную девушку в глазах общества. И в то же время, разве он имеет право возобновить свои отношения с Хемнолини, прежде чем не расскажет ей все?
Во всяком случае, медлить дальше с ответом на письмо Онноды-бабу было по крайней мере невежливо, и Ромеш написал:
«Очень прошу извинить меня, но по весьма серьезным причинам я был лишен удовольствия видеться с Вами».
Однако своего нового адреса он не указал.
Отправив ответ по почте, он на следующий же день надел адвокатскую шапочку и вышел из дому с намерением нанести, наконец, свой первый визит в алипурский суд.
Возвращаясь однажды из суда, он прошел некоторую часть пути пешком и уже собирался нанять экипаж, как вдруг услышал хорошо знакомый голос:
— Папа, да ведь это же Ромеш-бабу! Стой, кучер, стой! — и Ромеш увидел поровнявшийся с ним экипаж.
Оннода-бабу с дочерью возвращались в этот день с пикника, устроенного в алипурском зверинце.
Стоило только Ромешу снова увидеть спокойное и ласковое лицо Хемнолини, ее сари[8], уложенное особыми складками, ее такую необычную, но столь знакомую ему прическу, гладкие запястья и золотые граненые браслеты на руках, как он сразу лишился дара речи и горячая волна чувств затопила его сердце.
— Как хорошо, что мы встретили тебя, — заговорил Оннода-бабу. — Ты почти совсем перестал писать нам, а если и пишешь, не сообщаешь обратного адреса. Куда ты сейчас направляешься? Какое-нибудь неотложное дело?
— Да нет, просто возвращаюсь из суда, — ответил Ромеш.
— Тогда едем к нам пить чай.
Сердце Ромеша радостно забилось, ни о каких колебаниях больше не могло быть и речи. Он уселся в экипаж и, чтобы скрыть свое смущение, спросил Хемнолини, как она поживает.
— Что же вы сдали экзамены и даже не потрудились сообщить нам об этом, — сказала она, не отвечая на его вопрос.
— Я слышал, вы тоже сдали экзамены, — растерянно вымолвил Ромеш.
— Хорошо еще, что вы хоть помните о нас, — рассмеялась девушка.
— Где ты теперь живешь? — спросил Ромеша Оннода-бабу.
— В Дорджипаре.
— А разве твое прежнее жилище в Колутоле было так уж плохо?
В ожидании ответа Хемнолини с особым любопытством смотрела на Ромеша.
И неожиданно для себя он сказал:
— Я уже решил снова переехать туда.
Ромеш прекрасно понял, что Хемнолини сочла за оскорбление то, что он поселился в другом районе, и, не зная, как оправдать свой поступок, он окончательно пал духом. Однако дальнейших вопросов не последовало, Хемнолини демонстративно не смотрела в его сторону. Ромеш не в силах был долго вынести это и неожиданно заговорил:
— Неподалеку от Хедуйя живет один мой родственник… Вот я и поселился в Дорджипаре, чтобы иметь возможность видеться с ним.
Слова Ромеша хоть и не были абсолютной ложью, но все же звучали крайне неубедительно: неужели расстояние от Колутолы до Хедуйя так велико, что, живя на старом месте, нельзя время от времени навещать своего родственника? Хемнолини все еще была погружена в созерцание дороги. Несчастный Ромеш никак не мог придумать, что бы еще сказать. Ему удалось выдавить из себя одну лишь фразу:
— Что слышно о Джогене?
— Провалился на юридических экзаменах и отправился проветриться на запад, — ответил Оннода-бабу.
Когда экипаж остановился возле их дома, знакомая комната, знакомые предметы вновь окутали Ромеша своими чарами. Из груди его вырвался тяжкий вздох.
За чаеч Ромеш не произнес ни слова. Неожиданно Оннода-бабу сказал:
— Долго что-то ты пробыл на этот раз дома. Наверно, задержали какие-нибудь дела?
— Мой отец умер, — ответил Ромеш.
— Что ты говоришь? Какое несчастье! Как это произошло?
— Он возвращался домой в лодке. Внезапно поднялась буря, лодка опрокинулась, и отец погиб.
Как проясняется небо, когда налетевший сильный ветер разгоняет мрачныё тучи, так и при этом горестном сообщении в одно мгновенье исчезла всякая напряженность между Ромешем и Хемнолини.
«Я плохо думала о Ромеше, он озабочен делами и опечален смертью отца, — думала Хемнолини. — Вот и сейчас он, наверно, продолжает еще страдать, а мы, ничего не зная о его семейном горе, о том, какая тяжесть у него на сердце, вздумали его обвинять». И Хемнолини удвоила свое внимание к осиротевшему юноше. Видя, что Ромеш ничего не ест, она принялась угощать его с особым усердием.
— Вы перенесли большое потрясение, вам нужно беречь себя, — говорила девушка. — Папа, — обратилась она к отцу, — мы никуда не отпустим Ромеша, пока он не поужинает с нами.
— Прекрасно, — ответил Оннода-бабу.
В это время явился Окхой. С некоторых пор первое место за чайным столом Онноды-бабу принадлежало ему. Поэтому, увидев здесь Ромеша, он был неприятно поражен. Однако, быстро овладев собой, он сказал с улыбкой:
— А, Ромеш-бабу! Я уже думал, что вы нас совсем забыли.
Ромеш только слабо улыбнулся.
— Ваш отец так неожиданно вас похитил. Я решил было, что он вас не выпустит, пока не женит, — продолжал Окхой. — Надо полагать, опасность миновала?
Хемнолини кинула на него сердитый взгляд, а Оннода-бабу заметил:
— Ромеш лишился отца.
Побледневший Ромеш сидел, опустив голову.
Хемнолини страшно рассердилась на Окхоя за то, что он вновь заставил Ромеша страдать, и поспешно сказала:
— Вы еще не видели нашего нового альбома, Ромеш-бабу.
Принеся альбом, она положила его перед юношей и принялась показывать ему фотографии. Затем, как бы невзначай, спросила:
— Скажите, Ромеш-бабу, вы, я надеюсь, живете один в своей новой квартире?
— Да, — ответил Ромеш.
— Так постарайтесь переехать поскорей в соседний с нами дом.
— Конечно. Я переберусь в понедельник.
— Возможно, мне иногда придется обращаться к вам за помощью. Ведь я сейчас занимаюсь философией для экзаменов на бакалавра, — заметила Хемнолини.
Такая перспектива привела Ромеша в восторг.
Глава восьмая
И Ромеш не замедлил перебраться на свою прежнюю квартиру.
Теперь окончательно исчезло недоверие между ним и Хемнолини. Ромеш стал в их доме своим человеком. Было много смеха и шуток.
Все последнее время перед возвращением Ромеша Хемнолини помногу и усердно занималась и стала еще более хрупкой. Казалось, подуй посильнее ветер, — и он легко переломит ее. Говорила она мало, да и вообще разговаривать с ней было опасно, — она расстраивалась по любому, самому незначительному поводу.
Но теперь, буквально за каких-нибудь несколько дней, в ней произошла удивительная перемена: на ее бледном лице появилось нежное, спокойное выражение, в глазах поминутно вспыхивали веселые искорки. Прежде она считала легкомысленным и даже неприличным уделять внимание нарядам. А сейчас… Никто, кроме всевышнего, — ибо ни с кем другим она не советовалась, — не смог бы сказать, почему девушка так преобразилась.
Но Ромеш, решивший, что его долг — помогать Хемнолини, еще сохранил значительную долю серьезности, будто глубокие знания отягчали не только ум его, но и тело.
В звездном небе все время движутся планеты, что, однако, не мешает обсерватории со всеми ее приборами оставаться в совершенном покое; так и Ромеш, со своим грузом книжных знаний и планов, оставался недвижим в этом головокружительно-изменчивом мире, — да и кому нужно было выводить его из подобного состояния?
Но зато теперь и он, даже если и не находил сразу подходящего ответа на шутку, смеялся гораздо чаще.
Хотя волосы его и сейчас еще не всегда поддавались гребенке, но рубашка уже не была такой грязной, как раньше, а в движениях, как и в его уме, появилась, наконец, известная живость.
Глава девятая
Калькутта на редкость лишена всех тех атрибутов, которые обычно нагромождаются в поэмах в качестве обстановки, необходимой для влюбленных.
Откуда здесь взяться аллеям цветущих ашок и бокул; где непроницаемый зеленый шатер, образуемый вьющимися зарослями мадхоби; где безыскусное пение пестрогрудой кукушки? И все-таки любовь с ее магическими чарами не обходит стороной и этот прозаический, лишенный всякого очарования современный город.
Да разве может кто сказать, сколько уже дней и ночей подряд, в который раз и куда мчится в страшной сутолоке улиц, среди экипажей и закованных в металл трамваев, бог любви, этот вечно юный и самый древний из богов, пряча свой лук от глаз полицейских в красных тюрбанах!
Несмотря на то, что Ромеш жил в Колутоле в наемном доме, как раз напротив мастерской сапожника и рядом с бакалейной лавкой, никто бы не посмел сказать, что в отношении развития чувства Ромеш и Хемнолини в чем-нибудь уступали романтическим обитателям цветущих беседок. Ромеш не испытывал ни малейшего огорчения от того, что перед ним вместо поросшего лотосами озера был неказистый маленький стол с пятнами от чая на скатерти. И пусть любимый кот Хемнолини вовсе не походил на ручную черную антилопу — юноша щекотал ему шейку с неменьшей любовью, чем если бы это была настоящая лань. А когда, выгнув луком спину и зевнув, кот грациозно принимался за свой туалет, то умиленному Ромешу это животное казалось едва ли не лучшим из всех четвероногих.
Пока Хемнолини была занята подготовкой к экзаменам, ей не удавалось уделять много времени рукоделию, зато в последнее время она вдруг горячо принялась учиться вышиванию у одной из своих подруг. Что до Ромеша, то он считал это занятие совершенно ненужным и даже презренным. В области литературы оба они всегда выступали на равных правах, но как только дело доходило до рукоделия, тут уж Ромешу приходилось отступать. Поэтому он частенько недовольно замечал:
— Чего ради вы так пристрастились вдруг к вышиванию? Это занятие хорошо лишь для тех, кто не знает, чем другим заполнить свое время.
В ответ Хемнолини только молча улыбалась, продолжая продевать в иглу шелковую нитку.
Однажды Окхой ядовито заметил:
— По авторитетному мнению Ромеша-бабу, все имеющее хоть малейший практический смысл достойно презрения. Но, кстати сказать, любой человек, будь он величайший ученый или поэт, не прожил бы и дня без этих презренных мелочей!
Задетый за живое, Ромеш уже готов был засучив рукава ринуться в спор, но Хемнолини остановила его:
— Стоит ли, Ромеш-бабу, так волноваться, чтобы только что-нибудь ответить на это? На свете и без того слишком много бесплодных споров, к чему еще увеличивать их число!
С этими словами она снова склонилась над своей работой, считая стежки, и шелковая нить замелькала в ее руках.
Как-то утром, войдя к себе в кабинет, Ромеш увидел на столе переплетенный в сафьян бювар. На одном уголке его крышки стояла буква «Р», на другом красовался вышитый золотыми нитками лотос.
Ни происхождение, ни назначение этой вещи ни на мгновение не составили для него загадки, и сердце Ромеша радостно забилось. Он тут же, без споров и возражений, признал в глубине души всю важность такого занятия, как рукоделие. Прижимая к груди драгоценную вещь, Ромеш готов был признать свое поражение даже перед Окхоем. Открыв бювар, он достал из него бумагу и написал:
«Будь я поэтом, я смог бы отблагодарить Вас поэмой, но у меня нет поэтического дарования. Однако, лишив меня возможности одарять, всевышний не отказал мне в способности принимать. Только тот, кто читает в сердце другого, может знать, как принял я этот неожиданный дар, ведь подарок можно видеть и осязать, а мои чувства спрятаны глубоко в сердце.
Ваш неоплатный должник».Разумеется, записка попала в руки Хемнолини, но ни она, ни Ромеш не обмолвились о ней ни одним словом.
Приближался сезон дождей. Для городских жителей в них нет ничего приятного, не то что для лесов и полей. В тщетной попытке преградить путь дождю городские дома встречают его крышами и плотно закрытыми окнами, трамваи — опущенными занавесками, люди — зонтами, но, несмотря на это, все и, всё оказывается промокшим насквозь и покрытым грязью, в то время как леса, реки, холмы и горы приветствуют дождь, как друга, встречая его радостным гулом. Для них он желанный гость, на этом радостном празднике слияния неба с землей не звучит ни одной диссонирующей ноты.
Влюбленные подобны горам и лесам: если беспрерывные дожди лишь ухудшали пищеварение Онноды-бабу, то влиять на жизнерадостность Ромеша и Хемнолини они были не в состоянии.
Хмурые тучи, рокот грома и шум ливня, казалось, еще теснее сближали сердца обоих.
Из-за дождя Ромеш часто не попадал в суд. День за днем с неба лило с таким упорством, что Хемнолини то и дело с тревогой опрашивала:
— Ромеш-бабу, как вы пойдете домой в такую ужасную погоду?
На это Ромеш стыдливо заявлял, что уж как-нибудь доберется.
— Но ведь вы можете простудиться и заболеть, никуда я вас не пущу, поужинаете у нас.
Ромеш совершенно не боялся простуды, друзья и близкие никогда не замечали в нем хотя бы малейшего предрасположения к болезням, но, вынужденный подчиняться заботам Хемнолини, он в эти дождливые дни стал считать преступным для себя легкомыслием пройти несколько шагов, отделявших дом Онноды-бабу от его жилища.
В дни, когда тучи казались грознее обычного, Ромеша рриглашали в комнату к Хемнолини отведать рагу из овощей, если было утро, или жареного мяса, если уже наступил полдень. Было вполне очевидно, что серьезные опасения за его легкие отнюдь не распространялись в этом доме на пищеварение.
Так шло время. Ромешу некогда было даже задуматься над тем, куда приведет его неодолимое влечение сердца, но Онноду-бабу, да и многих его знакомых занимал этот вопрос и часто служил темой для разговоров.
Жизненный опыт Ромеша был куда менее велик, нежели его ученость, а влюбленное состояние больше чем когда-либо заволакивало туманом его взгляд на житейские дела. Каждый день Оннода-бабу с новой надеждой вглядывался в лицо Ромеша, но не мог прочесть на нем никакого ответа.
Глава десятая
Голос у Окхоя был не очень сильный, но когда он начинал петь, аккомпанируя себе на скрипке, только уж очень суровый критик не попросил бы его спеть что-нибудь еще.
Оннода-бабу не питал особой любви к музыке, но, не имея возможности показывать это открыто, он выработал особые методы самозащиты.
Стоило кому-нибудь попросить Окхоя спеть, как Оннода-бабу говорил:
— Ну как вам не совестно, нельзя же так мучить человека только потому, что он умеет петь.
Но такое заявление в свою очередь наталкивалось на скромный протест Окхоя:
— Что вы, Оннода-бабу, не беспокойтесь, пожалуйста, еще неизвестно, кто кого терзает.
Затем обязательно вступался кто-либо из искренних любителей музыки и, наконец, упрашивал Окхоя исполнить что-нибудь, дабы разрешить спор.
Однажды еще днем все небо затянуло свинцовыми тучами. Дождь лил не переставая и после наступления темноты.
Окхою невольно пришлось задержаться, и Хемнолини попросила его спеть. Она села за фисгармонию, а Окхой, настроив скрипку, запел на хиндустани:
Лети, нежный ветерок, Будь моим посланцем, Скажи, что не могу уснуть Без вести о любимой.Не все слова песни были понятны слушателям, да это и не обязательно: когда сердца полны любовью и бьются лишь от встречи до разлуки, достаточно и легкого намека, чтобы понять друг друга.
Общее настроение песни было ясно: тучи роняли слезы, кричали павлины, и страданиям влюбленных не было конца.
В словах этой песни Окхой стремился выразить свои затаенные чувства, но ими воспользовались двое других. Погружаясь в волны мелодии, их сердца бились в унисон; в целом мире для них не существовало больше ничего тусклого, незначительного, — все вокруг стало прекрасным. Как будто любовь, какой пылали когда-либо человеческие сердца, была теперь поделена только между ними двумя, заставляя сердца их трепетать безмерным счастьем и мукой, замирать в смятении и ожидании.
В этот день так и не было ни просвета в тучах, ни перерыва в песнях.
Стоило Хемнолини попросить: «Пожалуйста, Окхой-бабу, еще одну песню!» — и тот с готовностью продолжал.
С каждой минутой мелодия нарастала, становилась все более проникновенной, — то в ней будто сверкала долго таившаяся молния, то металось полное страдания и тоски сердце.
Лишь поздно вечером ушел Окхой. В минуту прощания, весь под впечатлением музыки, Ромеш молча заглянул в глаза Хемнолини, и она ответила ему вспыхнувшим взглядом, в котором тоже все еще реяла тень песни.
Ромеш вернулся домой. Дождь, на мгновение переставший, полил теперь с новой силой. В эту ночь юноша так и не смог уснуть. Не спала и Хемнолини. В непроницаемой темноте ночи долго прислушивалась она к неумолчному шуму дождя. В ее ушах попрежнему звенели слова песни;
Лети, нежный ветерок, Будь моим посланцем, Скажи, что не могу уснуть Без вести о любимой.«Если бы мне только научиться петь! — вздохнув, подумал на следующее утро Ромеш. — Я бы, не задумываясь, отдал за это все свои таланты».
Но, к сожалению, у Ромеша не было никаких шансов хоть как-нибудь овладеть этим искусством. Поэтому он решил попробовать заняться музыкой. Ему вспомнилось, как однажды, случайно оставшись один в комнате Онноды-бабу, он провел смычком по скрипке, но уже от одного только этого прикосновения богиня музыки издала такой болезненный стон, что ему пришлось оставить дальнейшие попытки играть на этом инструменте, ибо продолжать — значило бы проявить по отношению к богине величайшую жестокость.
Поэтому, признав себя недостойным играть на скрипке, Ромеш купил фисгармонию. Плотно прикрыв дверь комнаты, он осторожно провел пальцами по клавишам и пришел к заключению, что как-никак этот инструмент куда терпеливее скрипки.
На следующий день, едва Ромеш показался в доме Онноды-бабу, как Хемнолини заметила ему:
— Кто-то играл у вас вчера на фисгармонии.
Ромеш полагал, что раз он запер дверь, то можно не опасаться, что его услышат, однако нашлось все же чуткое ухо, сумевшее уловить звуки и через закрытую дверь.
Пристыженному Ромешу пришлось сознаться, что это он купил фисгармонию и хочет научиться играть.
— Напрасно вы запираетесь на ключ и пытаетесь научиться самостоятельно, — сказала Хемнолини. — Лучше приходите заниматься к нам. Я немного играю и сумею научить вас тому, что знаю сама.
— Но ведь я очень неспособный ученик, — ответил Ромеш. — Вам придется изрядно помучиться со мной.
— Ну, знаний у меня ровно столько, чтобы кое-как обучать неспособных, — рассмеялась Хемнолини.
Очень скоро, однако, обнаружилось, что Ромеш оказался не слишком скромным, заявив о своих скудных способностях к музыке. Даже при столь терпеливом и нетребовательном педагоге, каким была Хемнолини, чувство гармонии никак не могло посетить его.
Бродя в потоке звуков, Ромеш вел себя, как неумеющий плавать человек, который, попав в воду и почувствовав, что захлебывается, тут же начинает колотить по воде руками и ногами. Он как попало ударял пальцами по клавишам, фальшивя при каждом ударе. Для его собственного слуха это не имело особого значения: он не видел никакой разницы между гармонией и диссонансом и с олимпийским спокойствием пренебрегал вообще всякой тональностью. Не успевала Хемнолини воскликнуть: «Что вы делаете, это звучит фальшиво!» — как он уже спешил устранить первую ошибку последующей. Но серьезный и усидчивый по натуре, Ромеш был не из тех, кто сразу готов бросить плуг. Медленно движущийся паровой каток трамбует дорогу, вовсе не заботясь о том, что он давит и стирает ее в порошок. С таким же слепым упорством совершал и Ромеш свои непрестанные атаки на злосчастные йоты и ключи.
Хемнолини радостно смеялась над отсутствием у него музыкальности, и сам он хохотал вместе с ней.
Лишь любовь способна извлекать радость из ошибок, промахов и диссонансов.
Когда мать видит первые, совсем еще нетвердые шаги своего ребенка, ее любовь к нему вспыхивает лишь сильнее; такие же чувства испытывала и Хемнолини, забавляясь той совершенно изумительной неопытностью, которую обнаруживал Ромеш в области музыки.
— Хорошо вам надо мной смеяться, — говорил он иногда, — а разве вы сами не делали ошибок, когда учились играть?
— Конечно, и я ошибалась, но, сказать по правде, Ромеш-бабу, мои ошибки не идут ни в какое сравнение с вашими.
И все же Ромеш не успокаивался. Смеясь, он опять начинал сначала.
Уже упоминалось, что Онноду-бабу никак нельзя было назвать ценителем музыки, однако, прислушиваясь порой к игре Ромеша, он вдруг многозначительно замечал:
— Недурно звучит. Пожалуй, со временем Ромеш может стать порядочным музыкантом.
— Ну да! Мастером по части извлечения диссонансов, — смеялась Хемнолини.
— Право же, он сделал значительные успехи с тех пор, как я слышал его в первый раз. На мой взгляд, если Ромеш постарается, его игра будет не так уж плоха. Тут, как и в пении, нужна лишь постоянная практика. Стоит только одолеть простейшие гаммы, — а там уж все пойдет как по маслу.
На подобные аксиомы возразить было нечего, и всем оставалось лишь умолкнуть в почтительном благоговении перед авторитетом Онноды-бабу.
Глава одиннадцатая
Почти каждую осень, во время праздника Пуджа[9] Оннода-бабу и Хемнолини, пользуясь дешевыми билетами, отправлялись в Джобболпур, где служил муж сестры Онноды-бабу. Стимулом для этих ежегодных поездок являлась неугасающая надежда Онноды-бабу улучшить свое пищеварение.
Был уже конец августа. До праздничных каникул оставалось совсем немного времени, и Оннода-бабу занялся приготовлениями к путешествию.
В ожидании близкой разлуки Ромеш стал теперь заниматься музыкой особенно усердно.
Как-то в разговоре с ним Хемнолини заметила:
— Мне кажется, Ромеш, вам было бы очень полезно на время переменить климат. Что ты скажешь на это, отец?
Подумав, Оннода-бабу решил про себя, что такое предложение не лишено смысла: Ромеш перенес тяжелую утрату, и поездка может рассеять его горестные воспоминания.
— Конечно, — сказал он, — перемена воздуха на несколько дней — прекрасная вещь. Знаешь, Ромеш, я заметил, что в любом месте, — будь это западные провинции или другая область, — перемена климата действует благотворно только в течение нескольких дней. Первое время появляется хороший аппетит, начинаешь много есть, а потом — опять все по-старому: тяжесть в желудке, изжога, и что ни съешь, все…
— Ромеш, вы когда-нибудь видели Нормодский водопад? — прервала отца Хемнолини.
— Нет, я ни разу не бывал в тех местах.
— Тогда вам стоит его посмотреть. Правда, отец?
— Действительно, почему бы Ромешу не прехать с нами. Таким образом он и Климах переменит и Мраморные скалы увидит.
При создавшемся положении вещей сочетание перемены воздуха с созерцанием Мраморных скал было для Ромеша делом несомненно исключительной важности, поэтому ему оставалось только согласиться.
Весь этот день Ромеш, казалось, витал в небесах. Он заперся у себя дома и, чтобы как-нибудь выразить охвативший его восторг, уселся за фисгармонию. Его обезумевшие пальцы, откинув прочь все законы гармонии, затеяли на этом несчастном инструменте настоящий танец джиннов.
Последние несколько дней перспектива скорой разлуки с Хемнолини погружала Ромеша в бездну уныния. Теперь же в порыве восторга он бросал на ветер все свои музыкальные познания, добытые ценой мучительных усилий.
Стук в дверь прервал его.
— Что вы делаете, Ромеш-бабу! Прошу вас, перестаньте, — послышался чей-то голос.
Пунцовый от стыда, Ромеш открыл дверь, и в комнату вошел Окхой.
— Что вы тут безобразничаете? Смотрите, как бы вам не попасть за это под одну из статей вашего же уголовного кодекса!
— Признаюсь, виновен, — рассмеялся Ромеш.
— Ромеш-бабу, если вы ничего не имеете против, мне бы хотелось кое о чем поговорить с вами, — сказал Окхой.
Обеспокоенный таким вступлением, Ромеш выжидающе посмотрел на него.
— Насколько вы могли заметить, судьба Хемнолини для меня далеко не безразлична, — начал Окхой.
Ромеш ничего не ответил, ожидая дальнейших объяснений.
— Я друг Онноды-бабу и полагаю, что вправе узнать, каковы ваши намерения относительно Хемнолини.
Ромешу не понравились ни слова, ни тон, каким они были сказаны, но он не умел отвечать резко и к тому же не искал ссоры. Поэтому он спокойно спросил:
— Разве у вас есть основания подозревать меня в дурных намерениях по отношению к Хемнолини?
— Видите ли, вы происходите из семьи, которая придерживается индуизма[10], и ваш отец был его последователем. Мне известно, что он увез вас в деревню с целью женить там, и сделал это из опасения, как бы вы не взяли в жены девушку из семьи, не исповедывающей вашей религии.
У Окхоя была особая причина претендовать на осведомленность в этом деле, так как не кто иной, как он, заронил подобные опасения в душу Броджмохана, отца Ромеша.
В течение нескольких минут Ромеш не решался взгляд нуть в лицо Окхою.
— И вы считаете себя свободным жениться на ком вздумается только потому, что ваш отец умер? — продолжал Окхой. — Ведь он хотел…
Но Ромеш был уже больше не в силах сохранять спокойствие.
— Послушайте, Окхой-бабу, если вам придет в голову дать мне совет, касающийся чего-нибудь другого, я с удовольствием его выслушаю. Но не вам судить о моих отношениях с отцом.
— Хорошо, оставим это. Но все же вы должны мне ответить, собираетесь ли и можете ли вы жениться на Хемнолини? — настаивал Окхой.
Получая удар за ударом, Ромеш потерял, наконец, всякое терпение:
— Знаете, Окхой, может быть, вы и друг Онноды-бабу, но со мной вас не связывают столь тесные узы, поэтому соблаговолите прекратить этот разговор.
— Если бы все зависело только от меня, он давно был бы прекращен, и вы могли бы и дальше проводить время с прежней беспечностью, нисколько не заботясь о последствиях своего поведения. Но общество — плохое место для таких беззаботных людей, как вы. Конечно, вы из тех, кто размышляет лишь о возвышенных материях и мало обращает внимания на то, что творится на земле, — иначе вы, может быть, поняли бы такую простую вещь, что подобное поведение в отношении дочери всеми уважаемого человека сопряжено с риском подвергнуться осуждению посторонних. Если ваше намерение сводится именно к тому, чтобы губить репутацию людей, чьим мнением вы дорожите, — вы на верном пути.
— Благодарю за предостережение, — ответил Ромеш. — Я немедленно решу, как мне поступить, и приведу в исполнение свое решение — вы можете не сомневаться. Теперь довольно об этом.
— Как вы меня порадовали, Ромеш-бабу! Теперь я спокоен, видя, что вы, наконец, приняли твердое решение и задумали осуществить его. Этим мой разговор с вами исчерпывается. Виноват, что прервал ваши занятия музыкой. Ну, ничего, начнете сначала. А я удаляюсь, — и Окхой поспешно вышел.
Ромеш потерял всякую охоту заниматься музыкой, хотя бы и совершенно чуждой законам гармонии. Он бросился на постель и долго лежал, закинув руки за голову. Наконец, услышав, что часы звонко пробили пять, он торопливо вскочил. Лишь всевышнему известно, что именно он решил предпринять в дальнейшем, но в одном только у него действительно не было ни малейших колебаний: необходимо сейчас же отправиться в соседний дом и выпить там чашку чая.
Когда он пришел, Хемнолини, встревоженная его видом, спросила:
— Вы не больны, Ромеш?
— Нет, нет, ничего особенного, — ответил он.
— Пустяки, — заметил Оннода-бабу, — просто избыток желчи в организме. Я вот принимаю такие пилюли, проглотишь штучку, и…
— Не корми его этими пилюлями, отец, — рассмеялась Хемнолини, — мне еще ни разу не приходилось встречать человека, которого ты бы не угощал ими, но пользы они пока никому не принесли.
— К сожалению, не помогают. Но знаешь, я все же убедился, что эти пилюли много лучше всех, какие я принимал раньше.
— Да ведь ты всегда так: как только начинаешь принимать новое лекарство, обязательно приписываешь ему самые исключительные свойства.
— Не верь ей, Ромеш, спроси хоть Окхоя, помогает ему мое лекарство или нет, — протестовал Оннода-бабу.
Хемнолини сразу замолчала, опасаясь, как бы не был тут же вызван упомянутый свидетель. Но он уже появился сам, еще с порога обратившись к Онноде-бабу:
— Я был бы вам очень благодарен, если б вы дали мне еще одну пилюлю. Они мне, знаете, чрезвычайно помогают — после них я чувствую себя необыкновенно бодро.
При этих словах Оннода-бабу победоносно взглянул на дочь.
Глава двенадцатая
Гостеприимный Оннода-бабу ни за что не хотел отпустить. Окхоя сразу после того, как вручил ему просимое лекарство, да и сам Окхой не очень торопился уходить и испытующе поглядывал на Ромеша.
Ромеш никогда не отличался особой наблюдательностью, но сегодня даже от него не могли укрыться странные взгляды Окхоя, и это лишала его душевного равновесия.
Хемнолини была необычайно оживлена. Ее радовала мысль, что время поездки на запад приближается, и она решила сейчас же по приходе Ромеша обсудить с ним вместе как лучше провести каникулы, какие книги взять с собой, чтобы почитать на досуге. Было условлено, что Ромеш придет сегодня пораньше — тогда никто, а главное Окхой, который всегда являлся как раз к чаю, не успеет помешать их интимному совещанию.
Но сегодня Ромеш пришел еще позднее, чем обычно, был задумчив, и это значительно охладило энтузиазм Хемнолини. Выбрав удобный момент, девушка тихо спросила:
— Почему вы так поздно?
— Да, кажется, я действительно немного запоздал, — не сразу и довольно рассеянно ответил Ромеш.
А Хемнолини так старалась быть готовой вовремя! Она поднялась очень рано, тщательно причесалась, приоделась и стала ждать Ромеша, то и дело нетерпеливо поглядывая на часы. Сначала ей казалось, что часы идут неправильно и времени не так уж много. Когда же стало совершенно очевидно, что Ромеш действительно запаздывает, Хемнолини взяла вышивание и села у окна, стараясь хоть как-нибудь отвлечься от грустных мыслей.
Наконец, Ромеш пришел. Он был явно чем-то озабочен и даже не нашел нужным объяснить свое опоздание, словно они и не договаривались встретиться сегодня утром.
Хемнолини едва дождалась конца чаепития. Когда все отодвинули свои чашки, она сделала последнее героическое усилие привлечь внимание Ромеша. В углу комнаты на столе лежали книги. Она взяла их, делая вид, что хочет унести. Это движение вывело Ромеша из задумчивости, и он быстро подошел к ней:
— Куда же вы уносите книги? Ведь мы хотели отобрать некоторые из них и взять с собой!
У Хемнолини дрогнули губы, она едва сдерживала слезы.
— Оставьте, незачем отбирать их… — проговорила она и, поспешно поднявшись, ушла в спальню. Там она бросила книги прямо на пол.
После ее ухода настроение Ромеша испортилось окончательно. Окхой же, посмеиваясь про себя, участливо спросил:
— Вы, кажется, не совсем здоровы, Ромеш-бабу?
Ромеш пробормотал в ответ что-то весьма невразумительное.
При одном воспоминании о здоровье Оннода-бабу сразу оживился.
— Вот, вот, и я сказал то же самое, стоило мне только взглянуть на него.
— Такие люди, как Ромеш, пренебрегают заботой о здоровье, — лукаво сощурившись, продолжал Окхой. — Ведь они живут одним интеллектом и считают, что глупо обращать внимание на такой пустяк, как несварение желудка.
Оннода-бабу, приняв это заявление всерьез, стал пространно доказывать, что заботиться о пищеварении надлежит всем, даже философам.
У Ромеша было такое ощущение, словно его поджаривают на медленном огне.
— Послушайте моего совета, Ромеш, — закончил свою речь Окхой, — примите пилюлю Онноды-бабу и отправляйтесь-ка пораньше спать.
— Я уйду, как только поговорю с Оннодой-бабу.
— Так бы давно и сказали! — воскликнул Окхой, вставая. — С Ромешем всегда так. Он что-то скрывает, а когда подходящее время уже упущено, вдруг спохватывается и начинает волноваться.
С этими словами Окхой ушел, а Ромеш, пристально глядя на кончики своих ботинок, заговорил:
— Оннода-бабу, вы принимали меня как родного, и я даже не могу выразить, как я вам благодарен за это.
— Ну и прекрасно! Ты же друг нашего Джогена, разве я мог относиться к тебе иначе?
Вступление было сделано, но Ромеш никак не мог решиться начать объяснение. Чтобы помочь ему, Оннода-бабу заметил:
— Право же, Ромеш, мы сами очень счастливы, что принимаем у себя в доме, как сына, такого достойного юношу.
Однако и после этого Ромеш не смог обрести дар речи.
— Ты, наверно, обратил внимание, что люди много сплетничают на твой счет, — продолжал Оннода-бабу. — Они считают, что для Хемнолини уже настало время думать о замужестве, и теперь ей надо быть особенно осторожной в выборе знакомств. Но я всегда отвечаю им, что вполне доверяю Ромешу и уверен, что он никогда не захочет очернить нас в глазах общества.
— Вы меня хорошо знаете, Оннода-бабу, — проговорил, наконец, Ромеш, — и если считаете достойным Хемнолини, то…
— Не продолжай. Я так и думал. Если бы не печальное событие в твоей семье, можно было бы уже давно назначить день свадьбы. Но имей в виду, дорогой мой, не следует откладывать это дело надолго; ходят всякие сплетни, и чем скорее мы положим конец им, тем лучше. Как ты полагаешь?
— Когда вам будет только угодно. Но главное, надо узнать мнение вашей дочери.
— Верно, но я-то хорошо знаю, что ее мнение совпадает с твоим. Завтра утром мы все решим окончательно.
— Теперь разрешите мне уйти, я и так слишком долго задержал вас.
— Подожди минутку. По-моему, хорошо было бы устроить вашу свадьбу еще до отъезда в Джобболпур.
— Да… но ведь до него слишком мало времени!
— Примерно десять дней. Если ваша свадьба состоится в следующее воскресенье, на сборы останется дня три. Видишь ли, Ромеш, я бы не стал так торопить тебя, но надо же мне и о своем здоровье подумать.
Ромеш согласился и, проглотив еще одну пилюлю Онноды-бабу, отправился домой.
Глава тринадцатая
Приближались школьные каникулы.
Ромеш заранее условился с начальницей пансиона, что Комола останется в школе и на праздники.
На следующий день, шагая рано утром по тихой улице к главной площади города, Ромеш решил, что сразу после свадьбы он расскажет Хемнолини все о Комоле, а затем, выбрав подходящий момент, объяснится и с Комолой.
Таким образом будет достигнуто полное взаимопонимание, Комола станет подругой Хемнолини, и они спокойно и счастливо заживут все вместе.
Он понимал, что относительно Комолы неизбежно пойдут всякие толки, и поэтому решил не оставаться в Калькутте, а сразу же после свадьбы уехать в Хаджарибаг и заняться там адвокатской практикой.
Возвратившись с прогулки, юноша отправился к Онноде-бабу и на лестнице неожиданно столкнулся с Хемнолини. Будь это раньше, при такой встрече они бы обязательно заговорили между собой. Но сегодня Хемнолини вдруг залилась краской, легкая улыбка, как нежный отблеск зари, промелькнула на ее лице, и, опустив глаза, девушка убежала прочь.
Возвратись домой, Ромеш уселся за фисгармонию и стал старательно воспроизводить ту самую мелодию, которой обучила его Хемнолини. Но нельзя целый день играть одно и то же. Оставив фисгармонию, он попытался читать стихи, однако вскоре убедился, что никакая поэма не способна достичь тех высот, где сияет солнце его любви.
А Хемнолини весело продолжала свои домашние дела. После полудня она, наконец, освободилась и, притворив дверь спальни, села за вышивание. Спокойное лицо девушки светилось безмерным счастьем: ликующее чувство любви всецело захватило ее.
Задолго до обычного часа семейных чаепитий, Ромеш бросил книгу стихов, оставил фисгармонию и явился в дом Онноды-бабу. Прежде Хемнолини всегда спешила ему навстречу. Но сегодня юноша увидел, что столовая пуста, наверху тоже никого не было. Значит, Хемнолини до сих пор еще не выходила из своей комнаты.
В положенное время появился Оннода-бабу и занял свое место за столом.
Ромеш то и дело робко поглядывал на дверь. Наконец, послышались шаги, но это оказался всего лишь Окхой.
Поздоровавшись с Ромешем довольно тепло, он сказал:
— А я только что от вас, Ромеш-бабу.
При этом сообщении по лицу Ромеша пробежала тень беспокойства.
— Чего вы испугались, Ромеш? — рассмеялся Окхой. — Я вовсе не собираюсь на вас нападать. Ведь это дружеский долг — поздравить со счастливым событием в вашей жизни. Это было единственной целью моего посещения.
Во время разговора Оннода-бабу вдруг заметил отсутствие Хемнолини. Он окликнул ее и, не получив ответа, сам поднялся к ней наверх.
— Что это ты до сих пор сидишь со своим вышиванием, Хем! — сказал он. — Чай готов, Ромеш и Окхой уже пришли.
Хемнолини слегка покраснела.
— Прикажи, отец, подать чай сюда, — попросила она. — Мне нужно докончить эту работу.
— Ну и характер у тебя, Хем! Стоит увлечься чем-нибудь, так уж до остального тебе и дела нет. Когда шли экзамены, ты от книги головы не поднимала, а теперь вот занялась вышиванием, прямо из рук не можешь выпустить, хоть тут все пропади. Нет, это никуда не годится! Спускайся-ка вниз!
После этой отповеди Оннода-бабу взял дочь за руку и чуть ли не насильно привел в столовую. Но она ни на кого не подняла глаз и, казалось, все свое внимание сосредоточила на разливании чая.
— Что ты делаешь, Хем? — в недоумении воскликнул вдруг Оннода-бабу. — Зачем ты кладешь мне сахар? Ты же знаешь, что я всегда пью чай без сахару!
А Окхой, смеясь, заметил:
— Сегодня ее щедрость не знает границ. Она готова одарить сладким всех без исключения.
Эти скрытые насмешки по адресу Хемнолини были невыносимы для Ромеша. Он тут же решил, что после свадьбы они прекратят всякие отношения с Окхоем.
Несколько дней спустя, когда все снова собрались за чайным столом Онноды-бабу, Окхой неожиданно заявил:
— Знаете, Ромеш-бабу, вам следовало бы переменить имя.
— Хотелось бы знать почему, — раздраженно спросил Ромеш. Туманные намеки Окхоя постоянно выводили его из себя.
— Взгляните сюда, — сказал Окхой, развертывая газету. — Один студент по имени Ромеш сдал экзамены, послав на них вместо себя кого-то другого. Однако его все же разоблачили.
Зная, что Ромеш никогда не может сразу найти ответ на подобные шутки Окхоя, Хемнолини всегда считала своей обязанностью брать на себя защиту Ромеша. Так же поступила она и сейчас и, не выдавая своего негодования, смеясь отпарировала удар:
— Если так, то в тюрьмах должна быть масса Окхоев, попавшихся в таких делах.
— Нет, вы только посмотрите на нее! — заметил Окхой. — Хочешь дать человеку дружеский совет, а она уже сердится. Если на то пошло, я расскажу вам сейчас целую историю. Вы, конечно, знаете, что моя младшая сестренка, Шорот, ходит в высшую женскую школу. Так вот, вчера вечером она приходит и говорит мне: «Знаешь, дада, жена вашего Ромеша учится у нас в школе». «Глупенькая, — возражаю я, — ты думаешь, нет других Ромешей на свете?» «Кто бы этот человек ни был, он очень жесток к своей жене, — заявляет Шорот. — На праздниках все девочки уезжают домой, а он оставил свою жену в пансионе. Бедняжка себе все глаза повыплакала». Тогда-то мне пришло в голову, что это не дело: ведь и другие могут ошибиться так же, как Шорот.
Оннода-бабу весело рассмеялся:
— Ты просто сумасшедший, Окхой! Как можно говорить такие глупости! С какой стати наш Ромеш должен менять имя только потому, что какой-то другой Ромеш оставил свою жену плакать в школе.
Ромеш вдруг побледнел и, встав из-за ттола, вышел из комнаты.
— Что с вами, Ромеш-бабу? Уж не рассердились ли вы? Не подумайте, что я вас в чем-то подозреваю! — крикнул Окхой и кинулся вслед за Ромешем.
— Что это они в самом деле? — воскликнул Оннода-бабу.
Хемнолини внезапно разрыдалась.
— А ты-то тут при чем, Хем? Почему ты плачешь? — встревоженно спросил Оннода-бабу.
— Отец! Окхой-бабу ужасно несправедлив, — выговорила, наконец, она прерывающимся от слез голосом. — Как он смеет так оскорблять в нашем доме достойного человека?
— Ну, Окхой просто пошутил, не стоит принимать это так близко к сердцу.
— Я не терплю подобных шуток, — ответила Хем и убежала наверх.
Приехав в Калькутту, Ромеш приложил немало усилий, чтобы найти мужа Комолы. Наконец, с большим трудом ему удалось разыскать местечко под названием Дхобапукур, где жил Тариничорон, дядя девушки. Ромеш написал ему письмо.
Утром, на следующий день после описанного случая, он получил ответ на свое послание. Тариничорон писал, что после несчастного случая он не имел никаких известий о Нолинакхе, муже племянницы. Нолинакха был врачом в Рангпуре. Тариничорон писал туда и узнал, что и там о нем до сих пор ничего неизвестно. Откуда Нолинакха родом, Тариничорон не знает.
Теперь Ромешу окончательно пришлось расстаться с надеждой, что муж Комолы может быть жив.
С той же почтой он получил много других писем: это были поздравления от друзей по случаю свадьбы. Одни требовали, чтобы он устроил праздничный обед, другие шутливо упрекали за то, что Ромеш так долго держал все в секрете.
В это время слуга Онноды-бабу принес записку. Сердце Ромеша забилось, когда он узнал почерк Хемнолини.
«Слова Окхоя заронили в ней недоверие, и, чтобы рассеять его, она решилась написать мне», — подумал Ромеш.
Записка была совсем коротенькая:
«Вчера Окхой-бабу очень нехорошо поступил с Вами. Я думала, что Вы зайдете к нам сегодня утром. Почему же Вы не пришли? Зачем так близко принимать к сердцу то, что говорит Окхой-бабу? Вы же знаете, я не верю ни одному его слову. Обязательно приходите сегодня пораньше, — я не буду заниматься вышиванием».
В этих немногих словах Ромеш угадал боль, которая терзала любящее, полное всепрощения сердце Хемнолини, и глаза его наполнились слезами.
Ромеш понял, что со вчерашнего вечера Хемнолини со страстным нетерпением ожидает его, жаждет облегчить его страдания. Прошла ночь, миновало утро, а он все не шел, и тогда, не в силах больше ждать, она написала эту записку.
Ромеш еще накануне думал о том, что необходимо без промедления открыть Хемнолини все. Но после вчерашнего происшествия сделать это признание стало крайне трудно: ведь теперь всякий может подумать, что Ромеш старается увильнуть от ответственности за свои поступки. К тому же для него была невыносимой мысль, что тогда все это будет выглядеть, как триумф Окхоя. «Окхой действительно считает мужем Комолы какого-то другого Ромеша, — продолжал рассуждать юноша, иначе он ни за что бы не ограничился одними намеками, а устроил шум на весь город. Надо во что бы то ни стало немедленно что-то придумать».
Но тут пришло еще одно письмо. Оно было от начальницы школы, где училась Комола. Она писала, что девушка находится в очень угнетенном состоянии, и она не считает себя вправе оставлять Комолу на праздники в пансионе. Со следующей субботы начинаются каникулы, и Ромешу совершенно необходимо взять девушку на это время домой.
Взять к себе Комолу в следующую субботу! А в воскресенье его свадьба!
Вдруг в комнату влетел Окхой.
— Ромеш-бабу, вы должны меня простить, — заговорил он. — Если бы я знал, что вы так рассердитесь на столь безобидную шутку, я бы не коснулся этой темы. Ведь обычно люди сердятся только тогда, когда в шутке есть доля правды, в моих же словах нет никакого основания для того, чтобы при всех так выражать свое возмущение. Оннода-бабу со вчерашнего дня не перестает ругать меня, а Хемнолини даже разговаривать со мной не желает. Когда я сегодня утром зашел к ним, она сразу же вышла из комнаты. Ну скажите, что я сделал плохого?
— Мы все это обсудим в свое время, — ответил Ромеш. — А сейчас, простите, я очень занят!
— А, понимаю, приготовления к свадьбе, — ведь времени осталось совсем мало! Тогда я не буду отрывать вас от приятных забот. До свиданья, — и Окхой скрылся.
А Ромеш отправился в дом к Онноде-бабу. Войдя, он сразу увидел Хемнолини. Уверенная, что он придет рано утром, она давно приготовилась к встрече: сложенное и завернутое в платок вышивание лежало на столе, рядом со столом стояла фисгармония. Девушка предполагала заняться с Ромешем музыкой, как они делали всегда, но втайне надеялась услышать и другую музыку, — ту, которая звучит в сердцах одних влюбленных и слышна только им.
При появлении Ромеша она нежно улыбнулась, но улыбка тотчас угасла, так как Ромеш прежде всего спросил, где Оннода-бабу.
— Отец у себя в кабинете, — ответила она. — Разве он вам очень нужен? Может быть, подождете? Папа спустится к чаю.
— У меня к нему неотложное дело. Я не могу ждать.
— Тогда идите, он у себя.
Ромеш ушел.
«Неотложное дело!» В этом мире дела не терпят промедления, лишь любовь должна терпеливо ждать у дверей своего часа.
Казалось, в эту минуту ясный осенний день со вздохом притворил золотую дверцу своей сокровищницы радостей.
Хемнолини отодвинула кресло от фисгармонии и, пересев к столу, взялась за вышивание. Но у нее было такое чувство, будто игла скользила не по материи, а вонзалась прямо ей в сердце.
Много же времени, однако, требует неотложное дело Ромеша! Оно, как раджа, забирает себе столько часов, сколько пожелает, а любовь вынуждена ждать лишь милостыни!
Глава четырнадцатая
Ромеш вошел к Онноде-бабу.
Старик дремал в кресле, прикрыв лицо газетой. От вежливого покашливания Ромеша он тотчас проснулся и, протянув ему газету, воскликнул:
— Ты читал, Ромеш, сколько людей погибло в этом году от холеры?
Но Ромеш предпочел сразу приступить к изложению цели своего посещения.
— Свадьбу придется на несколько дней отложить, — сказал он. — У меня срочное дело.
Эти слова заставили Онноду-бабу моментально забыть о жертвах холеры. Некоторое время он пристально смотрел на Ромеша, затем проговорил:
— Что случилось, Ромеш? Ведь приглашения уже разосланы.
— Можно сегодня же известить всех приглашенных, что свадьба откладывается на следующее воскресенье.
— Ты меня поражаешь, Ромеш! Это же не судебный процесс, который можно откладывать на любой срок и назначать, когда вздумается! Хотел бы я знать, что за срочное у тебя дело?
— Оно действительно очень важное и срочное.
— «Срочное!» — и Оннода-бабу упал в кресло, как сломленное ветром банановое дерево. — Замечательно, великолепно! — продолжал он. — Впрочем, поступай, как знаешь. Захотел отменить приглашения — отменяй! А если меня спросят, я отвечу, что ничего не знаю, что знает только жених, и он один может объяснить, почему свадьба отложена и когда ему будет угодно ее назначить.
Ромеш стоял молча, опустив голову.
— А Хемнолини ты об этом сказал? — спросил Оннода-бабу.
— Нет, она еще не знает.
— А ей-то все-таки не мешало бы знать, ведь это не только твоя свадьба.
— Я решил сказать ей после того, как переговорю с вами.
— Хем! — позвал Оннода-бабу.
— В чем дело, отец? — спросила девушка, входя в комнату.
— Ромеш говорит, что из-за каких-то там важных дел у него нет времени устраивать сейчас свадьбу.
Хемнолини изменилась в лице и пристально взглянула на Ромеша. Юноша виновато молчал. Он не ожидал, что это известие будет преподнесено Хемнолини в такой форме.
Всем своим измученным сердцем Ромеш прекрасно понимал, как глубоко должно ранить Хемнолини это неприятное сообщение, переданное притом столь неожиданно и грубо. Но выпущенную стрелу не вернешь, и Ромеш ясно видел, что эта стрела вонзилась в самое сердце Хемнолини.
Сказанного смягчить нельзя было ничем. Все совершенно ясно: свадьбу придется отложить, у Ромеша важное дело, и он не хочет сказать, в чем оно заключается. Никакого нового объяснения тут не придумаешь.
Оннода-бабу взглянул на дочь.
— Ну, дело это ваше, вы и решайте, как быть.
— Я ничего не знала, отец, — низко опустив голову, ответила Хемнолини и тут же скрылась за дверями, как исчезают последние лучи солнца, закрытого грозовыми тучами.
Оннода-бабу, делая вид, что читает газету, погрузился в размышления.
Ромеш несколько минут сидел неподвижно. Затем вдруг резко поднялся и вышел из комнаты.
Войдя в большую гостиную, он увидел Хемнолини, молча стоявшую у окна.
Перед ее глазами была предпраздничная Калькутта: по всем улицам и переулкам, подобно реке в половодье, катился и бурлил пестрый людской поток.
Ромеш медлил подойти к Хемнолини. Несколько минут он стоял, не отрывая от нее пристального взгляда. Надолго сохранилось в его памяти очертание освещенной неярким осенним солнцем фигуры, неподвижно замершей в нише окна. И тонкий овал лица, и локоны красивой прически, и нежные завитки волос на затылке, и мягкий блеск золотого ожерелья, даже свободно падающий с левого плеча край одежды, — все, все, до мельчайшей детали запечатлелось в его измученном сердце, будто высеченное резцом скульптора.
Наконец, Ромеш медленно подошел к девушке. Но, казалось, Хемнолини приятнее было смотреть на прохожих, чем на стоявшего рядом с ней юношу.
— У меня к вам просьба, — произнес он голосом, в котором дрожали слезы.
Почувствовав, сколько муки и мольбы скрывается в его словах, Хемнолини быстро повернулась к нему.
— Верь мне, — продолжал Ромеш, впервые обращаясь к ней на «ты». — Обещай, что будешь верить. А я призываю в свидетели всевышнего, что никогда не обману тебя!
Больше Ромеш не произнес ни слова, но глаза его были полны слез.
Тогда Хемнолини взглянула ему прямо в лицо, и в этом взгляде он прочел сострадание и любовь. Однако уже через мгновение мужество покинуло ее, и слезы потоком хлынули из глаз.
Здесь, в уединении оконной ниши, без слов и объяснений, между ними произошло полное примирение. Необычайное спокойствие охватило обоих.
Тихая, омытая слезами грусть овладела Ромешем, и несколько минут протекли в молчании. Затем с глубоким вздохом облегчения он сказал:
— Хочешь знать, почему я отложил на неделю нашу свадьбу?
Хемнолини молча покачала головой: нет, она не хотела этого знать.
— Тогда я все расскажу тебе после свадьбы.
При упоминании о свадьбе слабый румянец вспыхнул на щеках Хемнолини.
Сегодня, после полудня, когда она радостно наряжалась к приходу Ромеша, ее взволнованное предстоящей встречей воображение рисовало множество шуток, тайных объяснений и всяких других картин счастья. Но ей и в голову не могло прийти, что всего через несколько минут они обменяются гирляндами верности[11], что прольются слезы, что между ними не будет никаких объяснений — просто они несколько мгновений простоят рядом, и возникшие от этого безмерная радость, глубокий покой и безграничное доверие друг к другу соединят их теснее любых признаний.
— Тебе надо пойти к отцу, — проговорила, наконец, Хемнолини. Он очень расстроен.
С легким сердцем, готовый встретить грудью любые удары, которые захочет обрушить на него мир, отправился Ромеш к Онноде-бабу.
Глава пятнадцатая
Оннода-бабу с беспокойством взглянул на Ромеша, когда тот снова вошел к нему.
— Дайте мне список приглашенных, и я сегодня же извещу их о перемене дня свадьбы, — сказал Ромеш.
— Значит, ты все-таки решил отложить ее? — спросил Оннода-бабу.
— Да, иного выхода я не вижу.
— В таком случае, дорогой мой, запомни одно: все это меня не касается, что нужно, устраивай сам. Я не желаю, чтобы надо мной смеялись. Если ты хочешь такое дело, как брак, превращать в какую-то детскую игру, то людям моего возраста лучше в ней не участвовать. Вот тебе список приглашенных. Большая часть средств, которые я уже истратил, теперь пропадет даром, а я не могу себе позволить пригоршнями швырять деньги в воду.
Ромеш готов был принять на свои плечи все бремя расходов и хлопот. Он уже собрался уходить, когда Оннода-бабу остановил его.
— Ромеш, ты решил, где будешь практиковать после свадьбы? Полагаю, не в Калькутте?
— Нет, конечно. Подыщу хорошее место где-нибудь на западе.
— Вот это правильно. Неплохое место, например, Этойя. Вода там чрезвычайно полезна для желудка. Мне как-то случилось прожить в Этойе целый месяц, и я убедился, что даже мой аппетит стал куда лучше. Знаешь, дорогой, ведь на всем свете у меня одна Хем. И она не сможет быть вполне счастлива без меня и у меня не может быть без нее покоя. Потому-то я так и забочусь, чтобы ты непременно выбрал здоровую местность.
Оннода-бабу, воспользовавшись тем, что Ромеш чувствует себя виноватым, решил не упускать такого удобного случая и предъявить свои требования. Предложи он сейчас не Этойю, а Гаро или Черапунджи, Ромеш согласился бы и на это.
— Хорошо, я припишусь к адвокатуре в Этойе, — сказал Ромеш, уходя. Отмену приглашений он взял на себя.
Через несколько минут явился Окхой. Оннода-бабу тут же сообщил ему, что свадьба отложена на неделю.
— Что вы говорите! Не может быть! — воскликнул Окхой. — Ведь она должна быть послезавтра.
— Конечно, было бы лучше, если бы дело обстояло по-другому. У обыкновенных людей этого не бывает, — ответил Оннода-бабу. — Но от вас, современной молодежи, можно ожидать всего.
Окхой принял чрезвычайно озабоченный вид. Мысль его деятельно заработала.
— Надо глаз не спускать с человека, которого выбираешь в мужья для своей дочери, — сказал он. — О том, в чьи руки на всю жизнь отдаешь ее, необходимо разузнать все. Будь он хоть сам бог, предосторожность в таких делах никогда не мешает.
— Ну, уж если подозревать такого юношу, как Ромеш, то вообще никому на свете нельзя верить, — возразил Оннода-бабу.
— А Ромеш сказал, почему он откладывает свадьбу? — спросил Окхой.
— Нет, — ответил Оннода-бабу, озабоченно проводя рукой по волосам, — этого он не сказал. Когда я задал ему такой вопрос, он просто объявил, что это совершенно необходимо.
Окхой отвернулся, чтобы скрыть улыбку.
— Но вашей дочери он, разумеется, все объяснил? — спросил Окхой.
— Наверно.
— Не лучше ли позвать ее сюда и точно узнать, в чем дело?
— Вот это правильно, — согласился Оннода-бабу и громко позвал дочь.
Хемнолини вошла в комнату, но, увидев Окхоя, встала около отца так, чтобы нельзя было рассмотреть ее лица.
— Ромеш сказал тебе, почему так внезапно пришлось отложить вашу свадьбу? — спросил Оннода-бабу.
Хемнолини отрицательно покачала головой.
— А сама ты разве не спросила его?
— Нет.
— Удивительно! Я вижу, ты такая же чудачка, как и он. Ромеш заявляет, что у него нет времени жениться, а ты отвечаешь: «Хорошо, мол, поженимся потом». И все! Вопрос исчерпан!
Окхой стал на сторону Хемнолини:
— Зачем же у человека выпытывать что-нибудь, когда он не желает объяснить свои поступки. Если бы можно было, Ромеш-бабу сам бы все рассказал.
— Я не желаю выслушивать мнение посторонних по этому поводу. Меня лично ничуть не расстроило то, что произошло, — вспыхнув, проговорила Хемнолини и быстро вышла из комнаты.
Лицо Окхоя потемнело, но он заставил себя улыбнуться.
— Уж так устроен свет, что дружба — самое неблагодарное из занятий. Поэтому-то я вполне сознаю всю ее важность. Вы можете презирать меня или ругать, но я считаю своим долгом заявить, что не верю Ромешу. Я не могу оставаться спокойным, когда вижу, что вам может грозить хоть малейшая неприятность. Сознаюсь, это моя слабость. Завтра приезжает Джоген, и, если он, узнав обо всем, останется спокойным за судьбу своей сестры, я не вымолвлю больше ни слова.
Нельзя сказать, чтобы Оннода-бабу абсолютно не понял, что сейчас настал самый подходящий момент расспросить Окхоя о поведении Ромеша. Но у него было инстинктивное отвращение ко всякому шуму, а шум неизбежно поднимается, когда начинают разоблачать какую-нибудь тайну.
И он гневно обрушился на Окхоя.
— Ты слишком подозрителен, Окхой! Как ты смеешь, не имея никаких доказательств…
Окхой умел владеть собой, но тут даже он не мог дольше сдерживаться и быстро заговорил:
— Послушайте, Оннода-бабу! У меня, конечно, много недостатков: я «завидую» жениху, подозреваю «святого», не обладаю достаточными знаниями, чтобы обучать девушек философии, и не дерзаю беседовать с ними о поэзии, — словом, я человек заурядный. Но я всегда был предан вашей семье и люблю вас всем сердцем. Мне, разумеется, во многом трудно соперничать с Ромешем, но я имею право гордиться тем, что никогда ничего не скрывал от вас. Я могу смиренно просить у вас милостыню, но не способен вломиться в ваш дом и обокрасть вас. Завтра же вы узнаете, что я под этим подразумеваю.
Глава шестнадцатая
Ночь застала. Ромеша за рассылкой писем. Наконец, он лег в, постель, но сна не было. Мысли текли двумя потоками, — светлым и темным, как воды при слиянии Ганга и Джамуны. Смешиваясь, оба потока гнали сон. Он долго ворочался с боку на бок, потом встал и подошел к окну. Одна сторона пустынного переулка была погружена в тень, вдоль другой — лежала ослепительная дорожка лунного света.
Ромеш стоял неподвижно. Теперь мысли его обратились ко вселенной, с ее невозмутимым покоем и бесконечностью, туда, где нет ни волнений, ни вражды. Ему представлялось, как, выйдя из-за кулис безграничного и молчаливого мира, стройно, будто под ритм неслышной мелодии, непрерывно сменяются в этом мире жизнь и смерть, труд и отдых, начало и конец. В своем воображении он видел, как оттуда, где нет ни дня, ни ночи, во вселенную, залитую светом звезд, вступает любовь мужчины и женщины.
Ромеш медленно поднялся на крышу и стал смотреть на дом Онноды-бабу. Вокруг было тихо. Лунный свет ткал прихотливые узоры на стенах дома, под карнизами, на темных впадинах дверей и окон, на глинобитной изгороди.
Это было изумительно красиво! И здесь, в этом людном городе, в обыкновенном доме, под скромным женским обликом скрывалось удивительнейшее существо!
Много в столице разных людей: студентов и адвокатов, чужестранцев и местных жителей, — но только одному из всех этих простых смертных, ему, Ромешу, позволила судьба молча стоять у окна в золотистом свете осеннего солнца, рядом с этой девушкой. Эта встреча безмерной радостью осветила его жизнь и весь мир, — и это было чудесно! Чудо преобразило его душу и все вокруг.
До глубокой ночи ходил Ромеш взад и вперед по крыше. Узкий серп месяца спрятался за домом на противоположной стороне улицы, и ночная тьма плотнее окутала землю, лишь небо еще светилось в прощальных объятиях лунного света.
Усталое тело Ромеша вздрогнуло от холода. Внезапно какой-то неведомый страх охватил его сердце. Он вспомнил, что завтра снова предстоит ему борьба на жизненной арене.
Ни одной морщины, проведенной заботами, не лежало на челе неба; лунный свет не тускнел от беспокойных стремлений; ночь была безмятежно спокойна, а вселенная, полная вечного движения бесчисленных звездных миров, погружена в долгий сон. Только людским распрям и тревогам нет конца. Счастье и горе, трудности и бедствия непрерывно волнуют человеческое общество. С одной стороны — вечный покой бесконечности, с другой — вечная борьба на земле! И Ромеш, занятый своими невеселыми думами, спрашивал себя, как могут одновременно существовать рядом такие противоположности! Еще совсем недавно любовь представала перед ним выходящей из таинственных глубин вселенной, величественная в своем спокойствии; теперь же он видел ее в окружении реального мира. Труден и усёян терниями ее путь в этом полном борьбы мире. Какой же из двух образов призрачный и какой истинный?.
На следующий день с утренним поездом с запада вернулся Джогендро. Была суббота, а на воскресенье назначена свадьба Хемнолини. Но, подходя к дверям родного дома, Джогендро не заметил никаких следов приближающегося торжества. Он надеялся увидеть свой дом уже украшенным гирляндами из зелени деодара[12], но здание попрежнему ничем не выделялось среди своих скромных, неприглядных соседей.
Джогендро со страхом подумал, не заболел ли кто-нибудь в семье. Однако, войдя в дом, он увидел, что стол для него накрыт, а Оннода-бабу, сидя перед недопитой чашкой чая, читает газету.
— Здорова ли Хем? — поспешно спросил Джогендро.
— Да, совершенно здорова.
— А что же со свадьбой?
— Отложена до следующего воскресенья.
— Почему?
— Спроси об этом у своего друга. Ромеш соблаговолил нам сообщить только одно: сейчас у него очень важное дело, и свадьбу придется отложить!
Беспечность отца привела Джогендро в негодование.
— Стоит мне уехать, — воскликнул он, — как обязательно случаются всякие неприятности! Ну что за неотложное дело может быть у Ромеша? Он совершенно независим, близких родственников у него не осталось. Если его денежные дела запутаны, не знаю, почему бы не сказать этого прямо. И с какой стати вы так легко согласились на его просьбу?
— Все это вполне справедливо, — заметил Оннода-бабу. — Но ведь Ромеш никуда не сбежал, пойди и расспроси его сам.
Джогендро, обжигаясь, торопливо выпил чашку чая и вышел.
— Подожди, Джоген, зачем так спешить. Лучше бы поел сначала, — крикнул ему вслед Оннода-бабу.
Но Джогендро уже не слышал его. С шумом ворвавшись в дом, где жил Ромеш, он, еще поднимаясь по лестнице, громко кричал:
— Ромеш, Ромеш!
Но Ромеша нигде не было. Джогендро не нашел его ни в спальне, ни в кабинете, ни на крыше, ни в нижнем этаже. После упорных поисков он, наконец, наткнулся на слугу.
На вопрос, где хозяин, слуга ответил, что господин уехал рано утром, взяв с собой немного вещей. Он сказал, что вернется через четыре-пять дней. Куда он уехал, этого слуга не знал.
С угрюмым видом Джогендро вернулся домой и снова сел за стол.
— Что случилось? — спросил Оннода-бабу.
— Не известно, что будет дальше, — мрачно ответил Джогендро. — Человек не сегодня-завтра должен стать мужем твоей дочери, а ты, хоть он и живет рядом, даже не поинтересуешься, чем он занимается, куда уезжает.
— Как же так? Ведь еще вчера вечером он был дома!
— Вот видишь, — вспылил Джогендро. — Ты даже не знал, что он собирается куда-то ехать. Его слуга тоже не имеет понятия, где он теперь. Эта игра в прятки мне совершенно не нравится. Не понимаю, отец, как ты можешь так спокойно ко всему относиться.
После такой отповеди Оннода-бабу постарался придать лицу озабоченное выражение и как можно внушительнее произнес:
— В самом деле, что все это значит?
Накануне Ромешу действительно удалось без особого труда ускользнуть от Онноды-бабу, но юноша не придавал этому никакого значения. В своей беспечности он вполне уверовал в магическое действие таких слов, как «важное дело», и считал их вполне достаточными для оправдания любых отлучек. Поэтому он с таким спокойствием и занялся выполнением тою, что признавал своим неотложным долгом.
— Где Хемнолини? — опросил Джогендро.
— Сегодня она рано пила чай и сразу ушла наверх, — ответил Оннода-бабу.
— Бедняжка, ей, наверно, стыдно за столь странное поведение Ромеша, она боится со мной встретиться.
С этими словами Джогендро поднялся наверх, чтобы успокоить страдающую и удрученную сестру.
Хемнолини сидела в гостиной одна. Заслышав шаги Джогендро, она поспешно раскрыла какую-то книгу, делая вид, что занята чтением. Как только брат вошел в комнату, она отложила книгу и, встав ему навстречу, с веселой улыбкой сказала:
— Когда же ты приехал, дада? Знаешь, мне что-то не нравится твой вид.
— Возможно, что я действительно выгляжу плохо, в этом нет ничего удивительного, — ответил Джоген, опускаясь в кресло. — Мне уже все известно, Хем. Но ты, пожалуйста, не расстраивайся. Так получилось потому, что меня не было дома. Теперь я сам все улажу. Кстати, Хем, Ромеш объяснил тебе причину отсрочки свадьбы?
Хемнолини оказалась в затруднительном положении. Для нее были нестерпимы все эти подозрения относительно Ромеша, и поэтому ей не хотелось говорить брату, что Ромеш и на самом деле ничего ей не объяснил. Но она не умела лгать.
— Ромеш хотел рассказать мне все, — ответила она, — но я решила, что для меня это не так уж важно.
«Это она из гордости, — подумал Джогендро. — Совсем в ее духе». А вслух сказал:
— Тебе не о чем беспокоиться, Хем, сегодня же выясню, что его вынудило так поступить.
— Да я вовсе и не беспокоюсь, — отозвалась Хемнолини, рассеянно перелистывая лежавшую у нее на коленях книгу. — И вообще не хочу, чтобы ты приставал к нему с расспросами.
«Опять гордость», — подумал Джогендро.
— Это уж не твоя забота, — заметил он и уже намеревался уйти, когда Хемнолини стремительно поднялась с кресла.
— Не надо с ним ни о чем говорить, дада. Что бы: вы о нем ни думали, для меня он всегда будет вне всяких подозрений.
Только теперь Джогендро вдруг осенила мысль, что слова сестры звучат отнюдь не гордостью. Сразу проникшись к ней любовью и состраданием, он, усмехнувшись, про себя подумал: «Уж эти мне образованные девицы!.. Не имеют никакого представления о жизни. Столько училась, столько знает, а вот столкнулась с обманом, и не хватает жизненного опыта, чтобы разобраться во всем».
Сравнивая эту беззаветную доверчивость с двуличием того, другого, Джогендро еще больше ожесточился против Ромеша. В сердце его окрепла решимость во что бы то ни стало узнать причину отсрочки. Он вторично сделал попытку уйти, но Хемнолини схватила его за руку:
— Дада, обещай мне, что ты совсем не будешь говорить с ним об этом.
— Там видно будет.
— Нет, дада, не «видно будет», а дай мне слово, иначе я не отпущу тебя. Уверяю тебя, что тут совершенно не о чем беспокоиться. Ну, сделай это ради меня!
Видя такое упорство Хемнолини, Джогендро решил, что Ромеш, конечно, ей все объяснил. Но ведь такую, как Хем, ничего не стоит обмануть какой-нибудь небылицей.
— Послушай, Хем, — сказал он, — тут дело не в подозрительности. Когда девушка собирается замуж, то у людей, на попечении которых она находится, есть определенные обязанности. Возможно, вы прекрасно поняли друг друга и всем довольны — это уж ваше дело. Но ведь этого недостаточно, нужно, чтобы между женихом и нами тоже было полное понимание. И правду говоря, Хем, выслушать его объяснения сейчас важно именно нам, а не тебе. Вот после свадьбы нам уже не о чем будет с вами разговаривать.
С этими словами Джогендро поспешно вышел.
В один миг любовь лишилась завесы, скрывавшей ее от посторонних взглядов. Отношения, которые с каждым днем сближали влюбленных все больше и больше, скоро должны были создать для них особый, их собственный мир. А теперь грубые подозрения других непрерывно наносили любви удар за ударом. Все эти неприятности причиняли Хемнолини столько страданий, что ей не хотелось видеть даже родных и друзей. И когда ушел Джогендро, она предпочла остаться одна в своей комнате.
Выходя из дому, Джогендро столкнулся с Окхоем.
— О Джоген, ты приехал! — воскликнул тот. — И, конечно, обо всем знаешь? Ну, что ты на этот счет думаешь?
— Предполагать можно всякое. Но какой толк попусту спорить и гадать, в чем тут дело? Не время заниматься психологическим анализом, сидя за чайным столом.
— Ты же знаешь, что и я не сторонник пустых разглагольствований, как бы они ни назывались — психологией, философией или поэзией. Я человек дела. Как раз это я пришел тебе сказать.
— Ну хорошо, в таком случае давай говорить о деле, — нетерпеливо сказал Джогендро. — Можешь ты, например, сообщить, куда уехал Ромеш?
— Могу.
— Тогда говори скорее. Где он?
— Сейчас я тебе этого не скажу, но сегодня же, ровно в три часа дня, ты его увидишь.
— В чем же, наконец, дело? Все вы превратились в какое-то воплощение загадочности. С тех пор как я приехал, вокруг полно роковых тайн! Нет уж, Окхой, хватит секретничать.
— Рад слышать это от тебя. Именно потому, что я никогда ничего не скрываю, я и нажил себе столько врагов: твоя сестра видеть меня не может, отец бранит за мою подозрительность, да и Ромеш-бабу отнюдь не приходит в неистовый восторг от встречи со мной. Остался один ты. Но за тебя я боюсь: ведь ты не любитель бесплодных рассуждений, в твоем характере действовать прямо. Я слабый человек, и для меня невыносима мысль, что ты можешь из-за этого пострадать.
— Послушай, Окхой, что-то не нравятся мне твои уклончивые ответы. Я прекрасно вижу: ты что-то знаешь. Зачем же скрытничать? Цену, что ли, себе набиваешь? Расскажи честно все, что знаешь, довольно увиливать!
— Ну хорошо, расскажу все с самого начала. Слушай внимательно, тут многое будет для тебя новостью!
Глава восемнадцатая
Срок аренды квартиры в Дорджипаре еще не истек, но Ромеш даже не догадался передать ее на время кому-нибудь другому. Последние несколько месяцев он витал где-то вдали от земных сфер, там, где денежные соображения не имеют никакого значения.
Приехав на эту квартиру рано утром, Ромеш приказал убрать комнаты, привести в порядок постель, разостлать цыновки, распорядился купить кое-какие продукты.
Сегодня Комола должна была вернуться из школы.
Все приготовления уже были закончены, а ее все не было. В ожидании Ромеш прилег на постель и принялся мечтать о будущем. Он никогда не бывал в Этойе, но представить себе пейзаж западных провинций нетрудно. Он поселится на окраине города. Большая дорога, обсаженная деревьями, проходит мимо его сада… Далеко за ней, насколько хватает глаз, тянутся поля с разбросанными по ним колодцами, с вышками для сторожей, охраняющих посевы от животных и птиц; весь день доносится оттуда надрывный скрип колодезных колес, приводимых в движение волами. Изредка, в клубах пыли, промчится по дороге одноконная повозка, и серебристый звон упряжки всколыхнет на миг неподвижность знойного воздуха.
Ромешу становится не по себе при мысли о том, что там, вдали от родного дома, Хемнолини придется проводить целые дни в одиночестве, в наглухо закупоренном от изнурительного полуденного зноя бунгало[13]. И он успокаивается, только представив рядом с ней ее близкую подругу. Этой подругой, как он полагал, будет Комола.
Ромеш решил ничего пока не рассказывать Комоле. После свадьбы чуткая Хемнолини прижмет девушку к своей груди и, с ласковой осторожностью поведав ее настоящую историю, бережно освободит Комолу из сетей тайны, окутавшей ее жизнь. А затем, спокойно, без всяких потрясений живя в иной обстановке, Комола легко подружится с ними и найдет свое место в жизни.
Наступил полдень, и уличный шум затих: те, кто должен трудиться, ушли на работу, а праздные — погрузились в послеобеденный сон. В прохладном по-осеннему воздухе чувствовалось радостное оживление наступающих праздников.
В этот тихий полдень Ромеш, не жалея красок, рисовал в своем воображении картину будущего счастья.
Мечты его были прерваны громким стуком колес, оборвавшимся у дверей его квартиры. Ромеш догадался, что приехала Комола. Его охватило беспокойство. Как встретить Комолу, как держать себя с ней, о чем говорить и как отнесется к нему сама Комола? — в ожидании ее появления спрашивал себя Ромеш.
Двое его слуг уже были внизу. Сначала они принесли чемоданы Комолы и, оставив их на террасе, ушли снова.
Затем появилась и сама девушка. Дойдя до дверей комнаты, она остановилась на пороге.
— Входи же, Комола, — промолвил Ромеш.
И она, наконец, вошла, словно с трудом преодолевая приступ нерешительности. Намерение Ромеша оставить ее на время каникул в школе стоило ей горьких слез, к тому же и несколько месяцев разлуки породили в ней некоторую отчужденность, к Ромешу. Поэтому, войдя в комнату, она даже не подняла на него глаз и стояла, отвернувшись, глядя в открытое окно.
Ее наружность поразила Ромеша. Ему казалось, будто он видит перед собой совершенно незнакомую девушку. За эти несколько месяцев Комола удивительно переменилась. Она вытянулась и стала стройной, как молодая лиана. Куда делась грубоватая простота пышущей здоровьем деревенской девушки? Ее прежде круглое личико осунулось, и это придавало ему особую прелесть; золотистый загар щек уступил место нежной бледности. В ее походке и манере держаться не осталось и следа былой скованности.
Тоненькая, с чуть склоненной головой, стояла она, выпрямившись, у окна, и Ромеш невольно залюбовался ею.
Осенние лучи полуденного солнца освещали лицо девушки. Голова ее была непокрыта, перевязанные красной лентой волосы откинуты за спину. Мериносовое, шафранного цвета сари плотно облегало девичью фигурку.
За последнее время у Ромеша сохранилось лишь смутное воспоминание о красоте Комолы. Теперь же, став еще более яркой, красота эта внезапно поразила его. К этому он совсем не был подготовлен.
— Сядь, Комола, — сказал он.
Комола послушно опустилась в кресло.
— Ну как твои занятия в школе?
— Хорошо, — коротко ответила девушка.
Ромеш усиленно думал, о чем бы еще расспросить ее, наконец, осененный неожиданной идеей, проговорил:
— Ты, наверно, голодна? Здесь для тебя все приготовлено. Хочешь, я прикажу принести тебе что-нибудь?
— Нет, я закусила перед отъездом.
— Так ничего и не поешь? Может, хочешь сладкого? У меня есть фрукты — яблоки, гранаты, груши.
Комола только молча покачала головой.
Ромеш еще раз поглядел на нее. Чуть склонив голову набок, девушка рассматривала картинки в английском учебнике.
Красивое лицо, словно золотая волшебная палочка, вызывает к жизни и ту красоту, которая таится во всем, что его окружает. Лицо Комолы как бы вдохнуло жизнь и в прыгающий лучик осеннего солнца и в этот сентябрьский день, заставив его принять определенные контуры и очертания. Подобно тому как любой центр управляет тем, что сосредоточено поблизости от него, так, казалось, и эта девушка увлекала в сферу своего влияния и небо, и ветер, и свет — все, что было вокруг, хотя сама она совершенно не подозревала об этом и лишь молча рассматривала картинки в своем учебнике.
Ромеш поспешно вышел и тотчас вернулся, неся на подносе груши, яблоки и гранаты.
— Ты, как видно, не хочешь есть, Комола, но зато я проголодался и больше ждать не намерен, — сказал он.
Комола в ответ слегка улыбнулась, и свет этой неожиданной улыбки рассеял в их сердцах туман отчужденности.
Вооружившись ножом, Ромеш начал чистить яблоко. Но у него не было навыка к хозяйственным занятиям, и Комоле стало до такой степени смешно смотреть на его торопливость и неуклюжие попытки справиться с яблоком, что она, наконец, не выдержала и звонко рассмеялась.
Обрадованный взрывом веселья, Ромеш заметил:
— Ты, кажется, изволишь потешаться над тем, что я не умею обращаться с фруктами? В таком случае очисти их сама, а я погляжу, насколько ты сильна в этом искусстве!
— Если бы под рукой был фруктовый нож, я бы это сделала, а таким не могу, — ответила Комола.
— Неужели ты думаешь, что здесь не найдется чего-нибудь в этом роде? — рассмеялся Ромеш и, крикнув слугу, спросил, есть ли у них фруктовый нож.
— Есть, — ответил тот.
— Почисти его хорошенько и принеси сюда.
Когда требуемая вещь была найдена, Комола сбросила туфли, села на пол и, раскрыв нож, весело и ловко сначала освободила плод от кожуры, а затем разрезала его на дольки. Ромеш, который тоже уселся перед ней на полу, складывал их на поднос.
— А ты-то будешь есть? — обратился он к девушке.
— Нет, — ответила она.
— Ну, тогда и я не буду.
Комола подняла на него глаза.
— Хорошо, только сначала ешь ты, а уже потом я.
— А ты не обманешь?
— Честное слово, не обману, — с серьезным видом пообещала Комола.
Успокоенный этим искренним заверением, Ромеш взял одну дольку.
Но его трапеза была прервана самым неожиданным образом. В дверях, прямо перед ним, стояли Окхой и Джогендро.
— Просим нас извинить, Ромеш, — сказал Окхой. — Мы полагали застать вас здесь одного. Нам с тобой, Джоген, не следовало так внезапно, без предупреждения, вторгаться к нему. Давай сойдем вниз и подождем там.
Комола бросила нож и поспешно вскочила, метнувшись к двери. Но путь загораживали два незнакомца. Джогендро слегка посторонился, давая ей пройти, но и не подумал отвернуться, а, наоборот, внимательно разглядывал ее.
Испуганная Комола выбежала в соседнюю комнату.
Глава девятнадцатая
— Кто эта девушка? — обратился Джогендро к Ромешу.
— Одна моя родственница.
— Так как она явно не принадлежит к твоим старшим родичам, хочу надеяться, что вас связывают не узы любви? Ты мне рассказывал о всех своих близких, но об этой девушке я еще ни разу не слыхал.
Тут вмешался Окхой:
— Ты не прав, Джоген. Неужели человек не может иметь тайну, которой не хочет делиться даже с друзьями?
— Разве у тебя действительно есть такая тайна, Ромеш? — спросил Джогендро.
— Да, есть, — весь вспыхнув, ответил Ромеш. — И вообще я не желаю говорить с вами об этой девушке.
— Да я-то, к несчастью, испытываю сильное желание поговорить о ней, — настаивал Джогендро. — Если бы ты не делал предложения Хем, поверь, никто не стал бы расследовать, с кем завязываются у тебя родственные отношения. Тогда скрывай, что хочешь, дело твое.
— Могу сказать вам только одно, — заявил Ромеш. — Нет никого в целом свете, с кем бы меня связывали отношения, способные служить препятствием к моему браку с Хемнолини.
— Для тебя это, может быть, и так, — возразил Джогендро, — но родственники Хемнолини вправе усмотреть здесь весьма основательные препятствия. Мне лишь хочется тебя спросить, для чего вообще держать в тайне свои родственные связи, каковы бы они ни были?
— Назвать сейчас причину значило бы раскрыть тайну, — ответил Ромеш. — Ведь ты знаешь меня с детства, прошу тебя, не выпытывай мотивов моего поведения, просто поверь мне на слово.
— Эту девушку зовут Комола?
— Да.
— Ты выдаешь ее за свою жену?
— Да.
— И тем не менее требуешь, чтобы мы тебе верили? Намерен убедить нас, что она тебе не жена, тогда как всем другим говоришь обратное? Как тебе угодно, но это отнюдь не похоже на образец правдивости.
— Ты хочешь сказать, — заметил Окхой, — что подобное высказывание вряд ли может быть классическим примером логического мышления? Но, дорогой Джоген, в жизни случаются такие положения, которые решительно вынуждают одним говорить одно, а другим другое. В конце концов что-то из двух должно ведь соответствовать истине. Почему не предположить, что рассказанное тебе Ромешем-бабу как раз и есть истина?
— Больше я ничего вам сообщить не могу. Лишь повторяю, что женитьба на Хемнолини не противоречит требованиям моей совести. У меня слишком серьезные основания не осведомлять вас о Комоле, это было бы непорядочно с моей стороны. И я буду молчать даже в том случае, если вы не захотите отказаться от своих подозрений. Коснись дело личных моих неприятностей и огорчений, я не скрыл бы от вас ничего. Но тут речь идет о чужой репутации.
— А Хемнолини ты рассказал? — спросил Джогендро.
— Нет. Я собирался сделать это после свадьбы, но если она изъявит желание, объясню ей все теперь же.
— Можно ли нам задать несколько воягросов Комоле?
— Ни в коем случае! Если вы считаете виновным метя, применяйте ко мне любые меры, ноя не допущу, чтобы подвергалась допросу ни в чем не повинная девушка.
— Допрашивать кого бы то ни было больше не к чему. Все, что нам хотелось знать, мы узнали. Доказательств более чем достаточно. И теперь я говорю тебе прямо: только посмей после всего этого явиться к нам в дом, и тебе не миновать оскорблений.
Ромеш побледнел, но остался спокойным.
— И еще, — продолжал Джогендро, — не вздумай писать Хем. Между вами не должно существовать никаких отношений, ни явных, ни тайных. Если же ты все-таки ей напишешь, знай, что я перед всеми разоблачу так тщательно скрываемую тобой тайну и приведу имеющиеся у меня доказательства. А пока на расспросы, почему расстроилась свадьба, буду отвечать, что сам не дал согласия на этот брак, и настоящую причину никому не открою. Однако имей в виду, — один твой неосторожный шаг, и все получит огласку. Ты дешево отделался, Ромеш, только не думай, что меня удерживает сострадание к такому лицемеру и мошеннику, как ты. Мой поступок вызван единственно любовью к Хем, моей сестре. А теперь выслушай мое последнее слово: никогда, ни одним звуком, ни намеком не обнаруживай, что ты имел какое-то отношение к Хем. Я, конечно, не собираюсь полагаться на твое честное слово, даже правда неубедительна в устах лжеца. Но, если у тебя еще сохранились остатки стыда или страх перед разоблачением, не вздумай пренебречь моим советом!
— Ах, не довольно ли, Джоген? — заметил Окхой. — Посмотри, как безропотно принимает все это Ромеш-бабу! Неужели в твоем сердце нет ни крупинки жалости? Пойдем. Не беспокойтесь, Ромеш-бабу, мы уже уходим.
Наконец, оба покинули комнату. Ромеш застыл на месте, словно каменное изваяние. Когда состояние оцепенения прошло, ему захотелось уйти из дома, чтобы наедине с самим собой обдумать все происшедшее. Но он вспомнил о Комоле — нельзя же бросить ее здесь одну.
Войдя в соседнюю комнату, Ромеш увидел, что Комола, приподняв жалюзи выходящего на дорогу окна, молча смотрит вдаль. Заслышав шаги Ромеша, она опустила жалюзи и обернулась. Ромеш сел на пол.
— Кто были эти двое? — спросила девушка. — Сегодня утром они приходили к нам в школу.
— В школу? — удивленно переспросил Ромеш.
— Да, — подтвердила она. — А с тобой о чем они говорили?
— Спрашивали, кем ты мне приходишься.
Комоле не довелось пройти науку, как вести себя в доме свекра, никто ее не наставлял, в каких случаях принято проявлять застенчивость. Но скромность была в ней воспитана с детства, и, услышав слова Ромеша, она густо покраснела.
— Я им ответил, — продолжал юноша, — что ты мне чужая.
Комола решила, что он просто задался целью вывести ее злыми шутками из себя.
— Перестань, — резко сказала она и отвернулась.
А Ромеш продолжал размышлять, как ей обо всем рассказать.
Внезапно девушка забеспокоилась:
— Взгляни, вороны таскают твои фрукты!
Убежав в другую комнату, она отогнала ворон и вернулась обратно с подносом.
— Поешь, пожалуйста, — сказала она, ставя поднос перед Ромешем.
У Ромеша пропал всякий аппетит. Однако такая заботливость девушки тронула его.
— А ты сама?
— Возьми ты первый.
Конечно, это была мелочь, совершенный пустяк, но в теперешнем его состоянии робкий сердечный порыв Комолы причинил ему такую острую боль, что он едва удержался от слез. Не говоря ни слова, он заставил себя приняться за еду.
Когда завтрак был окончен, Ромеш сказал:
— Завтра мы поедем домой, Комола.
— Мне там не нравится, — опустив глаза, огорченно ответила девушка.
— Значит, ты хочешь остаться в школе?
— Нет, нет, пожалуйста, не отсылай меня туда. Мне стыдно, девочки только и делают, что расспрашивают меня о тебе.
— И что же ты им отвечаешь?
— Ничего. Они, например, все допытывались, почему ты собирался оставить меня на каникулы в школе. А я…
Комола не договорила. При одном воспоминании об этой обиде рана в ее сердце заныла снова.
— Почему же ты не сказала им, что ты мне чужая?
Комола окончательно рассердилась. Исподлобья взглянув на Ромеша, она вымолвила:
— Уйди!
Вновь и вновь спрашивал себя Ромеш, как должен он поступить. Словно червь, грызло его чувство гнетущего отчаяния. Что сказал Джогендро Хемнолини? Что она о нем подумала? Каким образом объяснить Хем истинные обстоятельства? Как ему перенести разлуку с ней?.. Все эти мучительные вопросы до того истерзали его, что он был не в состоянии хорошенько продумать свое положение. Ясно было одно: в Калькутте, в кругу друзей и врагов, его отношения с Комолой стали предметом живейшего обсуждения. И сплетня о том, что Комола его жена, наверняка уже разлетелась по всему городу. Теперь им нельзя здесь оставаться даже на один день.
Задумчивость и рассеянность Ромеша не ускользнули от внимания Комолы.
— Чем ты озабочен? — спросила она. — Если уж тебе так хочется жить в деревне, я согласна туда поехать.
Покорность Комолы причинила ему новую боль. В сотый раз встал перед ним вопрос: что же все-таки делать дальше?
Занятый своими мыслями, он снова не дал ей никакого ответа, продолжая лишь молча смотреть на нее.
Сразу посерьезнев, Комола сказала:
— Признайся откровенно, ты, должно быть, рассердился на меня за то, что я не хотела остаться на каникулы в школе?
— Уж если говорить правду, Комола, не на тебя я сердит, а на самого себя.
С трудом освободившись, наконец, от паутины собственных размышлений, Ромеш попробовал переменить тему разговора.
— Хотелось бы мне узнать, Комола, чему ты научилась за это время?
Девушка с величайшей готовностью принялась выкладывать перед ним все свои познания. Уверенная, что поразит этим Ромеша, она прежде всего заявила, что земля имеет форму шара. И он с вполне серьезным видом выразил сомнение в шарообразности земли, спросив, неужели это возможно.
Комола широко раскрыла глаза.
— Да ведь об этом написано в книге, и мы так учили!
— Что ты говоришь? — удивился Ромеш. — Даже в книге написано? А большая она?
Вопрос поставил Комолу в некоторое затруднение. Но, подумав, она с убежденностью сказала:
— Книга-то небольшая, зато печатная. В ней есть даже картинки.
Перед столь вескими доказательствами Ромешу ничего не оставалось, как отступить. Поведав все, что могла, о своих школьных занятиях, Комола принялась болтать о подругах и учителях, о том, как она проводила время в стенах школы. Ромеш изредка отвечал ей, продолжая предаваться своим думам, а порой, уловив лишь конец фразы, задавал вопросы совершенно невпопад.
— Но ведь ты меня не слушаешь! — воскликнула вдруг Комола и, очень рассерженная, поднялась с места.
— Ну, не сердись, Комола, — поспешил успокоить ее Ромеш. — Мне сегодня что-то не по себе.
Услышав это, Комола быстро повернулась к нему.
— Что случилось? Ты нездоров?
— Да нет, я не болен. Вообще-то ничего особенного, это со мной иногда бывает. Скоро все пройдет.
Тогда Комола решила окончательно поразить Ромеша своими познаниями.
— Хочешь, я покажу тебе картинки в учебнике географии? — сказала она.
Ромеш с готовностью согласился. Девушка немедленно принесла книгу и раскрыла ее перед Ромешем.
— Два шара, которые ты здесь видишь, на самом деле один, — принялась она объяснять. — Ведь мы не можем видеть у круглого предмета сразу обе стороны.
Сделав вид, что он сильно озадачен и должен немного подумать, Ромеш заметил:.
— Но и у плоских предметов тоже не видны сразу обе стороны.
— Потому-то и нарисованы на этой картинке обе половины шара отдельно, — авторитетно заявила Комола.
Так провели они этот вечер.
Глава двадцатая
Оннода-бабу надеялся, что Джогендро вернется с хорошими вестями и скандал удастся уладить. Когда сын и Окхой вошли к нему, он со страхом посмотрел на них.
— Кто бы мог подумать, отец, — обратился к нему Джогендро, — что ты позволишь Ромешу зайти так далеко? Знай я все, и разговаривать бы тебе с ним не позволил!
— Но ты же сам так хотел этой свадьбы, Джоген, — заметил Оннода-бабу. — Сам не раз говорил мне об этом. Если бы не ты, мне…
— Разумеется, мне вообще и в голову не приходило налагать запрет. Но, вместе с тем…
— Вот видишь, еще и «вместе с тем»! Разве так можно? Либо ты согласен, либо против, тут никакой середины быть не может!
— Но вместе с тем, хочу я сказать, нельзя было позволять ему заходить так далеко..
— Многим делам достаточно лишь толчка, — со смехом сказал Окхой, — а дальше для своего развития они ни в чьем поощрении уже не нуждаются. Растут себе да растут, как мыльные пузыри. Пока не лопнут. Но что толку спорить о том, что осталось позади? Теперь следует решать, что делать дальше.
Слушавший его с возрастающей тревогой Оннода-бабу, наконец, спросил:
— Вы видели Ромеша?
— Видели и весьма близко, — ответил Джогендро. — Ближе, чем рассчитывали. Даже познакомились с его женой.
Оннода-бабу глядел на них, онемев от изумления.
— С чьей женой вы познакомились? — переспросил он.
— С женой Ромеша, — повторил Джогендро.
— Не понимаю, о чем ты говоришь. Жена какого Ромеша?
— Нашего Ромеша! Несколько месяцев назад он ездил к себе на родину и там женился.
— Но ведь в то время умер его отец, никакой свадьбы в таком случае быть не могло.
— Она произошла как раз перед самой его смертью.
Оннода-бабу прямо оцепенел. Затем после некоторого размышления озадаченно почесал в затылке и сказал:
— Значит, теперь и речи быть не может о его женитьбе на нашей Хемнолини?
— Так мы же об этом и говорим, — заметил Джоген.
— Если таков был смысл ваших слов, то как же вы не подумали о том, что свадебные приготовления уже сделаны? Все оповещены, что свадьба состоится в будущее воскресенье! Выходит, надо рассылать письма, что свадьбы не будет вовсе?
— Окончательно отменять ее незачем, — заговорил Джоген. — Придется лишь произвести небольшую замену — и дело улажено.
— Что ты такое говоришь?
— Но это же так просто, отец! Конечно, замену производят лишь там, где она возможна. В отношении брачной церемонии есть лишь один выход, и мы должны его осуществить. Короче говоря, если мы на место Ромеша поставим другого жениха, свадьба так или иначе будет отпразднована в это воскресенье. В противном случае нам нельзя будет показаться людям на глаза.
И Джогендро выразительно посмотрел на Окхоя. Тот скромно потупился.
— Где же в такой короткий срок отыщешь жениха? — спросил Оннода-бабу.
— Можешь об этом не беспокоиться.
— Но ведь прежде всего надо добиться согласия Хем!
— Уверен, что она согласится, когда узнает, что произошло.
— Ну, если так, поступай, как находишь нужным. А все-таки жаль: и состояние у Ромеша значительное и разум под стать состоянию. Подумать только! Еще позавчера мы с ним решили переехать в Этойю, где он займется практикой, а тут вдруг… Надо же было случиться такому несчастью!
— Что ты о нем беспокоишься? Ему и сейчас никто не мешает отправиться в Этойю. Пойду позову Хем, времени терять нельзя.
Через несколько минут Джогендро возвратился вместе с Хемнолини. Окхой сидел в углу комнаты, скрытый книжным шкафом.
— Садись, Хем, — сказал Джогендро. — Нам нужно кое-что сообщить тебе.
Хемнолини молча опустилась в кресло. Она догадывалась, что ей предстоит перенести тяжелое испытание.
В виде предисловия Джогендро начал так:
— Не кажется ли тебе подозрительным поведение Ромеша?
Не произнося ни слова, Хемнолини отрицательно покачала головой.
— Что у него за причина, которую он не может нам сообщить?
— Разумеется, какая-то причина есть, — не поднимая глаз, ответила Хемнолини.
— Правильно, причина есть. А разве уже одно это не заставляет тебя насторожиться?
Хемнолини снова молча отрицательно покачала головой. Нет, ничего подобного она не думает.
Ее упорное желание верить Ромешу больше, чем всем своим родным, вывело, наконец, Джогендро из себя. Осторожные намеки, разговор издалека тут явно не годились. И он резко продолжал:
— Ты, конечно, помнишь, как несколько месяцев назад Ромеш вместе с отцом уезжал к себе домой? А потом мы еще долго удивлялись, что не имеем от него никаких вестей. Вряд ли забыла ты и то, что Ромеш, обыкновенно заходивший к вам по два раза на день, тот самый Ромеш, который все время занимал соседний с нами дом, возвратившись в Калькутту, совершенно перестал здесь показываться и скрылся в другом конце города. А вы, несмотря на все это, отнеслись к нему с прежней доверчивостью, даже вновь пригласили его к себе! Будь я здесь, могло ли произойти что-либо подобное?
Хемнолини продолжала хранить молчание.
— Пытались ли вы вникнуть в смысл такого поведения Ромеша? Неужели оно не вызвало у вас хоть малейших подозрений? До чего же глубоко ваше доверие к нему!
Однако Хемнолини попрежнему безмолвствовала.
— Ну хорошо! Вероятно, будучи сами честны, вы не в состоянии подозревать и других. В таком случае, ко мне-то, надеюсь, вы тоже питаете хоть какое-то доверие? Так вот: я сам, лично, отправился в школу, где и узнал, что Ромеш поместил туда свою жену Комолу, причем договорился даже не брать ее на каникулы. Однако дня три назад он неожиданно получил письмо от начальницы школы, в котором она просила его взять Комолу на праздники к себе. Сегодня начало каникул, и школьный экипаж доставил Комолу на прежнюю квартиру Ромеша в Дорджипаре. Я сам побывал на этой квартире. Когда мы пришли, Комола чистила яблоки и разрезала их на дольки, а Ромеш, сидя напротив, отправлял эти кусочки себе в рот. На мой вопрос, в чем дело, Ромеш мне ответил, что в настоящий момент рассказать ничего не может. А ведь вздумай он только упомянуть, что Комола ему не жена, и мы сразу бы поверили ему на слово, даже постарались бы как-нибудь рассеять возникшие подозрения. Но он не пожелал дать никакого определенного ответа… Ну, так как же? Вы и теперь, даже после всего услышанного, хотите ему верить?
Пристально глядя на Хемнолини, Джогендро ждал, что она скажет.
Лицо девушки побледнело. Она изо всех сил ухватилась за ручки кресла, стараясь сохранить спокойствие, но не прошло и минуты, как, склонившись вперед, девушка потеряла сознание и упала на пол.
Испуганный Оннода-бабу обеими руками прижал голову дочери к своей груди, без конца повторяя:
— Что с тобой, дорогая? Что с тобой? Не верь им, все это ложь!
Отстранив отца, Джогендро отнес сестру на диван и принялся брызгать ей в лицо водой из стоявшего рядом кувшина. Окхой усердно обмахивал ее веером.
Через несколько минут Хемнолини приоткрыла глаза, взрогнула и простонала:
— Отец, пусть Окхой-бабу немедленно уйдет отсюда!
Окхой положил веер и, выйдя из комнаты, остановился за дверью. Оннода-бабу сел рядом с Хемнолини и с тяжелым вздохом погладил ее по голове:
— Что ты, что ты, моя дорогая! Успокойся!
Вдруг слезы брызнули из глаз Хемнолини, грудь ее судорожно вздымалась от рыданий. Она склонилась к отцовским коленям, стараясь подавить взрыв нестерпимого горя.
— Успокойся, дорогая, перестань, — твердил прерывающимся от слез голосом Оннода-бабу. — Я слишком хорошо знаю Ромеша. Никогда он не поступит так бес: честно. Джоген, конечно, ошибся.
Раздосадованный Джогендро не выдержал:
— Не обнадеживай ее напрасно, отец. Успокаивая Хем сейчас, ты готовишь ей еще большие муки в будущем. Дай ей время все обдумать.
Хемнолини выпрямилась, пристально взглянула на брата и твердо сказала:
— Все, что мне нужно, я уже обдумала. Запомни, пока я не услышу обо всем от него самого, я ни во что не поверю.
С этими словами она встала.
— Только не упади, — забеспокоился Оннода-бабу, поддерживая ее.
Опираясь на его руку, Хемнолини удалилась к себе в спальню и легла в постель.
— Оставь меня одну, папа, — попросила она, — я попробую заснуть.
— Может, прислать к тебе Хори помахать веером? — спросил Оннода-бабу.
— Нет, нет, мне ничего не нужно, папа.
Оннода-бабу вышел в соседнюю комнату. Он думал сейчас о матери Хем, умершей, когда девочка была совсем маленькой. Ему вспомнились ее самоотверженная преданность, сдержанность и постоянная жизнерадостность. Он вырастил девочку, ее дочь, и она стала живым воплощением своей матери. Сердце Онноды-бабу обливалось кровью от сознания, что Хем страдает. Сидя за стеной ее спальни, отец мысленно обращался к ней:
— Не знай горя, моя дорогая девочка, будь счастлива! Как хотелось бы мне, прежде чем я соединюсь с твоей матерью, увидеть тебя радостной и довольной, знать, что ты нашла приют в доме человека, которого любишь!
Он вытер влажные глаза краем своей одежды.
Джогендро и раньше не был высокого мнения об уме женщин, теперь же убедился в этом окончательно. Что с ними поделаешь, если они не верят даже неопровержимым доказательствам! Им ничего не стоит безапелляционно утверждать, что дважды два вовсе не четыре, с полным безразличием к тому, как об этом думают другие. Разумные доводы говорят, что черное и есть именно черное, но стоит любви подсказать им, что черное это белое, как они с гневом обрушиваются на любые доводы! Непонятно, как еще может существовать мир, когда в нем есть женщины!
Наконец, прервав свои размышления, Джогендро окликнул Окхоя. Тот вошел в комнату как-то бочком.
— Ну, ты, конечно, слышал все? Что же нам теперь делать? — спросил Джогендро.
— Зря ты впутываешь меня, друг, во все эти дела. Я был совершенно к этому непричастен, а ты приехал и сразу втянул меня в неприятную историю!
— Довольно! Жаловаться будешь потом. Теперь нам остается лишь одно: принудить Ромеша, чтобы он сам все рассказал Хемнолини.
— С ума сошел! Кто же станет признаваться сам.
— А еще лучше, пусть напишет письмо. Этим тебе сейчас и придется заняться. Но имей в виду, нельзя терять ни минуты.
— Хорошо. Посмотрю, что тут можно предпринять, — ответил Окхой.
Глава двадцать первая
В девять часов вечера Ромеш и Комола отправились на вокзал в Шиялдохо. Пробирались кружным путем, — извозчику было приказано ехать переулками. Когда экипаж поровнялся с одним из знакомых нам домов в Колутоле, Ромеш высунулся из окна и с жадным вниманием оглядел его. Ничего здесь не изменилось, все оставалось попрежнему. Он вздохнул так тяжко, что разбудил задремавшую было Комолу.
— Что с тобой? — спросила она.
— Ничего, — ответил Ромеш и, усевшись поглубже, продолжал путь в молчании.
Комола снова прислонилась к спинке экипажа и моментально заснула. За те несколько минут, рока они проезжали по Колутоле, присутствие Комолы вдруг сделалось для Ромеша невыносимым.
На станцию они прибыли во-время и заняли купе второго класса, заранее заказанное Ромешем. Устроив на одном из диванов постель для Комолы, он спустил пониже абажур и обратился к девушке:
— Ложись, Комола, тебе уже давно пора спать.
— Как поезд тронется, так и лягу. А пока разреши мне немножко посидеть у окна, — попросила Комола.
Ромеш согласился. Тогда, натянув на голову покрывало, она уселась на краешек дивана возле окна и стала смотреть на заполненную толпой платформу. А он устроился на среднем сиденье, рассеянно поглядывая по сторонам. Когда поезд начал набирать ход, Ромеш неожиданно вскочил с места, — бегущий по платформе человек показался ему знакомым.
Комола тоже заметила этого человека и разразилась веселым смехом. Выглянув из окна, Ромеш увидел, что запоздалый пассажир, невзирая на протесты железнодорожного служащего, на ходу прыгнул в вагон, оставив при этом в руках противника свой шарф, за которым снова протянул руку, уже свесившись из вагонного окна. Тут Ромеш ясно разглядел незнакомца и убедился, что это Окхой.
Комола еще долго хохотала, вспоминая эпизод с шарфом.
— Уже половина одиннадцатого, — обратился к ней Ромеш. — Мы давно едем, ложилась бы спать.
Девушка послушно улеглась, продолжая все время смеяться, пока, наконец, не заснула.
Но Ромешу было не до веселья. Он хорошо знал, что Окхой коренной калькуттский житель и в деревне у него нет никаких родственников. Куда же, в таком случае, может он так спешно ехать, да еще как раз сегодня ночью? Совершенно очевидно, что он преследует его, Ромеша.
При одной мысли, что Окхой появится в его родной деревне и начнет наводить там справки, а это немедленно вызовет всевозможные толки в кругу его друзей и врагов, юношу охватило сильное беспокойство. Вся история могла принять очень неприглядный вид. Сердце его тоскливо сжалось, едва он представил себе, какие разговоры и пересуды поднимутся в их деревне. В таком большом городе, как Калькутта, всегда можно затеряться, потонуть, но маленькая деревушка подобна мелководью, — достаточно малейшего толчка, чтобы вызвать в ней настоящую бурю. И чем больше раздумывал над этим Ромеш, тем тяжелей становилось у него на сердце.
Выглянув из окна на остановке в Баракпуре, Ромеш убедился, что Окхой тут не сошел. Множество людей садилось и выходило в Нойхоти, но Окхоя не было и среди них. Напрасно нетерпеливо высовывался Ромеш и на станции Богула. Окхой нигде не появлялся. Очевидно, бессмысленно надеяться, что он сойдет и на следующей остановке.
Юноша бодрствовал до глубокой ночи и, наконец, заснул. Когда на следующее утро поезд остановился у вокзала в Гойялондо, Ромеш увидел закутанного шарфом Окхоя, который с чемоданом в руке торопливо шагал по направлению к пароходу.
До отплытия парохода, на котором Ромешу предстояло путешествовать дальше, еще оставалось немного времени, но возле второй пристани гудел, сигналя об отправлении, какой-то другой пароход.
— Куда направляетесь? — спросил Ромеш.
— На запад.
— До какого пункта?
— Если река не обмелеет, дойдем до Бенареса.
Ромеш поднялся на палубу, устроил в одной из кают Комолу и поспешил купить в дорогу молока, рису, бананов.
Между тем Окхой, опередив других пассажиров, забрался на первый пароход. Приняв массу предосторожностей, чтобы не быть замеченным, он занял местечко, с которого было удобно наблюдать всех входивших на пароход. Но пассажиры не особенно торопились. Пароход запаздывал с отплытием, и люди, воспользовавшись этим обстоятельством, мылись, купались, а некоторые даже занялись на берегу стряпней и тут же ели. Окхой решил, что Ромеш, вероятно, повел Комолу куда-нибудь в гостиницу позавтракать, но, совершенно не зная Гойялондо, разыскивать их не пошел.
Раздались гудки, пароход вот-вот готов был отплыть, а Ромеш все еще не появлялся. По колеблющимся сходням торопливо поднимались пассажиры. Непрерывные пароходные гудки заставляли их спешить, и толпа становилась все гуще. Но ни среди уже прибывших, ни в числе вновь прибывающих Ромеша не было видно.
Наконец, поток пассажиров схлынул, сходни убрали, и капитан отдал команду сниматься с якоря.
— Разрешите мне сойти! — крикнул встревоженный Окхой, но матросы не обратили на него ни малейшего внимания. Расстояние до берега еще было, невелико, и Окхой спрыгнул с парохода.
Однако и на берегу не обнаружил он следов Ромеша. Узнав, что несколько минут тому назад ушел поезд на Калькутту, Окхой решил, что Ромеш заметил его вчера на платформе во время спора с железнодорожником, угадал его недобрые намерения и, вместо того чтобы ехать в деревню, с утренним поездом вернулся обратно в Калькутту. А если человек вознамерился скрыться в Калькутте, разыскать его там — задача нелегкая.
Глава двадцать вторая
Целый день метался Окхой по Гойялондо и только вечером уехал, наконец, с почтовом поездом в Калькутту. Утром прямо с поезда он отправился на квартиру Ромеша в Дорджипаре, но дверь оказалась запертой, было ясно, что сюда никто не возвращался.
Заглянул он в жилище Ромеша в Колутоле и тоже кашел его пустым. Тогда, придя в дом Онноды-бабу, он объявил Джогендро, что Ромеш сбежал и ему не удалось его задержать.
— Как все это произошло? — спросил Джогендро.
Окхой рассказал всю историю своих странствий.
Бегство Ромеша с Комолой при появлении Окхоя лишь укрепило подозрения Джогендро.
— Но все эти аргументы для нас совершенно непригодны, — заметил Джогендро. — Не только Хемнолини, а даже и отец повторяет одну и ту же глупость: он не потеряет доверия к Ромешу, пока сам все не услышит из его собственных уст. Дело дошло до того, что, приди сейчас Ромеш и заяви, что в данный момент ничего рассказать не может, отец и тогда, ни минуты не задумываясь, согласится на его свадьбу с Хемнолини. Я нахожусь в очень затруднительном положении. Отец не желает допустить, чтобы дочь страдала, и Хем близка к тому, чтобы капризно заявить: «Все равно выйду замуж только за него, пусть даже у него есть жена». Весьма возможно, отец согласится и на это, лишь бы не причинить ей малейшего огорчения. Теперь, как видишь, нам остается одно: надо выудить у Ромеша признание как можно скорей и любым способом. Тебе, Окхой, нельзя опускать руки ни в коем случае. Я и сам принял бы участие в этом деле, но мне в голову не приходит ни одного хитроумного плана, разве что просто с ним подраться. А теперь, Окхой, прежде всего поди умойся, нельзя пить чай в таком виде.
После умывания Окхой уселся за стол и задумался. В это время в комнату вошел Оннода-бабу, ведя под руку дочь. Однако при виде Окхоя Хем немедленно повернулась и вышла.
— Нехорошо поступает Хем, — раздраженно заметил Джогендро. — Ты не должен потакать ее бестактностям, отец, надо заставить ее вернуться. Хем! Хем!
Но Хемнолини уже была наверху.
— Джоген! Ты лишь портишь мне все дело, — заметил Окхой. — Не говори ей обо мне ни слова. Время — великий исцелитель, а прибегая к насилию, можно все погубить.
С этими словами Окхой допил свой чай и ушел.
Окхоя нельзя было обвинить в недостатке терпения. Он не оставлял раз задуманного, даже если обстоятельства складывались против него. Горячность вовсе не была в его характере. К тому же он не принадлежал к числу гордецов, которые с умным видом пускаются в рассуждения о высоких материях. Да и никакие оскорбления или неприязнь его не смущали. Вообще он действительно был человек терпеливый и сносил все, как бы с ним ни обращались.
Когда Окхой ушел, Оннода-бабу снова привел Хемнолини к чайному столу. Румянец сбежал с ее щек, под глазами легли темные тени.
Девушка вошла с опущенными глазами. Она не могла поднять их на Джогендро, зная, что брат зол и на нее и на Ромеша и сурово их осуждает. Потому-то и не решалась она встретиться с ним взглядом.
Любовь, поддерживая в Хемнолини веру, перед голосом рассудка оказывалась бессильной. Еще позавчера, показав перед Джогендро непоколебимую уверенность в Ромеше, девушка, оставшись темной ночью в спальне наедине со своими мыслями, уже не была так спокойна.
Сначала она, разумеется, ничего подозрительного в поведении Ромеша не видела и, верная данному ему обещанию, не допускала в своем сердце никаких сомнений. И тем не менее они все настойчивей одолевали ее.
Как мать, защищая от смертельной опасности дитя, обеими руками прижимает его к груди, так и Хемнолини изо всех сил старалась удержать в сердце веру в Ромеша, уберечь ее от всех враждебных доводов. Но, увы! Порой силы могут изменить нам.
Эту ночь Оннода-бабу провел в комнате, соседней со спальней Хемнолини. Он слышал, как беспокойно ворочается дочь, и то и дело заглядывал к ней. Но на вопрос:
— Тебе не спится, дорогая?
Неизменно получал ответ:
— А ты почему не спишь, отец? Я-то уже засыпаю… сейчас вот и усну!
На рассвете Хемнолини поднялась на крышу. Все двери и окна в квартире Ромеша были закрыты.
С востока, из-за гряды белоснежных горных вершин, медленно вставало солнце. Этот вновь загоравшийся день вдруг показался девушке до того тусклым и лишенным всяких надежд, что она присела в уголке крыши и, закрыв лицо руками, горько зарыдала. Некому теперь приходить к ней, некого ждать к чаю. Нет уже и радостного сознания того, что близкий ей человек находится рядом, в соседнем доме.
— Хем! Хем!
Хемнолини поспешно встала, вытерла глаза.
— Что, отец? — откликнулась она.
Оннода-бабу подошел к дочери и, ласково гладя ее по спине, сказал:
— Сегодня я поздно проснулся.
Всю ночь тревожился Оннода-бабу за Хемнолини, сон бежал от него, и он задремал только под утро. Но как только солнечные лучи коснулись его глаз, он быстро встал, умылся и отправился проведать дочь. Комната ее оказалась пуста. Тогда он поднялся на крышу. Вид одинокой Хемнолини заставил сердце Онноды-бабу сжаться.
— Пойдем пить чай, дорогая! — сказал он.
Девушке не хотелось сидеть за столом против Джогендро, но она знала, как всегда расстраивают отца малейшие отступления от обычного порядка. К тому же она ежедневно собственноручно наливала отцу чай и не хотела лишать его этой небольшой услуги.
Поэтому, когда утром Оннода-бабу пришел звать ее к чаю, она оперлась на его руку и направилась в столовую.
Спустившись вниз и еще стоя за дверью, Хем услышала, что Джогендро с кем-то разговаривает. Сердце в ней дрогнуло, она подумала, что это Ромеш, — кто же другой мог прийти к ним так рано!
Неверными шагами вошла она в комнату, но увидела Окхоя и, не в силах с собой справиться, выбежала вон.
Оннода-бабу вторично привел ее в столовую, Тогда, придвинувшись поближе к отцовскому креслу, опустив голову, она занялась приготовлением чая.
Поведение Хемнолини выводило Джогендро из себя. Он не мог равнодушно смотреть, как страдает сестра из-за Ромеша. Но возмущение его возросло еще больше, когда он заметил, что Оннода-бабу сочувствует ее горю, а Хем хочет укрыться под сенью отцовской любви от всего мира.
«Как будто все мы преступники! — думал он. — Мы, которые лишь из любви к ней стараемся выполнить свой долг, заботимся о ее счастье, устраиваем ее судьбу!.. И что же в ответ? Ни тени благодарности, нас еще обвиняют. Что касается отца, он вообще ничего не понимает в делах. Настало время не заниматься утешениями, а нанести решительный удар; отец же из жалости к Хем все отдаляет от нее неприятную правду».
— Знаешь, отец, что случилось? — обратился Джогендро к Онноде-бабу.
— Нет. А что такое? — испуганно воскликнул тот.
— Вчера Ромеш с женой отправился гойялондским поездом на родину, но, увидев, что в тот же поезд садится Окхой, сбежал обратно в Калькутту.
Рука разливавшей чай Хемнолини дрогнула, чай расплескался, девушка опустилась в кресло.
Искоса взглянув на сестру, Джогендро продолжал:
— Не понимаю, зачем ему понадобилось бежать? Для Окхоя ведь и раньше все было достаточно очевидно. Прежнее поведение Ромеша уже само по себе нельзя назвать красивым, но такая трусость — желание скрыться с поспешностью вора — кажется мне особенно отвратительной! Не знаю, что думает на этот счет Хем, по-моему же, его бегство — вполне определенное доказательство виновности.
Вся дрожа, Хемнолини поднялась с кресла.
— Я не ищу никаких доказательств, дада! Хотите его судить — дело ваше… А я ему не судья, — сказала она.
— Может ли быть для нас безразличен человек, за которого ты собираешься замуж? — заметил Джогендро.
— К чемутеперь говорить о свадьбе! Вы стремитесь ей помешать, ну и мешайте, если вам так угодно, но не прилагайте напрасных усилий изменить мое собственное решение.
Тут силы изменили девушке, и она разрыдалась. Оннода-бабу поспешно вскочил и, прижав к груди ее залитое слезами лицо, проговорил:
— Пойдем наверх, Хем!..
Глава двадцать третья
Пароход отчалил. В первых двух классах пассажиров не было вовсе, и Ромеш приготовил в одной из кают постель для себя. Утром Комола, выпив молока, раскрыла настежь свою дверь и залюбовалась рекой и проплывающими мимо берегами.
— Знаешь, куда мы едем, Комола? — спросил Ромеш.
— К тебе на родину.
— Но ведь тебе не нравится деревня, вот мы туда и не поедем.
— Ты ради меня раздумал ехать в деревню?
— Конечно, исключительно ради тебя.
— Зачем ты это сделал? — серьезно сказала она. — Мало ли что могу я наболтать, а ты и будешь все принимать всерьез! Из-за таких пустяков и уже обиделся.
— Я и не думал обижаться, — засмеялся Ромеш. — Мне самому не хочется ехать в деревню.
— Куда же мы в таком случае направляемся? — с любопытством спросила Комола.
— На запад.
Услышав про «запад», Комола широко раскрыла глаза.
Запад!.. Чего только не представляется при этом слове человеку, никогда не покидавшему свой дом!
На западе — святые места, целительный климат, красивые пейзажи и города, былое величие империй и царей, сказочные храмы! А сколько древних сказаний, сколько всевозможных легенд о героических подвигах!
Полная восхищения, девушка, продолжала расспросы:
— Куда же именно мы едем?
— Пока еще не решено. Нам предстоит проезжать Мунгер, Патну, Данапур, Боксар, Гаджипур, Бенарес, — в каком-нибудь из этих городов и сойдем.
При перечислении стольких известных и неизвестных названий воображение Комолы разыгралось еще больше.
— Как это интересно! — захлопала она в ладоши.
— Интересно будет потом! А вот как будем мы эти несколько дней питаться? Ты же не захочешь, наверно, есть кушанья, приготовленные матросами на пароходной кухне?
— Какой ужас! — воскликнула Комола с презрительной гримасой. — Конечно, нет!
— И что же ты предлагаешь?
— Сама буду готовить!
— Да разве ты умеешь?
Комола рассмеялась.
— Не понимаю, за кого ты меня принимаешь! Как же мне этого не уметь? Ведь я уже не маленькая, в доме дяди на мне лежала вся стряпня.
Ромеш тут же с раскаянием заметил:
— Вопрос мой действительно был совсем неуместен. А потому давай немедленно займемся сооружением кухни. Как ты на это смотришь?
Он ушел и вскоре притащил небольшую железную печурку. Кроме того, он договорился с ехавшим на пароходе мальчиком из касты каястха[14] по имени Умеш, чтобы тот за небольшую плату и билет до Бенареса носил для них воду, чистил посуду и исполнял всякую другую работу.
— Комола, — сказал Ромеш, — что же мы будем сегодня стряпать?
— А много ли ты мне принес? — заметила она. — Только рис да бобы! Значит, и будут тушеные бобы с рисом.
Нужные для Комолы пряности Ромеш достал у матросов, но она искренне посмеялась над его хозяйственной неопытностью.
— Ну и хорош! Что я стану делать с одними пряностями? И как я их разотру без шил-норы? [15]
Покорно выслушав упреки девушки, Ромеш пустился на поиски шил-норы. Найти ее так и не удалось, пришлось занять у матросов металлическую ступку с пестиком, которую он и принес Комоле.
Она не умела толочь пряности в ступке и несколько растерялась.
— Давай попросим кого-нибудь это сделать, — предложил Ромеш, но поддержки не встретил. Комола решительно взялась за дело сама. Ей как будто даже доставляли удовольствие все эти затруднения в обращении с непривычными предметами. Пряности подскакивали, разлетались во все стороны, и девушка не могла удержаться от смеха. Глядя на нее, смеялся и Ромеш.
Когда закончился эпизод с приготовлением пряностей, Комола, обвязав свободный конец сари вокруг талии, принялась за стряпню. Для приготовления пищи ей пришлось воспользоваться захваченным с собой из Калькутты кувшином из-под сладостей. Поставив его на огонь, девушка обратилась, к Ромешу:
— Ступай живей, искупайся, у меня скоро все будет готово.
Ромеш вернулся во-время, кушанье как раз поспело. Но тут возник вопрос, на чем же есть, так как тарелок у них не было.
— Можно занять у матросов глиняные тарелки, — робко предложил Ромеш.
Комола пришла в ужас от столь необдуманного предложения. Ромеш с виноватым видом пояснил, что он и раньше совершал такого рода грех.[16]
— Что было, то прошло, — сказала Комола. — Но впредь этого не будет, я не выношу подобных вещей!
Затем она сняла крышку с кувшина, тщательно вымыла ее и подала Ромешу.
— Поешь сегодня на этом, а там будет видно.
Когда уголок палубы был начисто вымыт и место для ужина приготовлено, довольный Ромеш принялся за еду. Попробовав кушанье, он заметил, что блюдо получилось очень вкусное.
— Не нужно смеяться надо мной, — смутилась Комола.
— Да нет, какие уж тут шутки! Вот сейчас сама убедишься.
С этими словами он мгновенно опустошил тарелку и попросил еще. На этот раз девушка положила ему гораздо больше.
— Что ты делаешь! А себе, должно быть, ничего и не оставила!
— Тут еще много, не беспокойся, — сказала Комола.
Ей очень льстило внимание Ромеша к ее кулинарному искусству.
— На чем же станешь есть ты? — спросил Ромеш.
— На той же крышке.
— Нет, так нельзя, — забеспокоился Ромеш.
— Почему? — удивленно спросила Комола.
— Нет, нет, ни в коем случае!
— Уверяю тебя, я прекрасно знаю, что делаю, — возразила девушка. — Умеш! — крикнула она, — на чем ты будешь есть?
— Там внизу торгуют сладостями, вот я и возьму у продавца листок шалового дерева.
— Послушай, Комола, — обратился к девушке Ромеш, — если уж ты непременно хочешь есть на той же крышке, дай мне ее хорошенько вымыть.
— С ума сошел! — негодующе воскликнула она. А через несколько минут заявила: — Пан[17] я тебе приготовить не могу, ты мне для этого ничего не принес.
— Внизу человек продает пан, — ответил Ромеш.
Так, без особых трудностей, была заложена основа их хозяйства. Но на душе Ромеша было неспокойно: он раздумывал над тем, каким образом избежать со стороны Комолы проявления супружеских забот.
Чтобы выполнять обязанности хозяйки, Комола не нуждалась ни в помощи, ни в обучении. В продолжение ряда лет готовила она для дяди обед, нянчила детей и делала всю работу по дому. Ромеш восхищался ловкостью, усердием и трудолюбием девушки и в то же время, не переставая, думал, как сложатся их отношения в дальнейшем. «Я не хочу оставлять ее у себя, — размышлял он, — но и покинуть тоже не могу». Где следует ему провести грань в отношениях с нею? Будь с ним Хемнолини, все устроилось бы отлично. Но, так или иначе, теперь эту надежду приходилось оставить, а разрешить проблему наедине с Комолой представлялось чрезвычайно трудным. Наконец, Ромеш твердо решил, что ему необходимо открыть Комоле все, — и с игрой в прятки будет покончено раз и навсегда.
Глава двадцать четвертая
Перед вечером пароход сел на мель. Снять его, несмотря на многократные попытки команды, в тот день так и не удалось.
От высокого берега, отлого спускаясь к реке, тянулась песчаная, испещренная следами водяных птиц отмель. Сюда пришли деревенские женщины набрать в последний раз до захода солнца воды. Они с любопытством поглядывали на пароход, — кто посмелее, с открытым лицом, а более робкие — из-под покрывала. Над обрывом плясала толпа деревенских ребятишек, громкими криками выражая свой восторг при виде затруднительного положения, в которое попало это дерзкое судно с высоко поднятым носом.
За пустынными песками противоположного берега зашло солнце. Ромеш, держась за поручни, долго стоял на палубе в быстро сгущающихся сумерках, глядя на западный край горизонта, где еще светлело небо. Комола, выйдя из своей отгороженной кухни, остановилась у дверей каюты.
Не зная, как привлечь к себе внимание Ромеша, она тихонько кашлянула, но он не оглянулся. Тогда девушка принялась постукивать о дверь связкой ключей. Когда, наконец, ключи загремели вовсю, Ромеш обернулся. Увидев Комолу, он подошел к ней и спросил:
— Что это у тебя за странная манера звать меня?
— А как же быть иначе?
— Для чего же, по-твоему, отец с матерью дали мне имя? Чтобы оно никогда не пригодилось? Почему бы не назвать меня Ромешем, если я тебе нужен?
— Не дело ты говоришь!..[18] Послушай, кушанье готово. Поужинай сегодня пораньше, а то ты мало ел утром.
Свежий речной воздух давно возбудил у Ромеша аппетит, но он до сих пор молчал, не желая, чтобы Комоле пришлось лишний раз волноваться из-за недостатка провизии. Теперь же неожиданное ее предложение очень его обрадовало. И радость была не только по поводу одной предстоящей трапезы. Юноше пришло вдруг на ум, что заботу о его благополучии взяла на себя сама судьба, и он не вправе не склониться перед ее волей. Тем не менее он никак не мог избавиться от мучительного сознания, что все это основано на ошибке. Ромеш тяжело вздохнул и с поникшей головой вошел в каюту.
Заметив угрюмое выражение его лица, Комола удивленно спросила:
— Кажется, тебе совсем не хочется есть? Неужели не проголодался? Я тебя не неволю.
Но Ромеш с деланой веселостью поспешил ответить:
— Что тебе меня неволить, это делает мой собственный желудок. Смотри, как бы в другой раз, когда ты вздумаешь, гремя ключами, приглашать меня к столу, не явился на твой зов сам Мадхусудон![19] Однако что-то я не вижу здесь ничего съедобного! — продолжал он, оглядываясь. — Хоть я и страшно голоден, но подобные предметы вряд ли смог бы переварить! — Ромеш указал на постель и другие находившиеся в каюте вещи. — Меня с детства приучили совсем к иной пище.
Комола разразилась звонким смехом и долго не могла успокоиться.
— Ну вот, а теперь тебе уж и не терпится! Стоял, смотрел на небо и никакого голода и жажды не чувствовал. А стоило только позвать тебя, как сразу вспомнил, что проголодался! Хорошо, хорошо. Подожди минутку, сейчас все принесу.
— Да поскорей, иначе придешь и не увидишь в комнате даже постельных принадлежностей! Прошу на меня в таком случае не обижаться.
Эта повторенная шутка снова доставила девушке большое удовольствие. В полном восторге, наполнив комнату звонкими переливами смеха, она скрылась за дверью. Напускная жизнерадостность Ромеша моментально угасла.
Комола скоро вернулась с плетеной, прикрытой листьями шалового дерева корзиной и, поставив ее на кровать, принялась вытирать пол краем сари.
— Что ты делаешь? — с беспокойствам воскликнул Ромеш.
— Да ведь я все равно сменю сейчас платье.
С этими словами Комола расстелила на полу листья шала и ловко выложила на них лучи [20] и овощи.
— Вот так чуда! Откуда ты раздобыла лучи? — удивился Ромеш.
Но девушке вовсе не хотелось, чтобы ее секрет был раскрыт так легко.
— А как ты думаешь? — с таинственным видом спросила она.
Ромеш сделал вид, будто очень затрудняется ответить.
— Несомненно взяла из запасов команды?
— Что ты! Как можно! — с возмущением воскликнула Комола.
Ромеш принялся уничтожать лучи, продолжая дразнить Комолу самыми невероятными предположениями относительно способа их получения. В конце концов он заявил, что это, наверно, владелец волшебной лампы, герой арабских сказок, Аладин прислал их из Белуджистана в подарок своей почитательнице. Этим Ромеш окончательно вывел девушку из терпения.
— Перестань! Теперь я ничего не буду тебе рассказывать! — отвернувшись, сказала она.
— Нет, нет! Признаю свое поражение! — воскликнул Ромеш. — Конечно, трудно себе представить, как можно приготовить лучи, находясь посреди реки, но на вкус они тем не менее замечательны.
И юноша с усердием начал доказывать, насколько аппетит преобладает в нем над жаждой знаний.
Как только пароход сел на мель, Комола для пополнения своей опустевшей кладовой послала Умеша в деревню. У нее еще осталось немного денег из тех, что дал Ромеш, провожая ее в школу. Их-то и потратила она на гхи[21] и муку.
— А ты чего бы хотел поесть, Умеш? — спросила Комола мальчика.
— У торговца молоком, госпожа, я видел хороший творог, а у нас есть бананы. Если еще купить на одну-две пайсы[22] молотого рису, я сумел бы сегодня приготовить отличное блюдо, — ответил мальчик.
Комола сама разделяла эту его страсть к подобному лакомству.
— Осталось у тебя хоть немножко денег, Умеш? — спросила она.
— Совсем ничего, мать.
Это поставило ее в сильное затруднение. Девушка представить себе не могла, как решиться сказать Ромешу, что ей нужны деньги. Немного погодя она проговорила:
— Сегодня на сладкое не хватит, но ты не расстраивайся, у нас есть лучи. Пойдем замесим тесто.
— Так ведь я же говорю, мать, что видел еще и хороший творог. С этим-то как быть?
— Послушай, Умеш, когда сегодня господин сядет есть, ты и допроси у него денег на покупки.
Ромеш уже сидел и ел, когда к нему приблизился Умеш, смущенно почесывая в затылке. Когда Ромеш взглянул на него, мальчик бессвязно пролепетал:
— Мать… насчет денег… на покупки…
Только тут впервые пришло юноше в голову, что ведь для приготовления пищи нужны деньги и волшебная лампа Аладина в этом не поможет.
— У тебя же совсем нет денег, Комола, — озабоченно сказал он. — Почему ты сама мне об этом не напомнишь?
Девушка молча приняла на себя эту вину.
После ужина Ромеш вручил ей небольшую шкатулку и произнес:
— С сегодняшнего дня складывай сюда все свои драгоценности и деньги.
Успокоясь на том, что теперь все бремя домашних хлопот переложено на плечи Комолы, он снова встал у палубных поручней, устремив взор на запад, где край небосвода прямо на глазах погружался в темноту.
Умеш приготовил себе, наконец, кушанье из творога, бананов и риса, а Комола, стоя перед мальчиком, подробно расспрашивала о его жизни.
В семье его властвовала мачеха, и жилось ему там очень тяжело. Умеш убежал из дому и направлялся теперь в Бенарес к деду его матери.
— Если ты оставишь меня при себе, мать, я никуда больше не поеду, — заключил он.
Материнский инстинкт, заговоривший в каких-то тайниках сердца Комолы, откликнулся на эту трогательную просьбу мальчика-сироты, и она ласково сказала:
— Очень хорошо, Умеш, ты поедешь с нами.
Глава двадцать пятая
Сплошная, словно проведенная тушью, полоса берегового кустарника казалась темной каймой на парчовом одеянии невесты-ночи. В угасающих лучах заходящего солнца потянулась на ночлег к тихим озеркам стая диких уток, весь день кормившаяся возле деревни. Утих гомон ворон, устроившихся в своих гнездах. На реке не осталось ни одной лодки, только тихо тянули бечевой большой парусник, и его темный силуэт резко выделялся на золотисто-зеленой поверхности реки.
Ромеш передвинул свое плетеное кресло на нос корабля, залитый ясным светом молодого месяца.
С западного края неба исчезли последние золотые отблески вечерней зари, и весь огромный мир как бы растворился, прикрытый волшебной пеленой лунного света.
«Хем! Хем!» — мысленно повторял Ромеш. Это имя было для него как нежное прикосновение, оно не уходило из его сердца. При одном его звуке казалось, будто страдальчески заглянули ему в лицо чьи-то обведенные тенью, затуманенные безмерной нежностью глаза. Ромеш вздрогнул, на глаза его навернулись слезы.
Перед ним пронеслась вся его жизнь за последние два года. Вспомнился первый день знакомства с Хемнолини. Он и не знал тогда, что этому дню суждено занять такое место в его судьбе. Когда Джогендро привел его впервые к ним в дом и смущенный юноша увидел за чайным столом Хемнолини, он почувствовал себя в страшной опасности. Но мало-помалу застенчивость его прошла, они привыкли друг к другу, и узы этой привычки постепенно превратили Ромеша в пленника. Казалось, все написанные о любви стихи, которые ему доводилось читать, посвящены одной Хемнолини. «Я люблю», — повторял он себе, переполненный гордостью. Товарищам приходилось перед экзаменами вызубривать наизусть сюжеты любовных поэм, а он, Ромеш, любил в самом деле, и в этом было его преимущество перед ними. Вспоминая все это сейчас, Ромеш понял, что в то время он стоял только в преддверии любви. И лишь когда так неожиданно появившаяся Комола непоправимо усложнила его жизнь, любовь его, пройдя через тяжелые испытания, окрепла, проснулась и ожила.
Склонив голову на руки, Ромеш думал о том, что перед ним еще целая жизнь, существование, полное сердечных томлений, бытие человека, запутавшегося в крепких сетях безысходности. Неужели у него не хватит сил разорвать их?
В порыве твердой решимости юноша поднял голову и внезапно увидел Комолу. Она стояла, облокотившись на спинку соседнего кресла.
— Ты спал? Я тебя разбудила? — испуганно спросила девушка.
Видя, что, охваченная раскаянием, она уже собирается уйти, Ромеш поспешно остановил ее:
— Нет, нет, Комола, я не спал. Сядь, я хочу рассказать тебе сказку.
Услышав про сказку, девушка обрадовалась и мигом придвинула к нему свое кресло. Ромеш сказал себе, что теперь настал момент, когда совершенно необходимо все рассказать ей. Но не в силах нанести такой удар слишком неожиданно, он и пообещал ей сказку.
— Жило когда-то одно воинственное племя, — начал он. — Оно…
— Когда же именно? Очень, очень давно?
— Да, давным-давно. Тебя тогда еще и на свете не было.
— А ты уже успел родиться! Подумайте, какой старик нашелся! Ну, дальше?
— У людей этого племени существовал обычай: сами они никогда не присутствовали на свадебном обряде, а посылали невесте свой меч. Девушку обручали с мечом, потом привозили в дом жениха и только тогда устраивали настоящую свадьбу.
— Ой, как нехорошо! Что за странная форма брака!
— Мне тоже не нравится этот обычай, но тут уж я ничего не могу поделать. Воины, о которых я рассказываю, считали для себя унизительным приезжать в дом к невесте и там обручаться. Раджа — о нем и пойдет сейчас речь — принадлежал к тому же племени. Однажды он….
— Ты еще не сказал, где он правил.
— Он был раджой в стране Мадура. Так вот, однажды этот раджа…
— Сначала назови его имя.
Комоле хотелось знать все подробности, — тут уж нельзя упустить ни одной мелочи. Если бы Ромеш мог это предвидеть, он тщательно подготовился бы заранее. Ему пришлось убедиться, что как бы ни увлекал Комолу рассказ, она нигде не потерпит обмана или неточности.
Чуть помешкав с ответом на столь неожиданный вопрос, Ромеш продолжал:
— Правителя звали Ранджит Сингх.
— Ранджит Сингх, правитель Мадуры, — еще раз повторила вслух девушка. — Что же дальше?
— А дальше дело было так: узнал этот раджа от странствующего певца, что у другого раджи того же племени есть красавица дочь.
— А кто этот второй раджа?
— Ну, предположим, что он был правителем Канчи.
— Зачем мне предполагать? Разве он не был им на самом деле?.
— Нет, все действительно обстояло именно так. Ты, наверно, хочешь узнать его имя? Его звали Амар Сингх.
— Но ты еще не назвал мне девушку… ту, красавицу.
— Ах, и правда, совсем забыл! Имя девушки… Ее имя… да, да, вспомнил! Ее звали Чандра.
— Удивительно! Вечно ты забываешь всякие такие вещи! Даже мое имя забыл однажды!
— Как только раджа Аудха услышал от певца…
— Откуда тут взялся еще и раджа Аудха? Ты же говорил про правителя Мадуры!
— Или ты думаешь, радже подвластна всего одна область? Он правил и Мадурой и Аудхом.
— Два эти княжества, должно быть, находились рядом?
— Да, прямо вплотную друг к другу.[23]
Так, делая на каждом шагу ошибки, допуская противоречия и кое-как исправляя их при помощи вопросов Комолы, Ромеш, наконец, поведал ей следующее:
Правитель Мадуры, Ранджит Сингх, послал гонца к правителю Канчи с просьбой выдать за него дочь. Раджа Канчи, Амар Сингх, был очень этим обрадован и дал согласие на брак.
Тогда младший брат жениха, Индраджит Сингх, с войском и развернутыми знаменами, под гром барабанов и трубные звуки раковин, отправился в княжество Канчи и стал лагерем в дворцовом саду. В городе Канчи начались празднества. Царские астрологи выбрали благоприятный день для бракосочетания. Торжество должно было состояться на двенадцатую ночь безлунной половины месяца, в два часа пополуночи.
Все дома в эту ночь украсились в честь свадьбы царской дочери Чандры цветочными гирляндами, везде горели светильники.
Но принцесса не знала, за кого выдают ее замуж. При рождении девочки мудрый Парамананда Свами сказал ее отцу: «Твоя дочь родилась при неблагоприятном сочетании планет. Помни, во время свадьбы она не должна слышать имени жениха».
В назначенный срок девушка прошла через брачный обряд с мечом, Индраджит Сингх принес подарки и приветствовал жену своего брата. Он был верен Ранджиту, как Лакшман Раме[24] ни разу не поднял глаз на зарумянившееся под покрывалом лицо благородной Чандры и смотрел только на ее обведенные красным лаком, увешанные колокольчиками маленькие ножки.
На другой же день после свадьбы Индраджит с невестой, которую усадили в закрытый, разукрашенный драгоценными камнями паланкин, собрался в обратный путь.
Помня предсказание о неблагоприятной планете, раджа Канчи со стесненным сердцем благословил дочь, положив ей на голову правую руку, а мать, целуя Чандру, не могла сдержать слез. Во всех храмах тысячи жрецов совершали обряды, чтобы предотвратить несчастье.
От Канчи до Мадуры расстояние очень далекое, почти целый месяц пути. Во вторую ночь после начала путешествия караван раскинул лагерь на берегу реки Ветаси, и воины уже готовились предаться отдыху, когда в лесу замелькали огни факелов. Индраджит выслал отряд разузнать, в чем дело.
Подъехав к принцу, один из воинов доложил, что это еще свадебный караван их же племени с вооруженной свитой. Они тоже провожают невесту в дом мужа. Путь в этих местах очень опасен, и они просят принца взять их под свою защиту. В случае согласия их отряды часть пути смогут пройти вместе.
— Защищать тех, кто нуждается в покровительстве, наш долг, — ответил Индраджит. — Охраняйте их получше!
Таким образом, оба лагеря соединились.
Третья ночь была последней в безлунной половине месяца. Впереди лагеря тянулась цепь невысоких холмов, позади — лес.
Под треск цикад и мерный гул близкого водопада утомленные воины крепко заснули.
Всех разбудил внезапный шум. Воины увидели, что по мадурскому лагерю мечутся сорвавшиеся с привязи обезумевшие кони, — кто-то, очевидно, перерезал их путы; повсюду пылают охваченные пламенем палатки, освещая багровым заревом безлунную ночь.
Стало ясно, что на лагерь напали разбойники. Завязалась рукопашная схватка, в которой благодаря темноте трудно было отличить своих от врагов.
Воспользовавшись всеобщим замешательством, разбойники захватили добычу и скрылись за покрытой лесом вершиной.
Когда окончилось сражение, оказалось, что принцесса исчезла. В страхе убежав из лагеря, она присоединилась к общей группе беглецов, которых приняла за людей собственной свиты.
Но беглецы были как раз из другого свадебного отряда, у которого разбойники среди поднявшейся суматохи похитили невесту. Воины этого второго отряда приняли Чандру за ту, которую они назначены были сопровождать, и вместе с ней поспешно отправились в свое царство.
Они принадлежали к обедневшему роду. Их владения находились в Калинге[25], на берегу моря. Там и произошла встреча Чандры с женихом пропавшей девушки. Его звали Чет Сингх.
Мать Чет Сингха вышла невесте навстречу и ввела ее в дом. Шепот восхищения пронесся по толпе родственников: никогда не видели они подобной красоты.
Счастливый Чет Сингх отнесся к Чандре с почтением, видя в ней Лакшми своего дома.
Принцесса, являвшаяся образцом добродетельной жены, считала Чет Сингха своим мужем и решила посвятить ему всю свою жизнь.
Прошло несколько дней, прежде чем новобрачные преодолели свое смущение. Тогда из разговора с девушкой Чет Сингх вдруг убедился, что та, которую он принял как свою жену, была на самом деле принцессой Чандрой.
— Что же случилось потом? — нетерпеливо воскликнула Комола. Она слушала Ромеша затаив дыхание.
— Это все, что я знаю, — ответил Ромеш. — Остальное мне неведомо. Рассказывай теперь ты, что произошло потом!
— Нет, нет, так не годится! Ты сам должен досказать, что было дальше!
— Да ведь я правду говорю, сказка-то еще не вся напечатана, и никто не знает, когда выйдут последние главы.
— Перестань, — окончательно рассердилась Комола. — Ну, до чего же ты нехороший! С твоей стороны это просто нечестно!
— Брани лучше того, кто написал эту книгу. А мне все-таки хочется тебя спросить, как должен, по-твоему, поступить с Чандрой Чет Сингх?
Комола долго молча смотрела на реку. И только спустя много времени, наконец, произнесла:
— Не знаю, что ему с ней делать! Ничего не могу придумать.
— Может, ему следует рассказать обо всем Чандре? — слегка помедлив, спросил Ромеш.
— Вот, вот! Ты хорошо придумал. Ведь если он промолчит, выйдет страшный скандал! О, это будет ужасно! Лучше всего сказать правду.
— Да, правда лучше всего, — машинально повторил Ромеш. — Послушай, Комола, — заговорил он вновь спустя несколько минут. — Если бы…
— Что, если бы?
— Представь, если бы я был Чет Сингх, а ты Чандра…
— Не говори таких вещей! — воскликнула Комола. — Мне это совсем не нравится.
— Нет, ты все-таки ответь! Ну, вдруг дело обстояло бы именно так, что же в таком случае должен делать я и что ты?
Девушка, не сказав ни слова, вскочила с кресла и убежала.
На пороге их каюты сидел Умеш и не отрываясь смотрел на реку.
— Видел ты когда-нибудь привидения, Умеш? — спросила Комола.
— Видел, мать.
Тогда Комола притащила стоявшую неподалеку плетеную скамеечку, уселась на нее и попросила:
— Расскажи, какие они?
Ромеш не стал звать обратно убежавшую в досаде Комолу.
Тонкий серп молодого месяца скрылся из глаз, спрятавшись в густых зарослях бамбука. Свет на палубе притушили, — матросы и капитан спустились вниз поужинать и спать. Ни в первом, ни во втором классе других пассажиров не было, а почти все ехавшие в третьем классе перебрались на берег готовить себе пищу. В просветах чернеющей массы береговых зарослей мелькали огни расположенных неподалеку лавчонок. Мощное течение полноводной реки громыхало якорной цепью, и дыхание великого священного Ганга заставляло время от времени вздрагивать весь пароход.
Любуясь поразительной новизной развернувшегося перед ним незнакомого ночного пейзажа с его смутно угадывающейся бесконечностью укрытых темнотой просторов, Ромеш вновь и вновь пытался разрешить мучительный для себя вопрос: он понимал, что ему так или иначе обязательно придется расстаться или с Хемнолини, или с Комолой. Сохранить обеих — о таком компромиссе не могло быть и речи. У Хемнолини еще есть какой-то выход: она может забыть Ромеша, может выйти замуж за любого другого. Но Комола… Как решиться ее бросить, раз у нее нет иного приюта в этом мире?
Но эгоизм мужчины безграничен. Ромеша отнюдь не успокаивало, что Хемнолини может его забыть, что есть на свете кому о ней позаботиться, что он для нее не единственный. Скорее наоборот, — сознание всего этого лишь усиливало его мучительную тревогу. Ему представлялось, что он смутно видит сейчас Хемнолини рядом с собой. Но в ту же минуту, простирая к нему с безмолвной мольбой руки, она уже исчезает навеки, и он не может к ней приблизиться.
Под тяжестью своих дум он бессильно уронил голову на ладони.
Где-то вдали завыли шакалы. Из деревни им немедленно отозвались тявканьем неугомонные собаки.
Очнувшись от этих звуков, Ромеш вновь поднял голову и увидел Комолу, которая стояла, держась за поручни, на темной безлюдной палубе.
Юноша поднялся с кресла и подошел к ней.
— Почему ты до сих пор не спишь, Комола? Ведь уже очень поздно…
— А сам ты разве не собираешься ложиться? — спросила девушка.
— Я тоже сейчас приду. Тебе постелено в каюте справа. Не жди меня, ступай скорей.
Не вымолвив больше ни слова, Комола очень медленно направилась к своей каюте. Не могла же она сказать Ромешу, что наслушалась сейчас рассказов о привидениях, а в каюте темно и пусто!
По звуку ее тихих, нерешительных шагов Ромеш догадался о ее смятении, и сердце его сжалось.
— Не бойся, Комола, — сказал он. — Ведь моя каюта рядом с твоей, я оставлю дверь между ними открытой.
— Мне нечего бояться! — ответила Комола и решительно тряхнула головой.
Войдя к себе, Ромеш потушил лампу и лег.
«Комолу бросить никак нельзя, — продолжал он свои размышления. — А значит, прощай Хемнолини. Итак, решение принято. Пути назад нет и… Прочь все колебания!»
И в то же время юноша чувствовал, что расстаться с Хемнолини для него равносильно смерти. Не в силах больше лежать, он поднялся с постели и вышел на палубу. Но, стоя в ночной темноте, он вдруг понял, что его душевное смятение, его личное горе не заполняют собой всю бесконечность времени и пространства. Усеявшие небосвод звезды мерцают спокойно, — что для них какая-то незначительная история Ромеша и Хемнолини, она их ничуть не трогает! Сколько еще будет таких же звездных осенних ночей, и эта река никогда не перестанет журчать мимо пустынных песчаных отмелей, среди шуршащих камышей, в тени деревьев, осеняющих спящие деревни! Она будет струиться и тогда, когда все огорчения Ромеша, все тяготы его жизни обратятся в горсть пепла от погребального костра и, смешавшись с вечной землей, исчезнут навсегда!
Глава двадцать седьмая
Было еще темно, когда Комола проснулась. Осмотревшись, она заметила, что около нее никого нет, и тут вспомнила, что эту ночь провела на пароходе. Тихонько приоткрыв дверь, девушка выглянула наружу. Над молчаливой водой тонкой пеленой стлался легкий прозрачный туман, темнота с каждой минутой все больше расплывалась в сероватую мглу; на восточном краю горизонта, за лесом, расцвела заря, и вскоре стальная поверхность реки запестрела белыми парусами рыбачьих лодок.
Комолу охватила какая-то щемящая безотчетная тоска. Почему осенняя заря не явила сегодня своего сияющего лика, а была будто затуманена слезами? И почему к горлу подступают беспричинные рыдания, а на глаза все время навертываются слезы? Еще вчера она даже не вспоминала о том, что у нее нет ни свекра, ни свекрови, ни знакомых, ни подруг. Что же случилось нынче, отчего она вдруг подумала о своем одиночестве, не видя опоры даже в Ромеше? Почему ей пришла в голову мысль о собственной слабости и о величии расстилающейся перед ней вселенной?
Комола долгое время тихо стояла в дверях. Вода уже заискрилась, словно поток расплавленного золота. Матросы взялись за работу, застучала машина. К берегу гурьбой сбежалась деревенская детвора, спозаранку разбуженная грохотом якорных цепей и постукиванием машины.
От этого шума Ромеш проснулся и, поднявшись с постели, направился к каюте, где спала Комола. Девушка вздрогнула и еще плотнее укуталась в покрывало, будто стараясь укрыться от Ромеша.
— Ты уже умылась, Комола? — спросил он.
Девушка, вероятно, не могла бы объяснить, почему вдруг рассердилась на Ромеша за этот вопрос, но она действительно рассердилась и, отвернувшись, лишь отрицательно покачала головой.
— Скоро все встанут, а ты до сих пор не готова, — продолжал он.
Комола ничего не ответила и, сняв с кресла свежее сари и полотенце, быстро прошла мимо Ромеша в ванную. Нельзя сказать, чтобы его утреннее посещение и некоторую заботливость Комола сочла совсем ненужными, но что-то было в них оскорбительное, она почувствовала, что Ромеш в отношениях с ней не желает переступать намеченную границу. Как уже говорилось, она не жила в доме свекра, почтенные родственницы не учили ее застенчивости, и она не знала, в каких случаях полагается закрывать лицо покрывалом. Но едва увидев перед собой Ромеша, девушка вдруг ощутила, что все в ней словно замерло от стыда. Комола выкупалась, вернулась в комнату и занялась своими обычными хозяйственными делами. Она достала ключи, завязанные в уголок свешивающегося с плеча сари, открыла чемодан, где лежали ее платья, и тут взгляд ее упал на маленькую шкатулку для денег. Вчера эта шкатулка составляла для Комолы источник радости; она будто сообщала ей чувство уверенности и самостоятельности. Заперев шкатулку, девушка бережно положила ее среди своей одежды. Но сегодня, взяв ее в руки, Комола не испытала ни малейшего удовольствия. Теперь эта вещь, казалось, не принадлежала ей всецело — это была шкатулка Ромеша. Поэтому девушку покинуло чувство полной независимости, которое она испытывала раньше. Наоборот, этот подарок делал Комолу еще более зависимой от Ромеша.
— Ты что, привидение нашла в пустой шкатулке? — спросил Ромеш, входя в каюту. — Что так притихла?
— Возьми, это твое, — сказала девушка, протягивая ему шкатулку.
— А что мне с ней делать?
— Когда тебе что-нибудь понадобится, дашь мне денег, и я куплю.
— А тебе самой разве ничего не нужно?
Пожав плечами, Комола уклончиво ответила:
— Зачем мне деньги?
— Немного найдется людей, которые могли бы искренне повторить эти слова, — рассмеялся Ромеш. — Однако, Комола, если тебе не нравится эта вещь, подари ее кому-нибудь, а мне она не нужна.
Комола молча положила шкатулку на пол.
— Послушай, Комола, — проговорил Ромеш, — скажи мне правду: ты сердишься на меня за то, что я не докончил сказку?
— Кто тебе сказал, что я сержусь? — опустив голову, произнесла девушка.
— Если не сердишься, оставь у себя эту шкатулку. Тогда я поверю, что ты сказала правду.
— Пусть даже я и не сержусь, но зачем мне оставлять ее у себя? Ведь это твоя вещь — ты ее и храни.
— Да не моя это вещь! Ты знаешь, тот, кто отбирает подарки, после смерти обязательно превращается в привидение.
Опасения Ромеша стать привидением вызвали у Комолы взрыв смеха.
— Не может быть, чтобы тех, кто отбирает подаренное, превращали в привидение, — все еще смеясь, заявила она. — Я никогда об этом не слышала.
Ее неожиданный смех положил Начало их примирению.
— От кого же ты могла услышать о подобных вещах? — спросил Ромеш. — Вот как только увидишь привидение, обязательно спроси его, и оно ответит тебе, правда это или нет.
Комола даже привстала от любопытства.
— Нет, серьезно, ты когда-нибудь видел настоящее привидение?
— Настоящих не видел, а поддельных множество. На свете вообще трудно найти что-нибудь настоящее.
— Почему же? А вот Умеш говорит…
— Умеш, это еще кто такой?
— Да тот мальчик, который едет с нами. Он сам видел привидение.
— Ну, я, конечно, не могу соперничать с Умешем в таких вопросах, придется мне согласиться с ним.
Тем временем, после продолжительных усилий команде удалось снять пароход с мели. Он едва отошел от берега, как вдруг там показался человек с корзиной на голове. Он бежал вдоль берега и, размахивая руками, просил остановить пароход. Но капитан не обратил ни малейшего внимания на отчаянные просьбы опоздавшего. Тогда человек умоляюще закричал Ромешу:
— Бабу, бабу!
«Он, видимо, принимает меня за главного», — подумал Ромеш и знаками дал понять, что остановить пароход не в его власти.
— Да это же Умеш! — вдруг воскликнула Комола. — Нет, нет, не бросайте его, пожалуйста, возьмите его!
— Но ведь по моей просьбе пароход все равно не остановят, — заметил Ромеш.
Огорчению Комолы не было предела.
— Скажи, чтобы остановили, попроси, ведь мы близко от берега.
Тогда Ромеш обратился к капитану с просьбой остановить пароход.
— Это против правил, господин, — отвечал тот.
Тут подошла и Комола:
— Нельзя его бросать. Ну остановитесь хоть на минутку! Ах, бедный мой Умеш! — восклицала она.
Пришлось Ромешу прибегнуть к самому простому и убедительному способу устранения законов и преодоления препятствий. Умиротворенный вознаграждением, капитан остановил пароход, но когда Умеш очутился на палубе, осыпал его градом ругательств. Однако мальчик и бровью не повел: он как ни в чем не бывало поставил к ногам Комолы корзинку и весело рассмеялся.
Комола все еще не могла опомниться от пережитого.
— Что ты смеешься? — корила она его. — Что бы сталось с тобой, если бы пароход не остановился!
Вместо ответа Умеш перевернул корзину, и оттуда посыпались на палубу гроздь недозрелых бананов, несколько сортов салата, тыквы и баклажаны.
— Откуда ты достал все это? — всплеснула руками Комола.
Показания Умеша относительно способа добывания этих продуктов власти ни в коем случае не признали бы удовлетворительными. Вчера, отправившись за творогом и другими продуктами, он приметил, у кого из деревенских жителей на огородах или крышах растут эти благословенные дары природы. Сегодня же, рано утром, перед самым отплытием парохода он спустился на берег и, не дожидаясь разрешения хозяев, собрал те из них, которые ему приглянулись.
Ромеш пришел в неописуемую ярость.
— Так, значит, ты стащил все это на чужих огородах! — закричал он.
— Разве это кража? — спокойно возразил Умеш. — Там было так много всего, а я взял совсем немножко, кому же от этого убыток?
— Ты думаешь, взять мало — не значит украсть?! Ах ты, преступник, уходи отсюда и убери прочь все это.
Умеш умоляюще посмотрел на Комолу:
— Мать, вот это у нас называют пиринг, он очень вкусен в тушеном виде, а вот бето…[26]
Ромеш рассвирепел еще больше:
— Убирайся со своим пирингом, иначе я выкину все в реку!
В ожидании дальнейших указаний мальчик поднял глаза на Комолу. Девушка сделала знак, чтобы он ушел. В этом жесте Умеш уловил сочувствие и тайную симпатию. Собрав в корзинку все овощи, он покорно удалился.
— Это очень нехорошо, — обратился Ромеш к Комоле, — нельзя так потакать мальчишке.
И он отправился в каюту сочинять письмо. Комола, внимательно оглядевшись по сторонам, увидела Умеша. Он сидел за палубой второго класса, у машинного отделения, там, где им было отведено место для стряпни.
Во втором классе пассажиров не было, и Комола, предварительно закутавшись с головы до ног, подошла к мальчику.
— Неужели ты все выбросил? — спросила она.
— Нет, зачем же выбрасывать. Я все сложил вот в этой каморке.
Комола попробовала сделать сердитое лицо.
— Но ты очень нехорошо поступил, Умеш. Больше никогда не делай этого, слышишь? Ну, а если бы пароход ушел!
Затем Комола вошла в кладовую и крикнула оттуда:
— Неси скорее нож!
Умеш подал нож, и Комола энергично принялась резать на кусочки принесенные Умешем овощи.
— К этому салату очень подошла бы тертая горчица, мать, — заметил Умеш.
— Так приготовь ее, — сердито приказала Комола.
Она нарочно говорила таким тоном, опасаясь, как бы Умеш не подумал, что она поощряет его, и поэтому с суровым видом занималась приготовлением салата и баклажан.
Но разве могла такая девушка, как Комола, отказать в защите лишенному родного дома мальчику? Она не вполне понимала всю тяжесть такого преступления, как кража овощей, но зато прекрасно чувствовала, как велика должна быть жажда ласки и приюта у этого бездомного ребенка. Ведь мальчик убежал с парохода и стащил овощи единственно для того, чтобы доставить удовольствие ей, Комоле, нисколько не думая о том, что пароход может уйти. Как же могло это не тронуть ее сердца!
— Вот что, Умеш, тут для тебя вчерашний творог оставлен. Поешь, но помни, никогда больше не занимайся такими делами! — сказала она.
Умеш, вконец расстроенный, мог лишь пробормотать:
— Почему ты не съела его вчера, мать?
— Я не так люблю творог, как ты, — ответила Комола. — Ну, Умеш, теперь у нас есть все, кроме рыбы. Где бы ее достать?
— Я бы мог достать рыбу, мать, но ее ведь не возьмешь без денег.
Комола снова принялась вразумлять его. Она сурово нахмурила свои красивые брови:
— Я никогда еще не видела такого непонятливого мальчика, как ты, Умеш. Разве я заставляю тебя доставать что-нибудь без денег?
Умеш уже успел заключить, что Комола считает нелегким делом просить у Ромеша деньги. А кроме того, Ромеш ему вообще не нравился. Поэтому он не принимал его в расчет, и все нехитрые планы мальчика направлены были на то, чтобы вывести из затруднительного положения только Комолу и себя самого. За баклажаны, салат и бананы он теперь был спокоен, но решить вопрос с рыбой оказалось ему не под силу. В этом мире одним бескорыстным почитанием не заработаешь ни капли молока, ни кусочка рыбы — все требует денег. Поэтому неимущему почитателю Комолы свет казался очень суровым.
— Если бы ты как-нибудь получила от Ромеша-бабу хоть пять пайс, мать, я принес бы тебе большого карпа, — виновато сказал Умеш.
Комола пришла в волненье:
— Нет, нет, я больше не разрешу тебе спускаться с парохода. Если ты еще раз останешься на берегу, пароход не станет ждать тебя!
— Да нет, зачем мне уходить с парохода. Сегодня утром наши матросы сетями поймали большущую рыбу. Они, я думаю, продадут хоть половину ее.
Услышав об этом, Комола поспешно принесла рупию[27] и, вручив ее Умешу, сказала:
— Сдачу вернешь мне.
Умеш доставил рыбу, но сдачи не принес, заявив, что матросы не хотели отдавать карпа меньше чем за рупию. Комола догадалась, что он говорит неправду, и сказала с улыбкой:
— На следующей остановке придется разменять деньги.
— О да, это совершенно необходимо, — с невозмутимым видом подтвердил Умеш, — нечего рассчитывать на сдачу после того, как покажешь целую рупию.
В этот день, принявшись за еду, Ромеш воскликнул:
— Замечательно вкусно! Но откуда ты раздобыла все это? Что я вижу! Неужели голова карпа? — Од взял рыбу и торжественно приподнял ее. — Да, это не сон, не мираж, не игра воображения, — это реально существующая головная часть рыбы, которую называют Cyprinus rohita — красным карпом.
Таким образом, эта полуденная трапеза закончилась вполне мирно. Затем Ромеш уселся на палубе в шезлонге отдохнуть после обеда. А Комола стала кормить Умеша. Тушеная рыба так ему понравилась, что его аппетит с каждой минутой принимал все более угрожающие размеры.
— Не хватит ли, Умеш? — сказала, наконец, обеспокоенная Комола. — Я оставила тебе еще на вечер.
За хозяйственными хлопотами и веселыми шутками Комола не заметила, как рассеялось ее утреннее пасмурное настроение.
День подходил к концу. Солнце клонилось к закату и своими косыми лучами уже забралось под палубный тент с западной стороны. По вздрагивающему пароходу прыгали бледные зайчики вечернего солнца. Узенькими тропинками, которые вились по обоим берегам среди нежной зелени осенних нив, к реке спускались женщины с кувшинами, чтобы набрать воды для вечернего омовения.
Солнце уже скрылось на западе, за бамбуковыми зарослями, когда Комола окончила приготовление пана, умылась, причесалась и, переменив платье, была готова к ужину. Как и накануне, пароход на ночь стал на якорь у какой-то пристани.
Приготовления к ужину отняли у Комолы немного времени, так как с утра оставались овощи. В это время к ней подошел Ромеш и сказал, что днем очень плотно поел и ужинать не будет.
— Совсем ничего не хочешь? — огорчилась Комола. — Может быть, хоть кусочек жареной рыбы съешь?
— Нет, не хочу, — бросил Ромеш, уходя в каюту.
Тогда все, что было — и жареное и тушеное, — Комола положила на тарелку Умеша.
— Почему ты себе ничего не оставила, мать? — спросил Умеш.
— Я уже поела.
Итак, на сегодня все дела ее маленького пловучего хозяйства были окончены.
Лунный свет заливал своим сиянием землю и отражался в воде. Деревень поблизости не было, и над нежнозелеными безлюдными просторами рисовых полей, словно женщина в ожидании любимого, бодрствовала прозрачная тихая ночь.
На берегу в крохотной, под железным навесом, пароходной конторе сидел на стуле чахлый конторщик и при свете маленькой керосиновой лампы что-то подсчитывал. Ромеш хорошо видел его через открытую дверь конторы. «Как бы я был счастлив, если бы судьба назначила мне такое скромное, но зато несложное существование, — тяжело вздохнув, подумал юноша, — вести конторские книги, исполнять свою работу, терпеть брань хозяина за ошибки в счетах и поздно вечером уходить домой!»
Наконец, свет в конторе погас. Служащий запер дверь, поплотнее закутался в шарф, вероятно опасаясь ночной прохлады, и медленно двинулся в путь. Постепенно фигура его скрылась в темноте среди полей.
Ромеш не заметил, что Комола уже довольно долго стоит позади него, держась за поручни. Она надеялась, что он позовет ее вечером, но давно было покончено со всеми хозяйственными делами, а Ромеш все не приходил за ней. Тогда Комола сама потихоньку выбралась на палубу. Внезапно она пошатнулась, не в силах двинуться с места. Яркий свет луны падал прямо на лицо Ромеша, и по выражению его можно было понять, что Ромеш сейчас далеко, очень далеко отсюда, и в его мыслях нет места Комоле. Будто между погруженным в думы Ромешем и этой одинокой девушкой встала на страже ночь, с ног до головы закутанная в одеяние из лунного света и в знак молчания приложившая палец к губам.
Когда Ромеш, спрятав лицо в ладони, уронил голову на стол, Комола тихо направилась к себе в каюту. Она старалась ступать неслышно, опасаясь, как бы Ромеш не догадался, что она искала его.
В каюте было пусто и темно. Войдя туда, девушка невольно вздрогнула. Она чувствовала себя такой одинокой и покинутой, а тесная каморка темнела перед ней, словно пасть какого-то неизвестного и кровожадного чудовища. Но куда ей бежать?
Разве есть угол, где она могла бы спокойно приклонить голову и, закрыв глаза, подумать: «Я у себя дома». Заглянув в каюту, Комола отступила назад, но тут же наткнулась на зонтик Ромеша, который с шумом упал на окованный железом сундук. Вздрогнув от этого звука, Ромеш поднял голову и, встав с кресла, заметил Комолу, которая стояла у дверей своей спальни.
— Что такое, Комола? — спросил он. — Я думал, что ты давно уже спишь. Уж не страшно ли тебе? Тогда я больше не останусь здесь, а пойду спать и могу снова оставить открытой дверь в твою каюту.
— Страшно? Нет, что ты! — оскорбленно возразила Комола и, поспешно войдя в темную каюту, заперла дверь, открытую было Ромешем. Затем она бросилась на постель и натянула на голову покрывало. Никого у нее нет в целом мире! Она с мучительной ясностью ощущала свое полное одиночество, и сердце ее взбунтовалось: зачем жить, когда нет ни защиты, ни свободы?
Ночь тянулась мучительно долго. В соседней каюте уже давно уснул Ромеш. Но Комола не могла спать. Осторожно ступая, она вышла на палубу и, сжимая поручни, стала пристально смотреть на берег. Вокруг не было слышно ни звука. Месяц клонился к закату, и не различить уже было узеньких тропинок, которые бежали среди нив по обоим берегам реки. И все же Комола пристально смотрела в ту сторону. Сколько женщин, наполнив кувшины, возвращаются по этим дорожкам к себе домой! Дом! При воспоминании об этом слове ее сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из груди. Хоть какой-нибудь маленький дом, где он у нее? Терялся вдали пустынный берег, простираясь от горизонта до горизонта; застыло в молчании небо. Ненужное небо, ненужная земля! Что значили эти безграничные просторы для хрупкой девушки! Ведь у нее не было даже маленького дома!
Внезапно Комола вздрогнула: она почувствовала, что недалеко от нее кто-то стоит.
— Не бойся, мать! Это я, Умеш. Уже очень поздно, почему ты не спишь?
В течение всей этой долгой мучительной ночи у нее даже не было слез, но теперь они вдруг потоком хлынули из глаз. Комола не в силах была сдержать их, и они все падали и падали крупными каплями. Она низко опустила голову и отвернулась от Умеша. Бесцельно плывет обремененное влагой облако, но стоит ему встретиться с таким же, как и оно, бесприютным ветерком, и весь его водяной груз мигом изливается. Так и Комола, услышав ласковое слово от несчастного, бездомного ребенка, не могла сдержать слез, лежавших тяжелым грузом у нее на сердце. Она пыталась что-то сказать, но рыдания сдавили ей горло.
Умеш был в отчаянии, но никак не мог придумать, чем успокоить Комолу. Наконец, после продолжительного молчания он вдруг заявил:
— Мать, от той рупии, что ты дала мне, осталось семь анн.
Запас слез у Комолы к тому времени истощился, и при этом неожиданном заявлении Умеша слабая улыбка озарила ее лицо.
— Хорошо, оставь их себе! — ласково сказала Комола. — Теперь иди поскорей спать.
Месяц исчез за деревьями. Комола вернулась в каюту и легла. На этот раз ее утомленные глаза сразу же сомкнулись. Когда утреннее солнце постучалось в дверь ее каюты, оно застало Комолу погруженной в глубокий сон.
Глава двадцать восьмая
На следующее утро Комола чувствовала легкое недомогание. Все сегодня казалось ей вялым и тусклым: и лучи солнца и поверхность реки. Даже прибрежные леса выглядели утомленными, словно путник после долгой дороги.
Когда Умеш явился помогать ей по хозяйству, она устало сказала:
— Иди отсюда, Умеш, не надоедай мне сегодня.
Но Умеш отнюдь не был расположен к меланхолии.
— Что ты, мать, — ответил он, — я пришел не надоедать тебе, а растирать горчицу.
— Уж не больна ли ты, Комола? — спросил утром Ромеш, заметив утомленный вид девушки.
Ничего не ответив, Комола ушла в кухню.
Ромеш понимал, что с каждым днем положение все усложняется и необходимо как можно быстрее принять окончательное решение. Он пришел к выводу, что когда открыто признается во всем Хемнолини, ему станет легче понять, в чем заключается его истинный долг.
И вот после долгих размышлений он сел за письмо к Хемнолини. Ромеш уже успел сочинить один вариант и разорвать его, как вдруг услышал:
— Как ваше имя, господин? — и, вздрогнув, поднял голову.
Пёред ним стоял человек преклонного возраста. У него были седые усы, и в редких волосах над лбом уже поблескивала лысина. Человек был несколько смущен тем, что отвлек внимание Ромеша от письма, которым тот, казалось, был всецело поглощен.
Затем он снова заговорил:
— Вы брахман?[28] Здравствуйте. Вас зовут Ромеш-бабу, я знаю. У нас при знакомстве полагается спрашивать имя, это простое проявление вежливости. Правда, теперь уж многим не нравится такой обычай. Если вы рассердились, отомстите мне: спросите, как меня зовут, и я назову вам свое имя, имя моего отца, и даже могу вам сообщить, как звали моего деда.
— Гнев мой не настолько велик, — рассмеялся Ромеш, — и я буду удовлетворен, узнав только ваше имя.
— Меня зовут Тройлокья Чокроборти. Но здесь, на западе, я всем известен просто как «дядя». Вы, конечно, изучали историю? Бхарата был правителем древней Индии и назывался раджой Чокроборти, так же и я, — «дядя Чокроборти» всей западной области. Вы обязательно услышите обо мне, если будете путешествовать по западу. Кстати, куда вы направляетесь?
— Еще до сих пор точно не решил, где остановимся.
— Ну, где высадиться, вы можете решать не торопясь, это при посадке нельзя мешкать.
— Я слез с поезда в Гойялондо и увидел готовый к отплытию пароход. Я понял, что, если буду медлить с решением, пароход уйдет без меня. Итак, я проявил быстроту там, где дело этого требовало.
— Испытываешь почтение к таким людям, как вы. Мы с вами прямая противоположность. Я все решу заранее, а потом уже сажусь на пароход. Это потому, что я по натуре человек очень робкий. Шутка ли? Вы решились поехать и сами не знаете куда. Вы с женой?
Ромеш замешкался, не зная, отвечать ли ему утвердительно на этот вопрос. Тогда Чокроборти сказал:
— Простите меня, ну, конечно, вы едете с женой, это я уже знаю из весьма достоверных источников. Ваша жена готовит пищу вон в той каморке. Под влиянием возросшего аппетита я забрел туда в поисках кухни. «Не пугайся, мать, — сказал я ей, — я только дядя Чокроборти западной области». Мне показалось, будто я встретил Оннопурну[29]. «Если ты, владея кухней, откажешь мне в пище, — сказал я вашей жене, — я погибну». Она чуть улыбнулась, но так ласково, что я понял: все улажено, и мне больше не о чем беспокоиться. Знаете, перед тем как отправиться в путь, я всегда выбираю по календарю благоприятный день, но такая удача, как на этот раз, еще никогда не выпадала на мою долю. Вы заняты, я не буду мешать вам и, если позволите, пойду помогать вашей супруге. Пока есть мы, зачем ей утруждать свои нежные ручки? Нет, нет, вы пишите, вам незачем вставать. Я знаю, как с ней познакомиться. — С этими словами дядя Чокроборти распрощался с Ромешем и отправился в кухню.
— Какой аромат доносится отсюда, — проговорил он, входя, — не пробуя, можно угадать, что это будет тушеная рыба. А я приготовлю тебе тамариндовый сироп![30] Те, кто не жил на знойном западе, никогда не смогут его как следует приготовить. Ты, наверно, думаешь, что старик только говорит, ведь тут нет тамаринда, из чего же он приготовит сироп. Но раз я здесь, пусть тебя не тревожит отсутствие тамаринда! Имей лишь терпение, я все достану.
Он принес обернутый в газету глиняный горшочек с маринадом.
— Из того, что я приготовлю, возьми, сколько тебе надо на сегодня, а остальное поставь, пусть побродит дня три. Потом попробуешь и скажешь: «Дядя хоть и хвастун, а сироп все-таки приготовил на славу».
Пойди, мать, умойся, смотри, уже поздно. А со стряпней я сам справлюсь. Да ты не бойся, у меня есть опыт в этом деле. Моя жена все время хворает, так я ей постоянно готовлю тамариндовый сироп для возбуждения аппетита. Ты, я вижу, смеешься над стариком, но все это празда, я не шучу!
— Ну, так вы и меня научите готовить, — сказала Комола.
— Погоди, вот нетерпеливая! Разве знания даются так легко? Они потеряют всю свою силу, если я сообщу их тебе в один день, и богиня Сарасвати будет недовольна мною. Сначала тебе придется несколько дней поухаживать за стариком! Я не заставлю тебя раздумывать над тем, как мне угодить, — сам все объясню; больше всего я люблю побаловать себя паном, но мне не нравится, когда орехи попадаются нерастолченными. Как видишь, покорить меня нелегко, но ты уже почти добилась этого своим улыбающимся личиком. А это кто такой? Как тебя зовут?
Умеш промолчал. Он был сердит, так как считал, что старик уже сделался его соперником в завоевании сердца Комолы. Девушка ответила за него:
— Его зовут Умеш.
— Очень славный мальчик, — заметил старик. — Он из тех, чьи мысли сразу не разгадаешь. Но ты увидишь, мы с ним поладим. Не теряй времени, мать, мне надо поскорее покончить со стряпней.
Общество старика заполнило ту пустоту, которую ощущала Комола в своей жизни, да и Ромеш с его появлением стал чувствовать себя как-то спокойнее.
Какая огромная разница между теперешним поведением Ромеша и той свободной непринужденностью отношений, которые установились между ними в первые месяцы, когда Ромеш считал Комолу своей женой. И эта перемена не могла не ранить сердце девушки. Теперь же, с появлением Чокроборти, Ромеш надеялся, что старик сумеет хоть немного отвлечь мысли Комолы от него, и он, Ромеш, сможет заняться исцелением ран собственного сердца.
Подойдя к каюте Ромеша, Комола остановилась у дверей. Она собиралась провести с Чокроборти эти томительные и свободные полуденные часы, но тот, увидев ее, воскликнул:
— Нет, нет, мать! Это никуда не годится, так нельзя! — Не поняв, что ему не понравилось, она удивилась и пожелала узнать, в чем причина. — Да вот, обувь! — ответил дядя. — Это, конечно, твое дело, Ромеш-бабу, но что ли говори, а вы нехорошо поступаете. Родная земля оскверняется от прикосновения подошв. Как вы думаете, если бы Рама одел Ситу в доусоновскую обувь, смог бы Лакшман провести четырнадцать лет в ее обществе? Никогда! Ромеш-бабу смеется, слушая меня, и в душе недоволен мною. Но я скажу: неправильно вы все делаете, Ромеш-бабу! Ну кто же, едва заслышав свисток парохода, бросается на него очертя голову и совершенно не задумывается над тем, куда едет?
— А почему бы, дядя, вам не определить место нашей высадки, — рассмеялся Ромеш. — Ваш совет подействует на нас лучше пароходного гудка.
— Однако рассудительность ваша, я вижу, растет с каждой минутой, вы ведь меня едва знаете! Ну хорошо, высаживайтесь в Гаджипуре. Хочешь в Гаджипур, дорогая? Там плантации роз и там живет вот этот твой старый почитатель.
Ромеш вопросительно посмотрел на Комолу, и та тотчас кивнула головой в знак согласия.
После этого Чокроборти и Умеш устроили совещание в каюте смущенной Комолы, а Ромеш, тяжко вздохнув, остался на палубе. Был полдень. Накаленный солнцем пароход тихо покачивался на волнах. Перед глазами Ромеша, сменяясь как во сне, проплывали мирные, освещенные осенним солнцем пейзажи: то рисовое поле, то пристань с привязанными к ней лодками, то песчаная отмель, то одинокий деревенский дом. Где сверкнет на солнце железная крыша лавки, где вдруг покажется группа путников, ожидающих паром в тени старого баньяна[31].
В ласкающей тишине осеннего полдня до слуха Ромеша временами доносился из соседней каюты нежный и веселый смех Комолы. На этот смех откликалось его сердце. Как все кругом прекрасно и как далеко от него! Какой страшный удар отсек его искалеченную жизнь от всего этого!
Глава двадцать девятая
Комола была молода, поэтому опасения, подозрения и горести недолго тяготили ее сердце.
Последние несколько дней ей просто некогда было раздумывать над поведением Ромеша. Поток, встречая препятствия, течет еще стремительнее, так и спокойные мысли Комолы, внезапно натолкнувшись на странное отношение к ней Ромеша, закружились, как в водовороте. Появление старого Чокроборти, веселые шутки, хлопоты по хозяйству — все это помогло сердцу Комолы преодолеть затруднения. Тревожные мысли стремительно пронеслись мимо, и Комола больше не задумывалась.
В эти сияющие осенние дни речные пейзажи были особенно красивы. На фоне искрящейся золотом воды дни, заполненные веселыми хозяйственными хлопотами, мелькали, как страницы бесхитростной поэмы.
День, как обычно, начинался с постоянных забот, Умеш больше не опаздывал на корабль, но неизменно возвращался с полной корзиной. В маленькой кухне это вызывало всегда шумное оживление.
— Что это, неужели тыквы! Боже мой, откуда он только раздобыл эти бобы? Смотри, смотри, дядя, это же квашеная свекла! Вот не думала, что можно достать ее в такой глуши.
Каждое утро появление корзины сопровождалось такими восхищенными возгласами. И только с приходом Ромеша гармония нарушалась: он постоянно подозревал мальчика в воровстве.
Возмущенная Комола в таких случаях говорила:
— Глупости какие, ведь я своими руками отсчитала деньги.
— Ты даешь ему возможность извлечь двойную выгоду: и деньги присваивать и овощи воровать, — отвечал Ромеш и, обращаясь к Умешу, требовал: — А ну-ка подсчитай, сколько истратил.
Но сколько бы раз Умеш ни пересчитывал, цифры у него получались разные, но если даже подсчитать точно, расходы его всегда превышали выданную ему сумму. Однако Умеша это ничуть не смущало.
— Если бы я умел правильно считать, — говорил он, — разве я был бы в таком положении, как теперь? Уж наверняка стал бы сборщиком налогов, — правда, дедушка?
Чокроборти в таких случаях советовал Ромешу отложить суд на послеобеденное время, тогда можно будет все обсудить как следует.
— А теперь я не могу не похвалить этого ловкого мальчика, — говорил он. — Умение приобретать, дорогой Ромеш, — немалое искусство, оно дается очень немногим. Конечно, стремятся к этому все, но достигают успеха лишь некоторые. Я кое-что понимаю в этом деле, Ромеш-бабу. Скажем, сейчас не сезон бобов, и немного найдется мальчиков, которые сумели бы раздобыть их так рано утром в незнакомом месте. Подозревать умеют все, а вот приобретать — один из тысячи.
— Нет, все-таки это не дело, дядя, и вы нехорошо поступаете, оправдывая его! — упорствовал Ромеш.
— И так немного талантов у бедного мальчика, но будет очень обидно, если и те, что у него есть, погибнут за недостатком поощрения, особенно пока мы еще на пароходе. Вот что, Умеш, достань мне завтра листьев дерева ним[32], но имей в виду, чем они выше на дереве, тем лучше. Суктуни[33] совершенно необходима, говорит наша Яджурведа[34]. Но довольно, оставим Яджурведу, мы и так задержались. А ну-ка, Умеш, вымой хорошенько овощи и неси сюда, только живо!
Чем больше Ромеш подозревал Умеша, бранил его, тем сильнее мальчик привязывался к Комоле, а благодаря присоединению к ним Чокроборти группа Комолы стала вполне независима от Ромеша. Он Со своей холодной рассудочностью был на одной стороне, а Комола, Умеш и Чокроборти, которых объединяли совместные заботы, развлечения и симпатии друг к другу, оказались на другой. Чокроборти относился к Комоле со все возраставшим обожанием. Это побудило Ромеша взглянуть на нее по-новому, но все-таки он не присоединялся к ее группе. Ромеш напоминал корабль большого водоизмещения, который из-за мелководья не может подойти вплотную к берегу и, бросив якорь на некотором расстоянии от суши, вынужден смотреть на нее издали, в то время как маленькие рыбачьи лодки свободно причаливают к самому берегу.
Приближалось полнолуние. Проснувшись однажды утром, путешественники увидели, что все небо заволокло громадами черных туч; ветер беспрерывно менялся; несколько раз начинал лить дождь, затем он переставал, и тогда снова появлялись робкие лучи солнца. На середине реки не осталось ни одного суденышка, а тем, которые еще не добрались до берега, грозила опасность. Девушки, приходившие к реке за водой, сегодня не задерживались у пристани… Временами по реке скользили зловещие отблески, проникавшие сквозь покров туч, и волны великого Ганга с шумом разбивались о берег.
Пароход продолжал свой путь.
При таких неблагоприятных обстоятельствах хозяйственные дела Комолы пошли хуже.
— Придется нам все приготовить сейчас, мать, — заметил Чокроборти, поглядывая на небо, — чтобы вечером не стряпать. Займись-ка тушеными овощами, а я пока замешу тесто.
Приготовление обеда в этот день заняло много времени. Ветер все крепчал, грозя перейти в ураган. Бурная река покрылась белыми гребешками, за тучами трудно было разобрать, зашло уже солнце или нет. Пароход бросил якорь раньше обычного.
Спустились сумерки, и только изредка через разрывы в тучах показывалась болезненно-бледная улыбка луны. Яростно выл ветер. Наконец, разразился ливень и начался ураган. Комола однажды уже испытала кораблекрушение, и теперь неистовство стихии заставляло ее дрожать от страха. Вечером к ней зашел Ромеш и попробовал успокоить ее.
— Не бойся за пароход, — сказал он, — ты можешь спокойно спать, Комола. Я рядом в соседней каюте и не скоро лягу.
Тут к дверям подошел Чокроборти.
— Не бойся, дорогая, — проговорил он, — отец бурь не посмеет тебя тронуть.
Трудно сказать, как велика власть отца бурь; но на что способна разыгравшаяся стихия, Комоле было слишком хорошо известно. Поэтому, подбежав к двери, она умоляюще сказала:
— Пожалуйста, посидите со мной, немного, дядя.
— Так вам, наверно, уже пора спать, — смущенно ответил Чокроборти.
Но, зайдя в каюту, увидел, что Ромеша там нет.
— Куда же делся Ромеш-бабу? — заметил он с удивлением. — Не ушел же овощи воровать, — это ведь не в его правилах!
— Это вы, дядя? — послышался голос. — Я здесь, в соседней каюте.
Заглянув туда, Чокроборти увидел, что Ромеш при свете лампы читает, полулежа в постели.
— Что же вы оставили жену в одиночестве? Разве не видите, что она боится? — обратился к нему старик. — Все равно книгой бури не испугаешь, лучше отложите ее и идите сюда.
Комола, не помня себя от охватившего ее страшного волнения, схватила Чокроборти за руку и прерывающимся голосом проговорила:
— Нет, нет, дорогой дядя, не надо, не надо!
Из-за рева бури Ромеш не расслышал этих слов, но удивленный Чокроборти быстро обернулся.
Ромеш отложил книгу и, войдя в комнату к Комоле, спросил:
— В чем дело, дядя Чокроборти? Кажется, Комола вас…
— Нет, нет, я позвала его, просто чтобы поболтать немного, — не глядя на него, воскликнула Комола.
Ей никто не противоречил, и, вероятно, она сама не смогла бы объяснить, что заставило ее все время повторять «нет». Этим «нет» она будто говорила: «Не думай, что меня надо успокаивать, нет, я не нуждаюсь в этом; не думай, что мне необходимо чье-нибудь присутствие — вовсе нет!»
Затем Комола обратилась к Чокроборти:
— Уже поздно, дядя, идите спать и посмотрите, как себя чувствует Умеш. Ему, наверно, очень страшно.
— Я вообще никого не боюсь, мать, — вдруг раздался голос.
Оказалось, что Умеш, кое-как закутавшись, сидел у ее двери.
Растроганная Комола выглянула из каюты.
— Боже мой, Умеш, зачем ты мокнешь под дождем? Сейчас же иди с дядей в его каюту, скверный мальчишка.
Вознагражденный за свое внимание таким обращением, «скверный мальчишка» покорно пошел за Чокроборти.
— Хочешь, я буду рассказывать тебе что-нибудь, пока ты не заснешь? — предложил Ромеш девушке.
— Нет, я уже засыпаю, — ответила Комола.
Нельзя сказать, чтобы Ромеш не догадывался о настоящем настроении Комолы, но настаивать не стал и, заметив на ее лице выражение оскорбленной гордости, тихо ушел к себе.
Комола была слишком взволнованна, чтобы спокойно лежать в ожидании сна, но все-таки заставила себя лечь в постель. Буря свирепствовала, волны вздымались все выше. Весь экипаж был на ногах; в машинном отделении то и дело раздавались звонки, это передавали приказания капитана. Под яростным напором ветра судно не могло держаться на одном якоре и стояло под парами. Комола поднялась и вышла на палубу. Дождь ненадолго перестал, но ветер, как раненый зверь, ревел и метался из стороны в сторону. Несмотря на густой покров туч, небо порой освещалось месяцем, являвшим свой искаженный страданием лик. Берега едва виднелись, и река тонула во мгле. Небо и земля, далекое и близкое, видимое и невидимое — все слилось в страшном вихре, и казалось, будто черный буйвол бога Ямы[35], пригнув рога и мотая головой, мчится в слепой ярости, в диком безумии.
Когда Комола увидела эту обезумевшую жуткую ночь, это мятущееся небо, в ее груди все задрожало от страха или от радости — неизвестно. Неудержимая сила, безграничная свобода, которая слышалась в гуле разбушевавшихся стихий, будила что-то в ее сердце. Этот охвативший все бунт привел в волнение чувства Комолы. Против чего восстает природа? Но разве расслышишь ответ в грохоте бури? Он так же неясен, как неясны Комоле тревоги ее сердца. Одно она сознавала: небо и земля кипят возмущением и поднимают свой гневный рокочущий голос, чтобы освободиться от невидимых, неосязаемых сетей мрака, лжи и обмана. Откуда-то из беспредельных просторов мчался ветер, бросая в черную ночь одно повторяющееся «не-е-ет!»
«Нет» — только этот упорный протест слышался ей в его реве, но против чего? Этого нельзя было сказать определенно, но только нет, нет, ни за что!
Глава тридцатая
Утром следующего дня ветер стал стихать, но волнение на реке еще не улеглось. Поэтому капитан не мог решит, сниматься ли с якоря, и тревожно поглядывал на небо.
Рано утром Чокроборти зашел в каюту Ромеша и застал его в постели, но приход дяди заставил Ромеша тотчас вскочить. Увидев сейчас юношу в этой каюте и припомнив события минувшей ночи, старик, наконец, решился спросить:
— Вы разве спали сегодня здесь?
— Какая скверная погода, — проговорил Ромеш, уклоняясь от ответа. — Ну, как вам спалось сегодня?
— Ромеш-бабу, — сказал Чокроборти, — вы, кажется, считаете меня глупцом и речи мои тоже недостойными внимания, но все же я вам скажу: над многими загадками пришлось мне ломать голову на своем веку, и большинство их я разрешал, но вас, Ромеш-бабу, я считаю самой трудной для себя загадкой.
На какое-то мгновенье Ромеш смутился и покраснел, однако, тотчас овладев собой, ответил с улыбкой:
— Но разве это преступление не поддаваться разгадке! Если бы мы с вами с самого детства изучали язык телугу, он все равно остался бы для нас трудным и мало понятным, тогда как для мальчика из Телинганы он прозрачен, как вода. Отсюда следует, что не надо осуждать того, что неизвестно. И не надейтесь, что если вы будете проводить бессонные ночи над непонятным знаком, то обязательно разгадаете его.
— Простите меня, Ромеш-бабу, — ответил Чокроборти, — я считаю, что было бы слишком самонадеянно с моей стороны даже попытаться разгадать человека, у которого нет со мной ничего общего. Но ведь на свете встречаются иногда люди, которые становятся тебе близки с первого взгляда. Да вот, ваша жена, например: спросите хоть этого бородатого капитана, он относится к ней, как к родной; я не назову его правоверным мусульманином, если он не подтвердит этого. Разумеется, очень трудно, когда при таком положении вещей ты вдруг сталкиваешься с загадкой вроде языка телугу. Подождите сердиться, Ромеш-бабу, сначала подумайте хорошенько над тем, что я вам сказал!
— Я уже подумал, — ответил Ромеш, — и вижу, что сердиться мне не стоит. Но сержусь я или не сержусь, причиняю вам огорчение или нет — все равно язык телугу все-таки останется непонятным языком телугу — таков жестокий закон природы. — И Ромеш тяжело вздохнул.
Теперь он уже стал колебаться и не знал, ехать ему в Гаджипур или нет. Сначала он думал, что для устройства в чужом городе знакомство со стариком может оказаться полезным. Но теперь увидел, что в этом есть свое неудобство. Расспросы и толки о взаимоотношениях его с Комолой могут быть гибельны для репутации девушки. Лучше ему поселиться там, где у них совершенно не будет знакомых и никто не станет задавать вопросов.
За день до прибытия в Гаджипур Ромеш сказал Чокроборти:
— Знаете, дядя, я считаю, что Гаджипур не подходящее место для человека моей профессии, поэтому я решил, что лучше сойти в Бенаресе.
Уловив в тоне Ромеша решительные нотки, старик, смеясь, проговорил:
— Не годится каждую минуту менять свои планы — ведь это самая настоящая нерешительность! Ну, так как же: теперешнее ваше желание ехать до Бенареса можно считать окончательным?
— Да, — коротко ответил Ромеш.
Не сказав больше ни слова, старик ушел к себе и принялся собирать вещи.
— Вы сердитесь на меня сегодня, дядя? — заглянув к нему, спросила Комола.
— Ссоры происходят чуть ли не по два раза в день, а одержать победу мне так и не удалось ни разу, — проворчал старик.
— Почему вы все утро убегаете от нас?
— Вы, мать, затеяли бегство куда дальше, чем я, так зачем же называть беглецом меня?
Комола смотрела на него, не понимая, в чем дело.
— Так Ромеш-бабу тебе еще ничего не сказал? — проговорил Чокроборти. — Ведь решено, что вы едете до Бенареса.
Это известие Комола встретила полным молчанием.
— Дядя, позвольте, я уложу вам чемодан, — после небольшой паузы сказала она.
Чокроборти серьезно был огорчен тем безразличием, с которым отнеслась Комола к его сообщению. «Так, пожалуй, и лучше, к чему в моем возрасте заводить новые привязанности», — с горечью думал он.
Тем временем явился Ромеш. Он пришел сообщить Комоле, что они едут до Бенареса.
— Я тебя искал, — сказал он ей.
Комола продолжала разбирать и укладывать вещи Чокроборти.
— Мы теперь не поедем в Гаджипур, Комола, — продолжал Ромеш, — я решил практиковать в Бенаресе. Что ты скажешь на это?
— Я поеду в Гаджипур, — не поднимая глаз от чемодана Чокроборти, ответила ему Комола, — и уже уложила вещи.
— Ты что же, одна поедешь? — пораженный ее решимостью, спросил Ромеш.
— Почему, там живет дядя, — проговорила Комола, нежно посмотрев на Чокроборти.
Услышав это, дядя в замешательстве воскликнул:
— Ты проявляешь ко мне такую благосклонность, мать, что Ромеш-бабу скоро начнет смотреть на меня косо.
Но девушка повторила:
— Я еду в Гаджипур.
Никогда еще не бывало, чтобы Комола высказывалась так свободно, не считаясь с мнением других.
— Ну, хорошо, дядя, в Гаджипур, так в Гаджипур, — сказал, наконец, Ромеш.
В ночь после бури луна светила особенно ярко. Сидя В кресле на палубе парохода, Ромеш думал о том, что дальше так продолжаться не может. Комола взбунтовалась, и это грозило с течением времени сделать его жизнь совершенно невыносимой. Невозможно, живя вместе, оставаться чужими друг другу людьми. Надо покончить с этим. Ведь Комола действительно моя жена; я ее принял как свою жену. Глупо было бы смущаться тем, что мы не произносили установленных обетов. Сам Яма тогда принес ее ко мне на песчаный остров и связал нас брачными узами. Разве есть в целом свете жрец могущественнее его?
Между Ромешем и Хемнолини легло поле битвы. Только преодолев препятствия, унижение, недоверие, Ромеш мог считать себя победителем и предстать перед Хемнолини с поднятой головой. Но его охватывал страх при одной мысли об этом сражении, у него не было шансов на победу. Как ему доказать свою правоту? А если бы он и доказал ее, страшно подумать, какой грязной показалась бы вся эта история посторонним и каким страшным ударом это явилось бы для Комолы.
Значит, нужно отбросить прочь нерешительность и колебания и сделать Комолу своей женой, это будет наилучшим для всех исходом. Правда, Хемнолини станет презирать его, но это презрение поможет ей обратить внимание на другого, более достойного. Подумав об этом, Ромеш вздохнул: он похоронил все свои надежды на возвращение к Хемнолини.
Глава тридцать первая
— Это что такое? Ты куда идешь? — спросил Ромеш.
— Я вместе с госпожой, — ответил Умеш.
— Я дал тебе билет до Бенареса, а это гаджипурская пристань. Мы ведь не едем в Бенарес.
— И я не поеду.
Ромешу и в голову не приходило, что Умеш навсегда останется с ними, но непреклонная решимость мальчика озадачила его, и он спросил Комолу?
— Разве Умеша нам тоже придется взять с собой?
— А куда же ему деваться? — ответила Комола.
— Нет, он сказал, что хочет быть только с нами. Смотри, Умеш, не отставай от дяди. Место незнакомое, можешь потеряться в толпе.
Куда ехать, кого с собой брать, все это Комола решала теперь сама, словно вдруг пришел конец ее безропотному подчинению желаниям Ромеша. Поэтому теперь Умеш шествовал рядом с ней, прижимая к груди маленький узелок с платьем, и этот факт не подлежал никаким обсуждениям.
Небольшой домик дяди стоял между городом и европейским кварталом. За домом находился сад из манговых деревьев, впереди искусственный грот, дальше, за невысокой оградой, был расположен орошаемый родниковой водой огород, состоящий из нескольких грядок капусты и бетеля.
На первое время Комола и Ромеш поселились в этом доме. Дядя Чокроборти любил всем рассказывать о слабом здоровье своей жены Харибхобини, но посторонний взгляд никогда бы не заметил у нее и следа недомоганий. Лет ей, видно, было уже немало, но лицо еще было молодо и энергично, а седина лишь едва пробивалась на висках: будто старость уже произнесла над ней свой приговор, но не осмелилась еще привести его в исполнение.
В действительности дело обстояло так. Еще в молодости Харибхобини терзали жестокие приступы малярии. Чокроборти считал, что перемена климата излечит ее, переселился с ней в Гаджипур и занял здесь место школьного учителя. И с тех пор, несмотря на то, что жена совершенно поправилась, он не переставал беспокоиться о ее здоровье.
Оставив гостей во внешней половине дома, он пошел в зенану[36] и позвал жену.
Харибхобини только что кончила молотить на огороженном дворике пшеницу и расставляла на солнце кувшины и кухонную утварь.
Войдя туда, Чокроборти тотчас воскликнул:
— Как же так можно, ведь уже холодно! Не накинуть ли тебе что-нибудь на плечи?
— Ну и странный же ты! — воскликнула Харибхобини. — Какой там холод — солнце спину жжет!
— В этом тоже нет ничего хорошего, уж не такая дорогая вещь зонтик.
— Хорошо, купим зонтик, а теперь ответь, почему ты так задержался?
— Долго рассказывать. В доме гости, надо о них позаботиться. — И он рассказал ей о своих новых знакомых.
Неожиданные вторжения гостей издалека в дом Чокроборти случались довольно часто, но Харибхобини совершенно не была готова принять супружескую пару.
— Боже мой! Где ты поместишь их? — воскликнула она.
— Сначала познакомься, а потом будем говорить о том, как их устроить, — ответил Чокроборти. — Где наша Шойла?
— Купает ребенка.
Чокроборти тут же привел в зенану Комолу. Как только девушка приблизилась и почтительно приветствовала Харибхобини, та коснулась ее подбородка и затем, выражая свое восхищение, поцеловала кончики своих пальцев.
— Смотри, как она похожа на нашу Бидху! — обратилась она к мужу.
Бидху, их старшая дочь, жила в доме мужа, в Аллахабаде. Чокроборти усмехнулся про себя при этом сравнении: у Комолы не было ничего общего с Бидху, но Харибхобини не могла признаться, что чужая девушка красотой или другими качествами превосходит ее дочерей. Шойлоджа жила здесь и могла не выдержать очной ставки с Комолой, поэтому Харибхобини сравнила ее с отсутствующей старшей дочерью и таким образом удержала знамя победы в своем доме.
— Я очень рада вам, — сказала хозяйка, — но в нашем новом доме еще не кончен ремонт, и мы ютимся пока здесь, так что больших удобств не сможем вам предоставить.
У Чокроборти действительно был домик около базара, который сейчас ремонтировался, но там еще помещалась маленькая лавчонка, и ни о каких удобствах для жилья не могло быть и речи.
Не опровергая эту выдумку, Чокроборти, усмехнувшись, сказал:
— Я бы и не привел их сюда, если бы не знал, что Комола умеет переносить неудобства.
Заметив жене, что осеннее солнце вредно и поэтому ей лучще идти в дом, Чокроборти, отправился к Ромешу.
Харибхобини тотчас же решила познакомиться с Комолой поближе.
— Я слышала, твой муж — адвокат? Давно он работает? А какой у него заработок? Что? Он еще не начал практиковать? Тогда на что же вы живете? Наверно, у твоего свекра большое состояние? Не знаешь? Боже мой… Что за странная девушка! Ты ничего не знаешь о доме свекра? А сколько муж дает тебе в месяц на расходы? Ведь когда нет свекрови, все хозяйство приходится вести самой! Ну ничего, ведь ты уже не маленькая! Муж моей старшей дочери отдает ей весь заработок.
Подобными вопросами и замечаниями Харибхобини очень скорр доказала Комоле ее неосведомленность в житейских делах. Лишь сейчас, под градом вопросов Харибхобини, девушка ясно поняла, как постыдно и неестественно может показаться людям, что она так мало знает о прошлой жизни и делах Ромеша, своего мужа. Она подумала о том, что ей до сих пор даже ни разу не представлялось случая откровенно поговорить с ним. Она была его женой — и ничего не знала о нем! Теперь ей самой это показалось противоестественным и стало мучительно стыдно за собственную неосведомленность.
— Ну-ка, покажи свои браслеты! — начала опять Харибхобини. — Не очень-то хорошее золото. Разве отец тебе не дал браслетов? У тебя нет отца? Но все-таки нельзя без украшений! Неужели муж тебе ничего не дарит? Мой старший зять каждые два месяца обязательно что-нибудь дарит Бидхе.
В самый разгар этого допроса явилась Шойлоджа, ведя за руку двухлетнюю девочку. Это была смуглая молодая женщина с мелкими чертами лица, ясными, живыми глазами и высоким лбом. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы угадать в ней ум и спокойный характер.
Дочурка Шойлоджи некоторое время внимательно рассматривала Комолу, а затем стала называть ее тетей, но вовсе не потому, что заметила в ней сходство с Бидхой, она называла так всех женщин определенного возраста, если они ей нравились. Комола тотчас взяла девочку на руки.
Знакомя ее с дочерью, Харибхобини сказала:
— Муж этой женщины адвокат, он хочет заниматься практикой в провинции, отец встретил их по дороге и вот привез в Гаджипур.
Шойлоджа и Комола посмотрели друг на друга, и этот взгляд сразу же связал их прочной дружбой. Харибхобини отправилась позаботиться об устройстве гостей. Тогда, взяв Ком ату за руку, Шойлоджа просто сказала:
— Пойдем, сестра, ко мне в комнату.
Через несколько минут они уже непринужденно беседовали. Разница в летах обеих женщин была не очень заметна. Шойлоджа казалась сдержанной, Комола же являла собой полную противоположность ей. Познаниям и развитию она далеко опередила свой возраст. Потому ли, что после свадьбы над ней не тяготела суровая власть свекрови, или по каким-то иным причинам, но только развилась Комола очень быстро. Свобода проглядывала даже в выражении ее лица. Все новое, что она видела, возбуждало в ней любопытство, и она не успокаивалась, пока не находила ответа на все мучившие ее вопросы. Ей до сих пор не приходилось слышать таких окриков, как: «Замолчи! Делай, что тебе приказано! Жена не должна отвечать «нет!» — поэтому Комола высоко держала голову: в искренности она черпала и силу.
Как ни старалась Уми, дочка Шойлоджи, привлечь к себе внимание обеих женщин, ничего у нее не получалось, так были увлечены разговором новые подруги. Во время этой беседы Комола со всей ясностью поняла, как скудна и бесцветна ее собственная жизнь. Шойлоджа многое могла рассказать, а она, Комола, — ничего. На широком полотне ее жизни замужество было лишь легким карандашным наброском, кое-где едва различимым и совершенно лишенным красок. До сих пор Комола не задумывалась над пустотой своего существования. Она чувствовала какую-то неудовлетворенность, и временами в ее душе, казалось, поднимался протест, но она не отдавала себе ясного отчета, в чем причина этого. С первой же минуты знакомства Шойлоджа принялась рассказывать о своем муже, словно стоило слегка коснуться струн ее сердца — и тотчас начинала звучать музыка. И Комола поняла, что в ее сердце молчат эти струны: что может рассказать она о муже, да и к чему рассказывать? У Комолы не было ни малейшего желания говорить о нем.
Лодка повествования Шойлоджи плавно скользила по течению со своим грузом счастья, а пустой беспомощный челнок Комолы прибивало к береговым отмелям.
У Чокроборти было всего две дочери. Старшая жила в доме свекра, а так как отец ни за что не хотел расстаться с младшей, то выбрал ей в мужья молодого человека без состояния и, воспользовавшись своими связями, устроил его на работу в гаджипурскую опиумную контору. Таким образом, Бипин, муж Шойлоджи, остался вместе с ней в доме Чокроборти.
Вдруг Шойлоджа прервала свой рассказ и воскликнула:
— Посиди минутку, сестра, я сейчас вернусь! — И тут же, улыбаясь, пояснила: — Муж вернулся с купанья и после обеда уйдет на работу.
— Как ты узнала, что он уже пришел? — спросила Комола с искренним удивлением.
— Ты шутишь, что ли? Как все узнают, так и я. Будто ты сама не знаешь шагов своего мужа! — С этими словами Шойлоджа, смеясь, ущипнула Комолу за подбородок и, грациозным движением перекинув за спину свободный конец сари с завязанными в нем ключами, взяла на руки девочку и вышла из комнаты.
Комола до сих пор не знала, что так легко изучить язык походки. Молча глядя в окно, она задумалась. За окном пышно цвело дерево гуава, и среди цветочных его тычинок деловито суетились пчелы.
Глава тридцать вторая
Ромеш вел переговоры о покупке дома, который стоял на берегу Ганга, в довольно пустынном месте. Чтобы оформиться на службу в гаджипурском суде, а также перевезти вещи, Ромешу было необходимо съездить в Калькутту, но не хватало решимости сделать это. Стоило ему вспомнить знакомый квартал в Калькутте, как на сердце у него становилось необычайно тяжело. И сейчас еще сети любви не были порваны, — но он должен, наконец, признать Комму своей женой, больше медлить невозможно. Пребывая в состоянии нерешительности, он все откладывал свою поездку в Калькутту.
Комола поселилась в зенане Чокроборти. Так как домик был очень мал, Ромешу пришлось жить в наружных комнатах, и с Комолой им видеться не приходилось.
Однажды Шойлоджа высказала Комоле свое огорчение по поводу столь тяжелой для них разлуки.
— Отчего ты так сокрушаешься, сестра? — удивилась Комола. — Что тут ужасного?
— Ах, вот как! — рассмеялась Шойлоджа. — Будто у тебя не сердце, а камень! Ну, меня-то этим притворством не обманешь! Я прекрасно вижу, что у тебя на душе!
— А скажи правду, сестра, если бы Бипин-бабу не видел тебя два дня, он бы тоже…
— Что ты, он не сможет прожить без меня двух дней, — с гордостью перебила, ее Шойлоджа.
И тут она принялась рассказывать о любви к ней мужа. Она говорила о том, к каким хитростям прибегал юноша Бипин в первое время, чтобы обмануть бдительность старших и встретиться со своей девочкой-невестой. Иногда ему удавалось пробраться к ней, иногда он попадался; она вспомнила, что, когда пришлось прекратить эти дневные свидания, они, несмотря на строгое запрещение старших, обменивались взглядами в зеркале, во время полуденной трапезы Бипина. При этих светлых и радостных воспоминаниях о прошедших днях лицо Шойлоджи засветилось счастливой улыбкой. Потом она подробно рассказала о том, как оба они мучились, когда Бипину пришла пора служить, и сколько раз он удирал со службы домой. Как-то раз, когда Бипину, по делам ее отца, надо было на несколько дней поехать в Патну, Шойлоджа спросила, сможет ли он прожить там без нее. Когда же Бипин имел дерзость ответить, что отлично проживет один, в Шойлодже заговорила гордость: она поклялась, что не проявит ни малейшего огорчения в ночь накануне разлуки. Но эта клятва потонула в потоке ее слез, и на следующий день, когда все приготовления к отъезду уже были закончены, у Бипина вдруг разболелась голова, и он так расхворался, что поездка была отложена; доктор прописал лекарство, а они потихоньку вылили все пузырьки в канаву, и Бипин чудесным образом выздоровел. Шойлоджа так увлеклась своими воспоминаниями, что, казалось, не замечала, как летело время, но стоило лишь вдалеке у наружной двери раздаться еле слышному шуму шагов, как она вдруг озабоченно вскочила:
— Это вернулся со службы Бипин-бабу.
Пока она рассказывала об этих смешных случаях их совместной жизни, ее любящее сердце жадно прислушивалось к шагам на дороге, у входа в дом.
Нельзя сказать, чтобы Комоле было вовсе непонятно это. В первые несколько месяцев ее жизни с Ромешем ей казалось, что в ее душе тоже начинала звучать такая мелодия. Затем, когда она вырвалась из школы и вернулась к Ромешу, бывало, что ее сердце вздрагивало, словно в каком-то необычайном танце под неслышную музыку. И она испытывала такое же чувство, как то, которое угадывала во всех рассказах Шойлоджи. Но ни тайных встреч, ни ухаживания, — ничего этого не было. Ей не разрешали переступать определенную границу. Разве между ней и Ромешем существуют узы любви, подобные тем, что связывают Шойлоджу и Бипина? Вот уже несколько дней они разлучены, и она не чувствует особой печали. И уже совершенно невероятно, чтобы Ромеш, сидя за ее дверями, прибегал ко всяким уловкам, лишь бы ее увидеть.
Подошло воскресенье, и Шойлоджа оказалась в большом затруднении. Ей было неудобно оставлять надолго свою новую подругу в одиночестве, и в то же время она была не настолько склонна к самоотречению, чтобы пожертвовать праздничным днем. С другой стороны, она понимала, что не сможет быть вполне счастлива, зная, что Ромеш рядом, а Комола лишена возможности с ним увидеться. Таким образом, праздничный день все равно потеряет для нее свою прелесть. Ах, если бы только как-нибудь устроить им встречу!
В таких делах обычно не спрашивают совета старших. Но Чокроборти был не из таких людей, которые ждут, пока к ним обратятся. Он объявил дома, что по весьма неотложным делам ему нужно уехать на целый день. А Ромешу дал понять, что гостей они сегодня не ждут и он, уходя, закроет входную дверь. Особенно старался он довести это до сведения дочери, так как отлично знал, что она на лету улавливает смысл любого намека.
— Ну, сестра, суши-ка волосы поскорей, — сказала Шойлоджа Комоле после купанья.
— К чему так спешить?
— Это потом узнаешь, а пока давай я тебя причешу. — С этими словами Шойлоджа занялась ее прической: косичек было заплетено множество, и прическа получилась великолепная. Затем между ними разгорелся спор о том, какое надеть сари. Шойлоджа хотела надеть на нее яркое сари. Комола же не понимала, зачем это нужно, но в конце концов, чтобы доставить удовольствие Шойлодже, уступила.
В полдень после обеда Шойлоджа отозвала мужа в уголок, пошепталась с ним о чем-то и затем отпустила его. После этого она стала настойчиво уговаривать Комолу выйти в наружные комнаты.
Раньше, встречаясь с Ромешем, Комола никогда не испытывала ни малейшего смущения. Ей не представлялось даже подходящего случая проявить застенчивость. Ромеш с самого начала их знакомства отбросил всякие условности; не было у нее и подруги, которая посмеялась бы над нескромностью девушки.
Но сегодня ей казалось невозможным выполнить желание Шойлоджи. Комола видела, какие права имеет на своего мужа Шойлоджа, и понимала, что сама она не может похвастать такой же властью над Ромешем, поэтому не могла идти к нему как просительница.
Шойлодже так и не удалось уговорить Комолу пойти к мужу, и она решила, что Комола обижена на Ромеша. «Конечно, ей было на что обидеться, — думала молодая женщина. — Сколько дней они разлучены, а он ни разу не попытался повидаться с ней».
После обеда хозяйка дома Харибхобини удалилась отдохнуть. Тогда Шойлоджа обратилась к Бипину:
— Пойди к Ромеш-бабу и от имени жены позови его во внутренние комнаты. Отец не рассердится, а мама и знать ничего не будет!
Для такого тихого и скромного молодого человека, как Бипин, это поручение было отнюдь не из приятных, но он не смел в праздничный день отказать жене в просьбе.
Между тем Ромеш, постелив на полу коврик, лежал с книгой в руках. Окончив чтение, он собрался было от скуки просмотреть в журнале объявления, но вдруг увидел Бипина и очень обрадовался. Как собеседник Бипин, конечно, не был находкой, но Ромеш решил, что с ним можно скоротать полуденные часы в незнакомом месте, и поэтому приветливо сказал:
— Входите, Бипин-бабу, добро пожаловать! — Но Бипин не сел, а, почесав затылок, заявил:
— Она вас зовет к себе.
— Кто, Комола? — спросил Ромеш.
— Да…
Ромеш был несколько удивлен. Правда, он давно уже решил, что будет, наконец, считать Комолу своей женой. Но по свойственной ему нерешительности был рад некоторой отсрочке. В своем воображении он уже видел Комолу в роли хозяйки и пытался воодушевить себя мыслями о будущем счастье, но первые шаги — всегда самые трудные. Он и представить себе не мог, как в один прекрасный день преодолеет отчужденность, с которой так долго относился к ней. Именно поэтому Ромеш не очень торопился с наймом дома.
Услышав, что Комола зовет его, он решил, что у нее какое-нибудь дело к нему. Но, несмотря на то, что он был почти уверен в правильности своего предположения, приглашение все же взволновало его.
Отложив в сторону журнал, Ромеш направился в зенану. В томительной тишине осеннего полдня, нарушаемой лишь убаюкивающим жужжанием пчел, он чувствовал себя почти как влюбленный, который спешит на свидание. Бипин издали указал ему дверь комнаты и скрылся.
Комола думала, что Шойлоджа отказалась от намерения уговорить ее встретиться с Ромешем и ушла к Бипину. Поэтому она села на пороге у раскрытой двери и стала смотреть в сад.
Сама того не подозревая, Шойла лирически настроила Комолу. От нежного шепота ветерка в саду трепетали ветви деревьев, и тихий шелест листвы временами заставлял сердце девушки вздрагивать в непонятном смятении.
В это время в комнату вошел Ромеш и, подойдя сзади, окликнул:
— Комола!
Девушка очнулась от грез и вскочила, сердце ее бешено забилось. Она, которая никогда раньше не испытывала ни малейшего смущения в присутствии Ромеша, теперь не могла поднять головы и взглянуть на него. Краска стыда залила ее до кончиков ушей.
Нарядная, с непривычным для Ромеша выражением лица, Комола предстала перед ним какой-то иной. И эта новая Комола удивила и очаровала его. Медленно подойдя к ней, он после нескольких секунд молчания нежно спросил:
— Комола, ты звала меня?
Девушка была поражена.
— Нет, нет, не звала, зачем мне тебя звать? — с необычной горячностью воскликнула она.
— Ну, а если бы и позвала, разве это преступление?
— Да нет, я не звала тебя! — проговорила она с удвоенной силой.
— Хорошо! Ты не звала меня, я сам пришел. Так неужели же ты рассердишься и выгонишь меня?
— Все узнают, что ты был здесь, и будут недовольны, лучше уходи! Я тебя не звала!
— Ну хорошо! — воскликнул Ромеш, схватив ее за руку. — Пойдем ко мне, там никого нет.
Вся дрожа, Комола вырвала свою руку, убежала в соседнюю комнату и заперла за собой дверь.
Ромеш понял, что это просто женский заговор, и, взволнованный, отправился к себе в комнату. Он принял прежнюю позу и, взяв журнал, попробовал вновь заняться объявлениями, но ничего не мог понять: в сердце его, словно облака, гонимые ветром по небу, мчались одно за другим противоречивые чувства.
Шойлоджа постучала в запертую дверь, но ей никто не открыл. Тогда она, приподняв жалюзи, просунула руку и открыла сама. Войдя в комнату, она увидела, что Комола лежит ничком на полу и плачет, закрыв лицо руками.
Молодая женщина была удивлена. Она совершенно не понимала, что могло так огорчить Комолу. Присев рядом с ней, она ласково зашептала:
— Что случилось, милая, почему ты плачешь?
— Зачем ты так нехорошо поступила? Зачем позвала его? — проговорила Комола укоризненно.
Не только другому — самой Комоле трудно было понять причину столь сильного и внезапного взрыва горя. Никто не знал, что тайная печаль давно уже терзает ее. Сегодня Комола целый день находилась в созданном ею мире грез. Если бы Ромеш вошел в этот мир осторожно, все бы кончилось благополучно. Но когда она узнала, что его привели к ней, все ее грезы рассеялись. Вновь проснулись изгладившиеся было воспоминания о его попытках оставить ее на праздники в школе, о его равнодушии во время поездки на пароходе. После приезда в Гаджипур Комола очень быстро поняла, что прийти к любимой по собственному желанию, чтобы увидеть ее, — это одно, а явиться просто на зов — совсем иное.
Но Шойлодже трудно было разобраться во всем этом. Ей и в голову не могло прийти, что между Ромешем и Комолой была какая-нибудь серьезная преграда. Она нежно привлекла Комолу к себе на грудь и спросила:
— Сестра, может быть Ромеш-бабу сказал тебе какую-нибудь грубость? Или он рассердился, что мой муж позвал его? Почему же ты не сказала, что это я виновата?
— Нет, нет, он ничего не говорил. Но зачем ты его позвала?
— Я нехорошо поступила, сестра, прости, — проговорила расстроенная Шойлоджа.
Комола привстала и горячо обняла ее.
— Иди, милая, — сказала она, — иди скорее, а то Бипин-бабу рассердится.
Ромеш долго сидел один, глядя на строчки журнала невидящими глазами, и, наконец, отбросил его прочь.
Затем он поднялся и решительно проговорил:
— Довольно, так больше длиться не может. Завтра же я еду в Калькутту и улажу все дела. Я должен, наконец, признать Комолу своей женой, нельзя дальше медлить с этим, я плохо поступаю.
Сознание собственного долга вдруг с такой силой пробудилось в Ромеше, что он сразу одолел все сомнения и колебания.
Глава тридцать третья
Ромеш решил, что покончит со всеми делами в Калькутте и вернется, даже не заглянув в Колутолу. Он поселился в Дорджипаре. Дела отнимали у него совсем немного времени, и остаток дня девать было некуда. Ромеш не желал видеться со своими прежними знакомыми и поэтому всячески старался не встретить кого-нибудь из них на улице.
Стоило Ромешу вернуться в Калькутту, как он сразу же почувствовал в себе перемену. На фоне пустынных просторов, в обстановке невозмутимого покоя, Комола, с ее свежей юностью, казалась ему красавицей, но здесь, в городе, ее очарование рассеялось, как дым. Напрасно у себя в Дорджипаре Ромеш, вызвав в своем воображении ее образ, пытался созерцать его влюбленными глазами, — сердце его молчало. Комола стала казаться ему простой, невежественной девочкой.
Чем больше злоупотребляешь сдержанностью, тем меньше ее остается. Сколько ни твердил он себе, что должен изгнать Хемнолини из своего сердца, она день и ночь стояла перед его глазами. Усиленные старания забыть ее лишь помогли ему удержать образ Хемнолини в памяти.
Если бы Ромеш немного поторопился, он мог бы давно кончить все дела и вернуться в Гаджипур. Но и незначительные дела, если с ними долго возиться, могут разрастись до угрожающих размеров. Наконец, со всеми хлопотами было покончено.
Вначале Ромеш думал заехать еще в Аллахабад, а оттуда направиться в Гаджипур. До сих пор он был тверд в принятом решении. Но выдержка должна вознаграждаться. Что плохого, если перед отъездом он заглянет в Колутолу.
И вот, перед тем как отправиться туда, он сел писать письмо. В нем он пространно излагал всю историю своих отношений с Комолой. Сообщал и о том, что по возвращении в Гаджипур ему не остается ничего другого, как сделать Комолу своей женой. Таким образом, прежде чем навсегда расстаться с Хемнолини, он в пррщальном письме раскрыл ей всю истину.
Запечатав письмо в конверт, он не поставил на нем ни адреса, ни имени адресата. Ромеш знал, что слуги Онноды-бабу любили его. Причина такой симпатии заключалась в том, что сам Ромеш относился со вниманием ко всем, кто окружал Хемнолини, и никогда не забывал одарять слуг деньгами или одеждой. Ромеш решил, когда стемнеет, подойти к дому в Колутоле и хоть издали взглянуть на Хемнолини, а затем попросить кого-нибудь из слуг передать ей письмо. Так он порвет навсегда со своей прежней привязанностью.
Вечером Ромеш, задыхаясь от волнения, робко направился в знакомый переулок. Подойдя к дому, он нашел двери запертыми, а все окна плотно затворенными. Дом стоял пустой и темный. Но он все-таки постучал. На его стук вышел слуга.
— Это, кажется, Сукхон? — спросил Ромеш.
— Да, это я, господин, — послышался ответ.
— А где твой хозяин?
— Они с госпожой отправились на запад, подышать свежим воздухом.
— Куда именно?
— Не знаю, господин.
— А еще кто-нибудь поехал с ними?
— Нолин-бабу.
— Какой это Нолин-бабу?
— Этого я не могу сказать.
Из дальнейших расспросов ему все-таки удалось выяснить, что Нолин-бабу — молодой человек, который последнее время часто бывал в этом доме. Но, несмотря на то, что Ромеш-бабу как будто отказался от надежды на любовь Хемнолини, этот Нолин-бабу почему-то не вызвал в нем особых симпатий.
— Как здоровье твоей хозяйки?
— О, она чувствовала себя очень хорошо.
Слуга Сукхон думал, что это приятное известие успокоит и обрадует Ромеша. Но одному всевышнему известно, как он заблуждался!
— Я хотел бы подняться наверх, — сказал Ромеш.
Слуга взял тусклую коптящую керосиновую лампу и повел его вверх по лестнице. Ромеш, как привидение, бродил по комнатам, — иногда садился на знакомый диван или в кресло. Вещи, обстановка — все было как раньше, — но что за Нолин-бабу появился здесь? Природа не терпит пустоты! Вот оконная ниша, в которой однажды стояли рядом Ромеш и Хемнолини, и лишь заходящее осеннее солнце присутствовало при безмолвном соединении двух сердец. Оно и впредь будет заглядывать в эту нишу. Но если кто-то другой пожелает когда-нибудь возобновить эту картину и вместе с Хемнолини будет стоять в оконной нише, — неужели прошлое не воздвигнет между ними стены и, приложив палец к губам, не разлучит их? В сердце Ромеша проснулась уязвленная гордость. На следующий день он, не заехав в Аллахабад, отправился прямо в Гаджипур.
Ромеш провел в Калькутте около месяца. Для Комолы это был не такой уж малый срок. В ее жизни пронесся стремительный поток перемен. Как заря в одно мгновенье расцветает яркими лучами утреннего солнца, так за короткое время женственность Комолы, пробудившаяся от сна, вмиг пышно распустилась. Неизвестно, сколько бы ей пришлось ждать этого пробуждения, если бы не дружба с Шойлоджей, свет и тепло любви которой согревали сердце Комолы.
Тем временем, видя, что Ромеш задерживается, и уступая настойчивым просьбам Шойлоджи, дядя снял для Ромеша и Комолы домик, стоявший на окраине города, у самого берега Ганга. Он перенес туда некоторые вещи, чтобы придать жилищу более уютный вид, и нанял слуг, которые должны были привести дом в порядок.
Когда после длительного отсутствия Ромеш вернулся в Гаджипур, им с Комолой незачем было жить в доме Чокроборти. С этого дня Комола вступала во владение своим собственным хозяйством.
Вокруг их бунгало оказалось достаточно земли для того, чтобы развести сад. К дому вела тенистая аллея из высоких деревьев шису. Мелкий, по-зимнему, Ганг далеко отошел от берега, поэтому между домом и рекой оказалась илистая отмель. Это своеобразное поле крестьяне засеяли пшеницей, а кое-где устроили бахчи для дынь и арбузов. У южной, обращенной к Гангу стены дома, росло огромное дерево ним, под которым был устроен легкий навес.
Дом долго пустовал, и участок был совершенно заброшен: деревьев в саду не осталось, а комнаты были забиты сором. Но это запустение особенно нравилось Комоле. В восторге от того, что она, наконец, будет хозяйкой в своем собственном доме, Комола все в нем находила прекрасным. Она уже заранее обдумала, что будет в каждой из комнат и где какие деревья посадить.
Посоветовавшись с дядей, она распланировала участок так, чтобы ни один клочок земли не пропал зря. Она сама следила за установкой очага в кухне и производила в пристройке все необходимые поправки. Жизнерадостность в Комоле била ключом. Целый день в доме не прекращались чистка, мытье, уборка.
Лишь в домашнем труде женская красота раскрывается во всей своей разносторонности и обаянии. Теперь, когда Ромеш наблюдал Комолу за этими хлопотами, она казалась ему птицей, выпущенной из клетки. И Ромеш со все возрастающим изумлением и восхищением любовался ее сияющим лицом и ловкими движениями. До сих пор ему не приходилось видеть Комолу в этой стихии, теперь же новая роль, роль хозяйки, придавала ее красоте какое-то величие.
— Что ты делаешь, Комола? Ты же устанешь! — сказал он, подходя к ней.
Комола на мгновенье оторвалась от работы, подняла голову и, улыбнувшись Ромешу своей милой улыбкой, проговорила:
— Нет, что ты, ничего со мной не случится!
Приняв внимание Ромеша за похвалу ее работе, она тотчас взялась за нее с новой энергией. Очарованный Ромеш нашел предлог снова подойти к ней.
— Ты уже ела, Комола? — обратился он к девушке.
— Конечно, а как же иначе? Давно уже позавтракала.
Ромеш, разумеется, знал об этом и все-таки спросил, чтобы хоть чем-нибудь выразить ей свое внимание, да и нельзя сказать, чтобы этот праздный вопрос был неприятен самой Комоле.
Желая не упустить нить разговора, Ромеш снова обратился к ней:
— Зачем ты все делаешь сама? Дай я помогу тебе!
У деятельных людей есть тот недостаток, что они всегда относятся с недоверием к возможностям других. Они боятся, что если за их дело примется кто-нибудь другой, он обязательно все испортит. Поэтому Комола, смеясь, сказала.
— Нет, эта работа не для тебя.
— Мы, мужчины, народ очень терпеливый, — ответил Ромеш, — поэтому кротко сносим презрение женщин и не бунтуем. Представляю, если бы женщина очутилась в таком положении, какую бы ужасную бурю она подняла! Ну, а почему ты дяде не запрещаешь помогать, неужели только я такой неспособный?
— Не могу тебе этого объяснить, но стоит лишь мне представить, как ты выметаешь сажу из кухни, меня начинает разбирать смех. Уходи отсюда, смотри, какая пыль!
Ромеш пытался продолжать разговор:
— Но ведь пыль людей не выбирает, она садится и на тебя и на меня.
— Так ведь я работаю — и мне приходится терпеть. А тебе зачем дышать пылью?
Понизив голос, чтобы не слышали слуги, Ромеш нежно сказал:
— Я хочу делить с тобой все — будь то работа или что-нибудь другое.
Комола залилась краской и, ничего не ответив, отошла в сторону.
— Вылей-ка сюда еще кувшин воды, — обратилась она к Умешу, — разве не видишь, сколько грязи здесь накопилось! Дай мне метлу! — Сказав это, она с особым рвением занялась уборкой. Глядя, как Комола орудует метлой, Ромеш с беспокойством воскликнул:
— Ах, Комола, зачем ты это делаешь?
Вдруг за его спиной послышался голос:
— Что же плохого в этом занятии, Ромеш-бабу? Вы научились английским манерам и готовы сколько угодно твердить о равенстве. Но если считать труд подметальщиц унизительным, зачем допускать, чтобы слуги этим занимались? Я, может быть, и глупец, но спросите меня, что я думаю по этому поводу, и я вам отвечу: в руках старательной девушки каждый прутик метлы мне кажется прекрасным и светящимся, словно солнечный луч. Я почти закончил расчистку твоих джунглей, мать, — продолжал Чокроборти, — теперь тебе придется указать мне, где и какие овощи ты хочешь посадить.
— Потерпи немножечко, дядя, — ответила Комола, — дай мне вымести эту комнату.
Закончив уборку, Комола накинула на голову край сари и вместе с дядей вышла в сад. Там она с озабоченным видом принялась обсуждать, где устроить огород.
В хлопотах незаметно пролетел день, но дом так и не был полностью приведен в порядок. Это бунгало давно уже пустовало и стояло запертым. И теперь, прежде чем поселиться в нем, надо было еще несколько дней мыть и скрести комнаты, проветривать помещение.
Поэтому к вечеру им опять пришлось возвратиться под кровлю Чокроборти. Сегодня это весьма огорчило Ромеша. Он весь день мечтал, как вечером, сидя в этом тихом домике, при свете лампы, он будет изливать свою душу стыдливо улыбающейся Комоле. Теперь же, предвидя задержку с переездом еще на несколько дней, он отправился в Аллахабад, чтобы устроиться в местную адвокатуру.
Глава тридцать пятая
На следующий день Комола пригласила Шойлоджу на обед в свое новое жилище. Молодая женщина, накормив Бипина, проводила его на службу, а затем пошла к подруге. Уступая настояниям Комолы, дядя решил освободиться на этот день и устроил в школе каникулы. Под деревом ним женщины разложили всю провизию и при деятельном участии Умеша занялись стряпней.
Когда обед был приготовлен и все поели, дядя удалился в дом подремать, а подруги, усевшись в тени, стали вести свои нескончаемые разговоры. Спокойная беседа зимним солнечным днем на берегу реки в густой тени дерева так успокаивающе подействовала на Комолу, что все ее тревоги унеслись далеко, далеко, словно коршуны, которые парят в вышине и на фоне безоблачного неба кажутся едва заметными точками.
День не успел еще угаснуть, как Шойлоджа забеспокоилась, стала собираться домой, — скоро должен был возвратиться со службы ее муж.
— Неужели ты хоть на один день не можешь отступить от своих правил, сестра? — спросила ее Комола.
Шойлоджа ничего не ответила; слегка улыбнувшись, она коснулась рукой подбородка Комолы и отрицательно покачала головой. Затем вошла в дом и, разбудив отца, сказала, что собирается домой.
— Идем с нами, милая, — обратился Чокроборти к Комоле.
— Нет, — ответила она, — мне тут надо кое-что сделать, я приду попозже.
Дядя оставил с Комолой своего старого слугу и Умеша, а сам отправился проводить Шойлоджу. У него еще были здесь какие-то дела, и он пообещал скоро вернуться.
Комола окончила свои хлопоты еще до захода солнца. Плотно укутавшись в теплую шаль, она вышла в сад и села под развесистым деревом. Там, далеко на западе, за высоким берегом, у которого стояли парусники, устремляя в багровое небо свои черные мачты, садилось солнце.
К Комоле тихонько подошел Умеш.
— Мать, ты давно не жевала пана. Перед тем как уйти из дома дяди, я взял его и принес сюда, — и он протянул ей завернутый в бумагу пан.
Комола, наконец, очнулась и, заметив, что уже совсем стемнело, поспешно встала.
— Мать, господин Чокроборти прислал за тобой экипаж, — проговорил Умеш.
Перед тем как уехать, Комола вошла в дом, чтобы еще раз взглянуть, все ли в порядке.
В большой гостиной, на случай зимних холодов, был устроен камин. На каминной доске горела керосиновая лампа. Туда же положила Комола сверток с паном и еще раз обвела глазами комнату, перед тем как выйти. Вдруг на бумаге, в которую был завернут пан, она увидела свое имя, написанное рукой Ромеша.
— Откуда ты взял эту бумагу? — обратилась она к Умешу.
— Она валялась в углу комнаты господина, я поднял ее, когда подметал пол.
Комола стала читать, стараясь не пропустить ни слова. Это было письмо Ромеша к Хемнолини. По рассеянности он совершенно о нем забыл. Комола прочла все до конца.
— Что же ты все стоишь, мать, и молчишь, — заговорил Умеш. — Ведь скоро уже ночь.
В ответ не раздалось ни звука.
Взглянув на лицо Комолы, Умеш испугался.
— Ты разве не слышишь меня, мать? Пойдем домой, уже совсем стемнело.
Но девушка не шелохнулась, пока не явился слуга дяди и не доложил, что, экипаж давно ожидает их и пора ехать.
Глава тридцать шестая
— Тебе нездоровится сегодня, сестра? Голова болит? — спросила Шойлоджа.
— Нет, ничего, — ответила Комола. — Почему не видно дяди?
— В школе каникулы, и мама послала его в Аллахабад навестить сестру, она уже несколько дней нездорова.
— А когда он вернется?
— Думаю, он задержится там не больше недели. Ты слишком утомилась, устраивая свое бунгало, у тебя очень усталый вид. Поужинай сегодня пораньше и ложись скорее спать.
Самое лучшее было бы рассказать все Шойлодже, но Комола не могла решиться на это. Кому угодно, только не Шойле; сказать ей, что человек, которого она столько времени считала своим мужем, в действительности не муж ей, — казалось Комоле совершенно невозможным.
Запершись в спальне, девушка при свете лампы перечитала письмо. Имени и адреса на письме не было, но было ясно, что адресовано оно женщине, на которой Ромеш хотел жениться, и что из-за Комолы ему пришлось с ней расстаться. Ромеш не скрывал и того, что любит эту женщину всем сердцем, и лишь из жалости к одинокой девушке, которая по несчастной случайности оказалась на его руках, он, не имея иного выхода, решил навсегда отказаться от своей любимой.
Теперь Комола, наконец, поняла отношение к ней Ромеша, начиная с их встречи на отмели посреди реки и кончая Гаджипуром.
Все это время Ромеш не считал ее женой и не знал, как с ней поступить. Комола же относилась к нему как к мужу и, ни о чем не подозревая, собиралась создать домашний очаг на всю жизнь. И сейчас, когда она думала об этом, стыд впивался в нее своим раскаленным жалом. Она готова была провалиться сквозь землю, когда на память ей приходили всевозможные эпизоды их совместной жизни. Этот стыд запятнал всю ее душу, — и от него не было спасенья!
Резким движением Комола распахнула дверь и вышла в сад. Была темная зимняя ночь, от черного неба веяло холодом. Воздух был прозрачен, ярко мерцали звезды.
Перед ней четко вырисовывалась темная роща манговых деревьев. Мысли Комолы путались. Она опустилась на холодную траву и сидела так, застыв, словно каменное изваяние. Глаза ее были сухи, в них не было ни слезинки.
Сколько времени провела она так — неизвестно, но вдруг почувствовала, как холод пронизал ее до самого сердца, и вздрогнула.
Глубокой ночью, когда тонкий луч ущербной луны прорезал темный край неба над молчаливой пальмировой рощей[37], Комола с трудом встала и заперлась у себя в спальне.
Утром, раскрыв глаза, она увидела у своей постели Шойлоджу. Думая, что уже много времени, смущенная девушка поспешно села в кровати.
— Не вставай, сестра, поспи еще немного. Ты, наверно, заболела? Лицо-то как осунулось, да и под глазами темные круги. Что-нибудь случилось? Почему ты не расскажешь мне, что с тобой? — И Шойлоджа, присев на постель, обвила руками шею Комолы.
Грудь девушки судорожно вздымалась; не сдерживаясь больше, она уткнулась лицом в плечо Шойлоджи и разразилась потоком слез. Не говоря ни слова, Шойлоджа крепче обняла подругу. Но через мгновенье Комола вырвалась из ее объятий, встала, вытерла глаза и через силу рассмеялась.
— Ну перестань смеяться, — сказала Шойлоджа. — Знаешь, много я видела девушек, но такой скрытной еще никогда не встречала. Однако не надейся, что тебе удастся скрыть что-нибудь, меня молчанием не проведешь! Хочешь, я скажу, в чем дело? Ромеш-бабу не прислал тебе из Аллахабада ни одного письма — вот ты и рассердилась, гордячка какая! Но пойми, он уехал по делам и через два дня вернется. Зачем же так сердиться, ведь не в его силах подгонять время! Перестань! Но знаешь, сестра, вот я даю тебе сейчас столько разумных советов, а будь сама на твоем месте, было бы то же самое! Ведь мы, женщины, всегда плачем по пустякам. Вот видишь, слезы высохли, и ты уже смеешься. Не думай больше об этом!
С этими словами Шойлоджа притянула Комолу к себе и спросила:
— Скажи правду, ведь ты сейчас думаешь, что никогда ему этого не простишь, да?
— Да, да, ты угадала.
Шойлоджа потрепала девушку по щеке.
— Ну, конечно, я так и предполагала! Что ж, посмотрим, посмотрим!
В это же утро, сразу после разговора с Комолой, Шойлоджа отправила отцу в Аллахабад письмо.
«Комола очень огорчена, что не получает писем от Ромеша-бабу, — писала она, — бедняжка совсем одинока в незнакомом городе, а он все время в отъезде, да еще и писем не шлет, подумай сам, как ей должно быть тяжело! Неужели он еще не уладил всех дел в Аллахабаде? Конечно, они требуют много времени, но разве так трудно урвать минутку, для того чтобы написать одно-два письма!»
Встретившись с Ромешем, дядя пересказал ему несколько фраз из письма Шойлоджи и хорошенько отругал.
Ромеш был не на шутку увлечен Комолой, и от этого возросла его нерешительность; эта нерешительность и заставляла его медлить с отъездом из Аллахабада, а тут еще дядя прочел ему письмо Шойлоджи!
Он понял, что Комола очень скучает без него, но стыдится сама написать об этом.
Узнав, что Комола любит его, Ромеш перестал колебаться. Теперь речь шла не только о его личном счастье, но и о счастье девушки. На песчаном островке посреди реки всевышний не просто привел их друг к другу, но и слил воедино их сердца. Подумав об этом, Ромеш, не медля более ни минуты, сел за письмо к Комоле:
«Любимая! — писал он. — Не сочти такое обращение за простую эпистолярную условность. Я ни за что не назвал бы тебя так, если бы не чувствовал, что действительно люблю тебя больше всех на свете. Если ты когда-нибудь сомневалась во мне, если я причинил боль твоему нежному сердцу, пусть то, что я искренне называю тебя своей любимой, рассеет твои сомнения, избавит тебя от страданий.
Да и стоит ли подробно писать об этом. До сих пор многие мои поступки причиняли тебе огорчения. Если ты еще сердишься на меня, — я оправдываться не стану, скажу лишь, что теперь ты для меня самая любимая, нет никого на свете, кто был бы мне дороже. Если эти слова не заставят тебя забыть все незаслуженные обиды и горе, которое я тебе причинил, то уж больше ничем не поможешь.
Итак, Комола, называя тебя своей любимой, я решил навсегда покончить с нашим омраченным сомнениями прошлым и в будущем любить только тебя. Об одном молю: верь, что ты для меня самая дорогая. Если поверишь этому всем сердцем, то не станешь расспрашивать и подозревать меня! Не осмеливаюсь спросить, заслужил ли я твою любовь. Да и незачем об этом спрашивать; я уверен, что настанет день, когда сердце твое без слов передаст благоприятный ответ моему сердцу. Это мне подсказывает чувство к тебе. Я не настолько самонадеян, чтобы считать себя достойным твоей любви, но неужели мое поклонение тебе останется без ответа? Я хорошо понимаю, что письмо покажется тебе несколько странным, — оно похоже на школьное сочинение, — если хочешь, разорви его. То, что запечатлено в моем сердце, невозможно передать на бумаге, ведь общение — это дело двоих, а когда пишет только один, он не может выразить все, что хочет, ему трудно найти верный тон.
Когда между нами установится полное понимание и доверие, я смогу писать тебе настоящие письма. Ветер только тогда беспрепятственно проходит через комнату, когда распахнуты все двери. Комола, дорогая, когда я, наконец, раскрою двери твоего сердца?
Все это придет постепенно, со временем, поспешность может только все испортить. Я приеду на следующее утро после того, как ты получишь это письмо. Хотелось бы, чтобы ты встретила меня в нашем новом доме.
Долго мы с тобой были без крова, я больше не хочу ждать. На этот раз я вернусь в свой собственный дом и владычицу моего сердца хочу видеть хозяйкой этого дома. Это будет наш второй «благоприятный взгляд». А ты помнишь первый — в лунную ночь, на берегу реки, среди пустынных песчаных отмелей? Ни крыши, ни стен, ни родных, ни друзей, ни соседей, — мы были далеко-далеко от дома. Тогда казалось, что это сон, мираж. Поэтому я так жду настоящего «благоприятного взгляда» ласковым и ясным утром, в реальной обстановке.
На всю жизнь я сохраню тебя в своем сердце, озаренную лучами утреннего солнца, с ласковым улыбающимся лицом стоящую на пороге нашего дома. Со страстным нетерпением я мечтаю об этом моменте.
Любимая! Я, как гость, жду у ворот твоего сердца, не прогоняй же меня!
Молящий о благосклонности Ромеш».Глава тридцать седьмая
Шойлоджа, чтобы хоть немного развеселить печальную Комолу, спросила ее:
— Ты разве не пойдешь сегодня в ваше бунгало?
— Нет, больше туда идти незачем.
— Ты уже кончила уборку?
— Да, сестра, все кончено.
Немного времени спустя Шойлоджа снова заглянула к ней:
— Что ты мне подаришь, если я дам тебе одну вещь, сестра?
— У меня же ничего нет, диди[38].
— Совсем ничего?
— Совсем.
Шойлоджа потрепала девушку по щеке.
— Ну, конечно, я знаю, все, что ты имела, ты отдала одному человеку, правда? А что скажешь на это? — и она вынула письмо.
Увидев на конверте почерк Ромеша, Комола побледнела как полотно и отвернулась.
— Ну, хватит же показывать свою гордость, достаточно уж ты ее проявляла! Ведь знаю, что ты только и думаешь, как бы поскорее вырвать письмо у меня из рук. Но пока не улыбнешься, я ни за что не отдам его тебе! Увидишь, я умею держать слово!
В это время с криком: «Тетя! Тетя!» — вбежала Уми, волоча за собой на веревке коробку из-под мыла. Комола тотчас взяла ее на руки и, тормоша и целуя, унесла в спальню. Уми, которую так неожиданно разлучили с ее тележкой, подняла громкий крик, но Комола не отпускала ее и, чтобы потешить девочку, принялась болтать с ней и осыпать шумными ласками.
— Сдаюсь, сдаюсь, ты победила! — воскликнула Шойлоджа, входя следом за ней в комнату. — Ну и терпеливая же ты! Я бы не могла так долго ждать! На, сестра, возьми, зачем мне зря навлекать проклятия на свою голову! — С этими словами она бросила письмо на постель и, взяв Уми из рук Комолы, ушла.
Комола долго вертела конверт, пока, наконец, решилась распечатать его. Ло едва пробежала она глазами несколько строк, как лицо ее запылало от стыда, и она отшвырнула письмо прочь. Затем, справившись с первым порывом отвращения, подняла его и прочла с начала до конца. Все ли в нем было ей ясно, не знаю, но ей ка; залось, будто она держит в руках что-то грязное. Ведь это был призыв создать домашний очаг для человека, который не был ее мужем! Ромеш давно знал обо всем и теперь так оскорбил ее. Неужели он думает, что если Комола стала относиться к нему с большей теплотой после их переезда в Гаджипур, то это потому, что он — Ромеш, а не оттого, что он ее муж? Вероятно, именно так он считает и поэтому из жалости к «сиротке» написал ей это любовное послание. Но как, как она теперь докажет ему, что он ошибся? За что выпали на ее долю такой позор, такое несчастье? Ведь никогда в жизни она никому не причиняла зла! Дом Ромеша, на берегу Ганга, казался ей теперь каким-то чудовищем, которое собирается поглотить ее. Как же спастись? Два дня назад девушке и во сне не снилось, что Ромеш будет внушать ей такой ужас!
В это время в дверях комнаты появился Умеш и слегка кашлянул. Видя, что Комола не замечает его, он тихо позвал ее:
— Мать!
Когда Комола обернулась, Умеш, почесав в затылке, сказал:
— Знаешь, сегодня Сидху-бабу по случаю свадьбы своей дочери пригласил музыкантов из Калькутты.
— Ну и хорошо, Умеш, — ответила Комола. — Сходи туда, посмотри.
— Принести тебе завтра утром цветов, мать?
— Нет, нет, цветов не нужно.
Умеш уже собрался уходить, но Комола неожиданно вернула его:
— Умеш, ты идешь на представление, вот возьми пять рупий!
Умеш был поражен. Он никак не мог понять, какое отношение имеют пять рупий к представлению.
— Мать, ты, наверно, хочешь, чтобы я купил тебе что-нибудь в городе?
— Нет, мне ничего не надо. Оставь деньги у себя, они тебе пригодятся!
Когда смущенный Умеш направился к выходу, Комола опять задержала его:
— Умеш, неужели ты пойдешь на представление в этом платье, что люди скажут?
Умеш не думал, что люди много ожидают от него и будут обсуждать недостатки в его туалете. Поэтому он совершенно не заботился о чистоте дхоти[39] и его не волновало отсутствие рубашки. На замечание Комолы он лишь усмехнулся.
Комола вынула два сари и протянула их Умешу:
— Вот возьми и надень.
При виде красивых и широких полотнищ сари Умеш пришел в неописуемый восторг и упал к ногам Комолы, чтобы выразить глубину своей благодарности; затем, строя гримасы, в тщетной попытке скрыть переполнявший его восторг, удалился. После его ухода Комола смахнула слезинки и молча стала у окна.
В комнату вошла Шойлоджа.
— А мне ты не покажешь письмо, сестра? — спросила она. У нее от Комолы не было никаких тайн, поэтому она имела право требовать от подруги такой же откровенности.
— Вот оно, диди, — ответила Комола, указывая на валяющееся на полу письмо.
«Надо же, до сих пор сердится», — подумала про себя Шойлоджа. Затем подняла его и прочла. В письме много говорилось о любви, но все-таки оно было какое-то странное. Как может муж писать жене такие письма! Нет, решительно очень странное послание!
— Твой муж, наверное, пишет романы, сестра? — обратилась она к Комоле.
При слове «муж» Комола как-то испуганно сжалась.
— Не знаю, — ответила она.
— Так, значит, сегодня ты уйдешь в свое бунгало? — спросила Шойлоджа.
Комола кивнула головой.
— Я бы тоже хотела побыть с тобой там до сумерек, но, право, не знаю, как быть, — ведь сегодня к нам зайдет жена Норсинха-бабу; наверно, мать пойдет с тобой.
— Нет, нет, — поспешно проговорила Комола. — Что ей там делать? Есть же слуги.
— Да еще твой телохранитель Умеш, — сказала со смехом Шойлоджа. — Так что тебе нечего бояться.
Тем временем Уми стащила карандаш и, царапая им на чем придется, громко болтала что-то непонятное, что должно было, очевидно, значить — «я учусь». Комола оторвала ее от этих литературных упражнений и, когда девочка пронзительным голосом стала выражать свой протест, сказала ей:
— Идем, я дам тебе что-то очень красивое!
Она унесла ребенка в комнату и, усадив на кровать, принялась горячо ласкать. Когда же Уми потребовала обещанный подарок, Комола открыла ящик и достала оттуда пару золотых браслетов. Получив столь ценные игрушки, Уми несказанно обрадовалась. И как только Комола надела их ей на руки, девочка, торжественно вытянув свои украшенные звенящими браслетами ручонки, отправилась показывать подарок матери. Но Шойлоджа тотчас отобрала их, чтобы вернуть владелице, и заметила:
— Что за странности у Комолы! Зачем она дает ребенку такие вещи?
При подобной несправедливости к небесам понеслись отчаянные жалобы Уми. Тут вошла Комола.
— Я подарила эти браслеты Уми, сестра, — сказала она.
— Ты, наверно, с ума сошла! — воскликнула изумленная Шойлоджа.
— Нет, нет, ты ни за что не должна мне их возвращать. Переделай их в ожерелье для Уми.
— Честное слово, я никогда еще не встречала такой расточительной особы, как ты, — и она обняла Комолу.
— Теперь я ухожу от вас, диди, — начала Комола. — Я была здесь очень, очень счастлива, как никогда в жизни, — и слезы закапали из глаз девушки.
— Ты говоришь так, будто бог знает как далеко уходишь, — проговорила Шойлоджа, тоже едва сдерживая слезы. — Не очень-то тебе было хорошо у нас. Но теперь, когда, наконец, все трудности позади, ты станешь сама счастливой хозяйкой в своем доме, и когда нам случится зайти к тебе, будешь думать: «Скорей бы миновала эта напасть!»
Когда Комола уже совершила пронам[40], Шойлоджа заметила:
— Я зайду к вам завтра после полудня.
В ответ Комола не вымолвила ни слова.
Придя в свое бунгало, она нашла там Умеша.
— Это ты? А почему не пошел на представление? — спросила она.
— Так ведь ты должна была вернуться, поэтому я…
— Ну, нечего тебе об этом беспокоиться! Ступай на праздник, здесь же Бишон остается. Иди, иди, не задерживайся!
— Да теперь-то уж на представление поздно.
— Все равно, ведь на свадьбе всегда бывает интересно, иди, посмотри все хорошенько.
Умеша не нужно было долго упрашивать, он уже собрался уйти, когда Комола окликнула его:
— Послушай, когда вернется дядя, ты… — Она не могла придумать, как кончить фразу. Умеш стоял с разинутым ртом. Собравшись с мыслями, Комола продолжала: — Помни, дядя тебя любит. Если тебе что-нибудь понадобится, пойди к нему, передай от меня пронам и попроси, что хочешь, — он тебе не откажет. Только не забудь передать ему мой пронам.
Умеш, так и не поняв, зачем ему было дано такое указание, проговорил:
— Сделаю, как ты приказала, мать, — и ушел.
— Ты куда, госпожа? — спросил ее в полдень Бишон.
— На Ганг, купаться.
— Проводить тебя?
— Нет, стереги дом. — С этими словами она неизвестно за что подарила ему рупию и ушла по направлению к Гангу.
Глава тридцать восьмая
Однажды после полудня Оннода-бабу, желая посидеть с Хемнолини вдвоем за чаем, поднялся за ней наверх. Но он не нашел девушки ни в гостиной, ни в спальне. Расспросив слугу, он узнал, что из дому Хемнолини тоже не выходила. Сильно обеспокоенный, он поднялся на крышу. Угасающие лучи зимнего солнца слабо освещали раскинувшиеся насколько хватало глаз причудливые крыши городских домов. Кружил, где ему вздумается, легкий ветерок. Хемнолини тихо сидела в тени башенки, возвышающейся над крышей.
Она не слышала даже, как сзади к ней подошел Оннода-бабу. И лишь когда он стал рядом и осторожно коснулся ее плеча, Хемнолини вздрогнула и тотчас вспыхнула от смущения. Но прежде чем она успела вскочить, Оннода-бабу сел подле нее. Некоторое время он молчал и, наконец, с тяжелым вздохом промолвил:
— Если бы сейчас была жива твоя мать, Хем! Ведь я-то ничем не могу тебе помочь!
Услышав эти полные нежности слова, Хемнолини словно очнулась от глубокого забытья. Она взглянула на отца. Сколько любви, сколько сострадания и муки прочла она на его лице! Как изменился он за это короткое время! Он один принял на себя всю ярость бури, разразившейся над Хемнолини; он так стремится исцелить ее раненое сердце! Видя, что все его попытки успокоить дочь тщетны, он вспомнил о матери Хем, и при мысли о бесполезности своей любви глубокий вздох вырвался из его переполненной горем души. Все это, будто озаренное вспышкой молнии, вдруг ясно представилось Хемнолини. Упреки совести мгновенно заставили ее вырваться из плена раздумий. Мир, который словно затерялся во мраке, снова напомнил ей о своем существовании. Хемнолини почувствовала стыд за свое поведение. Она с усилием отбросила, наконец, воспоминания, которые всецело владели ею последнее время, и спросила:
— Как твое здоровье, отец?
Здоровье! Оннода-бабу уже и позабыл, когда говорили о его здоровье.
— Мое здоровье? — ответил он. — Я-то себя прекрасно чувствую, дорогая, но твой вид заставляет меня беспокоиться. Кто дожил до моих лет, с тем ничего не случится. Но в твои годы здоровье может пошатнуться от таких ударов судьбы. — И он нежно погладил дочь по спине.
— Скажи, отец, а сколько мне было лет, когда умерла мама? — спросила Хемнолини.
— Тогда ты была трехлетней девочкой и болтала без умолку. Я хорошо помню, как ты спросила меня: «Где ма?» Ты не знала своего деда, так как он умер еще до твоего рождения, поэтому ничего не поняла, когда я сказал, что мама ушла к своему отцу. Ты только продолжала грустно смотреть на меня. Затем, схватив за руку, потянула в пустую спальню матери. Ты была уверена, что там, в пустоте, я отыщу ее для тебя. Ты знала, что твой отец очень большой и сильный, и даже не представляла, что этот сильный отец в жизни неопытен и беспомощен, как ребенок. И сегодня, вспоминая об этом, я думаю о том, как все мы бессильны! Всевышний вложил в отцовское сердце любовь, но дал ему очень мало власти, — и Оннода-бабу положил руку на голову дочери.
Хемнолини взяла эту добрую дрожащую руку и стала ласково гладить ее.
— Я очень плохо помню ма, — заговорила она. — Помню только, что в полдень она обычно, лежа на постели, читала, а мне это очень не нравилось, и я старалась отнять у нее книгу.
Отец и дочь снова углубились в воспоминания о прошлом. Они так увлеклись разговорами о том, какая была мать, чем она любила заниматься, как жили они тогда, что даже не заметили, как село солнце и небо приобрело меднокрасный оттенок. Так, в центре шумной Калькутты, на крыше одного из домов сидели в уголке двое, старик и юная девушка, которых соединяла вечно живая любовь отца и дочери. Они оставались там, пока с гаснущего вечернего неба на них не спустились слезинки росы.
В это время на лестнице послышались шаги Джогендро. Задушевный разговор тотчас оборвался, и оба испуганно вскочили.
— Что это, Хем сегодня устраивает приемы здесь, на крыше? — воскликнул Джогендро, окидывая их пристальным взглядом.
Джогендро был возмущен. Скорбь, которая теперь не покидала их дом ни днем, ни ночью, делала пребывание в нем невыносимым для юноши. В кругу друзей он часто попадал в затруднительное положение, когда приходилось давать разъяснения по поводу несостоявшейся свадьбы сестры, поэтому ему нигде не хотелось показываться.
— Поведение Хемнолини начинает переходить всякие границы, — заметил он. — Это всегда случается с девицами, которые зачитываются английскими романами. «Ромеш меня оставил, — думает Хем, — значит, нужно, чтобы сердце мое было разбито!» И вот теперь она усердно старается внушить это всем. Ведь немногим из тех, кто читает романы, представляется такой исключительно удобный случай — самой испытать разочарование в любви!
Стремясь защитить дочь от злых насмешек Джогендро, Оннода-бабу торопливо заметил:
— Мы тут с Хем беседовали кое о чем, — как будто он сам привел Хем на крышу для разговора.
— Так разве нельзя поговорить за чайным столом? Ты во всем поощряешь ее, отец. Если так будет продолжаться, мне придется оставить этот дом, — заявил Джогендро.
Тут Хемнолини вдруг спохватилась:
— Отец, ты еще до сих пор не пил чаю?
— Чай ведь не поэтическое вдохновение, что само приходит в вечерний час в лучах заходящего солнца. И незачем еще раз напоминать, что если ты будешь сидеть в углу на крыше, то чашки сами не наполнятся, — последовало язвительное замечание брата.
Оннода-бабу, не желая, чтобы Хемнолини чувствовала себя виноватой, поспешно сказал:
— Я решил не пить сегодня чаю.
— Вы, что же, оба аскетами стали? — спросил Джогендро. — Но тогда что же мне остается делать? Я ведь не могу питаться воздухом!
— Нет, аскетизм тут ни при чем. Сегодня я плохо спал и поэтому решил, что будет лучше, если я воздержусь от чая.
В действительности же, во время беседы с Хемнолини Онноду-бабу не раз соблазняла наполненная до краев чашка чая, но теперь он не мог неожиданно встать и уйти. После стольких дней Хемнолини, наконец, откровенна с ним; он не помнил, чтобы когда-нибудь раньше они беседовали так задушевно и серьезно, как сегодня, здесь, на тихой крыше дома. Если прервать сейчас этот разговор, потом его не продолжишь: помешаешь ему, — и он умчится, как вспугнутая лань. Поэтому сегодня Оннода-бабу не поддался своему желанию.
Хемнолини не верила, что отец решил лечиться от бессонницы, отказываясь от чая.
— Идем, отец, пить чай — предложила она.
Оннода-бабу тотчас позабыл о своей бессоннице и торопливыми шагами направился к чайному столу.
Войдя в комнату, Оннода-бабу сразу же увидел Окхоя и встревожился: «Только Хем как будто немного успокоилась, а увидит Окхоя и снова разволнуется, — подумал он. — Но теперь уж ничего не поделаешь». Вслед за ним вошла и Хемнолини. Увидев ее, Окхой тотчас же вскочил.
— Джоген, — сказал он, — я пойду.
— Куда вы, Окхой-бабу, у вас разве есть какие-нибудь дела? Выпейте с нами чашку чая, — остановила его Хемнолини.
Все присутствующие были поражены такой приветливостью Хемнолини. Окхой снова уселся, заметив при этом:
— В ваше отсутствие я уже выпил две чашки, но если вы настаиваете, с удовольствием выпью еще.
— Вас никогда не приходилось упрашивать, когда дело касалось чая, — рассмеялась Хемнолини.
— Уж таким создал меня всевышний, я никогда не отказываюсь от хороших вещей, если в этом нет особой необходимости.
— Благословляю тебя, чтобы и хорошие вещи, помня об этом твоем качестве, не отворачивались от тебя без всякой видимой на то причины, — заметил Джоген.
Наконец, после долгого перерыва, за чайным столом Онноды-бабу вновь шла непринужденная беседа. Обычно Хемнолини смеялась негромко, но сегодня взрывы ее смеха временами покрывали голоса разговаривающих.
— Окхой-бабу совершил предательство, отец, — сказала она шутя. — Он так давно не принимал твоих пилюль, но, несмотря на это, хорошо себя чувствует. Из уважения к тебе, отец, у него должна хоть голова разболеться.
Оннода-бабу счастливо рассмеялся. Интерес близких к его коробочке с пилюлями он считал признаком восстановления благополучия в семье, и словно тяжесть свалилась с его сердца.
— Я знаю, вы просто хотите поколебать стойкость этого человека, — заметил он. — Отряд приверженцев моих пилюль состоит из одного Окхоя, но и его вы собираетесь отнять у меня!
— Не беспокойтесь, Оннода-бабу, — ответил на это Окхой, — меня изменить трудно!
— Значит, ты как фальшивая монета: захочешь ее разменять — угодишь в полицию, — добавил Джогендро.
Эти веселые шутки за столом Онноды-бабу разогнали, наконец, мрачное настроение последних дней.
Сегодняшнее чаепитие затянулось бы надолго, если бы Хемнолини не собралась уйти под тем предлогом, что ей пора делать прическу. Окхой тоже вспомнил о каком-то срочном деле и быстро ушел.
— Отец, — сказал тогда Джогендро, — немедленно делай приготовления к свадьбе Хемнолини.
Оннода-бабу удивленно посмотрел на него.
— Знаешь, — продолжал Джогендро, — в обществе много сплетничают относительно ее разрыва с Ромешем, со многими я затеваю ссоры из-за этого. Если бы я только мог открыть им всю правду, незачем было бы и ссориться. Но из-за Хем я рта не могу раскрыть — вот и приходится расправляться кулаками. Тут как-то пришлось проучить Окхила, — я услышал, как он болтает всякую ерунду. А если выдать Хем замуж, все прекратится, и мне не придется с утра до вечера, засучив рукава, поучать весь свет. Послушай меня, не медли больше.
— Но за кого же ее выдать, Джоген?
— У нас есть только один человек. После всей этой истории, после разговоров, которые уже начались, невозможно найти для нее хорошего жениха. Остался один только бедняга Окхой, его ничем не смутишь: скажешь ему пилюли глотать — проглотит, жениться попросишь — женится!
— Ты с ума сошел, Джоген. Да разве Хем согласится выйти за него замуж?
— Если ты не будешь мешать мне, я берусь добиться ее согласия.
— Нет, нет, Джоген! — испуганно воскликнул Оннода-бабу. — Ты не знаешь Хем. Запугиванием, принуждением ты только оттолкнешь ее. Дай ей еще несколько дней, пусть успокоится. Бедняжка, она столько уже пережила. А со свадьбой некуда торопиться.
— Да я ее не огорчу, все дело можно будет уладить очень осторожно и легко, не причинив ей никаких страданий. Неужели вы думаете, что я умею только скандалить?
Джогендро был человек нетерпеливый. В тот же вечер, едва Хемнолини, причесав волосы, вышла из своей комнаты, он окликнул ее:
— Хем, мне надо поговорить с тобой.
Сердце Хемнолини дрогнуло. Она медленно последовала за ним в гостиную и села на стул.
— Ты не замечаешь, как ухудшилось здоровье отца, Хем? — начал Джогендро.
Тень беспокойства пробежала по ее лицу, но она ничего не ответила.
— Я хочу сказать, что если не принять срочных мер, отец может серьезно заболеть.
Хемнолини поняла, что ответственность за болезнь отца целиком возлагается на нее. Она низко опустила голову и стала перебирать край своего сари.
— Что было, то прошло, — продолжал он. — И чем больше ты горюешь о прошлом, тем неприятнее нам. Теперь, если ты хочешь совершенно успокоить отца, ты должна как можно быстрее уничтожить с корнем все воспоминания об этой неприятной истории. — Сказав это, Джогендро замолчал и выжидающе посмотрел на Хемнолини.
— Не беспокойся, я никогда не заговорю с отцом об этом, — смущенно проговорила Хем.
— Ты-то, конечно, не будешь говорить, но ведь другим рты не закроешь.
— Что же я могу сделать?
— Есть только одно средство прекратить все толки.
Догадавшись, что имеет в виду Джогендро, Хемнолини поспешно сказала:.
— Было бы хорошо увезти отца на некоторое время на запад. Когда через несколько месяцев мы вернемся, болтовня уже прекратится.
— Это тоже не даст желанных результатов. Сердце отца до тех пор будет истекать кровью, пока он не будет вполне уверен в том, что ты совершенно излечилась от горя.
Из глаз Хемнолини брызнули слезы, но она быстро вытерла их и спросила:
— Так скажи, наконец, что должна я сделать?
— Я знаю, тебе тяжело об этом слышать, но если ты хочешь, чтобы все были счастливы, то должна, не теряя времени, выйти замуж.
Хемнолини точно окаменела. Но Джогендро не желал ждать и воскликнул:
— Вы, девушки, своим воображением любите делать из мухи слона. Не у тебя одной — у многих происходят подобные неприятности со свадьбой, но ведь в конце концов все улаживается. А если бы в каждом доме разыгрывались взятые из книг истории, жизнь стала бы совершенно невыносимой. Выходи замуж за достойного человека и прекрати как можно скорее эту ненужную комедию. Может, тебе и не стыдно декламировать перед людьми: «Я навсегда стану отшельницей и, сидя на крыше, буду созерцать небеса. Память об этом недостойном изменнике я вознесу на алтарь своего сердца и буду свято чтить ее!» — нам же — хоть умирай от такого позора.
Хемнолини отлично знала, насколько постыдной должна казаться людям эта «комедия», поэтому насмешка Джогендро пронзила ее как нож.
— Дада, — сказала она, — я ведь не говорю, что отрекусь от мира и никогда не выйду замуж.
— Если ты не хотела этого сказать, так выходи. Конечно, если ты заявишь, что никого, кроме властителя небес, самого бога Индры[41] полюбить не можешь, то тебе ничего другого не остается, как сделаться отшельницей!
На свете редко встречаешь то, что нравится, надо принимать вещи такими, какие они есть. Я считаю, что в этом и заключается благородство.
Раненная в самое сердце, Хемнолини сказала:
— Зачем ты так зло смеешься надо мной? Разве я говорила тебе что-нибудь о любви?
— Правда, не говорила. Но я же вижу, что ты ничуть не стесняешься выражать некоторым из искренне расположенных к тебе друзей свою несправедливую и беспричинную антипатию. Ты все-таки должна будешь признать, что среди тех, с кем тебе приходилось встречаться, есть один, который в радости и горе, в почете и унижении всегда оставался тебе верен. За это я его очень уважаю. Если ты хочешь такого мужа, который жизнь за тебя будет готов отдать, то его искать не придется, а если ты склонна заниматься мелодекламацией…
Хемнолини вдруг встала:
— Ты не должен так разговаривать со мной. Что бы ни приказал мне отец, кого бы ни выбрал мне в мужья, — я выполню его волю. Вот если откажусь повиноваться, тогда можешь говорить мне о мелодекламации.
Джогендро сразу смягчился.
— Не сердись на меня, Хем! Ты же знаешь, что когда я взволнован, то не владею собой, говорю, что придет в голову. Мы ведь с тобой вместе росли, я же знаю, как ты скромна и как любишь отца.
С этими словами Джогендро ушел к Онноде-бабу. Оннода-бабу был у себя в комнате. Его терзала мысль о том, что Джогендро может жестоко обидеть Хем; он уже собирался пойти и прервать беседу брата с сестрой, когда явился Джогендро. Оннода-бабу выжидающе посмотрел на него.
— Хем согласна выйти замуж, отец, — объявил Джогендро. — Ты, наверно, думаешь, что я силой вынудил ее согласиться — ничего подобного! Теперь, как только ты ей сам скажешь о своем желании, она не станет возражать против брака с Окхоем.
— Я должен сказать ей об этом?
— А ты думаешь, она сама придет к тебе и скажет: «Я выхожу замуж за Окхоя»? Хорошо, если ты боишься сказать ей это, так я передам твою волю!
— Нет, нет! — испуганно воскликнул Оннода-бабу. — Я сам скажу ей все, что нужно. Но к чему так спешить? Мне кажется нужно подождать еще несколько дней.
— Нет, отец, задержка может вызвать различного рода осложнения. Так долго тянуть нельзя.
Никто в доме не мог устоять перед настойчивостью Джогендро: за что уж он ухватился, — не отпустит, пока не добьется своего. Оннода-бабу в душе его побаивался. И, чтобы прекратить этот разговор, ответил:
— Хорошо, я скажу.
— Сейчас самое подходящее для этого время, отец. Она сидит и ждет твоего решения. Покончи сразу со всем этим.
Оннода-бабу задумался.
— Тут нечего размышлять, — заметил Джогендро. — Иди сейчас к Хем.
— Побудь здесь, Джоген, — попросил Оннода-бабу, — я пойду к ней один.
— Хорошо, я останусь здесь.
Войдя в неосвещенную гостиную, Оннода-бабу услышал, как кто-то порывисто поднялся с кресла. Полный слез голос произнес:
— Свет погас, отец, я сейчас велю зажечь лампу.
Оннода-бабу понял, почему погас свет, и сказал:
— Не беспокойся, дорогая, зачем нам лампа?
Он ощупью добрался до Хемнолини и сел с ней рядом.
— Ты не заботишься о своем здоровье, отец, — сказала она.
— На это есть своя причина, дорогая! Не беспокоюсь потому, что хорошо себя чувствую. Ты бы лучше обратила внимание на себя, Хем.
Тогда измученная Хемнолини, наконец, воскликнула:
— Что вы все говорите мне одно и то же! Это очень жестоко, отец! Я такая же, как и другие. Скажите, в чем выражается мое невнимание к своему здоровью? Если вы считаете, что мне необходимо принять какие-то меры для излечения, то почему не сказать этого прямо? Разве я в чем-нибудь тебе перечила, отец?
Рыдания сотрясали ее.
— Никогда, милая моя, никогда, — проговорил Оннода-бабу, взволнованный и расстроенный состоянием дочери. — Тебе никогда и не приходилось приказывать: ведь ты, моя дорогая девочка, знаешь все, что у меня на душе; и всегда поступала, как я хотел. Если мое горячее благословение будет услышано, всевышний сделает тебя счастливой на всю жизнь.
— Ты не хочешь, чтобы я навсегда осталась с тобой, отец? — спросила Хем.
— Откуда ты взяла, что не хочу?
— Я буду с тобой, пока брат не приведет в дом жену. Иначе кто позаботится о тебе?
— Заботиться обо мне?! Не говори так, дорогая. Привязать вас к себе для того, чтобы вы ухаживали за мной! Я не стою этого!
— Очень темно, отец, — заметила Хем. — Я принесу лампу.
Она принесла из соседней комнаты лампу и сказала:
— Из-за всех неприятностей я давно уже не читаю тебе газет по вечерам. Хочешь, сейчас почитаю?
— Хорошо, — ответил Оннода-бабу, поднимаясь, — посиди здесь, я сейчас вернусь. — И отправился к Джогендро. Он решил заявить ему, что сегодня не смог сказать об этом и отложил разговор до другого раза, но когда Джоген спросил: «Ну, как, отец? Говорил о свадьбе? Что было?» — он торопливо ответил: «Да, сказал». Он боялся, как бы Джогендро снова не разволновал Хемнолини.
— Она, конечно, согласилась?
— Да, что-то вроде этого.
— Тогда я пойду сообщу Окхою!
— Нет, нет, сейчас ничего не говори ему, — с испугом воскликнул Оннода-бабу. — Пойми, Джоген, действуя так стремительно, ты можешь все испортить. Сейчас незачем кому-либо сообщать об этом. Мы, наверно, поедем на запад, а когда вернемся, все устроим.
Ничего не ответив, Джогендро ушел. Завернувшись в шарф, он тотчас же отправился к Окхою. Окхой в это время был погружен в изучение английской книги по бухгалтерии.
Джогендро вырвал книгу у него из рук и отшвырнул прочь.
— Это все успеется, — заявил он, — а сейчас назначай день свадьбы!
— Что ты говоришь! — воскликнул Окхой.
Глава тридцать девятая
Когда утром на следующий день Хемнолини вышла из своей комнаты, она увидела, что Оннода-бабу молча сидит в тростниковом кресле у окна своей спальни. В его комнате вещей было совсем немного: кровать да небольшой шкаф в углу, на одной стене висела вставленная в рамку выцветшая фотография покойной жены, на другой — расшитый шелком коврик ее работы. В шкафу лежали до сих пор нетронутыми все мелочи и безделушки, уложенные туда еще при ее жизни.
Остановившись позади отцовского кресла, Хемнолини нежно провела рукой по голове отца, будто отыскивая седые волосы, и проговорила:
— Идем, отец, выпьем сегодня чаю пораньше, потом пойдем к тебе в комнату, и ты опять будешь рассказывать мне о прошлом. Если бы ты знал, как я люблю тебя слушать!
За последнее время чуткость Онноды-бабу в отношении дочери настолько обострилась, что он моментально разгадал, почему Хем так торопилась с чаепитием. Скоро за чайным столом должен был появиться Окхой, и для того, чтобы избежать встречи с ним, Хемнолини хотела поскорее покончить с чаем и скрыться в уединении отцовской комнаты. Мысль, что Хемнолини стала теперь пуглива, как загнанная лань, причинила ему жестокую боль.
Сойдя вниз, он узнал, что чай еще не готов, и с гневом обрушился на слугу. Напрасно тот пытался объяснить, что чай сегодня попросили раньше обычного, — Оннода-бабу придерживался непреклонного убеждения, что все слуги воображают себя господами, и нужно нанять специального человека, который бы своевременно их будил.
Однако слуга подал чай очень быстро. Обычно Оннода-бабу пил чай медленно, смакуя каждый глоток и разговаривая при этом с Хемнолини. Но сегодня он с необычной поспешностью выпил свою чашку, стараясь поскорее окончить чаепитие.
— Разве тебе надо срочно уходить куда-нибудь, отец? — с некоторым удивлением заметила Хемнолини.
— Нет, нет, — ответил Оннода-бабу, — просто если в холодный день выпить горячего чаю залпом, то сначала хорошенько вспотеешь, а затем почувствуешь приятную свежесть.
Но не успел еще Оннода-бабу вспотеть, как в комнату вошли Джогендро и Окхой. Сегодня в туалете Окхоя была заметна особая тщательность. Грудь украшала цепочка часов, в правой руке он держал трость с серебряным набалдашником, в левой — какую-то книгу, завернутую в темную бумагу. Сегодня он не сел на свое обычное место, а придвинул кресло поближе к Хемнолини и, смеясь, обратился к ней:
— Ваши часы, видно, спешат сегодня!
Хемнолини даже не взглянула в его сторону и не ответила на вопрос.
— Хем, дорогая, пойдем наверх, — сказал Оннода-бабу. — Надо разложить на солнце мои зимние вещи.
— Ведь солнце не убежит, отец, — заметил на это Джогендро. — Зачем же так спешить? Хем, налей-ка Окхою чашку чая. И мне тоже. Конечно, сначала гостю.
Окхой рассмеялся.
— Вы видели когда-нибудь такое самопожертвование? Прямо второй сэр Филипп Сидней![42]
Хемнолини, не обращая ни малейшего внимания на его слова, приготовила две чашки чая: одну она передала Джогендро, а другую резко подвинула в сторону Окхоя и взглянула на отца.
— Скоро станет жарко, нам будет трудно работать, — сказал он. — Пойдем сейчас же, Хем!
— Сегодня незачем сушить вещи! — воскликнул Джогендро. — Ведь Окхой пришел…
Тут Оннода-бабу пришел в ярость:
— Вам бы только принуждать! Только бы заставлять людей делать, как вам угодно, пусть даже это стоило бы им жестоких страданий. Я долго все терпел молча, но теперь довольно! Хем, дорогая, с завтрашнего дня мы с тобой будем пить чай наверху, у меня в комнате!
Произнеся такую речь, Оннода-бабу собрался было вместе с Хемнолини покинуть комнату, но девушка спокойно сказала:
— Посиди немного, отец, ты ведь еще не вдоволь напился чаю. Окхой-бабу, могу ли я спросить, что это за таинственный предмет, завернутый в бумагу?
— Не только спросить, но вы можете даже и проникнуть в эту тайну, — ответил Окхой и протянул сверток Хемнолини.
Она развернула его и увидела томик стихов Теннисона в сафьяновом переплете. Девушка вздрогнула и побледнела. Такой же том, в точно таком переплете она получила в подарок уже раньше. Он и сейчас бережно хранился в ее спальне, в одном из ящиков письменного стола.
Джогендро слегка улыбнулся.
— Тайна еще не вполне раскрыта, — заметил он и открыл первую чистую страницу. На ней было написано: «Шримоти Хемнолини в знак уважения от Окхоя».
Книга выскользнула из рук девушки и упала на пол. Даже не взглянув на нее, Хемнолини обратилась к Онноде-бабу:
— Пойдем, отец.
Они вместе вышли из комнаты. Глаза Джогендро метали молнии:
— Кончено, я не желаю больше жить в этом доме! Уеду куда глаза глядят и буду учительствовать.
— Напрасно ты сердишься, друг. Я уже тогда подозревал, что ты ошибся. Тронут тем, что ты меня обнадеживаешь все время, но говорю тебе откровенно — Хемнолини никогда не будет ко мне благосклонна. Так что давай оставим надежду на это. Главное, что ты должен сейчас сделать, — это заставить ее забыть Ромеша.
— Хорошо тебе говорить, «ты должен», но как, хотел бы я знать!
— Будто, кроме меня, нет на свете достойных молодых людей! Конечно, я знаю, что если бы ты был на месте твоей сестры, моим родственникам не пришлось бы сокрушенно считать дни, когда же я, наконец, выберусь из холостяков! Как бы то ни было, нужно найти хорошего жениха, такого, при виде которого она не загоралась бы желанием бежать просушивать одежду на солнце.
— Так ведь жениха на заказ не изготовишь!
— Почему ты так быстро опускаешь руки? Я могу найти жениха, но не спеши, иначе все погубишь. Главное, не следует отпугивать обоих молодых людей разговорами о свадьбе. Сначала дай им как следует узнать друг друга, а со временем можешь и день свадьбы назначить.
— Твой метод превосходен, но кто этот жених?
— Ты не знаком с ним, но видел. Это доктор Нолинакха.
— Нолинакха!
— Чему ты удивляешься? Не обращай внимания на сплетни, которые связывают его имя с «Брахмо Самадж». Неужели ты выпустишь из рук такого жениха?
— Если бы я мог отвергать женихов, тогда и заботиться было бы не о чем! Но разве Нолинакха согласится жениться?
— Разумеется, я не могу тебе поручиться, что он даст согласие сегодня же, но со временем почему бы и нет? Послушай, Джоген, завтра Нолинакха будет читать лекцию, пойди с Хемнолини послушать его. Он очень красноречив, а для того чтобы покорить сердце женщины, это уже немало! Неразумные! Они не понимают, что гораздо лучше иметь мужа слушающего, чем мужа ораторствующего.
— Но я хочу знать все о Нолинакхе, — заявил Джогендро.
— Джоген, пусть тебя не волнует, если в его истории ты заметишь небольшой изъян. Еле заметное пятнышко делает ранее недоступную тебе вещь доступной. Поэтому я считаю, что это даже к лучшему.
История Нолинакхи, которую Окхой рассказал Джогендро, вкратце состояла в следующем.
Отец Нолинакхи, Раджоболлобха, был мелким землевладельцем в округе Фаридпур. Тридцати лет он примкнул к «Брахмо Самадж». Но его жена ни за что не хотела принять эту религию и тщательно сохраняла полную независимость от мужа в исполнении религиозных обрядов. Излишне говорить, что Раджоболлобха был не в восторге от этого. Его сын, Нолинакха, уже взрослый юноша, благодаря своему религиозному пылу и красноречию занял видное место в «Брахмо Самадж».
Разъезжая по делам службы по всей Бенгалии, доктор Нолинакха прославился безупречным поведением, знанием своего дела и благотворительностью.
Неожиданно произошло нечто невероятное. На старости лет Раджоболлобха точно сошел с ума: решил жениться на вдове. Никто не мог отговорить его. «Моя жена по-настоящему не может считаться мне женой, так как не разделяет моих религиозных убеждений, и было бы нелепо не жениться на той, с которой у нас одна религия, общие убеждения, одинаковые взгляды на жизнь и которая мне по сердцу», — говорил Раджоболлобха и, не обращая внимания на всеобщее неодобрение, женился на вдове по индуистскому обычаю. Когда вслед за этим мать Нолинакхи собралась покинуть дом и уехать в Бенарес, Нолинакха решил бросить врачебную практику в Рангпуре, заявив, что поедет вместе с ней.
— Сын мой, — плача ответила ему мать, — у нас разные религии. Зачем тебе понапрасну доставлять себе хлопоты?
— Между нами не будет никаких несогласий, мама, — ответил Нолинакха. Он твердо решил сделать все для счастья брошенной отцом, оскорбленной матери и уехал с ней в Бенарес.
Однажды мать спросила Нолинакху, почему он не женится.
— Зачем? Мне и так хорошо, — смущенно ответил юноша.
Она поняла тогда, что сын пошел ради нее на многие жертвы, но взять жену вне «Брахмо Самадж» — к этому он не был готов.
— Я совсем не хочу, чтобы из-за меня ты сделался аскетом, мой мальчик, — печально сказала она Нолинакхе. — Выбери жену себе по вкусу, я не буду возражать.
Несколько дней Нолинакха раздумывал над этим, а затем обратился к матери:
— Я приведу жену, какую ты хочешь, мама. Она будет прислуживать тебе и не будет ни в чем перечить. Знай, что я никогда не введу в дом ту, которая принесет тебе горе и будет тебе неугодна.
Нолинакха отправился в Бенгалию за невестой.
На этом месте история обрывается. Одни говорят, что он приехал в одну деревню, женился там на какой-то сироте, но она умерла сразу после свадьбы; другие же выражают сомнение по поводу этой версии. Окхой придерживался мнения, что Нолинакха сбежал в последнюю минуту перед свадьбой.
Как бы то ни было, Окхой полагал, что если бы сейчас Нолинакха захотел жениться на той, которая ему нравится, мать не только не запретила бы ему этого, но была бы даже рада.
Где еще найдет Нолинакха такую хорошую невесту, как Хемнолини? К тому же Хем приветлива, и если проявит достаточно почтительности к его матери, тогда и та, в свою очередь, не причинит девушке никаких огорчений. Нолинакхе двух дней знакомства с Хем будет достаточно, чтобы сообразить все это. Поэтому Окхой считает, что их обязательно нужно познакомить.
Глава сороковая
Как только Окхой ушел, Джогендро поднялся наверх. Оннода-бабу и Хемнолини беседовали, сидя в гостиной. При виде Джогендро Оннода-бабу слегка смутился. Сегодня за чаем он утратил свое обычное добродушие, проявил вспыльчивость, и теперь это не давало ему покоя. Поэтому он сейчас особенно ласково обратился к сыну:
— Входи, входи, Джоген, присаживайся!
— Вы совершенно перестали выходить из дому, отец, — заметил Джогендро. — Сидеть целыми днями вдвоем, что в этом хорошего?
— Да ведь мы давно сделались домоседами. Стоит Хем куда-нибудь пойти, как у нее начинаются головные боли.
— Зачем меня обвинять, отец? — откликнулась Хем. — Ведь ты сам не хочешь никуда меня брать.
Хемнолини, наперекор себе, усиленно стремилась показать, что горе не сломило ее и она живо интересуется всем окружающим.
— Завтра состоится лекция, отец. Почему бы тебе с Хемнолини не пойти на нее? — проговорил Джогендро.
Оннода-бабу знал, что Хемнолини не любит и боится сутолоки шумных собраний, поэтому не ответил и вопросительно посмотрел на дочь. Но на этот раз Хем с неожиданным воодушевлением воскликнула:
— Лекция? А кто будет читать ее?
— Доктор Нолинакха, — ответил Джогендро.
— Нолинакха? — переспросил Оннода-бабу.
— Он замечательный оратор, — продолжал Джогендро. — К тому же, слушая историю его жизни, можно только поражаться. Какая самоотверженность! Какая твердость характера! Такие люди редко встречаются!
Между тем двумя часами раньше Джогендро не было известно о Нолинакхе ничего, кроме смутных слухов.
— Вот и хорошо! Пойдем послушать его, отец, — живо проговорила Хемнолини.
Оннода-бабу не поверил в энтузиазм дочери, но тем не менее был доволен.
«Если Хем, пусть даже вопреки своему желанию, станет бывать в обществе, — думал он, — может быть, она скорее успокоится. Общение с людьми — лучшее лекарство от всех печалей».
— Хорошо, Джоген, — обратился он к сыну, — завтра мы приедем на эту лекцию. Но расскажи нам, что ты знаешь о Нолинакхе. Люди разное о нем говорят.
Джогендро начал с того, что гневно обрушился на всех, кто много болтает:
— Те, для кого религия просто мода, убеждены, что всевышний произвел их на свет специально для того, чтобы они несправедливо обвиняли и порочили ближних. В мире не сыщешь более гнусных сплетников, чем те, кто промышляет религией, — говорил он, воспламеняясь все более и более.
— Правильно, Джоген, правильно, — повторял все время Оннода-бабу, чтобы умерить горячность сына. — У тех, кто осуждает недостатки и ошибки ближнего, ум становится ограниченным, характер подозрительным, а сердце черствеет.
— Ты имеешь в виду меня, отец? — спросил Джогендро. — Но во мне мало благочестия, я могу и выругать и похвалить, а когда надо, — и кулаками решить дело.
— Что ты, Джоген, — взволнованно воскликнул Оннода-бабу, — ты с ума сошел! Откуда ты взял, что я говорю о тебе? Я ведь тебя хорошо знаю!
Тогда Джогендро подробно рассказал о Нолинакхе, превознося его до небес.
— Ради счастья матери он пожертвовал своими собственными склонностями и поселился в Бенаресе, поэтому-то многие готовы позлословить на его счет. Но я именно за это и уважаю Нолинакху. А ты что скажешь, Хем?
— Вполне с тобой согласна.
— Я был уверен, что Хем одобрит его поступки. Я прекрасно знаю, что она сама была бы рада пойти на жертвы ради счастья отца! — Оннода-бабу с нежной и ласковой улыбкой взглянул на дочь. Хемнолини смущенно покраснела и потупилась.
Глава сорок первая
Вечер еще не наступил, когда Оннода-бабу и Хемнолини вернулись с лекции домой.
— Да, сегодня я получил большое удовольствие, — проговорил Оннода-бабу, усевшись пить чай. Больше он не проронил ни слова и глубоко задумался.
Он даже не заметил, что сразу после чая Хемнолини тихо поднялась и покинула комнату.
Нолинакха, который произнес речь сегодня на собрании, казался удивительно юным и красивым. Лицо его еще сохранило свежий румянец подростка, и в то же время от всего внутреннего облика юноши веяло глубокой мудростью.
Темой его речи были «утраты». Он говорил о том, что, если человек не испытал утраты, значит он ничем и не владел. Истинное приобретение — не то, что дается нам без труда; только то и становится сокровищем нашего сердца, что получаем мы ценой лишений. Мирское богатство может на глазах у нас превратиться в прах, и человек, который теряет его, несчастен: но в самой утрате для него заключается возможность получить нечто большее.
Если мы, лишаясь чего-нибудь, можем склонить голову и, сложив руки, смиренно сказать: этот дар — дар самоотречения, дар печали и слез моих, — тогда преходящее станет вечным, а то, что было для нас обычным, будет предметом поклонения и навеки сохранится в сокровищнице храма нашего сердца.
Его речь потрясла Хемнолини. Девушка неподвижно сидела на крыше под звездным небом. Сегодня ей казалось, что душа ее полна, а небо и весь мир вокруг обрели смысл.
Ёозвращаясь с лекции, Джогендро заметил:
— Ну и хорошего же ты отыскал жениха, Окхой, нечего сказать! Это какой-то аскет! Я и половины не понял из того, что он говорил.
— Нужно прописывать лекарство в соответствии с болезнью. Хемнолини в восхищении от ума Ромеша. Этот аскет тоже умен, иначе он не смог бы поставить в тупик таких людей, как мы. Ты заметил выражение лица Хем, когда он говорил?
— Еще бы! Конечно! Ясно, речь ей понравилась. Но ведь это вовсе еще не говорит о том, что ее легко будет обручить с оратором.
— Ты думаешь, ей понравилась бы эта лекция, прочитай ее кто-нибудь из нас? Ты разве не знаешь, Джоген, что женщин особенно влечет к аскетам. Калидаса[43] даже описал в поэме, как из-за одного аскета Ума сама стала отшельницей[44]. Я тебе говорю, какого бы жениха ты ни представлял Хемнолини, она всегда будет сравнивать его с Ромешем, а такое сравнение мало кто выдержит. Нолинакха же не такой, как все, ей и в голову не придет кого-то сравнивать с ним. Стоит тебе привести к Хемнолини какого-нибудь юнца, она сразу разгадает твои намерения и воспротивится этому всем сердцем. Но если ты под каким-либо благовидным предлогом сможешь привести сюда Нолинакху, никаких подозрений у Хемнолини не возникнет. А там от простого уважения до обмена гирляндами — один шаг.
— Хитрости мне никогда не удаются, гораздо легче сказать все сразу. Но что ни говори, не нравится мне все-таки этот жених!
— Послушай меня, Джоген! Одной своей настойчивостью ты ничего не добьешься. Все обстоятельства никогда не складываются благоприятно. Как бы то ни было, я не знаю, чем еще можно изгнать из сердца Хемнолини память о Ромеше. Не воображай, что ты добьешься этого силой. А вот если последуешь моему совету, может все и уладится.
— Дело в том, что Нолинакха мне непонятен, а я побаиваюсь иметь дело с такого рода людьми. Как бы нам не попасть из огня да в полымя!
— Друг, но в первый раз вы же сами были виноваты, что обожглись, а теперь ты стал пугаться собственной тени. Ведь в отношении Ромеша вы с самого начала были наивны, как дети: ему и обман чужд, и по знанию шастр[45] он чуть ли не второй Шанкарачарья[46], а уж в литературе — сама Сарасвати в образе мужчины девятнадцатого века! Мне Ромеш с первого взгляда не понравился, много я видел на своем веку таких людей с высокими идеалами! Но мне же нельзя было слова сказать, вы считали, что такой недостойный, серенький человечек, как я, только и способен завидовать великим людям. Потом вы все-таки поняли, что великих людей лучше чтить на расстоянии, а родную сестру выдавать замуж за такого — далеко не безопасно. Но помни пословицу: «Занозу выгоняют занозой». И нечего тут хныкать, когда это единственное средство!
— Послушай, Окхой, я все равно не поверю, что ты первый из нас разгадал Ромеша, хоть повторяй мне это тысячу раз. Просто ты был зол на него и поэтому смотрел косо на все, что бы он ни делал, — и я вовсе не склонен приписывать это твоей необычайной прозорливости. Так вот что, где нужна хитрость, надейся на себя — от меня там проку не будет. И вообще мне Нолинакха совсем не нравится.
Когда Джогендро и Окхой входили в гостиную Онноды-бабу, они видели, как Хемнолини выскользнула оттуда через другую дверь. Окхой понял, что она заметила их из окна, когда они еще шли по улице. Усмехнувшись, он подсел к Онноде-бабу.
— Нолинакха говорил от чистого сердца, поэтому и слова его так легко проникают в душу каждого, — заметил он, наливая себе чай.
— Да, способный человек, — ответил Оннода-бабу.
— Он не просто способный, — воскликнул Окхой, — такого благочестивого человека редко встретишь.
Джогендро хоть и был участником заговора, но тут не стерпел.
— Не говори ты мне о благочестии, — воскликнул он, — избави боже нас от святош!
Лишь вчера он расточал бесчисленные похвалы благородству Нолинакхи и обругал клеветниками его противников!
— Как тебе не стыдно, Джоген, говорить такие вещи! — сказал Оннода-бабу. — Я скорее готов поверить, что те, кто кажутся нам на первый взгляд хорошими людьми, таковы и на самом деле, — пусть даже я и ошибусь иногда, но заподозрить добродетельного человека ради того, чтобы поддержать авторитет своего скудного разума, — на это я не способен! Нолинакха-бабу не повторял чужих слов, он черпал их из своего собственного духовного опыта, и мне они показались откровением. Откуда бы лицемеру знать, что такое правда? Истина — как золото, ее нельзя получить искусственным путем! Мне бы лично хотелось выразить Нолинакхе-бабу свою благодарность!
— Я опасаюсь только за его здоровье, — заметил Окхой.
— Как, разве он болен?
— Нет, не в этом дело: дни и ночи он проводит за изучением шастр и за молитвами и совершенно не заботится о себе.
— Это очень нехорошо, — проговорил Оннода-бабу. — Мы не имеем права разрушать свое тело; не нами оно создано. Если бы мне довелось с ним познакомиться, без сомнения, я бы в самый короткий срок восстановил его силы. Ведь для сохранения здоровья нужно придерживаться всего нескольких простейших правил: во-первых…
Джогендро потерял терпение.
— Отец, — воскликнул он, — зачем ты напрасно ломаешь себе голову над этим! Когда сегодня днем я увидел Нолинакху-бабу, то решил, что благочестивая жизнь как раз полезна для здоровья! Я даже хочу проверить это на себе. Посмотрю, что получится!
— Нет, Джоген, то, что говорит Окхой, вполне возможно! Сколько знаменитых людей гибнет в ранней молодости. Пренебрегая своим здоровьем, они наносят ущерб родине. Нельзя допустить, чтобы так случилось и на этот раз. Нолинакха не такой, каким ты его считаешь, Джоген. Это честный человек! Ему нужно беречь себя.
— Я приведу его к вам, — пообещал Окхой. — И хорошо, если вы все это ему объясните. Я помню, во время экзаменов вы мне давали настойку какого-то корня, она замечательно укрепляет силы. Для тех, кто живет интеллектуальным трудом, лучшего лекарства и не придумаешь! Если вы дадите Нолинакхе-бабу…
Джогендро сорвался с кресла.
— Ну, Окхой, я пошел! Ты с ума свести можешь! — воскликнул он. — Это уж чересчур! — и выбежал из комнаты.
Глава сорок вторая
Раньше, когда Оннода-бабу чувствовал себя хорошо, он постоянно испытывал на себе всякие лекарства — и европейские и индийские, но теперь он утратил всякий интерес к пилюлям. В настоящее время, когда здоровье его пошатнулось, он не только не говорил о нем, но даже, наоборот, старался скрыть свою слабость.
Сегодня он неожиданно задремал в кресле. Услышав на лестнице шаги, Хемнолини сняла с колен вышивание и направилась к двери, чтобы попросить брата не шуметь. Тут она увидела, что Джоген не один: вместе с ним пришел Нолинакха-бабу. Она хотела было убежать в другую комнату, но Джогендро окликнул ее:
— Хем, Нолинакха-бабу пришел, я хочу тебя с ним познакомить.
Хемнолини осталась. Нолинакха подошел к ней и, не поднимая глаз, поздоровался.
— Хем! — позвал Оннода-бабу, который к этому времени уже проснулся. Девушка подошла к нему и шепотом сообщила, что пришел Нолинакха-бабу.
Едва Джогендро с гостем вошли в комнату, как Оннода-бабу торопливо встал им навстречу.
— Для меня большое счастье видеть вас сегодня У себя в доме, — сказал он. — Хем, дорогая, куда ты уходишь, посиди здесь. Нолинакха-бабу, это моя дочь, Хем. Вчера мы вместе с ней слушали вашу речь и получили большое удовольствие. Как вы говорили: «То, что действительно принадлежит нам, мы никогда не можем утратить. Лишиться можно только того, что на самом деле тебе не принадлежало», — ведь в этих словах глубокий смысл, правда, Хем? «Только тогда проверяется, что принадлежит нам всецело, а что — нет, когда данная вещь ускользает из наших рук». У меня к вам есть одна просьба, Нолинакха-бабу. Вы оказали бы нам большую услугу, если бы иногда заходили побеседовать. Мы почти нигде не бываем. Поэтому, когда бы вы ни пришли — всегда застанете меня и мою дочь дома.
— Не принимайте меня за серьезного человека из-за того, что я наговорил в своей речи на собрании всяких умных вещей, — взглянув на смущенное лицо Хемнолини, ответил Нолинакха. — Студенты настойчиво упрашивали меня выступить, а я совершенно не умею отказывать людям в просьбах, но теперь я могу быть уверен, что меня не попросят выступить вторично! Студенты прямо говорят, что три четверти моей речи остались для них непонятными. Вы тоже там были, Джоген-бабу, не думайте, что моего сердца не тронули нетерпеливые взгляды, которые вы бросали на часы.
— Если я чего и не понял, — ответил Джоген, — то в этом повинен мой скудный ум, так что пусть это вас не тревожит.
— Все понять можно лишь в известном возрасте, Джоген, — заметил Оннода-бабу.
— По-моему, вообще нет необходимости понимать все когда бы то ни было, — проговорил Нолинакха.
— Однако, Нолин-бабу, мне хотелось бы вам сказать кое-что, — обратился Оннода-бабу к юноше. — Когда всевышний посылает на землю таких, как вы, для выполнения определенной миссии, они не должны пренебрегать своим здоровьем. Следовало бы напоминать тем, которые призваны наделять, что если лишишься капитала, то исчезнет и возможность одарять.
— Когда-нибудь вы узнаете меня лучше и убедитесь, что я вообще ничем на свете не пренебрегаю, — ответил Нолинакха. — В мир я пришел, как самый последний нищий, не владея ничем. С большим трудом, благодаря доброте многих людей, мало-помалу окрепло мое тело и развился разум. С моей стороны было бы слишком самонадеянно пренебрегать чем-нибудь. Человек не вправе разрушать то, что он не может создать сам.
— Совершенно верно. Вчера в своем выступлении вы говорили о чем-то в этом же духе.
— Ну, вы оставайтесь, а я пойду: у меня дело, — сказал, наконец, Джоген.
— Простите меня, пожалуйста, Джоген-бабу, — воскликнул Нолинакха, — уверяю вас, что надоедать людям не в моем характере! Я тоже ухожу. Идемте, мне с вами немного по пути.
— Нет, нет, не обращайте на меня внимания. Это я нигде не могу долго усидеть.
— Не беспокойтесь о Джогене, Нолин-бабу, заметил Оннода-бабу, — ему быстро все надоедает, трудно удержать его на одном месте.
Когда Джогендро ушел, Оннода-бабу спросил Нолинакху, где он живет. Нолинакха рассмеялся.
— Не могу сказать, чтобы у меня было какое-нибудь определенное место жительства. У меня много знакомых, каждый приглашает к себе, вот я и кочую от одного к другому. Мне это нравится, но иногда все-таки возникает потребность побыть одному. Поэтому Джоген-бабу снял для меня квартиру как раз в соседнем с вашим доме. Этот квартал, кажется, действительно очень тихий.
Оннода-бабу изъявил свою особую радость при таком сообщении, но будь он наблюдательнее, он заметил бы, как на мгновение исказилось от боли лицо Хемнолини, когда она услышала об этом. Ведь здесь жил раньше Ромеш.
Тем временем доложили, что чай подан, и все спустились в столовую.
— Хем, дорогая, — обратился Оннода-бабу к дочери, — налей Нолину-бабу чашку чая.
— Нет, Оннода-бабу, — проговорил Нолинакха, — я не буду пить чай.
— Ну, что вы, Нолин-бабу, хоть одну чашку, а не хотите, то отведайте хоть сладкого.
— Прошу меня извинить, но не могу.
— Вы же сами доктор, не мне вам объяснять, что выпить немного горячей воды под предлогом чаепития через три-четыре часа после полуденной трапезы для желудка очень полезно. Конечно, если вы не привыкли, то можно вам приготовить совсем слабый чай.
Нолинакха в нерешительности посмотрел на Хемнолини. По выражению ее лица он понял, что ей кажется, будто она разгадала причину его страха перед чаем, и возмущена. Тогда, глядя прямо на девушку, он заговорил:
— Это совсем не то, что вы предполагаете, не думайте, что я брезгаю садиться за ваш стол. Раньше я постоянно пил чай, да и теперь еще люблю его аромат: мне приятно смотреть, как его пьете вы. Но вы, вероятно, не знаете, что моя мать очень ревностно относится к соблюдению обрядов, а у нее, кроме меня, никого нет, и я хочу быть как можно ближе к ней, поэтому и не пью чаю. Но я вполне разделяю то удовольствие, которое испытываете сейчас вы во время чаепития, и, следовательно, пользуюсь вашим гостеприимством.
Вначале разговоры Нолинакхи задевали Хемнолини. Ей казалось, что Нолинакха не раскрывает перед ними своего истинного «я», а лишь пытается укрыться за потоком слов. Хемнолини не понимала, что при первом знакомстве Нолинакхе было очень трудно преодолеть свою застенчивость, поэтому очень часто он становился резок, что не было присуще его характеру. Даже когда он начинал высказывать то, что действительно думал, в его интонациях было что-то неестественное, и он сам понимал это. Вот почему, когда Джогендро не выдержал и собрался уходить, он почувствовал угрызения совести за свои речи и попытался сбежать.
Но стоило Нолинакхе заговорить о матери, как Хемнолини стала смотреть на него с уважением. Ее трогало то, что при одном только упоминании о ней лицо юноши озарялось светом глубокой и чистой любви. Ей хотелось еще поговорить с Нолинакхой о его матери, но она стеснялась.
— Вот как! — поспешил откликнуться Оннода-бабу на объяснение Нолинакхи. — Знай я это раньше, я никогда не стал бы предлагать вам чаю. Извините меня, пожалуйста!
— Зачем же из-за того, что я не пью чаю, лишать меня той любезности, с которой вы предложили мне его, — слегка улыбнувшись, ответил Нолинакха.
Когда Нолинакха ушел, Хемнолини с отцом поднялись в гостиную. Девушка стала читать ему статьи из бенгальского журнала, но вскоре отец уснул. С некоторых пор такие приступы слабости стали для него обычными.
Глава сорок третья
За короткое время знакомство Нолинакхи с Оннодой-бабу и его дочерью выросло в настоящую дружбу. Сначала Хемнолини думала, что с Нолинакхой можно говорить только о вопросах сугубо отвлеченного характера, она и не предполагала, что с ним, как с обыкновенным человеком, можно беседовать на житейские темы. И все-таки среди шуток и веселых разговоров он всегда сохранял какой-то отсутствующий вид.
Однажды, когда Нолинакха беседовал с Оннодой-бабу и Хемнолини, в комнату вошел Джоген и возбужденно заговорил:
— Ты знаешь, отец, члены «Брахмо Самадж» стали теперь называть нас учениками Нолинакхи-бабу. Из-за этого я сегодня поссорился с Порешем.
— Но я не вижу в этом для нас ничего обидного, — слегка улыбнувшись, заметил Оннода-бабу. — Я чувствовал бы стыд, если бы состоял в обществе, где нет ни одного ученика, а есть только учителя. Там из-за шума желающих поучать невозможно было бы чему-нибудь научиться.
— И я присоединяюсь к вам, Оннода-бабу, — поддержал его Нолинакха. — Давайте создадим общество учеников и будем отыскивать, где есть возможность получить знания.
— Довольно, тут нет ничего смешного, — нетерпеливо сказал Джогендро. — Никто не может стать вашим другом или родственником, Нолин-бабу, без того, чтобы его не обозвали вашим учеником. От такого прозвища шуткой не отделаешься. Перестаньте заниматься подобными вещами.
— Объясните, что вы имеете в виду? — спросил Нолинакха.
— Я же слышал, что вы дышите через ноздри согласно системе йогов, созерцаете солнце в час восхода, не садитесь за пищу, пока не выполните различных обрядов, и благодаря всему этому бы, как говорят в обществе, «выпали из ножен».
Стыдясь за резкую выходку брата, Хемнолини низко опустила голову. Нолинакха же улыбнулся:
— Конечно, потерять свои ножны считается в обществе преступлением. Но идет ли речь о мече, или о человеке, разве он целиком находится в ножнах? Та часть, которая вынуждена оставаться в ножнах, у всех мечей одинакова, — только рукоятка разукрашена в соответствии с желанием и искусством мастера. Ведь не станете же вы отрицать, что вне ножен человеческого общества должно остаться место для проявления индивидуальных особенностей каждого. Но меня удивляет, как могут люди видеть и обсуждать те безобидные вещи, которые я совершаю дома втайне от всех?
— Да разве вам не известно, Нолин-бабу, что принявшие на свои плечи бремя ответственности за мировой прогресс считают одной из своих первейших обязанностей выяснять, что делается в чужих домах; они обладают даже способностью сами пополнять недостающие сведения. Без этого прекратилось бы совершенствование мира. Кроме того, Нолин-бабу, если вы делаете что-либо такое, что не свойственно остальным, то, как ни скрывай этого, все равно заметят, в то время как на обычные занятия никто и внимания не обратит. Вот вам пример: ваши упражнения на крыше заметила Хем и рассказала об этом отцу, хотя она и не брала на себя заботу о вашем воспитании.
Хемнолини вспыхнула от негодования и уже собиралась что-то сказать, когда Нолинакха остановил ее:
— Вам нечего стыдиться. Если вы, выходя на крышу подышать воздухом, видите, как я совершаю утренние молитвы, то вы в этом ничуть не виноваты. Нечего стыдиться того, что у вас есть глаза, все мы повинны в том же.
— К тому же, — заметил Оннода-бабу, — Хем мне не высказывала ни малейшего недовольства по поводу ваших занятий, — а напротив, с уважением расспрашивала меня о совершаемых вами обрядах.
— Я этого совершенно не понимаю! — воскликнул Джогендро. — Я не испытываю никакого неудобства от простой жизни с ее обычными нормами поведения и не считаю, что выполнение каких-то тайных ритуалов дает особое преимущество, — скорее наоборот, от этого человек теряет душевное равновесие и делается ограниченным. Но, пожалуйста, не сердитесь на меня за эти слова, ведь я обыкновенный человек и на земле занимаю одно из самых скромных мест. Достичь тех, кто восседает наверху, я не могу иначе, чем запуская в них камнями. Таких, как я, бесчисленное множество, поэтому если вы вознеслись на небывалую высоту, то непременно станете мишенью.
— Но ведь камни бывают разные: один тебя лишь слегка заденет, другой — метку оставит. Если сказать о человеке, что он сходит с ума или ребячится, это никого не обидит; но когда человека обвинят в том, что он впадает в благочестие, становится наставником, пытается собирать вокруг себя учеников, никакого смеха не хватит, чтобы отшутиться.
— Я снова прошу вас, не вздумайте сердиться на меня. Занимайтесь, чем хотите, у себя на крыше, да и кто я такой, чтобы запретить вам это? Я хочу лишь сказать, что если ваше поведение не будет выходить за пределы общепринятого, то и разговоры прекратятся. Для меня спокойнее поступать именно так, как все. Стоит лишь шагнуть дальше определенной границы — собирается толпа: осыпает ли она тебя бранью, или поклоняется — не все ли равно? Но быть в центре внимания этой толпы весьма неприятно!
— Ну, вы себе противоречите, — ответил Нолинакха. — Вы же силой хотели стянуть меня с крыши на нижний этаж, с его прозой, так почему же сами теперь хотите сбежать оттуда?
— На сегодня с меня довольно. Хватит! Я иду гулять! — воскликнул Джоген.
После его ухода Хемнолини, низко опустив голову, все свое внимание почему-то сосредоточила на бахроме скатерти. Приглядевшись повнимательнее, можно было бы заметить, что на ресницах ее дрожат слезы.
Ежедневно беседуя с Нолинакхой, девушка почувствовала ограниченность своего духовного мира и загорелась желанием идти по пути, избранному Нолинакхой. В период сильных переживаний, когда она не находила опоры ни в окружающих, ни в своей душе, Нолинакха раскрыл перед ней новый мир. И вот с недавнего времени ею овладела идея подвижничества, строгого выполнения всех обрядов. Ей казалось, что в одном этом ум находит надежную опору. Кроме того, горе не может существовать только как душевное состояние: оно жаждет проявить себя в каком-нибудь аскетическом подвиге. До сих пор из-за боязни подвергнуться осуждению окружающих Хемнолини не могла этого сделать, она вынашивала свои страдания в глубине души. Когда же, следуя системе Нолинакхи, Хемнолини отказалась от мясной пищи и стала на путь строгого воздержания, она успокоилась. Она убрала с пола своей спальни все ковры и цыновки, а постель занавесила пологом, все остальные вещи были убраны из комнаты. Каждый день она сама мыла пол и оставляла на подносе немного цветов. После купанья, надев белое сари, Хемнолини усаживалась на пол; через распахнутые окна и двери в комнату свободно лился солнечный свет, и под воздействием неба, ветра и света она чувствовала себя будто обновленной. Оннода-бабу не мог полностью присоединиться к Хемнолини, но был счастлив, замечая по выражению лица дочери, какое удовлетворение доставляет ей исполнение всех этих обрядов. Теперь, когда приходил Нолинакха, они втроем садились на пол в комнате Хемнолини и вели беседу.
Джогендро сразу же взбунтовался:
— Что это происходит? Вы превратили дом в какое-то святилище. Такому грешнику, как я, тут некуда и ногу поставить.
Будь это раньше, Хемнолини возмутила бы подобная шутка Джогендро, а Оннода-бабу и сейчас порой вспыхивал гневом от его слов, но теперь Хемнолини с Нолинакхой отвечали юноше лишь спокойной и ласковой улыбкой. Девушка обрела надежную, незыблемую опору и считала слабостью стыдиться ее. Хемнолини знала, что люди смеются над ней, находя ее поведение нелепым, но преклонение и вера в Нолинакху защищали ее от всего мира, и люди больше не могли смутить ее.
Однажды, когда после утреннего омовения, она, окончив молитвы, сидела неподвижно у окна своей тихой комнатки, к ней вошли Оннода-бабу и Нолинакха. Сердце Хемнолини в тот момент было преисполнено умиротворения. Опустившись на колени сначала перед Нолинакхой, а затем перед отцом, она совершила пронам и взяла прах от их ног[47]. Нолинакха пришел в замешательство.
— Не волнуйся, Нолин-бабу, — проговорил Оннода. — Хем только выполнила свой долг.
Нолинакха никогда еще не приходил к ним так рано, и Хемнолини вопросительно взглянула на него.
— Я получил вести из Бенацеса, моя мать серьезно больна, — проговорил Нолинакха, — и сегодня с вечерним поездом я решил отправиться домой. Днем мне предстоит много дел, поэтому я зашел проститься с вами теперь.
— Что ж, делать нечего. Дай бог, чтобы ваша мать быстро поправилась, — сказал Оннода-бабу. — Мы в вечном долгу перед вами за ту поддержку, которую вы нам оказывали в последнее время.
— Уверяю, что от вас я получил гораздо больше. Вы проявили такую заботливость, какую только можно проявить о соседе. Больше того: глубина вашей веры раскрыла передо мной в новом свете многие из важных вопросов, над которыми я долго раздумывал. Я наблюдал вашу жизнь, и это придало моим размышлениям и ритуалам большую целеустремленность. Я хорошо понял, как быстро и легко можно достичь успеха благодаря помощи и сочувствию ближних.
Самое удивительное здесь то, что мы все время чувствовали, будто нам чего-то очень недостает, но не могли понять, чего именно, до того самого момента, пока не встретили вас. Тогда мы поняли, что именно вас нам и не хватало. Ведь мы настоящие домоседы, очень редко бываем на людях и не питаем особого пристрастия к собраниям. Я-то еще иногда выхожу, а Хем очень трудно вытащить куда-нибудь. Но тогда случилось что-то необычайное: как только мы услышали от Джогена, что вы будете произносить речь, то без всяких колебаний отправились на собрание; такого случая еще никогда не бывало, — уверяю вас, Нолин-бабу! Отсюда вы можете сделать вывод, что вы нам были необходимы, — иначе так бы не случилось. Сама судьба сделала нас вашими должниками.
— Я хотел, чтобы и вы знали, — сказал в ответ Нолинакха, — что никому, кроме вас, я не рассказывал о моей личной жизни. Высшее учение об искренности и состоит в способности открывать правду. Лишь благодаря вам я смог удовлетворить эту важную потребность высказаться. Поэтому никогда не забывайте о том, что и я нуждался в вас.
Хемнолини не проронила ни слова. Она сидела молча, устремив свой взор на проникающие через окно солнечные лучи, которые падали на пол комнаты. Когда Нолинакха собрался уходить, девушка сказала:
— Дайте нам знать о здоровье вашей матери.
И едва он поднялся с кресла, Хемнолини снова склонилась перед ним в глубоком поклоне.
Глава сорок четвертая
Последнее время Окхоя не было видно в доме Онноды-бабу. Но в тот день, когда Нолинакха уехал в Бенарес, он снова появился с Джогендро за чайным столом. Про себя он решил, что по степени раздражения Хемнолини при виде его, Окхоя, легко будет определить, насколько еще помнит она Ромеша. Сегодня Окхой нашел Хемнолини совершенно спокойной. Увидев его, она ничуть не изменилась в лице.
— Что вас так давно не было видно? — приветливо спросила девушка.
— Разве я достоин того, чтобы видеть меня ежедневно? — проговорил Окхой.
— Если бы недостойные лишены были права ходить в гости, то многим из нас пришлось бы обречь себя на полное одиночество, — заметила Хемнолини.
— Окхой думал одной скромностью завоевать награду, — проговорил Джогендро, — а Хем превзошла его и показала, что скромность присуща всем людям вообще. Я тоже хочу кое-что сказать об этом. С такими, как мы, обыкновенными людьми, можно видеться ежедневно, но с людьми необыкновенными лучше встречаться изредка, в большой дозе трудно их принимать. Поэтому-то они и скитаются по лесам, горам и пещерам, а если бы своим постоянным местом пребывания они избрали человеческое общество, то таким простакам, как мы с Окхоем, пришлось бы бежать в леса и горы.
Хемнолини поняла, в кого целил Джогендро, но ничего не ответила. Она приготовила три чашки чая и поставила их перед отцом, Окхоем и Джогендро.
— А ты разве не будешь пить чай? — спросил ее Джогендро. Хемнолини почувствовала, что сейчас ей придется выслушать грубость, но все-таки со спокойной решимостью ответила:
— Нет, я бросила пить чай.
— Да тут, я вижу, начался настоящий аскетизм! Вероятно, в чайных листьях недостаточно мистической силы, ведь этим обладает лишь миробалан[48]. Что за несчастье! Хем, прекрати все это. Если одной чашкой чая ты нарушишь свое воздержание, ничего не произойдет! В этой семье суровые ограничения надолго не задерживаются, и незачем среди своих раздувать это никчемное дело.
С этими словами Джогендро встал, сам налил еще одну чашку чая и поставил ее перед Хемнолини. Не прикоснувшись к ней, девушка сказала:
— Почему ты пьешь чай, отец, и ничего не ешь?
У Онноды-бабу дрожали руки и голос, когда он ответил:
— Правду сказать, дорогая, за этим столом мне сегодня кусок в горло не идет. Долго я старался молча сносить выходки Джогена. Я знаю, что при моем состоянии здоровья стоит мне начать говорить, и я не могу остановиться, — все выскажу, а потом придется жалеть об этом.
— Не сердись, пожалуйста, отец, — сказала Хемнолини, подойдя к его креслу. — Дада хочет угостить меня чаем, ну и хорошо, меня это ничуть не огорчает. А тебе, отец, надо что-нибудь съесть. Я знаю, ты всегда плохо себя чувствуешь, если пьешь один чай. — И Хемнолини пододвинула отцу блюдо. Оннода-бабу неохотно принялся за еду.
Вернувшись на свое место, Хемнолини собралась уже выпить налитый Джогендро чай, как вдруг Окхой поспешно вскочил:
— Простите, пожалуйста, можно мне взять эту чашку? Я уже выпил свою.
Джогендро подошел к Хемнолини и, взяв у нее чашку, обратился к Онноде-бабу:
— Я нехорошо поступил, прости меня, отец.
Оннода-бабу ничего не ответил, но из глаз его закапали слезы.
Джогендро и Окхой тихо вышли из комнаты. Оннода-бабу, выпив чай, встал и, опираясь на руку Хемнолини, неверными шагами поднялся наверх.
Этой же ночью у Онноды-бабу был приступ сильных болей. Приглашенный доктор, осмотрев его, сказал, что у него не в порядке печень, — болезнь еще не запущена, год или несколько месяцев, проведенные на западе, и хороший климат полностью восстановят его здоровье.
Когда боли утихли и доктор ушел, Оннода-бабу сказал:
— Хем, дорогая, уедем на некоторое время в Бенарес.
Такая же мысль возникла и у Хемнолини. Стоило только уехать Нолинакхе, как девушка почувствовала, что рвение, с которым она раньше выполняла все ритуалы, значительно ослабло. Одно присутствие Нолинакхи, казалось, придавало ей твердость в выполнении ежедневных обрядов. Само лицо Нолинакхи светилось непреклонной верой и невозмутимым спокойствием, и это всегда воодушевляло Хемнолини. В отсутствие же Нолинакхи какая-то вялость сменила ее энтузиазм. Поэтому она теперь с еще большей настойчивостью следовала его указаниям, выполняя их особенно тщательно. Но от этого вместо покоя ее охватывало такое отчаяние, что она не могла сдержать слез. За чайным столом она старалась быть гостеприимной, но на сердце ее лежала какая-то тяжесть. Снова с удвоенной силой овладевали ею мучительные воспоминания о прошлом, и снова ее бесприютная и одинокая душа готова была заметаться с мучительными стонами. Поэтому, когда Оннода-бабу предложил поехать в Бенарес, она поспешила ответить:
— Это было бы очень хорошо, отец.
На следующий день, заметив какие-то приготовления, Джогендро спросил, в чем дело.
— Мы уезжаем на запад, — ответил Оннода.
— Куда именно?
— Сначала попутешествуем, а там поселимся, где понравится.
Сказать Джогендро прямо, что они собираются в Бенарес, он не решился.
— Жаль, что не могу поехать с вами, — заметил Джогендро. — Я послал заявление на место главного учителя и жду ответа.
Глава сорок пятая
Ранним утром Ромеш возвратился из Аллахабада в Гаджипур. Путников на дороге попадалось мало. Придорожные деревья замерли, будто окоченев от зимнего холода в своем легком лиственном наряде. Над пригородами, как нахохлившийся спящий лебедь, застыла белоснежная пелена непроницаемого тумана. Все время, пока Ромеш ехал по этой безлюдной дороге, плотно завернувшись в теплое пальто, сердце его учащенно билось.
Остановив экипаж около бунгало, он соскочил на землю. Он думал, что Комола слышала шум подъехавшего экипажа и, наверно, уже вышла на веранду. В Аллахабаде Ромеш купил дорогое ожерелье, которое хотел сам надеть на шею Комоле, и сейчас вынул футляр из глубокого кармана своего пальто.
Подойдя к самому дому, он увидел, что Бишон, безмятежно спит на террасе, а двери дома заперты. На лице Ромеша отразилось разочарование.
— Бишон! — позвал он довольно громко, в надежде, что разбудит кое-кого и внутри дома. Ромеша задело, что ему приходилось ждать пробуждения так долго, ведь сам он почти всю ночь не мог заснуть.
Ни от второго, ни от третьего оклика Бишон не проснулся, так что в конце концов его пришлось растолкать.
— Госпожа дома? — спросил Ромеш бессмысленно глядящего на него сторожа.
Сначала Бишон словно не понимал, что ему говорят, а затем вдруг очнулся.
— Да, да, она в доме, — сказал он, засыпая.
От толчка Ромеша дверь распахнулась. Он вошел, обыскал все комнаты — нигде никого не было!
— Комола! — громко позвал он. Никакого ответа. Он осмотрел весь сад, дошел до дерева ним, побывал в кухне, в комнатах слуг и в конюшне, но Комолы нигде не нашел.
Тем временем взошло солнце, загалдели вороны; неся кувшины на голове, показались группы девушек, они спешили за водой к каменному бассейну около бунгало. С противоположной стороны дороги доносилось разноголосое пение женщин, растирающих зерно во дворах своих хижин.
Ромеш вернулся в бунгало и увидел, что Бишон по-прежнему спит глубоким сном. Тогда он наклонился и принялся трясти его изо всех сил. Тут только он почувствовал, что от слуги пахнет пальмовым вином.
От непрестанных яростных толчков Бишон, наконец, кое-как пришел в себя и с трудом поднялся.
— Где госпожа? — повторил свой вопрос Ромеш.
— А разве она не дома? — пробормотал Бишон.
— Про какой дом ты говоришь?
— Но вчера-то она сюда пришла.
— А потом куда-нибудь уходила?
Разинув рот, Бишон продолжал бессмысленно смотреть на Ромеша.
В это время явился Умеш в новом дхоти, с покрасневшими глазами, размахивая рубашкой. Ромеш обратился к нему:
— Где мать, Умеш?
— Она здесь со вчерашнего вечера, — был ответ.
— А ты где был?
— Вчера вечером она отослала меня в дом Сидху-бабу, на праздник.
В это время извозчик напомнил Ромешу, что он еще не расплатился.
Тогда на этом же экипаже Ромеш тотчас отправился в дом дяди. Войдя, он заметил, что в доме царит страшный переполох. Ромеш подумал, не заболела ли Комола. Но затем узнал, что вчера, вскоре после сумерек, Уми неожиданно стала громко плакать, личико ее посинело, ручки и ножки похолодели, и это всех страшно перепугало. Дом был поднят на ноги, — всю ночь никто не ложился спать.
Ромеш подумал, что из-за болезни Уми вчера вернулась сюда и Комола. Он обратился к Бипину:
— Комола, наверно, очень тревожится о девочке?
Бипин точно не знал, Приехала вчера Комола или нет. И на вопрос Ромеша неопределенно ответил:
— Да, ведь она очень любит Уми, что и говорить. Но доктор утверждает, что опасаться нечего.
Как бы то ни было, из-за всех этих препятствий радостное волнение и мечты покинули Ромеша. Ему казалось, что сам рок препятствует их встрече.
В это время из бунгало пришел Умеш. Он имел доступ на женскую половину дома, так как сумел завоевать симпатию Шойлоджи.
Увидев входящего в комнату мальчика и боясь, как бы он не разбудил Уми, Шойлоджа вышла с ним за дверь.
— Где мать, госпожа? — спросил он ее.
— Как «Где», ты же вчера вместе с ней остался в бунгало! — удивленно ответила Шойла. — Поздно вечером я собиралась послать к ней нашу Лочминию, но из-за болезни малышки не смогла отпустить ее.
Улыбка сбежала с лица Умеша.
— Я не нашел ее в том доме, — проговорил он.
— Что ты говоришь! — воскликнула с тревогой Шойла. — А где же ты был этой ночью?
— Мать не позволила мне остаться. Как только она пришла в бунгало, сразу отослала меня к Сидху-бабу смотреть представление.
— Я вижу, ты очень послушен! А где был Бишон?
— Бишон ничего не может рассказать, вчера он выпил чересчур много.
— Беги скорее, зови хозяина.
Едва Бипин вошел, Шойлоджа кинулась к нему:
— Ты знаешь, какое несчастье случилось?
Бипин побледнел.
— Нет, а что такое? — взволнованно спросил он.
— Комола вчера вечером ушла к себе в бунгало, а сегодня ее не нашли там.
— А разве она не вернулась сюда вчера вечером?
— Конечно, нет! Я хотела за ней послать, когда Уми заболела, да некого было! Ромеш-бабу приехал?
— Да, не найдя ее в бунгало, он решил, что она, наверное, здесь, и поэтому сейчас пришел к нам.
— Немедленно отправляйся на розыски вместе с ним! Уми спит, ей сейчас уже совсем хорошо.
В экипаже Ромеша молодые люди возвратились в бунгало. После долгих поисков и расспросов им удалось, наконец, выяснить следующее: вчера вечером Комола ушла одна к Гангу. Бишон вызвался проводить ее, но она отказалась, дала ему рупию и вернула домой. Он сел сторожить у садовой калитки, — тут перед ним оказался продавец пальмового вина с кувшином, наполненным свежим пенящимся напитком. Что происходило на свете после этого, — Бишону было уже не вполне ясно. Он мог указать лишь тропинку, по которой Комола ушла к Гангу.
Ромеш, Бипин и Умеш отправились в поисках Комолы по этой тропинке, бежавшей среди полей, еще покрытых утренней росой. Умеш, как хищный зверь, у которого похитили детеныша, бросал по сторонам тревожные и пристальные взгляды. Выйдя на песчаную отмель, все трое сразу остановились. Здесь никого не было. Засверкала в лучах восходящего солнца серая галька. Никого!
— Мать, где ты, мать?! — отчаянно крикнул Умеш, но лишь эхо откликнулось ему с далекого противоположного берега, — и все!
Продолжая розыски, Умеш вдруг заметил вдали на отмели что-то белое. Подбежав, он увидел у самой воды завернутую в платок связку ключей. С криком: «Что это у тебя?» — к нему бросился Ромеш и узнал ключи Комолы. Там, где они лежали, был небольшой песчаный нанос. На чистом пеоке остались глубокие следы маленьких ног. Они обрывались у самой реки. Зоркий глаз Умеша заметил какой-то предмет, сверкавший в неглубокой воде. Он тотчас достал его, и все увидели маленькую золотую брошь с эмалью, — это был подарок Ромеша.
Все следы вели в Ганг. Умеш, не в силах сдержаться, с криком: «Мать, о мать!» — бросился в воду. В этом месте было мелко. Он как безумный барахтался в воде, царапая дно руками, пока не замутил всю воду.
Ромеш стоял в оцепенении.
— Что ты делаешь, Умеш! — крикнул Бипин. — Вылезай!
Но Умеш, снова погружаясь с головой в воду, кричал:
— Я не уйду, не уйду отсюда! Мать, ты не могла покинуть меня!
Бипин перепугался. Но Умеш плавал, как рыба, и ему было очень трудно утонуть самому. Долго он барахтался в воде, наконец, обессиленный, упал на берегу и принялся кататься по песку с громким плачем.
— Пойдемте, Ромеш-бабу, — произнес Бипин, тронув за плечо неподвижно стоявшего Ромеша. — Здесь оставаться бесполезно. Надо сообщить полиции, чтобы начали поиски!
В доме Шойлоджи в этот день не ели и не ложились спать. Плач раздавался по всему дому. Рыбаки на лодке обшарили сетью реку далеко вокруг. Полиция начала розыски. Со станции были получены достоверные сведения, что ни одна женщина-бенгалка, по описанию похожая на Комолу, вчера на поезд не садилась.
В этот же день к вечеру приехал Чокроборти. Когда он внимательно выслушал рассказы о поведении Комолы за последние несколько дней, у него не оставалось сомнений: Комола бросилась в Ганг.
— Поэтому и Уми вчера ночью заплакала и вела себя так странно, — заметила Лочминия. — Надо было отогнать от ребенка злых духов.
В груди Ромеша все будто окаменело, — у него даже не было слез.
«Комола пришла ко мне из Ганга и снова исчезла в нем, как чистый цветок, принесенный во время праздника Пуджа в дар Гангу», — думал он.
Когда село солнце, Ромеш снова пришел на берег реки. Остановившись там, где лежала связка ключей, он еще раз взглянул на следы ног на песке, а затем, сняв башмаки и подвернув дхоти, вошел в воду, вынул из футляра купленное ожерелье и бросил его далеко на середину реки.
Никто в доме дяди и не заметил, когда Ромеш покинул Гаджипур.
Глава сорок шестая
Ромешу казалось, что у него теперь не осталось ничего: ни дела, ни места, где бы он мог жить постоянно.
Нельзя сказать, чтобы он совершенно перестал думать о Хемнолини, но он отгонял мысли о ней. «Страшный удар, обрушившийся так внезапно, навсегда сделал меня недостойным этого мира, — думал он. — Пораженному молнией дереву нет места среди цветущих зарослей!»
Ромеш стал путешествовать, нигде не задерживаясь больше одного дня. Он плыл на лодке, любуясь великолепием бенаресских набережных; поднимался на Кутуб Минар в Дели, ходил смотреть при лунном свете на Тадж Махал в Агре, посетил Золотой храм в Амритсаре, оттуда отправился в Раджпутану посмотреть на храм, сооруженный на вершине горы Абу. Таким образом, ни душа его, ни тело не знали покоя.
Наконец, утомленный странствиями, юноша почувствовал в душе настойчивую тоску по дому. Его не покидали воспоминания о прошлой спокойной жизни в родном доме и сладостные мечты об устройстве своего собственного домашнего очага. И вот его скитания, в которых он старался забыть свое горе, внезапно кончились: с глубоким вздохом облегчения он купил билет до Калькутты и сел в поезд.
В Калькутте он не мог сразу решиться заглянуть в знакомый переулок в Колутоле; неизвестно, что его ожидало там! Его мучило опасение, что там могли произойти какие-нибудь серьезные перемены. Однажды он уже дошел до угла переулка, но повернул назад. На следующий день, вечером, собравшись, наконец, с духом, Ромеш приблизился к знакомому дому. Он нашел все двери и окна закрытыми, — ничто не указывало на присутствие в доме хозяев. Надеясь, что Сукхон во всяком случае стережет дом, он окликнул слугу и постучал в дверь, — никто не ответил.
Сосед Чондромохон сидел у своего дома, покуривая трубку. Увидев Ромеша, он воскликнул:
— Кого я вижу? Неужели Ромеш? Ну, как поживаете? В доме у Онноды-бабу сейчас никого нет.
— Не знаете ли вы, куда они уехали?
— Точно не могу сказать, знаю только, что отправились на запад.
— Кто же именно поехал?
— Оннода-бабу с дочерью.
— Вы хорошо знаете, что с ними больше никого не было?
— Разумеется! Я видел их как раз, когда они уезжали.
Тбгда Ромеш не удержался, чтобы не сказать:
— Мне говорил один знакомый, что с ними поехал господин по имени Нолин-бабу.
— Вы получили неверные сведения. Нолин-бабу, правда, жил некоторое время на вашей квартире, но за два-три дня до отъезда Онноды-бабу отправился в Бенарес.
Тогда Ромеш стал выспрашивать Чондромохона о Нолине-бабу. Полное его имя Нолинакха Чоттопадхайя. Рассказывали, что он раньше практиковал в Рангпуре, а теперь живет с матерью в Бенаресе. После недолгого молчания Ромеш спросил, не знает ли Чондромохон, где теперь Джоген.
Чондромохон сообщил, что Джогендро получил место старшего учителя в Майменсинге, в школе, основанной одним землевладельцем, и уехал в Бишайпур.
— Что-то вас давно не видно, Ромеш-бабу, — в свою очередь приступил к расспросам Чондромохон, где вы были все это время?
Ромешу больше незачем было скрываться, и он ответил, что практиковал в Гаджипуре.
— И теперь туда же собираетесь?
— Нет. Я жил там недолго. А теперь еще не решил, куда направиться.
Вскоре после того как ушел Ромеш, явился Окхой. Уезжая, Джогендро просил его иногда проверять, сторожат ли дом. Окхой же, как известно, никогда не относился небрежно к порученным ему обязанностям, поэтому время от времени он заглядывал сюда, чтобы убедиться, на месте ли один из двух сторожей оставленных Оннодой-бабу.
— Только что здесь был Ромеш-бабу, — сообщил Окхою Чондромохон.
— Что вы говорите! Зачем же он приходил?
— Не знаю, он все расспрашивал меня об Онноде-бабу. У него такой измученный вид, что сразу и не скажешь, кто это. Я бы так и не узнал его, если бы он не окликнул слугу.
— А где он сейчас живет, вы спрашивали?
— Все это время он жил в Гаджипуре, а теперь уехал оттуда и еще не решил, где поселиться.
Окхой ограничился неопределенным восклицанием и Нанялся своими делами.
«Какую ужасную шутку может сыграть судьба! — думал Ромеш, возвращаясь к себе домой. — С одной стороны — встреча моя с Комолой, с другой — Хемнолини с Нолинакхой, — все это похоже на роман, притом весьма скверно написанный. Придумать столь запутанный сюжет под силу только такому бесстрашному романисту, как судьба. В жизни случаются такие необычайные происшествия, которые робкий писатель не посмеет представить даже в виде фантастического романа».
Но Ромеш надеялся, что теперь он навсегда освободился от сетей неразрешимых загадок, опутавших его жизнь, и судьба в последней главе этого сложного романа не отнесется к нему жестоко.
Джогендро занимал в Бишайпуре небольшой одноэтажный домик, неподалеку от резиденции местного заминдара[49]. Однажды утром он читал газету, когда какой-то человек вручил ему письмо. Увидев подпись на конверте, Джогендро остолбенел от изумления. Он раскрыл письмо, — действительно, это писал Ромеш. Он ждет его в бакалейной лавочке в Бишайпуре и хочет поговорить с ним о важном деле.
Джогендро тотчас вскочил с кресла. Правда, он был вынужден однажды выругать Ромеша, — но все-таки это друг его детства, а он в этой глуши так давно лишен всякого общества. Прогнать Ромеша он не мог. Кроме того, к радости видеть его здесь примешивалась и немалая доля любопытства. А главное, Хемнолини тут не было, и его присутствие не могло служить причиной опасений.
Присоединившись к подателю письма, Джогендро сам отправился разыскивать Ромеша. Он нашел его сидящим на пустом бидоне из-под керосина. Лавочник предложил было ему покурить трубку, которую он держал специально для брахманов, но, услышав, что господин в очках не курит, отнес его к разряду городских диковинок. После этого с обеих сторон никаких попыток продолжать знакомство не было.
Джогендро стремительно ворвался в комнатку и, схватив Ромеша за руки, заставил подняться.
— Ты невыносим! — заговорил он. — Ну что с тобой поделаешь! Все такой же нерешительный. Надо было сразу прийти ко мне, так нет, замер на полпути к дому в бакалейной лавке, среди ароматов патоки и жареного риса!
Ошеломленный Ромеш только слабо улыбался. По дороге Джогендро болтал без умолку.
— Пути господни неисповедимы! — говорил он. — Всевышний был настолько добр, что создал меня коренным городским жителем, так неужели он теперь похоронит меня до конца дней моих в этой ужасной деревушке?
— Почему, здесь не плохое место, — проговорил Ромеш, оглядываясь по сторонам.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Здесь так мало людей…
— Вот поэтому-то я испытываю неодолимое желание сделать его более пустынным, избавив еще от одного человека, то есть от себя самого.
— Ну, во всяком случае, если говорить о душевном покое…
— Не говори мне, пожалуйста, об этом! Некоторое время я тут прямо задыхался от «душевного покоя» и стараюсь, насколько могу, не упускать случаев нарушать его. Вот теперь начались потасовки с секретарем заминдара. Да и господина заминдара я так хорошо познакомил со своим характером, что, думаю, теперь он поостережется влиять на меня. Он хотел, чтобы я восхвалял его в английских газетах, но я вполне доходчиво объяснил ему, что имею свое независимое мнение. И все-таки не моя заслуга, что меня еще терпят здесь. Я очень по нраву пришелся здешнему судье — из страха перед ним заминдар и не увольняет меня. В тот же день, как я прочту в газете о том, что судья перевелся в другое место, — будет ясно, что солнце моего учительства на бишайпурском горизонте закатилось. А пока у меня единственный собеседник — собака Панч. Взгляды же, которыми меня награждают остальные, никак нельзя назвать благосклонными.
Наконец, они пришли на квартиру Джогендро, и Ромеш опустился в кресло:
— Нет, нет, подожди! — проговорил Джоген. — Я знаю, что у тебя есть скверная привычка совершать омовения по утрам. Пойди выкупайся. А тем временем я еще раз вскипячу чайник. Под предлогом гостеприимства я, таким образом, попью чай вторично.
Так, за едой, разговорами и отдыхом прошел весь день. И в течение всего дня Джогендро не давал Ромешу упомянуть о том важном деле, ради которого он приехал сюда. В сумерки, после вечерней трапезы, они придвинули свои кресла поближе к столу, освещенному керосиновой лампой. Где-то рядом выли шакалы, ночь за окном наполнилась стрекотом цикад. Наконец, Ромеш заговорил:
— Знаешь ли Джоген, о чем я приехал рассказать тебе? Однажды ты задал мне один вопрос, но тогда еще рано было отвечать на него, теперь к этому больше нет препятствий.
Сказав это, Ромеш несколько минут сидел молча. Затем постепенно изложил всю историю с начала до конца. Временами его голос дрожал и прерывался, иногда он на несколько минут замолкал совсем. Джогендро слушал, не произнося ни слова.
Когда повествование было окончено, Джогендро тяжело вздохнул.
— Если бы ты, тогда рассказал мне все, я не мог бы поверит этому, — наконец, сказал он.
— Сейчас у меня есть только те доказательства, которые были и тогда. Поэтому, прошу тебя, поедем со мной в ту деревню, где я женился, а потом к дяде Комолы.
— Не сделаю ни шагу. Не сходя с этого кресла, я и так верю каждому твоему слову. Я уже издавна привык тебе доверять во всем и прошу прощения за тот единственный случай в моей жизни, когда отступил от этого правила.
С этими словами он встал и подошел к Ромешу. Ромеш тоже поднялся — и друзья детства обнялись.
Овладев своим голосом, Ромеш проговорил:
— Судьба опутала меня такими крепкими сетями обмана, что я не видел другого выхода, как окончательно смириться. Теперь я вырвался из этих сетей, мне ни от кого не надо скрываться, и я, наконец, вздохнул свободно. Мне до сих пор непонятно, что заставило Комолу покончить с собой, — и никогда не смогу я этого узнать, — одно только несомненно, что если бы смерть не разрубила узел, в котором сплелись наши жизни, то в конце концов оба мы оказались бы в ужасном положении. Я содрогаюсь, когда думаю об этом. Неожиданно явилась эта мучительная загадка из пасти смерти и так же внезапно исчезла в ней снова.
— Я бы на твоем месте не был так твердо убежден в том, что Комола действительно погибла, — заметил Джоген. — Но как бы то ни было, во всей этой истории ты совершенно невиновен. А теперь я хочу рассказать тебе о Нолинакхе.
И тут Джогендро обрушился на Нолинакху.
— Я не совсем понимаю таких людей, — начал он, — а чего не понимаю, того и не люблю. Но знаю, что многие люди придерживаются другого мнения: их притягивает как раз то, чего они не понимают. Поэтому я так боюсь за Хем! Когда я заметил, что она перестала пить чай, есть мясо и рыбу, а на насмешки вместо слез отвечает ласковой улыбкой, то понял, что дело плохо! Но все же я уверен, что с твоей помощью мы живо спасем ее от этого пагубного влияния. Поэтому будь готов, — вдвоем мы вступим в бой с аскетом.
Ромеш рассмеялся.
— Хорошо. Хоть за мной и нет славы доблестного воина, но я готов.
— Отлично, только подожди до моих зимних каникул.
— Но ждать еще долго. Почему бы мне пока не попытаться одному?
— Нет, нет, этому не бывать. Я помешал вашей свадьбе, я своими же руками все и исправлю. Не допущу, чтобы ты поехал раньше и лишил меня этой приятной обязанности. Ведь до каникул осталось всего десять дней!
— Все-таки за это время я бы уже…
— Нет, и слышать не хочу об этом. Эти десять дней ты пробудешь у меня. Со всеми, с кем мог, я уже здесь перессорился, и теперь, чтобы перемениться, мне необходим друг. Как видишь, при создавшемся положении тебе нет надежды на спасенье! До сих пор по вечерам мне приходилось слушать лишь вой шакалов, и я дошел до такого печального состояния, что даже твой голос мне кажется слаще звуков вины[50].
Глава сорок седьмая
Сведения, полученные от Чондромохона заставили Окхоя призадуматься.
«В чем же дело? — думал он. — Оказывается, Ромеш имел практику в Гаджипуре и до сих пор тщательно скрывал это. Что случилось, почему он оставил там работу и снова смело появился на улице Колутолы? В один прекрасный день от кого-нибудь Ромеш узнает, что семья Онноды-бабу находится в Бенаресе и, бесспорно, пожелает отправиться туда».
Пока этого не случилось, Окхой решил поехать сначала в Гаджипур и навести справки о Ромеше, а затем — в Бенарес, чтобы повидаться с Оннодой-бабу.
И вот в один из декабрьских дней Окхой с саквояжем в руках появился в Гаджипуре. Прежде всего он пошел на рынок и там стал всех расспрашивать, где живет адвокат-бенгалец по имени Ромеш-бабу. Но выяснилось, что никто не знал бенгальского адвоката Ромеша-бабу. Тогда Окхой направился в суд, но суд в тот день оказался закрытым. Увидев, что какой-то адвокат-бенгалец садится в свой экипаж, Окхой спросил у него:
— Господин, где здесь проживает Ромеш Чондро Чоудхури, новый адвокат-бенгалец, недавно приехавший в Гаджипур?
— Ромеш до сегодняшнего дня жил в доме Чокроборти. Там ли он сейчас, или уехал куда-нибудь — сказать трудно. Жена его исчезла. Предполагают, что она утонула, — ответил незнакомец Окхою.
Окхой поспешил в дом дяди.
«И на этот раз ловкий ход Ромеша разгадан мной, — думал он по дороге. — Жена его умерла. Он же теперь, не чувствуя никаких угрызений совести, попытается доказать Хемнолини, что жены у него никогда и не было. И можно не сомневаться, что Хемнолини в теперешнем состоянии духа поверит любым словам Ромеша».
Решив, что всякий, кто старается показаться ревностным поборником нравственности и добродетели, в действительности оказывается очень опасным человеком, Окхой почувствовал к себе уважение.
В доме дяди Окхой стал расспрашивать о Ромеше и Комоле. Дядя не смог подавить свое горе, и из глаз его полились слезы.
— Как близкий друг Ромеша, — заговорил он, — вы, конечно, хорошо знали Комолу. Уверяю вас, что через несколько дней после нашего знакомства для меня не существовало разницы между ней и моей дочерью. Мог ли я знать, что она, наша Лакшми, покинет меня, нанеся удар тому, кто горячо полюбил ее за столь короткий срок!
Всем своим видом выражая печаль и сочувствие, Окхой сказал:
— Я не могу понять, как это случилось. Вероятно, Ромеш не очень хорошо обращался с ней.
— Вы не сердитесь на меня, — сказал дядя, — но я до сих пор не могу понять вашего Ромеша. Внешне он очень приятный человек, не невозможно угадать, что у него на уме. Трудно поверить, чтобы он не любил такую жену, как Комола! Ведь Комола — это сама Лакшми! Она любила мою дочь, как родную сестру, но никогда не жаловалась ей на мужа. Иногда дочь догадывалась, как тяжело у нее на душе, но до последнего дня не могла добиться от Комолы и слова признания. Вы можете себе представить, как у меня разрывается сердце при мысли о том, сколько невыносимых страданий должна была перенести молодая девушка, чтобы отважиться на этот поступок. К несчастью, я тогда уехал в Аллахабад. Будь я здесь, Комола не решилась бы покинуть меня.
Утром на следующий день Окхой вместе с дядей побывал в доме Ромеша и на берегу Ганга. Когда они вернулись домой, Окхой обратился к дяде:
— Выслушайте меня, господин. Я не могу, подобно вам, без всяких сомнений, согласиться с тем, что Комола утопилась в Ганге.
— Что же вы предполагаете? — спросил дядя.
— Мне кажется, что она просто убежала из дому. Следует хорошенько заняться ее поисками.
— Вы правы! — вскричал дядя, внезапно загоревшись этой идеей. — В ваших словах нет ничего невероятного!
— Недалеко отсюда, в Бенаресе, живут наши хорошие друзья. Очень возможно, что Комола нашла там приют.
— Ромеш-бабу никогда не рассказывал о них, — воскликнул дядя, вновь обретя надежду. — Если бы я знал это, разве не принялся бы за поиски?
— Тогда сейчас же едем вместе в Бенарес, — предложил Окхой. — Вам, должно быть, хорошо известна западная часть этого района, и вы легко найдете Комолу.
Дядя с восторгом принял это предложение. Окхой хорошо знал, что Хемнолини не поверит его словам, и поэтому в качестве свидетеля повез с собой в Бенарес дядю.
Глава сорок восьмая
Приехав в Бенарес, Оннода-бабу и Хемнолини поселились за городом, в очень уединенном месте.
Они узнали, что мать Нолинакхи, Хемонкори, заболела воспалением легких. Все эти дни, несмотря на кашель и лихорадку, она не прекращала своих обычных утренних омовений в Ганге даже в холодную погоду. И в результате состояние ее здоровья сильно ухудшилось.
Благодаря неустанным заботам Хемнолини в течение нескольких дней кризис благополучно миновал. Но Хемонкори была еще чрезвычайно слаба. Ревностно оберегая свою кастовую чистоту, она не могла позволить себе принимать лекарство и пищу из рук Хемнолини, принадлежащей к «Брахмо Самадж». До болезни Хемонкори все делала сама. Теперь же Нолинакха собственноручно готовил ей пищу, давал лекарство и прислуживал во время еды.
— Хоть бы я умерла! — всегда печально говорила она при этом. — Зачем всевышний сохраняет мне жизнь, когда я доставляю вам столько хлопот!
Хемонкори была очень сурова по отношению к себе, но любила, чтобы все вокруг нее было сделано красиво и со вкусом. Узнав об этом от Нолинакхи, Хемнолини тщательно следила за порядком и чистотой в доме. И всегда, прежде чем пойти к Хемонкори, она заботливо осматривала свой наряд. Каждый день Оннода-бабу приносил цветы из сада, который был при их доме, и Хемнолини искусно украшала ими комнату больной.
Нолинакха много раз пытался уговорить мать пользоваться услугами служанок, но та ни за что не хотела. Правда, для тяжелых работ в доме было много прислуги, но Хемонкори не могла допустить, чтобы нанятые люди прислуживали ей лично.
С тех пор как умерла няня, воспитавшая ее, Хемонкори даже во время тяжелой болезни не позволяла служанке обмахивать ее опахалом или растирать больное тело.
Она очень любила красивых детей и красивые лица. Возвращаясь с утреннего омовения, Хемонкори по дороге украшала цветами каждое изображение Шивы[51], окропляя его водой из Ганга. Время от времени она приводила к себе в дом приглянувшегося ей по дороге красивого крестьянского мальчугана или какую-нибудь миловидную девочку-брахманку. Она покорила сердца всех хорошеньких соседских детей, одаривая их игрушками, мелкими монетами и сладостями. Она получала огромное удовольствие, когда порой они приходили к ней поиграть и устраивали в доме веселую суматоху. Хемонкори обладала и еще одной слабостью. Увидев какую-нибудь красивую безделушку, она не могла удержаться, чтобы не купить ее. Но приобретала она их не для себя. Ничто не доставляло ей такой большой радости, как сделать подарок тому, кто, она знала, сумеет оценить его. Ее дальние родственники и знакомые часто удивлялись, получив по почте в подарок неизвестно от кого красивую вещицу. У Хемонкори был большой черного дерева сундук, в котором хранилось много бесполезных, но красивых и драгоценных безделушек и шелковых одежд. Про себя Хемонкори давно решила, что, когда появится в доме жена Нолинакхи, все это будет принадлежать ей. Хемонкори представляла себе будущую невестку очень красивой и молоденькой девушкой, появление которой должно озарить счастьем их дом. А Хемонкори будет заботиться о ее нарядах и украшениях. В таких сладостных мечтах она провела много времени.
Хемонкори вела аскетический образ жизни. Весь день она проводила в молитвах, совершала омовения и другие религиозные обряды. Ела она один раз в день; немного молока и плодов составляли всю ее пищу.
Но, будучи строга и непреклонна к себе в соблюдении предписываемых религией обрядов, она не одобряла суровый образ жизни сына.
— Зачем мужчине мучить себя напрасно? — нередко говорила она.
Мужчины казались ей большими детьми. Она легко и снисходительно прощала им даже новоздержанность и неразборчивость в еде.
— Для чего им ограничивать себя? — говорила она.
Конечно, все должны соблюдать религиозные законы, но она была твердо убеждена, что строго придерживаться правил поведения не обязательно для мужчин. Ей доставило бы радость, если бы Нолинакха хоть в небольшой степени проявил свойственные другим мужчинам легкомыслие и эгоизм, лишь бы он не беспокоил ее в молельне и избегал общения с ней во время совершения религиозных обрядов.
Оправившись от болезни, Хемонкори поняла, что не только Хемнолини стала верной последовательницей Нолинакхи, но и престарелый Оннода-бабу внимает словам ее сына, как словам мудрого гуру[52], с глубоким почтением и любовью. Это очень забавляло Хемонкори.
Однажды, позвав к себе Хемнолини, она, смеясь, сказала ей:
— Дочь моя, мне кажется, что ты и твой отец напрасно поощряете Нолинакху. Как можете вы слушать его безумные речи? В твоем возрасте тебе следует думать о нарядах, больше смеяться, весело проводить время, не задумываться о служении всевышнему. Ты спросишь, почему же я не делаю этого. На это есть свои причины. Мои родители были очень религиозны. С детства я, мои братья и сестры воспитывались в строгом благочестии. И, если бы теперь мы оставили все, к чему привыкли, не знаю, в чем бы еще мы нашли утешение. Ты же — другое дело. Я хорошо знаю, как воспитывали тебя. Какой смысл тиранить себя, дочь моя? Я считаю, что каждый должен жить согласно своим склонностям и воспитанию. Нет, нет… Такое самоистязание тебе совсем не подходит. Кто знает, когда еще Нолинакха станет настоящим гуру. До недавнего времени он занимался лишь тем, что его интересовало, и слышать не мог и слова из шастр. Все это он начал делать, чтобы доставить удовольствие мне. Но боюсь, что в конце концов он станет настоящим санниаси[53]. «Будь верен тому, чему учили тебя с детства, — постоянно говорю я ему. — В этом нет греха, и мне было бы это приятно». А Нолин только смеется в ответ. Такой уж у него характер: выслушает все молча и даже рта не раскроет.
Этот разговор происходил вечером, когда почтенная женщина причесывала Хемнолини. Хемонкори не нравилось, что девушка убирала волосы в скромный узел на затылке.
— Ты, кажется, думаешь, что я не разбираюсь в теперешних модах, — продолжала она. — Но я знаю столько разных причесок, сколько и тебе неизвестно. Когда-то я была знакома с одной очень милой англичанкой, она приходила учить меня шитью. От нее-то я и научилась по-разному причесываться. Но каждый раз после ее ухода мне приходилось совершать омовение и переодеваться. Это очищение предписано религией. Хорошо это или плохо, не знаю, но поступать иначе не могу. Ты не обижайся, что с вами я так поступаю. В моем сердце нет презрения, это только обычай. Я тяжело страдала, когда семья моего мужа отреклась от правоверного индуизма, но не стала жаловаться. «Вы хорошенько подумайте, — сказала я им только. — Я невежественная женщина, но не отрекусь от своей веры».
Здесь Хемонкори краем своего сари вытерла навернувшиеся на глаза слезы.
Хемонкори нравилось распускать длинные волосы Хемнолини и по-новому причесывать их. Иногда она вынимала из своего заветного сундука черного дерева столь любимые ею яркие наряды и наряжала Хемнолини. Казалось, это доставляло ей огромное удовольствие. Почти каждый день Хемнолини приносила с собой вышивание, и Хемонкори учила ее вышивать разными новыми способами. Так вдвоем они проводили все вечера.
Хемонкори любила читать бенгальские журналы и сборники рассказов, и Хемнолини приносила ей все свои книги и журналы. Она изумляла девушку оригинальными замечаниями о прочитанных книгах и статьях. До сих пор Хем считала, что такой широкий кругозор может быть лишь у человека с английским образованием. Но вскоре благодаря трезвым суждениям и благочестивому образу жизни мать Нолинакхи стала казаться ей удивительнейшей, полной неожиданностей женщиной.
Глава сорок девятая
Прошло немного времени, и у Хемонкори повторился приступ лихорадки, но на этот раз он длился недолго.
Утром Нолинакха вошел к ней в комнату. Почтительно здороваясь с матерью, он низко поклонился и, прикоснувшись к ее ногам, сказал:
— Некоторое время тебе, ма, как больной, придется придерживаться определенного режима: ослабевший организм не может вынести стольких лишений.
— Хорошее дело! — воскликнула она. — Я стану придерживаться режима больной, а ты будешь жить, как отшельник! Нолин, это долго продолжаться не может. Я требую, чтобы ты женился.
Нолинакха молчал.
— Подумай, мой мальчик, — продолжала Хемонкори, — я не проживу долго. Но я смогу спокойно умереть лишь тогда, когда ты будешь женат. Было время, когда я хотела, чтобы ты ввел в мой дом юную девушку. Я бы сама занялась ее воспитанием и нарядами и была бы очень счастлива. Но во время болезни боги ниспослали мне просветление. Трудно сказать, как долго я проживу. Тебе пришлось бы очень тяжело одному с женой-девочкой на руках. Поэтому выбери себе невесту среди девушек твоего возраста. Во время болезни думы об этом не давали мне покоя. Я хорошо понимаю, что это мой последний долг перед тобой, и живу для того лишь, чтобы выполнить его, иначе я не смогу успокоиться.
— Но где я найду девушку, которая пошла бы за меня замуж? — спросил Нолинакха.
— Ну, об этом тебе не стоит беспокоиться, — ответила Хемонкори. — Я все устрою и сообщу тебе.
До сих пор Хемонкори не встречалась с Оннодой-бабу. Но сегодня, когда Оннода-бабу во время своей обычной вечерней прогулки зашел в дом Нолинакхи, она приказала позвать его к себе.
— Ваша дочь — превосходная девушка, — начала она, — ия очень люблю ее. Вы хорошо знаете моего сына. У него прекрасный характер, кроме того, он считается хорошим врачом. Лучшего мужа трудно найти для вашей дочери.
— Что и говорить! — волнуясь, воскликнул Оннода-бабу. — Я не смел надеяться на это. Не будет человека счастливее меня, если состоится свадьба моей дочери с ним! Но он…
— Нолин не будет противиться, — прервала его Хемонкори. — Он не похож на нынешнюю молодежь и во всем слушается меня. Да и вряд ли придется настаивать. Можно ли не любить такую девушку, как ваша дочь? Но я хочу как можно скорее покончить с этим. Не думаю, чтобы мне осталось долго жить.
В этот вечер Оннода-бабу вернулся домой очень обрадованный. Он тотчас же позвал Хемнолини.
— Дочь моя, — начал он, — я достиг того возраста, когда здоровье ухудшается. Но я не смогу найти покой, пока ты не будешь устроена. Хем, я буду с тобой вполне откровенен. У тебя нет матери, и вся забота о твоем счастье лежит на мне.
Встревоженная Хемнолини взглянула в лицо отца.
— Дочь моя, я не могу скрыть свою радость по поводу предстоящего тебе замужества. Боюсь только одного, как бы что-нибудь не помешало этому. Сегодня мать Нолинакхи сама позвала меня и предложила женить своего сына на тебе.
Хемнолини вспыхнула и прерывающимся голосом сказала:
— Что ты говоришь, отец! Нет, нет! Этого не может быть!
Хемнолини никогда и в голову не приходило, что она может выйти замуж за Нолинакху. И когда она из уст отца неожиданно услышала это предложение, стыд и смятение овладели ею.
— Почему не может быть? — удивился Оннода-бабу.
— Нолинакха-бабу! — воскликнула Хемнолини. — Возможно ли это?
Ответ Хемнолини был мало убедителен, но в нем звучало сопротивление.
Больше девушка не могла сдерживаться и вышла на веранду.
Оннода-бабу был подавлен. Он не ожидал встретить такое противодействие со стороны дочери. Он склонен был думать скорее, что Хем обрадуется этому предложению.
Опечаленный и расстроенный, старик неподвижно смотрел на керосиновую лампу, размышляя о загадочности женской натуры. Сейчас он особенно остро почувствовал, что у Хемнолини нет матери.
Долго стояла Хем в темноте веранды. Наконец, она посмотрела на отца, увидела его расстроенное лицо, и ей стало стыдно. Она быстро вошла в комнату, встала за креслом Онноды-бабу и, нежно гладя его по голове, проговорила:
— Пойдем, отец. Ужин давно готов и, наверно, остыл.
Оннода-бабу машинально поднялся и пошел в столовую, но есть он не мог. Он так надеялся, что все печали Хемнолини остались позади. Однако этот удар, нанесенный ею, снова сломил его.
«Видно, Хем до сих пор не может забыть Ромеша», — думал он, печально вздыхая.
Обычно после ужина Оннода-бабу шел спать, но сегодня он уселся в плетеное кресло на веранде и, глядя на безлюдную улицу поселка, проходящую за садом, глубоко задумался.
— Отец, стало прохладно. Иди спать, — улыбаясь, ласково сказала Хемнолини.
— Иди ложись, а я еще посижу немного, — ответил ей Оннода-бабу.
Хемнолини ничего не ответила, но продолжала стоять рядом с ним. После небольшой паузы она снова заговорила:
— Отец, ты простудишься. Пройди хотя бы в гостиную.
Оннода-бабу встал и молча пошел в спальню.
Хемнолини не терзалась, когда во имя долга пыталась изгнать из своего сердца мысли о Ромеше. Правда, для этого ей пришлось выдержать упорную длительную борьбу с собой. Но небольшого толчка извне оказалось достаточно, чтобы старая рана заныла вновь. До сих пор Хемнолини не могла себе ясно представить, какой будет ее жизнь в будущем. Поэтому-то она в поисках твердой опоры в конце концов признала Нолинакху своим духовным наставником и была готова стать ревностной последовательницей его учения. Когда же ей предложили вступить с ним в брак и она захотела вырвать старую любовь из сокровенного тайника своего сердца, то поняла, как крепки ее оковы. Малейшая попытка разорвать их заставляла сердце Хемнолини беспокойно трепетать, и она еще крепче цеплялась за них.
Глава пятидесятая
В тот же вечер Хемонкори позвала сына.
— Я нашла тебе невесту и обо всем договорилась, — сказала она ему.
Нолинакха слегка улыбнулся.
— Уже договорилась?
— А почему бы и нет? — возмутилась Хемонкори. — Много ли мне осталось жить? Выслушай меня. Я очень привязалась к Хемнолини. Сейчас редко встретишь такую девушку. Правда, что касается цвета лица, то…
— Пощади, ма! — прервал ее Нолинакха. — Я и не думал о цвете лица. Но как я женюсь на ней? Каким образом?
— Чепуха! Я не вижу никаких препятствий!
Нолинакхе трудно было ответить матери что-либо определенное. Ему хотелось объяснить, что для Хемнолини он лишь духовный учитель и неожиданно предложить ей выйти замуж за него будет для нее оскорбительным. Но он молчал, а Хемонкори продолжала:
— На этот раз я не буду слушать твоих возражений. Я не потерплю, чтобы из-за меня ты сделался в таком возрасте санниаси. Как только наступит благоприятный день, я все устрою.
Помолчав некоторое время, Нолинакха сказал:
— Ма, мне нужно рассказать тебе кое-что. Но прошу тебя, не волнуйся раньше времени. Прошло почти десять месяцев с тех пор, как произошел этот случай, и теперь уже не стоит волноваться. Но я знаю твой характер, ма, если даже несчастье давно прошло, тебя не покидает чувство страха. Поэтому я так долго не мог решиться рассказать тебе об этом. Совершай какие угодно обряды, чтобы умилостивить мою злосчастную звезду, но не терзай напрасно свое сердце..
Хемонкори была глубоко взволнована.
— Как мне знать, что ты расскажешь, мой мальчик. Но после такого предисловия я не могу не беспокоиться. Сколько я живу на свете, я не научилась еще владеть собой. Как я хотела отгородиться от мирских забот! Но несчастье не ищут, оно приходит само. Хорошее ли, плохое — все равно рассказывай, я слушаю тебя.
— Был конец февраля, — начал свой рассказ Нолинакха. — Я распродал все свое имущество в Рангпуре, сдал в наем дом с садом и возвращался в Калькутту. Когда я доехал до Санры, мне пришла в голову фантазия оставить поезд и остальную часть пути проехать по воде. Наняв в Санре большую лодку, я отправился в путь.
После двух дней пути мы пристали к песчаному берегу и я стал купаться. Вдруг, смотрю, идет по берегу наш Бхупен с ружьем в руках. Увидев меня, он подпрыгнул от радости и закричал: «На ловца и зверь бежит». Он работал где-то там судьей и совершал обход по своему округу. Мы давно не виделись с ним, и он ни за что не хотел отпускать меня, поэтому дальше мы отправились вместе.
Однажды мы остановились ночевать в маленькой деревне Дхобапукур. Вечером мы пошли погулять. На краю большого поля стоял крытый тростником дом, окруженный стеной. Мы зашли в него. Хозяин дома вынес нам во двор два плетеных стула. В это время на веранде шли школьные занятия. Учитель начальной школы сидел на деревянном стуле, дети же сидели перед ним на полу и громко учили урок.
Имя хозяина было Тарини Чатуджо[54]. Он подробно расспросил Бхупена обо мне. Когда мы возвращались, Бхупен заметил:
— Тебе везет. Наверно, получишь предложение жениться.
— Каким образом? — удивился я.
Он ответил:
— Этот Тарини Чатуджо — ростовщик, и другого такого подлеца на свете не сыщешь. Как только появляется новый судья, Тарини Чатуджо особенно нетерпится похвастаться собственным человеколюбием, вот потому-то он и разрешил поместить в своем доме школу. В действительности же учителю, которого он кормит, приходится за это просиживать до десяти часов вечера за подсчетом для него процентов. А жалованье он получает от государства и из школьного фонда. Одна из сестер Тарини потеряла мужа. Не найдя нигде приюта, несчастная пришла к брату. Она была беременна. Родив дочь, женщина умерла, так как ей не была оказана медицинская помощь.
Другая сестра Тарини, тоже вдова, выполняла всю работу по хозяйству, давая ему таким образом возможность не нанимать прислуги. Она-то и заменила девочке мать.
Девочка была еще совсем мала, когда умерла и ее тетя. И девочка росла, рабски работая на дядю и его жену, ежедневно выслушивая от них лишь попреки да брань. Теперь она уже в возрасте невесты, но трудно найти жениха для сироты. K тому же никто здесь не знал ее родителей. Девочка появилась на свет после смерти своего отца, и сельские сплетницы до сих пор судачат по этому поводу. Все знают, что Тарини Чатуджо очень богат, и нарочно порочат девочку, желая выжать из него побольше приданого. Прошло четыре года с тех пор, как, по общему мнению, ей исполнилось десять лет. Следовательно, сейчас ей по крайней мере четырнадцать. Зовут ее Комола, и она во всем истинная Лакшми[55]. Я не видел более прелестной девушки. Стоит здесь появиться какому-нибудь молодому брахману, как Тарини пытается его женить на Комоле. А если юноша выразил согласие, сельские жители начинают отговаривать его, стараясь помешать браку. Теперь наступил твой черед.
Знаешь, ма, я был тогда в отчаянном настроении и, не раздумывая, сказал, что женюсь на ней. Еще раньше я решил жениться на молоденькой девушке, исповедующей правоверный индуизм, чтобы доставить тебе приятный сюрприз. Я понимал, что если введу в наш дом взрослую девушку из «Брахмо Самадж», это не принесет счастья никому из нас.
Бхупен был несказанно удивлен.
— Что ты говоришь?! — воскликнул он.
Но я ответил:
— Не отговаривай меня. Это решено.
— Нет, ты серьезно? — спросил Бхупен.
— Совершенно серьезно, — ответил я.
В тот же вечер сам Тарини Чатуджо посетил нас. Перебирая в руках свой брахманский шнур, он сказал:
— Вы должны помочь мне. Посмотрите на девушку. Не понравится, тогда дело другое. Но не слушайте моих завистников.
— Мне не нужно видеть ее, — ответил я. — Назначьте день свадьбы.
— Послезавтра — благоприятный день. Вот и устроим свадьбу, — сказал Тарини.
— Причиной его поспешности было желание как можно меньше потратиться на свадьбу. Итак, свадьба состоялась.
Хемонкори вздрогнула и повторила:
— Свадьба состоялась! Что ты говоришь, Нолин!
— Да, состоялась. С женой я вернулся в лодку. Вечером мы отправились в путь. В тот день солнце сияло недолго. Неожиданно налетел горячий смерч, что совершенно необычно для марта. Вмиг нашу лодку перевернуло, как перышко.
— О боже! — воскликнула Хемонкори так, словно тысячи колючек вонзились в ее тело.
— Спустя некоторое время, — продолжал свой рассказ Нолинакха, — я пришел в себя и увидел, что барахтаюсь в воде. Вблизи не было ни лодки, ни моих спутников. Я заявил в полицию. Искали долго, но безуспешно.
Лицо Хемонкори побледнело, и она с трудом вымолвила:
— Что было, то прошло. Больше никогда не напоминай мне об этом. Как подумаю, прямо сердце разрывается на части.
— Я бы никогда не рассказал тебе об этом, — ответил Нолинакха, — если бы ты не настаивала на моей женитьбе.
— Из-за этого несчастья ты теперь никогда не женишься? — спросила Хемонкори.
— Нет, не из-за этого, ма. Но вдруг девушка спаслась?
— В уме ли ты? Если бы она спаслась, то дала бы знать о себе.
— Но она ничего не знает обо мне. Для нее нет более незнакомого человека, чем я. Мне кажется, что и лица она моего не видела. Приехав в Бенарес, я послал мой адрес Тарини Чатуджо, но он ответил, что у него нет никаких сведений о Комоле.
— Ну, и что же?
— Я решил, — продолжал Нолинакха, — что лишь по прошествии года смогу считать ее погибшей.
— Ты всегда все преувеличиваешь! — воскликнула Хемонкори. — Зачем ждать целый год?
— Год скоро кончится, ма, — ответил Нолинакха. — Сейчас декабрь, январь неблагоприятен для заключения браков, а затем еще два месяца… и все.
— Ну, хорошо, — согласилась Хемонкори. — Но ты будешь все это время считаться помолвленным. Я уже обо всем договорилась с отцом Хемнолини.
— Человек может только предполагать. Будем же уповать на того, от кого всегда зависит успех, — сказал Нолинакха.
— Пусть будет так, мой мальчик. Я до сих пор дрожу, вспоминая, твой рассказ.
— Этого я и опасался, ма. Теперь ты не скоро успокоишься. Стоит тебе разволноваться, и ты долго не можешь прийти в себя. Поэтому я и не хотел рассказывать.
— И хорошо делал, сын мой, — сказала Хемонкори. — Стоит мне услышать о каком-нибудь несчастье, и я потом никак не могу отделаться от чувства страха. Я иногда боюсь открыть письмо, опасаясь, что в нем плохая весть. И вас всех просила не рассказывать мне ничего неприятного. Очевидно, пришла пора покинуть этот мир. Ведь неспроста наносит мне судьба столько ударов!
Глава пятьдесят первая
Когда Комола дошла до берега Ганга, холодное зимнее солнце спустилось к самому краю тусклого небосвода. В надвигающихся сумерках Комола почтительно приветствовала уходящее светило. Она брызнула на голову водой из Ганга и вошла в реку совершить обряд поклонения ему: зачерпнула пригоршней воду, затем вылила ее и бросила в священный Ганг цветы.
Выйдя из воды, девушка склонилась до земли, думая о тех, кто был к ней добр. И тут она вспомнила еще одного человека, которого должна была уважать. В его присутствии она ни разу не подняла головы и не взглянула ему в лицо. В тот единственный вечер, когда они были вместе, Комола сидела, потупившись от смущения, и не осмеливалась посмотреть даже на его ноги. В их брачной комнате он перекинулся несколькими словами с другими девушками, но, окутанная стыдом, словно покрывалом, она не расслышала и этих немногих слов. И сейчас, стоя здесь, на берегу реки, она попыталась воскресить в памяти звук его голоса, но не смогла.
Свадебный обряд, продолжавшийся тогда почти всю ночь, так утомил ее, что Комола совсем не помнила, где и когда она уснула. Проснувшись рано утром, девушка увидела, что соседка, громко смеясь, трясет ее за плечи, пытаясь разбудить. Рядом с Комолой на ложе никого не было.
И теперь, в последние мгновения жизни, ничто не могло напомнить ей о ее господине. Она не помнила ни его лица, ни его голоса — она ничего не помнила.
Наряд жениха был перевязан красным шнуром. Комола не знала, что благодаря стараниям Тарини этот наряд оказался самым дешевым, но даже его она не сумела заботливо сохранить в своей памяти.
Письмо, которое Ромеш написал Хемнолини, было спрятано в уголке сари Комолы. Сев на песок, она достала его и в надвигающихся сумерках стала читать ту часть письма, где говорилось о ее муже. Сказано о нем было очень мало: только, что имя его Нолинакха Чоттопадхайя, что он работал врачом в Рангпуре и что Ромеш не нашел его там. И больше ничего!
Комола внимательно просмотрела все письмо, но никаких сведений о Нолинакхе в нем больше не было. Нолинакха! Это имя словно наполняло ее душу нектаром неиспытанной доселе радости. Воплотившись в неведомый ей образ, оно овладело всем ее существом.
Безудержные слезы полились из глаз девушки. Ей казалось, что они смягчили сердце и унесли с собой ее безутешное горе. Какой-то внутренний голос говорил Комоле:
— Нет больше пустоты! Нет больше мрака! Я знаю, что теперь и я принадлежу жизни!
И она самозабвенно воскликнула:
— Как верная жена я должна жить, чтобы взять прах от ног его! Всевышний никогда не будет препятствовать мне в этом! Если я останусь жить, я непременно встречусь с ним! Боги спасли меня, чтобы я могла служить ему!
Она вынула из платка связку ключей от дома Ромеша и выбросила ее. Вдруг она вспомнила, что ее сари застегнуто брошью, подаренной Ромешем. Она поспешно отстегнула ее и бросила в воду.
Затем, повернув на запад, Комола пустилась в путь. Она очень смутно представляла себе, куда идет, что будет делать. Она знала лишь, что должна идти, не останавливаясь ни на минуту.
Холодный свет сумерек постепенно тускнел и вскоре совсем угас. Белый песчаный берег слабо светился в темноте, словно кто-то вдруг стер часть прекрасной картины, нарисованной природой. Безлунная ночь с темным небосводом, усыпанным немигающими звездами, нежно вздыхала над пустынным берегом реки.
Комола не могла различить перед собой ничего, кроме темноты, безлюдной и бесконечной. Но она твердо знала, что должна идти вперед, и шла, не имея сил задуматься над тем, что ждет ее впереди.
Она решила идти вдоль берега реки. Тогда ей не придется спрашивать ни у кого дорогу, и, если ей будет угрожать опасность, волны священного Ганга укроют ее.
Воздух был прозрачен, и ночная темнота скрывала Комолу, но не ослепляла ее. Наступила глубокая ночь. С полей, засеянных ячменем, послышался протяжный вой шакалов.
Комола прошла довольно далеко, когда низкий песчаный берег сменился холмами. На берегу реки виднелось селенье. Когда Комола с бьющимся сердцем приблизилась к нему, вся деревня была объята крепким сном. Девушка почувствовала усталость и, дрожа от страха, вышла из деревни. Наконец, она дошла до вершины холма. Дальше дороги не было.
Выбившись из сил, Комола упала у подножья баньяна и крепко заснула.
На рассвете, открыв глаза, она увидела, что перед ней стоит какая-то пожилая женщина.
— Ты кто такая? — спросила та. — Почему ночуешь под деревом.
Испуганная, Комола вскочила. Невдалеке от берега она увидела две лодки.
Пожилая женщина встала пораньше, чтобы выкупаться, пока не проснулись ее спутники.
— Ты похожа на бенгалку, — сказала она.
— Да, я бенгалка, — тихо ответила Комола.
— Как ты сюда попала? — снова спросила женщина.
— Я иду в Бенарес. Мне захотелось спать, вот я и легла здесь.
— Подумать только! Пешком идти в Бенарес! — воскликнула женщина. — Ну, хорошо, садись в нашу лодку. А я сейчас выкупаюсь и вернусь.
После купанья состоялось знакомство. Пожилая женщина подробно рассказала Комоле, что она и ее муж родственники Шидхешор-бабу из Гаджипура, в семье которого недавно сыграли очень пышную свадьбу. Имя ее — Нобинкали, а мужа — Мукундолал Дотто. Вот уже несколько лет они живут в Бенаресе. Они не могли воспользоваться приглашением родственников погостить подольше у них в Гаджипуре, так как им пришлось бы питаться в их доме, а муж Нобинкали был очень разборчив в еде. Поэтому-то они взяли лодку и поспешили уехать домой.
В ответ на сожаление, высказанное хозяйкой дома по поводу их отъезда, Нобинкали сказала: «Знаешь, дорогая, у моего мужа плохое здоровье. С детства он привык к тому, чтобы в доме была корова, из молока которой делали бы масло, из масла гхи, а на гхи приготавливали бы лучи. Корову же не будешь кормить кое-как…» и так далее…
Рассказав подробнейшим образом о себе и муже, Нобинкали стала расспрашивать Комолу.
— Как тебя зовут? — спросила она.
— Комола.
— Ты, я вижу, носишь металлические браслеты на руках. Значит, у тебя есть муж?
— Он исчез на следующий день после свадьбы, — тихо промолвила Комола.
— Подумать только! Ты же совсем молоденькая! Должно быть, тебе не больше пятнадцати? — продолжала Нобинкали, внимательно оглядев Комолу с головы до ног.
— Я точно не знаю, сколько мне лет. Но, должно быть, скоро будет пятнадцать.
— Ты действительно брахманка?
— Да.
— Где живут твои родные? — расспрашивала Нобинкали.
— Я никогда не была в доме родных моего мужа. Родина же моего отца — Бишукхали.
— Твои родители… — начала Нобинкали.
— У меня нет ни отца, ни матери, — прервала ее Комола.
— О великий Хари![56] Что же ты собираешься делать?
— В Бенаресе я постараюсь поступить в услужение в какой-нибудь порядочный дом, где бы я смогла жить и кормиться. Я умею стряпать.
Нобинкали была рада случаю заполучить даровую кухарку-брахманку, но все же сказала:
— Нам не нужна кухарка. У нас достаточно с собой слуг-брахманов, и мы не можем нанять еще одну служанку. К тому же кто поручится, что ты будешь хорошо готовить хозяину пищу. Слуге-брахману приходится платить четырнадцать рупий в месяц, кроме того, хорошо кормить и одевать. Но ты девушка из брахманского рода и оказалась в затруднительном положении. Так и быть — живи у нас. Нам приходится кормить так много людей и столько выбрасывать добра, что лишний человек нас не обременит. Тебе не придется много работать. В доме сейчас только мой муж и я. Дочерей я выдала замуж. Все они попали в очень состоятельные семьи. У нас один сын. Сейчас он работает судьей в Шерадхгондже. Два месяца назад, когда я прочла о его назначении, я сказала мужу: «Наш Ното не нуждается. Зачем ему ехать туда? Конечно, не всякий может стать судьей. Но все же зачем бедному мальчику уезжать так далеко». А муж ответил: «Не в этом дело. Ты, как женщина, ничего не понимаешь. Я заставил его служить не из-за жалованья. Мы не так уж бедны! Но кто знает, чем бы он занялся, если бы у него не было определенной работы. Ведь он так молод!..»
Дул попутный ветер, и Комола со своими новыми знакомыми быстро добралась до Бенареса.
Нобинкали и ее мужу принадлежал расположенный за городом двухэтажный дом с небольшим садом. Нигде не было и признака слуг-брахманов с жалованием в четырнадцать рупий в месяц. Правда, был один повар-брахман из Ориссы. Но через несколько дней после появления Комолы Нобинкали, вспылив, выгнала его, ничего не заплатив. А так как в это время было трудно найти повара за четырнадцать рупий в месяц, всю работу тю кухне взвалили на Комолу.
Нобинкали часто поучала Комолу:
— Послушай, дитя мое, Бенарес опасное место для такой молоденькой девушки, как ты. Никогда не выходи одна из дому. Когда я пойду купаться на берег Ганга или поклониться изображению Шивы, я возьму тебя с собой.
Опасаясь, как бы Комола не ускользнула из ее рук, Нобинкали очень зорко следила за ней. Она не давала Комоле даже поговорить с ее сверстницами, бенгальскими девушками.
Целый день Комола трудилась на кухне. А вечером Нобинкали принималась скучно и долго рассказывать ей о том, что только боязнь воров помешала ей привезти в Бенарес драгоценные украшения, золотую и серебряную домашнюю утварь, дорогую мебель, обитую парчой и бархатом.
— Мой муж долго не мог привыкнуть к медной посуде, — говорила она. — Сначала он все время ворчал. «Ну, и пусть украдут часть посуды, мы купим новую», — говорил он. Но я не могу понапрасну терпеть убытки, уж лучше как-нибудь так обойдемся… Ты не думай, у нас есть большой дом и целая армия слуг. Но не могли же мы всех их везти сюда. Мой муж настаивал на том, чтобы мы наняли здесь большой дом, но я сказала, что не вынесу этого, что хочу немного отдохнуть. А если дом будет полон людей, конца не будет заботам и волнениям…
И так до бесконечности.
Глава пятьдесят вторая
Жизнь Комолы в доме Нобинкали походила на жизнь рыбы в мелком, заросшем тиной пруде. Она могла бы убежать. Но куда идти? Комола хорошо помнила, каким страшным и бесприютным показался ей мир в ту роковую ночь. Она не могла легко решиться на это еще раз.
Нельзя сказать, чтобы Нобинкали по-своему не привязалась к девушке, но в этой привязанности не было любви и чуткости. В трудную минуту жизни она помогла Комоле, но той было трудно чувствовать к ней какую-нибудь благодарность. Работать по хозяйству казалось Комоле куда приятнее, чем проводить время в обществе Нобинкали.
Однажды утром Нобинкали позвала Комолу и сказала ей:
— Вот что, уважаемая, сегодня хозяин плохо себя чувствует. Вместо обычного риса испеки ему лепешки. Но не трать так много гхи. Я знаю, что ты хорошая кухарка, но не могу понять, куда идет столько топленого масла. В этом отношении брахман из Ориссы был куда лучше. Конечно, он тоже готовил на масле, но вкус масла едва чувствовался во всех его кушаньях.
Комола никогда не отвечала на подобные упреки и, будто не слыша их, тотчас же бралась за работу. Так и сегодня, она безмолвно, остро переживая в душе незаслуженное оскорбление, принялась чистить овощи. Она думала о земных горестях и о тех страданиях, которые выпали на ее долю. Вдруг она услышала, заставившие ее вздрогнуть, слова хозяйки.
— Тулси, — говорила хозяйка, — беги скорее в город и позови доктора Нолинакху. Скажи ему, что хозяину очень плохо.
«Доктор Нолинакха!» Перед глазами Комолы солнечные лучи задрожали, словно золотые струны вины от внезапного прикосновения.
Бросив овощи, она подошла к дверям кухни. Когда Тулси, низко наклонившись, вошел в кухню, она обратилась к нему:
— Куда ты идешь, Тулси?
— Иду позвать доктора Нолинакху.
— Кто это?
— О, это лучший врач здесь!
— Где он живет?
— В городе, в миле отсюда.
Всем тем немногим, что Комоле удавалось сберечь от господского стола, она всегда делилась со слугами, которых хозяйка никогда не кормила досыта. И грубая брань хозяйки не могла отучить ее от этого. К тому же слугам разрешалось есть лишь после того, как поедят господа. Часто случалось, что кто-нибудь из слуг приходил к Комоле с просьбой покормить его, и Комола никогда не отказывала. Поэтому она быстро завоевала их любовь.
— С кем ты там советуешься? — послышался окрик сверху. — Ты думаешь, я ничего не вижу! Ты что, не можешь найти дорогу в город, не заглянув в кухню? Не удивительно, что столько добра пропадает. Не забывай, сударыня, я подобрала тебя на дороге и из милости приютила. Вот она, твоя благодарность!
Нобинкали никогда не оставляло подозрение, что все стараются обокрасть ее. И хотя не было никаких доказательств, она в каждом видела вора. Она была уверена, что, даже если бросать комья грязи в полной темноте, часть их непременно попадет в цель. Слуги должны знать, что она всегда настороже и ее не обманешь. Но на этот раз брань Нобинкали не задела Комолу. Она работала, как автомат, а мысли ее витали неизвестно где. Она ждала возвращения Тулси, стоя внизу в дверях кухни. Наконец, он вернулся, но один.
— А доктор не пришел, Тулси? — спросила Комола.
— Нет, не пришел.
— Почему?
— У него больна мать.
— Больна мать, — повторила Комола. — Что же, в доме никого больше нет?
— Нет, доктор не женат.
— Откуда ты знаешь, что он не женат?
— Я слышал от слуг, что у него нет жены.
— Может быть, его жена умерла?
— Может быть. Но его слуга Бродж говорит, что, когда Нолинакха работал врачом в Рангпуре, у него и там жены не было.
— Тулси! — послышался крик сверху.
Комола быстро скрылась в кухне, а Тулси побежал наверх.
Нолинакха!.. Врачебная практика в Рангпуре… Комола больше не сомневалась.
Когда Тулси спустился вниз, Комола обратилась к нему снова:
— Послушай, у меня есть родственник и его зовут так же, как доктора. Скажи, он действительно брахман?
— Да, он брахман. Фамилия его — Чатуджо.
Боясь гнева хозяйки, Тулси не посмел продолжать разговор с девушкой и быстро скрылся. Комола же отправилась к Нобинкали.
— Я сделала все и сейчас хочу пойти выкупаться на Дошашомедх-Гхат, — заявила она.
— Ты какая-то странная! — заговорила Нобинкали. — Хозяин болен, неизвестно, что ему может понадобиться. Как же можно обойтись без тебя?
— Я узнала, что один мой родственник находится в Бенаресе. Мне нужно повидатся с ним, — настаивала Комола.
— Это к хорошему не приведет! — воскликнула Нобинкали. — Я не девочка и все хорошо понимаю. Кто тебе сообщил о родственнике? Наверно, Тулси. Я не буду больше держать этого мальчишку. Запомни, сударыня, пока ты у меня в доме, ты не будешь ходить одна купаться или искать по городу родственников.
Привратнику было отдано приказание немедленно выгнать Тулси и не позволять ему показываться в доме, а остальным слугам строжайше запрещено поддерживать какие-либо отношения с Комолой.
Пока Комола не была уверена в существовании Нолинакхи, она была покорна. Но теперь ей трудно было оставаться покорной. В этом городе жил ее муж, и находиться в этом совершенно чужом для нее доме было нестерпимо! Она не могла уже работать с прежним усердием, и хозяйка все чаще и чаще оставалась недовольна ею.
— Предупреждаю, сударыня, — говорила Нобинкали в таких случаях, — мне не нравится твое поведение. Злой дух вселился в тебя, что ли? Сама ты можешь вообще не есть, но я не позволю нас морить голодом. Сегодня невозможно взять в рот твою стряпню.
— Я не могу у вас больше работать! — отвечала Комола. — Я не могу больше! Отпустите меня!
Нобинкали, как буря, налетела на нее.
— Действительно, никто не платит добром за добро! А я еще сжалилась над ней, приютила у себя! Отпустила отличного повара-брахмана, который так долго служил нам! Даже не поинтересовалась, настоящая ли ты брахманка! А сегодня она приходит и говорит: «Отпустите меня». Если попытаешься бежать, я заявлю в полицию! У меня сын — судья! Сколько людей уже повешено по его приказу! Не пробуй шутить со мной! Слышала про Году? Он нагрубил хозяину и получил по заслугам. По сей день сидит в тюрьме! Ты нас не обманешь!
Слова хозяйки не были ложью. Действительно, хозяйка с мужем обвинили Году в краже часов и посадили в тюрьму.
Комола не видела выхода. Могла ли случиться большая беда, чем теперь, когда счастье ее жизни было так близко, но руки оказались связаны! Ее жизнь, жизнь пленницы, полная тяжелой работы, становилась невыносимой. Поздно вечером, закончив работу, кутаясь от холода в теплую шаль, она выбегала в сад. Прислонившись к стене, она долго смотрела на дорогу, ведущую в город. Ее юное сердце было полно желания предаться верному служению мужу, жаждало излить свою любовь! Оно устремлялось вперед по этой безлюдной ночной дороге к заветному для нее дому в городе. Словно окаменев, Комола подолгу стояла, затем склонялась в низком поклоне и возвращалась в свою комнатку.
Но недолго пользовалась Комола и этой небольшой свободой, этими крохами счастья. Однажды поздно вечером, когда она закончила свою работу, Нобинкали послала за ней. Слуга доложил, что нигде не нашел Комолы.
— Неужели она сбежала? — воскликнула обеспокоенная Нобинкали. И сама с лампой в руках принялась искать Комолу по всем комнатам. Не найдя ее, она пошла к мужу. Хозяин, полузакрыв глаза, курил хукку.[57]
— Послушай, брахманка, кажется, сбежала! — сообщила она.
Но даже это известие не способно было вывести Мукундо-бабу из равновесия.
— Я предупреждал тебя, что она ненадежный человек, — лениво протянул он. — Что-нибудь пропало?
— Нет только шали, которую дала ей поносить, — ответила хозяйка. — Чего еще не хватает — не знаю.
— Нужно сообщить в полицию, — невозмутимо предложил хозяин.
Одного из слуг послали в полицию. Тем временем Комола вернулась и увидела, что Нобинкали, стараясь узнать, что из вещей пропало, старательно перерыла весь дом.
— Что это за штуки! — закричала она, как только увидела Комолу. — Ты где была?
— Я окончила работу и пошла в сад, — ответила Комола.
Нобинкали разразилась бранью. Она говорила все, что приходило ей на язык. На ее крик сбежались слуги и столпились в дверях кухни.
Никогда никакие оскорбления Нобинкали не могли заставить Комолу расплакаться. И сейчас под злобным потоком ругательств она стояла молча.
Когда поток слов Нобинкали несколько ослабел, Комола сказала:
— Вы недовольны мной! Отпустите меня!
— Я отпущу тебя! — снова закричала Нобинкали. — Не воображай, что я буду кормить и одевать такую неблагодарную тварь, как ты! Но прежде, чем распрощаться с нами, ты у меня узнаешь, с кем имеешь дело!
После такого скандала Комола не осмеливалась больше выходить в сад. Она закрывалась у себя в комнате и мысленно утешала себя:
«Должен же всевышний смилостивиться к тому, кто столько страдает!»
Однажды Мукундо-бабу с двумя слугами поехал прогуляться. После его ухода наружную дверь дома закрыли на засов. Стало уже темнеть, когда за дверью послышался чей-то голос.
— Мукундо-бабу дома?
Нобинкали переполошилась.
— Да ведь это доктор Нолинакха пришел! Будхия! Будхия! — звала она слугу. Но Будхии и след простыл.
— Беги скорей и открой дверь! — приказала Нобинкали Комоле. — Скажи доктору, что хозяин вышел прогуляться. Он сейчас придет. Пусть доктор подождет его.
Комола взяла фонарь и спустилась вниз. Ноги ее дрожали, сердце сильно билось в груди, руки похолодели. Она боялась, что от страшного волнения не сможет разглядеть Нолинакху.
Девушка отодвинула засов и, закрываясь покрывалом, отступила за дверь.
— Хозяин дома? — повторил свой вопрос Нолинакха.
— Нет. Пройдите, пожалуйста, — еле-еле вымолвила Комола. Нолинакха прошел в гостиную. В это время отыскался Будхия, который и передал Нолинакхе слова хозяйки:
— Хозяин вышел погулять. Сейчас он придет. Подождите немного.
Грудь Комолы тяжело вздымалась от волнения. Она пробралась на темную веранду, чтобы оттуда получше рассмотреть Нолинакху. От волнения девушка едва стояла на ногах и опустилась на пол, чтобы хоть немного успокоить сильно бьющееся сердце. От душевного смятения и вечерней прохлады Комола дрожала всем телом.
Освещенный слабым светом керосиновой лампы Нолинакха сидел задумавшись. Взгляд Комолы был прикован к нему. Слезы струились по ее лицу. Она торопливо вытирала их, не отрывая горящего взора от Нолинакхи и словно стараясь навсегда запечатлеть его образ в своем сердце. Она оцепенела, всматриваясь в это задумчивое лицо с высоким лбом, озаренное колеблющимся светом лампы, и перестала ощущать окружающее. Сейчас для нее во всем мире не существовало ничего, кроме этого лица. В нем был воплощен весь мир.
Неизвестно, сколько времени просидела Комола в этом задумчивом или скорее бессознательном состоянии. Очнувшись, она вдруг заметила, что Нолинакха встал с кресла и разговаривает с Мукундо-бабу.
Опасаясь, что оба могут выйти на веранду и застать ее там, она спустилась вниз, в кухню. Кухня выходила во двор, через который Нолинакха должен был пройти на улицу. С замирающим сердцем Комола ждала его.
— Как я, жалкая женщина, могу быть женой такого человека! В его умном, светлом и прекрасном лице есть что-то божественное! О господин мой, я не напрасно страдала! — молилась она.
На лестнице послышался шум шагов. Комола быстро встала возле неосвещенной двери. Первым прошел Будхия с лампой в руках. Следом за ним появился Нолинакха.
«О господин, твоя верная служанка вынуждена быть рабой в чужом доме. Ты прошел мимо нее и не узнал», — мысленно обратилась к нему Комола.
Когда Мукундо-бабу ушел в комнаты жены ужинать, девушка тихонько прокралась в гостиную. Она упала на колени перед креслом, в котором недавно сидел Нолинакха; коснувшись лбом пола, она почтительно поцеловала его. Сердце Комолы сжималось от горя: у нее не было иной возможности выразить ему свою любовь и преданность.
На следующий день Комола узнала, что доктор посоветовал хозяину переменить для поправки здоровья климат и уехать на курорт, расположенный далеко на запад от Бенареса. В доме начались приготовления к отъезду.
— Я не могу уехать из Бенареса, — сказала Комола, придя к Нобинкали.
— Мы можем, а она, видите ли, не может! С чего это ты вдруг стала такой благочестивой?
— Говорите, что хотите, но я остаюсь здесь.
— Хорошо! Посмотрим, как ты это сделаешь.
— Прошу вас, не увозите меня отсюда, — взмолилась Комола.
— Ты ужасный человек! Пора уезжать, а ты ломаешься! Нам сразу не найти человека на твое место. Кто же будет выполнять твою работу?
Все мольбы и уговоры девушки оказались напрасны. Закрывшись у себя в комнате, она разрыдалась, призывая на помощь всевышнего.
Глава пятьдесят третья
После разговора с дочерью о ее браке с Нолинакхой у Оннода-бабу снова начались боли. Ночь прошла в жестоких страданиях, но к утру ему стало лучше.
Сидя у себя в саду, Оннода-бабу грелся в нежных лучах зимнего солнца. Хемнолини невдалеке от него приготовляла чай.
От перенесенных страданий лицо Онноды-бабу побледнело и казалось измученным; вокруг глаз легли черные тени. Он заметно постарел за эту ночь. Хемнолини почувствовала, словно в сердце ее вонзили кинжал, Огорчив старика отказом выйти замуж за Нолинакху, Хемнолини очень мучилась. Ей казалось, что причиной его физических страданий является душевная боль.
«Что сделать для его успокоения?» — думала она, но не могла ни на что решиться.
Неожиданно ее размышления были прерваны приходом Окхоя с дядей Чокроборти. Девушка хотела уйти, но Окхой удержал ее.
— Не уходите. Это господин Чокроборти из Гаджипура. Его хорошо знают в западной области. У него к вам серьезное дело.
В саду была полуразрушенная беседка, и Окхой с дядей уселись на ее ступеньках.
— Мне сказали, — начал дядя, — что Ромеш-бабу вам близкий друг. Я приехал, чтобы узнать, не слышали ли вы что-нибудь о его жене?
От удивления Оннода-бабу не мог вымолвить ни слова.
— Жена Ромеша-бабу! — наконец, воскликнул он. Хемнолини опустила глаза.
— Боюсь, вы принимаете меня за невоспитанного человека, — продолжал дядя. — Наберитесь терпения и выслушайте меня до конца. Вы убедитесь, что я вторгся к вам не затем, чтобы сплетничать о других. Я познакомился с Ромешем-бабу и его женой на пароходе во время праздника Пуджа, когда они ехали на запад. Вы, конечно, знаете, что, тот, кто увидит Комолу хоть раз, запомнит ее на всю жизнь. Я уже старик, видел много горя, и сердце мое очерствело. Но до сих пор я не могу забыть ее, нашу Лакшми. — Глаза старика наполнились слезами. — Так вот Ромеш-бабу не знал, куда ехать. Но за два дня нашего знакомства Комола привязалась ко мне, старику, и уговорила Ромеша-бабу поселиться в Гаджипуре. Там она очень подружилась с моей дочерью Шойлой… У меня нет сил рассказывать, что случилось дальше… Я сейчас не пойму, почему она так внезапно покинула нас и заставила всех страдать. С тех пор на глазах Шойлы не высыхают слезы.
И старик разрыдался.
Оннода-бабу был очень взволнован.
— Что же с ней случилось? Куда она ушла? — спросил он.
— Окхой-бабу, — обратился дядя к своему спутнику, — вы все знаете, объясните им… Боюсь, если я начну рассказывать, сердце мое разорвется от горя!
Окхой подробно рассказал обо всем, что произошло. Он ничего не прибавил от себя, но тем не менее в изложении Окхоя поведение Ромеша выглядело так, что его никоим образом нельзя было назвать благородным.
— Мы об этом ничего не слышали! Покинув Калькутту, Ромеш не прислал ни одного письма, — с трудом вымолвил Оннода-бабу.
— Мы не знали даже, что он женился на Комоле, — сказал Окхой. — Вы уверены, господин Чокроборти, что Комола — жена Ромеша? Может быть, она ему сестра или родственница?
— Что вы говорите, Окхой-бабу? — изумился дядя. — Как это не жена? Редко встретишь такую преданную и хорошую жену, как Комола!
— Удивительное дело! Чем лучше жена, тем хуже с ней обращаются! — заметил Окхой, тяжело вздыхая. — Мне кажется, что на долю наиболее достойных людей выпадают самые тяжкие испытания.
— Это поистине огромное несчастье! — сказал Оннода-бабу, поглаживая рукой свои поредевшие волосы. — Но теперь ничего не поделаешь. Незачем и горевать напрасно.
— У меня есть некоторые сомнения, — снова заговорил Окхой. — А что если Комола не утопилась, а просто убежала из дому? Я и привез господина Чокроборти в Бенарес, чтобы начать поиски. Но, видно, и вы ничего не можете сообщить о ней. Мы останемся здесь на несколько дней и попробуем поискать Комолу.
— А где сейчас Ромеш? — спросил Оннода-бабу.
— Он уехал, не простившись с нами, — ответил дядя.
— Я не видел его, но слышал, что он уехал в Калькутту, — сказал Окхой. — Кажется, он собирается работать в Алипуре. Человек не может долго переживать, особенно если он молод, как Ромеш. Идемте, господин Чокроборти. Поищем Комолу в городе.
— Ты зайдешь еще к нам, Окхой? — спросил Оннода-бабу.
— Не знаю. Вы не представляете, как болит у меня душа. Пока я в Бенаресе, я должен искать Комолу. Благородная девушка в отчаянье убежала из дому! Подумайте только, каким опасностям она сейчас подвергается! Конечно, для Ромеша-бабу это безразлично, но я не могу оставаться спокойным.
После этого Окхой с дядей покинули дом Онноды-бабу.
Огорченный Оннода-бабу пытливо всматривался в лицо дочери. Хемнолини знала, что отец тревожится за нее, и огромным усилием воли заставила себя успокоиться.
— Отец, сегодня тебе следует показаться врачу, — оказала она. — Всякий пустяк губительно сказывается на твоем здоровье. Тебе нужно немного подлечиться.
Оннода-бабу почувствовал облегчение. Несмотря на все то, что Хемнолини узнала о Ромеше, она беспокоилась о здоровье отца. Камень свалился с его души. В другой рае он попытался бы избежать разговора о своей болезни, но сегодня сказал:
— Прекрасная мысль! Можно показаться врачу. Не послать ли сейчас за Нолинакхой, как ты думаешь?
Упоминание о Нолинакхе встревожило Хемнолини. Теперь в присутствии отца ей будет трудно держаться с ним попрежнему естественно. Но она сказала:
— Хорошо, я пошлю за ним.
Видя, что спокойствие Хем не нарушено, Оннода-бабу набрался смелости.
— Хем, этот случай с Ромешем…
Хемнолини не дала ему договорить:
— Отец, становится жарко… Идем… Идем в комнаты. — И, не дав ему возразить, взяла его под руку и увела в дом. Там она усадила его в кресло, укутала и вложила в руки газету. Затем вынула из футляра очки, надела их ему на нос и сказала:
— Почитай, отец. Я скоро вернусь.
Оннода-бабу, как послушный мальчик, пытался выполнить приказание Хемнолини, но тревога за дочь мешала ему сосредоточиться. В конце концов он отложил газету и пошел искать Хем. Подойдя к ее комнате, он увидел, что дверь заперта на ключ, хотя время было еще раннее.
Оннода-бабу молча ходил по веранде из угла в угол. Немного погодя он снова отправился к Хемнолини, но и на этот раз комната ее оказалась запертой. Обеспокоенный, Оннода-бабу вернулся на веранду, тяжело опустился в кресло и стал нервно теребить волосы.
Вскоре явился Нолинакха. Осмотрев Онноду-бабу, он наметил курс лечения и затем обратился к вошедшей Хемнолини:
— Скажите, может быть, что-нибудь волнует вашего отца?
Хем ответила утвердительно.
— Ему необходим полный душевный покой, — сказал Нолинакха. — То же переживаю и я со своей матерью. Ее волнует каждая мелочь, на это уходит много ешь Вчера она из-за какого-то пустяка не могла уснуть всю ночь. Я стараюсь ее не волновать, но мир так устроен, что не всегда это возможно.
— Вы плохо выглядите сегодня, — заметила Хемнолини.
— Нет, я чувствую себя прекрасно, — возразил Нолинакха. — Я никогда не болею. Но вчера я поздно лег. Поэтому, может быть, и выгляжу плохо.
— Было бы лучше, если бы рядом с вашей матерью всегда находилась женщина, которая ухаживала бы за ней. Вы — один, работы у вас много, и вы не можете, конечно, ухаживать за ней, как нужно.
Хемнолини вела разговор непринужденно, и в последних словах ее, разумеется, ничего неуместного не было. Но она вдруг подумала, что Нолинакха может счесть их за намек, и покраснела от смущения.
Увидев замешательство Хемнолини, Нолинакха невольно вспомнил свой разговор с матерью.
— Было бы хорошо, если бы при ней всегда была служанка, — поспешно пояснила девушка.
— Я много раз пытался уговорить ее, но она ни за что не соглашается, — ответил Нолинакха. — Она очень ревностно относится к кастовой чистоте, и в этом отношении не доверяет наемной прислуге. Такой уж у нее характер: никогда не воспользуется услугами, если их не оказывают ей добровольно.
На это Хемнолини ничего не могла ответить. Немного погодя она заговорила снова;
— Я стараюсь следовать вашим наставлениям, но сталкиваюсь с препятствиями и отступаю. Боюсь, что мне никогда не удастся обрести душевную твердость и спокойствие. Скажите, неужели удары, наносимые жизнью, будут всегда выводить меня из равновесия?
Печаль и горе, звучавшие в словах Хемнолини, заставили Нолинакху призадуматься.
— Не отчаивайтесь, — сказал он. — Помните, что препятствия, возникающие на жизненном пути, являются испытанием душевной стойкости человека.
— Не могли бы вы зайти к нам завтра утром? — попросила Хемнолини. — Ваша поддержка придает мне силы.
В лице Нолинакхи, в его голосе было столько непоколебимой духовной силы! В ней Хемнолини черпала вдохновение. После ухода Нолинакхи Хемнолини почувствовала некоторое успокоение. Стоя на веранде, прилегающей к ее спальне, она созерцала залитый лучами зимнего солнца мир. В блеске солнечного дня перед лей расстилалась вселенная, преисполненная труда и отдыха, полная сил и умиротворения, где необузданность желаний сочетается с воздержанностью. Всем своим измученным сердцем она чувствовала величие мира. Свет солнца, бесконечная яркая лазурь неба вызвали в душе Хемнолини жажду жизни и благодарность этому миру.
Она думала о матери Нолинакхи. Девушка догадывалась, почему старая женщина не спала прошлую ночь. Первое потрясение и страх, вызванные предложением выйти замуж за Нолинакху, прошли. И в душе Хемнолини росла горячая привязанность к нему и признательность, но в этой привязанности не было ни страданий, ни беспокойных порывов истинной любви. Углубленному в себя юноше, конечно, не нужна любовь женщины, но ему, как и всем, нобходима человеческая забота. Кто будет заботиться о нем? Ведь мать его уже стара и слаба! А жизнь Нолинакхи не бесполезна для других! Служить ему — значит выполнить свой долг перед людьми!
То, что она услышала утром о Ромеше, было тяжелым испытанием для ее любящего сердца. Хемнолини пришлось собрать все свои душевные силы, чтобы выдержать этот жестокий удар. Теперь ей казалось оскорбительным страдать из-за Ромеша. Она не хотела ни осуждать его, ни обвинять. Земля продолжает неизменно вращаться, в то время как миллионы людей совершают плохие и хорошие поступки, и Хемнолини вовсе не собиралась осуждать кого бы то ни было. Она не хотела думать о Ромеше. Иногда она вспоминала погибшую Комолу, и ей становилось страшно. Она мысленно спрашивала себя, какая связь между ней и несчастной самоубийцей. Стыд, гнев, жалость сжимали ее сердце. Стиснув руки, она начинала молиться:
— О всевышний, почему я так страдаю? В чем я виновата? Освободи меня, милосердный, от этой любви! Мне ничего не нужно, только бы жить спокойно в мире твоем!
Онноде-бабу не терпелось узнать, как Хемнолини отнеслась к тому, что услышала о Ромеше и Комоле, но у него не хватало смелости спросить ее об этом. Хемнолини сидела на веранде, занятая вышиванием. Не раз заходил к ней Оннода-бабу, но, глядя на ее задумчивое лицо, не решался заговорить.
Лишь вечером, когда, сидя с ним рядом, Хемнолини поила его лекарством с молоком, он, наконец, собрался с духом.
— Убери, пожалуйста, свет, — попросил он дочь.
Когда комната погрузилась в темноту, Оннода-бабу начал разговор:
— А этот старик, кажется, хороший человек…
Хемнолини ничего не ответила. Другого вступления Оннода-бабу придумать не мог, поэтому он прямо перешел к делу.
— Я удивлен поведением Ромеша. Много было о нем толков. Но я до сих пор им не верил. Однако…
— Отец, оставим этот разговор, — печально прервала его Хемнолини.
— Дорогая, мне тоже не хочется говорить об этом! Но, посуди сама, волею создателя все наши радости и несчастья связаны с этим человеком. Мы не можем безразлично относиться к его поступкам.
— Нет, нет! — поспешно заговорила Хемнолини. — Зачем связывать наше счастье с тем или иным человеком! Отец, я совершенно спокойна. Меня мучает совесть, что ты напрасно беспокоишься обо мне.
— Дорогая Хем, — продолжал Оннода-бабу, — я стар, и мне не найти покоя, пока ты не устроишь свою жизнь. Я не хочу, чтобы ты стала отшельницей.
Хемнолини молчала.
— Пойми, дорогая, — уговаривал Оннода-бабу. — Конечно, ты испытала тяжелое разочарование, но все же не следует отвергать те блага, которые дарует тебе жизнь. Сейчас ты замкнулась в своем горе и не знаешь, что сделает тебя счастливой и полезной в жизни. Я же все время думаю о твоем благополучии. Я знаю, что принесет тебе счастье и успокоение. Не пренебрегай моим советом.
Из глаз Хемнолини полились слезы.
— Не говори так, отец. Я не отвергаю твоего совета и поступлю, как ты укажешь. Только дай мне время очистить душу от сомнений и подготовиться к этому.
Оннода-бабу прикоснулся в темноте к мокрому от слез лицу дочери и погладил ее по голове. Больше он в тот вечер не сказав ни слова.
На следующее утро, когда Оннода-бабу и Хемнолини пили в саду под деревом чай, появился Окхой. Прочтя безмолвный вопрос в глазах Онноды-бабу, Окхой взял чашку чая, уселся и сказал:
— Пока никаких следов. Некоторые вещи Комолы и Ромеша до сих пор находятся у господина Чокроборти, — медленно продолжал он. — Он не знает куда послать их. Когда Ромеш-бабу узнает ваш адрес, он не замедлит, конечно, приехать сюда. Тогда вы…
Неожиданно для всех Оннода-бабу гневно перебил его:
— Окхой, ты ничего не смыслишь. Зачем Ромешу приходить к нам? И почему я должен заботиться о его вещах?
— По всей вероятности, Ромеш-бабу сейчас раскаивается в своих поступках, — начал оправдываться Окхой. — Разве не долг старых друзей поддержать его? Можно ли покинуть его в такую минуту?
— Окхой, — отвечал Оннода-бабу, — нам неприятно, что ты все время говоришь о нем. Сделай милость, никогда не вспоминай при нас о Ромеше.
— Не волнуйся, отец, — нежно промолвила Хемнолини. — Тебе вредно. Окхой-бабу может говорить все, что он желает. В этом нет ничего плохого.
— Нет, нет, простите меня, — извинился Окхой. — Я не понял всего.
Глава пятьдесят четвертая
Мукундо-бабу со всей семьей готовился к отъезду из Бенареса в Мирут. Вещи были уже упакованы, и отъезд назначен на следующее утро. Комола все еще надеялась, что какое-нибудь событие помешает их отъезду или, может быть, доктор Нолинакха еще раз навестит своего пациента. Но не случилось ни того, ни другого.
Нобинкали боялась, что в суматохе Комола может исчезнуть, и в последние дни не отпускала ее от себя ни на шаг. Всю работу по упаковке вещей взвалили на девушку. Доведенная до отчаяния, она в последнюю ночь мечтала тяжело заболеть. Тогда Нобинкали не увезет ее с собой, а, может быть, к ней пригласят небезызвестного доктора. Закрыв глаза, она представляла себе, как перед лицом надвигающейся смерти почтительно берет прах от ног доктора и умирает.
В последнюю ночь Комола спала в комнате Нобинкали, а на следующий день поехала на вокзал в экипаже хозяйки. Мукундо-бабу ехал во втором классе, а Нобинкали с Комолой устроились в женском купе.
Наконец, поезд тронулся. Свисток паровоза разрывал сердце Комолы, как в неистовстве рвут лиану клыки обезумевшего слона. Девушка жадно смотрела на проносящийся за окнами вагона город.
— Где коробочка с паном? — послышался голос Нобинкали. Комола молча подала ее.
— Так и знала! — гневно воскликнула Нобинкали. — Ты забыла положить в бетель известь. Что мне с тобой делать! Если я сама не позабочусь, то все идет прахом. Дъявол в тебя вселился, что ли? Ты нарочно злишь меня. Сегодня не посолены овощи, завтра молочная каша отдает землей. Ты думаешь, мы не понимаем твоих проделок? Вот подожди, приедем в Мирут, я тебе укажу твое место!
Когда поезд проезжал по мосту, Комола высунулась из окна, чтобы в последний раз взглянуть на Бенарес, раскинувшийся по берегу Ганга. Она не знала, где находится дом Нолинакхи. Но мелькавшие перед глазами в быстром беге поезда набережные, дома, островерхие храмы — все казалось ей наполненным его присутствием, все было бесконечно мило ее сердцу.
— Чего это ты высовываешься из окна? — послышался окрик. Ты ведь не птица! Без крыльев не улетишь!
Когда Бенарес скрылся из виду, Комола вернулась на свое место и молча уставилась в пространство.
Поезд прибыл в Моголшорай. Комола шла, как во сне. Она не замечала ни шума вокзала, ни сутолоки людской толпы. Так же машинально пересела она с одного поезда на другой.
Наступило время отхода поезда, как вдруг Комола вздрогнула, услышав хорошо знакомый голос.
— Мать! — окликнули ее.
Комола обернулась, выглянула на платформу и увидела Умеша. Радость осветила ее лицо.
— Это ты, Умеш!
Умеш открыл дверь купе, и в то же мгновенье Комола была на платформе, а Умеш, почтительно склонившись к ее ногам, приветствовал ее. Он широко улыбнулся ей.
В ту же секунду кондуктор захлопнул дверь купе.
— Комола, что ты делаешь! — кричала Нобинкали, беснуясь в купе. — Поезд отходит! Садись скорее! Садись!
Но Комола ничего не слышала. Раздался свисток, паровоз запыхтел и двинулся с места.
— Откуда ты, Умеш? — спросила Комола.
— Из Гаджипура.
— Все здоровы? Как дядя? — засыпала его вопросами девушка.
— Он хорошо себя чувствует.
— А как поживает моя диди?
— Она все глаза по тебе выплакала, мать.
Глаза самой Комолы наполнились слезами.
— Как Уми? Помнит ли она еще свою тетю?
— Пока ей не наденут браслеты, которые ты подарила, она ни за что не будет пить молока, — отвечал Умеш. — А как наденет их, начинает размахивать ручонками и кричать: «Тетя уехала!..» Мать, глядя на нее, все плачет.
— Как ты здесь оказался? — продолжала спрашивать Комола.
— Мне надоело жить в Гаджипуре, вот я и уехал.
— Куда же ты теперь направляешься?
— Поеду с тобой, мать.
— Но у меня нет ни пайсы.
— У меня есть деньги, — заверил ее Умеш.
— Откуда? — удивилась Комола.
— Я не истратил те пять рупий, которые ты мне тогда дала, — ответил Умеш и, достав из узелка деньги, показал их Комоле.
— Тогда пошли. Мы едем в Бенарес. Скажи, сможешь ты купить два билета?
— Смогу, — ответил Умеш и через минуту принес билеты.
Поезд уже стоял под парами, и Умеш усадил Комолу в женское купе, сказав, что поедет в соседнем отделении.
— А теперь куда мы пойдем? — спросила Комола, когда они вышли из поезда в Бенаресе.
— Об этом не беспокойся, мать, — сказал Умеш. — Я знаю хорошее место.
— Хорошее место? Что ты здесь знаешь? — изумилась Комола.
— Я все здесь знаю. Скоро сама увидишь, куда я тебя доставлю!
С этими словами Умеш помог Комоле сесть в экипаж, а сам уселся на козлы. Наконец, экипаж остановился, и Умеш, слезая с козел, крикнул:
— Мать, мы уже приехали!
Выйдя из экипажа, Комола пошла за Умешем.
— Дедушка дома? — крикнул Умеш, когда они вошли в дом.
В соседней комнате послышался шум.
— Неужели это Умеш! Откуда ты появился?
В это мгновенье сам дядя Чокроборти с хуккой в руках появился в дверях комнаты. Лицо Умеша расплылось в довольной улыбке, а изумленная Комола упала на землю перед дядей, совершая пронам. Чокроборти не мог вымолвить ни слова, он не знал, что говорить, что делать со своей трубкой. Наконец, взяв Комолу за подбородок, он поднял ее смущенное лицо и сказал:
— Ты вернулась к нам, дорогая. Идем, идем наверх. Шойла, Шойла! Посмотри, кто к нам приехал! — закричал он.
Шойлоджа быстро спустилась по лестнице на веранду. Приветствуя свою диди, Комола взяла прах от ее ног. Шойла порывисто заключила девушку в свои объятия и, прижимая к груди, покрыла поцелуями ее лоб. Слезы текли по щекам молодой женщины.
— Дорогая моя, мы так горевали о тебе!
— Не надо об этом, — прервал дочь Чокроборти. — Лучше позаботься, чтобы накормили ее.
В это время, протягивая ручонки, с криком «тетя, тетя», вбежала Уми. Комола подхватила ее на руки и, жадно целуя, прижала к груди.
Шойлоджа не могла без слез смотреть на грязную одежду Комолы. Она потащила ее с собой, заботливо выкупала и заставила надеть свое лучшее платье.
— Ты, видно, плохо спала прошлую ночь, — сказала она, когда Комола оделась. — Глаза совсем ввалились. Сейчас же иди и ложись. А я пока приготовлю что-нибудь поесть.
— Нет, диди, — попросила Комола, — я тоже пойду с тобой на кухню.
Шойлоджа согласилась, и подруги пошли вместе.
Надо сказать, что, когда по совету Окхоя Чокроборти собрался в Бенарес, Шойлоджа сказала ему;
— Отец, я тоже поеду с тобой.
— Но ведь Бипину сейчас не дадут отпуска, — ответил дядя.
— Ну и что же, я поеду одна. Мама остается, она о нем позаботится.
До этого Шойла еще ни разу не расставалась с мужем.
Дядя согласился, и они вместе отправились в Бенарес. На платформе они увидели Умеша. Он тоже сошел с этого поезда. Чокроборти с дочерью были удивлены и спросили его, куда он направляется. Оказалось, что Умеш приехал с той же целью, что и они. Зная, что он нужен в Гаджипуре и что неожиданное его исчезновение огорчит хозяйку, Чокроборти и Шойлоджа уговорили его вернуться.
Читателю уже известно, что случилось после. Умеш не мог оставаться в Гаджипуре без Комолы. В один прекрасный день он взял деньги, которые хозяйка дала ему, отправляя на рынок, переехал на другой берег Ганга и очутился на вокзале, где и встретил Комолу. В тот день жена Чокроборти напрасно ругала мальчугана.
Глава пятьдесят пятая
Через день Окхой снова посетил дом Чокроборти. Дядя решил не рассказывать ему о том, что Комола нашлась. Он уже догадался, что Окхой не друг Ромеша.
Никто не расспрашивал Комолу, почему она ушла из дому и где жила все это время. Все было так, словно Комола несколько дней назад вместе со всеми приехала в Бенарес. Только нянька Уми, Лочминия, собралась отчитать девушку, но дядя тотчас же отозвал ее и строго-настрого приказал больше не делать этого.
Ночью Шойлоджа и Комола легли спать вместе. Шойлоджа привлекла Комолу к себе и, обняв ее, стала гладить по голове, безмолвно призывая поведать о своем горе.
— Диди, что вы тогда подумали? — спросила Комола. — Наверно, сердилась на меня.
— Да разве мы ничего не понимаем? — ответила Шойла. — Мы решили, что ты поступила так потому, что не видела другого выхода. Мы упрекали лишь бога за то, что он послал тебе такие страданья. Почему он наказывает тех, кто не совершил никакого преступления?
— Ты готова выслушать все, что я расскажу тебе?
— Конечно, сестра, — ответила Шойла. Голос ее был полон любви к Комоле.
— Я и сама не пойму, почему раньше не рассказала тебе всего, — начала Комола. — В то время я не могла ни о чем думать. Случившееся как гром поразило меня, от стыда я не смела даже смотреть вам в лицо. У меня нет ни матери, ни отца. Ты, диди, стала для меня и матерью и сестрой. Поэтому я расскажу тебе то, чего никому еще не говорила.
Комоле трудно было говорить лежа, и она села в постели. Шойла уселась напротив. И вот в темноте Комола рассказала ей все, что произошло с ней после свадьбы.
Услышав, что девушка и до свадьбы и в брачную ночь ни разу не взглянула на лицо мужа, Шойла воскликнула:
— Я и не думала, что ты такая глупенькая девочка! Я была моложе тебя, когда выходила замуж, но ни капли не смущалась и не упускала ни одной возможности получше разглядеть моего жениха.
— Это было не смущение, диди. Все считали, что я уже засиделась в невестах, и вдруг свадьба! Мои подруги дразнили меня. Я ни разу не посмотрела в его сторону, боялась, как бы не подумали, что я очень рада выйти, наконец, замуж. Мне казалось оскорбительным даже в глубине души чувствовать интерес к нему. И сейчас я горько расплачиваюсь за это.
Комола помолчала, а затем снова заговорила:
— Тебе уже известно, что после свадьбы мы потерпели на Ганге крушение, ты знаешь, как мы спаслись. Когда я рассказала тебе об этом, я еще не знала, что человек, который спас меня и в дом которого я попала, не был моим мужем.
Шойла вскочила, бросилась к Комоле и прижала ее к себе.
— Бедная ты моя! Теперь я все понимаю. Какое огромное несчастье!
— Что и говорить, диди. Ужасно, что всевышний спас меня только для того, чтобы подвергнуть новым мукам.
— А Ромеш-бабу тоже ни о чем не догадывался?
— Однажды в Калькутте, когда он назвал меня Сушилой, я спросила его, почему все в доме так меня называют, когда мое имя Комола. Теперь я догадываюсь, что тогда он, по всей вероятности, и понял свою ошибку. Как только я вспоминаю дни, проведенные с ним, мной овладевает стыд.
Комола замолчала. Но мало-помалу Шойлоджа узнала от нее всю ее историю.
— Сестра, судьба твоя ужасна! Однако я невольно думаю, какое счастье, что ты попала к Ромешу-бабу, — сказала Шойла. — Что ни говори, а мне жаль его. Но сейчас постарайся заснуть, Комола. Уже очень поздно. От слез и бессонницы ты прямо почернела. Завтра решим, что делать.
На следующий день Шойлоджа взяла у Комолы письмо Ромеша, вызвала отца в свою комнату и вручила ему это послание. Чокроборти надел очки, внимательно прочитал его, затем сложил письмо, снял очки и обратился к дочери:
— Так… Что же теперь делать?
— Отец, Уми уже несколько дней, как простудилась и кашляет. Не позвать ли нам доктора Нолинакху? О нем и его матери столько говорят в Бенаресе, а я еще ни разу его не видела.
Доктор пришел. Шойле не терпелось поскорей взглянуть на него.
— Идем, скорее идем, Комола, — торопила она.
В доме Нобинкали Комола, желая увидеть Нолинакху, забыла обо всем. Здесь же от смущения она не могла заставить себя даже сдвинуться с места.
— Слушай, несчастная, я тебя уговаривать не стану, — говорила Шойла. — На это нет времени. Болезнь Уми только предлог, и доктор не будет задерживаться. Я не успею посмотреть на него, если буду возиться с тобой.
И Шойлоджа потащила Комолу к дверям комнаты, где находился Нолинакха.
Нолинакха осмотрел Уми, прописал лекарство и ушел.
— Ну вот, Комола. После всех твоих горестей всевышний ниспослал тебе, наконец, радость, — сказала Шойла после ухода доктора. — Наберись немного терпения. Скоро все устроится. А пока мы будем регулярно приглашать доктора к Уми, так что ты сможешь его видеть.
Через несколько дней, выбрав время, когда Нолинакхи не было дома, дядя пришел к нему.
На слова слуги, что доктора нет, дядя сказал:
— Но ведь госпожа-то дома! Пойди доложи ей, что ее хочет видеть один старый брахман.
Сверху, от Хемонкори, последовало приглашение.
— Мать, своим благочестием вы славитесь на весь Бенарес, — сказал он, приветствуя почтенную женщину. — И я пришел засвидетельствовать вам свое уважение. Другой цели у меня нет. Моя внучка заболела, и я хотел бы пригласить вашего сына к ней. Но оказалось, что его нет дома. Тогда я решил, что не уйду, пока не увижу вас.
— Нолин сейчас вернется. Подождите немного, — предложила Хемонкори. — Уже поздно, я прикажу покормить вас.
— Чувствую, что вы не отпустите меня без угощения, — ответил дядя. — Люди всегда узнают во мне любителя вкусно поесть. Все, кто меня знает, прощают мне эту слабость.
Хемонкори с радостью угощала дядю.
— Приходите ко мне завтра на обед, — пригласила она. — А сегодня я не могла хорошо угостить вас, так как не ждала вашего прихода.
— Когда у вас будет что-нибудь вкусное, вспомните старого брахмана, — шутил дядя. — Кстати, я живу недалеко от вас. Если хотите, я возьму с собой вашего слугу и покажу ему свой дом.
Теперь дядя часто навещал Хемонкори и вскоре стал своим человеком в ее доме.
Во время одного из его посещений Хемонкори позвала к себе сына и оказала ему:
— Нолин, ты не должен брать с господина Чокроборти деньги за лечение.
— Он готов выполнить желание своей матери раньше, чем она его выразит, — рассмеялся дядя. — Ваш сын — благородный человек: узнает бедняка о первого взгляда.
В течение нескольких дней дядя о чем-то шептался с дочерью и, наконец, однажды утром оказал Комоле:
— Сегодня мы с тобой пойдем купаться на Дошашомедх-Гхат.
— А ты, диди, пойдешь? — спросила Комола Шойлу.
— Нет, дорогая, Уми сегодня нездоровится.
После купанья дядя повел Комолу другой дорогой.
Пройдя немного, они увидели пожилую женщину.
Она медленно шла, неся кувшин, наполненный водой из Ганга.
— Дорогая, поздоровайся с этой женщиной, — сказал дядя, обернувшись к девушке. — Это мать нашего доктора.
Комола от неожиданности вздрогнула. Она с глубоким почтением взяла прах от ног матери Нолинакхи.
— Кто эта девушка? Какая красавица! Прямо сама богиня Лакшми! — восхищалась Хемонкори, подняв покрывало, закрывавшее лицо Комолы, и разглядывая ее смущенное лицо. — Как тебя зовут, девочка?
Комола собралась было ответить, но дядя перебил ее:
— Имя ее Харидаси. Это дочь моего двоюродного брата. Она сирота и живет с нами.
— Не навестите ли вы меня, господин Чокроборти? — предложила Хемонкори. — Пойдемте ко мне сейчас.
В доме Хемонкори дядя уселся в кресло, а Комола опустилась рядом на пол.
— Моя племянница очень несчастна, — заговорил дядя. — На следующий день после свадьбы муж ее решил стать санниаси и покинул ее. После этого она с ним не встречалась. Единственное ее желание — посвятить себя служению богам и поселиться в Бенаресе. Но я живу не здесь, у меня служба, я должен работать, чтобы прокормить семью. И у меня нет возможности устроиться здесь вместе с ней. Вы бы очень выручили меня, если бы согласились оставить ее в своем доме. Она была бы для вас вместо дочери. Если же вам будет неудобно, вы всегда сможете отослать ее ко мне, в Гаджипур. Но я уверен, через дня два вы поймете, что она истинная жемчужина, и не захотите расстаться с ней и на минуту.
— Что ж, я согласна, — сказала Хемонкори, так как предложение дяди пришлось ей по душе. — Буду рада оставить у себя такую девушку. Много раз я пыталась взять на воспитание какую-нибудь чужую девочку прямо с улицы. Но они не могли привыкнуть ко мне. Теперь я получила Харидаси. Вы можете быть вполне спокойны за нее. Вам, конечно, от многих доводилось слышать о моем сыне Нолинакха. Он — прекрасный сын, но, кроме него, у меня никого нет.
— Все знают Нолинакху-бабу, — заверил ее дядя. — И я рад, что он находится при вас. Я слышал, что с тех пор, как утонула его жена, он живет почти отшельником.
— Что было, то прошло, — отвечала Хемонкори. — Лучше не вспоминайте о том случае. Дрожь охватывает меня, когда я о нем думаю.
— Раз вы согласны, я оставляю Харидаси у вас. А теперь разрешите откланяться. Иногда я буду навещать ее. У Харидаси есть старшая сестра, — она зайдет познакомиться с вами.
Когда дядя ушел, Хемонкори подозвала Комолу:
— Подойди ко мне, дорогая. Дай я посмотрю на тебя. Ты еще совсем дитя. Бросить такую красавицу! Есть же каменные души на свете! Молю судьбу, чтобы он вернулся. Всевышний не для того дал тебе красоту, чтобы она пропадала зря.
Старая женщина взяла Комолу за подбородок и поцеловала ее.
— Здесь у тебя не будет сверстниц. Не заскучаешь ли ты со мной? — спросила она.
— Нет! — ответила Комола, подняв на Хемонкори свои большие кроткие глаза.
— Не могу придумать, чем бы тебя занять на весь день, — продолжала Хемонкори.
— Я буду для вас работать.
— Ах ты, маленькая негодница! Работать на меня! У меня на свете один-единственный сын, да и тот живет, как санниаси. Хоть бы раз сказал он мне: «Мама, мне нужно то-то и то-то… Я хотел бы съесть вот это» или «мне это нравится». Как я была бы тогда довольна и ни в чем не стала бы ему отказывать. Но он ни разу не сделал так. Он совсем не оставляет себе денег, которые зарабатывает, и скрывает от всех, что помогает беднякам. Дорогая, ты будешь рядом со мной круглые сутки, и я хочу предупредить заранее, что тебе надоест слушать, как я хвалю сына. Но к этому придется привыкнуть.
Сердце Комолы радостно забилось, и она опустила глаза, чтобы скрыть свое волнение.
— Какое же придумать для тебя занятие? — размышляла Хемонкори. — Шить умеешь?
— Не очень хорошо, мать.
— Ну и ладно, я буду тебя учить. А читать умеешь?
— Умею!
— Отлично! Я без очков уже ничего не вижу. Будешь читать мне вслух.
— Я умею еще готовить, — сказала Комола.
— Увидев твое лицо, лицо Дурги, всякий подумал бы, что ты хорошо стряпаешь. До недавнего времени я сама готовила еду для себя и Нолина. Но с тех пор, как я заболела, Нолин готовит себе сам, чтобы не принимать пищи из чужих рук. А теперь, воспользовавшись твоим согласием, я положу конец его стряпне. Не возражаю, если ты будешь готовить и для меня, когда я сильно заболею. Только что-нибудь попроще. Дойдем, дорогая, я покажу тебе кухню и кладовку.
Хемонкори повела Комолу знакомиться с их небольшим хозяйством. Когда они пришли на кухню, Комола решила, что это самый подходящий момент спросить позволения приготовить обед. Услышав просьбу девушки, Хемонкори улыбнулась.
— Царство хозяйки — ее кухня и кладовая, — сказала она. — От многого пришлось мне отказаться в жизни. Только это у меня и осталось. Но так и быть, готовь сегодня ты. Постепенно я все хозяйство передам в твои руки и смогу всецело посвятить себя служению всевышнему. Но от домашних дел не отойдешь сразу. Кухня — дело в доме немаловажное.
Хемонкори объяснила Комоле, что и как приготовить, и удалилась в свою молельню. Таким образом, жизнь Комолы в доме Хемонкори началась с испытания ее в кулинарном искусстве.
Со свойственной ей аккуратностью принялась девушка за работу: обвязала вокруг талии конец сари, волосы заколола пучком на затылке.
Вернувшись домой, Нолинакха всегда прежде всего шел проведать мать. Беспокойство о ее здоровье никогда не покидало его. Вот и сегодня, придя домой, он услышал шум на кухне и почувствовал запах готовящейся пищи. Уверенный в том, что на кухне мать, он поспешил туда.
На звук его шагов Комола быстро повернулась, и глаза ее встретились с глазами Нолинакхи. От неожиданности ложка выпала у нее из рук. Тщетно торопилась она накинуть на голову конец сари, позабыв о том, что он обвязан вокруг талии. Наконец, ей удалось кое-как прикрыть свое лицо. Крайне удивленный, Нолинакха молча вышел из кухни. Девушка подняла упавшую ложку, руки ее дрожали.
Когда Хемонкори, закончив свои молитвы, пришла на кухню, обед был уже готов. Комола вымыла и убрала все помещение, и оно сверкало чистотой, нигде не валялось ни обгоревших щепок, ни очистков от овощей.
— Да ты, дорогая моя, истинная брахманка! — воскликнула довольная Хемонкори.
За обедом Нолинакха сел против матери, а встревоженная Комола притаилась за дверью, стараясь не пропустить ни слова. Она боялась пошевельнуться и замирала от страха, что обед ее не удался.
— Нолин, как тебе нравится сегодня обед? — спросила Хемонкори.
Нолинакха никогда не был разборчив в еде, и мать прежде не задавала ему подобных вопросов. Но сейчас он уловил в ее голосе особое любопытство.
Хемонкори не знала еще, что Нолинакха уже успел заметить таинственное появление на кухне молоденькой незнакомки. С тех пор, как здоровье матери ухудшилось, он много раз уговаривал ее взять кухарку, но Хемонкори не соглашалась. Поэтому Нолинакха был рад увидеть на кухне нового человека. Разумеется, он даже не разобрался в качестве приготовленных кушаний, однако с большим воодушевлением ответил:
— Изумительный обед, ма!
Этот восторженный отзыв был услышан и за дверью. Не в силах дольше оставаться там, Комола, прижав руки к тяжело вздымавшейся груди, убежала в соседнюю комнату.
После обеда Нолинакха, как обычно, отправился к себе в кабинет, чтобы предаться размышлениям наедине с собой.
Вечером Хемонкори позвала Комолу к себе и занялась ее прической. Покрасив пробор в волосах девушки киноварью, она стала оглядывать Комолу, то так, то этак поворачивая ее голову.
«Ах, если бы у меня была такая невестка!» — вздыхала про себя Хемонкори.
В эту ночь у старой женщины снова случился приступ лихорадки, и Нолинакха был этим крайне обеспокоен.
— Ма, тебе нужно на некоторое время уехать из Бенареса, здесь ты не поправишься, — сказал он.
— Нет, мой мальчик, — ответила Хемонкори. — Я не покину Бенарес, если даже это продлит на несколько дней мою жизнь. А ты, дорогая, все еще стоишь за дверью? — обратилась она к Комоле. — Иди, иди спать. Нельзя же бодрствовать всю ночь. Я проболею долго, успеешь еще поухаживать за мной. Что с тобой станет, если ты не будешь спать ночами? Ступай и ты, Нолин, к себе в комнату.
После ухода Нолинакхи Комола села на постель к Хемонкори и принялась растирать ей ноги.
— Вероятно, в одном из своих рождений[58] ты была моей матерью. Иначе ты бы так обо мне не заботилась. Знаешь, у меня вошло в обычай не позволять никому чужому ухаживать за мной. Но твое прикосновение действует на меня успокоительно. Странно, но мне кажется, что я давно уже знаю тебя, и потому не могу считать чужой. А теперь отправляйся спать и ни о чем не беспокойся. Нолин будет в соседней комнате. Когда я больна, он никому не разрешает смотреть за мной — все делает сам. Тысячу раз я спорила с ним, ню разве его уломаешь! Нолин обладает благодарной способностью: он может просидеть всю ночь без сна, и это на нем нисколько не отражается. Вероятно потому, что ничто не в состоянии вывести его из себя. Я же совсем другая. Ты, девочка, в душе, наверно, смеешься надо мной: опять она завела разговор о своем Нолине и теперь уже не скоро кончит. Но так всегда бывает, когда у матери единственный сын. А такой, как у меня, есть не у каждой! Сказать по правде, я порой думаю, что Нолин относится ко мне, как отец. Не знаю, чем отплатить за всю его доброту! Опять я говорю о Нолине! Нет, нет, так нельзя, хватит на сегодня… Ты иди… Если ты останешься со мной, я не смогу заснуть. Старики всегда так. Если с ними кто-нибудь рядом, никак не могут удержаться, чтобы не поболтать.
На следующий день все заботы по хозяйству Комола взяла на себя.
Отгородив часть восточной веранды, Нолинакха отделал ее мрамором, и у него получилось что-то вроде кабинета. Там всю вторую половину дня он обычно предавался размышлениям.
Войдя после купанья утром в свой кабинет, Нолинакха не узнал его. Комната была чисто выметена и прибрана; бронзовая курильница для благовоний блестела, словно золотая; пыль на полках вытерта, а книги и брошюры расставлены по порядку. Вид заботливо убранной комнаты, которая сверкала чистотой в льющихся через открытую дверь лучах утреннего солнца, наполнил душу Нолинакхи радостной теплотой.
Рано утром Комола сходила на берег Ганга и принесла к постели Хемонкори кувшин, полный священной воды.
— Ты одна ходила на Ганг! — воскликнула Хемонкори, увидев свежевымытое лицо Комолы. — А я проснулась и думаю, с кем бы мне послать тебя купаться, ведь сама я больна. Ты такая молоденькая, и идти одной…
— Мать, один из слуг моего дяди соскучился по мне и вчера вечером пришел меня навестить. С ним я и ходила, — перебила ее Комола.
— Видно, твоя тетя о тебе беспокоится. Ну что ж, хорошо, пусть этот слуга останется у нас. Он, будет помогать тебе по хозяйству. Где же он? Позови его сюда.
Комола привела Умеша, и он низко поклонился старой женщине.
— Как тебя зовут? — спросила Хемонкори.
Без всякой видимой причины лицо Умеша расплылось в улыбке.
— Умеш, — ответил он.
Хемонкори тоже рассмеялась.
— Кто это подарил тебе такое красивое дхоти?
— Мать подарила, — указал Умеш на Комолу.
— А я думала, Умеш получил его в подарок от своей тещи, — пошутила Хемонкори, взглянув на девушку.
Так Умеш снискал любовь Хемонкори и остался жить у нее в доме.
С помощью мальчика Комола быстро управилась со всей дневной работой, а затем направилась в спальню Нолинакхи. Она подмела и убрала ее, а постель вынесла на солнце. В углу валялась грязная одежда доктора. Комола выстирала ее, высушила и, выгладив, повесила на вешалку. Все находившиеся в комнате вещи она несколько раз перетерла тряпкой, хотя они и без этого были чистые. У изголовья кровати стоял платяной шкаф. Открыв его, Комола увидела, что он пуст, лишь на нижней полке лежала пара деревянных сандалий. Девушка взяла их в руки и прижалась к ним лицом. Потом, держа их у груди словно маленького ребенка, она краем сари стерла с них пыль.
Днем, когда Комола сидела у Хемонкори, растирая ее больные ноги, в комнату с букетом цветов в руках вошла Хемнолини и низко поклонилась Хемонкори.
— Иди сюда, Хем. Садись, — сказала Хемонкори, приподнимаясь с постели. — Как здоровье Онноды-бабу?
— Вчера он не зашел к вам, потому что был болен, — отвечала Хемнолини. — Но сегодня ему лучше.
— Взгляни на нее, дорогая, — сказала Хемонкори, указывая на Комолу. — Моя мать умерла, когда я была маленькой, но теперь она снова вернулась ко мне — я встретила ее вчера на дороге. Имя моей матери было Харибхабани, а сейчас ее зовут Харидаси. Скажи, Хем, видела ли ты когда-нибудь такую красавицу?
Комола потупилась от смущения, но постепенно овладела собой.
— Как вы себя чувствуете? — обратилась Хемнолини к старой женщине.
— Я, знаешь, в таком возрасте, когда лучше об этом не спрашивать. Если еще жива сегодня — и то хорошо. Мне осталось недолго обманывать время. И все же я рада, что тебя беспокоит мое здоровье. Давно я хочу поговорить с тобой, и все не было удобного случая. Вчера ночью во время приступа лихорадки я решила, что откладывать больше нельзя. Когда я была молоденькой девушкой, то сгорала от стыда, если кто-нибудь заговаривал со мной о замужестве, но современные девушки на нас непохожи. Вы образованны, совершенна самостоятельны, и с вами можно говорить прямо. Так вот я и хочу поговорить с тобой без обиняков, тебе нечего меня стесняться. Скажи мне, милая, говорил тебе отец о нашем разговоре?
Хемнолини опустила глаза.
— Да, говорил.
— Значит, ты не согласна? — продолжала Хемонкори. — Ведь если бы ты приняла предложение, он тотчас бы пришел ко мне. Ты, видно, не решаешься выйти замуж за Нолина потому, что он живет, как отшельник. Хоть он и сын мой, но я постараюсь быть беспристрастной. Со стороны кажется, что он не способен на глубокое чувство. Но все вы глубоко ошибаетесь. Я энаю Нолина, знаю всю его жизнь, и мне можно верить. Он способен полюбить так сильно, что даже сам боится этого и подавляет свои чувства. Уверяю тебя, что тот, кто сможет разбить скорлупу его аскетизма, найдет путь к его сердцу и увидит, что оно полно нежности и любви. Хем, дорогая, ты ведь не девочка, а взрослая образованная девушка. Ты сама следуешь учению моего Нолина. Я умру спокойно, лишь когда увижу тебя его женой. Уверена, что после моей смерти он уже не женится. Боюсь и думать, что с ним тогда будет! Все пойдет прахом. Я знаю, дорогая, что ты относишься к Нолину с уважением. Так почему же ты отвергаешь его?
— Мать, я не стану возражать, если вы считаете меня достойной вашего сына, — сказала Хемнолини и опустила глаза.
Хемонкори привлекла ее к себе и поцеловала в голову. Больше они к этому разговору не возвращались.
— Харидаси, эти цветы… — начала Хемонкори, но, оглянувшись, заметила, что Харидаси исчезла. Во время разговора она неслышно выскользнула из комнаты.
Хемнолини была смущена разговором с Хемонкори, а последняя чувствовала себя утомленной. И Хем решила дольше не задерживаться.
— Мать, я должна уйти сегодня пораньше. Отец плохо себя чувствует, — сказала она, прощаясь.
— Приходи, дорогая, поскорее, — сказала Хемонкори, погладив девушку по голове.
Хемнолини ушла, а Хемонкори послала за Нолинакхой.
— Нолин, больше я ждать не намерена, — сказала она.
— Что случилось? — спросил Нолинакха.
— Сейчас я говорила с Хем. Она согласна. И я не буду больше слушать твоих отговорок. Ты хорошо знаешь, какое у меня здоровье. А я не смогу успокоиться, пока вы не будете помолвлены. Последнюю ночь, тревожась об этом, я почти не спала.
— Хорошо, ма. Не волнуйся больше и спи спокойно. Все будет так, как ты желаешь.
Когда Нолинакха ушел, Хемонкори позвала Харидаси. Девушка вышла к ней из соседней комнаты. Уже наступили сумерки, и в царившем полумраке лицо Комолы почти нельзя было рассмотреть.
— Поставь цветы в воду и укрась ими комнаты, — приказала Хемонкори, передавая Комоле букет, из которого оставила для себя только розу.
Одну вазу с цветами Комола поставила на письменный стол в кабинете Нолинакхи, другую — в его спальне. Затем она открыла шкаф, положила оставшиеся цветы на его сандалии и, рыдая, упала на пол. Ничего в целом мире не было у нее, кроме этих сандалий, но скоро она будет лишена права поклониться даже им.
В этот момент в комнату кто-то вошел. Комола вскочила, быстро захлопнула дверцу шкафа и оглянулась. Перед ней стоял Нолинакха. Бежать было поздно. Сгорая от стыда, девушка желала слиться с наступающей вечерней темнотой.
Увидя в своей спальне Комолу, Нолинакха тотчас же вышел, а она бросилась в соседнюю комнату. Тогда Нолинакха вернулся в спальню. Что делала эта странная девушка в его шкафу? Почему, увидев его, она так поспешно захлопнула дверцу? Мучимый любопытством, Нолинакха открыл шкаф и увидел свои сандалии, украшенные свежесорванными цветами. Он молча закрыл дверцу и подошел к окну. Пока он смотрел на небо, вечерние сумерки быстро поглотили последние лучи заходящего зимнего солнца.
Глава пятьдесят шестая
Дав согласие выйти за Нолинакху, Хемнолини старалась убедить себя, что это для нее большое счастье.
«Старые узы порваны, — тысячу раз мысленно повторяла Хемнолини. — Омрачавшие небо моей жизни грозовые тучи исчезли. Теперь я свободна! — настойчиво внушала она себе. — Я навсегда порвала с прошлым!»
Наконец, она почувствовала радость отречения от мирских желаний. Когда перестает дымиться погребальный костер с телом близкого существа, человек освобождается на время от бремени всех житейских забот, жизнь ему кажется игрой, а недавние желания — пустыми. Так произошло и с Хемнолини. Она наслаждалась покоем, который приходит после долгих, мучительных страданий.
«Будь жива моя мать, я могла бы порадовать ее своим освобождением. Но как мне рассказать об этом отцу?» — размышляла девушка, возвратившись в тот вечер домой.
Оннода-бабу лег рано, сославшись на плохое самочувствие, и Хемнолини прошла к себе. Ночью она раскрыла свой дневник и долго над ним сидела.
«Я порываю с миром, я умерла для него, — писала она, — у меня не было веры, что всевышний освободит меня от старых оков и вдохнет мне в душу новую жизнь. Но сегодня тысячу раз с благоговением припадала я к его стопам и теперь полна решимости вступить на путь служения долгу. Я недостойна счастья, которое дарует мне судьба. О всевышний, пошли мне силы сохранить его до конца моих дней! Я верю в то, что человек, с чьей судьбой должна соединиться моя ничтожная судьба, сделает мою жизнь полной и счастливой. И лишь молю, чтобы сама я сумела наполнить счастьем и его дни».
Закрыв дневник, Хемнолини вышла в темный сад. Стояла тихая, звездная ночь. Девушка долго прогуливалась по усыпанным гравием дорожкам. Бескрайное небо нашептывало ее омытой слезами душе слова успокоения.
На следующий день, когда Оннода-бабу собирался отправиться вместе с ней в дом Нолинакхи, к их дому подкатил экипаж. С козел спрыгнул один из докторских слуг и доложил, что прибыла его госпожа. Оннода-бабу поспешил навстречу гостье. Он появился в дверях дома, когда Хемонкори уже вышла из экипажа.
— Сегодня нам выпало большое счастье! — приветствовал ее Оннода-бабу.
— Я пришла благословить вашу дочь, — сказала Хемонкори, входя в дом.
Оннода-бабу провел ее в гостиную и, заботливо усадив на диван, сказал:
— Посидите, пожалуйста, сейчас я позову Хем.
Хемнолини одевалась, готовясь ехать в гости. Но, услышав о приезде Хемонкори, она торопливо выбежала в гостиную и поздоровалась с ней.
— Пусть будет жизнь твоя долгой и счастливой! Протяни мне свои руки, дорогая, — сказала Хемонкори и надела на них два массивных золотых браслета с изображением чудовища мокор[59].
Звенящие браслеты свободно повисли на худых руках девушки. Хемнолини низко склонилась, благодаря за подарок, а Хемонкори взяла в обе ладони ее лицо и поцеловала в лоб. От этой ласки и благословения на сердце Хемнолини стало хорошо и радостно.
— Дорогой тесть, — обратилась Хемонкори к Онноде-бабу, — приглашаю вас завтра с дочерью к себе.
На следующее утро Оннода-бабу и Хемнолини, как обычно, сидели в саду за чаем. Изнуренное болезнью лицо Онноды-бабу за одну ночь порозовело и словно помолодело от счастья. Время от времени он поглядывал на спокойные черты дочери, и ему начинало казаться, что кротостью и нежностью они сильно напоминают черты лица его покойной жены. Недавние слезы лишь смягчили блеск радости, светившийся в глазах девушки.
Сегодня все мысли Онноды-бабу были заняты лишь тем, что пора собираться в гости и никак не следует опаздывать. Дочери то и дело приходилось уверять его, что времени у них еще много. И в самом деле, было всего только восемь часов утра.
— Нет, нет… На сборы уйдет очень много времени, — возражал Оннода-бабу. — Лучше прийти раньше, чем опоздать.
В это время к садовым воротам подъехал нагруженный чемоданами экипаж. С криком:
— Дада приехал! — Хемнолини бросилась к нему.
Из экипажа вышел улыбающийся Джогендро.
— Здравствуй, Хем. Как ты поживаешь? — сказал он.
— Кого это ты с собой привез? — спросила Хемнолини.
Джогендро рассмеялся.
— Это папе новогодний подарок.
На ступеньке экипажа появился Ромеш. При виде его Хемнолини обратилась в бегство.
— Не убегай, Хем! Выслушай меня!.. — крикнул ей вслед Джогендро.
Но она уже не слышала призыва брата и мчалась быстро, словно спасалась от привидения.
Несколько секунд Ромеш стоял ошеломленный, не зная, что делать: то ли догонять девушку, то ли вернуться назад в экипаж.
— Пойдем, Ромеш. Отец здесь, в саду, — сказал Джогендро и, взяв его за руку, подвел к Онноде-бабу.
Тот еще издали узнал Ромеша. Появление юноши его сильно расстроило.
«Вот и опять новое препятствие», — подумал он, проводя рукой по волосам.
Ромеш поклонился. Оннода-бабу жестом пригласил его сесть и обратился к сыну:
— Ты во-время приехал, Джоген. Я как раз собирался послать тебе телеграмму.
— Зачем? — спросил Джогендро.
— Скоро предстоит свадьба Хем с Нолинакхой. Вчера его мать благословила Хем.
— Как могли вы столь поспешно и необдуманно решиться на этот брак, отец? Неужели вы не могли посоветоваться со мной?
— Трудно понять, чего ты собственно хочешь, Джоген! — воскликнул Оннода-бабу. — Я еще не был даже знаком с Нолинакхой, когда ты изо всех сил старался, чтобы произошел этот брак!
— Мало ли что когда-то было! Стоит ли об этом вспоминать! Но пока еще не поздно помешать этой свадьбе! Прежде всего я должен многое тебе объяснить. Сначала выслушай меня, а там поступай, как сочтешь нужным.
— Хорошо, мы это сделаем как-нибудь потом. Сейчас у меня нет времени. Мне нужно ехать.
— Куда?
— Мать Нолинакхи пригласила нас обоих к себе. А вы можете пообедать здесь. И ты, Джоген, и…
— Нет, нет! О нас, прошу, не беспокойся! — перебил его Джогендро. — Мы с Ромешем пообедаем где-нибудь в гостинице. Надеюсь, к вечеру вы вернетесь? Мы тогда зайдем к вам.
Оннода-бабу не мог заставить себя даже из приличия заговорить с Ромешем. Он не находил в себе сил хотя бы взглянуть на него. Ромеш также не проронил ни слова. Когда настало время прощаться, он лишь молча поклонился Онноде-бабу.
Глава пятьдесят седьмая
— Я пригласила к нам завтра пообедать Хем и ее отца, — еще накануне сообщила Хемонкори Комоле. — Подумай хорошенько, чем нам их угостить. Тестя следует угощать так, чтобы вселить в него уверенность, что его дочь голодать у нас не будет. Что ты на это скажешь, милая? Я знаю, ты прекрасная кухарка и меня не подведешь. Не помню, чтобы когда-либо мой сын высказывал свое мнение о том, что ест, — но вчера он не находил слов для похвал твоему обеду. Почему у тебя нынче такой утомленный вид? Ты плохо себя чувствуешь?
— Нет, я здорова, мать, — ответила Комола, пытаясь изобразить на своем печальном личике подобие улыбки.
Хемонкори с сомнением покачала головой.
— Мне кажется, будто ты чем-то опечалена? Вещь вполне естественная, и тебе нечего этим смущаться. Не смотри на меня, как на чужого человека, ведь я отношусь к тебе, как к родной дочери. Почему ты не хочешь мне рассказать, что тебя огорчает? Может, у тебя появилось желание навестить своих родственников?
— Нет, мать! — взволновалась Комола. — Я ничего не хочу, кроме как служить вам!
Но Хемонкори словно и не слышала ее восклицания.
— Не погостить ли тебе несколько дней у своего дяди? — продолжала она. — А потом, если захочешь, снова вернешься ко мне.
Такое предложение очень встревожило Комолу.
— Мать! — воскликнула она. — Когда я с вами, мне не надо никого на свете! Если я чем-нибудь перед вами провинилась, накажите меня, но не отсылайте от себя даже на один день.
Хемонкори погладила девушку по щеке.
— Вот потому-то я и говорю, что ты была в другом рождении моей матерью. Иначе мы не смогли бы с первого взгляда привязаться друг к другу. А теперь ступай, девочка, ляг пораньше спать. Ты за целый день не присела ни на минуту.
Придя к себе в спальню, Комола заперла дверь, потушила лампу и опустилась в темноте на пол. Она сидела так долго и многое передумала.
«Из-за ошибки судьбы я потеряла на него все права, — думала Комола, — и вынуждена держаться вдали от него. Должна даже быть готова от всего отказаться. Если изредка представится возможность услужить ему, мой долг постараться отдать этому все свои силы. Всевышний поможет мне его выполнить с радостным лицом. Я очень несчастна, но если перестану с приветливым видом выполнять то немногое, что досталось на мою долю, — потеряю все».
Комола тщательно обдумала свое положение, и в душе ее созрело определенное решение. «С завтрашнего дня в сердце моем не будет места горю, с лица уйдет печаль. Я не стану оплакивать свои несбывшиеся мечты и на всю жизнь буду только служанкой. И ничего больше я не хочу, не хочу, не хочу!»
Комола легла, но долго ворочалась с боку на бок, не в силах уснуть. Ночью она не раз просыпалась, шепча:
— Я больше ничего не хочу, не хочу!..
Проснувшись на рассвете, девушка вновь собрала всю решимость и, сжав руки, еще раз повторила:
— До самой смерти я буду тебе служанкой. И ничего больше не хочу, не хочу!..
Комола быстро умылась, оделась и прошла в кабинет Нолинакхи. Краем своего сари стерла там пыль с вещей, расстелила цыновки, а затем побежала к Гангу купаться. Хемонкори, внявшая, наконец, неотступным просьбам Нолинакхи, прекратила свои омовения перед восходом солнца, и теперь ранним холодным утром к реке провожал Комолу Умеш.
После купанья Комола пришла к Хемонкори и с сияющим лицом поздоровалась с ней. Старая женщина только сейчас собиралась идти к Гангу.
— Зачем ты так рано бегала на реку? — сказала она. — Могла бы подождать меня и идти вместе.
— Сегодня много работы, мать, — оправдывалась Комола. — Мне еще нужно приготовить принесенные вчера овощи и послать Умеша кое-что докупить на рынке.
— Ты прекрасно все обдумала, дорогая. К приходу тестя все будет готово.
В это время в комнату вошел Нолинакха. Набросив покрывало на свои еще влажные волосы, Комола тотчас удалилась.
— Ма, ты, кажется, собралась купаться? — сказал он. — Лучше бы повременить несколько дней.
— Забудь, что ты врач, Нолин. Люди не становятся бессмертными, отказываясь от купанья в Ганге, — возразила Хемонкори. — Ты, я полагаю, намерен сейчас уйти? Возвратись нынче пораньше…
— Зачем, ма?
— Я и забыла вчера предупредить, что сегодня придет тебя благословить Оннода-бабу.
— Благословить? — изумился Нолинакха. — К чему такая торжественность? Ведь я вижу его каждый день.
— Я подарила вчера Хемнолини два браслета и благословила ее, — объяснила Хемонкори. — Почему бы и Онноде-бабу не поступить так же?. Одним словом, не задерживайся. Они будут к обеду.
На этом они расстались. Хемонкори пошла купаться, а Нолинакха, опустив голову, полный раздумий, зашагал в город.
Глава пятьдесят восьмая
Увидев Ромеша, Хемнолини спаслась бегством к себе в спальню, плотно прикрыла за собой дверь и опустилась на постель. Когда прошло первое смятение, ею овладел стыд.
«Почему не могла я просто, без смущения встретить Ромеша-бабу? Что заставило меня, помимо воли, вести себя так позорно? — спрашивала себя девушка. — Значит, мне нельзя доверять самой себе? Нет, я не могу позволить себе так колебаться!»
Хемнолини решительно встала и, открыв дверь комнаты, вышла.
«На этот раз я уже не сбегу! Я должна с собой справиться», — уговаривала она себя, направляясь в сад, чтобы еще раз встретиться с Ромешем.
Потом, что-то вдруг вспомнив, торопливо вернулась в спальню, вынула из шкатулки и надела подаренные матерью Нолинакхи браслеты. Вооруженная таким образом Хем с гордо поднятой головой снова вышла в сад.
— Куда ты, Хем? — увидев ее, спросил Оннода-бабу.
— А где же Ромеш-бабу и дада?
— Они уже ушли.
Узнав, что уже нет надобности испытывать собственное самообладание, девушка почувствовала облегчение.
— Сейчас… — заговорил Оннода-бабу.
— Да, да, отец… Я мигом буду готова, — перебила его дочь. — С купаньем не задержусь, посылай пока за экипажем.
Такой энтузиазм по поводу визита к Хемонкори был неожиданным и совсем несвойственным для Хемнолини. Однако прозвучавшее в ее голосе искусственное воодушевление не могло обмануть Онноду-бабу. Беспокойство за дочь овладело им с новой силой.
Хемнолини поспешно выкупалась, оделась — и вышла к отцу.
— Экипаж не приехал? — спросила она.
— Еще нет.
В ожидании экипажа Хемнолини вышла в сад и принялась прогуливаться по аллеям. А Оннода-бабу уселся на веранде, все время нервно поглаживая рукой волосы.
В половине одиннадцатого оба они уже были в доме Нолинакхи. Сам доктор еще не вернулся, и Хемонкори пришлось одной развлекать гостей. Она расспрашивала Онноду-бабу о его здоровье и семейных делах, изредка во время беседы кидая взгляд в сторону Хемнолини. Почему лицо девушки не выражает никакой радости? При таком выпавшем на ее долю счастье оно должно бы сиять, словно румяная заря перед восходом солнца. Но взгляд Хемнолини был затуманен скорей печалью, чем радостью. Хемонкори это было неприятно и очень больно ранило ее душу.
«Всякая другая девушка чувствовала бы себя на верху блаженства, собираясь выйти замуж за Нолинакху. А эта возомнила себя чересчур образованной и, видимо, считает, что слишком для него хороша… Чем еще можно объяснить ее задумчивую рассеянность? — размышляла Хемонкори. — А всему виной я сама. Стала на старости лет нетерпелива, не захотела повременить с исполнением своего желания! Решила женить Нолина на девушке с уже сложившимся характером, не сделав попыток узнать ее хорошенько! Правда, у меня нет времени для обдумывания. Я должна как можно скорей устроить все свои земные дела и приготовиться к тому, что меня скоро отзовут из этого мира».
Эти мысли, непрестанно роившиеся в голове Хемонкори в продолжение беседы с Оннодой-бабу, мешали ей разговаривать.
— Мне кажется, не стоит спешить со свадьбой, — сказала она. — Наши дети достаточно взрослые, чтобы решить все самим. Не следует торопить их. Не знаю, как относится к этому Хем, но, что до Нолина, могу сказать: он с этой мыслью еще не вполне освоился.
Ее слова предназначались, главным образом, для Хемнолини. Ведь девушка не выразила особой радости по поводу предстоящей свадьбы, и Хемонкори не хотелось, чтобы Хем и ее отец думали, будто ее сын вне себя от счастья ввиду предстоящего брака.
Перед тем как отправиться в гости, Хемнолини приложила все душевные силы, чтобы казаться радостной и веселой. А получилось наоборот, ее минутное оживление сменилось глубокой печалью. Придя в дом Хемонкори, она почувствовала, что ею овладевает сомнение, а жизненный путь, на который ей предстоит вступить, начинает казаться трудным, тернистым и бесконечным.
Пока старшие обменивались любезностями, Хемнолини старалась побороть неверие в свои силы, и это причиняло ей сильную боль. Когда Хемонкори предложила отложить свадьбу, в душе девушки сразу началась борьба двух противоречивых чувств. С одной стороны, ей казалось, что чем быстрей будет заключен брак, тем скорей освободится она от всех своих мучительных колебаний и сомнений. Значит, пусть брак совершится в самый короткий срок. Но, с другой стороны, при известии, что он откладывается на неопределенное время, Хем ощутила невольное облегчение.
Хемонкори не сводила с нее глаз, стараясь подметить, какое впечатление произведут на девушку ее слова. Но, уловив появившееся на ее лице выражение успокоенности, старая женщина почувствовала раздражение против нее. «Я слишком дешево оценила своего Нолина!» — подумала она и рада была, что Нолинакха запаздывает.
— Как это похоже на Нолина! — сказала Хемонкори, бросив взгляд на Хемнолини. — Ведь прекрасно знает, что вы сегодня придете, а самого все нет. Хотя вполне мог бы кончить работу пораньше. А стоит мне заболеть, он бросает все и остается дома, несмотря на то, что терпит из-за этого убытки.
Заявив, что ей надо взглянуть, готов ли обед, Хемонкори покинула гостей. Она собиралась оставить Хемнолини на попечение Комолы, а сама переговорить наедине с ее отцом.
Придя на кухню, она увидела, что обед готов и поставлен на слабый огонь, а Комола тихо сидит в уголке. Девушка была погружена в такую глубокую задумчивость, что при неожиданном появлении Хемонкори вздрогнула и в полной растерянности и смущении вскочила на ноги.
— Да ты совершенно поглощена своей стряпней, Харидаси! — воскликнула Хемонкори.
— Все готово, мать, — ответила Комола.
— Почему же в таком случае ты сидишь здесь одна? Оннода-бабу — старик, тебе его стыдиться нечего. С ним пришла Хем. Позови-ка ее к себе в комнату и займи разговором. Зачем заставлять ее скучать со мной, старухой.
Вызванное Хемнолини раздражение лишь удвоило нежность Хемонкори к Комоле.
— Но о чем же мне с ней разговаривать? — испуганно спросила Комола. — Она ведь образованная, а я ничего не знаю.
— Подумаешь! — воскликнула Хемонкори. — Ты не хуже других, девочка. Пусть Хем гордится своей ученостью, но вряд ли найдется много таких привлекательных девушек, как ты. Любая, начав читать книги, может стать ученой, но не станет от этого красивей тебя. Пойдем, Харидаси! Однако наряд твой не годится, давай я одену тебя как нужно.
Хемонкори загорелась желанием унизить гордую Хемнолини. Ей хотелось, чтобы красота этой гордячки поблекла в сравнении с красотой простой девушки. Не слушая возражений Комолы, старая женщина с большим вкусом облачила ее в светлозеленое шелковое сари и причесала по моде. Затем принялась вертеть ее во все стороны, любуясь своей работой, и в восхищении поцеловала ее в лоб.
— Ты такая красавица, что достойна стать женой раджи!
— Мать, они же сидят там совсем одни! — прервала ее Комола. — Мы и без того заставили их долго ждать.
— А пусть себе! Пока я тебя не одену, мы не двинемся с места.
Наконец, девушка была окончательно готова.
— Ну, а теперь идем, милая! Идем! Главное не смущайся, — говорила Хемонкори. — При виде тебя поблекнут все обучавшиеся в колледже красавицы! Можешь держать перед ними голову высоко.
Хемонкори ввела упирающуюся Комолу в гостиную, где сидели Оннода-бабу с дочерью. Оказалось, что и Нолинакха уже вернулся и беседует с ними. Комола сделала попытку уйти, но Хемонкори удержала ее.
— Не смущайся, дорогая, здесь все свои.
Старая женщина гордилась красотой и нарядом Комолы. Она решила всех изумить ее видом. Раз Хемнолини пренебрегла ее сыном, возмущенная материнская гордость Хемонкори была рада унизить девушку в глазах Нолинакхи. Красота Комолы в самом деле всех поразила. Когда Хемнолини впервые увидела Комолу, та была одета скромно, выглядела смущенной и старалась казаться незаметной. К тому же у Хемнолини и времени тогда не было как следует ее рассмотреть. Но сегодня красота девушки ее изумила. Она встала и посадила оробевшую Комолу рядом с собой.
Хемонкори торжествовала. Теперь она была уверена, что все присутствующие должны согласиться, что прелесть Комолы — благословенный дар богов.
— Можешь пойти к себе в комнату и поговорить там с Хем, — предложила она. — На стол я накрою сама.
Комолу охватило волнение. Ей хотелось узнать, как относится к ней Хемнолини, которая скоро войдет в этот дом женой Нолинакхи, станет здесь хозяйкой. Ее расположение было для девушки далеко не безразлично. Комола упорно не хотела признаться, что по праву хозяйкой в этом доме должна быть она сама, и не позволяла даже тени ревности закрасться к себе в душу. Для себя лично она ничего не требовала.
— Мать все рассказала мне о тебе, — ласково обратилась к ней Хемнолини. — Мне тебя очень жаль. Теперь ты должна смотреть на меня, как на свою сестру. Есть у тебя сестра?
— Родной нет, только двоюродная, — ответила Комола, ободренная лаской и дружелюбием, звучавшими в голосе Хемнолини.
— И у меня нет, — сказала Хемнолини. — Моя мать умерла, когда я была еще совсем маленькой. Сколько раз, переживая радость или горе, мечтала я, чтобы рядом со мной была сестра. Я с детства всегда молча переносила все свои огорчения, и это стало моей привычкой. Теперь я уже разучилась быть откровенной и поэтому все считают меня гордой. Но ты, дорогая, так обо мне не думай! Просто сердце мое привыкло к молчанию.
Стеснение Комолы окончательно прошло.
— Ты будешь меня любить, диди? — спросила она. — Ведь ты еще не знаешь, какая я глупая.
Хемнолини улыбнулась.
— Когда ты узнаешь меня поближе, то убедишься, что я тоже ужасно глупая. Не знаю ничего, кроме того малого, что почерпнула из книг. Прошу тебя, не оставь меня, когда я перееду к вам в дом. Мне страшно даже подумать, что все заботы по хозяйству лягут на меня.
— Предоставь все это мне! — доверчиво, как ребенок, воскликнула Комола. — Я занимаюсь этой работой с детства, и она меня не пугает. Мы будем вести дом вместе, как две сестры. Ты станешь заботиться о его счастье, а я — служить вам обоим.
— Вот и прекрасно, дорогая, — сказала Хем. — Своего мужа ты, кажется, так хорошенько и не видела? Не помнишь, какой он?
Избегая прямого ответа, Комола сказала:
— Я не думала, диди, что мне еще придется о нем вспоминать. Но, поселившись в доме дяди, я очень подружилась с моей двоюродной сестрой Шойлой и увидела, как она преданно любит своего мужа. Тут и я осознала свой долг. Трудно тебе это объяснить… Видишь ли, хотя я почти не видела своего мужа, однако научилась его любить. И всевышний оказался милостив ко мне. Сейчас в душе моей живет вполне ясный образ моего мужа. Пусть он не обрел во мне жены, но он теперь всегда со мной.
Слова Комолы, в которых звучала самоотверженная любовь к супругу, преисполнили сердце Хемнолини нежностью к ней.
— Я тебя понимаю, — немного помолчав, заметила она. — Именно то, что ты чувствуешь, и есть истинное обладание. А все приобретенное в результате корыстолюбия — недолговечно.
Трудно определить, дошел ли до Комолы смысл высказываний Хемнолини. Некоторое время она молча смотрела на нее, потом произнесла:
— Я не разрешаю себе грустить и потому счастлива. Я получила лишь то, что заслужила.
Хемнолини взяла обе руки Комолы в свои.
— Мой наставник говорит: «Если утрата и приобретение сливаются воедино, это и есть истинное обладание». Признаться по правде, сестра, я была бы по-настоящему счастлива, если бы сумела достичь такого самоотречения, как ты.
Такое признание несколько удивило Комолу.
— Почему ты так говоришь, диди? — спросила она. — Ты достойна очень многого, и у тебя никогда ни в чем не будет недостатка.
— О, я порадовалась бы, если бы мне досталось лишь то, на что я имела право! — воскликнула Хемнолини. — Но получить больше — для меня большое горе и огромная ответственность. Слова мои кажутся тебе, конечно, странными. Да я и сама себе удивляюсь. Но, наверно, это всевышний внушил мне подобные мысли. Сегодня у меня было очень тяжело на сердце, но после разговора с тобой стало как будто легче: я чувствую себя гораздо уверенней. Потому-то так, и разговорилась. Со мной такого никогда еще не случалось. Что ты сделала со мной, сестра?
Глава пятьдесят девятая
Вернувшись домой, Хемнолини нашла на столе в гостиной пухлое письмо на свое имя и по почерку догадалась, что оно от Ромеша. Взяв его, девушка с бьющимся сердцем прошла к себе в комнату, заперлась на ключ и принялась читать.
В письме Ромеш откровенно излагал всю историю своих отношений с Комолой. В заключение он писал:
«Обстоятельства разорвали крепкие узы, которыми всевышний соединил наши жизни. Теперь ты отдала сердце другому. Я тебя за это не виню, но не осуждай и ты меня. Ни одного дня не была Комола моей настоящей женой. Но долг не велит мне от тебя скрывать, что чем дальше, тем больше и больше чувствовал я влечение к ней! Да и сейчас не могу точно определить, прошло ли оно. Если бы ты меня не покинула, я нашел бы успокоение в твоей любви. С этой именно надеждой, с истерзанной вконец душой пришел я к тебе сегодня, но, увидев, что ты меня избегаешь, ясно понял, как велико твое презрение. А едва узнал, что ты дала согласие отдать руку другому, в душе вновь поднялись все прежние сомнения. Я убедился, что не могу забыть Комолу! Но, так это или нет, страдать не должен никто, кроме меня. А почему должен страдать и я? Мне никогда не забыть двух прекрасных девушек, которые так много для меня значили. Всю жизнь не перестану я вспоминать их с большой любовью и благодарностью. Сегодня утром мимолетная встреча с тобой глубоко меня взволновала. Сразу по возвращении домой я почувствовал себя несчастнейшим в мире человеком. Но сейчас не могу согласиться с этим. С покоем и радостью в сердце я прощаюсь с тобой и прошу от всей души простить меня. Благодаря вам обеим, по милости всевышнего, в этот час расставанья во мне нет горечи. Будь счастлива! Будь вполне счастлива! Не презирай меня, — у тебя нет для этого никаких оснований».
Прочитав письмо, Хемнолини отправилась к отцу. Оннода-бабу сидел в кресле и читал книгу.
— Ты здорова, Хем? — спросил он, встревоженный видом дочери.
— Здорова, — коротко ответила Хемнолини. — Я получила письмо от Ромеша-бабу. Прочти его и верни мне.
Хем передала письмо отцу и вышла. Оннода-бабу надел очки и несколько раз перечитал послание Ромеша. Отослав его затем со слугой к дочери, он глубоко задумался и пришел к следующему выводу:
«Пожалуй, все к лучшему. Как жених Нолинакха стоит больше и намного желанней Ромеша. Хорошо, что Ромеш сам решил уехать».
Размышления Онноды-бабу были прерваны приходом Нолинакхи. С тех пор, как они расстались, не прошло и нескольких часов, и потому его появление озадачило Онноду-бабу.
«Должно быть, Нолинакха сильно влюблен в Хем», — усмехнулся он про себя.
Пока он придумывал предлог, как устроить встречу молодых людей, а самому удалиться, Нолинакха сказал:
— Как вы знаете, Оннода-бабу, предполагается мой брак с вашей дочерью. Но я хотел бы сначала поговорить с вами.
— Прекрасно! — воскликнул Оннода-бабу. — Слушаю вас.
— Вам неизвестно одно: я уже был однажды женат.
— Я это знаю, но…
— Это для меня новость! В таком случае вы считаете, что жена моя умерла… Однако быть вполне уверенным нельзя. Я лично убежден, что она жива.
— Молю всевышнего, чтобы это было так! — воскликнул Оннода-бабу. — Хем, Хем! — позвал об дочь.
— Что случилось, отец? — спросила, входя в комнату, Хемнолини.
— В письме, которое написал тебе Ромеш, имеется часть…
— Нолинакха-бабу должен ознакомиться с ним целиком, — сказала Хемнолини и, отдав письмо, вышла из комнаты.
Закончив чтение, Нолинакха был не в состоянии вымолвить ни слова.
— Такие печальные совпадения случаются редко, — нарушил молчание Оннода-бабу. — Конечно, письмо это причинило вам боль. Но было бы нечестно с нашей стороны скрывать его от вас.
Нолинакха продолжал молчать. Немного погодя он поднялся и простился. Покидая дом Онноды-бабу, он заметил на северной веранде Хемнолини. Девушка стояла неподвижная, спокойная, а между тем в душе у нее такое горе! Трудно догадаться, о чем она думает. Нолинакхе хотелось спросить, не нуждается ли она в его помощи, но он не решился. Да и вряд ли могла она ответить на этот вопрос.
«Что в силах дать ей утешение? Порой между людьми встает непреодолимая, преграда. До чего же одинока человеческая душа!» — думал он.
Направляясь к своему экипажу, Нолинакха нарочно сделал крюк, чтобы пройти мимо веранды, где стояла Хемнолини. Он надеялся, что она его окликнет. Но когда он приблизился к веранде, девушки на ней уже не было.
«Нелегко понять чужое сердце. Человеческие отношения очень сложны», — печально вздохнул он, садясь в экипаж.
Почти сейчас же после его ухода появился Джогендро.
— Ты один, Джоген? — спросил Оннода-бабу.
— Интересно, кого еще ты ждешь? — в свою очередь задал вопрос сын.
— Как кого? А Ромеш?
— Для уважающего себя человека хватит и одного такого приема, какой ты ему оказал. После этого остается лишь броситься в Ганг у Бенареса и освободить душу от бренного тела! Больше я его не видел. Лишь нашел у себя на столе клочок бумаги со словами: «Уезжаю, твой Ромеш». Я никогда не понимал подобного рода поэзии. И поэтому скрываюсь отсюда. В моей работе старшего учителя все ясно, определенно, лишено и тени тумана.
— Но надо же что-нибудь решить насчет Хем, — попробовал вставить слово Оннода-бабу.
— Опять! — раздраженно перебил его Джогендро. — Вы отвергаете все, что бы я ни предлагал. Эта игра мне надоела. Прошу вас, не вовлекайте меня в нее снова. Совершенно не выношу того, чего не понимаю, а Хем обладает удивительной способностью вдруг становиться окончательно непостижимой. Это сбивает меня с толку. Я уезжаю завтра, с утренним поездом. По дороге заверну в Банкипур.
Оннода-бабу молча провел рукой по волосам. Мир для него был полон неразрешимых загадок.
Глава шестидесятая
Перед отъездом из Бенареса Шойлоджа с отцом пришли навестить Комолу. Молодая женщина уединилась с ней в боковую комнату. Там они долго и оживленно о чем-то шептались. Чокроборти беседовал в это время с Хемонкори.
— Мой отпуск кончился, — сказал он. Завтра я уезжаю в Гаджипур. Если Харидаси вам надоест, вы…
— Опять вы за старое, господин Чокроборти! — прервала его Хемонкори. — Неужели вы и в самом деле так думаете? Или это лишь предлог отнять у меня вашу Девочку?
— Я не из тех, что отбирают назад подарки, — ответил дядя. — Но если это вам кажется неудобным…
— Что-то вы хитрите, — сказала Хемонкори. — Ведь сами прекрасно знаете, что нет ничего приятней, как иметь возле себя такую очаровательную девушку, как Харидаси. Но…
Чокроборти не дал ей закончить.
— Хорошо, хорошо, не будем больше об этом говорить! Я пустился на маленькую уловку, чтобы лишний раз услышать от вас похвалы моей Харидаси. Меня беспокоит другое. Не считает ли ее доктор Нолинакха злым духом, неожиданно вторгшимся к нему в дом? Моя девочка очень горда. И если Нолинакха-бабу хоть чуть-чуть даст ей почувствовать, что ее присутствие его раздражает, ей будет очень тяжело.
— О Хари!.. — воскликнула Хемонкори. — Чтобы мой Нолинакха был раздражен! Да он на это вовсе не способен!
— И очень хорошо. Но поймите меня! Я люблю Харидаси больше жизни, — продолжал дядя, — и, когда дело касается ее, не довольствуюсь малым. С меня далеко не достаточно, что она не будет ему мешать, а он не станет ее замечать. Я не перестану волноваться до тех пор, пока не уверюсь, что Нолинакха-бабу относится к Харидаси, как к близкому человеку. Она не домашняя мебель, она — человек. И если их отношения ограничатся лишь его стараниями не замечать и не думать о ней…
— Господин Чокроборти, — перебила его Хемонкори. — Неужели вы думаете, что мой Нолин не способен отнестись к Харидаси, как к родственнице? Пока прямых доказательств у меня нет, но весьма вероятно, что он уже начал помышлять о том, как сделать ее жизнь со мной более приятной и счастливой. Не исключена возможность, что он даже успел кое-что для этого сделать.
— Теперь я спокоен, — заявил дядя. — Но прежде чем уйти, мне хотелось бы поговорить с самим Нолинакхой. В мире редко встречаются мужчины, могущие взять на себя заботу о счастье женщины. А Нолинакху небо доделило именно требуемыми для этого качествами. Я постарался бы ему внушить, чтобы он не сторонился Харидаси из ложного чувства каких-то опасений, а смотрел за ней и заботился о девушке, как о родном человеке.
Доверие, оказанное Чокроборти ее сыну, пришлось Хемонкори по сердцу.
— Из страха вызвать ваше недовольство, я держала Харидаси подальше от Нолинакхи. Но я знаю своего сына, можете в нем не сомневаться.
— Буду говорить с вами откровенно, — сказал Чокроборти. — Есть слух, что Нолинакха-бабу скоро женится. Говорят, невеста не так уж молода и училась больше, чем у нас принято. Вот я и думаю, как бы Харидаси…
— Понимаю! — перебила его Хемонкори. — Но можете не беспокоиться, свадьбы не будет.
— Неужели помолвка расстроилась?
— Там и расстраивать-то было нечего. Ведь Нолин никогда не хотел этого брака, это я настаивала. Но насильно человека счастливым не сделаешь. Всевышний знает, что я, судя по всему, так и умру, не увидев ею женатым.
— Нет, нет, не говорите этого! — воскликнул Чокроборти. — А мы-то на что? Я сам не откажусь от угощений и подарков, причитающихся свату.
— Вашими устами да мед пить, господин Чокроборти, — вздохнула Хемонкори. — Мне очень больно, что по моей вине Нолин, будучи в таком возрасте, еще не обзавелся семьей. Вот я и поспешила с этой помолвкой, ничего как следует не обдумав. И, как видите, неудачно. Теперь займитесь этим вы: только торопитесь, долго я не проживу.
— И слушать не хочу! — возразил дядя. — Вы еще долго проживете и своими глазами увидите будущую невестку. Я знаю, какая вам нужна: не очень молоденькая, но чтобы уважала вас и во всем была покорна. Другая тут не подойдет. Перестаньте же беспокоиться, с помощью всевышнего я все устрою. Теперь, если вы не возражаете, я пойду к Харидаси и преподам ей несколько наставлений, как себя вести. А вам пришлю Шойлоджу. С тех пор, как она вас увидела, ни о ком больше и говорить не желает.
— Нет, вы лучше побеседуйте все вместе. У меня есть кое-какие дела.
— Моя удача, что у вас есть «дела»! — засмеялся Чокроборти. — Не сомневаюсь, что немного погодя мы сможем с ними ознакомиться. Признайтесь, что вы идете готовить угощение для счастливого брахмана, который найдет невесту вашему сыну.
Войдя в комнату, где сидели обе названые сестры, Чокроборти заметил, что глаза Комолы блестят от слез. Он молча сел рядом с дочерью и вопросительно посмотрел ей в лицо.
— Папа, я сказала Комоле, что пришла пора все открыть Нолинакхе-бабу, — объяснила Шойлоджа. — А твоя глупышка Харидаси ссорится со мной из-за этого.
— Нет, диди, нет, — возразила Комола. — Умоляю тебя, не говори больше об этом. Это невозможно!
— Дурочка! — с негодованием воскликнула Шойлоджа. — Ты будешь молчать, а Нолинакха тем временем женится на Хемнолини. С самого дня твоей свадьбы ты столько страдала, что едва не умерла! Зачем же подвергать себя мукам?
— Не рассказывай обо мне никому, диди! — просила Комола. — Я все могу вынести, только не позор. Я вполне довольна тем, что имею. И вовсе не несчастна. Но если ты все ему откроешь, как останусь я в этом доме? Как я буду жить?
Шойлоджа не знала, что ей возразить. Но молча смотреть, как Нолинакха женится на Хемнолини, она считала недопустимым.
— Еще неизвестно, состоится ли эта свадьба, — сказал дядя.
— Что ты говоришь, отец? — изумилась Шойлоджа. — Ведь мать Нолинакхи уже дала свое благословение Хемнолини!
— Благодаря милости всевышнего оно потеряло свою силу, — сообщил дядя. — Оставь все свои страхи, дорогая Комола, правда на твоей стороне.
Комола не могла взять в толк, что сказал дядя, и смотрела на него широко раскрытыми глазами.
— Помолвка расстроилась! — объяснил Чокроборти. — Нолинакха-бабу и не соглашался на этот брак, а на его мать снизошло просветление.
— Спасены, отец! — радостно закричала Шойлоджа. — Вчера, узнав о помолвке, я не могла уснуть всю ночь. Но все-таки долго ли еще Комола будет жить в своей семье, как чужая? Когда же, наконец, все выяснится?
— Не надо спешить, Шойла, — сказал Чокроборти. — Все придет в свое время.
— Мне ведь и так хорошо, — вмешалась в их разговор Комола, — лучше не может и быть. Я теперь очень счастлива. Стараясь мне помочь, вы только сделаете хуже, дядя. Молю у ваших ног, никому обо мне не говорите. Оставьте меня здесь, в укромном уголке, и забудьте о моем существовании. Я счастлива и без того.
На глаза ее навернулись слезы.
— Ну, дорогая, зачем же плакать? — встревожился Чокроборти. — Я прекрасно понял, что ты хотела сказать. Мы твоего покоя не нарушим. Судьба сама мало-помалу все поставит на свое место, и с нашей стороны было бы безумием что-нибудь тут портить. Не бойся! Я стар и разумею, как следует поступать.
В эту минуту вошел Умеш с неизменной улыбкой на лице.
— Что ты хочешь? — спросил его дядя.
— Там, внизу, пришел Ромеш-бабу и спрашивает доктора.
Комола побледнела. Чокроборти быстро встал и сказал:
— Не пугайся, дорогая. Я все улажу.
Он спустился вниз и взял Ромеша под руку.
— Пройдемтесь, Ромеш-бабу. Прогуливаясь, мы сможем с вами поговорить.
— Как вы здесь оказались? — удивился Ромеш.
— Из-за вас, — ответил дядя. — Я очень рад вас видеть. Пойдемте, я должен вам кое-что сказать.
Он вывел Ромеша на улицу.
— Зачем вы пришли сюда, Ромеш-бабу? — спросил Чокроборти, когда они покинули дом Нолинакхи.
— Я хотел поговорить с доктором Нолинакхой. Считаю необходимым рассказать ему все про Комолу. Иногда мне кажется, что она жива.
— Предположим, Комола действительно спаслась и встретилась с Нолинакхой. А приятно ли будет ему услышать ее историю от вас? — спросил дядя. — У него старая мать, и если бы она узнала все подробности, вряд ли Комоле стало бы от этого лучше.
— Не знаю, как посмотрит на это общество, но доктор Нолинакха должен знать, что Комола ни в чем перед ним не виновата. Если же она в самом деле умерла, то Нолинакха должен относиться к ее памяти с большим уважением.
— Не понимаю нынешнюю молодежь! — воскликнул Чокроборти. — Если Комола умерла, какой смысл приставать с ее памятью к мужу? Тем более, что даже был-то он им всего одну ночь!.. А вот дом, где я живу. Зайдите ко мне завтра утром, я все вам объясню. Только обещайте до встречи со мной не видеться с Нолинакхой-бабу.
— Хорошо! — согласился Ромеш.
Простившись с ним, дядя вернулся в дом Нолинакхи.
— Дорогая моя, завтра утром ты должна побывать у меня в доме, — сказал он Комоле. — Я хочу, чтобы ты сама все объяснила Ромешу-бабу.
Комола опустила голову.
— Я убежден, что иначе нельзя, — продолжал Чокроборти. — Понятия о долге у детей современного века совсем иные, чем у людей прошлого. Откинь свои опасения, дорогая. Сейчас никто, кроме тебя самой, не сможет отстоять твои права. В этом отношении мы ничего не в силах для тебя сделать.
Голова девушки опустилась еще ниже.
— Дорогу мы тебе расчистили, — продолжал дядя. — И ты смело должна смести с нее оставшиеся небольшие препятствия.
Раздался звук шагов. Подняв глаза, Комола прямо перед собой увидела в дверях Нолинакху. Взоры их встретились. Прежде Нолинакха всегда поспешно отводил глаза в сторону, но сегодня этого не сделал. Хотя он смотрел на Комолу всего лишь мгновенье, но в его взгляде отсутствовала та отчужденность, которая бывает у человека, когда он глядит на что-либо, не имеющее к нему никакого отношения. Заметив Шойлоджу, Нолинакха хотел удалиться, но Чокроборти удержал его.
— Не уходите, Нолинакха-бабу, — сказал он. — Мы смотрим на вас, как на близкого нам человека. Это моя дочь Шойла, вы лечили ее девочку.
Шойлоджа поклонилась Нолинакхе.
— Как здоровье вашей девочки? — спросил он, кланяясь ей в свою очередь.
— Она совершенно здорова, — ответила Шойлоджа.
— Вы никогда не даете возможности вполне насладиться вашим обществом, — начал Чокроборти. — Но раз уж вы сегодня зашли, посидите немножко с нами.
Пока дядя усаживал доктора, Комола исчезла из комнаты. Мимолетный взгляд, подаренный ей Нолинакхой, наполнил ее душу радостным изумлением, и она удалилась к себе, чтобы наедине разобраться в своих чувствах.
— Я должна вас побеспокоить, господин Чокроборти, — сказала вошедшая в комнату Хемонкори.
— С того момента, как вы нас покинули, я все время посматриваю на дверь, в ожидании этого «беспокойства», — рассмеялся Чокроборти.
После угощения, когда все вернулись в гостиную, дядя сказал:
— Посидите минутку, я сейчас вернусь.
И вскоре появился вновь, ведя за руку Комолу. За ними следовала Шойлоджа.
— Нолинакха-бабу, — обратился он к доктору, — вы не должны относиться к нашей Харидаси, как к чужому человеку. Я оставляю эту несчастную девушку в вашем доме и во всем полагаюсь на вас и вашу мать. Ей ничего не надо, кроме права вам служить. И вы скоро убедитесь, что умышленно она не может совершить ни одного дурного поступка.
Комола покраснела и смущенно потупилась.
— Можете быть спокойны, господин Чокроборти, — сказала Хемонкори. — Харидаси стала для нас дочерью. До сих пор нам еще ни разу не приходилось задумываться, какую поручить ей работу. Когда-то в этом доме безраздельно властвовала я, теперь же я ничто. Прислуга уже не считает меня больше хозяйкой. Прямо теряюсь в догадках, каким образом лишилась я своей былой власти. Ключи от дома всегда находились у меня, но Харидаси ловко сумела выманить даже их. Скажите, чего вы еще хотите для своей маленькой разбойницы? Но если вы собираетесь ее у нас отнять, это будет величайшим грабежом на свете.
— Можете быть уверены, что она даже не шевельнется, если я предложу ей от вас уехать. Вы так ее околдовали, что она забыла о существовании на земле всех других людей. В течение долгого времени она была очень несчастна, а у вас нашла, наконец, успокоение. Да сохранит его ей всевышний, и пусть всегда будет с ней ваше милосердие. Вот мое прощальное благословение.
Глаза Чокроборти наполнились слезами. Во время этого разговора Нолинакха не проронил ни слова. Когда гости ушли, он медленно направился в свою комнату.
Лучи заходящего солнца заливали его спальню алым, как румянец невесты, светом. Красные, словно кровь, они будто пронизали каждую частицу его тела и воспламенили сердце.
Еще утром один из его друзей прислал ему корзину роз, и Хемонкори поручила Комоле украсить ими комнаты. Один из букетов девушка поставила в комнате Нолинакхи, и теперь здесь все было наполнено их ароматом. Тишина, пламенеющий в окнах закат солнца, благоухание роз — все волновало Нолинакху. Долгое время жил он в мире воздержания и суровой науки. И вот сейчас ему казалось, что где-то рядом неожиданно зазвучал неведомый многострунный инструмент, а небо огласилось звуками пляски невидимых танцовщиц, мелодичным перезвоном браслетов на их ногах.
Нолинакха отвернулся от окна. Взгляд его упал на поставленный возле изголовья кровати букет роз. Ему показалось, что цветы взирают на него, словно чьи-то глаза, и несут свою безмолвную мольбу к вратам его сердца.
Нолинакха вынул одну из роз. Это был еще нераспустившийся, бледнозолотистый, благоухающий бутон. Когда он прикоснулся к цветку, ему почудилось в ответ нежное пожатие человеческих пальцев. Дрожь пробежала по всему его телу. Нолинакха прижал нежный, ароматный цветок к губам, к глазам…
Последние лучи заходящего солнца постепенно угасали на темнеющем небе. Собираясь покинуть комнату, Нолинакха подошел к постели и, приподняв покрывало, положил розовый бутон к себе на подушку. Уже уходя, он вдруг увидел по другую сторону кровати скорчившуюся на полу фигурку, прикрывающую лицо краем сари. Это была Комола! Она не знала, куда деваться от стыда!.. Поставив цветы в нишу и приготовив Нолинакхе постель, девушка уже собиралась выйти из комнаты, но заслышала шаги доктора и торопливо спряталась за кровать. А теперь ей уже нельзя было ни убежать, ни спрятаться.
Не желая ее смущать, Нолинакха быстро вышел из комнаты, но, дойдя до двери, внезапно остановился. Затем медленно подошел к Комоле и оказал:
— Встань. И не стыдись меня.
Глава шестьдесят первая
На следующее утро Комола пришла в дом дяди Чокроборти. Оставшись наедине с Шойлоджей, она крепко обняла подругу. Держа ее за подбородок, Шойлоджа спросила:
— Почему ты сегодня такая счастливая, сестра?
— Сама не знаю, диди, — ответила Комола. — Но мне теперь кажется, что все мои беды кончились.
— Чего же ты молчишь? — воскликнула Шойлоджа. — Мы ведь с тобой пробыли до самого вечера, что такое могло произойти после этого?
— Да ровно ничего. Только у меня такое чувство, что сейчас он уже принадлежит мне. Всевышний сжалился надо мной.
— Пусть будет так. Но все же не скрывай от меня ничего.
— Я и не скрываю, диди, — заверила ее девушка. — Просто не знаю, что тебе еще сказать. Прошла ночь, а когда я утром встала, мне представилось, что жизнь приобрела для меня новый смысл. Я была так счастлива! И работа казалась такой легкой, что трудно описать. Ничего больше мне и не надо. Боюсь только, как бы меня не лишили моего счастья. Не верится, что отныне каждый день моей жизни будет таким же светлым.
— Я тоже считаю, дорогая, что судьба не станет больше тебя обманывать, — сказала Шойлоджа. — Тебя ждет счастье, ты его заслужила.
— Нет, нет! Не говори так, диди. Все мной заслуженное я уже получила и довольна своей судьбой. Большего мне не нужно.
В эту минуту в комнату вошел Чокроборти.
— Дорогая, тебе необходимо выйти к Ромешу-бабу, — обратился он к Комоле. — Он здесь.
До этого между Ромешем и дядей произошел следующий разговор.
— Я знаю, что за отношения были у вас с Комолой, — заявил Ромешу дядя. — И советую тебе начать новую жизнь. Забудь все, связанное с ней. Если ты до сих пор еще не освободился от чувства к девушке, предоставь это воле всевышнего, а сам не предпринимай ничего.
— Я не смогу забыть Комолу, пока не расскажу о ней Нолинакхе, — возразил Ромеш. — Не знаю, нужно или нет вновь поднимать эту печальную историю, но я не могу успокоиться, пока не поведаю ему все.
— Хорошо. Подожди здесь немножко, я сейчас вернусь, — сказал дядя.
Ромеш подошел к окну, рассеянно следя глазами за движущимся по улице людским потоком. Услыхав позади себя шаги, он обернулся и увидел девушку, которая склонилась до земли в низком поклоне. Когда она встала, Ромеш с криком «Комола!» кинулся к ней.
Она стояла, даже не шелохнувшись.
— Благодаря милосердию всевышнего все невзгоды Комолы остались позади. Счастье пришло на смену горю, — сказал вошедший вслед за Комолой дядя. — Когда она находилась в опасности, вы ей помогли, хотя вам пришлось из-за этого много перенести самому. В течение долгого времени жизнь ее была связана с вашей, и Комола не могла расстаться с вами, не попрощавшись. Она пришла просить вас благословить ее.
Ромеш молчал.
— Будь счастлива, Комола, — наконец, с трудом произнес он. — И прости мне мою невольную вину.
Девушка не в силах была вымолвить ни слова и стояла, прислонившись к стене.
— Скажи, может, я могу чем-нибудь тебе помочь? — после некоторой паузы спросил Ромеш. — Должен ли я кому-нибудь о тебе рассказать?
Комола умоляюще сложила руки.
— Прошу вас, не говорите обо мне ни с кем.
— Я долгое время никого и ни во что не посвящал… Молчал даже тогда, когда это навлекало на меня несчастье. И лишь несколько дней назад, уверенный, что это тебе не повредит, поведал о твоей судьбе одному семейству. Но мне и сейчас кажется, что это обстоятельство скорее принесет тебе пользу, чем вред. Дядя, вероятно, слышал об Онноде-бабу и его дочери…
— Конечно, я знаком с Хемнолини! — прервал его Чокроборти. — Так они все знают?
— Да, — ответил Ромеш. — Если необходимо сообщить им что-нибудь еще, я готов. А лично для себя мне ничего не надо. Я потерял много времени, и многое от меня ушло. Теперь я должен быть свободен. Хочу исполнить все, что осталось сделать, и получить свободу.
Дядя ласково пожал ему руку.
— Нет, Ромеш-бабу, — успокоил он юношу. — Ничего от вас больше не требуется. Вы и без того слишком много страдали и теперь свободны. Желаю вам счастья.
— Я ухожу, — сказал Ромеш, глядя на Комолу.
Девушка молча поклонилась ему до земли.
Как во сне вышел Ромеш из дома Чокроборти.
«Хорошо, что я встретил Комолу, — подумал он. — Эта история не могла бы кончиться добром, если бы я не узнал, что она жива. Только и до сих пор не пойму, что заставило ее в ту ночь убежать из Гаджипура. Ясно одно, я здесь лишний. Ну что ж, воспользуюсь этим и, не оглядываясь назад, начну новую жизнь».
Глава шестьдесят вторая
Вернувшись домой, Комола узнала, что у Хемонкори сидят Оннода-бабу и Хемнолини.
— А вот и Харидаси! — увидя ее, воскликнула Хемонкори. — Проведи свою подругу к себе, дорогая. А я напою чаем Онноду-бабу.
Как только девушки вошли в комнату, Хемнолини тут же обняла Харидаси и произнесла:
— Комола!
Комола не выразила никакого удивления, только cnpociyia:
— Откуда ты узнала, что меня действительно так зовут?
— Мне рассказал о тебе один человек. Трудно объяснить почему, но я сразу решила, что ты и есть та самая Комола.
— Сестра, я не хочу, чтобы кто-нибудь знал мое настоящее имя, — заявила девушка. — Оно стало для меня проклятием.
— Но только с его помощью можешь ты восстановить свои права!
Комола покачала головой.
— Мне этого не нужно. У меня нет никаких прав, и я не желаю ничего восстанавливать.
— Но почему же ты скрываешь правду от своего мужа? Почему не вверишь ему свою судьбу? Не следует ничего от него таить.
Комола изменилась в лице. Она беспомощно смотрела на Хемнолини, словно искала и не находила ответа. Затем медленно опустилась на цыновку и тихо сказала:
— Всевышнему известно, что я не совершила никакого преступления. Так почему же терзает меня стыд? За что я так наказана? Ни в чем я перед ним не согрешила, но как расскажу ему все?
— Не наказание, а покой получишь ты, сообщив все своему мужу, — возразила Хемнолини. — Пока ты таишь от него правду, ты пребываешь в оковах обмана. Смело разорви их, и всевышний ниспошлет тебе милость.
— При одной мысли потерять все у меня пропадает всякая решимость, — призналась Комола. — Однако я понимаю, что ты хочешь сказать. Что бы ни сулило мне будущее, я не должна ничего скрывать. Он узнает обо мне все!
И Комола крепко сжала руки.
— Может, ты хочешь, чтобы это сделал за тебя кто-нибудь другой? — ласково спросила Хемнолини.
Девушка энергично покачала головой.
— Нет, нет! Нельзя, чтобы он услышал это от кого-либо постороннего. Я сама должна сказать ему о себе. И я смогу это сделать!
— Это будет лучше всего, — согласилась Хемнолини. — Не знаю, встретимся ли мы с тобой еще. Я пришла сообщить тебе, что мы уезжаем.
— Куда?
— В Калькутту. Не стану тебя больше задерживать; с утра тебе предстоит много дел. Не забывай свою сестру.
— Ты мне напишешь? — попросила Комола, схватив Хемнолини за руку.
— Конечно, напишу.
— В письмах ты станешь давать мне советы, как поступать. Я знаю, твои письма придадут мне силы.
Хемнолини улыбнулась.
— Об этом тебе беспокоиться не стоит! У тебя будет советник получше меня.
Сегодня Комола чувствовала в душе жалость к Хемнолини. Спокойное лицо девушки было печально; глядя на нее, хотелось плакать. И в то же время в Хемнолини было что-то неприступное, что мешало Комоле продолжать с ней разговор и расспрашивать ее. Хотя она открыла сегодня Хемнолини свою тайну, последняя вела себя очень сдержанно и ушла, исполненная безграничной печали и самоотречения, как будто вечные сумерки окутали ее душу.
Весь день во время, работы Комола слышала ее голос и видела перед собой ее спокойные, ласковые глаза. Девушка ничего не знала о жизни Хемнолини, кроме того, что ее помолвка с Нолинакхой расстроилась.
Утром Хемнолини принесла им корзину цветов из своего сада. Выкупавшись, Комола села плести из них гирлянду. Пришла к ней и Хемонкори и села рядом.
— Ах, моя девочка! — тяжело вздыхала она. — Сегодня, когда Хем простилась со мной и ушла, не могу даже выразить, что творилось у меня на душе. Ведь она все-таки очень милая девушка. Я уже теперь думаю, что было бы большим счастьем, если бы она стала моей невесткой. Но все это позади!.. Совершенно немыслимо понять моего сына. Лишь ему ведомо, что заставило его изменить свое решение.
Хемонкори не хотела сознаться, что в конце концов она сама воспротивилась этому браку.
Услышав шаги за дверью, она крикнула:
— Это ты, Нолин?
Комола поспешно подобрала гирлянду и цветы в край своего сари и накинула на голову покрывало.
B комнату вошел Нолинакха.
— Только что здесь были Хем с отцом. Ты их видел? — спросила Хемонкори.
— Да, я их только что проводил.
— Как хочешь, дорогой, но такие девушки, как Хем, встречаются редко, — сказала Хемонкори таким тоном, словно Нолинакха всегда ей возражал.
Сын только улыбнулся.
— А ты еще и улыбаешься!.. Я добилась для тебя согласия Хем, зашла так далеко, что дала ей даже свое благословение. Но ты воспротивился и все разрушил. Не жалеешь теперь об этом?
Нолинакха с испугом взглянул на Комолу. Любящие глаза девушки были устремлены на него. Встретившись с ним взглядом, она смущенно потупилась.
— Ты считаешь своего сына, ма, завидным женихом. Но трудно полюбить такого неинтересного и угрюмого человека, как я.
При этих словах Комола снова вскинула глаза на Нолинакху и увидела его смеющийся, обращенный к ней взгляд. Девушка вновь подумала, что единственное для нее сейчас спасение — бегство.
— Иди лучше к себе. И чего ты только не болтаешь, Нолин. Сердишь меня, — сказала Хемонкори сыну.
Оставшись одна, Комола сплела из цветов Хемнолини большую гирлянду, положила ее обратно в корзину, побрызгала цветы водой и отнесла в кабинет Нолинакхи. При мысли, что эти цветы были прощальным подарком Хемнолини, глаза ее наполнились слезами.
Вернувшись к себе в комнату, девушка принялась раздумывать, что бы мог значить этот взгляд Нолинакхи? Что он о ней думает? Ей казалось, что он разгадал ее сокровенные мысли. Раньше, когда ей, почти не приходилось его видеть, было лучше. А теперь она то и дело попадает в затруднительное положение. Это наказание за то, что она скрывает от него правду.
«Наверно, Нолинакха думает: «Откуда взяла мать эту Харидаси? Я не видывал особы более нескромной», — мучилась про себя Комола. — Ужасно, если он хоть на секунду будет обо мне такого мнения».
В эту ночь, ложась спать, Комола твердо решила, что на следующий же день откроется ему во что бы то ни стало. А там — будь, что будет.
Встав на рассвете, Комола пошла выкупаться. Она ежедневно приносила с собой с Ганга небольшой кувшин с речной водой и, прежде чем приняться за работу, мыла и приводила в порядок кабинет Нолинакхи. Сегодня, как всегда, по возвращении с купанья, она вошла в его кабинет, но застала в нем самого хозяина комнаты, чего раньше в такой ранний час никогда не случалось. Огорченная, что помешали ее уборке, она тихо побрела назад. Но, пройдя несколько шагов, вдруг остановилась и о чем-то задумалась. Затем медленно повернула назад и застыла у дверей кабинета. Девушка сама не заметила, сколько времени, словно тень, простояла она тут, у дверей. Неожиданно она увидела вышедшего из комнаты Нолинакху, который остановился против нее. В то же мгновенье Комола упала на колени и приникла головой к его ногам, так что по ним рассыпались ее длинные, влажные от купанья волосы. Поднявшись затем с колен, девушка замерла перед ним, неподвижная, как статуя. Она не заметила, что покрывало упало с ее головы, не чувствовала, что Нолинакха пристально смотрит на нее. Все ее опасения исчезли, ее словно озарил свет вдохновения. Твердым, недрогнувшим голосом она произнесла:
— Я — Комола.
Но звук собственного голоса произвел на нее такое действие, будто рухнули горы. Вся ее целеустремленная решимость разом исчезла. Девушка задрожала всем телом и опустила голову. У нее не хватало сил сдвинуться ни на шаг, хотя оставаться на месте было очень мучительно. Ее воля целиком ушла на то, чтобы сказать: «Я — Комола», и простереться у его ног. Она не знала теперь, куда спрятаться от стыда, и лишь надеялась на милосердие Нолинакхи.
Нолинакха медленно взял ее руки в свои.
— Я знаю — ты моя Комола. Идем со мной.
Он привел ее к себе в кабинет и обвил шею девушки ею же сплетенной гирляндой.
— Поблагодарим всевышнего, — сказал Нолинакха.
И в тот момент, когда оба встали рядом на колени и прикоснулись челом к беломраморному полу, в окно ворвались утренние солнечные лучи и озарили их склоненные головы.
Поднявшись с поклона, Комола снова взяла прах от ног Нолинакхи и почувствовала, что стыд уже больше ее не терзает. Великий, безграничный цокой, воцарившийся в ее сознании, сливался с радостным и ясным светом щедрого утреннего солнца. Великая любовь переполнила ее сердце. Ей казалось, что в теплых лучах ее счастья искрится весь мир.
Слезы подступили к горлу девушки и полились по ее щекам. Комола плакала и не могла остановиться. Но сегодня это были слезы радости. Они уносили с собой все тучи горя, омрачавшие ее жизнь.
Нолинакха не сказал больше ни слова. Только с нежностью откинул упавшие ей на лоб пряди влажных волос и вышел из комнаты.
Жажда Комолы выразить свою любовь еще не прошла. Ей не терпелось дать выход переполнявшему ее сердце горячему чувству. Пройдя в спальню, девушка обвила своей цветочной гирляндой его сандалии, прижалась к ним головой и снова бережно поставила их на место.
В этот день Комола работала так, будто служила самому всевышнему. Ей казалось, что невидимые крылья несут ее к небу.
— Что с тобой, Харидаси? — воскликнула Хемонкори. — Ты так старательно чистишь, скребешь и моешь дом, словно за один день хочешь превратить его в новый.
Вечером Комола не взялась, как обычно, за вышиванье, а закрылась у себя в комнате. Вошедший к ней с букетом лилий в руках Нолинакха застал ее сидящей на полу.
— Поставь эти цветы в воду, Комола, — сказал он, — не дай им увянуть. Сегодня вечером мы пойдем просить благословения у моей матери.
Комола опустила глаза.
— Ведь ты еще не знаешь всего, что со мной было…
— Тебе нечего мне рассказывать. Я знаю все.
Комола закрыла лицо руками.
— Но мать… — начала она и замолчала, не в силах продолжать.
Нолинакха отвел ее руки в сторону.
— Ма простила за свою жизнь много грехов. Без сомнения простит и ту, которая ничем не согрешила.
Примечания
1
Согласно принципу Кармы, человек не властен изменить что-либо в своей жизни, ибо все, что с ним происходит, есть лишь воздаяние за его добрые и дурные поступки, совершенные в «прежнем рождении».
(обратно)2
Бабу — господин. Обычно прибавляется к мужскому имени для выражения почтения.
(обратно)3
«Брахмо-Самадж» — буквально «Общество Брахмы». Религиозная организация, основанная в 1828 г. видным просветителем и публицистом Индии Рам Мохон Раем.
(обратно)4
Дада — принятое в Индии обращение к старшему брату.
(обратно)5
«Благоприятный взгляд» — момент в индийском свадебном обряде, когда жених и невеста в первый раз видят друг друга.
(обратно)6
Падма — один из двух самых крупных рукавов Ганга при впадении в Бенгальский залив.
(обратно)7
Лакшми — в индийской мифологии богиня счастья и богатства, добродетельная и преданная супруга Вишну — бога-хранителя. Имя Лакшми стало в Индии нарицательным для красивой и преданной жены.
(обратно)8
Сари — женская верхняя одежда, состоящая из цельного куска материи.
(обратно)9
Пуджа — осенний праздник в честь богини Дурги. На этовремя (около десяти дней) закрываются учреждения и учебные заведения.
(обратно)10
Индуизм — одно из наиболее распространенных в Индии религиозных верований. Ортодоксальный индуизм предусматривает строгое соблюдение обрядности и кастового деления.
(обратно)11
По индийскому обычаю, при обручении жених и невеста одевают на шею друг другу цветочные гирлянды, которые служат символом любви и верности.
(обратно)12
Деодар — гималайский кедр.
(обратно)13
Бунгало — загородный дом.
(обратно)14
Каястха — одна из высших каст; каста писцов.
(обратно)15
Шил-нора — два плоских камня для растирания пряностей.
(обратно)16
По законам индуизма, человек из высшей касты, пользующийся посудой, принадлежащей членам низших каст или людям, исповедующим иную религию, считается осквернившимся.
(обратно)17
Пан — листья бетеля, употребляемые в Индии с примесью специй для жеванья.
(обратно)18
Согласно индийской традиции, жена не должна называть мужа по имени, чтобы не навлечь на него несчастья.
(обратно)19
Мадхусудон — эпитет бога Вишну.
(обратно)20
Лучи — тонкие лепешки, жаренные в топленом масле.
(обратно)21
Гхи — топленое масло.
(обратно)22
Пайса — мелкая индийская монета, около копейки.
(обратно)23
Мадура — древнее название территории в Пенджабе, на северо-западе Индии; Аудх — княжество, расположенное в долине Ганга, на северо-востоке страны.
(обратно)24
Лакшман и Рама — герои древнеиндийского эпоса «Рамаяны». Когда Рама со своей супругой Ситой ушел в изгнание, его брат Лакшман последовал за ним и разделял все лишения и опасности.
(обратно)25
Калинга — провинция на Коромандельском берегу, недалеко от Мадраса.
(обратно)26
Пиринг и бето — сорта салата.
(обратно)27
Рупия — основная денежная единица в Индии, приблизительно равная 84 копейкам. В рупии 16 анн.
(обратно)28
Брахманы — каста жрецов, высшая из четырех основных каст в Индии.
(обратно)29
Оннопурна — одно из воплощений Дурги. В индийской мифологии Дурга — богиня созидания и разрушения, очень почитаемая в Бенгалии. По религиозным верованиям, Дурга кормит весь мир.
(обратно)30
Тамаринд — дерево из семейства бобовых; мякоть плодов тамаринда используют для приготовления лимонадов, сиропов и конфет.
(обратно)31
Баньян — дерево, растущее в Индии. Его ветви дают многочисленные воздушные корни, которые, врастая в землю, образуют новые стволы.
(обратно)32
Ним — название дерева, листья которого обладают целебными свойствами.
(обратно)33
Суктуни — острая приправа из специй.
(обратно)34
Яджурведа — древнейший сборник, содержащий сведения по медицине.
(обратно)35
Яма — в индийской мифологии бог смерти.
(обратно)36
Зенана — женская половина дома.
(обратно)37
Пальмира — пальмировая пальма, особый род пальм, растущих в тропической Азии. Имеет громадное хозяйственное значение. По индийскому сказанию, пальмира приносит человеку 801 пользу, в честь ее созданы хвалебные песни.
(обратно)38
Диди — старшая сестра.
(обратно)39
Дхоти — род мужской одежды; цельный кусок материи, закрепленный у пояса и спускающийся ниже колен.
(обратно)40
Пронам — поклон, выражающий почтение и любовь. Совершающий пронам поднимает к лицу сложенные ладони рук.
(обратно)41
Индра — один из главных богов в индийской мифологии: бог-громовержец и воитель.
(обратно)42
Филипп Сидней — английский поэт (1554–1586), погиб сражаясь за независимость Нидерландов.
(обратно)43
Калидаса (V в. н. э.) — выдающийся индийский поэт и драматург, писал на санскрите, его основные произведения: поэма «Облако-вестник», драмы «Сакунтала», «Малявика и Агнимитра» и ДР.
(обратно)44
Здесь имеется в виду эпическая поэма Калидасы — «Кумара-самбхава» («Рождение бога войны»).
(обратно)45
Шастры — философские и другие древнеиндийские трактаты по различным отраслям знаний.
(обратно)46
Шанкарачарья (VIII–IX вв. н. э.) — знаменитый комментатор Веданты (философских трактатов).
(обратно)47
«…взять прах от ног» — так обычно в Индии выражают почтение старшим или уважаемым людям.
(обратно)48
Миробалан — плод крупного дерева из семейства молочайных, растущего в Индии. Миробаланы очень богаты танидами (дубильными веществами).
(обратно)49
Заминдар — помещик, землевладелец.
(обратно)50
Вина — струнный музыкальный инструмент.
(обратно)51
Шива — один из трех главных богов индийского пантеона. Бог созидания и разрушения.
(обратно)52
Гуру — духовный наставник, учитель.
(обратно)53
Санниаси — отшельник, правоверный индус, отказавшийся от мирских благ и посвятивший себя служению богу.
(обратно)54
Чатуджо — разговорная форма от фамилии «Чоттопадхайя».
(обратно)55
Комола — эпитет Лакшми, в индийской мифологии богини счастья, богатства и красоты.
(обратно)56
Хари — эпитет бога Вишну.
(обратно)57
Хукка — трубка для курения табака, типа кальяна.
(обратно)58
По религиозным верованиям индусов, после смерти душа человека переселяется в другое существо или даже предмет.
(обратно)59
Мокор — мифическое животное с головой и ногами антилопы и туловищем рыбы; олицетворение Камадевы, бога любви в индийской мифологии.
(обратно)

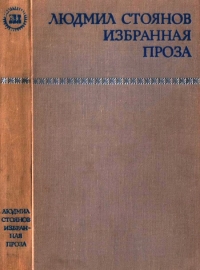
Комментарии к книге «Крушение», Рабиндранат Тагор
Всего 0 комментариев